Листая Свет и Тени: антология прозы Редактор-составитель Нари Ади-Карана
Серия: Антология Живой Литературы (АЖЛ)
Серия основана в 2013 году Том 3
Редактор-составитель Нари Ади-Карана
Издательство приглашает поэтов и авторов короткой прозы к участию в конкурсе на публикацию в серии АЖЛ. Заявки на конкурс принимаются по адресу электронной почты: skifiabook@mail.ru
Подробности условий конкурса можно прочитать на издательском сайте:
Все тексты печатаются в авторской редакции.
Предисловие
Принято говорить, что жизнь – вроде зебры – в черно-белую полоску. На самом деле она редко достигает такой глубины тона, чтобы быть по-настоящему черной или белой. Она какого-то нейтрального цвета, и по этой серенькой поверхности беспрерывно движутся, скользят Свет и Тени, Свет и Тени…
Елена Счастливцева г. Санкт-Петербург
Печаталась в журнале «Север» в 2013 году, повесть «За рабочее дело»; рассказ «Шишки» получил 2-ю премию лит. конкурса им. Короленко в 2014 году; журнал «Север» № 3–4 2015 – рассказы «Шишки», «Самый счастливый день», «Урок китайского».
© Счастливцева Е., 2015
Шишки́
Шишо́к – леший, черт, домовой, вредный и старый, но не очень злой, по мнению автора.
На крохотной кухне обедали молча; стучали ложками, глотали суп. Виною была Вовкина двойка. Вчера, к тому самому времени, когда Вовку кто-нибудь из родителей забирал от деда с бабой спать, он вспомнил о докладе. Вовке необходимо было сделать небольшое сообщение по истории на тему, озвучить которую он никак не мог. На скомканном клочке, выпавшем из перевернутого вверх тормашками портфеля, с несколькими ошибками было написано: «Чесменская церковь как парафраз готики».
– Небольшой доклад, – Вовка извиняюще заглядывал в округлившиеся глаза деда и бабки. – Всего на пол-листочка маленький такой докладик…
Бабушка рванула ко Всеобщей истории искусств, дед – к Большой Советской Энциклопедии, Вовка – к Википедии. Совместный труд был судорожно сляпан минут за двадцать и благополучно забыт Вовкой утром дома. Другими словами, двойку по истории заработали совместно.
– Деда, Людмила Алексеевна сказала, чтобы ты пришел завтра в школу… – Вовка безуспешно пытался разрядить обстановку. Двойку дед с бабой воспринимали острее него.
Дед строго посмотрел на внука поверх очков.
– Не, честно. Она спросила: «Был ли у кого-нибудь дедушка на фронте?» Никто руку не поднял, а я поднял и сказал, что мой дедушка – блокадник. – Вовка водил ложкой в супе, изображая процесс поедания.
Дед глядел в тарелку, медленно подносил ложку ко рту и еще более медленно жевал десятком сохранившихся зубов.
– Ну, так ты пойдешь?
– Я же не герой: был тогда ребенком. – Сказано было категорично и почти по буквам. Суп деда интересовал куда больше беседы с подрастающим поколением.
– Давай, деда, сходи! – Вовке на помощь пришла бабушка.
– Кому это интересно? – вяло отбивался дед, не отводя глаз от супа и ложки.
– Детям, – бабушка заняла наступательную позицию. – Дети должны знать.
Дед устало вздохнул, но отвечать передумал.
– Так ты пойдешь? – спросил Вовка.
– Нет! – Дед доел суп и протянул бабушке тарелку для второго. – Никаких подвигов я не совершал.
– Как же, дед? У тебя медаль «За оборону Ленинграда»!
– Так ее всем давали, кто 900 дней пробыл в городе, не уехал в эвакуацию и работал. Маме моей дали, папе, тетке твоей. У нас вся семья – герои-медалисты. Соседка Матрена Терентьевна тоже героиней была.
– Дед, а я учительнице уже обещал… – Вид у Вовки был совершенно подавленный. – Ну, расскажи хоть что-нибудь, а я в классе это перескажу.
Казалось, дед ничего не слышал: он так же аккуратно, как и с супом, разделывался со вторым,
– …Когда удавалось достать желатин, – неожиданно начал он, – мы брали лавровый лист, уксус, горчицу. В блокаду почему-то с уксусом было все нормально. Все это перемешивали, медленно…
Эту историю Вовкина бабушка за пятьдесят лет жизни с дедом слышала не единожды, и весьма вероятно, что ели само варево меньшее число раз, чем о нем рассказывалось, причем только о нем.
– Вся семья собиралась на кухне, наполовину загороженной чугунной дровяной плитой. Готовили СТУДЕНЬ! Разводили в кастрюле желатин, а к нему полагался самый настоящий острый соус! Тетка Аня искала лавровый лист, тетка Зося – черный перец… Приготовления к варке студня шли степенно и величественно-осознанно. Это был даже не процесс, не алхимия, а священнодействие! Не беда, что в том студне мясо не предполагалось, но студень можно было почти жевать.
Вот она, огромная семья, на довоенной фотографии: все улыбаются, все покойники – даже те, кто не попал в кадр, не добежал, не успел. Невидимый фотограф, не знакомый последующему поколению дядька Антон нажал на кнопку. Фотоаппарат клацнул, а спустя месяц в темной кладовке, при свете малиновой лампы, они все плавали в такого же цвета жидкости, извиваясь фотопленкой и устрашающе улыбались, обнажая черные зубы.
Живы только Вовкин дед и его сестра, хлопнувшаяся год назад головой о кафельный пол в сортире и оттого полностью потерявшая разум.
Она, будучи в здравом уме, любила другую байку: как с подружками рыла окопы, а в обстрелы, когда чуть стихнет, выползала на поверхность – покрутить ручку патефона или подтолкнуть заевшую иглу, с опаской озираясь на воющие небеса, и быстрее по-пластунски назад: дослушивать песенку водовоза из «Волги-Волги». Таков был ее посыл в историю, завещание человечеству.
Воспоминаний про студень Вовке явно не хватало: не тянуло оно на «урок мужества», никак не тянуло. Дед, вероятно, и сам так посчитал, а потому далее последовала еще одна занимательная история.
– Сосед с третьего этажа один остался. Ходить на улицу не мог, он взял и вытащил на лестницу бадью с нечистотами и вывернул ее вниз в пролет.
Вот эта история пришлась Вовке по вкусу, а дед безразлично продолжал: – Но он все равно потом умер.
– А как же вы мимо ходили? – Нечистоты на Вовку произвели большее впечатление, чем немощность и смерть безвестного соседа.
– Так замерзло сразу, весной оттаяло, убрали.
Вовка уже сполз со стула. Необходимую ему информацию он из деда выбил, и завтра перед учительницей ему стыдно не будет.
– Вовка, не убегай! Дед, ну надо какую-нибудь другую историю для детей. – Бабушка преследовала сразу две цели: не обидеть деда и отобрать рассказы для класса.
– Как вы не понимаете? – дед заскрипел остатками зубов. – Об этом говорить нельзя!
Вовка с бабушкой пригнулись и притихли.
Об этом никогда никто не говорил, об этом не думали; во всяком случае, старались не думать. Его родня, поредевшая, собиравшаяся по самым незначительным поводам в гостиной за огромным дубовым столом, беседы вела о всякой бытовой ерунде.
О чем угодно, только не о 41-м годе, стараясь вытравить хоть малейшее воспоминание. Даже оговорки, даже случайные реплики не проскальзывали никогда! А вот то, что сказала вчера соседка или дама в троллейбусе… Любая мирная мелочь во сто крат была важнее. Дед гнал прочь воспоминания о детстве, тетки – о юности. Всем им это почти удавалось, и чем дальше, тем больше.
Другими словами, последующее поколение о безымянной даме в троллейбусе или даже в трамвае, а уж тем более о сельском хозяйстве Гондураса или Тринидада с Тобаго знало куда больше, чем о прошлом своей семьи.
– Вам ведь просто любопытно, а мне на некоторые фотографии больно смотреть! – Дед замахнулся, намереваясь ударить жилистым кулаком по столу, но попал в тарелку с недоеденным пюре, которую бабушка ловко подхватила. Злобное выражение искорежило лицо старика. Он вытер грязный кулак сначала о край стола, затем схватил и утерся висевшим кухонным полотенцем и молча, демонстративно, удалился к себе в комнату спать.
Пока шаркал тапочками до своей комнаты, немного поостыл. Лежа со сложенными на груди руками, он подумал, что напрасно погорячился. Вот теперь не уснуть, привычный распорядок нарушается. Дед, широко раскрыв рот, зевнул; из глаз выкатились слезы, но сон не шел…
Внук крайне не радовал деда своим поведением: от телевизора и компьютера не оторвать, читает из-под палки… На ум пришло высказывание Чайковского о том, что из детства человек черпает воспоминания и впечатления всю жизнь. А что у Вовки будет за душой, когда вырастет? Компьютерные стрелялки и троечные знания?
От Вовки с Чайковским мысль деда плавно перешла к куплетам Трике из «Онегина».
Как же он их не любил! До чего привязчивые! Их частенько передавали по радио. И крутятся они в голове, и крутятся… Позднее, чтобы их выбить, он напевал «Танец с саблями» Хачатуряна. Иногда помогало. А тогда он мальчишкой спешил вдоль Обводного на «Красный треугольник», где работал; спешил и пел эти дурацкие куплеты.
Светило солнце: первое весеннее ласковое дезинфицирующее солнышко, под которым оголяли гноящиеся и смердящие язвы человекоподобные выползки из соседних домов. Он шел мимо них, а глаза против воли разглядывали и ощупывали каждую выставленную, как на показ, язву. С тех пор бал у Татьяны и объяснение Ленского с Онегиным у него неразрывно связались с этими уродливобезликими человеческими огрызками, помноженными на детские страхи. Где там американским ужастикам! Слабаки!
Дед зевнул, сам перед собою пытаясь спрятаться за маску равнодушия, но за закрытыми дверями комнаты его никто не видел, а потому мысли потекли в печальном русле и скоро оттуда не выбраться.
«Какой уж там сон!» – это он сказал сам себе вслух. Зачем они окунули его ТУДА?
Он, понуро и послушно, встал с кровати, нашел чистую тетрадку в линеечку, ручку и уселся за письменный стол, достал из футляра очки, водрузил их на нос. Наверное, он должен им что-то оставить?.. И они правы…
По Обводному он часто ходил, а вот почему оказался один на Фонтанке, у Обуховского моста? Подошли две женщины, что-то хотели узнать: как куда-то пройти, что ли… Обстрел начался неожиданно. Он юркнул в парадную, зажался в угол, подальше от двери, от близких взрывов, содрогаясь вместе с домом. Но ни громкое дыхание, ни стук сердца не заглушали близкие взрывы и визг в небе. Он без надежды прощупал взглядом каждую ступеньку лестницы – не было здесь безопасного места, как не было его и дома с мамой. Когда утихло, он выглянул на улицу. Женщины лежали недалеко и были тем, чем мог бы быть он. Рядом с ними из сугроба высовывалась потемневшая одеревенелая рука.
…Дед очнулся в темноте от стука метронома. Старик потряс головой. Очки свалились с мокрого от слез лица, метроном исчез: это Вовка, вырвавшийся от приготовления уроков, дубасил палкой по картонной коробке. Старик, вздыхая, встал, упрятал тетрадку глубоко в стол. Скорбные мысли, обращенные в слова, покинули его, а потому дед объявил Вовке, что на «урок мужества» пойдет, если только будет хорошо себя чувствовать.
Назавтра, проснувшись, он никак не мог вспомнить, что же такое неприятное должно случиться именно сегодня. Мылся, одевался, кровать убирал – и не мог вспомнить, никак не мог. За завтраком, когда кашу ел, вспомнил. Стало еще тяжелее, но он знал, что в школу не пойдет.
После завтрака дед надел удобные валяные чуни и меховые варежки, натянул ушанку с опущенными ушами по самые совиные брови; приподняв бороду, укутал шею мохнатым теплым шарфом, взял палку и вышел на улицу. И с каждым шагом в противоположном от школы направлении он чувствовал себя все более и более свободным.
И оттого, что убежал ото всех, в аптеке дед оказался в чрезвычайно веселым расположении духа, а покупая привычные лекарства впрок, даже, нагнувшись к окошечку, оригинальнейшим образом пошутил с аптекаршей:
У меня давно ангина Скарлатина, холерина, Дифтерит, аппендицит, Малярия и бронхит.Девушка-аптекарша, как ему показалась, его не поняла. Окостенев, она сохраняла внешнюю невозмутимость – как и полагалось при работе с клиентами в тяжелых случаях.
– Что делать, классиков не читают! Молодежь! – Дед задорно ей подмигнул. Девушка опять не поняла:
– Вам чего, женщина?
– Ах, это не мне… – Чуть смутившись, дед отошел от окошечка.
И тем не менее все складывалось на редкость удачно: и лекарства он купил, и «Ессентуки» нужного, как опять-таки пошутил, размера; даже, когда домой спешил, ловко увернулся от белого джипа, выезжающего на дорогу.
И хотя дома деда встретили молчанием, он рад был, что никого не послушался, и к тетрадке с мемуарами он никогда не притронется…
В тоненькой школьной тетрадке, беспорядочно, на разных строчках и страницах под Вовкиным заголовком «Домашняя работа» было написано корявой рукой:
холодно обстрел, их убило, страшно темно умер, съел мамин хлеб, говорит, есть не хочу темно стук в дверь, шаги хохочет, сошел с ума, зверь умер, голод страшно темно метроном.Это были не мемуары с крайне любопытными бытовыми зарисовками – это был прорвавшийся из прошлого ужас.
По расписанию у Людмилы Алексеевны должен быть классный час, но поскольку на носу 23 Февраля, он заменялся на «урок мужества» с воспоминаниями ветеранов. Где их взять, этих ветеранов, и чтобы в своем уме? Накануне Новиков из ее класса пообещал, что его дедушка-блокадник придет, если будет себя хорошо чувствовать.
Людмила Алексеевна запаниковала было, подумав, что это дедушкина форма отказа. Ее мама, посвященная во все подробности учебного процесса, посоветовала позвонить своему соседу по подъезду; тот на д Мая всегда при медалях ходит. А что, если сейчас в класс одновременно явятся два полуглухих, незнакомых и уж точно полоумных, повернутых на политике старика? Сколько будет крику и ругани, дуэтом, не слушая друг друга, перед детьми…
Людмила Алексеевна вздрогнула: нет, лучше она сама проведет в классе этот «урок мужества»! Она – учительница французского, мать двоих детей, одиночка. Оставшееся время посвятит классному руководству. К счастью, никто из стариков не появился. Новиков поторчал в дверях класса, поговорил с кем-то по телефону и понуро поплелся к своей парте.
«Оно и к лучшему», – подумала Людмила Алексеевна, глядя на него. Зазвенел звонок, и она только успела открыть рот, как в класс вошел ветеран, мамин сосед. Не вошел – явился, вплыл, торжественно наодеколоненный какой-то дрянью, при медалях, в отглаженном добротном костюме, диссонирующем с дрябло висящей стариковской кожей. Людмила Алексеевна устыдилась своих мыслей: для нее этот «урок мужества» – галочка, причем не самая приятная, а для старика – событие.
– Ребята, к нам в гости пришел замечательный человек, ветеран Великой Отечественной войны Иван Акимович Петушков. Похлопаем ему!
Акимыч смутился.
– Иван Акимович, проходите, садитесь за мой стол, пожалуйста! – Людмила Алексеевна отошла за последнюю парту, чтобы лучше видеть, чем сорок пять минут будет заниматься ее класс: двадцать пять человек в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.
Акимыч зашагал от двери к учительскому столу. Старик устал, он даже непроизвольно наклонился вперед, чтобы быстрее добраться до стула. Выглядело это комично: ряды медалей свободно болтались и позвякивали, пиджак сзади топорщился в виде журавлиного хвоста, выставленная вперед желтая узловатая рука искала спасительную спинку стула. Наконец она была поймана.
Акимыч, с грохотом отодвинув стул, плюхнулся на него, весомо выдержав паузу, солидно откашлялся и начал:
– Фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз… Первые дни войны… героическая оборона Брестской крепости… всюду организовывались партизанские отряды…
Голос у Акимыча был зычный, командный, и ребята быстро присмирели. Когда ветеран добрался до героического подвига жителей блокадного Ленинграда, Новиков приуныл. Людмила Алексеевна видела, как он повесил голову, сник, но вскоре принялся рисовать смешную рожицу на клочке бумаги.
– Иван Акимович, расскажите нам что-нибудь из своей фронтовой жизни. – Людмила Алексеевна сама бы могла провести такой «урок мужества» – разве что без блеска медалей.
– Мои воспоминания… – Акимыч сурово нахмурил одну бровь. – Тяжелое время было, ребята, очень тяжелое… Вот в партизанский отряд, например, забрасывали, ночью забрасывали с самолетов, чтоб фашисты не видели. А партизаны внизу, они костры, значит, развели треугольником, чтоб самолеты видели, где парашютистов сбрасывать. Летчик-то не знает, партизаны те костры развели или диверсанты и предатели… Самолеты у нас не простые были, У-2 назывались. Они низко так летали. Летчики туда не хотели идти, девчата на них летали…
Людмила Алексеевна насторожилась: сюжетик показался ей слишком знакомым, но дети слушали.
– Ох, девчата эти песни любили! А как они плясали… Закружится так лихо под гармошку! Э-э-э-эх! Но и среди наших ребят летчиков, ого-го, какие таланты были! Летчик один у нас замечательно пел песню про смуглянку. Так его Смуглянкой и звали, а смуглянка – это же девушка!
Ребята засмеялись, засмеялся и Акимыч. Он как-то быстро и легко стал детям своим.
Людмила Алексеевна смотрела на разговорившегося старика и с грустью думала: «Вот она, старость!» Сидит дед, сухой, как палка, как ее указка у доски. Бледно-желтая, с пигментными пятнами кожа обтянула лысую, с бородавками, башку, которая уже не помнит, что было с ним, а что – в телевизоре. В повествовании о героической фронтовой жизни Акимыча Людмила Алексеевна насчитала не то пять, не то шесть фильмов. А сколько было склеротически пересказанных до неузнаваемости? Вот так и она когда-нибудь будет своим внукам воспоминания на уши вешать, искренне веря во весь тот бред, что несет.
– … предатели Родины…Иосиф Виссарионович…
Людмила Алексеевна вздрогнула: этого она боялась больше всего.
– Иван Акимович, мы вам очень благодарны за то, что вы пришли. – Она посмотрела на часы: до конца урока пять минут. Продержится! Людмила Алексеевна нейтрализовала Акимыча, мажорно заговорив и об уважении к старшим, и о любви к Родине, и о том, о чем необходимо было сказать на классном часе; Акимыч победоносно оглядывал класс.
Перед тем как вручить старику три чахлые гвоздички и коробку конфет, купленные на скудные деньги родительского комитета, она попросила его сказать что-нибудь напоследок. Акимыч поведал о том, как важно учиться и спортом заниматься; мальчики должны воинами быть, да и девчатам не следует отставать. Прозвенел звонок. Тут только дети загудели – Акимыч держал в напряжении класс весь урок. Это был подлинный триумф.
Старик, стоя в коридоре, испытывал почти головокружительную легкость. Он бы даже побежал сейчас, как мог, в душный класс к детям, к грязной доске с разводами мела – ко всему тому, что дало ему острейшее ощущение полета, счастья. Акимыч оглянулся, но дверь уже была закрыта.
– Эх! – махнул он рукой. – Еще раз приду, обязательно приду!
В том, что его позовут скоро, очень скоро – может быть, даже на следующей неделе, – Акимыч ничуть не сомневался: он видел, как его слушали!
Но старик не заметил, как исчезла учительница; как шмыгнул мимо пацан с точно такой же коробкой и гвоздиками для дедушки. Радость переполняла Акимыча, но не только она одна, еще и гордость за себя; за свой аккуратно отглаженный костюм с тремя рядами медалей; за белоснежную рубашку и галстук; за красные цветы в руках.
Акимыч спустился с третьего этажа в гардероб, и все шныряющие взад и вперед ребятишки почтительно обегали его: идет ветеран, герой. Гардеробщица помогла надеть ему пальто, а он, не привыкший к такому обхождению, все не мог попасть в рукав.
– Ах ты, господи! – добродушно сокрушался он. – Ну, спасибо, голубушка, спасибо!
Голубушка расплылась в улыбке.
Акимыч вышел на улицу и сразу понял: праздник закончился. Двери школы захлопнулись, и теперь он опять просто дед, согбенно и медленно идущий по улице. Ну, пусть с цветами и конфетами, но все равно – обычный старик. Грустно… Но ему звонко запела синица, и не одна. Акимыч весело подмигнул сам себе. Ничего, прорвемся! Господи, сокрушался Акимыч, ну почему он в школу к детям пришел так поздно, почему не ходил раньше? И хватит ли у него времени все поправить? Это ведь правда, что дети – наше будущее…
Он брел домой. Тротуар был не то скользкий, не то мокрый – конец зимы. Акимыч не торопился, шел медленно и осторожно.
Правильно старуха ему дома говорила: «Не ходи, упадешь!» А он молча хлопнул дверью, еще и палку не взял, дурак, постеснялся ребят: с медалями – и с палкой.
И Акимыч не упал бы, но виной всему был идущий навстречу старик, отклячивший зад, переставлявший ноги, ничего не замечавший вокруг себя. Вдобавок этот старик задел Акимыча своей палкой. Тот не удержался, замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но успел только выкрикнуть фальцетом: «Стервец!» – и нырнул под колеса медленно выезжающего белоснежно-блестящего джипа с двумя грязно-черными капельками на морде.
«Стервец» адресовано было в пустоту, в никуда: дед, «подрезавший» Акимыча, был рассеян и глух и потому, как ни в чем не бывало, топал своей дорогой, не ведая, что он – стервец. Зато выскочивший из машины крепкий парень без слов схватил Акимыча одной рукой за шкирку, другой – за штаны на заднице и легко отбросил в сугроб. Он бросил его, как бросают мешок с мусором, хлам, и парню этому было абсолютно безразлично, кто и по какому поводу «стервец».
Так Акимыч очутился на вершине сугроба, дрыгая ногами, не достающими до земли. Крепко, как последнюю пядь земли, он обнял этот сугроб, боясь съехать на брюхе в лужу, в которой уже лежал ранее. Мысль, что его дергающийся зад, расчехленный развевающимися полами пальто, увидят школьники, придала Акимычу сил.
Он повернулся на бок и уселся. Сидел, как на насесте, крутил головой, пытаясь сориентироваться. От вращения в горизонтальное положение под колеса и обратно, в вертикальное на сугробе, он запутался, в какой стороне дом, но вытянутая вперед рука, как флаг, продолжала сжимать три революционные гвоздики с надломленными головками. Акимыч, разглядев «букет», в сердцах отбросил его.
Никого вокруг не было. Парень на джипе укатил так же молча, как и освободил проезжую часть. Дед, из-за которого Акимыч упал, даже не оглянулся, подлец. Ругаться было не с кем. Не было ни свидетелей его позора, ни прохожих, ни какой-нибудь старухи-квашни, способной его пожалеть, отряхнуть и помочь, причитая, слезть с грязного сугроба.
Варежки Акимыча промокли, кальсоны задрались к коленям, под резинки носков забился грубый жесткий снег. Стало ужасно жалко себя, и, сперва тонко-тонко и пискляво, но с каждым вздохом и всхлипом все горше и громче, Акимыч завыл. Слезы выкатывались и липли одна к другой где-то между тощим кадыком и шарфом.
Сделалось сразу мокро и зябко. При этом зад у Акимыча был совершенно сухой, но он ощутил им вселенский мертвецкий холод. Этот холод медленно шел из-под промерзшей земли, и он тянул Акимыча туда, вниз, сквозь остекленевшие сугробы. Так было в первый год его работы на Соловках…
Мальчишкой Акимыч был совсем, птенцом, неоперившимся. Когда охрана из церкви-изолятора на горе выволокла мужика, бородатого такого, невысокого… Тот все приговаривал: «Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте…» Окал мужичок; может, одних мест он был с Акимычем, а может, и нет. Разве сейчас узнаешь? Потащили его к лестнице деревянной, к верхней ступеньке. А было этих ступенек аж четыреста штук! Ноги мужика не слушались, заплетались от страха, а он знай долдонил все одно: «Помилосердствуйте» да «помилосердствуйте».
Попятился Акимыч тогда, цепляясь за него взглядом. Оба они знали: то, что сиюминутно было еще человеком на верхней ступени лестницы, пролетев их четыреста штук, внизу будет даже не телом, а месивом, и этим месивом должен быть провинившийся мужичок. «Поше-е-е-л!» – Некиференко и Стасюк слаженно гаркнули, поднапружились, подкинули мужика, и тот исчез, «пошел».
Крику не было – только стук. Когда затих и он, Акимыч медленно осел в сугроб. Фалды жесткой шинели приподнимались и встали колоколом, винтовка за спиной поползла вверх, ушанка съехала на нос…
…Там, далеко внизу, лежала полоска Белого моря, белого от снега. Ближе к Акимычу оно процарапалось серо-черными стволами редких деревьев. Это был берег. А где море у горизонта поднималось, было небо: бледное, с пеленою облаков…
И облака эти со снегом холодным саваном объяли и сковали Акимыча.
– Яйца заморозишь! – он очнулся. Нос точно замерз и покраснел до прозрачности. Акимыч потер нос и даже куда-то пошел, но куда бы он ни шел, он везде за ним плелся покойный мужичок, а товарищи из охраны буравили их обоих глазами. Темнота, в которой можно скрыться, не наступала. Бесконечен был тогда этот короткий северный день.
– На! – Некиференко, старший из охраны, глядя исподлобья, протянул ему стакан слабо разбавленного спирта. Акимыч выпил, но лучше ему не стало. Чуть отлегло, когда Некиференко объяснил, что мужик с бородой – враг. Враг тот не только окал, но еще и не выговаривал «р», а «с» и «з», шлепая губами, произносил со свистом, и потому никак у Акимыча не получалось до конца поверить Некиференко. Никак! Через день был еще один стакан, и еще. А потом была Танька…
Не любил вспоминать он те годы, забыть их старался, рад был, что перевели на Большую землю. Когда началась война, на фронт просился – не пустили. Здесь нужен! И он понял: служба везде служба. Он на своем посту, роптать не должен, время суровое! Служил он честно, боролся с врагами внутри страны, и уже без соплей. Дальше все пошло путем, но на встречи с пионерами не ходил, о службе помалкивал.
В глубине кармана штанов зазвонил телефон,
– Деда, ты куда пропал? Мама волнуется! – Звонил правнук, названный в честь него. Акимыч засуетился, шмыгнул носом, брякнул медалями под пальто, небоевыми.
Куда-то запропастились конфеты… Акимыч сполз с сугроба, выудил из месива на дороге коробку конфет «Наслаждение» и потопал домой.
«Хорошо, что коробки сейчас затягивают полиэтиленом, а то испортились бы конфеты», – подумал он.
Случай на болоте
– Земля! Земля! – но крик этот остался без ответа. Глас вопиющего. И его не заглушила ни беспорядочная пальба из пистолетов с длинными стволами, с загнутыми деревянными рукоятками, ни радостный хор луженых, испытанных ромом и крепким табаком мужских глоток. Тишина! А потому он раздался вновь:
– Земля! Земля! Григорьевна! Земля!
Поскольку доподлинно известно, что ни у Колумба, ни у Флинта не было не только Григорьевны, но даже и Тимофеевны с Гавриловной, то «земля» не имело никакого отношения ни к атолловым островам, ни к миражам, парившим не то в небе, не то в море, не имело оно отношения ни к разодранным парусам, сломанным мачтам, протухшей воде в корабельных бочках, ни к зачервивевшей солонине и раскисшим галетам, собственно, как и к экспедициям Магеллана, Васко да Гама и прочих.
Кричал Ленька, сын бабки Дуни. На морях-океанах он, как и его бабка, никогда не бывал, ничего там не забывал, а следовательно, и охоты тащиться туда особенной не имел, ему и здесь было неплохо.
Ленька вынырнул из-за дощатого продуваемого ветрами нужника, пристроенного к дому Григорьевны. Легко отбросив подальше от себя лопату, он набрал полные пригоршни того, что по его разумению землей никак быть не могло. Почти вприсядку кривые ноги сами понесли его через бугристый, кое-как перекопанный огород к Григорьевне.
Сапоги соскальзывали с обросших, некстати позеленевших комьев в хлюпающие ямы, но подобострастно вытянутые вперед ладони, хотя и не с золотым зерном и не с водою Волги-матушки, драгоценный груз не просыпали.
Ленькин восторженный взгляд споткнулся о перекошенное злобное лицо Григорьевны. Ленькина физиономия изобразила еще больший восторг – на Григорьевну не подействовало, никак, не проняло.
«У, падла, – широчайше улыбаясь, подумал Ленька. – Заметила!»
Григорьевна заметила, еще как заметила.
– Ты, паршивец, мне какую печку наклал? А?
– Ты, че, Григорьевна? Ты глянь, че у тебя в уборной-то делается? Глянь! Чудо какое! Говна совсем нет! Даже не пахнет, – Ленька для достоверности поднес ладони с содержимым к носу и звучно втянул воздух. – Земля!
– Ты мне зубы-то не заговаривай. Земля у него! Полюбуйся на свою работу!
Любоваться работой Ленька не стал, а лишь слегка скосил взгляд.
– То ж Витька клал, – со спокойным достоинством поведал он.
– Витька! Я вам двоим деньги давала! Целых три тысячи! Да еще и по пять пачек папирос!
– Витька печку клал, а я огород копал, – вяло открещивался от делового сотрудничества Ленька.
– Огород он копал, за три тысячи рублей дерновины вывернул! – но Ленька был уже в нужнике, увильнув, схватившись за лопату, он с головой ушел в работу, раскидывая по развороченным грядкам чудодейственную землю. Григорьевна осталась на краю своего огорода в темной нетопленной бане, более того, затопить такую баню было совершенно невозможно, разве что спалить с горя. Широко расставив ноги в трениках с оттянутыми коленками, нависающих на резиновые сапоги с комьями холодной осенней грязи, Григорьевна вполне могла бы сойти за трагически одинокое пугало, если бы не чрезмерная для пугала полнота. Она еще покричала и помахала руками, но слушать ее было совершенно некому, даже ворона небрежно обронила свое «кар-р-р» и улетела.
Мысли в голову лезли большей частью матерные, однако Ленька был недосягаем: живенько вычистив выгребную яму и раскидав содержимое по огороду, он исчез, испарился, оставив после себя глубокие следы и лопату. Григорьевна с тоской глядела на то, что в мыслях собиралась сегодня затопить. Выложенные Ленькой с Витькой вряд кирпичи без перехлеста при сооружении печки веером разошлись, исторгнув котел из нутра каменки. И за эту груду кирпичей, за рухнувшую на нее сверху в изнеможении трубу, за дыру в крыше Григорьевна заплатила три тысячи!
Печальнее всего, что даже под замком ту кучу на зиму оставлять никак нельзя: растащат по кирпичику и не один Ленька. Утешало то, что печку складывали по старинке, не на цементе, на глине. Значит, Григорьевне придется сейчас либо карячиться и таскать ведрами с берега мокрую глину, а затем класть печку с трубой, либо перетащить все кирпичи в сарай или сени, где замки посерьезнее.
Никак не ожидала Григорьевна, что так все сложится. Утром дома в городе, в полной темноте, она растормошила внука в кровати, теплого, сонного, мягкого, безуспешно попыталась впихнуть в него завтрак, но, испугавшись, что опоздают, протащила за собой по улице вдоль домов с редкими освещенными окошками. На автостанции она купила льготные билеты, села в автобус, заткнула внуку Кольке рот чупиком и поехала по главной трассе страны, из пункта А в пункт В, как и промежуточный пункт С, увековеченные двести с лишним лет назад в сочинение господина Радищева.
Не заметив, как небо за окном автобуса из черного сделалось серым, Григорьевна провожала остекленевшими глазами уплывающие в туман за окном деревья с редкими застывшими в воздухе желтыми листьями, сонные покосившиеся полусгнившие хатки, оставшиеся в предсмертной предзимней убогой наготе, как шелуху сбросившие вокруг себя засохшие цветы в палисадах и поникшую ботву на грядках. Смиренность и безнадежность здешних мест чувствовались бы куда острее, если бы не процветающий придорожный бизнес, приветствующий всех проезжающих полощущимися на ветру флагами махровых полотенец взбодряющих окрасок преимущественно с голыми полногрудыми женщинами.
Григорьевна миновала не числившиеся в революционном творении Радищева указатели поселков Первомайский и Пролетарий, она почти уснула с открытыми глазами рядом с притихшим Колькой, очнувшись только когда автобус остановился. Поспешно схватив внука за руку, она пробралась к открытым дверям, вдохнувшим сырость и холод. Колька захныкал, Григорьевна утешала, что «щас» придет их другой автобус. «Щас» – это через час сорок пять. Когда Колька совсем свыкся с тяжестью положения, подошел автобус, «Пазик», как и во времена торжества развитого социализма.
Колька залез в автобус: там было так же сыро и холодно, как и на улице. Колька дрожал всем тельцем, то попадая, то не попадая в такт трясущемуся по грунтовой дороге автобусу. Поерзав и устроившись поудобнее в норке между теплой бабкиной рукой и круглым мягким животом, Колька повернулся к окошку: там был лес, если глядеть и в свое окошко, и в окошко напротив.
Сосны темно-рыжими мокрыми стволами то поднимались по пригоркам, то спускались вниз к такой же пропитанной влагой рыжей песчаной дороге. Мелкий бестелесный подлесок терялся на фоне сухой поникшей травы, сливаясь не то с туманом, не то с низкими тучами, распластавшимися по небу.
Но когда из тумана выплыла и опять уплыла черная гладь болота, утыканная гнилыми обрубками берез и сухими остовами елей, когда на краю этого болота явилось толстенное высоченное дерево, не то недорубленное, не то недогрызанное, Григорьевна пояснила: «Бобры». Колька покрутил головой, но ни бобров, ни дерева уже не было.
Григорьевна молчала, уставившись в окошко, и Колька куда-то уставился, пока не показались огороды, а затем и избы деревни. Григорьевна, кряхтя, спустилась по ступенькам: «Дома согреемся», – пообещала она выпрыгнувшему из автобуса Кольке. Но холод был везде. Он повис туманом над домами, втягивая редкие дымки из труб, он пробрался за калитку Григорьевны, которую она, гремя замками, никак не могла открыть, встретил в сенях, спрятался в одеялах, которыми был укутан Колька.
– Щас, щас, – суетилась Григорьевна с радиатором, с печкой, дровами, чайником. Когда Колька был принудительно накормлен, когда напился дымящегося чаю из блюдечка, когда засопел, согрелся и уснул с сушкой в кулаке, вот тогда Григорьевна позвонила на мобильный Леньке, чтоб нужник вычистил. Управившись с делами, пришла сама, посмотреть по-хозяйски каменку в бане. Увидела.
Колька спал в доме, Ленька исчез, а Григорьевна стояла у своего слегка покосившегося дома, частной собственности, которой владела единолично. То есть именно это и была ее «нефтяная скважина» и альпийское шале в одном флаконе: бывшая курятня, а ныне дровяной сарай, парник, дом в три окошка с двором, баня и огород.
В 90-х годах у них с мужем при разводе произошел передел собственности, приватизация…
Любила Григорьевна своего тщедушненького лейтенанта Сидорчука, ой как любила, не замечая ни кривых ног, ни острого кадыка, гуляющего вдоль длинной с гусиной кожей шеи, ни жирных угрей и прыщей. Правда, угри с прыщами скоро прошли, а сам Сидорчук становился все степеннее, росли и числом, и размером звезды на его погонах, росло брюхо, и в конце концов над этим округлым пружинистым брюхом под самое ребро ударил ему бес, крепко и наотмашь. Григорьевне достались внуки, а разлучница, кроме офицерской пенсии, получила все совершенно готовенькое: бордовый от выпивки пористый и мясистый нос, простатит и полный зад больных зубов, в смысле геморрой, по невообразимым физическим мукам вполне сравнимый с боевыми огнестрельными ранениями, но только не контузиями.
Впрочем, Григорьевна на отсутствие мужниных прелестей не жаловалась. Указав Сидорчуку с вещами на выход, она зажила одна в квартире не тихо, но размеренно. Дружила со всеми соседками и родней до седьмой воды на киселе, ходила и звала в гости по церковным и коммунистическим праздникам, наряжалась в цветастые платья, блистала золотом зубов и узловатых натруженных рук и по неписаной гарнизонной моде укладывала на голове взбитые пережженные волосы еврейской булкой-халой. В общем, любила пофорсить. Она и сюда приехала, залив волосы лаком, думала, после огорода снимет треники да к племяннице троюродной зайдет. Где ж ей знать, что вместо посиделок у племянницы с бутылочкой вина, купленной в универсаме по акции, будет тачка и груда кирпичей!
Управившись с кирпичами, кряхтя, перетаскав в сарай, она закидала их тряпьем и хламом, коего всегда было в предостаточном количестве. Далее Григорьевна подвезла пустую тачку к крыльцу. Вывернула ее у дома, вытряхнув песок, рыжие осколки кирпичей, рассохшуюся глину перед крыльцом, раскидала ее носком сапога и только потом завезла тачку в сарай и повесила на него замок. Сие действие должно было означать, что кирпичи в доме, а взлом дома более ответственная операция, чем взлом сарая.
Итак, кирпичи спрятаны, ложные следы выставлены напоказ, зато в крыше бани зияла дыра, и это в ноябре. Григорьевна поплелась к магазину искать мужиков, не успевших напиться. Таким условно трезвым оказался Витька, бывший столичный житель, но в далекие дни Московской олимпиады решением родной партии и правительства переселившийся в деревню.
Первым делом Витька отметил, что кирпичи в доме, а не в сарае, однако для верности все же спросил: – Кирпичи в дом перетаскала?
– Перетаскала.
– А чего не в сарай? – Витька доискивался до правды.
– Так в доме замки крепче. От таких умных, как ты, берегу.
– Ты че, Григорьевна, – Витька обиделся. – Я ж к тебе в дом никогда не лазал.
И, глядя печально сквозь дыру в крыше на небо, на низкие серые облака, послал Григорьевну за лестницей, потом за молотком, потом за гвоздями, за гвоздодером. Григорьевна так набегалась, что подумала: «Было б проще самой крышу оседлать, посылая Витьку то за одним, то за другим».
Вскоре крыша была залатана, что означало: течь она так и так будет, но не ручьем. Получив от Григорьевны то, за чем он шел в магазин, довольный Витька смылся.
И тут Григорьевна вспомнила о внуке: что-то подозрительно долго он спит.
Вовка действительно долго спал, так долго, что вспотел. Он выбрался на волю из-под тяжелых одеял, которыми был укутан. Сел. Скучно сделалось мгновенно. Когда пришла бабушка, он дорисовывал на русской печке десятый автобус. Автобусы выстроены были в ряд, хотя и не слишком стройный. Первым в ряду красовался самый большой автобус, за ним следовал чуть меньше, и так до десяти флагманы общественного транспорта украшали печку с двух сторон.
Бабка плюхнулась на стул прямо у входа: эту печку она собственноручно белила в конце лета, то есть чуть более двух месяцев назад. Как же она тогда упарилась! Сегодня, точно, все мужики против нее.
– Бабушка, правда, красиво? – Колька отвел от печки восхищенный взгляд.
Кольку хотелось выдрать, но Григорьевна слишком устала, и сил на порку не хватало. Она перевела взгляд с художеств на одухотворенное лицо внука, вспомнив, что в садике его хвалят по рисованию: – А что автобусы у тебя все одной краской выкрашены?
– Я потом, – автобусы Кольке надоели. Творению суждено быть неоконченным. Григорьевна вздохнула и засобиралась домой, на настоящий автобус, последний сегодня. Купленная по акции бутылка для племянницы уедет обратно вместе с Григорьевной. «Ничего, – думала она, – Сяду в автобус – отдохну».
И они сели в тот же «Пазик», что и утром, такой же холодный и раздолбанный, и поехали через мокрый пустынный лес, и глазели на те же печально-однообразные пейзажи, но с противоположной стороны, не видя в них никаких отличий, разве что сумерки стали сгущаться, превращая дорогу, обрамленную реденьким осенним лесом, в глухой коридор, в щель, идущую из ниоткуда в никуда.
Когда они подъезжали к болоту, светлеющему обломанными остовами берез, протыкающих черную глянцевую водную поверхность, раздался страшный треск. В свете желтых фар «Пазика» медленно появился падающий ствол дерева. Оно рухнуло поперек дороги, мощно содрогнувшись, отбросив голые ветви далеко в темноту. Грохот и удар о землю были настолько сильны, что мысль о засаде пронзила всех без исключения и шофера, и пассажиров.
Шофер Саня ударил по тормозам, мотор замер, замерло и дерево, на лес упала тишина, ни разбойничьего посвиста, ни автоматной очереди.
– Бобры, блин, – сплюнул Саня. Он не первый месяц поглядывал на толстенную обгрызанную осину на своем маршруте.
– Граждане, – он выглянул в салон, – может, у кого бензопила имеется?
Граждане, то есть большей частью гражданки далеко старше шестидесяти, в путь отправились без бензопил, причем поголовно.
– Приехали, – резюмировал Саня. – Обратно я не поеду, бензина нету. Кто хочет, идите пешком, тут через три километра свинокомплекс, там машину поймать можно. Еще Саня сказал, что деньги он не отдаст и, опять-таки, кто хочет, может в автобусе посидеть ночь, и еще, что радоваться надо, что дерево рухнуло не на автобус, расплющив его, как пустую пивную банку.
Старухи с охами повылезали из автобуса, кряхтя, перелезали с сумками через осину, белеющую объеденным концом на краю болота, и поплелись на свинокомплекс.
Им повезло, они встретили трактор, которому надо было по ту сторону осины. Как могли, они залезли в пустой кузов и, трясясь от холодного ветра и ухабов, в кромешной темноте доехали не только до свинокомплекса, но и дальше, почти до самой трассы, до которой дошли пешком, а затем еще до остановки других автобусов, чтобы наконец разъехаться по домам. И на всем пути Григорьевна, содрогаясь от мысли, что привезет родителям больного ребенка, говорила хныкающему Кольке «щас»…
Шофер Саня решил, что дерево – знак свыше. Сколько раз он, проезжая по маршруту, думал, что зайти надо к тетке Кате, пока не померла. И хотя она переписала свой дом на дочку и внучку, зайти все равно надо, положено.
Саня сдал назад, развернулся, доехал до развилки, свернув на еще более узкую извилистую дорогу, ведущую к теткиной деревне. Автобус вслепую катил по дороге, поворачивая то чуть вправо, то влево, пока в полной черноте не показались несколько разбросанных горящих окошек. Где-то был здесь теткин дом. В нем зажигалась одна жидкая лампочка, и загоралось сразу три окошка.
Саня остановил автобус, просунув руку в щель, открыл калитку. Дом у тетки, точнее дверь в сени, открывалась как у всех: как в «Красной Шапочке». Через аккуратно вытесанное отверстие в двери была продета веревка, привязанная с противоположной стороны двери к крючку.
Саня дернул за веревочку, дверь открылась, и он поднялся по ступеням в сени, рискуя свернуть в темноте ведра, тазы, лопаты, коромысла. Он постучал в дверь, ведущую в избу: тишина. Старуха была глуха. Саня дернул ручку двери, вошел. Старуха сидела на стуле посреди избы, просто сидела, сложив руки на коленях.
– Кто это? – удивилась она.
– Саня я, сын Веры.
– Саня? А ну, давай проходи, я на тебя посмотрю, – она оглядела его мутными желтыми с красными прожилками глазами, – Матка-то как?
– Да нормально, – Саня подвинул к себе табуретку с десятком облупившихся слоев краски. Сел рядом, от бабки пахнуло старостью, немытым телом и нестиранным бельем.
Огляделся, все как раньше, будто и не уезжал. На стене мутное зеркало, отражающее домотканую дорожку, в углу закопченный Бог с погасшей лампадой, в раме под стеклом, засиженным мухами, вся родня, и та, что живая, и нет. Там и Санина карточка тоже есть. Не надо никаких альбомов или компьютеров, подошел к стене, полюбовался. Интересно, сколько Ирка за дом выручит, когда бабка помрет? Тьфу! Мысленно плюнул Саня, – гадость какая в голову лезет.
– А че приехал, случилось что?
– Да дерево упало, дорогу перегородило. Туда ехал, еще стояло, а обратно упало, перед самым автобусом.
– Это где у болота бобры подточили? – бабка о дереве знала, хотя и не была там с десяток лет.
Старуха принялась не спеша расспрашивать Саню, пройдя родственников до самой седьмой воды на киселе по первому кругу, а затем и по второму, и против часовой стрелки. Про себя поведала, что должна была в баню идти к Дуське Захаровой, да не пошла: в голове шумит и тошнит, сильно тошнит. Вот настряпала лепех, а есть некому. Выходит, Саня вовремя приехал.
– В печке они, доставай, и в банке с маслом перышко стоит, ты им каждую лепеху и помажь.
Саня резво вскочил, открыл заслон и из еще жаркого нутра печки вытащил противень с крупными бесформенными лепешками, покрытыми коричневой корочкой. Саня взял из заляпанной стеклянной банки перо, не то куриное, не то воронье, и принялся обильно смазывать каждую лепешку постным маслом. А были эти лепешки ржаного теста с толченой картошкой и, конечно же, без намека на сметану, яйца или масло.
Саня налил себе в граненый стакан светло-желтого чаю, и лепехи полетели в рот одна за другой.
– Ох, тетка Катя, в жизни таких вкусных не ел.
– Ну и хорошо. Спать-то у меня будешь?
Перед сном Саня сделал несколько звонков «кому надо», сказал, чтоб дерево распилили, иначе в парк не приедет.
Ближе к полудню Саню разбудил телефон, сообщали, что дерево распилили и ехать можно. Саня доел лепехи, попрощался со старухой.
– Свидимся ли? – она перекрестила его на дорогу.
«Нет, конечно», – беззвучно проговорил Саня и уже в сенях, отмечая старинные короба из бересты, бесхозные глиняные горшки, деревянные ушаты, подумал, что за них хорошо дадут на шоссе в лавках под названием «Антиквариат».
Саня выругался и плюнул уже по-настоящему. Отъезжая, он несколько раз бибикнул стоящей в окошке старухе.
Перед своим начальством на автобазе он предстал с такой глупейшей улыбкой, что создавалось впечатление, будто он сам в несколько приемов перегрыз передними зубами эту осину, чтоб на работу выйти с обеда.
Корова
Сейчас хозяйка даст ей сена. Вот сейчас, сейчас заскрипит низенькая дверца и ее толстенные некрашеные самопиленые доски, скрепленные неровными коваными скобами, обернутся коричневым драным дерматином с мохнатыми клочьями войлока, для тепла, и хозяйка, привычно наклонившись, переступит через высокий, сточившийся посередине порог.
Хозяйка остановится, передохнет и начнет спускаться по деревянным ступенькам. Она, держась рукой за струганные перила, ступает одной ногой вниз, затем рядом ставит другую и опять спускает вниз ногу. И так семь раз. Ступенек семь: дом поднят высоко, а хлев стоит на земле.
Потом хозяйка зашаркает по утоптанному жирному земляному полу, и ее шумное свистящее дыхание с каждым шагом будет делаться все громче и громче. Она остановится у засаленной, затертой до лакировочного блеска дверцы, и когда повернет ее щеколду, заостренную лодочкой, грубо вырубленную топором крепкой мужской рукой, вот тогда она войдет и даст сена…
Корова замычала, позвала – но нет. Скрипнула половица или дверь, но за скрипом была тишина. Значит, это не хозяйка…
Бесшумно качается легкая паутинка на узком маленьком окошке, рассеивающем темноту, да торопливо бегают мыши.
Ожидание изнуряет. Корова чувствует только голод да тепло теленка, уткнувшегося ей в бок. Она засыпает. Опускаются веки с длинными загнутыми ресницами, и мерно дышит черный, мокрый, с редкими волосининами нос.
Она всегда была здесь, в этом хлеву; ну, может, не она, а другая или другие, тоже местной породы: не слишком молочной и не слишком мясной. И к ней заходила другая хозяйка или другие. И были они разных лет: и старая высохшая карга с редко торчащими желтыми зубами, и полнотелая баба в соку, и не очень, и совсем еще девчонка с косичкой. Но все они освобождали ее от теплого, пенящегося в подойнике молока, которое она несла в себе, когда пастух гнал ленивое сытое стадо вдоль деревни, когда она, мыча, задирала голову и в ее рогах замирало вечернее солнце.
Летом в хлеву слышался звук отбиваемой косы, зимой – раскалывающегося полена. Мужские, а значит чужие, руки развешивали на стенах конскую упряжь, высохшие за день на изгороди сети с картонными волосьями тины, высокие побуревшие берестяные короба с запахом грибов и осеннего леса, бабье лукошко с замотанной тряпицей ручкой и с раздавленными ягодами, прилипшими к днищу. И были эти руки и старые и узловатые, как корневища; и молодые, крепкие, с заусенцами, порезами и ссадинами; и трясущиеся от напряжения или самогонки.
Но прошло все, и остались теперь от той жизни только ржавые амбарные ключи да замки на бревенчатой стене. К сожалению, ни у одного из них нет пары, и не открыть теперь тот дом или хлев, сложенный не из бревен – из венцов.
И хотя рядом с коровой не хрюкают подслеповатые поросята, не блеют тонконогие овцы, не кудахтает наседка и не встряхивает гривою лошадь, зато на разлитое молоко во дворе каждую ночь летом топал, пыхтя, ежик и выпивал всю лужицу, а с осени по весну хозяйка гоняла метлой мышей и крыс всех мастей. В укромном месте они вили гнезда, а ближе к лету весь всем выводком уходили в поле – с тем, чтобы осенью вернуться к своей хозяйке. В их отсутствие ловили мух в свои гамачки паучки и каждодневно вслепую источали все деревянное жучки.
Но был еще тот, маленький, который скрипел половицами, гудел в трубе и бегал по чердаку. Он был, абсолютно точно: иначе кто там чавкал под полом и куда подевалась закатившаяся вареная картофелина, которую хозяйка, в числе прочих, хотела истолочь корове?
Вот скрипнула дверь, но это не он, не тот. Кто-то другой пришел к хозяйке. Вот этот «кто-то» поднимается в сенях по ступеням, открывает дверь в избу.
– Мама, да ты жива? Ох, да еще в луже, горюшко-то… Хватайся мне за шею, я тебя перетащу…Что «мы-мы-мы?» Никак тебе одной. А я не набегаюсь. Корову с теленком Андреевне отго-о-о-ню, хорошие деньги дает. Люди уже выпасают. Дай, я тебе ноги-то прикрою и таблетку дам.
И, навозившись в избе, хозяйкина дочь спустилась к корове, вывела ее на двор, полный тепла и птичьего весеннего ликования, в сердцах шепча: «Как о человеке убивается!»
И тут корове почудилась хозяйка: одна, на высокой никелированной кровати с некстати блестящими яркими солнцами шариками, глядя в нависший, клеенный белой бумагой потолок с грязными дождевыми разводами, с раздавленными комарами и мухами, она заливалась беззвучными слезами:
– И-и-и-и… Не об ей, не об ей…
И этот не то крик, не то вздох из пустого дома чудился корове, пока хозяйкина дочь гнала ее хворостиной в соседнюю деревню; пока загоняла в чужой хлев. И потому корова так долго не подпускала к себе ни ее, ни эту Андреевну.
А назавтра утром, когда неожиданно заголосило хриплое радио, дом накрылся глухой тишиной. Замер и перестал чавкать тот, кто живет под полом и топает по потолку. И осенью, вернувшись в холодный дом, крысы разбегутся по другим жилищам. Только паучки весной начнут вить новую паутину, да еще Барбоска с Васькой долго будут трусить привычной дорогой: один к хозяйке, другой – к дому.
Шарик
– Дедушка, ну улыбнитесь же! Ну пожалуйста… Вот вам шарик!
Дед оторвал взгляд от тротуара, от своих семенящих по асфальту растоптанных ботинок: оба и не на левую и уж тем более не на правую ногу. Взгляд деда уперся в клоуна с размалеванным помадой во всю ширину юного лица алым ртом: таким широченным, что в него попадали даже пухлые щеки. Цветастый дурацкий колпак; красный поролоновый нос картошкой; то полосатые, то в клетку и в цветочек штаны – в общем, все, как положено клоуну.
Дед не понял: откуда он взялся, здесь, в пяти минутах ходьбы от его дома по пути из аптеки? А клоун улыбался уже своим собственным ртом – тем, что был внутри нарисованного и старательно завозюканного помадой.
«Кто это: девочка или мальчик?» – подумал дед, но недодумал: забыл, переключившись на шарик, протянутый ему. Он был зеленый, круглый, с целлофановой блестящей веревочкой: очень скользкой веревочкой. Дед пошевелил негнущимися пальцами, но они не слушались его и никак не могли ухватить эту тонкую веревочку, а шарик тянул ее за собой в небо. Когда деду уд ал ось-таки ее закрепить хитрым манером вокруг пальца, оказалось, что никакого клоуна-то рядом и не было.
Девочка-мальчик уже убежал к другому прохожему, и тот стоял, как и дед, с шариком. Да и самих клоунов тут было несколько, и все как один – с нарисованными улыбками и носами картошкой. Поди тут разбери, который подарил ему шарик. Да это и не нужно! Совсем не нужно! Ведь от этого пустячка ему сделалось светло. «Да, именно светло!» – он так и подумал.
Вот ведь как бывает: пошел с утра в аптеку не по этой дороге, по другой. За слабительным шел, но не за таким, как сейчас говорят, экстремальным, когда вдруг насторожишься, замрешь и бежишь себе со всех ног, громко стуча шлепанцами о пол, бормоча: «Господи, господи, господи…», а за мягким пошел. А когда купил, вот тебе раз: он обвел взглядом вокруг себя – тут настоящий праздник. Сколько тут детей – и все танцуют!
На мелких стариковских ресницах деда повисла слезина: весна, детишки, а главное все вокруг буквально пестрело детскими рисунками: и тротуары, и высокий дощатый забор вокруг сквера.
На заборе висел плакат: «Конкурс детского рисунка». А как тут выбрать лучший? Ведь это не рисунки – миры, и все счастливые, светлые. Да и содержание всех было примерно одинаковым: мама, папа, Я, солнышко, цветочки, деревья, шарики… Иногда, правда, встречались любимый кот или собака – счастливы ведь все одинаково, если перефразировать Льва Николаевича.
Но все же лучший из миров выбрали. Девочка, его нарисовавшая, смущенно прижималась к маме и улыбалась в ожидании чуда. Дед присел, опираясь на коленки, пригляделся к ней: да, парочки зубов у нее все же не хватало; у девочки, разумеется. И у деда не было зубов, и не двух, а поболе, но это уже совсем другая история. Слезина, висевшая на кончике ресниц, медленно выкатилась, и за ней покатилась другая.
В подарок девочка получила новенький блестящий велосипед; еще кто-то получил самокат, а дальше дед уже не помнил. Сгорбленный, расчувствованно шмыгая носом, он засеменил домой: в кармане слабительное, в руке – шарик, на душе – праздник.
За действом в сторонке наблюдал сверкающий черный джип заморской марки. Когда дед переходил дорогу, джип, уже тронувшись с места, царственно пропустил его вперед, величаво, как лев: беги себе, мышка, в свою норку. И дед побежал, а когда к самому дому подходил, вспомнил про цветочек.
– Ах! – дед хлопнул себя по лбу и поворотил обратно. Он совсем забыл про цветочек. На теплотрассе, пригревшись у южной стороны дома, выросли первые одуванчики.
Мамочка, так он называл жену, его теперь не выходит, вот он и приносит ей то веточку с набухшими почками, то мать-и-мачеху, а вот теперь пришло время одуванчиков.
Легко сказать: сорву одуванчик. Прошлый раз ему мать-и-мачеху сорвал гуляющий с мамой ребенок; сорвал своей пухленькой ручкой и протянул деду, который, помнится, опять прослезился. Но сейчас вокруг никого не было; да-да, все на празднике. Дед переминался с ноги на ногу. Кряхтя, он принялся в несколько этапов опускаться, не удержался и бухнулся на коленки, как перед идолом, а кепка упала и покатилась. Но все же он и цветочек сорвал, да и кепку поднял, а вот самому подняться было куда сложнее. Но и это ему удалось сделать. Он, отряхнув грязь с коленок, второй раз пошел к дому. В одной руке шарик, в другой – цветочек…
– Здравствуй, Михалыч! – Баба вроде знакомая; вроде из их дома, а Михалыч – это он: кандидат технических наук в эпоху торжества исторического материализма.
– Старуха-то твоя живая? Че-то я ее давно не видела…
– Живая…
– А, ну тогда привет ей передавай. – И баба заковыляла вразвалку прочь на полукруглых кривых ногах.
– Мамочка, я тебе одуванчик принес, уже появились первые. – Он полез целоваться к «мамочке», полулежавшей на диване, уткнулся в нее носом.
– Да уймись ты, всю обслюнявил… – Она отмахнулась. – А шарик зачем?
– Шарик мне подарили, – гордо сообщил дед, а когда разжал затекшие побледневшие пальцы, тот, высвободившись, приклеился к потолку. Слюдяная веревочка болталась так, что «мамочка» при желании могла ухватить ее и поиграть с шариком.
– Ценный подарок! – Желания поиграть с шариком у нее не возникало.
– Там для детей конкурс на лучший рисунок, праздник. Эх, если бы я только смог на корточки опуститься, я бы им выдал! – Дед все еще пытался развеселить свою старуху, с распухшими коленями едва передвигающуюся от дивана к стулу, от стула к окошку, – и никаких новостей. Сам-то он ощущал себя свидетелем ого-го каких событий!
– Что за праздник?
– Да не знаю, как-то не подумал…
– А где?
– Да за углом.
– Вон оно что… Это, значит, и сквер вырубят, и дом построят, а нам зато праздник….
– Э-эх, какая ты все же раздраженная! А просто так у тебя для детей уже ничего не могут сделать?
– Эти не смогут. Детям – праздник, тебе – шарик, себе – миллионные барыши.
– Зачем ты сама себя расстраиваешь? Ведь они, как землетрясение или цунами, – бедствие. Бессмысленно на него сердиться:
раздавят и не заметят. – Дед вздохнул, понуро поплелся на кухню и налил водки в пахнущую корвалолом заляпанную рюмку советского периода.
«Как же это грустно, – думала старуха, глядя на свои бесформенные ноги в обмотках, – когда тело становится такой обузой душе, что уже не ощутить больше на щеке тепло заходящего солнца… Не увидеть и как переходит дорожку жук или муравей; как ветер клонит одну травинку за другой над воспарившим ситцевым облачком простеньких цветочков… Или просто как сухие золотистые желуди, падая, увлекают за собой целый град…»
Старуха закуталась сначала в шаль, потом – в плед и приоткрыла окошко. На подоконнике в одном стакане с водой стоял одуванчик, в другом лежали зубы деда – для выхода в свет, в данном случае в аптеку, и известно за чем. Дома дед зубы не носил: казалось ему, что он их вот-вот проглотит, закашляется, задохнется и умрет.
Сейчас старуха насыплет крошек на подоконник; прилетят птички, воробьи, будут их клевать, а самые смелые из них – даже выковыривать растрескавщуюся шпатлевку.
Из-за мутного стекла на нее глядел все тот же двор и все тот же маленький магазинчик в подвальчике с вывеской «Планета Секонд хэнд».
Когда меня не было
Прибытие поезда
Она не приехала. Это он понял совершенно точно, глядя исподлобья на опустевший перрон. Несмотря на то что он пришел сюда самым первым, ожидая, что среди бесконечноразнообразных суетящихся чужих, растущих числом, вдруг явится она. Но нет, даже когда из вагона высыпала целая толпа, когда появилась надежда, что он не заметил, пропустил ее. Но перрон пустел, а ее все так же не было. А если все эти тетки с кошелками и дядьки с мешками увлекли ее за собой и, спохватившись, она вот-вот вернется к нему, прибежит, окликнет, его – самого-самого!
Следующего поезда ждать мальчик не стал: и так уже ослушался бабушку и не сразу вернулся, а она утром больно ударила его по попе и наказала. За что, он не помнил. Непонятно: рука у бабушки – мягкая и морщинистая, а вот попе больно. А главное, скучно стало ужасно. Тогда он поднялся по ступеням веранды, высоко задирая ноги, но бабушка уже, раскачиваясь, спустилась во двор с тазом, со скрученными баранками мокрого белья. Мальчик уселся на некрашеное крыльцо и, подперев голову руками, уставился на рассохшуюся ступеньку: между глазками спиленных сучков и беспорядочными продольными трещинками, казалось, ждущих только своего клина, чтобы захлопнуться, осторожно, на высоких цыпочках гуляла тщедушная косиножка.
Рыжую вмятину с донышком шершавой шляпки гвоздя мальчик сперва потер голой пяткой, потом поковырял пальцем, самым толстым, с прямоугольным ногтем, стоящим поодаль, но сгибающимся вместе с четырьмя другими, выстроившимися по убыванию до самого младшего, скукоженного, скрюченного. Этот палец никак не хотел шевелиться, хотя под него забрался песок, даже выставив вперед ногу, даже если крутишь коленом. Тогда-то он и решил встречать маму сам.
А бабушка тем временем развешивала белые полотнища простыней, снимая со своего ожерелья бусину – прищепку. И когда все они перекочевали на простыни, пододеяльники и полотенца, поверх бабушкиного, застиранного до пушистой бахромы фартука болталась одна веревка.
– Нет, рано еще, – поучительно отрезала бабушка, но тут же отпустила, снабдив столькими наставлениями, скольких хватило бы даже для двухнедельного марша. Когда мальчик оглянулся, за калиткой, на пустом дворе колыхались на ветру паруса простыней, надувшиеся под солнцем океанскими гротмарселями, развеивая невидимые, пахнущие теплым мылом капли. А под парусами росла зеленая трава, и никуда двор не уплывал – уходил мальчик.
Далеко он не ушел: путь преградила тети-Машина коза! Тропинка проходила под самым ее брюхом, между передними и задними ногами, как под мостом. Коза вынула морду из травы и посмотрела на мальчика, потрясла кривыми с зазубринами рогами. Издевательски ухмыляясь, коза задвигала нижней челюстью, под которой болталась борода – козлиная, естественно.
Лапочкой котик моет свой ротик, А козлик упрямо трясет бородою…Всласть потешившись над мальчиком, коза отошла в сторону, и тот твердой поступью направился к станции.
Из-под ног у него выпрыгивали коричневые и зеленые кузнечики и по дуге устремлялись так далеко, что мальчику надо было сделать несколько шагов, чтобы их настичь. А как только он приближался к ним, оттолкнувшись голенастыми, торчащими за спиной ножками, они летели еще дальше – куда угодно, но только не к станции. Вот они уже, вытянув свои долгие хитиновые конечности, раскачивались на упругих травинках или ныряли в их дебри, оглушая воздух сухим знойным треском.
Зато дорога обратно была совершенно неинтересной, несмотря на поднимающуюся в восходящем зыбко-жарком воздухе пушинку, и распахнутое окошко с томно соскользнувшей в сад кружевной занавеской, за которой невидимый старушечий голос произнес: «Она совершенно другого плана…». Она… Кто «она» и когда была в этом саду, затененном дикими корявыми яблонями, заросшим синими свечками люпинов? И отчего вздрогнула ветка шиповника? Он не увидел причину, предшествующую движению, как и разбегающимся кругам по вязкой зеленой воде канавы.
– Бабушка, кто там живет?
Но бабушка уже поставила перед ним дымящуюся тарелку со щами и сказала: «Ешь!»
– Ну, бабушка, я совсем не хочу! – Он то тоскливо поднимал ложку с безвольно повисшими прозрачными усами вываренной капусты, то тер ладонями отяжелевшие слипающиеся глаза.
По столу ползали, огибая тарелку, мухи, и бабочка-капустница исступленно-побледневшими крылышками, пытаясь пробить прозрачную твердь окна, каждым новым движением к свободе приближала свою гибель.
Когда суп остыл и стал совершенно несъедобным, бабушка уговорила его съесть несколько ложек «за папу, за маму…». Обнадеженная бабушка попыталась вспомнить всю «большую ектинию», но ей пришлось унести такую же полную тарелку, как она принесла.
– Бабушка, – канючил мальчик. – Ну можно гулять? – А она дала ему кружку с ягодами.
– Ну, бабушка, ну чего тебе стоит, – ныл мальчик, запуская все глубже руку в кружку. – Ну, пожалуйста…
Солнце палило нещадно, бабушка гремела посудой.
– Бабушка, а бабушка! – Кружка была пуста.
– Катись к шутам! – Бабушка махнула рукой, когда за кольями забора, перебивая бурьян, замелькала тощая фигурка соседского Витьки.
На реке они поволокли его лодку, шкрябая брюхом по песку, сухому, прибрежному, затем пропитанному водой, донному, разгоняя стайки зеленовато-прозрачных рыбок. На ходу впрыгнули и, гребя каждый своим веслом, пошли вдоль волнующейся зеленой лужайки ряски, где пушистые, еще не научившиеся толком крякать утята оставляли темные ленты водяных следов.
Там, где к воде свисали ветви застывших в своем падении, уцепившихся корнями за берег черемух, где среди буйства зеленых и бурых листьев гомонящие птицы расточительно роняли черные капли ягод, пробивающих дождем толщу торфяной воды и застывающих в вязком холодном иле, мальчики драли висевшие вкруг их голов гроздья и, стоя в вертлявой лодке, щурились от выглядывающих из-за листьев лучей двух солнц: одного – плывущего по небу, другого – по воде.
Они высовывали друг перед другом языки, скованные сладкой вязкостью, соревнуясь в чумазости, споря тонюсенькими мальчишечьими голосами и уверенный каждый в своей победе. А потом опять засовывали в почерневший рот с редкими коричневыми зубами пригоршины ягод с ребристой косточкой, гоняя по воде рваные тени ветвей.
– К…epeiy пора! – Мальчики обернулись: кричала бабушка – звала встречать маму. Под ее нескончаемые крики есть черемуху было совершенно невозможно.
По дороге на станцию никакой козы он не встретил, и окошко в заросшем саду закрыто было наглухо. Он постоял немного, поправил натиравшую резинку штанов, почесал ногой под коленкой, куда его укусил комар и где теперь розовел зудевший волдырь, но тропинка к дому терялась в высокой траве, никем не мятой, некошеной, торчащей из щелей крыльца, продавленного чьей-то незримой ногой. Может, ему все приснилось в жаркий полдень, когда он водил ложкой в супе?
Мальчик вспомнил про маму и побежал. На станцию он прибыл вместе с поездом и сразу в окошке вагона выглядел любимое платье.
А когда поезд обрушил на голову мальчика, стоящего почти у самых его гигантских колес, дым, пар, сипение, грохот, тогда он решил, что непременно вырастет большим и уж тогда-то точно каждый день будет кататься на паровозе!
И он уже видел себя в деревянном вагоне, затем в окне самого паровоза Су 205-05 или Су 207-13. Он знал их всех по номерам и даже гудкам. На мальчике – голубая трикотажная майка с оттянутыми подмышками, сурово всматриваясь вдаль, он, может быть, даже, как и его дядька с пышными, лихо закрученными вверх усами, но почему-то с мясистым, невесть откуда внезапно выросшим красным носом.
Это была его самая заветная мечта, самая-самая. Я знаю о том совершенно точно потому, что этим мальчиком был мой отец.
Она
– Ти-и-я-ты-р-р-р!
Звонкая сорочья трель, упруго отскочив от выстроившихся в линию за окном домов, раздвоилась, раскололась надвое, разлетелась в противоположные концы улицы, в бесконечность, и не вернулась, пропала.
Девочка поспешно, привстав на цыпочках, захлопнула одну за другой высокие квадратные форточки, с грохотом спрыгнула с подоконника на заскрипевший паркет, она дернула за занавески, пустив их друг на друга, внахлест, зажав их концы кулаками, прощелкав деревяшками колец карниза где-то далеко под потолком. Спряталась!
Но постепенно любопытство пересилило страх. Когда ветер выдавил плохо закрытую форточку и постучал ее массивною латунною задвижкою о другую, девочка, пересилив страх, вцепившись в половинки занавесок, просунула между ними одну только голову. За ледяными перьями, облепившими стекло, медленно исчезала длинная зимняя ночь, вползая в чрево тесно прижавшихся друг к другу, как от озноба, домов, в глубину их гулких темных подворотен; туда, куда дворник Рустам сваливал покрытые снежной крошкой дрова.
Нет, некому было слышать ни хлопка форточки, ни звона стекла бросившимся вдогонку за вырвавшимся из груди криком: улица пуста и сонна, окна слепли, свет тускнел.
«Тиятырр» или «тятыррр»… Непривычное и новое слово, взрослое слово. Произносилось оно как получалось и каждый раз по-разному, но девочку это ни капельки не смущало.
Она, оставив в покое занавески и запутавшийся в них уличный холод, оказалась в ярко освещенной комнате, большой-пребольшой, и если скакать от дивана до громады резного буфета… Но мама уже поймала ее и расчесывала волосы.
Мама бережно, едва касаясь пальцами, проводила расческой по самым кончикам спускающихся ниже плеч волос, затем поднималась выше, выше. И вот уже гребень скользит по голове, и блестящие, старательно вымытые накануне волосы с сухим треском рассыпаются веером и вновь собираются и зачесываются на лицо, спрятав девочку, как в густом лесу.
И только теплое отраженное дыхание да полосатые просветы, сквозь которые видны мамина рука, тусклая бронза подсвечников на фортепиано, часы на стене, монотонно раскачивающие диск маятника с сектором блика, – все говорило о том, что это фантазии, игра, неожиданно зародившаяся и так же неожиданно оборвавшаяся движением маминых пальцев, когда она, сделав прямой пробор, распахнула волосы, точно занавес, с улыбкой обнаружив за ними лампочки преданных дочкиных глаз.
Затем, сопровождаемая восхищенным взглядом, мама взяла стоящую на трюмо и выложенную внутри складками атласного шелка пахнущую коробочку с духами, вынула из нее флакон и стеклянной, притертой до матового хруста пробочкой провела в ложбинке между ключицами, за мочками ушей, блестящих золотом и аметистами, с каждым движением все глубже погружаясь в аромат нескончаемых праздников.
А в мягкую, расшитую тусклыми жемчужинами бисера сумочку, рядом с кружевным платочком, были опущены несколько конфет, шуршащих зеркальной фольгой и разноцветными фантиками. Там же оказался и заморский мандарин. Но прежде чем закрыть сумочку, со звоном щелкнув круглыми шариками замочка, там исчез выложенный розовыми перламутровыми пластинами театральный бинокль.
А когда над заиндевевшим от мороза городом низко всплыло большое розовое солнце, выдохнутое клубами ледяного пара, повисшего мохнатым инеем на хлопающих ресницах, девочка с мамой шли по утоптанному снегу к трамвайной остановке. Но если мамины звонкие шаги на снегу оставляли круглые дырочки каблучков, то мохнатые серые валенки девочки ступали мягко, точно лапы зверька, и сколько не оборачивайся – следы не увидишь.
На остановке мама говорила, что их трамвай легко отличить даже ночью: одна лампочка у него одного цвета, а вторая – какого-то другого… Девочка видела себя ночью, в метель, совсем одну и в надвигающейся из темноты и снега громаде трамвая она искала и не находила лампочки нужного цвета.
Но метель исчезла, и деревянный, застывший до хруста вагон, звеня и высекая из проводов электрические искры, повез девочку мимо незнакомых домов, не вмещающихся в мокрую круглую дырку, растопленную пальцем на обледенелом, желтом от солнца окне.
Дырку пришлось послушно оставить и забыть, потому что мама, придерживая девочку за шиворот, вывела ее у здания театра, широко раскинувшегося на площади, огромного, как цирк, только голубого, а не желтого.
Вот мама ведет ее в гардероб. Там она сняла фетровые боты, гладкую блестящую котиковую шубу, потертую на рукавах, которую девочка так часто благоговейно гладила одна в темной передней, замирая от запаха духов и мороза, от ощущения неземной красоты.
Мама развязала тесемку, подтягивающую ее длинное платье, чтобы оно не выглядывало из-под шубы. В вечернем платье, в туфлях на каблуках, она стала вдруг неразличимо похожа на других дам: нарядных, возбужденных, многократно умноженных зеркалами в резных тяжелых рамах, из которых они порой выглядывали кокетливо вполоборота, а затем исчезали, оставляя лишь пустую стену напротив.
И, глядя на незнакомые лица и забывая их, увлекаемая струящимися тающимися шлейфами запахов, пересекая при своем движении тут же смыкающиеся за их спинами незримые нити чьих-то разговоров, не дождавшись ответа на обрывок фразы, не обернувшись на звонкий смех, на задержавшийся взгляд, вспышку белков глаз из глубины полукруга галереи, уходящей за раму зеркала, девочка оказалась на самом дне голубой, с золотом, чаши зрительного зала, внезапно выросшего из макета за стеклом в фойе, заполнившегося движущимися людьми, светом и звуками.
На нее обрушилась целая какофония их: неведомых, исторгаемых снизу, из оркестровой ямы, бьющих вверх к голубому небу плафона, к желтому солнцу люстры, сверкающему хрустальными виноградинами. Казалось, музыканты, подвластные всеобщему правящему здесь радостному хаосу, вмиг разучились играть и позабыли ноты. Они изо всех сил дудели, шумели, барабанили на фоне контрастно звучащих под белыми смычками струн: «Ре-ля, ре-ля, ре-соль, ре-соль, ре-соль-до…».
Мама, наклоняясь, что-то говорила ей, но она не слушала ее и не хотела слушать, а тут еще труба, вопреки разноголосому гомону, вывела: «Сердце, как хорошо, что ты такое…». Модная песенка, девочка засмеялась.
А в антракте она пила из тонкого стакана такую вкусную воду вишневого цвета!
– Как тебе спектакль? – спросила ее мама, долго улыбаясь скрипу снега под ногами.
– За-а-а-мечательный! – наконец-то она вспомнила это новое слово!
Урок китайского, или Военная тайна
Совсем скоро закричит сова: как только солнце закатится куда-то вбок, волоча за собою, как сети, удлиняющиеся при своем движении тени. Когда, распластав их на траве – ненужные, брошенные, – оно исчезнет под малиновой полосой неба в лесу, тогда, повинуясь тысячелетней привычке, растявкаются разномастные деревенские шавки, находящиеся между собой в сотни раз перекрестном родстве.
Однако и они – одна вслед за другой – замрут до наступления темноты и с чувством выполненного долга спокойно уснут: кто в собственной конуре, кто прямо посреди двора, на вытоптанной траве, поскуливая и подрыгивая во сне лапами. И сон их не омрачит никакой грабитель-супостат; разве что поутру хозяйка, баба с пустым позвякивающим ведром, не пойдет доить козу или корову. Не поведет псина во сне чутким мохнатым ухом, потому как брать в насквозь пропитом доме ее хозяина совершенно нечего – если только чекушку, спрятанную на черный день и до сих пор, несмотря на все старания, не найденную.
И только когда все стихнет и с небес тихо спустится ночь, тогда, сидя на косматой еловой лапе, хлопая под клокастыми бровями, буравящими темноту круглыми глазами, сова скажет свое:
– Угу-
Однако пока она молчит в лесу за рекой: ей еще рано. Светло, но уже устраивается поудобнее на сухом суку перед сном аист, переставший шлепать по отмелям в поисках лягушек, и расчирикались ласточки, вытянувшись в ряд на проводах.
…Я, умиляясь гармонии природы, гляжу на притихшую реку, сидя рядом с домом под дубом. При этом с грустью вспоминаю Ивана Андреевича Крылова: мой вес близок к трехзначной цифре, а потому мужчины при виде меня выворачивают шеи в противоположном направлении. Но душа у меня прекрасная, тонкая. Об этом знаю только я и тот, кто на небесах, а потому, вооружившись самоучителем по китайской живописи, особой тушью (бруском, который надо растирать с водой), а также торшеном, за неимением рисовой бумаги, я представляю, как под моей рукой на лист ложатся легкие дымчатые туманы, пенятся водопады, гуляют цапли в шелестящем тростнике, а на изогнутом мосту дождь поливает путника с шишковатой прической.
Китайский художник пишет сердцем. Вот и я всем своим истосковавшимся сердцем гляжу на северо-западную речку перед собой, представляя дивные китайские виды на листе…
– Можно к вам на качели? Мне скучно…
«Люська, – подумала я, и тут же осеклась: это ее сын. – Как быстро летит время!» Хотя голос у ее сына в точности, как у Люськи; впрочем, как и круглые уши. Такой вот у них от покойника-прадеда «переходящий вымпел».
– Как же ты похож на маму!
– Да, у меня все мамкино, – ответил, раскачивался на качелях, мальчуган.
– И нос?
– Да, и нос.
– И уши?
– Да, и уши. – Он явно гордился прадедушкиным наследством.
– Но пятки-то, наверно, папкины?
– Нет, пятки мои, – вскричал малыш. – У папки пятки – шершавые и желтые: у него грибок. Ой, это секрет!
Китайские мазки вдохновенно ложились на лист один за другим.
– Хочешь, я тебе картинку подарю?
Он скосил взгляд на бумагу:
– Еще чего!
Обидел.
– А сам ты рисуешь?
– Я только машины рисую.
– Какие? – Мне явно скучно. Легкая китайская живопись, несмотря на доходчивость изложения в книжке, явно пробуксовывает, и шестилетний мальчуган у меня ассоциируется с кем-то вроде клоуна.
– Да всякие рисую, с фарами.
– А у вас какая машина?
– «Жигуль». Папка кричит: «Моя машина…» Ой, я, кажется, опять секрет сказал. Мама мне говорит: «Все, что про папку, – это секрет!»
– Да нет, никакой секрет ты не сказал.
Успокоенный мальчуган принялся раскачиваться быстрее.
Ну что же это такое! Передо мной – дивной красоты северная природа, книжка раскрыта на нужной странице: с дышащим тончайшими нюансами цвета и света китайским пейзажем. Ее автор все по пунктам расписывает, душа у меня поет и свободно летит за эхом по глади воды к лесу… А на бумаге выходит просто форменное безобразие! И если китайский художник пишет сердцем, то мое, получается, молчит.
– Ты с кем сюда приехал?
– С дедушкой, бабушкой и мамой. Мамка кричит папке: «Убирайся, козел прокля…» – Ой… Это опять секрет. – Внезапно расстроенный парень даже слез с качелей и рассматривал мой шедевр. Там было все: и китайский водопад, и дуб, и даже елка, и тростник с аистом – в общем, русско-китайский компот: сплав культур, так сказать.
– А почему у козла нет рогов?
– Вообще-то это лисица. – Я еще хотела добавить, что это тема популярна у восточных художников, но он меня опередил:
– А вы нарисуйте ей рога и будет козел!
Лисице были подрисованы рога, и даже веревка теперь вилась от ее шеи к дубу – золотая веревка.
Картинку с козлом ученым мальчик попросил себе: почувствовал в ней что-то родное.
Может, и я, как китайские художники, рисую сердцем?
Борис Суслович Израиль, г. Холон
Борис Зиновьевич Суслович родился в 1955 году в Днепропетровске, закончил мехмат ДГУ, программист. С 1990 года живет в Израиле. Пишет много лет. Стихи и проза публиковались в журналах «Новая Юность», «Крещатик», «Семь искусств», на порталах «Точка зрения» и «45-я параллель».
© Суслович Б., 2015
«Как это происходит? Среди бела дня или глубокой ночью в тебя, как заноза, впивается строка. Ты крутишься, как уж на сковородке, пытаясь от нее отделаться, но она тянет тебя за собой. Ты несешься по своей жизни, нигде не задерживаясь, от давно забытого детства до стремительно приближающейся старости. Хищный ветер пробирает насквозь, миги наслаиваются друг на друга, а единственный хлипкий якорек – зажатый в руке карандаш, которым ты пытаешься набросать координаты точки, в которой оказался. По ним ты еще многажды придешь сюда, прибирая и упорядочивая найденное место, пока, бросив прощальный взгляд на дружелюбный пейзаж, не покинешь его. В ожидание нового толчка, уносящего в неизвестность».
Царскосельский вокзал
Казалось — прохожим усталым Бредешь в направленьи вокзала. Вокзал. Измотавший все силы, Бредешь в направленъи могилы. Могила. Счастливчик: теперь ты Бредешь в направленьи бессмертья. Бессмертье. Его не хватало На скользких ступеньках вокзала… Далеко зашел ты, Паровик усталый! Доски бледно-желты, Серебристо-желты, И налип на шпалы Иней мертво-талый. Уж туда ль зашел ты, Паровик усталый? 1906Прошение
В своих апартаментах министр просвещения Шварц, благообразный седой старик, принимал попечителя петербургского округа Мусина-Пушкина. Попечитель, весьма самоуверенный пожилой господин, держался с хозяином кабинета почти на равных.
– Александр Николаевич, если бы Вы знали, до чего с ним тяжело! По любому пустяку имеет особое мнение. Конечно, он и Еврипида переводит, и книги о литературе издает, и оригинальные стихи пишет. Будто мы лаптем щи хлебаем… И каков фон-барон: ему частичную отставку подавай, хочет еще лекции читать и в Ученом комитете красоваться! Нет уж, отставка так отставка, без разных финтифлюшек…
– Да Вы не волнуйтесь так, Александр Алексеевич! Я с Вами вполне согласен. У Анненского с сердчишком проблемы, так что мы о нем же заботимся. Bona fide![1] Потрудитесь подготовить приказ. А я распоряжусь.
– Благодарствую, Ваше превосходительство. Завтра изволите принять?
– Уже с приказом?
– Разумеется.
– Отлично, граф. Жду.
Ученик
Промозглым ноябрьским утром в небольшом особняке, каковых немало на тихих улицах Царского Села, беседовали двое: импозантный дружелюбный хозяин с бледным, чуть отечным лицом и гость – совсем молодой, почти юноша. Лицо второго, маловыразительное, с неправильными мягкими линиями, обладало странной особенностью: посреди разговора оно неожиданно «собиралось», расплывчатые черты приобретали строгость и красоту.
– Ну что Вы, Коля, разве можно так переживать из-за того, что Ваши стихи кому-то не нравятся? Вспомните, как эта самая Гиппиус отнеслась к Вам в Париже… Вы же прекрасно понимаете: поэтом нельзя сделаться, эта болячка сидит в нас от рождения. Пишите и пишите: то, что внутри, обязательно выплеснется.
– Иннокентий Федорович, может, я просто неудачник? Даже аттестат позже всех получил, другие уже университеты заканчивают. А за что Зинаида Николаевна на меня взъелась, просто не постигаю. В Париже в три шеи вытолкала. Да и сейчас… Будто у нее есть право решать, кто для чего предназначен.
– Вот именно. Поймите, мальчик мой, это свойство недалеких, поверхностных натур: целиком доверяться первому впечатлению, с легкостью ставить на человеке крест. A homo cogitans[2] сомневается в себе постоянно. В своих мыслях, оценках, чувствах… Гиппиус и как поэтесса весьма ограниченна. Жаль, что среди пишущей братии до сих пор не было ни одной великой женщины.
Анненский внезапно замолчал. Медленно встал, сделал несколько неглубоких вдохов, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Потом так же резко вернулся к собеседнику.
– Простите великодушно. Вот я сейчас Вас успокаиваю, а сам? Думаете, легко сознавать, что жизнь почти прожита, а стихи никому не нужны, переводы где-то лежат-пылятся. Об остальном и говорить нечего: смотрят, как на клоуна. Что это господин бывший директор статьи о литературе кропает на старости лет?
– Иннокентий Федорович, – Гумилев будто отбросил привычное косноязычие, заговорил твердо и четко, – Ваши стихи мне необычайно дороги. Тот, кто судит о Вас свысока, мало что смыслит в поэзии. Ничего не смыслит.
– Вот видите, Николя, для меня Вы сразу нашли слова утешения. А для самого себя, что, кишка тонка? – Анненский широко улыбнулся, сразу став гораздо моложе. – Поверьте, время все расставит по своим местам. Дождаться бы только этого времени…
Жена
Анненскому нездоровилось. Последний месяц сердце беспокоило как-то по-иному: неожиданнее, острее. Приходилось ложиться в постель и ждать, пока боль отпустит. Он не терпел этого вынужденного нелепого безделья. Ему всегда казалось, что с собственным сердцем можно договориться, ублажить его, что ли. Долгие годы почти так и происходило. Когда перевалило за пятьдесят, он даже стал немножко вольнее себя вести. Иногда позволял себе переживания, которых старательно избегал в молодости. Вот и сейчас, наверное, переусердствовал.
– Болит, Кенечка? Может быть, еще капель? Или доктора?
– Незачем, Дина. Полежу немного, сейчас пройдет. Кажется, уже легче.
Жена действительно беспокоилась о нем. И очень хотела показать, что может быть полезна.
Когда они познакомились, он, двадцатидвухлетний студент, влюбился без памяти. Дине было тридцать шесть, бедняжка овдовела, когда сама была не намного старше своего юного ухажера. Она была красива. Очень. Нежная женщина, в одночасье лишившаяся любимого мужа и сама вырастившая прекрасных сыновей, с которыми он сразу подружился (благо разница в возрасте была невелика, куда меньше, чем с их мамой), просто околдовала его. Он чуть ли не с первой встречи мечтал о женитьбе. И вскоре сделал предложение.
К счастью, она согласилась. Хотя Иннокентий вызывал немалые опасения. Молодостью, горячностью, детской восторженностью. Дина не хотела выходить замуж за полуребенка. Свадьбу отложили на два года: жених полагал, что напрасно. Они обвенчались, едва Анненский получил диплом. И он сразу сумел поставить себя. Пасынки были немало удивлены, когда отчим начал активно участвовать в их жизни. Как старший брат. И муж матери. А тут и Валечка подоспел, и не было никаких оснований сетовать на судьбу: от него, двадцатипятилетнего, зависело благополучие большой семьи – и он этим не на шутку гордился. А домашние гордились им, его спокойствием, хладнокровием, деловитостью. Может быть, этот скорый брак приостановил развитие его болезни? Кто знает?
Надежда Валентиновна с тревогой смотрела на мужа. Как он мучается! Она сегодня надела нарядное, любимое им платье. Но что делать с этим проклятым возрастом? Хоть зеркала убирай…
Иннокентий Федорович попробовал улыбнуться. Когда-то платье сводило его с ума. Вернуться бы к себе, тогдашнему. Невозможно. Ну вот, опять прихватило. Надо постараться ни о чем не думать. Хоть несколько минут…
Невестка
Они медленно шли по аллее парка. Было ветрено и сыро.
– Кеня, почитайте еще, – попросила Ольга. – Мое любимое: «Паровик усталый». И «Это – подлог». И «Петербург». И «Шарманку», конечно…
– Олечка, Вы меня балуете. – Иннокентий почти забыл о привычной тяжести в груди, чувствовал себя свежим и бодрым. – А куда мы пойдем? Как бы дождь не зарядил.
– С Вами – хоть в подземелье, – засмеялась женщина. – Можно и поближе. Вон беседка.
Анненский читал стихи с наслаждением – и с еще большим наслаждением смотрел на любимое лицо. Она действительно пошла бы за ним на край света, он это видел, чувствовал. Но обидеть Платошу! Не пасынка – брата. Когда-то он встал между мальчиком и его матерью. А сейчас – отнять еще и жену? Нет, это не для него. Приходится любить молча, бесполо, платонически. И ведь Платон (нелепый каламбур) совсем не ревнует. Хотя о чувствах жены знает. Не может не знать.
Ольга слушала нервные, бьющие током строки. Ей казалось, что стихи текут отовсюду: от мрачноватых серых кустов, голых деревьев, вязкого, мутного царскосельского неба. Вдруг стало тяжело дышать: спазмом стиснуло горло…
– Олечка, Вы плачете… – Иннокентий Федорович целовал руки женщины. – Пойдемте в дом. Дети уже, наверное, беспокоятся: куда противный дед увел маму? Посмотрите на эти ветки. Видите, они вначале расходятся, а потом соединяются. Как мы с Вами…
«Соединяются, – вытирая платочком глаза, подумала Ольга Петровна. – Но не на земле».
Сын
– Ну-с, Валентин Иннокентьевич, каковы наши успехи? – Анненский сам не знал, почему у него поднялось настроение. Радоваться было решительно нечему: самочувствие отвратительное, стихи печатать не хотят, отставка, похоже, будет полная, так что о чтении лекций придется забыть. Да и новая книга, рукопись которой Валя сейчас держит в руках, может пройти незамеченной. Запросто.
– Папа, я сейчас же начну, – сын был не на шутку увлечен предстоящими хлопотами. – Ты знаешь, тянуть не буду. Постараюсь все подготовить за два дня. А может, и в один уложусь.
– Ну, Валечка, прямо за один день. Ларец-то немаленький, да и заполнен порядочно. Все вычитать, да исправить, да переписать, если нужно. Не спеши, пожара нет. Я эти пару-тройку дней подожду. Дольше ждал. Кстати, никакого псевдонима не будет. Хватит.
– Папочка, для меня переписывать твои стихи – не труд, а счастье. Мы с Олей вчера об этом говорили. Помнишь: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь»? Это же о тебе.
– Валюша, Пушкин это о себе писал. Ты забыл, кто твой отец? Престарелый дебютант, которого, если и хвалят, то сквозь зубы. А чаще игнорируют. Мои новые стихи Маковский выкинул из номера. Ладно, давай о веселом. У тебя все беловые есть, так ведь? Пройди рукопись не спеша. Если что не так, исправляй. И меня зови. Хотя завтра я целый день в Петербурге. Вернусь только вечером.
– Папа, я почти все наизусть помню. Ты не волнуйся только. А если что, Оля мне поможет: ты же ей всю книгу прочитал. А память у нее замечательная…
– Не так уж много я прочитал, – Иннокентий Федорович почувствовал, что краснеет. Сын, видимо, не понимал, какие чувства связывают отца и невестку. Или делал вид. Хорошо хоть. Платон никогда не говорит с ним о жене, когда они бывают наедине. Их отношения стерильно чисты, а он считает себя грешником. Наверное, потому, что в мыслях грешит много лет. Они с Олечкой грешат вместе. – Так что Олю лучше не трогай. Ей и так забот хватает. С детьми… Пожалуйста, Валя. Запятые, отступы, курсив – постарайся ничего не пропустить. Проверяй каждую пьесу, каждую строку. Для меня это очень серьезно, ты знаешь. Второго провала я, наверное, не переживу.
– Папа, не будет никакого провала. Ты знаешь, что мне сказала Оля? Когда она тебя слушает, то радуется каждому слову. И огорчается, что стихи такие короткие.
– Да уж, – Анненскому захотелось сию же секунду увидеть невестку. Желание переполняло его. Идти, бежать, ехать куда угодно, только бы коснуться взглядом Олиного лица. Что за необъяснимая блажь, глупость? Как раз сегодня сердце чуть успокоилось, было вроде бы легче, чем в предыдущие дни. – Ты можешь считать меня старым занудой, но я по-прежнему не верю, что на книгу обратят внимание. Завтра покажешь мне, что получилось. Спокойной ночи, сын!
– Отдыхай, папочка. А я немножко пообщаюсь с другим Иннокентием Анненским… Поэтом.
– Валька, ты же не Макс Волошин, который думал, что есть несколько Иннокентиев Анненских. Я тот же. И в стихах, и в прозе, и в жизни. Неужели непонятно?
Поезд
День обещал быть хлопотным и тяжелым. И сердце дало о себе знать сразу после завтрака. Пришлось прилечь. Анненский вышел из дома чуть позже обычного, но на поезд успел.
Иннокентий Федорович сидел у окна. За окном мелькали привычные, многажды виденные картины. И мысли крутились привычные, под стать пейзажу. Почему принято считать, что поэт должен быть молодым? Жаль, что Пушкин прожил только полжизни. А Лермонтов был совсем мальчиком, моложе его Вальки. «Горные вершины спят во тьме ночной…» Где в этих гладеньких, напевных строках боль и мука нашей перекореженной жизни? Он перевел Гете иначе. Стихи, нервные и рваные, с анжамбеманом посредине, ближе к оригиналу. Но не в этом главное… Анненский со страхом думал, что его перевод (да, да, с собой можно было не лукавить) сильнее. Он знал цену своим стихам. И постоянно ощущал безразличное отношение к себе, которое уже не тяготило – унижало. Даже Блок, любимый им, талантливейший Блок, написал о нем сухо и безлично. Да что они понимают, эти двадцатилетние судьи? Кто сказал, что в пятьдесят поэт может быть списан в тираж? А Тютчев? А Фет? А Случевский? Сейчас, когда поезд приближается к Царскосельскому вокзалу, Валя вычитывает «Кипарисовый ларец». Увидеть бы эту книгу. Подержать в руках. Прямо в глаза бьет только что вырвавшееся на свободу утреннее солнце. Анненский улыбается ему. Как он радовался каждому новому году, мечтал встретить еще одно десятилетие. Остался всего год. Г-споди, многомесячный неподъемный год, который ему не осилить. Да что год! До него целый месяц. А до этого месяца почти целый день, четырнадцать неповоротливых, громоздких часов. Чертова прорва минут. И каждая может оказаться последней.
Поезд тормозит. Вот он, вокзал. Пассажиры встают. Медленно идут к выходу. Что еще остается?
Похороны
Толпа собралась изрядная. Валентин стиснул зубы, чтобы не застонать: почти никто из этих людей не знал, даже не догадывал-с я, кого сегодня хоронят. Кто замер в гробу в застегнутом наглухо учительском мундире.
Неожиданно его тронули за рукав. «Простите, барин, – послышался знакомый голос. – Что же это… Батюшка-то Ваш…» «Истопник гимназии» – промелькнуло в мозгу. Валентин Иннокентьевич кивнул и медленно обернулся: рядом стояла Ольга Петровна, глаза ее были сухи, рот плотно сжат. Странно: только что он отчетливо слышал стихи. Наверное, померещилось…
Короткие рассказы
Полет
Он проснулся резко, рывком, как по команде. В первую секунду, когда подробности сновидений еще не успели затуманиться, возникло ощущение потери. Захотелось вернуться в сон, укрыться им с головой. Рука машинально потянулась к мобильнику: так и есть, до подъема почти полчаса. Если бы можно было управлять временем не просыпаясь.
Ему снился Днепропетровск. Он жил там уже давно, хотел вернуться в Израиль и почему-то откладывал возвращение. Порой даже казалось, что он проживает в старой родительской квартире, которую давным-давно оставил. И спит не в своей кровати, а в крошечной дочкиной, свернувшись, как лента Мебиуса. Или это был сон во сне. А наяву – то есть в реальном сне – он ночевал в какой-то гостинице, чуть ли не в самом центре города, которую непонятно кто оплачивал.
Целыми днями он бродил по городу. Город совсем не изменился – и в то же время был совершенно другим. Наверное, потому, что изменился он сам. Он заходил в незнакомое место, поводил головой из стороны в сторону, будто сбрасывая наваждение, и вдруг оказывался там, где любил бывать. В забегаловках подавали те самые блюда, которыми кормили двадцать пять лет назад. В книжных магазинах можно было порыться в завалах, которые давно пополнили городскую свалку. В кинотеатрах специально для него шли допотопные фильмы, он с наслаждением пересмотрел «Профессия: репортер» Антониони. И трилогию Абуладзе. На «Древе желания» в зале больше никого не было.
Нужно было работать, заниматься каким-то разумным делом. Он заходил в разные конторы, показывал свои документы, но оказывалось, что он работает в Израиле, а здесь в командировке. Целью приезда было «обретение душевного равновесия». Какое равновесие он мог обрести один, без семьи – непонятно. Несколько раз пытался вернуться, заказывал билет, но в последнюю секунду происходили разные нестыковки: то рейс откладывали на несколько дней, то его не оказывалось в списке пассажиров, то ему возвращали деньги по распоряжению какого-то мифического шефа. А город жил своей нормальной жизнью, самолеты улетали и приземлялись, в том числе и по нужному маршруту. Только без него.
Удивляло и другое: он все время с кем-то общался, но никто не удерживался в памяти. Во время разговора в мозгу будто выстреливало: «Не тот! Не та!» И он уходил посредине фразы, а за ним шли люди-невидимки. Иногда его окликали по имени. Он оборачивался, вглядывался в лица. Казалось, в толпе мелькает что-то свое, родное. Или это ощущение лепилось прямо из воздуха, загаженного, измордованного заводскими выбросами, которым он дышал полной грудью. И никак не мог надышаться.
Тяжелее всего было ночью. Он ложился попозже, один раз даже совершил чудовищный моцион: перешел на левый берег по старому мосту, потом пехом добрался до нового моста, опять оказался на правом берегу – и вернулся в номер. Без сил дополз до кровати, но, стоило закрыть глаза, как в них вламывалось садистское израильское солнце, он слышал ивритские слова – и узнавал в этих вязких, затягивающих звуках голоса детей. Ему опять мерещился аэропорт. Шла посадка. Он лихорадочно искал билет – и не мог найти. Вдруг по радио объявили, что пассажир X приглашается к диспетчеру. Даже в юности он не бегал так быстро. Девушка, чем-то напомнившая дочку, извинилась за беспокойство и положила на стойку билет. Он едва сдержался, чтобы не поцеловать ей руку. Через минуту проходил паспортный контроль, причем в его документы даже не заглянули. Уже поднимался по трапу в самолет. Никто не тормозил, не тянул за руку или за душу. И тут что-то сломалось, выпал какой-то крохотный винтик, делающий сон похожим на жизнь. В те секунды, которые остались до пробуждения, нужно было выбрать между ним и ею. Вдруг стало смешно: разве он может что-то решать? Все решено. Во сне.
Зимнее время
А.Р.
Солнечные блики скользили по воде. Жена подплывала к сияющей полосе, почти сливаясь с ней. Он стоял на месте и отрешенно следил за удаляющейся фигурой. Внезапно услышал: «Эй, ты заснул там?» Ничего не оставалось, как пуститься вдогонку.
* * *
«Меня зовут Анна» – девушка откинулась на спинку кресла, вытянув длинные ноги. «Чуть моложе меня, – подумал он. – Интересная девчонка, только понта много». Ничего сверхъестественного в тот вечер не произошло. Кажется, он увязался кого-то провожать. К новенькой даже не подошел. Зачем?
* * *
Телефон зазвонил в полдевятого. Кто это в такую рань? В воскресенье? С трудом разлепив веки, он взял трубку – и удивился еще больше: «Извини, просто не могла удержаться. Какая девушка! Держись за нее руками и ногами». Полина, жена приятеля, была сдержанна и немногословна. Как всегда. Опять лег, но сна как не бывало. Оказывается, можно наслаждаться, когда хвалят не тебя.
Они встречались всего два месяца. Вначале ему казалось, что это временно. Но Аня вошла в него, как нож в масло. Он считал минуты до каждого свидания. Смотрел на нее – и не мог насмотреться. Они целовались без конца, даже посреди улицы. Как школьники.
* * *
Они шли по переходу между этажами тбилисского универмага. Почти вровень. Жена изящно несла свой семимесячный живот – и он с нескрываемой гордостью наблюдал за ее походкой. Навстречу двигалась старушка. Поравнявшись с ними, оторвала взгляд от земли: глаза у божьего одуванчика были ясные, цепкие. «Девку родишь» – выпалила без малейшего промедления. В ту же секунду ее глаза потухли, старуха вновь уставилась в пол – и пошкандыбала дальше.
Они одновременно посмотрели друг на друга. Жена засмеялась. Не обращая внимания на проходящих мимо, он аккуратно обнял обеих.
* * *
«Тавии бэн! Ат рода бэн?»[3] – женщина кричала с расстояния десять метров. Они пошли на рынок за покупками, «на покупки», как говорила дочка. Как жену разглядели в густой толпе? Израильтянка была примерно их лет, веселая и симпатичная. «Кэн, тода»[4] – ответил он на своем убогом иврите.
«Вспомнила Тбилиси?» – обратился к жене.
«А я не забывала. Пошли, здесь дорого. Может, найдем что подешевле».
* * *
Солнце садилось. «Почему так рано? – подумал он. – Ах, да: сегодня перевели часы. Зимнее время».
Они поднимались по лестнице. Только что их коснулся слабенький луч, наверное последний: солнце слилось с горизонтом – и начало медленно погружаться в воду. На последней ступеньке он обернулся – сзади уже ничего не было.
Коляска
Девочка хотела домой. В свою кровать, свою квартиру, свой двор. Куда все пропало? После прогулки ее, как обычно, уложили спать. А сейчас… Она лежала в тесной комнате, где вместо двери почему-то было зеркало. В ушах стоял противный повторяющийся стук, картинки за окном беспрестанно менялись. Папа сидел напротив и смотрел на нее. А в проходе стояла любимая коляска.
«Проснулась, лягушка-путешественница? – папа чему-то радовался. – Давай ужинать». Она поела и почувствовала, что снова хочет спать. Куда они едут? И когда вернутся домой? Почему ее постоянно что-то дергает? И эти убегающие картинки за окном… Когда смотришь, глаза болят… Лучше совсем их закрыть.
«Станция Вылезайка. Вставай», – она посмотрела в окно и удивилась: никто никуда не ехал. Снаружи стояла одна и та же картинка: большущее здание с буквами на нем. Некоторые буквы она знала. Папа начал вытаскивать вещи. Ее посадили в коляску и повезли. Неужели домой?
Они сидели в машине. Незнакомый водитель называл бабушку по имени. И все время интересовался Израилем, куда они, оказывается, едут. Последние несколько месяцев она слышала это слово каждый день – и никак не связывала с собой. Оно относилось только к взрослым.
Машина остановилась. Ее привели в большую чужую квартиру – и она несколько раз обежала ее. Опять захотелось спать, а коляска осталась у папы. Пришлось лечь в кровать. Было неудобно, но уже через минуту это не имело значения.
Она проснулась от голода. Не успела поесть, как они снова сели в машину и поехали. Наконец перед ними появился светлый стеклянный дом, куда они зашли.
Внутри ее встретили папа с мамой. И лучшая в мире коляска. Но прежде чем сесть в нее, нужно было проверить, куда же ее все-таки привезли.
«Хватить бегать, хоть капельку отдохни. Еще набегаешься, когда прилетим», – папа уже не шутил, был серьезен и даже чем-то озабочен. Но ей и самой надоело носиться взад-вперед: всюду были чужие люди со своими вещами. Зачем они ей? Лучше послушать папу и лечь в коляску. Закрыть глаза и вспоминать, как они катались по двору. Вчера…
Ее разбудил ветер. Они стояли перед странной длинной лестницей. «Не бойся, маленькая, это самолет. Мы сейчас полетим», – папа опять улыбался. Почему он всегда знает, о чем она думает? Неужели потому, что мама зовет ее папиной дочкой?
– Я вам третий раз объясняю, что коляску надо сдать в багаж. Ваша девочка большая и вполне может обойтись без нее, – высокий дядька в красивой форме говорил громким, обиженным голосом.
– Да вы посмотрите на эту «большую», – папа не собирался соглашаться. – Она весь полет будет требовать свою коляску.
– А вы попробуйте. По-моему, вы на свою дочку наговариваете.
– Ну, давайте. Попробуем, – папа действительно разозлился. Но не на нее же!
«Доча, твою коляску надо отдать. Поняла, маленькая? Давай, я помогу», – папа был совсем серьезен, но подмигнул ей. Почти незаметно.
Девочка мгновенно расплакалась. На всю катушку. Что это, в самом деле? Увезли из дома. Сажают в какой-то самолет. Так еще и коляску отдавай?
«Ладно, берите вашу «Мальвину, – дядька отвернулся в сторону и махнул рукой. – Не до вас».
Они сидели в самолете. Папа с мамой – в креслах, она – в коляске. Ее кресло было свободно. «Все, дочура, сейчас взлетаем, – папа легким движением поднял ее, посадил в кресло и застегнул ремешок. – А наверху, если захочешь, вернешься назад».
«Конечно, – подумала девочка. – Я же лягушка-путешественница. Интересно, кто это?»
Взгляд
Памяти Н. М.
Он лег в постель, потянулся и закрыл глаза. Сон не шел. Не было никакого намека на стремительное погружение в самого себя, которое он так любил. Глаза открылись. Пришлось вернуться к тому, что уже закончилось. Сегодня.
О том, что Неля умирает, он узнал почти случайно: они учились в разных классах и виделись нечасто. Он не очень-то обращал внимание на девчонок. Но эта была заметна. Она проносилась по коридору, как вихрь, оставляя за собой маленькие волны. Ему как-то захотелось побарахтаться на такой волне. «Что, нравится Нелька? – спросил одноклассник, проследив за его взглядом. – Дурило, мы для нее – мелюзга». А потом Неля пропала. Она не ходила в школу больше месяца, когда он услышал от одной из ее подружек: саркома.
Видеть Нелю в гробу было дико. Как будто там лежала кукла, лишь чем-то ее напоминавшая. Одноклассники говорили один за другим, благодарили умершую и обещали помнить всю жизнь. Он слушал и не понимал: разве такую девочку можно забыть?
Сейчас он сидел на постели и думал, думал, думал. Конечно, все люди рождаются и умирают. С первого аккорда он различал похоронный марш – и старался обходить процессии стороной. Но до сегодняшнего дня никак не сопоставлял смерть с собой. Пятнадцать лет, только вчера он был ребенком. А Неля старше всего на год! Ее, веселую, шумную, быструю, запихнули в деревянный ящик. Никто больше не сможет назвать девочку по имени. Услышать, увидеть, полюбить. Как же это?
Он смотрел в темноту и изо всех сил гнал от себя мысли. Но они никуда не уходили. «Почему мы умираем? Кто это придумал? Как это можно изменить? Почему я… я… Я… должен… обязан умереть? Для чего тогда жить? А что я могу сделать, если смерть свалится на меня? Или уже валится? Сейчас, пока я сижу и смотрю вокруг, моя жизнь уходит… Почему вокруг так темно? Может, включить свет? А как дойти до выключателя? Откуда я знаю, что меня там ждет?»
Он медленно, осторожно закрыл глаза и лег. Внутри что-то острое, режущее как будто размякло, разгладилось. Ему вдруг стало лет пять, не больше. Неля сидела рядом и легонько сжимала его руку. «Не бойся, малыш, – слышался ее голос. – Спи. И я посплю. Ночью всем надо спать. Как же иначе?»
Пауза
Слова приходили одно за другим и незаметно складывались в предложения. Человек записывал их в момент появления. Стоило поторопиться или замешкаться – и корявое, двусмысленное слово застревало во рту. Наступала пауза.
Когда-то пауза затянулась на двадцать лет. Все, что было до нее, забылось, и она стала жизнью. Предсказуемой. Без загогулин и выкрутасов. Временами почти счастливой. Чужой.
Журавленок
Журавленок стоял у воды, почти не шевелясь, и смотрел в море. Издалека можно было подумать, что белая птица – манекен, настолько плоской и неподвижной казалась эта легкая фигурка. Но стоило приблизиться, как она оживала, взмывала вверх и оказывалась далеко.
Никто не знал, как он появился здесь. Наверное, отбился от одной из бесчисленных стай, избравших приморский город для последней остановки перед длинным многодневным перелетом. Может быть, журавленок заболел. Или взрослые решили, что ему не хватит сил долететь. И он остался.
Довольно скоро новенький познакомился с местными птицами. И юркие чайки, и неповоротливые голуби даже не пытались его обидеть. Постепенно он привык и к собственному одиночеству, и к тому, что не похож ни на кого из здешних обитателей: ни снежной белизной перьев, ни длиннющими ногами, ни худобой. Иногда ему мешали дети, которые бегали по берегу и бросали в него всякий мусор. Наверное, они просто дурачились. Но он сразу перелетал на другое место.
Человек появился неожиданно. Он не подходил к журавленку, а стоял неподалеку. Перед ним была какая-то доска. Журавль привык к странному незнакомцу и уже не удивлялся, что тот приходит каждый день и подолгу смотрит на него. Прошла неделя. В одно утро человек неожиданно повернул деревяшку, а сам отошел в сторону. Журавленок увидел белую птицу и приблизился. Птица оказалась очень похожей на него. Он иногда видел в воде свое отражение, но оно все время менялось и покрывалось пленкой. А здесь все было ясно. Крылья птицы казались большими и сильными. Такая сможет улететь куда угодно. Не то что он.
Ночью журавленку приснилось небо. Далекое, северное, родное. Его продувал холодный ветер. И, чтобы согреться, он летел все быстрее. «Давай, давай, – галдели вокруг взрослые птицы. – Лети к нам. Ты справишься».
Инфаркт
Памяти отца
Воздуха не было. Каждая попытка вдохнуть отдавалась внутри, будто по застрявшему в горле горячему кому проводили наждаком. Сердце то заполняло всю грудь, то куда-то пропадало. Давид с трудом повернулся и посмотрел на будильник. Три. Медленно встал и сделал несколько шагов по комнате. Ему показалось, что стало легче. А вдруг пронесет?
Это началось несколько дней назад. Он вроде в шутку сказал, что чувствует тяжесть в спине. Жена шутить не собиралась: «Нужно провериться. Это сердце…» Он отмахнулся: «Я ведь только месяц назад обследовался. Ничего не нашли. Здоров». О том, что на работе почувствовал внутри режущий удар – под дых, – говорить не стал. Он тогда попросил у кого-то папироску, хотя не курил уже десять лет. Легче не стало. Правда, потом его отвлекли – и боль незаметно ушла. А сейчас вернулась. Удесятеренная… Что было в последние дни? Ничего. Кроме разговора с директором. Тот проходил мимо его рабочего места – и вдруг остановился.
– Как трудится наш пенсионер? Не тяжело?
– Спасибо, Григорий Иванович. Справляюсь.
Убедившись, что их никто не слышит, бывший сокурсник подошел ближе.
– Не устал заниматься галиматьей? К себе не тянет?
– Тянет. А что толку?
Потом долго не мог успокоиться. И так по утрам ему приходилось переламывать себя, без конца напоминая, что цех, в котором знал каждую пылинку, больше не его. Свою нынешнюю работу в палате мер и весов – гирьку туда, гирьку сюда – временами ненавидел. Но зачем Гриша заговорил об этом? Неужели потому, что в незапамятные студенческие времена Давид учился лучше? Да и начальником цеха стал раньше. Когда-то. Были и мы рысаками…
Он вставал, потом садился на кровать, пытаясь найти какую-то неведомую спасительную позу. Но боль находилась всюду, будто воздух только-только зародившегося октябрьского дня был уже заряжен ею. Нужно позвонить Поле. А что сказать? Что не смог перетерпеть двух часов до окончания ее дежурства? Неужели он настолько ослаб? Стыдно…
Давид лег, закрыл глаза – и увидел жену. Она говорила по телефону. Никаких слов нельзя было разобрать, но сам голос действовал успокаивающе. Как снотворное…
Вдруг прямо в ушах застучало что-то тяжелое, грубое, настырное. Будильник, всего-навсего будильник… Он повернул голову: начало шестого… Почти на автопилоте встал и подошел к телефону. Поля ответила сразу. Повезло.
– Полечка, приезжай, – Давиду казалось, что говорит кто-то другой.
– Болит? – Жена скорее утверждала, чем спрашивала. Неужели его выдает голос?
– Да, – говорить становилось все труднее, слова застревали в горле.
– Давно?
– Третий час.
– Давидка, родной, не волнуйся. Позови Лизу.
Он потащился в соседнюю комнату, где спала семнадцатилетняя дочь. Услышав слово «мама», Лиза тут же встала.
– Папочка, пойдем, – вид у девочки был решительный… и испуганный. – Мама уже едет.
Ему казалось, что он не успел прилечь, как раздался звонок в дверь. Дочка, сидевшая рядом, кинулась в прихожую.
В спальню вошла жена – и с ней черноволосая женщина с маленьким чемоданчиком, который раскрылся будто сам по себе.
– Ничего не говорите, Давид Израилевич, – врач вела себя так, будто они давно знакомы. – Сейчас будет легче.
– Что, Сана? Инфаркт? – голос жены слышался как сквозь сон. Боль неожиданно отступила.
– Похоже, да. И немаленький. Я сделала укол. Будем везти?
– Одну секунду, – Полина подошла к кровати и внимательно посмотрела на мужа. – Да. Зови санитаров.
– Полина Абрамовна, можно выносить? – тихий голос вошедшего в комнату мужчины не вязался с его крупной, сильной фигурой.
– Конечно, Кирилл. Приступайте.
Давид раскрыл глаза. Чьи-то руки ловко выбрали его из кровати. «Зачем? – возмутился внутри двойник, здоровый и сильный. – Я сам».
Санитары медленно спускались по лестнице. Лежать на носилках было неудобно. Точным, экономным движением больной поправил собственное тело.
Возле подъезда стояла «неотложка». Увидев выходящих людей, водитель включил мотор. Жизнь продолжалась.
Встреча
– Алина Аркадьевна, за что единица?
– Честно заработал, Петенька. Синус с косинусом перепутал? Перепутал. Когда я новый материал объясняла, ворон за окнами считал? Считал. Так что до двойки недотянул. Там в дневнике все написано, можешь почитать. Пусть мать приходит. Так и передай: жду не дождусь. Все, свободен.
Ученик вышел, грустный и подавленный. Конечно, он привык к выволочкам. Но математичка так с ним еще не разговаривала. Самая молодая училка в школе. Было обидно: никаких ворон он не считал. Просто смотрел на нее. Смотрел, а не слушал.
Алина была недовольна собой. Вдруг захотелось курить. Странно: она бросила еще на последнем курсе, почти два года назад. Ну вот, наехала на мальчика. Туповат, конечно, но ведь можно было иначе объяснить. Ласковей. А все потому, что дурацкий токсикоз замучил. Уже восьмая неделя, нужно немедленно что-то решать.
«Что-то» означало аборт. Сегодня утром, перед уроками, опять встретила Олега: их классы были рядом. «Алинка, когда увидим-с я? – быстро спросил он. – Соскучился, честное слово». Она молча прошла мимо. Папаша. Спать с ним было, пожалуй, приятно. Но рожать от этого племенного бугая? К тому же перед их первой встречей, которую девушка про себя именовала «случкой», он зачем-то уточнил, что она ему «дико нравится как дополнение к семейной жизни». «Вот сучок», – Алину передернуло. Впрочем, в постели примерный семьянин оказался «на уровне» – и его болтовню захотелось забыть. Встречи продолжались. И всего-то один раз она не взяла с собой пилюли. Когда Олежек на большой перемене сказал, что сегодня квартира друга свободна, машинально кивнула. Понадеялась, что пронесет, кретинка. Вот и получила.
Положение было однозначно безвыходное. И все равно казалось, что этого незадачливого человечка, затесавшегося внутрь, можно как-то спасти. До позавчерашнего разговора с матерью.
– На меня не надейся, – мама говорила почти враждебно.
– Ты что, не хочешь внука?
– Еще как хочу! Но не байстрюка. Вот телефон хорошего врача. Позвони и договорись.
Она послушно взяла бумажку. Потом, проверяя тетрадки, все время повторяла про себя обычный, ничем не примечательный номер. Как приговор.
На следующее утро позвонила. Врач был немногословен: «Да, я в курсе. Какой срок?» Она ответила. «Так тянуть нечего. Вы окончательно решили?» Алина промямлила что-то утвердительное. «Приезжайте завтра днем. Спросите меня». Оставалось только положить трубку.
Она ехала в троллейбусе и старалась не думать. Так проще. Любую мысль – жгучую, беспросветную, бессмысленную – давить в зародыше. Уставиться в окно – и не видеть ничего, кроме своего дрожащего отражения. «Привет! Ты что, не узнаешь меня?» Алина не сразу поняла, что к ней обращаются. «Ой, Рома, извини. Просто задумалась».
Они пару раз встречались у ее школьной подруги. Роман, как и Рита, был пианистом. Алина даже где-то читала о нем как о подающем надежды. Впрочем, музыка – при отсутствии музыкального слуха – ее никогда не интересовала.
– Как дела, Алинка? – почему-то показалось, что вопрос не был только данью вежливости.
– Да ничего, живу себе. А ты?
– Женился вот. Третья неделя пошла.
– Да, Ритка сообщила. Жена – музыкантша?
– Что ты? Нет, конечно. У кого-то в семье должна быть серьезная профессия.
– Неужели учительница?
– Ну, не настолько серьезная, – Роман засмеялся. – Клара строитель.
– И какие успехи в семейном строительстве? – Алина поймала себя на том, что настроение изменилось: даже пошутить захотелось.
– Сплошной медовый месяц: дуэт для скрипки и альта. Есть такое классное стихотворение. Бывай, Алинка. Ритуле привет, – он махнул рукой и вышел.
«Амоя остановка – через одну», – Алина провожала Рому глазами, пока его легкая, верткая фигура не скрылась за углом. Троллейбус тронулся, быстро набирая скорость. «От него бы я родила, – подумалось почему-то. – Что бы там мама ни говорила. Ладно, проехали».
Возвращение
Сын еще раз наполнил ведерко водой и вылил в него остаток чистящего средства. Вновь яростно заработал тряпкой. Грязь, казалось, навсегда въевшаяся в камень, исчезла. Памятник выглядел почти новым. Лишь дата осталась прежней.
Он вспомнил тот апрельский день. Утром позвонила мама. Ночь прошла спокойно. Пошел на работу. Вечером уже был в больнице. Еще ничего не понимая, смотрел на пустую койку. «Мать в коридоре» – сказал сосед, отводя взгляд. Через секунды все выяснилось. Отец лежал в мертвецкой. Теплый.
Потом была суета похорон, неожиданно многолюдных. Могильщики работали споро. Когда уходили с кладбища, мама прошептала: «Такой маленький папа – и такая огромная яма». Только он услышал эти слова.
Через несколько лет их будто размазало по разным странам. В родном городе остались одни могилы.
На портрете отец был молодым, гораздо моложе, чем сын сейчас. Поймать взгляд, направленный куда-то в сторону, казалось невозможным. А сыну мечталось, чтобы его увидели, услышали, поняли. Хотя бы здесь, в зоне действия «доступного духа». Смотреть глаза в глаза – и говорить, говорить. Чтобы отец узнал обо всем, что произошло без него, об их скособоченной, несуразной и прекрасной жизни. Чтобы проживал ее вместе с ними день за днем. Все тридцать лет. И дальше, до самого конца.
Воронка
Сегодня
Автобус просквозил мимо. Водитель был тот же. За последние два года мы как-то привыкли друг к другу: частенько я подбегал в последнюю секунду, и он открывал мне дверь уже на ходу. Водитель тот же, маршрут тот же, вот только мне в другую сторону: безработные на работу не ездят. Ходят на биржу отмечаться. Пешком.
Полгода назад
Нужно взять себя в руки. Я же вылечу. Стоило вкалывать два года, чтобы пустить все коту под хвост? Кто мне Пушкин, в конце концов? Родственник по прямой? Скорее, по ломаной. Я же думаю о нем с утра до вечера, даже когда говорю на иврите. Надо быть последним болваном, чтобы влезть с потрохами в позапрошлый век, где моих предков русские дворяне, даже без шестисотлетней родословной, на порог не пускали. Писать о Пушкине? От имени Пушкина? Да он бы меня обложил с головы до ног на двух языках минимум. Быстренько помог бы забыть обо всем. «Да, да, забыть – и поскорее. Не думать о будущем – его нет. Не видеть людей вокруг. Пусть все валится из рук. Пусть нищета глядит изо всех дыр и воет в ушах, как зимний ветер. Только как смотреть на детей, которых пустил по миру? На жену, которая непонятно на что надеется? На себя самого?»
Я свихнулся окончательно. Уже пять! День, считай, прошел.
Пять лет назад
Такого не было со мной не помню сколько лет. Это что, вдохновение? Разве оно приходит, когда переводишь чужие стихи? Или Моисей Тейф – не чужой? Сколько мне было, когда читал его впервые? Девятнадцать? Не верится, что можно быть таким молодым. И стихи были молодые. И переводчица, Юнна Мориц. Да и сам Тейф не успел состариться. Умереть – да, но не состариться. Поэты вообще не стареют. Пока живут.
Что было вчера? Только сел в поезд, идущий домой, как на меня накатило. Достал рукопись и начал черкать. За полчаса перевел двадцать строк. Так не бывает… Бред… Графомания…
Мы уезжаем. Билеты куплены, через неделю отправим багаж. Почти все продано, даже машина. Странно, я уже считаю наш отъезд чем-то свершившимся, хотя полтора года назад, получив вызов, хотел избавиться от него или хотя бы отложить на несколько лет. Дочке полгода – куда ехать? В стране все меняется, даже наблюдать интересно. А участвовать?
Непонятно… Всего полтора года назад я не чувствовал между собой и тем, что вокруг, никакого зазора, ну, почти никакого. Что же произошло со мной? Когда я начал смотреть на родную страну, на соседей, сослуживцев, просто на людей, встреченных на улице, будто со стороны? А на свою жизнь здесь – как на черновик? Я не помню, в какой день это произошло. Но как только я увидел в письме, пришедшем на мое имя, на месте обратного адреса незнакомый город «Арад», пути назад уже не было. Потом, когда дочка бегала по двору синагоги и кто-то пошутил: «Так она до Израиля добежит», – мы с женой даже не улыбнулись. Добежит или долетит – какая разница? Мы не хотим для нее жизни, похожей на нашу. И в то же время так хочется, чтобы она запомнила все, что ее окружает сейчас. Глупо, правда? Что можно запомнить в два года? Но я раз за разом захожу с ней в мой школьный двор и показываю скромную трехэтажку, в которой отучился десять лет. Мы часами гуляем по нашим узеньким улицам, и я повторяю название каждой из них. Эти привычные с детства слова: «Ясельная», «Сивороновская», «Красноармейская», «Радистов». Как будто вновь прохожу по ним, возвращаясь из школы. Зачем они ей? Она же в Израиле все забудет через месяц. Или я делаю это для себя?
Сорок два года назад
«Зиновий, а отчество?» – спрашивает воспитательница. Она не понимает, почему вполне нормальный неглупый мальчик молчит. Я тоже не понимаю, как это произошло. Ведь я ничем не отличался от других ребят из нашего отряда. Мы купались, играли, веселились. И вдруг… Кто это придумал? Кому понадобились имена-отчества наших родителей? Еще до того, как ко мне обращаются, я чувствую страх, который возникает где-то в кончиках пальцев и будто обручем сдавливает голову. Почти машинально я выдавливаю из себя папино имя. Но отчество!? Я не могу произнести его. Это слово уже год с утра до ночи мурыжат на всех перекрестках. А сейчас оно оказывается моим. Частью меня. Все, что было близким и привычным: широкая река с уютной купальней, аккуратно размеченная пионерская линейка, где мы стояли всего несколько минут назад, прохладная кровать, куда я должен лечь через два часа, светлый, веселый лес и даже стоящее рядом облупленное дерево – становится недоступным. Мне напоминают, что я – чужой. Агрессор. Враг.
Ребята видят, что происходит что-то странное. Пустяшное, минутное дело застопорилось. Они решают, что я забыл, и начинают мне подсказывать. Варианты сыплются со всех сторон: «Зиновий Иванович… Зиновий Николаевич… Зиновий Петрович… Зиновий Федорович…» Почему-то именно это небрежно брошенное «Федорович» я воспринимаю как оскорбление. Становится нестерпимо стыдно. Хочется провалиться сквозь землю, раствориться в воздухе. Исчезнуть.
«Что с тобой?» – наконец-то воспитательница внимательно смотрит мне в глаза. И замолкает. Не знаю, что она там видит, но меня сразу оставляют в покое.
Перед утренним построением мы сталкиваемся. «Вспомнил?» – быстро спрашивает она. «Израилевич» – выталкиваю я ненавистное слово.
Через три недели мне исполнится тринадцать. Я понятия не имею, что это еврейское совершеннолетие. И что вчера, в теплый августовский вечер, оно было отмечено. По-советски.
Пятьдесят три года назад
1
Как приятно просыпаться… Смотреть по сторонам и ждать, когда к тебе подойдут. Можно даже немного пошуметь. Но дедушка и так придет. Когда я вижу его, хочется кричать от радости. Какой он большой и красивый! Какие у него ласковые руки! Какой чудесный голос! Как он похож на маму. Как давно я ее не видел. Уже много дней. Он поет мне песни на своем языке, который я начинаю понимать. На моем языке они почти не говорят, ни дедушка с бабушкой, ни дядя с тетей. Только сестренка тарахтит на двух языках сразу. А я пока что мало говорю. Только слушаю и улыбаюсь. Дедушка вынимает меня из кровати и целует. А я целую его.
Сегодня мы долго катались по двору. Наконец поехали на улицу. И почти сразу дедушка встретил знакомую. Они стояли и говорили. Я слышал мамино имя и несколько раз мое. Интересно, что такое «киндерлех»[5]. А потом мы вернулись домой. Какие там вкусные запахи! А мне ничего не дают, разве что чуть-чуть. Опять молоко из бутылки.
2
Почему дедушка должен работать? Он каждый день уходит утром и возвращается только вечером, уже уставший, и подходит ко мне лишь ненадолго. Бабушка остается дома. Целый день она шьет. Или убирает. Или готовит что-нибудь покушать. Она ничего не читает, а дедушка часто читает газеты или книги. Бабушка красивая и добрая, но мне с ней скучно. Вот когда приходит сестренка, подбегает ко мне и говорит на своем непонятном языке, наполовину моем, наполовину дедушкином. Она веселая, с ней интересно. Но не так, как с дедушкой. Я бы смотрел на него все время. Чтобы он был только мой. Ну ладно, пусть и сестренкин, она так смешно тянет его к себе. А я не тяну. Только крепко держу за руку, когда мы гуляем по двору. Я хотел бы выходить на улицу, но туда без коляски меня не пускают. А сестренка бегает всюду, где хочет, и тетя или бабушка все время гоняются за ней. Я хочу, чтобы и за мной гонялись. Но не дедушка. От него я никогда не буду убегать. Только бы он никуда не уходил.
3
Приехала мама. Они сидят рядышком и разговаривают. Я все понимаю. Оказывается, я уже большой и пора забирать меня. Дедушка просит оставить еще. Потому что ему совсем не тяжело сидеть со мной, что я ни разу не болел, окреп и стал еще больше похож на папу. Интересно, согласится мама или нет? Я никуда не хочу уезжать. Только если бы мама осталась здесь. А еще лучше, чтобы привезла сюда папу. И брата. Он хоть и не такой смешной, как сестренка, но тоже забавный. Если я стал большой, то почему меня не спрашивают? Почему все решают сами?
4
Мы с мамой едем домой. Дедушки с нами нет. Я плачу. Мама успокаивает меня, говорит всякие ласковые слова на дедушкином языке. Дедушка сказал ей, что я все понимаю. Я не хотел от него уезжать. Я не хотел отпускать его руку. Зачем мама это сделала? Разве я плохо себя вел?
Мама говорит, что летом дедушка приедет к нам, что дома меня ждут папа и братик, что они страшно по мне соскучились. Зачем она говорит это? Что я – сам не знаю? Что я – маленький?
Вариант
Почему подвернулась именно эта книга? Раздвоение личности… Именно сегодня, когда голова пухла от мыслей и хотелось немедленно переключиться на что-то. Генри Джеймс, когда-то читаный-перечитаный, показался той самой палочкой-выручалочкой. Да и повесть называлась безобидно: «Веселый уголок». Хотя в рассказе встреча симпатяги-героя со своим отвратным двойником-призраком никак не могла повлиять на прожитую жизнь. А когда стоишь на распутье сам, прочитанное будто обволакивает тебя, чем-то угрожая. Непонятно чем.
На работе уже год не подпускали к новому проекту, несмотря на многочисленные просьбы, надоевшие ему самому. Оставалось уволиться. Но что-то внутри противилось, мешало. Хотелось увидеть собственное будущее хотя бы краем глаза. Хоть во сне…
1
Будильник зазвонил без четверти шесть. Привычно сосчитав до двадцати, поднялся. Где-то читал, что так просыпаешься быстрее. Хотя, каким бы уставшим он ни был вечером, утром из зеркала глядел самодовольный энергичный тип. Бритье и легкая разминка заняли ровно столько времени, сколько положено. В шесть пятнадцать уже сидел за рулем. До начала утренних пробок оставалось около десяти минут. Вполне достаточно, чтобы проскочить.
Новенькая «субару» еле ползла впереди, съедая столь нужное время. Пришлось обойти ее почти по самой кромке. Так и есть: молодая баба, очень даже симпатичная. Наверное, чья-то секретарша. Чем болтать по телефону и смолить с утра пораньше, лучше бы ехала по-человечески. Еще и сделала ему козью морду. Зато теперь дорога свободна. Он мысленно уже пролетел ее и, поставив машину на стоянку, входил в кабинет. Предстоял обычный рабочий день, то есть забитый под завязку. Два совещания, одно из них на выезде, переговоры с американским филиалом плюс текучка, которую он особенно любил, стараясь сделать максимально полезной. К тому же сегодня нужно уйти пораньше: вечером, чтобы ублажить жену, пришлось назначить встречу с психологом, совершенно, по его мнению, излишнюю. Некуда 400 шекелей выбросить.
Они сидели на кухне. Салон и столовая казались слишком большими для ежевечерних отчетов, как он называл про себя эти посиделки. Можно было выговориться, не подбирая выражений.
– Да, этот новый парнишка, которого взял на РНР, совсем разонравился.
– Что это за хрень – РНР?
– Я тебе раз десять объяснял: препроцессор для гипертекста.
– Это для интернета, что ли?
– Естественно.
– Так что с этим кадром? Он же только пришел? Пару месяцев назад, да?
– Смотри: я ожидал большего. Вроде и с опытом, и с амбициями, а результаты не шибко. И ребята недовольны. К тому же заседать любит. Сегодня один и тот же вопрос три раза поворачивал разными сторонами. Вместо того, чтобы сразу обо всем подумать. Минут двадцать лишних проторчали. У собственных программистов время забрал. Не резиновое, кстати, – на его лице была написана откровенная брезгливость.
– Ты что, уволишь его? – жена смотрела почти испуганно. Нелепая, гипертрофированная порядочность. Даже не верилось, что совсем недавно он сам был таким.
– А чего церемониться? Это ж не католическая свадьба. Last in – first out.
– Я этот твой «LIFO» терпеть не могу. У парня же семья, наверное. А ты его пинком под зад.
– Меня не для того держат, чтобы я о его семье заботился. Сама знаешь.
– Но ты же одеревенел совсем. Для тебя люди вроде компьютеров… Ты у Ноа был? – так звали психолога, к которой он ходил.
– А как же! В пол седьмого свалить пришлось. Ровно час общались. Строго по таксе.
– И что она советует? Это же ненормально, чтобы человек был так зациклен на работе. Ты уже со мной начал на иврите говорить.
– Любопытный разговорчик был. Помнишь, лет пятнадцать назад я совсем собрался увольняться? Ноа считает, что это была точка отсчета. Я превратился в трудоголика, потому что остался в конторе. По твоей просьбе, кстати.
– Да помню я. Что за идиотская привычка по двадцать раз повторять одно и то же? А ты сам что думаешь? – жена, похоже, сама была не рада этому разговору.
– Ничего не думаю. Меня моя жизнь устраивает. И работа, и дом. И ты, кстати, тоже. Более чем.
– Но это же все границы переходит. Помнишь, как мы в Сиднее два дня в гостинице просидели? Ты даже в отпуске, как баран, ждал каких-то звонков.
– Спасибо хоть баран, а не варан. Ты же помнишь, тогда была демонстрация нового продукта, и договариваться с клиентами надо было на месте. А меня только продвинули, даже месяца не прошло. Случись неудача, хрен бы оставили… Мы же не в бирюльки играем. Никуда твоя саванна не делась. Ну, так провели в ней не пять дней, а меньше.
– А заплатили за пять.
– А для чего я пашу с утра до ночи? Чтобы ты мне за каждый шекель выговаривала?
Жена обиженно замолчала. Он сам понимал, что перегнул палку и придется извиняться. Лучше завтра, по телефону. А сейчас было самое время на боковую.
Сон свалил его за мгновение и растер по кровати. Как свою собственность.
2
Будильник зазвонил без четверти восемь. Собственно, он поднимался «за компанию», чтобы совсем не отлежать бока. «И так уже до срока в пенсионера превратился», – говорила жена. Он не спорил. Вообще старался казаться незаметнее. И не слишком задумываться о своем нынешнем состоянии, как будто оно могло по волшебству измениться.
Близкие в волшебство не верили. И видели в нем человека, потерявшего самого себя. А он старался не зацикливаться ни на мыслях о будущем, ни на мыслях о прошлом. Радоваться солнцу, ветру, облакам, дождю. Теплу и холоду. Детской улыбке на улице. Чему угодно…
Поиски работы, продолжавшиеся второй год, были безуспешны. Даже звонки звучали все реже. «Полковнику никто не звонит», – горько шутила жена. Бывшему полковнику.
Дни наползали один на другой. Он по инерции что-то читал, кропал какой-то несерьезный код, чтобы держать себя в форме. Писал в разные конторы, напоминая о себе и стыдливо пряча свой возмутительный возраст. Ходил к психологу. Одна из встреч была как раз сегодня.
Пришло время выгулять любимца. Ежедневные прогулки были едва ли не самыми приятными моментами нынешних дней.
Когда на тебя водопадом низвергается чья-то любовь, чувствуешь себя нужным и самодостаточным. Хоть в собачьих глазах.
Пес уже сделал все свои дела, и они беззаботно гуляли по парку. На дальней лавке сидел какой-то старик, одетый в отвратительные обноски. Подойдя поближе, с удивлением понял, что тот не старше его. Они даже были похожи чем-то. Недаром пес рвался к незнакомцу, который дружелюбно улыбался в ответ. Нет уж, не хватало дышать помойкой. Он с силой потянул за поводок. Похоже, тот самый бездомный, о котором вчера говорила дочка. А наш глупыш снова хотел его облизать. Хмырь смотрел как-то странно, чуть ли не сочувственно. Неужели он настолько жалок? И кому? Этому уроду?
Они сидели на кухне друг напротив друга. Жена только что вернулась с работы и ужинала. А он докладывал об очередном дне, ушедшем насмарку.
– Джонни, как всегда, в лучшем виде. Знаешь, когда смотришь в эти глаза, самому хочется стать собакой. Погулял с ним часок. Только в парке он захотел облизать бомжа, от которого воняло за километр. Еле оторвал. А вечером сам ходил на экзекуцию.
– И что сказала Вика на этот раз? – так звали психолога.
– Она называет мое состояние синдромом неудачника. Меня столько раз увольняли по поводу и без, что утратил веру в людей. Сам себе не представляю, что кто-то поможет. Нужно себя иначе настроить. Что-то вроде перезапуска…
– Все это лирика. Тебе просто не нужны деньги. Испарилось желание их зарабатывать. Это она понимает? Иначе зачем хапает 120 шекелей за сеанс? Кстати, не лишние, – они привычно играли в нападение-защиту. А стоило ему заикнуться о прекращении сеансов, роли тут же менялись.
– Она все понимает. Еще говорили о самооценке, которая у меня страшно занижена.
– Но с чего это началось? Раньше-то все было иначе.
– Вика считает, что пятнадцать лет назад мне ни в коем случаенельзя было увольняться. И что нынешние проблемы начались тогда.
– То есть ты сам себе жизнь испохабил? И мне за компанию. Я же тогда тебя просила, умоляла почти. Помнишь?
– Ну, сколько раз можно напоминать? Я не в маразме. Тебе этого не хватает?
Жена замолчала, посчитав себя обиженной. Он и сам понимал, что «качать права» нахлебнику не положено. Оставалось извиниться, но просительный взгляд демонстративно игнорировался.
Поплелся в спальню. Только лег, как увидел нищего из парка. Но сейчас тот был изысканно одет и надушен дорогим одеколоном. Он шел прямо к нему. Ближе, ближе, ближе…
3
Он проснулся от холода. Никакого будильника не было, да и быть не могло: он остался где-то там, в старой жизни. Там много чего осталось: дом, работа, разная одежда, телефон с будильником. Деньги. Он бы раньше не поверил, что сможет жить без этого. Рыться в мусорных баках в поисках пищи и шмоток. Спать на скамейке или прямо на траве. Не думать ни о чем. Просто дышать. Пока дышится…
Вчера эта идиллия была нарушена симпатичным песиком, который ни свет ни заря подбежал к его лавочке и едва не лизнул в физиономию. Но хозяйка, совсем молодая, красивая девчонка, утащила малыша куда подальше.
Ну да, от него же пахнет. Воняет. Смердит. Подумаешь! А пес милый… Черная шерстка такая гладкая, блестящая. И белая полоска на грудке, чтобы тебя гладили. Хорошо, наверное, ему живется, с такой-то хозяйкой. Делай что положено, а с тебя пылинки сдувают. Завидки берут. Благодать…
Вроде теплее стало, наверное, солнышко выползает. Соснуть еще, что ли… Почему бы нет?
4
За окном было еще темно, когда он привычно потерся спиной об одеяло. Хозяйка, почувствовав шевеление, сразу приоткрыла глаза. Они с хозяином договариваются с вечера, кто с ним выйдет. Ему-то все равно. Какая лапа лучше: та или эта?
На улице было по-утреннему холодно и сыро. Свернув на лужайку, сразу присел на траву, щедро отдавая накопленное за ночь. И потрусил в парк, чтобы немного размяться.
На одной из лавочек лежал человек. За секунду оказался рядом, учуяв в незнакомце что-то близкое, свое. Но хозяйка тут же оттащила, не дав даже поздороваться толком. Хотя лежащий тоже потянулся к нему, будто следуя тому же порыву. Он был как-то странно одет, от него шел сильный, необычный запах. Пес помнил, как пахнут люди, которых когда-либо видел, но так не пах ни один из них. И все-таки они встречались раньше. Только когда? Где?
5
Просыпаться или засыпать было ни к чему. Нелепые правила, к которым за все годы так и не привык. Куда логичнее настраивать себя на работу в экономном режиме. И если при этом надо лежать с закрытыми глазами, в чем проблема? Для других ты спишь. А когда потребуется, вновь запускаешься на полные обороты.
Здешний срок заканчивался. Вчера, вывалившись из нелепо коротких, обчекрыженных земных суток в привычное пространство, он услышал условный звон. Оставалось несколько дней, от силы неделя. А потом придется тихонько уйти. По-английски, чтобы не заметили.
Как они живут, несмышленыши! Ничего не зная наперед ни на год, ни на минуту. И сами над собой смеются… Один про сатану роман написал, другой – стишок о Боге:
Все – лицо. Его. Творца. Только сам Он без лица[6].Интересный экземпляр был этот землянин: видел все изнутри, а не снаружи. Вроде где-то родился, а уже потом, готовым, сюда попал. Только зря это все. Чем думать о вселенной, лучше бы научились временем управлять. Чтобы повзрослеть наконец…
Жизнь здесь короткая, как плевок. И ничего изменить нельзя, кем бы ты ни был: будь добр походить на остальных. Валяй дурака. Спи в оглоблях, пока не окочуришься…
Но сейчас, прощаясь, чувствовал, как обжигает зависть к ним, смешным и наивным. И как жалко становится себя, видящего будущее этой несчастной планеты и каждого ее обитателя.
6
Будильник зазвонил в шесть. Автоматически вскочил, сделал обязательные утренние телодвижения и сбежал на лестнице. Тут же подкатила подвозка: шесть двадцать пять, как положено. Сев на привычное место возле окна, закрыл глаза: можно было покемарить. Какое счастье, что сны сразу не сбываются. И ему не шестьдесят или сколько там настучало, а сорок пять. Ежу ведь известно, что главное состояние – непрожитая жизнь. Каждый ребенок богат несусветно, только что он понимает в этом! А когда поживешь, поистратишься… Уж так мы устроены: ценим то, чего нет. Ну ладно, что философствовать с закрытыми глазами… Поспи лучше, умник. И пусть во сне тебе будет поменьше годиков. Перед глазами промелькнули лица детей: уходя, он на секунду заскочил в их комнату. У них еще все в перспективе. Миллионеры…
Нет уж, лучше спать без снов, оставаясь там, куда занесло время. Его, личное время. Которое не выбирают…
Лариса Маркиянова г. Чебоксары, Чувашия
Маркиянова Лариса Геннадьевна. Родилась и живу в Чувашии. Раннее детство прошло на Урале в г. Новотроицке.
Окончила Чувашский госуниверситет, физико-математический факультет. Работаю в ЗАО «Чебоксарский электроаппаратныи завод» ведущим инженером. Замужем. Есть два взрослых сына.
Писать начала несколько лет назад, совершенно неожиданно для себя. Просто вдруг в тяжкую минуту уныния захотелось как-то изменить окружающий мир, расцветить и раскрасить его, сделать гармоничным, интересным и радостным. Или хотя бы осуществить свои мечты в придуманном, созданном собою мире. Так родились мои первые рассказы. А так как безрадостные минуты, часы и дни случаются так часто в нашей повседневности, то и рассказы стали рождаться все чаще. Позже пришло желание поделиться своими рассказами с другими. Вдруг еще кому-то станет светлее и радостнее.
Имеются публикации в журналах («Луч» г. Ижевск, «Автограф» г. Донецк, «Южная звезда» г. Ставрополь, «Наш домашний очаг» г. Хабаровск, «Нива» Казахстан, «Лик» г. Чебоксары и др.), а также в интернет-журналах («Эрфоль», «Новая литература», «Город “Пэ”» и др.).
© Маркиянова Л., 2015
В новогоднюю ночь
Наступила последняя ночь истекающего года. Новогодняя ночь.
Она сидела за скромным праздничным столом. Смотрела на огонек зеленой свечи. В углу светился экран телевизора. Вот и закончился еще один год. Пролетел мгновенно, промелькнул, пропорхнул. Остались считанные минуты. Кажется, что чуть ли не вчера тоже была новогодняя ночь, так же горела свеча на праздничном столе. Правда, тогда она была не одна, напротив сидел сын Коля. Когда пробили куранты, открыли шампанское, чокнулись, поздравили друг друга, выпили. Потом сын убежал к друзьям, праздновать наступление Нового года. У нее хороший сын, заботливый. Ему не терпелось уйти к друзьям и раньше, но он не оставил ее в одиночестве. Потому что у них в семье изначально так было заведено, что Новый год надо встречать в узком семейном кругу, дома, за праздничным столом. Сначала их было трое – муж, она и сын. Потом осталось двое. А сегодня она за столом одна. Конечно, есть еще один член семьи – персидский кот Вася. Но Вася сидеть за столом категорически отказался. Так вот и получилось, что сидеть за столом в новогоднюю ночь ей придется одной.
Подруга Маша настойчиво звала к себе, беспокоясь за близкую подружку. Но она отказалась: Новый год надо встречать в семейном кругу, даже когда этот круг сузился до точки.
Вот и сидит теперь в совсем не гордом одиночестве, смотрит на огонек зеленой свечи. Ждет боя курантов. До боя оставалось несколько минут.
Звонок в дверь прозвучал так неожиданно, что она даже подскочила на стуле. Наверняка сосед Смирнов Аркадий с пятого этажа. Он за вечер уже три раза к ней прибегал, одалживал то стулья, то тарелки, то вилки – гостей полон дом, а у нее все равно никого нет. Так и сказал: «Дайте мне, пожалуйста, стулья (тарелки; вилки), а то у меня полон дом гостей, а у вас все равно никого нет и не будет». Бестактность, конечно, но, с другой стороны, все верно.
Интересно, что он сейчас попросит? Может, скажет: уступите на ночь вашу квартиру, у меня полон дом гостей, тесно, а вы можете прогуляться на улице.
За дверью стоял Дед Мороз в красной шубе, расшитой серебристыми снежинками, отороченной белым мехом. В шапке и рукавицах, с мешком через плечо.
– С Новым годом! – пробасил Дед Мороз.
– Спасибо, – сдержанно ответила она, – и вас тоже. А я вас не заказывала.
– И слава богу, что не заказывали. Пожить-то еще хочется.
– Я вас не заказывала в том смысле, что не приглашала. Вам, должно быть, в квартиру напротив, там двое детишек. Или к Смирновым на пятый этаж, у них сегодня гости гуляют.
– Нет, милая, я не ошибся. Мне именно к вам. Войти-то можно?
Поколебавшись несколько секунд, она все же распахнула дверь: «Входите».
– Я – настоящий Дед Мороз, я вам известие принес, что Новый год уже в дороге и скоро будет на пороге! Вы чуда ждете? Чудо будет! Ведь Дед Мороз не позабудет: подарок каждому положен, заботливо в мешок уложен… – нараспев задекламировал Дед Мороз басом, едва переступил порог.
– Послушайте, как там вас, – перебила она, – повторяю: вы ошиблись адресом. Либо не в тот дом вошли, либо не в тот подъезд, может, этаж не тот. Проверьте по заявке адрес того, кто оплатил услуги Деда Мороза. Вас там ждут, а вы меня тут стихами развлекаете.
– Дело в том, что я самый настоящий Дед Мороз. И мои услуги не нуждаются в оплате, – и неожиданно запел, – просто я работаю волшебником. Волше-е-е-б-ни-и-ком!
– Не порите чушь. Если вы еще сами не заметили, то сообщаю, что мне уже не пять лет.
– А через минуту будут бить куранты. Мы с вами вот тут в прихожей и встретим Новый год?
– Ах, черт! Действительно. Быстро в комнату! Надеюсь, хоть шампанское вы открывать умеете, дедуля? – не без ехидства спросила она.
– Что-что, а это запросто! – выкрикнул Дед Мороз и, подобрав полы своей шубейки, рысью ринулся в зал.
Били куранты. Пенилось шампанское в бокалах. Они с Дедом Морозом чокнулись, хором сказали друг другу «С Новым годом!», выпили искрящийся шипучий напиток.
«Апчхи!» – сказала она первое слово в новом году.
«Будьте здоровы!» – засмеялся Дед Мороз.
«Я постараюсь», – пообещала она.
А гость тем временем, не церемонясь, уже накладывал в тарелку салат «оливье».
– Это вам. А мне тарелочку? Бокал запасной поставили на стол, а тарелочку не приготовили. Я бы тоже не отказался от салатика. Дорога была дальняя, аж из Великого Устюга. Притомился, оголодал.
– А тарелок нет. Сосед все тарелки забрал, гости у них. Только вот последняя и осталась.
– Так это не беда. Давайте я тогда буду прямо из салатницы есть. Если вы не возражаете.
– Да чего там. Валяйте. Не церемоньтесь, – махнула она рукой, – Однако гость мне достался – ест из салатницы, за столом сидит в шубе, по квартире ходит в валенках.
– Эх, женщина. Романтика вам чужда, похоже, – весело басил гость: – Что за Дед Мороз без валенок? Вы еще бы предложили мне шапку снять, шубу скинуть, то есть обнажиться до майки, трико и носков, а посох и мешок повесить на крючок в прихожей. Что же тогда получится?
– Ничего хорошего. Ничего хорошего нет в том, чтобы сидеть за столом в верхней одежде, головном уборе и уличной обуви. Вы что же, и рукавицы не снимете?
– Разумеется, нет.
– Делаю вывод, что вы вор или мошенник. Поэтому боитесь руки показать, они наверняка все в наколках, как обычно бывает у рецидивистов. А замаскировались одеждой, париком, бородой и усами, чтобы я потом в полиции ваш фоторобот не смогла составить.
– Точно. Именно по этой причине. Впрочем, мой фоторобот давно составлен и распечатан миллионными тиражами, им сейчас все стены и витрины оклеены, все газеты и журналы украшены, а также праздничные открытки. К тому же его регулярно демонстрируют по телевизору. Так что с этим проблем не будет.
– Ладно. Как говорят в Думе: прекращаем прения. Негоже новый год начинать с перепалки. Кушайте, дедушка, салат, не стесняйтесь. Впрочем, последнее слово явно лишнее, вы и так, я смотрю, чувствуете себя как дома. Вот вам пирожки с капустой и мясом.
– Вот, спасибочки. Обожаю пирожки, особенно домашние, тем более с капустой и мясом. А, кстати, и моя лепта в совместную трапезу, – с этими словами Дед Мороз вынул из мешка и выложил на стол огромный пакет с мандаринами, коробку «Птичьего молока», три плитки шоколада, еще одну бутылку шампанского и даже живую алую розу в золотом целлофане, которую торжественно преподнес ей.
– Надо же, и в самом деле подарки, – улыбнулась она, принимая розу.
– А вы что же думали, там у меня оружие, дубинка, кастет и наручники, что ли? Вот вам мандаринчик. Угощайтесь.
Она взяла мандарин, понюхала душистую кожицу. С детства Новый год у нее всегда ассоциировался с запахом мандаринов и смоляным запахом хвои. Новогодняя ночь… Самая прекрасная ночь в году. Так она всегда думала. Еще две новогодние ночи назад было именно так. Теперь все изменилось с точностью до наоборот: теперь новогодняя ночь – самая грустная ночь в году. В эту новогоднюю ночь она одна. Совсем одна. Хотя как же одна? Вон напротив сидит не кто иной, как сам Дед Мороз. Разве не чудо? Тогда почему нет ощущения праздника и волшебства?
– А что это вы так внимательно мандарин разглядываете? – поинтересовался Дед Мороз.
– Да вот смотрю, нет ли на кожуре следов от шприца. Вдруг вы в него снотворное впрыснули? Съем фрукт, закемарю, проснусь первого января к вечеру, а квартирка обчищена подчистую. Здра-сте, дети – Новый год!
– А вы знаете, итальянцы, к примеру, специально под Новый год всю ветхую мебель выбрасывают и вообще стараются избавиться от хлама и старья. Так сказать, расчищают место под обновы. А вам и выбрасывать не придется.
– То есть вы сейчас чистосердечно мне признались, что пришли меня грабить?
– Ни в коем разе! Просто я вместе с вами пытаюсь рассмотреть наихудший вариант развития событий и прихожу к выводу, что даже в этом случае ничего страшного не произойдет, а, напротив, получатся сплошные плюсы и преимущества: во-первых, вы без хлопот очистите пространство от ненужного, а во-вторых, отлично выспитесь.
– Философ, – усмехнулась она, – но позвольте мне самой решать, что у меня лишнее, а что нет. Это, во-первых. А во-вторых, а, была – не была, съем ваш мандарин. Но только после вас. – Ей пришлось помочь ему очистить мандарин: в огромных рукавицах это было сделать не просто.
Мандарины были сладкими, сочными и ароматными. «Из Испании?» – спросила она. «Из Лапландии», – уточнил он.
Пили чай с домашним печеньем. Горела зеленая свеча, в хрустальной вазе посередине стола сияла в золотом целлофане красная роскошная роза. Было хорошо – уютно, празднично и немного грустно.
– Вот и Год дракона наступил, – размышлял вслух Дед Мороз, – китайцы очень любят и почитают это существо. В Китае считается, что люди, рожденные в Год дракона, просто обречены на счастье, фантастическое везение и всяческое благополучие. Потому что дракон у китайцев – символ добра, мира и процветания.
– Ну, не знаю. Дракон – что-то в этом есть агрессивное, устрашающее, по сути, это огромное пресмыкающееся. У китайцев он может быть и символ добра и мира, а в русских сказках драконы, то есть Змеи Горынычи, всегда были отрицательными персонажами, находящимися в конфликте с окружающими: то они кого-то жаром своим испепеляли, то им головы отрубали. К тому же наступивший год високосный, то есть несчастливый.
– Еще забыли про календарь майя упомянуть, который заканчивается как раз 2012 годом, и про конец света.
– Точно! Конец света неминуем! Я сама недавно видела передачу по Второму каналу, там один очень авторитетный ученый, кажется, академик РАН – забыла фамилию – говорил об этом так убедительно, на фактах все стопроцентно доказал.
– Эх, вы… Поверили глупостям. Подумаешь – академик РАН… Я, главный волшебник, говорю вам наиавторитетнейше, что все это чушь собачья. Вы же умная женщина, с университетским образованием…
– Стоп! Молчать! Руки вверх! Вот я вас и поймала! Прокол у вас, Дедулечка Морозушко! Откуда вам известно про мое образование, а? И не вздумайте врать, что вам, как главному волшебнику, все известно. Итак, откуда такая точная информация?!
– Так я это… вообще имел в виду. Да сейчас практически у каждого высшее образование. К тому же сразу видно, что вы женщина интеллигентная, с высшим образованием.
– Не врать! В глаза смотреть! Вы не сказали «высшее», вы сказали «университетское», а это совсем не одно и то же. Стало быть, вы точно проинформированы, что я закончила именно университет. По наводке работаете, Дедушка Отморозушко?
Он вздохнул, покаянно развел руки в красных рукавицах, опустил седую головушку: «Не велите казнить, велите миловать. Ваша правда. По наводке».
– Так! И кто наводчик? Отвечать быстро!
– Ваш сосед.
– Это который? Смирнов, что ли, с пятого этажа? То-то я смотрю, он ко мне весь вечер бегал: то ему то, то ему се, а сам глазами так и шарит вокруг, примечает.
– Да нет, не Смирнов. Это Пал Палыч из шестидесятой квартиры.
– Не может быть! – изумилась она, – Не может быть, чтобы Пал Палыч… Такой милый, приятный человек. Такой интеллигентный, эрудированный. Такой приветливый, всегда первым здоровается.
– И что с того? Такие вот приветливые и милые – самые отъявленные. Скажу по секрету, Пал Палыч – наш мозговой центр и главный организатор. В смысле, в нашей банде.
– И все же я отказываюсь верить, – качала она головой, – чтобы Пал Палыч – и вдруг бандит.
– И совершенно напрасно. Я вам чистосердечно признался, а вы не верите. Странная вы женщина.
– Но Пал Палычу на днях стукнуло 87 лет!
– И что с того? Седина в бороду, бес в ребро! Это он с виду такой смирный да дряхленький. Он еще ого-го! Видели бы вы, как этот божий одуванчик в совершенстве приемами восточного единоборства владеет да из маузера в десяточку со спины с закрытыми глазами шлет. Вот и к вам сюда заслал. Дамочка, говорит, одинокая, безмужняя, сынок в армии сейчас служит, кот кастрированный, то есть не мужик, сопротивления не окажет. Вот я и явился к вам. А попробуй не прийти – мигом шею мне свернет! У нас дисциплина похлеще, чем в армии.
– А что он еще сказал про меня?
– Что деньги и драгоценности хранятся в шкатулке в верхнем ящике комода. Разрешите проверить? – с этими словами Дед Мороз-бандит подошел к комоду, выдвинул верхний ящик, вынул деревянную резную шкатулку, продемонстрировал ей в доказательство своих слов.
– Да какие там драгоценности и деньги, – отмахнулась она, – так, по мелочи. Колечко обручальное, цепочка, дешевенькая бижутерия да четыре сотни.
– М-да. Не густо.
– Так что надул вас ваш мозговой центр. Дезинформировал. И все же я никак не могу поверить, что это Пал Палыч.
– А давайте сходим к нему? Прямо сейчас. Спросите сами его в лоб.
– Да как-то неловко… Поздно уже. Он спать рано ложится, старенький все же. Мы его побеспокоим.
– Ничего, ничего. Сегодня можно. Все же Новый год. К тому же он собирался ночью поработать – план ограбления Центрального банка составить.
Неудобно было идти в такую ночь с пустыми руками, хотя бы и к главарю бандитов. Взяли с собою несколько мандаринов, бутылку шампанского и нераспечатанную коробку «Птичьего молока».
Пал Палыч дверь открыл сразу. Не спал. Может, и в самом деле работал над планом. Удивленно прищурился на Деда Мороза, заулыбался приветливо соседке, узнав ее.
– Томочка, деточка, с Новым годом.
– И вас с Новым годом, Пал Палыч. Вот решили заглянуть к вам на минутку, поздравить. Не помешали?
– Что ты, милая. Я очень даже рад. Такая приятная гостья, да еще и с Дедом Морозом. А то все один да один. Входите, гости дорогие.
Прошли к столу. Пришедшие выложили свои гостинцы. Тамара по просьбе хозяина достала фужеры. Выпили по бокалу шампанского. Съели по мандаринке. Замаскированный под Деда Мороза бандит кивнул ей: спрашивай, мол, задавай свои вопросы. Но у нее никак язык не поворачивался.
Хозяин квартиры между тем открыл коробку конфет, угостил гостей, угостился и сам.
– Сто лет не едал «птичьего молока». Мои любимые конфеты, с детства еще. Правда, если честно, то вкус уже не тот. Нет, далеко не тот. Раньше и конфеты были вкуснее, и праздники веселее, и зимы морознее. Правда, Дедушка Мороз?
– А то! Знамо, морознее.
– Странное все же название: «птичье молоко», – задумчиво сказала она.
– Имеется в виду, что это нечто необычное, удивительное, чего не бывает в жизни, – пояснил Пал Палыч.
– Тогда надо бы произвести конфеты с названием «коровьи яйца», «свиные рога», «бараньи перья», – предложил Дед Мороз.
– Не хочу «бараньи перья», лучше «птичье молоко», – не согласилась она.
Уходя от Пал Палыча несколькими минутами позже, она в прихожей замялась, мельком глянула на Деда Мороза и все же решительно спросила соседа:
– Пал Палыч, хотела спросить вас. Извините меня, конечно, но… Я насчет… наводки.
– Ах, вы об этом, Томочка, – тепло улыбнулся сосед, – да, да, милая. Конечно. Надо взять полкило грецких орехов, вынуть из них перегородки и настоять на водке. Только на хорошей водке. Первое средство для повышения иммунитета. Только на нем и держусь.
Вернувшись домой, она расстелила на столе бумажную салфетку, переложила в нее из шкатулки золотую цепочку, четыреста рублей, янтарные бусы и металлическую заколку для волос в виде розы, аккуратно сложила концы, протянула Деду Морозу: «Возьмите. Чем богаты».
– А кольцо?
– Кольцо не дам. Это память. Да оно и недорогое, за него много не выручите. Возьмите сами еще, что вам надо. Только кольцо не дам, альбом с фотографиями сына и Ваську.
– Какого Ваську?
– Кота моего Василия.
– Его же Оккупантом зовут.
Она застыла. Медленно подняла лицо, широко раскрытыми глазами впилась в глаза Деда Мороза. Он смешался, отвел взор.
– Вася, ты?
– Ну я…
– Эх, ты. Вот как значит. Знаешь кто ты после этого? Оборотень в бороде. Вот кто.
Она резко повернулась и ушла на кухню, плотно закрыв за собою дверь.
…Пила кофе черный, крепкий. Вошел он. В отсутствие бороды, усов, шубы и прочих дедморозовских признаков это был мужчина немного за сорок, среднего роста, средней комплекции, средней внешности, с первыми признаками мужского возрастного облысения. Она кинула на него быстрый взгляд. Взгляд был строгим и сердитым. Поджала губы, нахмурилась.
Он покаянно стоял перед нею.
– Прости, Тома.
– Бог простит.
– А ты?
– Забирай салфетку и уходи.
– Какая салфетка? Тамара, неужели ты и в самом деле подумала, что я пришел тебя грабить?
– А зачем тогда?
Он вздохнул, переступил с ноги на ногу. Робко попросил: «А можно и мне кофейку?»
Она равнодушно пожала плечом. Он налил себе кофе, сел за стол напротив нее. Пили молча. Молчание было напряженным, тягостным.
– Так зачем же ты пришел, Вася? Да еще в таком законспирированном обличье?
– Просто так. На тебя посмотреть.
– Я не Джоконда, чтобы на меня смотреть.
– Ты лучше.
– Вона как заговорил. Два года назад совсем другое говорил.
– Дурак был.
– Сейчас поумнел?
– Поумнел.
Опять повисло молчание.
– Зачем Оккупанта в Ваську переименовала? Мне в отместку?
– Зачем? – она подняла на него печальные глаза. – Затем, чтобы хоть имя твое со мною осталось. Чтобы было кого Васей окликнуть. Был рядом дорогой человек с дорогим мне именем. А потом сразу – раз! – и нет ничего: ни человека, ни имени…Как ты жил это время, Вася?
– Плохо, Тома. Очень плохо. Так плохо, что чуть себя не порешил. А вчера подумал: пойду хоть посмотрю на нее. Как она? Счастлива ли? Спокойна? Хоть услышать. Увидеть. Поговорить. Как прежде. Все же новогодняя ночь. Авось, да не прогонит. А чтобы уж точно не прогнала, вот приоделся Дедом Морозом…Знаешь, Тома, я в последнее время о будущем стал задумываться. Какое оно будет? И понял, что не так важно, что там будет, а главное – чтобы ты там была. Ты и Коля. А если вас там нет, то и будущего нет. Прости меня, Томочка. Прости, в эту новогоднюю ночь. Нет мне жизни без тебя. Ты – мое единственное солнце, – он говорил и говорил. Она кивала в такт его словам. Она его не слышала. Она слушала песню по радио: «Счастье вдруг… в тишине… постучалось в двери. Не ужель ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет где тебя носило?!»
Все будет хорошо!
Звонок. Открываю дверь. За дверью красавица – молодка лет тридцати с небольшим, точеная фигурка, облегающее красное платье-мини открывает загорелые красивые ноги, в глубоком декольте пышная грудь. Макияж, все дела. Улыбаюсь красавице: «Вам кого?»
– Мне вас, – отвечает строго, – меня Любовь зовут.
– Любовь – это прекрасно. Приятно, когда в дом приходит любовь, – радуюсь я, распахивая дверь шире, – входите.
Входит. Стоит посередине прихожей, оглядывается.
– Да вы в комнату проходите. Вон туда. А я быстренько на кухню, у меня там блинчики жарятся. Выключу плиту.
Возвращаюсь к красавице через пару минут. Она сидит в кресле, нога на ногу, локоточки на подлокотниках, спина изящно выгнута, как у кошки перед прыжком. Чувствуется, что предстоит серьезный разговор. Что ж, поговорим.
– Чай? Кофе?
– Нет. Ничего не надо.
– Хорошо. Я так понимаю, что у вас разговор ко мне имеется. Слушаю. Меня зовут Надежда Петровна.
– Я знаю. Я про вас все знаю.
– Да? – искренне удивляюсь я. – Надо же. А я вот про себя далеко не все знаю. Вы потом расскажете мне про меня подробно, ладно? Мне просто интересно. Особенно любопытно узнать свое будущее.
– Охотно расскажу про ваше будущее: очень скоро от вас уйдет муж.
– Сергей? Хм. И куда же он уйдет?
– Ко мне. Я его любимая женщина.
– А… – наконец доходит до меня, – вы – его любимая женщина. Понимаю. Знаете, а я тоже его любимая женщина, по крайней мере, он сам так говорит. Надо же, какое совпадение. Слушайте, Любовь, а давайте по этому поводу выпьем.
– Вы что? Не буду я с вами пить. Вот еще.
– Да вы не пугайтесь. Я же не предлагаю вам напиться. Так, чисто символически – по глоточку за знакомство. – Я иду на кухню за вином и бокалами. Возвращаюсь. Красавица Любовь по-прежнему восседает в кресле, локоточки на подлокотниках, нога на ногу, спина как у кошки перед прыжком. Я ободряюще улыбаюсь ей, ставлю на стол бутылку и фужеры. Наливаю на донышко в фужеры, иду к гостье.
– Давайте, Любовь, за знакомство, – протягиваю ей фужер.
– Не буду я с вами пить, – непрекословна Любовь.
– Ну, как хотите. – Я выпиваю из своего бокала, поясняю: «Это я за знакомство», выпиваю из другого: «Это я по поводу повода вашего прихода».
– Итак, Любовь, – я сажусь в другое кресло, – вы пришли забрать моего мужа.
– Именно. Тем более что он уже практически мой муж. Осталось только оформить все документально. Он любит меня, а я его. Любовь – это главное в жизни. Поэтому мы должны быть с ним вместе. Я как-то говорила об этом с ним, и он в принципе согласился.
– Прекрасно, – радуюсь я, – сейчас мы с вами, Любовь, все вместе сделаем.
– Что сделаем?
– Мы вместе соберем вещи моего, пардон, вашего Сергея. Потом вызовем такси, и вы все увезете.
– Так… вы согласны, что ли?
– А что мне остается? – смеюсь я. – Давайте, голубушка, сразу и приступим. В том шкафу все вещи и предметы мужского туалета, выгребайте. А я в спальне все подберу. Поехали. Цигель, цигель, ай-лю-лю!
«Ветка сирени упала на грудь, миленький мой, ты меня не забудь. Миленький мой, ты меня не забу-удь! Ветка сирени упала на грудь, – пою я, доставая стопочки мужских отглаженных рубашек из шифоньера. Так, светлые летние брюки, летние джинсы, утепленные джинсы. Носки. Трусы, плавки, футболки. Носовые платки. Джемпер. Еще джемпер. В нижнем ящике электрическая бритва. Три кожаных ремня. На вешалке пестрая гроздь галстуков. Костюм выходной. Еще костюм. Еще. Ветровка. Куртка демисезонная. Куртка зимняя кожаная. Так, что еще? А где его черный японский зонт? Вот он, голубчик. – Миленький мой, ты меня не забу-удь! Ветка сирени упала на грудь!»
Является Любовь.
– Что, уже все собрали? – удивляюсь я. – Быстро вы. Надеюсь, ничего не пропустили? Там в тумбочке под телевизором документы. Мои оставляете, его забираете! – командую я. – Цигель-цигель! Ай-лю-лю!
«Ветка рябины не тонет, плывет. Миленький душу на ленточки рвет. Миленький душу на ленточки рве-ет! Ветка рябины не тонет, плывет».
– Надежда Петровна, – прерывает мою самозабвенную арию Любовь, – а почему вы так быстро согласились отдать мужа мне?
– А что такое? Разве вы не рады?
– Нет, я рада, конечно. Только… Непонятно как-то. Я думала…
– Вы думала, что я буду рыдать, кричать, драться за него, вас выгонять, да? Нет, милая. Зачем мотать нервы себе и вам? Зачем устраивать спектакли, если все уже решено. Глупо. Там, на кухне, бокал рыжий с изображением тигра – его тоже берите. Это Сережин любимый, внучка подарила на день рождения.
Расправившись с шифоньером, достаю с антресолей фотоальбомы. Пролистываю, вынимаю все фото, где Сергей. Получается приличная стопка. Аккуратно складываю в пакет.
Снова является Любовь.
– Надежда Петровна, я что подумала, ведь это чисто моя инициатива – насчет переезда Сергея ко мне. А вдруг он будет возражать?
– Да ни в коем случае! Как он может возражать против переезда к такой красавице, да еще по имени Любовь? К любимой и любящей женщине! Он будет только рад, – решительно рассеиваю я ее сомнения. – Сейчас мы все сложим в одно и вместе посмотрим, не забыли ли чего. Берите вот это, я вот это и понесли в зал.
Мы переносим вещи в зал, складываем на диван. Вместе с тем, что уже приготовила Любовь, получилась приличная куча: весь диван завален с горою.
– Инструменты! – кидаюсь я к кладовой. – Так, ящик с инструментами, электродрель, набор сверел. Еще ящик с разными железяками. Коробочка с гвоздями и шурупами.
– Кажется, все! – подвожу я итог, после того как перенесла все железки к дивану.
– Надежда Петровна, может, я все же несколько поторопилась? Давайте я сначала поговорю с Сергеем? Хотя бы по телефону.
– Это совершенно лишнее! Вы согласны, Сергей тоже, я не возражаю – все счастливы и довольны. Все нормально. Сейчас я принесу пакеты, баулы, мешки – будем паковать.
«Ветка акации бьется в стекло. Счастье стучалось, да мимо прошло. Счастье стучалось, да мимо прошло-о! Ветка акации бьется в стекло».
Мы ловко и аккуратно пакуем вещи в четыре руки. Работа спорится. Время от времени я, вспомнив что-то еще, убегаю то в спальню, то на кухню, то на балкон, то в прихожую, то в кладовку – как птица в клювике несет в родное гнездышко червячка или травинку, так и я все несу и несу к дивану то флешку, то фотоаппарат, то зубную щетку и пену для бритья, то тапочки, то упаковку со свечами для автомобиля, то гаечный ключ, то кроссовки, то зажигалку с пепельницей.
Уф. Кажется, все. Упс! Новый ноутбук! Любимая игрушка моего мужа, пардон, бывшего мужа.
– А вот в этом пакете, Любовь, его грязные вещи, не успела постирать, так вы уж сами.
– Да нет уж, не возьму.
– Да нет уж, возьмите. Чтобы не было потом причины ни ему, ни вам сюда возвращаться. Ну что, вызываю такси?
– А… можно чаю?
– Можно.
Пьем чай на кухне. С блинчиками.
– Я его люблю, – доверительно рассказывает мне Любовь, – Он очень хороший. Он умный, тонкий, великодушный, заботливый, внимательный, веселый и щедрый. Он знаете какой? Он…
– Знаю, – киваю я, – грубый, ленивый, молчун, неряха, невнимательный. Никогда не вспомнит ни про мой день рождения, ни про Восьмое марта. Жмот и скряга, каких мало. А еще у него пунктик – помешан на чистоте, везде ему бардак мерещится, достал меня уже своими придирками. Это он в отца пошел, тот таким же был.
– Не может быть! – не верит Любовь – А может, я ошиблась адресом? Напутала? Может, ваш Сергей – это вовсе не мой Сергей.
– Никакой ошибки. Все правильно. Вы ведь шли к Надежде Петровне, а я и есть Надежда Петровна.
– Но почему тогда он такой разный?
– Вы не переживайте, Любовь, – успокаиваю я ее, – меня он разлюбил, а вас полюбил. Потому и отношение такое разное. У вас все хорошо будет. Еще добавки?
Любовь задумчиво кивает. Доливаю чаю, докладываю блинчики.
– Вкусные, – хвалит Любовь, – а вот я готовлю не очень.
– Ничего. Он ведь неплохо зарабатывает. Будете в ресторанах питаться или наймете домработницу. Это не главное. Главное в жизни – любовь!
– А почему вы сказали, что вы тоже его любимая женщина. Это он так вам говорил?
– Редко. Только в минуты хорошего настроения. А они у него случаются не часто. Вернее, на людях он сама вежливость и душевный, приятный человек, а дома совсем другой – раздраженный, замкнутый, злой, всегда всем недовольный, ничем ему не угодишь. Он из тех, кто несет в дом весь негатив, что накопил за день, чтобы обрушить все на близких, то есть на меня. Но это потому, должно быть, что я ему надоела, стала раздражать. У вас совсем другое дело – любовь, взаимопонимание, значит, все обязательно будет хорошо.
– И все же он хоть изредка, называл вас любимой женщиной?
– Врал, должно быть. Или по привычке говорил. Не берите в голову. Сравните себя и меня – где уж мне до вас, красотки такой.
– А вы еще вполне ничего, – критически окидывает меня взглядом Любовь, – очень даже. Честно говоря, я вас представляла совсем другой – старой, ворчливой, опустившейся толстой теткой. С его слов так выходило.
– Это потому, что он меня так видит. Надоела я ему, опостылела. Можно понять, за столько-то лет.
– А вам не жалко, что он уходит?
– Жалко?! – хохочу я. – Вот уж нет! Совсем наоборот. То есть я хотела сказать, что я постараюсь мужественно пережить эту потерю.
– Надежда Петровна, а давайте… по две капли. За знакомство.
– А давайте, – подмигиваю я ей и ухожу в зал за бутылкой.
– …Ну, будем. Чин-чин!
– За знакомство, – Любовь выпивает вино, промокает губки салфеткой, оглядывается, – а у вас очень мило. Уютно. Мне понравилось. Чистота, порядок, все со вкусом. Видно, что вы хорошая хозяйка. А для меня уборка – чистое наказание. Терпеть не могу этим заниматься. Сразу настроение портится. Жалко свою жизнь тратить на такие низменные, неинтересные вещи.
– Честно говоря, и мне иной раз бывает жалко. Но еще жальче обрекать себя и близких на житье в грязи и хаосе. А вообще я люблю заниматься хозяйством. Готовить люблю. А еще я петь люблю.
– Я заметила.
– А давай споем вместе?
– Я не пою.
– Жаль. Под хорошее настроение Сергей любил иной раз попеть со мною хором.
– А ваша дочь… Как она отнесется к тому, что ее отец ушел из семьи?
– Это ей не понравится, конечно. Отца она обожает. Но что делать, раз так случилось. Вы это в голову не берите. Это уже мои дела. Я Наташе все растолкую, поймет. Не сейчас, так со временем. Все же сама уже мама, моей внучке скоро три будет. Ну, так что, вызываем такси?
– Ой, я как-то не рассчитывала… Боюсь, что денег на такси может не хватить. Давайте я в следующий раз все увезу.
– Ничего, я заплачу. Все же Сергей мне не совсем посторонний.
– А может, все-таки…
– Нет уж, Любовь, никаких «может быть». Не стоит откладывать на потом такие важные, судьбоносные дела. Жизнь такая короткая. Ой, секундочку, телефон…Да, Сережа. Слушаю…Стоп. Давай, милый, сменим тон, поговорим спокойно, без ора. Что ты хотел сказать?…Да, я все сделала, что ты наказывал…Да, квартплату заплатила, за телефон тоже, Интернет проплатила…Да, джемпер из химчистки забрала. Свечи для машины купила. С сестрой твоей Тамаркой по магазинам прошлись, все, что ей нужно к юбилею, закупили…Сациви на ужин? Вот этого не обещаю…Как почему? Думаю, что сегодня ужинать ты будешь в другом месте?…Где? Думаю, скоро тебя известят об этом?…Да нет, никакими загадками я не говорю. Не сбрендила и крыша моя на месте. И настроение прекрасное. Пою. Пью чай с блинчиками. Ну ладно, Сереж, дела у меня. Ты ни о чем не переживай. Все будет хорошо.
Любовь растерянно топчется на лестничной площадке. Таксист, маленький энергичный мужичок, делает уже третью ходку за вещами. Я с улыбкой говорю: «Любовь, вы абсолютно правы: главное в жизни – это любовь. Все остальное второстепенно. Я желаю вам с Сергеем от всей души большого счастья, полного взаимопонимания. Берегите свое чувство…Товарищ таксист, вы все? Вот деньги, возьмите, сдачи не надо – поможете барышне вещи донести до квартиры. Да, Любовь, вот здесь я записала рецепт блинчиков, которые вам так понравились. Как-нибудь на досуге приготовьте Сергею, он любит вкусно поесть. И не переживайте вы так. Все будет хорошо!»
Паучок
Она просто залюбовалась на этого паучка. Сказать, что он был красивым, – не сказать ничего. Слово «красивый» не могло описать все, что она разглядела в нем: тонко-нитяные длинные ножки поставлены в невероятно изящном изгибе, идеально круглое серебряное тельце было похоже на капельку ртути, которая сверху отливала перламутром, а снизу изумрудно отсвечивала. Прелесть, а не паучок. Просто чудо-чудное. Чем больше она в него вглядывалась, тем в большее восхищение приходила. Она даже разглядела едва заметные разве только очень зоркому глазу мохнатые «носочки» на конце ножек. И замысловатый узор на спинке проступал, если внимательно смотреть. И даже имя вдруг откуда-то в голове выплыло – Илюшенька. Это было имя паучка. Откуда? Почему вдруг Илюшенька, а не Эдуард, например, или Иван Иваныч? Но она точно знала – это Илюшенька.
Никогда ей не то чтобы не нравились разные там пауки, мухи, тараканы, мокрицы и прочая мелкая живность из разряда насекомых – она была к ним в лучшем случае равнодушна, а чаще брезгливо пугалась. А чтобы вот так вот любоваться с нежностью, да еще называть ласковым именем – это с ней впервые.
Нет, все же молодцы производители бижутерии. Как шагнули вперед в своем мастерстве, какие изящные броши научились делать.
Женщина, сидевшая перед нею, на чьей кофточке была приколота брошь в виде паучка, бросила на нее недовольный взгляд – чего, мол, уставилась. Лика отвела глаза. Действительно, нехорошо. Всего-то делов: брошка-паук. Невидаль какая. Помнится, ее школьная подружка Катька обожала разные украшения в виде насекомых и пресмыкающихся: то пчелку нацепит себе на грудь, то ящерку. Однажды явилась на уроки с браслетом на запястье в виде змейки. Лика как сейчас помнит: у змейки были вставлены в глазки ярко-зеленые камушки.
…Взгляд машинально опять перескочил на паучка. Паучок ярко поблескивал перламутром в тусклом свете троллейбусного салона. Тысячу рублей бы отдала за этого паучка. Две тысячи! Лика и больше бы дала, но больше с собою нет. Взять и попросить хозяйку броши: «Женщина, продайте мне, пожалуйста, вашего паучка за две тысячи». А если не согласится, то можно предложить бартер. А что она может предложить, кстати? Лика мысленно заглянула в свою сумочку. Ничего особенного. Разве что чуть начатый флакон духов «Эллипс синий». Это ее любимый аромат. Но духи можно еще купить, а где найти такую брошь? Она никогда ничего подобного не встречала. И она чувствует, что это брошь – ее вещь. Иногда случается, что стоит только увидеть и чувствуешь: мое. Этот Илюшенька – ее. И все тут. И пусть женщина в кофточке думает о ней что хочет, но она уговорит ее отдать ей паучка. А если не уговорит… Скоро остановка. Можно будет схватить брошь, дернуть ее со всей силы и выскочить в раскрытые двери. Такие вот крамольные мысли возникли в голове интеллигентной, благоразумной девушки. Между прочим, аспирантки университета. Уж очень ей запал в душу Илюшенька. Как в сказке: полцарства за коня, в смысле за паучка. Но нет, хватать нельзя. Не потому, что нельзя так поступать, а потому что паучок такой хрупкий, что столь грубыми действиями можно повредить его ножки, а этого нельзя ни в коем случае.
Лика вздохнула. Женщина опять подняла на нее строгий взгляд. Казалось, что с губ ее вот-вот сорвется: «Чего уставилась, дура?» Женщина проследила глазами, куда именно уставилась Лика, увидела паучка и…
– А! – вскрикнула женщина вскакивая, судорожным движением руки пытаясь стряхнуть паучка. Илюшенька вышел из оцепенения и резво ускакал за плечо женщины, откуда молниеносно сиганул вниз и исчез.
– А я думала: чего вы все на меня смотрите, – с дрожью в голосе сказала женщина.
– А я думала: брошь, – сказала Лика.
Они посмотрели в глаза друг другу.
Двери троллейбуса распахнулись: остановка. Женщина вышла. Лика тоже.
Женщина пошла направо. Лика налево.
Куда убежал Илюшенька – история умалчивает.
Игорь Филатов г. Химки, Московская обл
Меня зовут Игорь Филатов. Я южанин, родился и вырос в Киргизии и, хотя уже давно живу в Москве, тоскую по горам, тополям, виноградникам и провинциальному добросердечию… Литературная деятельность для меня не профессия, но отношусь я к ней очень серьезно. По себе знаю, что вовремя прочитанная книга может изменить судьбу.
Мои любимые писатели – Гоголь, Чехов, Толстой, Леонид Соловьев, Чапек.
По роду профессиональной деятельности я музыкант: в первую очередь певец, кроме того, композитор, аранжировщик и руководитель двух музыкальных коллективов. Писательство дополняет и уравновешивает мои музыкальные искания.
Пишу медленно, трудно, но отвечаю за каждое написанное слово.
© Филатов И., 2015
Бессмертный
Я ничего не хочу доказывать и никого ни в чем убеждать. Про-сто расскажу о том, что однажды произошло со мной. Нарочно оговорюсь: все так и было, я ничего не прибавил и не приукрасил. Можете не верить, это ваше право, но тогда мне будет вас немного жаль…
Итак, меня пригласили в гости. День рождения хозяйки, приличная семья, трехкомнатная квартира, импортные обои, отечественная мебель… В общем, все как положено.
Я приехал вовремя и оказался самым воспитанным гостем. На кухне шли последние приготовления, поэтому после цветов и дежурных комплиментов меня посадили в кресло в большой комнате и велели сыну, подростку лет четырнадцати, развлекать гостя. В углу, занимая треть комнаты, стояло старое черное пианино. По внушительной стопке нот и отдельным листочкам, в беспорядке разбросанным по инструменту, я сделал вывод, что несчастный мальчик занимается в музыкальной школе.
– Все уже… – лаконично ответил он на мой вопрос.
– Отмучился, значит? – пошутил я… – Как страшный сон? – и подмигнул.
– Почему сон? – не принял он шутки. – Теперь еще больше заниматься надо. Через год поступать… В училище…
Это было уже интересно.
– Способный, значит?
– Не знаю… – мальчик посмотрел в потолок. – Говорят…
Похоже, участь развлекать незнакомого гостя не представлялась ему слишком завидной.
Я сменил тактику:
– Может, сыграешь что-нибудь?
Он оживился, пошарил среди нот и вытащил несколько довольно замусоленных сборников.
– Что вам сыграть? Я еще не всю программу наизусть знаю… Баха только… Вам, наверное, неинтересно будет… Могу Листа… Еще Бетховен, шестая соната…
Я рассмеялся:
– Мне что шестая, что двадцать шестая… Играй, что хочешь, что самому больше нравится. Я еще тот знаток, но обещаю сидеть тихо и не кашлять.
Он снисходительно улыбнулся и раскрыл потрепанную синюю тетрадку. Не торопясь, поставил ее на подставку (сейчас я уже знаю, что она называется «пюпитр»), поерзал на стуле, подвигал его, усаживаясь поудобней. Потом, прокашлявшись, повернул голову в мою сторону и замогильным голосом объявил:
– Шопен, посмертный экспромт.
– Постой, постой, как это посмертный? Умер, а потом сочинил, что ли?
– Нет… Кажется, его издали после смерти… Я и сам толком не знаю… Да какая разница? – видно было, что ему действительно все равно, почему экспромт имеет такое странное название.
– Ну, хорошо, я слушаю. Давай….
Но он не торопился. Посидел, потер ладони, положил руки на колени и замер. Я видел только его спину, но понял, что он закрыл глаза. «Смотри-ка, – подумал я, – все по-взрослому, может, действительно…»
Мысли мои оборвала музыка. Она началась внезапно и сразу заполнила комнату, словно струи воды или порывы ветра. Я не различал мелодии, ее вроде бы и не было, но она угадывалась и организовывала эти массы мелких блестящих звуков, летящих из-под пальцев. Все вместе это звучало стремительно, даже бравурно и в то же время плавно и мелодично. В общем, начало мне понравилось… Я слушал, смотрел, как бегают пальцы мальчика, и начинал его уважать. В том, что он делал, было мастерство, за которым угадывался очень большой труд, это понял даже я; кроме того, он был так поглощен и сосредоточен, что хотелось понять: чем?
…До второй, медленной части я просто получал удовольствие от красивой музыки, техничного, можно даже сказать, виртуозного исполнения и, не скрою, от мягкого удобного кресла. Когда же музыка успокоилась, как бы остановилась в развитии и в ней стала повторяться одна и та же короткая фраза – то громче, то тише, то быстрее, то медленнее – я забеспокоился. У меня вдруг появилось ощущение, что эти звуки о чем-то настойчиво просят меня, что-то негромко рассказывают, в чем-то убеждают… Это было странно и необъяснимо! В комнате словно появился кто-то третий. Невидимый, но не менее реальный, чем я сам, он стал разговаривать со мной; я даже чувствовал, что ему очень важно, чтобы я его понял… Пианиста я уже не замечал, пальцы его легко касались клавиш, он совершал движения, которым его научили, вероятно, строгие педагоги, соединял одни ноты, разъединял другие, что-то играл громче, что-то тише, каким-то образом действовал педалью, но сам заодно с пианино был всего лишь странным инструментом, с помощью которого давно умерший и вечно молодой человек рассказывал мне о своей жизни, о любви, о горьких разочарованиях, о тоске по Родине и еще о чем-то, что передать словами невозможно…
И вот в тот самый момент, когда я уже почти понял, чего он хочет от меня, успокоился и размягчился, музыка почти остановилась… и вдруг сорвалась с места и снова понеслась неудержимо… Я чуть не задохнулся! Это была та самая виртуозная стремительная тема, с которой начался экспромт, но теперь она произвела на меня ошеломляющее впечатление: у меня перехватило дыхание от чистоты и одновременно мощи этой изумительной сверкающей мелодии, она подхватила меня, как сухой листок, и понесла с собой, и у меня не было ни сил, ни желания противиться этому. Наслаждение, которое я испытал в этот момент, мне не с чем сравнить. Ничто до сих пор не доставляло мне такого пронзительного, почти болезненного удовольствия… «Вот что такое музыка, – подумал я, – почему я не знал этого раньше!?»
Бежали пассажи один за другим, музыка становилась все энергичнее, было ясно, что близится конец. Сквозь слезы смотрел я на расплывчатую фигуру пианиста и думал: «Скорей бы… это слишком хорошо, чтобы продолжаться долго…» Было стыдно слез и еще чего-то… Наверное, себя – того, который не знал этой музыки, который жил так однообразно, заученно и пошло именно потому, что не знал, что есть такая музыка… И он, этот далекий, незнакомый, но уже любимый мною человек, все понял. Последними угасающими звуками он словно дружески коснулся меня рукой и сказал – только мне одному! – на прощанье:
– Не грусти… Жизнь прекрасна, в ней все – красота! И вся – для тебя! Только не закрывай глаза… Только не закрывай глаза! А теперь – прощай… Но если захочешь, я всегда буду с тобой. Я люблю вас всех: тех, кто чувствует и понимает… Я жил для вас… И поэтому я бессмертен…
Чудо-пианист живет в нашем доме. Разумеется, я и раньше не раз его видел, но только теперь стал узнавать и приглядываться. С виду он ничем не отличается от своих сверстников: угловат, немного медлителен и вечно взъерошен. Ничего такого, что могло бы подтвердить его исключительность. Однажды я даже постоял возле футбольной площадки, где мой волшебник гонял мяч в компании себе подобных. Я смотрел, как он толкается и, вытаращив глаза, надсадным голосом оспаривает забитый мяч, и думал: «А понимает ли он, что происходит, когда его пальцы касаются клавиш? Чувствует ли он хоть немного, ЧТО пропускает через себя в наш мир? Или он всего лишь приспособление, с помощью которого прекрасные, беспокойные души людей, которые не хотят и не могут умереть, говорят с нами?»
Так вот, я до сих пор не знаю ответа…
Павлиний глаз
…Солнце пекло немилосердно, пятки жгло даже через подошвы сандалий, но Костик был привычен к жаре, он ее почти не замечал. Ему казалось странным, что взрослые говорили: «В этом году лето просто ужасное, нечем дышать. Хоть бы дождь прошел…» На его взгляд, это было просто глупо. Как лето может быть ужасным? И как можно хотеть дождя? Может, они все притворяются?
Костик шел без особой цели, куда глаза глядят, ноги сами вывели его на проселок. Если бы Костик поглядел по сторонам, он увидел бы выгоревшую траву, посеребренные пылью тополя, с весны мечтающие о хорошем ливне, дрожащий над землей горячий воздух и горы вдали. А над всем этим – чуть выцветшее от зноя и все равно великолепное синее небо без единого облачка.
Но Костик по сторонам не глядел. Все вокруг было знакомо, неинтересно и, честно говоря, порядком надоело. Лето уже перевалило за половину, каникулы шли, а ничего по-настоящему летнего не происходило. Даже гулять было не с кем – друзья разъехались по бабушкам и лагерям. На озеро его одного не отпускали, оставалось только читать…
Жюль Верн стал в это лето его любимым писателем и лучшим другом. Когда он приходил в библиотеку за очередным томом, он уже привычно ожидал чуда. И Жюль Верн его не подводил: каждый раз чудо происходило. В компании с лордом Гленарваном и Паганелем Костик прошел всю 37-ю параллель; по жерлу вулкана спускался вглубь Земли; плечом к плечу с капитаном Немо отважно сражался со спрутами. Еще сегодня утром он был на Северном полюсе и, задыхаясь, тащил обледенелые упряжки вместе с отчаянным капитаном Гаттерасом…
В целом же лето не оправдывало его надежд. Прежде всего, не купили велосипед. Мама сказала «за тройки», хотя он подозревал, что просто не было денег. Совсем недавно окончательно решилось, что не будет поездки на море, конечно, по той же причине, это было ясно и без слов. А сегодня был особенно неудачный день. Утром, уходя на работу, накричал отец. Потом мама отобрала книжку и заставила мести двор, а потом долго говорила всякие слова о лентяях и бездельниках. В конце концов сказала, что не будет его кормить обедом, пока он не подметет. Костик вспылил, бросил веник и ушел. Что теперь делать до вечера, надо было еще придумать…
Впереди по бокам дороги зазеленели серо-зеленые пыльные заросли терновника. Костик вспомнил, что дважды видел там большого сорокопута. Можно было бы поискать его гнездо и…
Что-то мелькнуло вдоль дороги. Большая бабочка спланировала и мягко села на обочину. Костик много знал о бабочках, читал о них, у него даже была небольшая коллекция. Он осторожно подошел ближе и не поверил своим глазам, – это был Павлиний Глаз, бабочка его мечты! До сих пор он видел ее только два раза и был пленен ее оригинальной, непохожей на других раскраской. Кроме того, в отличие от неуклюжих капустниц она была так быстра и осторожна, что поймать ее считалось неслыханной удачей. И вот она в двух шагах! Костик пошевелился, бабочка вспорхнула, описала круг и снова села, теперь уже совсем рядом, почти у самых его ног.
Когда Костик увидел бабочку совсем близко, живую, несравненно более прекрасную, чем на рисунках и фотографиях, что-то сдвинулось в его сознании. Мир сверкнул и исчез, остались только черные усики с капельками на концах, тельце, покрытое бурым шелковистым пухом, бесстрастные радужные глаза и крылья – чудо из чудес! – нечто красно-коричневое, черное и лиловое с бесчисленными оттенками и переливами. Эти великолепные бархатные крылья словно накрыли мальчика и затмили солнце. Капитан Гаттерас остался замерзать среди снегов и торосов, были забыты тройки и не подметенный двор; исчезла без следа горечь от утренней ссоры с отцом; даже великая мечта – велосипед – впервые за много дней перестала жечь его сердце.
Не мигая, не дыша, Костик смотрел на яркое пятно у своих ног и чувствовал, как они холодеют от восторга. Бабочка была ПРЕКРАСНА! Она, верно, только недавно появилась на свет, ни одной пылинки не упало еще с ее крыльев, цвета были ярки и глубоки, и вся она так резко и странно выделялась на тусклой выгорающей траве и серых камнях, что казалась существом из другого, сказочного мира.
С уголков верхних крыльев коричневыми зрачками за Костиком в упор следил чей-то пристальный настороженный взгляд. На нижних крыльях тоже были глаза, но те были широко раскрыты и чем-то испуганы. Черные, расширенные от ужаса зрачки с точками посредине отливали фиолетовым. Мрачный коричнево-красный огонь горел на крыльях. Ближе к тельцу он густел и становился черным, а на краях полыхал вишневым заревом. Концы крыльев были тоже черными, словно обгоревшими, а рядом с телом их покрывал густой коричневый пух, придававший облику бабочки что-то звериное. Таинственная, зловещая, неотразимая красота!
Костик ничего не смог бы выразить словами, но чувствовал, что с ним происходит что-то очень важное, несравненно более важное, чем велосипед, уроки и даже взаимоотношения с отцом. То, что он чувствовал, поднимало его много выше большинства детей и очень многих взрослых. Ему, обыкновенному восьмилетнему мальчишке с веснушчатым носом и ободранными коленками, явилась Красота, одно из самых совершенных ее воплощений. И он не оказался слеп, он увидел ее – не столько глазами, сколько всей душой. Гармония формы и цвета, сочетание необходимости и излишества, что-то еще – необъяснимое, нарушающее гармонию, но без чего не бывает настоящей красоты, – все это, соединившись в бабочке, потрясло его. На какое-то время все остальное потеряло значение и смысл. Остался только Павлиний Глаз и страстное, жгучее желание стать обладателем этого чуда.
Медленно-медленно Костик опустился на колени. Бабочка, почувствовав опасность, сложила, снова развела крылья и замерла, готовая вспорхнуть. Замер и Костик. Солнце пекло затылок, в колени впились острые камешки, но он терпел, а рука его между тем постепенно приближалась к бабочке. Стараясь не дышать, он развел большой и указательный пальцы… Теперь надо было дождаться, пока Павлиний Глаз сомкнет крылья. Костику хотелось взять его осторожно, не испортив ни капельки его красоты. А бабочка будто знала это и тоже выжидала.
Прошла минута, другая. Невмоготу было держать на весу руку, затекла спина, все острее становились камешки под коленями, а по взмокшей шее кто-то ползал уверенно и безнаказанно. Костик почувствовал, что еще несколько секунд и он не выдержит…
Бабочка покрутила головой, немного отодвинулась и сомкнула крылья. Наконец!
Он напрягся, но теперь, чтобы дотянуться, надо было чуть-чуть наклониться вперед. Тело, замершее в неестественной позе, не выдержало этого «чуть-чуть» и потеряло равновесие. Чувствуя, что сейчас упадет, Костик сдвинул колено, скрипнули камни – и все пришло в движение! Бабочка сорвалась с места, Костик с криком бросился на нее, сумел сбить в траву, но схватить не успел, она вспорхнула, заметалась и тут же снова попала под удар. Костик, не раздумывая, всем телом бросился на то место, куда она упала…
Он лежал, тяжело дыша, сердце колотилось о ребра, но Павлиний Глаз попался, это было ясно. «Наверное, крылышки поцарапались, – подумал Костик. – Ну, ничего… Надо взять в библиотеке книжку, в которой написано, как по-настоящему засушивают бабочек. – Он счастливо улыбнулся. – Никому не покажу… Долгодолго буду смотреть, какая она… Может быть, Светланке только… Потом…»
Костик долго перебирал смятые стебли травы, соломинки и листья, пока не вытащил из-под них бабочку. Она была еще жива и слабо трепыхалась. Костик смотрел на нее в недоумении и не мог понять, куда делось то, чем он любовался минуту назад. От былого великолепия не осталось и следа. Жалкий, изломанный и обесцвеченный Павлиний Глаз был похож на скомканную бумажку. Из крыльев, ставших грязно-бурыми, а местами вовсе прозрачными, торчали какие-то перепонки, одно нижнее крыло оторвалось совсем… Костик раскрыл ладонь, бабочка медленно поползла по ней, волоча за собой какие-то желтые мокрые нитки. «Кишки…» – подумал Костик, и вдруг ему стало так плохо, гадко и тоскливо, как не было еще никогда. Он заплакал…
Слезы текли, он их размазывал по щекам, а в груди ворочалось что-то тяжелое и грубое, оно царапало, давило, не находило себе выхода, и это невозможно было терпеть. Он понимал, что совершил что-то ужасное. Слово «убийство» не пришло ему на ум, но он чувствовал, что переступил какую-то роковую черту, за которой теряет смысл все, во что он верил и считал неизменным: добро, красота, порядок, любовь родителей, сама жизнь… Это было так неожиданно и страшно, что ему не верилось в солнечный день, не верилось, что еще совсем недавно все было так просто и хорошо, несмотря на неприятности, которые на самом деле были такими пустяковыми. Ему стало казаться, что он никогда уже не будет веселым и беззаботным и не сможет смеяться… А самым ужасным было то, что ничего нельзя было вернуть: ни бабочку, ни того Костика, которым он был еще утром. Чудо исчезло, мечта – тоже.
Павлиний Глаз был еще жив, он перебирал лапками и куда-то все тащил свое полураздавленное, изуродованное тело. Он не держал зла на глупую безжалостную силу, которая уничтожила его, пытаясь присвоить не принадлежащую ей красоту. Скорее всего, ему даже не было больно. Он просто выполнял свое предназначение: во что бы то ни стало выжить и оставить потомство. Он не знал, зачем это нужно, зачем вообще Природе его жизнь, его великолепие, знала это только сама Природа. Наверное, для нее это маленькое происшествие значило не слишком много – одной бабочкой стало меньше на свете, только и всего…
Но стало меньше и на одного глупого мальчика.
Мгновения
Фиалки
В начале апреля, когда еще не везде сошел снег, на косогоре у дороги, спускающейся к речке, появляются мои давние друзья. Вернее сказать, подружки. Они сбегают с косогора к самой дороге и застенчиво приветствуют меня. Летом их почти не видно среди высокой травы, а в апреле они первыми разворачивают свои ярко-зеленые листья над бурой прошлогодней листвой и, не теряя времени, начинают совершать маленькое чудо. Оно происходит каждый год, но я не могу к нему привыкнуть. Более того, каждый раз я жду его с еще большим нетерпением, к которому примешивается страх: а вдруг в этом году чуда не произойдет. Так было однажды – зима слишком затянулась – и тот год потерял для меня одну из своих лучших красок.
Это чудо – крохотный лиловый цветок на хрупкой бледно-зеленой ножке. Это для него корни растения, его плотные круглые листья и какая-то неведомая, но могущественная сила начинают трудиться, как только оттает земля. Они без устали добывают из земли, из воды, из воздуха, из самого солнечного света драгоценные крупицы веществ, которые соединяют по каким-то только им ведомым сложнейшим и точнейшим рецептам, и создают цветок, являющийся воплощением нежной, чистой и скромной красоты. Я сорвал его однажды, прельстившись запахом (это еще одно чудо!), но когда разглядел его на своей ладони, маленького, поникшего, оторванного от своей среды и разом потерявшего красоту, мне стало стыдно. Я больше не рву этих цветов. Я осторожно схожу с дороги, присаживаюсь, глажу ладонью упругие листики и говорю: «Здравствуйте, мои дорогие… Как я рад вас видеть! Вот и еще одна зима прошла. Вас стало больше, вы взбираетесь уже на верхушку косогора и все так же хороши, а я стал на год старше. Но здесь, рядом с вами, меня это не огорчает. Меня утешает мысль, что когда я уже не смогу прийти поздороваться с вами по весне, вы – такие же свежие и вечно юные – будете так же цвести на косогоре, делая свое маленькое, но важное дело, и любой проходящий мимо сможет свернуть со своей дороги, присесть рядом с вами и, потеряв всего несколько минут, приобрести огромное богатство. Такого нет и никогда не будет ни у нефтяного магната, ни у хозяина самого богатого банка. И ни банкир, ни магнат ни за какие деньги не купит того, что приобретете вы, потому что оно не продается и не покупается, не упаковывается в целлофан и не сохраняется на жестком диске.
Купить можно только букетик жалких, испуганных, собранных в кучку цветочков, где-нибудь в переходе или у метро, где их тонкий запах странен и неуместен рядом с переполненными урнами и полногрудыми красавицами с журнальных обложек… Но это и будет всего лишь букетик за сколько-то там рублей.
Не более…
Звездочка
Вечер. Мы поднимаемся по узенькой извилистой дороге, которая, приноравливаясь к изгибам горы, бежит вниз, к морю. Нас трое, мы занимаем дорогу почти полностью, приходится вжиматься в ограды дач, когда нас обгоняет, натужно кряхтя, старенький драндулет или бесшумно, щеголяя тормозами, проносится вниз иномарка.
Дачи днем ласкают взор, а вечером, в темноте, выглядят таинственно и загадочно. Яркая зелень померкла, зато пахнет все, что только может пахнуть. Этих ароматов не разберешь – ими просто дышишь и наслаждаешься.
На ходу мы поем грузинскую песню, на три голоса, разумеется. Она спокойная, чуточку грустная и очень подходит к узкой извилистой дороге, к теплой темноте, окружающей нас, и к тому состоянию расслабленности и покоя, которое здесь во всем. «Да-на-ва, да-на-ва, да-а-а-на-ва…» – выводим мы не очень умело, но старательно. Я за солиста, Саша поет верхний голос, Тема бубнит квинту, и временами получается почти красиво.
Из глубины какого-то участка слышны смех и голоса, приглушенные листвой, – где-то поздно ужинают. Стол наверняка накрыт во дворе, под развесистой грушей, на столе наверняка домашнее вино. Ужинать будут долго и со вкусом, торопиться некуда – сюда приезжают отдыхать.
На другом участке, сквозь листву в окне маленького домика виден экран телевизора. Там, как обычно, горят машины и валяются трупы – уродливый, неестественный мир. Как можно смотреть это здесь?!
От крутизны дороги болят икры, но это входит в наши планы – прогулка как раз и задумана для борьбы с последствиями плотного ужина. А так как ужинаем мы регулярно, то и гуляем каждый вечер. Иногда не хочется, усталость за бесконечный летний день гонит в постель, но мы все равно идем – во-первых, моцион, во-вторых, воспитываем характер, а еще – за впечатлениями.
Каждая прогулка чем-то запоминается. Например, вчера мы видели светлячка. Лично я видел его первый раз в жизни. Удивительное зрелище! Летающая лампочка! Как ему это удается – ярко вспыхивать желто-зеленым огнем, мгновенно гасить эту энергию, да и еще лететь при этом? Откуда берется эта энергия? Как он ею управляет, этот комочек плоти, в котором столько сложнейших изобретений природы? Куда нам, людям, до него!
Сегодняшний вечер запомнился особо…
Примерно на середине пути дорога делает поворот и немного расширяется. Здесь единственный на всем спуске почти горизонтальный участок. Маленький, крытый черепицей домик спрятался за оградой. Огромная старая магнолия над ним благоухает приторным ароматом. Возле этого домика, на повороте, позади открывается море. Можно отдохнуть и полюбоваться.
Площадка, на которой мы стоим, нечто вроде бельэтажа над долиной. Мы на боку одной горы, напротив – другая, с такой же дорогой и такими же дачами. Между горами, глубоко внизу речушка, сбегающая к морю, и поселок домов в тридцать. В одном из них мы и живем. Впрочем, сейчас не видно ни долины, ни поселка, все черно. Зато там, куда мы смотрим…
Вид не просто красив, а как будто вырезан из рекламного буклета. Даже не верится, что такое можно увидеть на самом деле. Перед нами огромная сцена – море, в котором за минуту до нашего прихода утонуло солнце. А справа и слева две черных горы, как бархатные занавеси, обрамляют эту невероятную по красоте декорацию, которая не нуждаются ни в артистах, ни в режиссерах. Этот вид – сам по себе представление, с которым мало что может сравниться.
Море лежит неподвижно. Густо-синее у берега, оно ближе к горизонту светлеет и тусклым золотом с кроваво-розовыми оттенками незаметно переходит в небо. Горизонт выдает едва видимая туманная дымка, от него цвета меняются вверх в той же последовательности: от золотого до почти черного. Но небесная темень прозрачнее и бездоннее, от ее глубины кружится голова. И так прекрасно-одинока в этой бесконечности маленькая яркая звездочка, мерцающая справа, над противоположной горой – как раз там, где ей и нужно быть, чтобы сделать пейзаж совершенным – что хочется ахать, восторгаться и говорить красивые слова. Но слова неуместны. Поэтому мы просто стоим и смотрим, стараясь запомнить этот вечер, впитать его в себя. Ловлю себя на мысли, что если бы я был художником и смог нарисовать такой пейзаж, меня наверняка упрекнули бы в пошлости, и именно из-за этой звездочки. Сказали бы: «Что-то уж чересчур красиво! Звездочка – это перебор, знаешь ли…» Но что поделать, вот она, сверкает, эта звездочка, как будто нарочно для того, чтобы мы поняли – совершенство бывает.
День умирает на наших глазах, каждое мгновение что-то неуловимо меняет в оттенках и полутонах, которые становятся все менее розовыми и желтыми и все более синими и лиловыми, и скоро небо и море сливаются с ночью в единое целое. Проглядывают другие звезды. А мы прощаемся с «нашей» звездочкой и загадываем, увидим ли мы ее завтра. Пора вниз, спать…
Усталые, спускаемся в поселок, проходим через его центр. Тут кипит ночная жизнь: шашлыки, пиво, неестественно громкий смех, песенка «Черные глаза»… Другой мир, другие звуки, другие запахи. А у меня в глазах – одинокая звездочка, ослепительная, трогательная и недосягаемая. Странно, от той площадки, где мы ее видели, всего несколько сотен шагов, но мы будто прибыли с другой планеты.
Следующего вечера мы ждали с нетерпением, а когда, запыхавшись, выбежали к старой магнолии, оказалось, что наша фантазия чересчур убога и осторожна по сравнению с действительностью: мы опять увидели идеальный пейзаж, звездочка была на том же месте, но только теперь рядом с ней висел еще и тонкий серп месяца! Мы переглянулись и только пожали плечами – нам все равно бы не поверили, даже если бы у нас был фотоаппарат. Поэтому мы просто стояли и смотрели…
Природа не боится красоты. Ее боятся художники, презирают композиторы, недолюбливают поэты. Они называют красоту «пошлостью», а когда пишут грязью свои картины, лепят из грязных убогих слов стихи и загрязняют музыку диссонансами, говорят: такова жизнь. А нет, чтобы просто посмотреть на небо…
На задворках бани
В нашем городе баня притаилась в тихом местечке на самой окраине. Если не знаешь, где свернуть, можно пройти мимо и не заметить. Я обычно хожу туда по субботам, в аншлаговый день: куча автомобилей перед входом, теснота, шутки, пиво… Словом, мужской рай!
А тут пришел в пятницу утром. В раю пусто. Ни одного автомобиля, только два посетителя, кроме меня. Тихо, даже скучно. Зато пар – лучше не надо. В парилку я заходил в гордом одиночестве. После трех заходов обернулся полотенцем и вышел на улицу, благо погода стояла самая что ни на есть майская.
Никого… Даже поговорить не с кем. Я постоял на солнышке, походил туда-сюда и завернул за угол бани. В ее стену упираются два ряда гаражей – друг против друга, – образуя что-то вроде небольшой улицы с огромной лужей посередине. А возле самой стены, там, где между гаражами и баней остается небольшой кусочек земли, я обнаружил маленькое зеленое царство, выросшее и процветающее благодаря тому, что здесь уже ничего нельзя было построить: лопухи, крапива, в общем, самые типичные представители родной российской флоры. Перед входом в баню тоже что-то растет: цветы, кустики карликовой айвы, несколько елочек. Все обложено кирпичом, подстрижено, культурно, даже красиво… И так убого по сравнению с царством, над которым я сейчас возвышался, как господь Бог, в одном полотенце.
Ночью прошла гроза, на траве еще не высохли крупные капли. Покоем, довольством и какой-то первобытной роскошью дышала эта полянка. Я не утерпел и присел, чтобы приблизиться к этому зеленому миру и рассмотреть его получше. Присел и… забыл про баню. Растения словно ожили, а время остановилось, вернее, потекло по их зеленым часам.
Оказалось, на этой сцене не так уж много персонажей. Сразу ясно, что главный здесь – лопух. Три его огромных мощных листа заняли чуть ли не треть полянки, но между ними уже пробились копья крапивы, ее темно-зеленые резные листья как бы спорят с мягким бархатным цветом листьев лопуха. Легко представить, как сварливая крапива резким скрипучим голосом требует, чтобы лопух подвинулся, а он добродушным басом отвечает: «Брось, соседка, не кричи, всем места хватит. Тянись себе вверх, если хочешь, а я и тут солнышка ухвачу».
Особняком, сбившись в кучу, воинственно топорщится осот. Между его узкими острыми листьями уже не пробиться никому. Я не утерпел, погладил ладонью эту зеленую щетку – колется. Гордый!
Конский щавель, весь в ржавых пятнах и дырках, явно не аристократ, зато живуч. Растопырил широкие корявые листья, захватил себе кусок земли и в ус не дует.
На небольшом, с пятачок, свободном пространстве между конским щавелем и осотом вылезла пастушья сумка, маленькая, тощая, жалкая. По сравнению с другими словно нищенка. Торопится, цветет, а цветочки такие же невзрачные, как сама: беленькие, меленькие. Но ведь цветет же!
Неистребимая ползучая травка-коврик, названия которой никто не знает и топчет всяк кому не лень, стелется украдкой по углам полянки.
Вот, пожалуй, и все обитатели этой маленькой страны, этой зеленой Швейцарии на задворках бани.
Ах, да! Самого симпатичного, самого яркого и вообще самого-самого я сразу как бы и не заметил. Конечно, я видел, что он тут; это было само собой – как же без него? – и вот не заметил. Одуванчик! Вернее, одуванчики – сколько же их здесь было! И как же они радовались солнцу! Как светло и весело было от них на этом кусочке земли! Кроме жизнерадостно-цветущих, там были и увядшие, которые отцветали, были и лысенькие старички. Но из светло-зеленых розеток глядело столько толстеньких карапузиков, готовых распуститься, что мне стало ясно, кто истинный хозяин полянки.
Со всех сторон полянку окружают дела рук человеческих: стена бани, гаражи, сверху полнеба закрывает строящийся элитный дом из красного кирпича. Стоило поглядеть вокруг и становилось грустно – так мал и беззащитен был этот островок зелени, этот мирок среди камня, кирпича и ржавого железа. Но стоило снова опустить голову, и мирок превращался в настоящий мир, полный жизни, красоты и высшей мудрости, так непохожий на искусственный, суетный мир людей.
Я был не единственный, кого привлек этот уголок. Прямо передо мной на одуванчик села цветочная муха, очень похожая на пчелу. Ей меня не обмануть, в детстве я таких немало переловил, чтобы послушать, как они жужжат в кулаке: «Зум-зум-зум…» За это мы их звали «музыкантиками». На соседний одуванчик прилетела другая, похожая, но поменьше и немного другой расцветки: верхняя часть спинки в продольную светлую полоску, нижняя – в поперечную. Может, это был другой вид, но я предпочел считать, что это дама и кавалер. Дама бесцеремонно прогнала кавалера и исчезла сама, а на лист конского щавеля выползли один на другом два жучка изумительной красоты: если бы существовало зеленое золото, оно было бы именно такого цвета. Представляю, сколько бы оно стоило!.. Парочка свалилась с листа, как только я дотронулся до них, а я пригляделся еще внимательнее и стал замечать то здесь, то там муравьев. Маленькие, деловитые, невозмутимые, они были везде. Пока я исследовал полянку, некоторые из них уже давно исследовали меня.
Мне очень не хотелось возвращаться в баню, но не мог же я просидеть на задворках до вечера. Я в последний раз окинул взглядом открытый мною мир, и тут, словно для того, чтобы этот день лучше запомнился, произошло чудо.
Сразу, как только я пришел сюда, мне бросились в глаза маленькие легкие пушинки. Они висели в воздухе почти неподвижно, а иногда, словно насмехаясь над земным притяжением, медленно перемещались вверх, вбок, куда угодно, только не к земле. Огромная отстоявшаяся лужа между гаражами тоже была покрыта крапинками пушинок. Я еще подумал: «Ого, уже тополя пух бросили, значит, лето близко», – и забыл о них. Но когда уже собрался уходить, откуда-то сверху, из-за гаражей появилось большое прозрачное облако из таких пушинок. Оно было почти круглой формы. Ветер катил его по воздуху, словно огромный невесомый клубок. Прямо над лужей облако остановилось и зависло, пушинки медленно вращались внутри него, мерцая на солнце – сказочное зрелище! – и вдруг разлетелись в одно мгновение, ветру надоела его игрушка.
Я вздохнул и пошел в баню. Там было уже целых пять человек. Два приятеля, толстые, распаренные, раскинувшись на скамьях, рассуждали, где лучше отдыхать: у нас или за границей.
– Чего там делать? – басил один. – Ну, был я в прошлом году на Корфу. Это……э-э-э… в общем, Греция… И что? Тоска! Каждый день одно и то же: с пляжа – на пляж. И ж-жар-р-а-а-а!!! Я через неделю купил билет и улетел. Не надо ни вина ихнего, ни апельсинов.
– Да-а-а… – соглашался другой. – У нас лучше. Зимой, конечно, того… печально, а как зазеленеет все – благодать! В лесу, к примеру, или на речке… Птички поют… Красота…
Потом вздохнул:
– Времени вот только нет до дачи доехать: то техосмотр, то ремонт, то жена что-нибудь придумает. А как приедешь – не знаеш, за что хвататься… Не-е-т, дома не отдохнешь, надо куда-то уезжать…
Я лежал, отделенный от них спинкой дивана, и думал: «Наверное, он прав. Но прямо вот тут, за стеной, стоит только выйти из двери и зайти за угол, место, которое может дать то, чего люди не могут найти ни в Греции, ни на собственной даче: покой, красоту и радость от сознания того, что и ты часть этого великолепно устроенного мира. И сколько этих мест повсюду! В той же Греции! Что мешает их увидеть? Всего-то и надо – чуть-чуть изменить угол зрения и присмотреться».
Попарился я замечательно, но главным в тот день было все же другое…
Ровно через неделю я снова пришел в баню и первым делом заглянул за гаражи. Смотреть было уже нечего, зеленое царство было скошено под корень. Торчали стебли, валялась жухлая трава, и все было так безжизненно, сухо и скучно, что у меня резко испортилось настроение.
Михаил Садовский г. Москва
Михаил Садовский, коренной москвич, член СП и СТД России. Начинал печататься в 60-е как автор стихов и прозы для детей. В советское время произведения для взрослого читателя лежали в столе – не мог преодолеть цензурных и идеологических барьеров для публикации своих произведений. Теперь в списке моих книг романы, повести, рассказы, книги стихов и публицистики, конечно, книги для детей, пьесы, радиоспектакли, сборники хоров и песен на мои стихи, мюзиклы и оперы, написанные на мои либретто. Многое из опубликованного попало в интернет, в электронные библиотеки, на различные сайты – процесс этот, как оказалось, совершенно не зависит от автора.
© Садовский М., 2015
Исаак
Горечь и обида никуда не деваются. Носит их ветром потерь по миру, оседают они, как радиоактивная пыль, и разъедают души людей. Все больше и больше обид становится в мире, копятся, копятся они столетиями, пока Господь не решит почистить землю, вот и смоет всех последней волной, и, может, больше не посеет он никого на нашей планете, как пробовал уже не один раз – да ничего хорошего не вышло… и отдаст он ее другим, которых зовут сейчас инопланетянами, и на Земле боятся их. А они оттого не летят к нам, что слишком много обид тут накопилось, и климат потому стал вредным для жизни…
В милиции, куда его привели, Исаак так объяснял молоденькому дежурному лейтенанту:
– Дразнил он меня… сосед-дурак: «Исаак, Исаак! Где твоя Сара?! Где твоя Сара?!» Ну, надоело мне, вот взял я его одной рукой за рубашку чуть ниже ворота, чтоб не убежал, и рассказал ему, почему меня Исаак зовут… И не бил я его вовсе…
Прадеда моего Исаак звали. И меня по нему назвали: тоже Исаак. В советское время – это ж не имя было, а как прозвище вроде, но я терпел и гордился этим именем, потому что прадед мой был человек героический и погиб как герой.
Они в станице жили. У Исаака была кузница еще с царских времен, и все его очень уважали и ценили. Ведь тогда еще не было тракторов, а лошадь была главной силой, так что он без работы никогда не сидел.
Когда пришли немцы, семья прадеда никуда не убежала, потому что Исаак не велел: он помнил немцев еще по Первой мировой войне: вполне приличные, культурные люди…
Но фашисты стали сразу искать коммунистов и жидов и убивать их. Исаака сперва не трогали, потому что он не был похож на еврея – бородатый и огромный. Он лошадь приподнять мог и кулаком быка валил.
Донес, что Исаак еврей, староста-полицай из своих, из казаков, кому Исаак часто помогал – он с самых бедных ничего не брал за работу. А когда за семьей пришли, Исаак ничего не сказал, велел всем быстро собраться, и немцы повели их под конвоем за станицу, в ригу.
Ночью Исаак руками выломал две балясины, выбрался наружу, потихоньку кулаком уложил часового… люди через открытые ворота в темноте убежали и попрятались кто где. Немцы хватились, а поздно – никто не ожидал такой наглости. Прабабушку, двух ее дочек и внучек спрятали в станице казаки и потом переправили через линию фронта к своим, а Исаак остался и начал мстить фашистам, но его скоро поймали и стали пытать: «Где семья, куда все убежали?..» Конечно, от него ничего не добились. Он их капитану на сапог плюнул, и фашисты поняли, что он их не боится и ничего не скажет. Тогда решили на его примере всех запугать, чтобы не партизанили. Отвели Исаака на пилораму и там четвертовали циркулярной пилой…
Поэтому я и гордился и горжусь этим именем. Вот… Ну, и все…
А он мне все тыкал и тыкал: «Где твоя Сара, где твоя Сара…» Да еще картавил нарочно противно, чтобы подразнить…
Ну, я ему и сказал: «Сходи – посмотри!» и не бил я его вовсе, честное слово, не бил, а так по темечку тюкнул слегка… ну, не рассчитал, может… у меня кулаки-то во! По наследству достались… – и он посмотрел на свои руки, – это у нас семейное… Честное слово: я никогда не дрался! – Он улыбнулся лейтенанту. – Вот бес попутал… Поверьте, пожалуйста… Достал он меня сильно…
А лейтенант сидел, подперев голову рукой, смотрел на Исаака и думал: «Ну, как тут жить-то? Как? И что мне теперь делать с этим верзилой?»
Прошлое
Конечно, можно рассуждать о прошлом, переставлять в нем разные слагаемые и решать, как новое уравнение, но бывает… лучше о нем забыть. Переплыть через реку и не оглядываться на тот берег, с которого ушел навсегда…
Может быть, если бы знать наперед, какое оно будет, это прошлое, то не было бы его – нашел бы силы оборвать время на подходе к нему… но ведь оно тогда было будущим, а без него жить невозможно. Без прошлого – можно, без будущего – нет.
Верил, что все преодолеется. Вот чемоданчик матери «с вещами на первое время», что стоял много лет в прихожей, а ей не пригодился! Сам потом таскал в нем учебники и сидел на нем, поставленном на попа, в проходе переполненной электрички. А что она вдруг икнула и тихо сползла на пол вдоль ножки стола, когда вынимала дрожащими руками в тот же день, как объявили о смерти Вождя, из дерматинового брюха конверты, сухари, огрызок карандаша и пару фиолетовых подштанников с начесом… это разве важно кому-то… этого навалом в прошлом… не могил за колючкой, не потерянных лет на нарах и лесоповале, не тысяч шагов в лубянском каземате… никем не учтенных килограммов нервов и тревог, тонн оскорбительного страха и миллионов «чур, меня»… Кто это выпишет, что совершенно точно от страха по ночам в момент освобождения от него случился разрыв сердца. Это же наивно и непрофессионально – нет такой графы в анкете и такого вопроса. Они только в чьем-то прошлом, и если тебе повезло выкарабкаться, не оглядывайся и не проигрывай заново пережитое, а то оно напомнит с двойной силой.
Что, станешь тешить обиды и бегать по кругу?
Глупо.
Помнишь, сколько стоила смерть?
Четверть буханки черняшки… за нее солдат, стороживший штабеля ящиков, отдавал снаряд 120-го калибра…
Ты же потом сам тянул жребий, кому кидать его в огонь – забыл? Петьку Смирнова в клочья… Васька без кисти остался, тебя почему-то только оглушило и метров на двадцать кинуло, да и то в сугроб… тебя бы первым должно было… ты же ближе всех стоял… Что, это за собой волочь? Сколь долго и зачем?..
И чемоданчик этот ведь тоже после Победы объявился – мать его специально купила и поставила в прихожей за занавеской. От него несло дерматином, и запах этот не выветрился… Железные угольники держали прямоугольную форму, и окантовка не давала прогибаться крышке…
После того как она вещички вынула и попала в больницу, забросили его на антресоли, тебе-то еще далеко было до студенчества – мечтал только… Куда хотел – не взяли: блата не нашлось, а так… ну, чтоб мать не огорчать и в армию не забрили… тогда достал его: чтоб как у других, а на новый откуда деньги?.. Угольники потемнели, конечно, и ржавинка их чуть подкрасила, а пыль давно, попервоначалу въелась в липкий свежак обивки, она отдавала неистребимой сединой, воистину подвластной только времени… Ни вода ее не брала, ни ластик, ни мыльная мочалка. И сперва это смущало, как-то выталкивало в нелепость скупердяйства или стеснительность нищеты, но незаметно все растворилось, отошло, а стало без него невмоготу, пусто… и не то что привычка – рука в холодной темноте утра сама находила его и на ощупь определяла, все ли на месте: тетрадки, линейка с треснутым бегунком, таблицы Брадиса…
Вспомни, вспомни: ты без него ни часу не мог! В автобусе между коленок зажимал и лишь на остановке хватал за железную ручку и волок над головами, прорываясь к выходу… или протискивал сперва сквозь раздвинутые прутья забора и потом сам следом за ним на каток… Это было азартно здорово: экономил на входном и на раздевалке, да и время не терял, коньки – из него, а туда ботинки…
Когда однажды забыл его в гардеробе в институте, летел вниз по ступенькам с колотящимся сердцем, и страшно было не то, что конспекты пропали! Что-то очень родное и важное отторгалось от тебя, вспомни!
Он уже не вещи хранил, а время! Память времени… И зачем оно тебе было? Вспоминалось на бегу, что мать давно уговаривала, мол, поменять его надо, ну, хоть портфель отцовский взять довоенный, новый почти и с двумя замками… и это все било по щекам на поворотах лестницы и гнало быстрее вниз… Да, он стоял там, под длинными пальто на полу у стенки… ну, хоть бы в нем что на продажу было… сам-то он уже и рубля не стоил… если кто полюбопытствовал, хлопнул крышкой потом и оттолкнул ногой подальше… а тебе-то без него уже никак стало!
Ну, зачем тащить это прошлое, что в нем?
Эти восемь лет, что он простоял в прихожей, даром не прошли… даром… напитали его страхом и тревогой. И они тебе передались. Может, потому мать и ворчала, что негоже, мол, с чемоданом, что в этом какая-то неестественность, недоверие своему времени…
Возможно. Но ты был в дороге и теперь лишь понимал, что значит – восемь лет… сперва в спешке невдомек было: нельзя без него, никак нельзя… с масляными пятнами, обведенными в задумчивости по контуру… на внутренней стороне откинутой крышки…
Может быть, ничего больше ты не хранишь в памяти с такими деталями, даже стихи, заученные наизусть, не столь подробны своими строчками! Щербинка в правом углу, нарушенные выдавленные линии на поверхности неограниченной шахматной выделки… сколько раз ты считал их в чет-нечет, сбудется – не сбудется, и каждый раз получалось по-другому. То ли глаз уставал и сбивался, то ли и впрямь они вдруг сливались и спаривались, чувствуя причину и тоже волнуясь…
И чего там только не было: и Галчинский, и размытый снимок рва в Катыни, и «Жизнь и судьба», и Вислава Сжимборска, и Терц с Даниэлем, и первые всплески Окуджавы…
Однажды, когда он уже совсем измочалился, продавилась крышка и покосились бока, ты освободил его наконец, тоже стоя у того же стола, как мать в пятьдесят третьем, и решил, что пора расставаться… Поставил его на то же место в прихожей, как бы давая ему возможность попрощаться, и время побежало своим чередом.
Конечно, снег новых забот одолевал и осклизались ноги, все волокло и волокло против воли, как в половодье на плотике из трех бревен, чтоб спастись только… а когда не стало матери, пошло на перекос пространство, и объявился он на тех же антресолях – как он там оказался? Ты вспомни, вспомни, это ж недавно было! Кто кроме тебя мог его туда засунуть, да и то потихоньку, тайком, в час, когда никого не было дома… не то пошла бы грызня за пространство… а ты не помнишь?!
Не ври хоть себе… можно много забыть. Хочется. Зачем тебе прошлое… ну, прожил, и слава Богу… но он там неспроста оказался – не надо помнить… зачем тащить его за собой всю жизнь и снова просыпаться от его присутствия, потому что свято место пусто не бывает, и теперь в нем хранятся ночные всхлипы матери спросонья и потом ее осторожные шаги к окну, и взгляды вниз сквозь нераздвинутую занавеску, и кошачья поступь к двери с недоверием и чутко повернутым ухом, чтобы уловить хоть что-то с лестницы… Не за ней ли пришли ее партийцы-единоверцы?..
Это прошлое не удалось тебе выгрузить из него, а не пустой – тебе не по силам поднять и вынести, чтобы тихонько поставить у мусорного бачка и скорее, не оборачиваясь, отойти в сторону, а потом за угол к подъезду…
И сколько бы ты ни размышлял, он все равно будет с тобой. Даже если ты решишься на дерзость, он снова возникнет, материализуется из мысли, из тревоги «где он», из незабываемого запаха свежего дерматина, отдающего летней помойкой, из ритмов сложивших его поверхность линий, из ощущения заклепок на зажавших его бока ляжках, из образа широкоротого коричневого бегемота с плоской головой, из ночного пробуждения от пустоты на кровати, в комнате, где больше нет матери, из скрипа, похожего на тот, что извлекала петля в его железной ручке на морозной улице, когда ты спешил и он мотался, из той пустоты, что возникла на его месте и так никогда и не заместилась ни портфелем, ни сумками на плечевом ремне, ни кейсами, дипломатами, стюардессами на колесиках…
Он был одушевлен. А живое оставляет самый непреходящий след, даже тем, что умирает…
Послушай, зачем он тебе? Даже теперь, под сомнительное покачивание головы жены и ехидные словечки взрослеющих детей…
Но к нему все привыкли, как привыкают к привитому словами прошлому, особенно тому, которое их не коснулось, не было тропкой прожитого и не цепляет репейником обид и потерь…
В нем лежат плоскогубцы, отвертки, гвозди… кусок проволоки для жучка и сгоревший паяльник… Он и стоит там же, в прихожей, только занавеску сменили скользящие плоскости дверец. И как прежде, редко кто о нем вспоминает…
Только когда ты остаешься один, и непонятная тоска заставляет тебя мотаться по комнате, вдруг оказывается он у тебя на коленях, и ты долго смотришь на его обшарпанные бока, пузырящуюся крышку, одну беспомощно повисшую застежку, отшлифованную ручку, и снова играешь в чет-нечет на его поверхности, и долго так сидишь, прижимая к животу двумя руками и ощущая каждой клеточкой прошлое, которое пропитало его, и никогда, что бы ты ни решил, тебя ни за что не оставит…
Сестрички
Сито времени дыряво, и не понятно, что и зачем оно просеивает.
В дверь крепко постучали, и донеслось: «Ваш выход…», а дальше – слова потускнели в плаче ребенка. Наверное, кто-то из актрис привел его, хотя это не разрешалось, но что ж, когда не на кого оставить…
Человек за столом не шевельнулся на вызов. Он сидел, подперев лоб рукой, в зеркале перед ним отражалась половина его лица с закрытым глазом и распахнутый, расшитый золотом ворот комзола или рубахи. Ноги под столом грели ступни о батарею, и казалось, что он покойно спит накоротке, как умеют только очень занятые и собранные люди, которым и надо-то всего – десять минут передышки.
Плач вонзился в него, огородил от мира и поволок куда-то в сереющую темноту раннего утра…
Он тогда с трудом разодрал веки, чуть высунулся из-под слоев тряпья и в створе двери увидел мать, а за ней что-то совсем темное, размытое, глухо цокающее по деревянному порогу и гнилым половицам. Когда все это придвинулось к нему еще на два шага, он, уже полусидя, стал выпрастывать руку, чтобы опереться на нее и подняться выше, но в этот момент услышал резкий детский плач и, совершенно ошарашенный, не понимающий, откуда он, рухнул обратно. Плач был точно такой же: призывный и короткий: «Me-а! Ме-е-е-а…»
Когда все было выменяно, распродано, заношено и надежды не умереть с голоду больше не осталось, мать вдруг привела в дом этих двух козочек. Веревка соединяла своркой их шеи, а посредине покоилась в руке хозяйки. Они были такие же худые, как люди, такие же серые, как стены их нового жилища, и узкие детские мордочки их, совершенно одинаковые, вызывали жалость, а не надежду на помощь. «Зачем они? И на что она могла их выменять?» Эти вопросы недолго мучили мальчишку – на руке матери больше не было обручального кольца. Она пожала плечами и сказала: «Пока снег не лег, запастись для них надо… а то не выкормим и помрем вместе…» – трудно было вообразить, как эти доходяги могли спасти людей.
– Это насовсем наши? – удивился мальчишка.
– Насовсем… – мать кивнула головой, потянула вперед веревку и выдвинула козочек на середину комнаты, – знакомься: Майка и Апрелька…
– Майка и Апрелька… – повторил мальчишка. – А что они едят?
– Все, – вздохнула мать и опустилась на лавку…
Теперь у него была забота – целый день проходил в поисках съестного для сестричек: упавший с телеги клок сена на обочине дороги, засохшие остья пижмы и новые ростки сныти, зачем-то вылезающие у самой завалинки из стылой уже земли навстречу холодному ветру и глухому предзимью, бурые корытца коры, оборванной с дровяных колод за складом… – все, что ни попадалось, он тащил в дом и сваливал не в запас, а на ежедневный прокорм в ящик за печкой, которая, казалось, остывала быстрее, чем нагревалась. Но козочки все же учуяли теплый угол в избе и здесь обосновались.
Удивительное дело: они всегда жевали! Даже когда ящик был совсем пустой! Жевали, жевали, жевали, не раскрывая рта и двигая при этом носом и нижней губой в разные стороны. Неспешный сладкий звук, добрый и живой, разбавлял звенящую тишину, а иногда вдруг вливалась мелкая чуть слышная дробь от сыпавшегося из них на пол черного горошка… Тогда он брал обломок фанерки, прислоненный к стене, метелкой подгребал на нее разбежавшиеся по полу катышки и выносил добро на пустую огородную грядку у забора…
Очень скоро он понял, что, когда ищешь корм для Майки с Апрелькой, самому меньше хочется есть, становится теплее и день одиночества не так долго и нудно тянется к вечеру! Ведь он был не один теперь и в свои пять с половиной обрел совершенно не детский навык борьбы с одиночеством, который не раз потом выручал в долгой жизни…
А как сладко было погладить их жесткую щетинку, провести ладонью по чуть выпуклому рельефному хребту или погреться, обхватив их шею руками и прижавшись щекой к колючему боку… и слышно было, как там, внутри, что-то бурлит и переваривается…
От сытого и беспечно-блаженного вида сестричек им самим становилось веселее, они с матерью переглядывались вдруг и громко смеялись их потешным проделкам, детскому боданию, непонятной возне и трясущимся хвостикам. Все это было так странно, так не вязалось с унынием и тревогой, в которых они беспросветно тонули с первого дня войны, что порой матери бывало неловко этого нахлынувшего настроения, и она задумчиво замирала, а он тогда тормошил ее, тыкался головой в живот, подражая сестричкам – будто бодал и, подняв глаза, нудно тянул: «Ну, чего ты?., чего ты?» Она отстраняла его и говорила, втянув шею и поводя поднятыми плечами: «Так…» – и резко сменив настроение: «Посмотри, как они похорошели! Поправились! Вот увидишь: уже весной по стакану молока дадут! Вот увидишь!..» – и снова плотно прижимала его к себе, а он даже зажмуривался, представляя это невероятное чудо!..
Почему? Почему сейчас в его сдавленной голове и морзяночно бьющемся сердце возникла эта картина? Разве мало чего было вспомнить ему! Чего-то потрясшего душу, ввергнувшего в отчаяние и тоску на месяцы или годы?! Триумфы на сцене и неудачи до отчаяния… женщины, увлекавшие в счастье, о котором мечтал, разрывы с ними и сопротивление последнему шагу на краю обрыва… предательство друзей… плевки власти и грязные сплетни нанятых газетных брехунов, тупики профессии и волчьи ямы жизни… страх за близких, превосходящий все на свете, страх, за избавление от которого он готов был на все и не раз шел на все, как…
Это «как» опять возвращало назад, когда он не испугался и защитил своих сестричек от бешеной собаки, бросившись ей наперерез… Он не знал, а вернее, не понимал тогда, что она бешеная и ее укус в то время и в той эвакуационной глуши для него означал смерть.
Заплаканная мать прибежала, вызванная соседями с делянки, раздела его догола перед зевом печи, из которой шло тепло, и пристально разглядывала каждый сантиметр анемичного тела. Поворачивала и поворачивала на табурете, держа за «палку» руки, смахивала слезы, чтобы не застилали взгляда, и никак не могла поверить такому везению – ни царапины, ни намека на укус…
– Господи, Господи! – взывала она, – да когда ж это кончится, Господи! – и это сливалось сейчас с далеким «Ме-е-е-а» и звучало, не потускнев, как в ту самую далекую минуту…
Когда снова раздались энергичный стук в дверь и голос в растяжку «Ива-ан Семе-о-ныч! Ваш вы-ы-ход!» – он слышал, но не мог шевельнуться… дверь приоткрылась, кто-то уже трогал его за плечо, будил, теребил и повторял имя – «Иван Семеныч! Иван Семеныч, что с вами… Да ну Иван же Семеныч! Господи! Господи!.. Беда какая….» Потом крики, крики: «Скорее, скорее! Скорую! Господи… да потом спектакль… одурели, что ли! Что вам! Звоните, звоните!»
Он ничего не слышал.
Сито, сито… вся жизнь сама – это странное сито без логики и системы, доступное пониманию кого-то высшего, не близкого ему, не родного, но, по сути, в конце концов, как получается, необходимого и справедливого…
Неужели того запаса нежности, полученной от двух прилепившихся к его душе четвероногих сестричек, хватило на столько дней долгого пути? Неужели ничего страшнее не было в его жизни, как их повергающий в панику плач, когда они с матерью уезжали и вынуждены были расстаться с ними – их спасительницами в долгие трудные месяцы на чужбине среди таких же обездоленных и беспомощных людей? Этот плач, этот рев прощанья, когда равнодушный, довольный удачной покупкой сосед тянул их на веревке, пережимающей горло, этот поток звука наотмашь стегал всю улицу, всю округу, взывал к человеческой справедливости и благодарности, и он тогда заорал вместе с ними в голос и рванулся назад! Совсем назад – пусть снова в голод, холод и неизвестность, но лишь бы с ними! С ними – будь что будет! И до конца! Неважно чего, в шесть с половиной, почти семь, неважно чего: войны, возвращения, расставания, смерти – все это бестелесно, уже пройдено однажды и не страшно. Страшно быть без них, оставить их одних, беспомощных и бессловесных… Он бы и тогда сформулировал все это и убедил бы мать отказаться, не уезжать… лишь бы с ними! Но весь он превратился в крик, в крик в унисон со своими сестричками, влился в это оставшееся навсегда в сердце, душе, памяти, ушах бесконечное «Ме-е-е-а!», как это умели только они… и научили его самого… на всю жизнь…
И в тот миг, когда резко распахнулась дверь, из коридора опять послышался крик ребенка. Он не раздражал, не отвлекал его с дороги, по которой с невообразимой скоростью бежали воспоминания всего прожитого. Он возвращал в то время, когда рядом были Майка и Апрелька, в ту весну покоя и блаженства в овраге, где он сидел на теплой земле часами, сидел и смотрел, как они, мотнув головой, срывают стебелек и потом старательно жуют его, смешно перетирая челюстями, как, еле перебирая тоненькими ножками, спускаются все ниже по склону к невидимому журчащему ручью в поисках новой сладкой добычи… и никогда больше в жизни ему не было так хорошо, как тогда, в самом раннем детстве, и сейчас снова с ними – на излете длинной дороги…
Старая сосна
Сегодня вдруг начала осыпаться сосна. Желтые вилочки иголок бесшумно отрывались от ветвей и, чуть сдуваемые ветром, наклонно падали на еще полузеленую березу, необлетевшие кусты и пожухлую от первого заморозка грустную траву… «Зима ранняя будет», – подумал старик. Он прислонился спиной к дереву, покрепче уперся каблуками в землю, начал сгибать ноги в коленях и медленно сползать по стволу на змеи выпирающих корней. Потом он задрал голову и стал вглядываться в мощные, широко раскинутые руки сосны. Что-то далеко знакомое виделось там: какие-то профили, копны волос, слышался девчачий шепоток, хихиканье, потом накатили запахи смолы, мокрой коры, влажного брезента, теплого хлеба и селедки…
Старик зажмурился от накатившей волны, глубоко вдохнул воздуха, опустил подбородок на грудь и так сидел с закрытыми глазами, вглядываясь в видимое только ему одному прошлое. Тогда совершенно ясным становилось, откуда все это приоткрылось, привиделось, прилетело. Нет, нет, нет, – ничего не вернулось! Он чуть приоткрыл глаза, чтобы убедиться, где находится, и снова захлопнул веки. Как же это умещалось в нем и хранилось столько лет!? Он сам не ожидал…
Там тоже была такая сосна. Когда, случалось, мама с утра дома, она давала ему с собой завтрак в школу – два ломтя белого хлеба, переложенные селедкой, завернутые в газету. Он запихивал это богатство в противогазовую сумку, которая служила портфелем, степенно выходил из дома, а чуть заворачивал за угол, припускался бегом через дорогу до заброшенного участка, на котором остался только полусгнивший сарай, там он усаживался на корни сосны, опирался спиной о ее ствол и замирал.
Это были самые счастливые минуты дня. Сквозь остатки штакетника забора было видно дом, в котором жила Верочка. Он ждал, когда заскрипят петли, угол осевшей двери прошипит по доскам крыльца и медленно, будто решая, спускаться по ступенькам или нет, появится девочка в синем пальто. Она обязательно остановится, сладко потянется, закидывая голову и поднимая плечи, а потом руки, тогда подол откроет ее коленки со вздутыми на них коричневыми чулками в резиночку, а маленький портфель в руке чуть прокрутится и закроет лицо.
Как хотелось ему в этот момент окликнуть ее, подбежать и заговорить – просто так, о чем угодно, только чтобы она ответила, и на одной щеке показалась ямочка, и сверкнули зубки, острые, как у лисички…
Потом в окне появится лицо ее матери и через форточку донесется резкий окрик: «Опоздаешь!» Верочка резко опустит руки, приставляя ногу, легко соскочит со ступенек и, приплясывая – носок одной ноги к пятке другой, играя плечами, не спеша двинется прямо в его сторону. Можно было в этот момент за секунду подбежать к ней и сказать что-нибудь вроде «привет» или важно и воспитанно «доброе утро» или, еще лучше, перехватить ручку портфеля и чуть коснуться ее холодных пальчиков, и он все это так сильно хотел и воображал, что тело напрягалось и невольно приподнималось… Но стоило мельком взглянуть на окно со смутно видневшимся сквозь двойные рамы лицом ее матери, и только досада оставалась в душе. И больше никуда не хотелось идти, ни в какую школу, в толкотню раздевалки и монотонность уроков, где все отвлекало от самого дорогого, что у него было на свете в его десять лет. Хотелось только сидеть здесь, представлять, как он обязательно подружится с этой замечательной девочкой и сможет свободно, просто, когда захочет, разговаривать с ней и даже брать ее за руку…
Когда она скрывалась за домами, он клал свою брезентовую сумку на колени, вытаскивал из нее бутерброд и принимался не спеша жевать, чтобы хоть чем-то скрасить свою несчастную жизнь… Его вовсе не печалило, что он опоздает, что снова придется выслушивать нотацию в кабинете крысы-завуча, к которой его обязательно отведут как опоздавшего, что запишут ему в дневник замечание и потребуют родителей в школу, потому что он своим поведением позорит и класс, и школу, и семью и наносит вред строительству справедливого социалистического общества и отодвигает приход светлого будущего…
Неважно, какая погода стояла на дворе – он всегда был на своем посту и очень не любил каникулы, потому что с самого утра каждый день не знал, куда себя деть и что сделать, чтобы хоть на минутку ее увидеть… Особенно грустно было летом, когда она уезжала куда-то в деревню, наверное, к бабушке, а он с ребятами гонял целыми днями в футбол на пустыре, купался на озере или в Пехорке, и вдруг что-то прерывало его дыхание и сжимало все внутри, когда ему казалось, что мелькнуло ее лицо или послышался ее голос…
Он был уверен, что она, такая красивая, непременно станет артисткой, как Любовь Орлова, и тоже будет бить чечетку, как та на пушке, или нет – как Марика Рок в «Девушке моей мечты» будет в развевающемся прозрачном платье, кружась, спускаться, перескакивая со ступеньки на ступеньку, по бесконечной лестнице, а он из зала будет следить, затаив дыхание, и бояться, как бы она не споткнулась и не упала…
Он очень хотел учиться с ней в одной школе, и, хотя она была младше на два класса – только во втором, все равно видеть ее каждый день. Но даже такого маленького счастья ему не досталось…
Однажды, когда он с одноклассниками вывалился из школы и они толпой шли и задирали девчонок из соседней школы, среди которых оказалась и Верочка, он из-за какого-то ложного стыда не смог убежать и тоже включился в эту недобрую игру. Девчонки визжали, отбивались портфелями, Верочка упала, разодрала чулок, до крови рассадила коленку и плакала, а он не бросился ей на помощь, чтобы не засмеяли товарищи. «Дурак!» – крикнула она ему и показала язык, а ему было все равно, что! Она ведь обратилась к нему! Именно к нему! Какое горькое счастье ему досталось!..
После этого случая ее мамаша приходила к ним домой жаловаться на него, хулигана, и стала провожать Верочку до самой школы, а ему приходилось каждое утро прятаться с другой стороны сосны, чтобы не быть замеченным…
Через год родители переехали недалеко, но в другую область… и он больше никогда не бывал в этом поселке…
Иногда непонятная тоска так душила его, что хотелось вскочить в казенного «козла», мчаться и через четыре часа быть там, где прошло детство… но он боялся этой встречи – был уверен, что уже ничего не узнает на старом месте, а главное, честно признавался себе, боялся увидеть свою детскую любовь. Боялся увидеть ее с кем-то под руку, с дочкой или сыном, что-то канючащими, тянущимися следом, боялся, что ее губы накрашены, щеки растолстели и на них больше нет ямочки, а зубы… дальше он не позволял себе фантазировать! Ладонями с двух сторон плотно тер лысеющую голову и потом тряс ею, будто избавляясь от наваждения.
Какое романтическое время было, – на чем мы росли… «Дикая собака Динго», «Два капитана», «Алые паруса»…
И папин китель, бронированный орденами и медалями с войны, который он надевал только раз в году…
И вздохи мамы: «Какой-то ты у меня, Котька, совсем несовременный!» А он оказался очень даже современным. Служил три года, потом учился и опять служил, всю жизнь, мотался по разным гарнизонам, закончил Академию и защищал «ракетной мощью» то самое светлое будущее, которое так и не построили…
Однажды, когда друзья уже занесли его в списки вечных холостяков, возле Дома офицеров он с товарищем встретил двух девушек, которые «стреляли» лишние билетики на концерт столичных артистов. Через месяц они женились на этих сестрах – его Нина была удивительно похожа на Верочку, а главное, у нее была ямочка, тоже на левой щеке и на том же месте, и такие же ровные остренькие зубки. Глупость, конечно, так скоропалительно жениться, но он ничуть не жалел всю жизнь рядом с ней, что по такой пустячной причине дорогого сердцу сходства мог сделать девушке серьезное предложение.
И что же такое случилось с ним в детстве, что всю жизнь при взгляде на любую женщину он невольно вспоминал Верочкино лицо или просто искал его в толпе – не намеренно, а невольно, не специально высматривал, а привычно прикидывал: похожа – не похожа, и ни одна не была так хороша, как его Верочка. Она уже давно перешла в придуманный образ, но стоило кому-то хоть чем-то напомнить ему любимую девочку детства – он совершенно невольно ощущал в себе мгновенную перемену, перемещение во времени и пространстве и превращение в того счастливого мальчишку, преданного самой замечательной на свете девочке из соседнего дома.
«Господи! Сколько всякого в жизни у меня было, и всегда на самом переднем краю. Всегда на боевом посту, всегда в любом месте и в любое время суток готового по боевой тревоге быть у этой кнопки и ждать в непостижимом напряжении роковой секунды, когда не было сомнения, что приказ выполню, а волна от одного короткого нажатия пальца пойдет по всему миру! По всей планете, и стрелки всех сейсмографов вздрогнут, и кривая на ленте самописца рванется вверх, и во всех книгах и летописях потом напишут об этом взрыве, если будет кому и зачем писать… и так муторно и одиноко было… было, было… прошло, пронеслось, жизнь пронеслась… а это осталось…
Почему? Старая сосна на заброшенном участке, запах смолы, мокрой коры, влажного брезента, теплого хлеба и селедки… и ее улыбка с блестящими ровными зубками, острыми, как у лисички, и одним маленьким впереди… совсем маленьким и остреньким, как шип розы…»
Третья попытка
Чего бы, казалось, проще: ни вернуть, ни оспорить, ни поправить, что было.
Когда ветер дует с залива, нагоняет волну, запирает воду в реке, она поднимается, сжимает пространство между землей и небом и наполняет город тревогой, тоской и смертью…
Когда город полон смертью и окольцован врагами, ждут ветра с Ладоги. Он взломает лед, дохнет холодом и надеждой… на воде не остается следов, и льдины унесет вместе с врезанными в них колеями дороги, воронками от бомб и снарядов, вмерзшими железяками и кузовами, лафетами и колесами, оставшимися от разбитых машин и пушек, вместе с останками, недоклеванными воронами, вместе с надеждами и слезами, которые нигде не оставили следа и больше ничего не значат и не стоят…
Теперь вспоминать нетрудно… не то чтобы время лечит – оно не лечит: наслаивает, наслаивает, и сквозь толщу все труднее пробиваться старой боли – новой хватает, а слои все ложатся и ложатся… от этого сгибается спина, и тяжело ногам, и голова клонится книзу, вроде силится человек разглядеть получше, что было, и порой снова удивиться…
Детей стали вывозить из города вместе со стариками сразу. Еще и не было этого слова «блокада», да и не думал никто, что далеко уже на юго-востоке от города с завыванием на резком снижении из-за облаков вынырнут самолеты с крестами, первыми же бомбами раскурочат путь впереди паровоза, а потом звеньями методично и с насмешкой, покачивая крыльями, потянутся вдоль состава, затарахтят пулеметами… Кто помоложе и поудачливее, соскочит на откосы и бросится со всех ног до ближних кустов и елочек, высаженных вдоль полотна для его защиты от снега в метели и бураны, а остальным – вечная память, и упокой их души Бог, проглядевший, знать, как хляби небесные прорвало свинцовым градом…
– Ты думаешь, им сверху было видно, в кого попали? – интересуется она, замедленно произнося слова. – Ты ж летал тоже! Видно?
– Я же не тогда летал – позже… и не на таких машинах… еще пострашнее… да… Зачем тебе знать это? Зачем? Ты молись, что жива осталась!
– Осталась? – удивляется она. – Всех же убить не могут?
– Могут. Могут. Послушай, зачем вспоминать это?
А само вспоминается. Понимаешь, раньше впечатлений в жизни больше было, а теперь один ящик поет, другой показывает – да это ж все чужое, а своих впечатлений мало, и старое снова наверх поднимается… ты видел, как белка в колесе бегает… и я теперь в колесе своего прожитого… и сил бежать нету, и остановиться не могу, а даже наоборот: чем старше – колесо все скорее крутится… видишь: я за ним не поспеваю… медленнее говорю, а бегу все быстрее, быстрее… чего достичь хочу?
С первого раза, как нас вывозили, в бомбежке бабушку с дедушкой навсегда потеряла… потом отец со станками уехал в Сибирь – ни адреса, ни треугольничка…. в тайге на снег станки поставили, высоковольтка рядом – подключили, и… пошла работа… те же дети работали, других никого не было… а потом вокруг цех строили, ну это ты все читал, знаешь…
Вторым эшелоном отправили… там уж одни дети: дома детские, сады, даже ясли, на авось – а вдруг прорвутся – в городе все равно конец… а я уже большая была, помогала… мне тринадцать было… сначала помогала в вагон сажать…. потом, когда сожгли наш поезд, по кустам искать, по лесочкам… собирать… кого хоронить, кого хоть укрыть… уже осень настала… как обратно тащиться?.. И все – кольцо и зима… блокада… – ну, ты же читал про это… А потом уже ходили по городу, всех детей опять собирали, кто дышал еще, это уже когда вода высокая стала, полая пошла… чтобы их вывезти…
– Гиблый город, – вставил он в паузу, – утопленник просто… В болото его император бросил, не домыслив, не зря ж никто не жил там прежде… И никогда уж теперь этот город из болота не выберется… судьба.
– Конечно, судьба… а мы, знаешь, тоже через болото какое-то шли… это я помню, когда нас потом на катер грузили… я еще шла сама… многих несли… всех в трюм спустили… оттуда уж бежать некуда было, если что. И душно… но никто не плакал… даже маленькие совсем… Знаешь почему? Все слушали… мотор у катера гудит ровно, а когда вдруг над ним еще гул… мы знали, что самолеты… только не видно же, какие, а по звуку угадать не умели… там одни дети были… взрослых – никого. Места экономили. И когда вдруг стало трясти и кидать, поняли: опять бомбят… Один раз сильно очень подкинуло. Я головой об пол ударилась… больше ничего не помню…
– Ты подожди, не пропускай… ты медленно говори, но и медленно рассказывай – не пропускай… все из маленьких клеточек в мире сделано, ты не теряй их…
– Я не пропускаю. Темно стало. И ничего не помню… а когда очнулась: тихо и очень жарко… это я потом поняла, что от пожара… там наверху горело. Весь катер… а меня в угол забило, темно совершенно… и крикнуть не могу, и подняться… даже голову повернуть… только когда глаза привыкли, – далеко-далеко пробился свет рыжий, и кричит кто-то… спрашивает вниз… «Есть там кто, отзовись?!» Я поняла, что это ко мне, а ответить не могу… и дым вниз пополз… совсем душно, и последнее слышу: наверху орет голос: «Ты понял, что я их по счету сдать должен!» И очень сильно выругался… что – я тебе повторить не могу… и все – внутри жарко стало. Я на самом деле ничего не помню… только тот, которого ругали, полез вниз и еще троих нас нашел… и вынес… если б я одна осталась, может, и не полез бы… они пересчитали – троих нет! Это уже он мне потом рассказал… а теперь: я вроде сама все видела… так он рассказал… что это в меня перенеслось, и я уверена теперь, что сама видела, а на самом деле – нет… Но я не вру. Я ж первый раз в жизни рассказываю: тебе. А зачем тебе?
– Сказать правду? Не знаю… только мне кажется, раз это было – я должен знать… а то прожить и не знать такого… я уже не молоденький тоже… умереть и не знать такого…
– А ты знаешь, что я сама запомнила точно! Там пол железный был… гладкий-гладкий и плоский… и очень холодный… он, по-моему, прямо в воде был – дно этого катера… может такое быть?
– Отчего не может? Все может…
– И я его руками трогала… ладошками… на спине лежала и с двух сторон ладошками гладила… нежно-нежно…
– И говорила что-нибудь? Молилась?..
– Не помню. А вот что гладила, помню. Нежно-нежно…
Если надолго замолчать, может, и не будет дальше ни слова… Память странная штука – у нее ни законов, ни правил, ни приличий: вдруг подкинет что-нибудь некстати и затопит, замучает, заморочит, а если замкнет ее – ничем не отворишь… но одиночество сильнее памяти…
– Ты знаешь, он потом ко мне приехал…
– Кто?
– Кто приехал? Федор. После войны… разыскал… тот, который сквозь огонь вниз спустился… спас нас… Он меня старше на шесть лет был…
– Разыскал тебя?
– Да! Представляешь! Издалека откуда-то… я уж забыла… разыскал… разыскал…
– Зачем?
– Предложение делал…
– Предложение?!!
– Да. А я ему сказала: зачем ты так – один раз меня спас, а теперь убить хочешь?
– Так сказала?
– Сказала… а он не понял. Я ему говорю: я ж тебе жизнью обязана, как же мне «нет» сказать, а ты же знаешь, что у меня кроме благодарности вечной нет никакого чувства… Видишь, как вышло… неудобно… я мучилась очень…
– Разве за все платить надо?
– Не потому… знаешь, я подумала, а если бы мне пришлось на его месте…
– И что?
– Я тоже себя спросила… и от этой правды мне всю жизнь больно… я бы, как он, не сумела… я трусиха ужасная… мы потом встретились еще раз, случайно, уж много позже… и я ему сказала это…
– А это зачем?
– Чтобы освободиться…
– Ну, тебе-то в чем виниться? Так легла карта!
– Не в этом дело… я от себя освободиться хотела… а он мне знаешь что ответил? Я же не слышала тогда ничего, как они орали друг на друга наверху у люка… Он сам сказал мне, Федор: «Я бы тоже не полез… Анисимов, лейтенант мой, достал пистолет и говорит: «Лезь, сука! Мне что, под трибунал идти, что ли? Сказано: сдать по счету! Лезь! Не то я тебя шлепну…» Он такие слова сказал неприличные… я тебе повторить не могу… Я тогда плакала очень… представляешь… я ведь никому не рассказывала… даже детям… да им и не нужно…. Тебе вот первому… так вышло… ты меня всегда разговорить умеешь…
Татьяна Краснова г. Тула
Я вошла в реку с тем же названьем… Я вернулась на круги своя…© Краснова Т., 2015
Сказка о двойке Двадцать пять лет до золотой свадьбы
Жила-была супружеская чета. Он – сердцеед, она – ни себе, ни людям, а верней сказать – собака на сене. Жили, занимаясь каждый своим делом: муж деньги зарабатывал, а жена эти деньги тратила и род умножала. Вот и жили они на двухкомнатной площади вчетвером, справляясь с разными жизненными трудностями и при этом приговаривая – муж: «Будем жить дальше», а жена: «Не оттуда вылезали». Годы шли, вот и серебряный рубеж супруги перешагнули. В этот день они пошли в театр и там оказались какими-то круглыми (то ли сотыми, то ли тысячными) зрителями юбилейного сезона. А по сему случаю и были сфотографированы корреспондентом местной газеты.
Краснодаров лежал на диване и смотрел телевизор; было тепло, тихо и уютно. Сквозь дрему он услышал длинный скрип двери, это вернулась жена из магазинов. Через некоторое время она вошла и спросила знакомым ехидным голосом:
– Спишь?
Он покосился на нее, – ну понятно – руки в боки, – можно было и не делать лишних движений. Жена опустилась на валик дивана и вздохнула:
– Слава богу, я пришла…
Он положил ладонь на ее руку:
– Устала?
– Ничего, живая.
Глядя на экран, она продолжала:
– С какой новости начать? Есть интересная и есть полезная.
– С интересной, – не отрывая взгляда от телевизора, ответил он.
– Ладно, я материалистка, а интересная, думаю, тебе не очень-то и интересна.
Она достала из сумки пакет:
– Это тебе на дачу, а то ходишь в одном и том же не знаю сколько лет, мне на тебя уже смотреть противно. Расцветка в духе Пикассо, надеюсь, понравится.
– А вот это… – она положила ему на живот толстую газету. – Как просил. Вот там, на тринадцатой странице, и есть интересное.
Посмотрев еще немного телевизор, она ушла на кухню.
Он стал просматривать газету, добрался и до тринадцатой страницы. А, вот она о чем. Это когда они были в театре; попали на юбилейный сезон, а там вертелась молодая парочка – корреспонденты. Все-таки напечатали, не натрепались. Он листал страницу за страницей. Нашел интересную экономическую статью.
Жена открыла дверь со словами:
– У меня все готово, пойдем ужинать.
Увидев развернутую газету, заинтересованно спросила:
– Ну что, видел?
– Видел, видел, – небрежно отвечал он, – Ты хорошо получилась.
Она снова уселась на валик:
– Дай мне еще-то посмотреть.
И потом добавила:
– По-моему я с годами становлюсь фотогеничнее.
Он опять взглянул на нее – жена явно любовалась собой.
– А я что – хуже? – деланно обиженным голосом спросил муж.
– Ну что ты, – протянула жена. – Ты замечательно получился – вон какой джентльмен. Ты мне редко на каких фотографиях нравишься. А тут…
Она покачала головой:
– Хорошо, хорошо. Мы с тобой так смотримся… Детям обязательно покажем, – вот какие мама с папой.
С удовольствием глядя на фотографию, она добавила:
– На тебя, по-моему, и дамы тогда поглядывали, сердцеед ты мой.
Потом тоже стала листать газету, приговаривая: «М-м-м, интересно, это я потом почитаю», «О, кроссворд». Шуршали газетные листы, на тихом звуке работал телевизор; было также тихо, тепло и уютно. Идиллию нарушил телефонный звонок. Жена поспешила в коридор. Из-за двери был слышен ее радостный голос: «Ты знаешь», «Представь себе», «Так замечательно», – она рассказывала про газетную статью. Затем заговорила тише: «Да… да… да, ну надо же, ты подумай…» Наговорившись, она вошла в комнату и возмущенно спросила:
– Ты пойдешь наконец ужинать? Сколько можно тебя дожидаться?!
– А ты звала? – удивился он.
– Вот так! Вот так всегда! Говори, хоть обговорись, – тебя все равно никто никогда не слышит.
Она ушла на кухню и громко стукнула раз-другой крышками по кастрюлям:
– Ну вот, пожалуйста! Не говори мне теперь, что все остыло!
– Да иди же в конце концов! – через несколько минут позвала она уже спокойнее.
Он неторопливо поднялся и проследовал на кухню. Краснодаров был женат уже давно. Он привык.
Как я ходила на светскую тусовку
Однажды утром муж небрежно сказал мне:
– Я вчера звонил сестре, ее Наташка идет на какую-то светскую тусовку, что ли, в общем, пригласила и нас кого-нибудь. Я сказал, что мы не можем.
– А почему? – с неудовольствием возразила я.
– Ну… – муж начал приводить обычные доводы. Я аргументированно их опровергла.
– Я думал, ты не хочешь, – глядя в окно, сказал он.
Я тут же полезла на стенку:
– Почему это я не хочу? Почему это я не хочу? Почему ты решил за меня?
– Да ладно, позвони им сама, – ответил он, не меняя положения.
Я ринулась к часам: было в самый раз, чтобы вставать, но рано, чтобы звонить. Поставив руки в боки, я повернулась к мужу и мрачно сказала:
– Она теперь еще кого-нибудь пригласила.
– Звони, звони, – повторил он, все так же глядя в окно.
И я отправилась к телефону. Соединили, на удивление, сразу же.
– Валя, – начала я вкрадчиво; затем последовали обычные приветственные и извинительные формулы и только потом я изложила, в чем дело. Умница Валя сразу все поняла:
– Пойти хочешь?
– Нуда, – виновато отвечала я, выделывая ногами «ковырялочки».
– Сейчас я Наташку позову, – сказала она, и у меня екнуло сердце. Через некоторое время в трубке опять заговорила Валентина:
– Слушай, как твое отчество? А то Наташка стесняется тебя тетей звать.
Я сказала, и тогда появилась Наташа. Оказалось, что ее предложение оставалось в силе; мы как можно короче обо всем договорились, я положила трубку и, приплясывая, отправилась сообщать мужу свою радость.
После завтрака мы с дочерью обсудили некоторые детали моего предстоящего образа. Сыну было пофигу, куда я еду, жалко, что без него, но так как в тот день компьютер был в полном его распоряжении или он мог отправляться к своим ребятам, то оказалось, что все хорошо.
…И дни прошли, и дорога позади, и несколько часов у Валентины, и вот мы с Наташей входим в зал, и она предъявляет пригласительный билет, и нас провожают к столику. Я замечаю, что тут вовсе не столики человека на три-четыре, а столы. За каждым – человек семь. Мелькают лица, знакомые по телепрограммам. Вот и наш стол, нас рассаживают, Наташа оказывается, к моему отчаянию, где-то далеко, да ничего не попишешь, без нас все решили. Я оглядываю соседей. Боже мой! – Не захочешь, а скажешь: «Какие люди!» И тебе Тина Канделаки, и Матвей Ганапольский, и Алексей Венедиктов. Рядом какая-то дама – неужели Ирина Хакамада? Обводя глазами стол, я чуть улыбаюсь и почти беззвучно здороваюсь. Но смущаться не дают.
– Хорошо, что вы не опоздали, – кивая мне в ответ, сказал Венедиктов. – Уважаю обязательных людей. Давайте знакомиться.
И так как он представился по имени-отчеству, я назвалась так же.
– Да зачем так официально и длинно? – воскликнул Ганапольский. – Вы что, запомните все наши отчества?
Я уверила его, что почти всех здесь находящихся знаю по отчествам, кроме моей соседки и еще двух мужчин. Один сидел около Хакамады, а другой около Наташи. Тот и был ее знакомый, который пригласил нас. А соседом Хакамады оказался Леонид Радзиховский. Я незаметно для себя успокоилась, даже настроение поднялось. Ганапольский, услышав, откуда я приехала, опять стал восклицать:
– Из самой Тулы? А где же пряник? Почему вы с пустыми руками?
– В другой раз, – уверенно пообещала я.
А Радзиховский добавил своим неторопливым и рассудительным тоном:
– Матвей, мы же не на «Поле чудес». Может, тебе еще и самовар привезти надо было к пряникам?
– А почему нет? – кричал Ганапольский, нисколько не смущаясь. – А почему нет? Когда ты идешь в гости, ты идешь с пустыми руками?
Тут затараторила Тина Канделаки. Я любовалась ее довольно сдержанной мимикой, с удовольствием слушала игру ее голоса…. Лохмато-лысый Венедиктов сидел, положив руку на плечо Гана-польскому, и наконец ухитрился вклиниться в Тинин поток речи.
– Матвей, сдавайся.
Я оглянулась на Хакамаду. Она только улыбалась. Заметив мой взгляд, спросила медленным низким голосом:
– Вам здесь нравится?
– Почему бы нет? – я пожала плечами. – Я же не затасканная по балам девушка.
Она придвинулась поближе.
– Вы любите Толстого?
И мы завели разговор о Толстом. Услышав знакомое имя, к нам присоединился Венедиктов. Но они скоро перешли на философию Льва Николаевича, духовные взгляды, – тут я ничего путного добавить не могла и сказала, что меня больше интересует в его произведениях мысль семейная. Венедиктов насмешливо посмотрел на меня и понимающе кивнул. По-моему, в его взгляде читалось: «Все вы, женщины, одинаковые. Поговорить с вами не о чем, только о семье да о детях». Ну и пожалуйста. Я опять огляделась. Канделаки и Ганапольский все так же о чем-то жарко спорили. Радзиховский подбрасывал им реплики. Наташка-очаровашка и ее приятель, похоже, задушевно ворковали. Так приятно протекал вечер.
Когда мы возвращались домой, я сказала Наташе:
– Когда тебя пригласят на международную тусовку, не забудь про меня. Ужасно хочу оказаться за одним столом с Кондолизой Райс и Обамой.
Гостиница
Была в нашем городе гостиница. Разумеется – «Центральная». Разумеется – в центре. Какая-то бело-розовая, трех-, четырехэтажная – уж не помню. Этот самый центр, где она стояла, постепенно преобразовывался, что-то перекрашивалось, что-то сносилось. Рыночная экономика добралась и до нее. Место огородили, аккуратно взорвали и через какое-то время – да-да-м-м! – новый объект городской инфраструктуры. Приходи, кума, любоваться.
Я не ходила смотреть специально, просто случилось быть по своим делам. Шла как обычно, хорошим деловым шагом, глядя под ноги. И как обычно, сама себе мысленно напомнила, что не менее полезно смотреть по сторонам. Я подняла голову и даже остановилась. Сначала было слово: «Блиииин…..» Потом: «Кош
мар…» Потом: «Ужас…» Прямо через дорогу высилась стена вся в окнах. Окна. На гладкой стене какого-то блеклого грязно-песочного цвета. Не знаю, сколько времени я во все глаза смотрела на это. Люди и машины двигались мимо, а я стояла, как жена Лота. Даже шум улицы стал тише. На ум тем временем пришло следующее: «О-хре-ни-тель-но». Тут же последовал и нецензурный синоним. Почему-то вспомнилась оперная знаменитость с ее итальянским прозвищем «La Stupenda». Я хмыкнула и мысленно выстроила цепочку: La Stupenda – stupid — отупительно. Вдруг рядом кто-то сказал: «Утюг». Я очнулась.
Они стояли по разные стороны площади, торговый комплекс и гостиница. «Две больших разницы», – повторяла я про себя слова нашего известного сатирика, переводя взгляд то на одно, то на другое строение. «Утюг» – серый, весь в архитектурных деталях, ярко-синие окна. Нет, нет. Не вызывает, не греет. Дискомфорт, диссонанс. И эта «Royal Hotel» — тоже… Впрочем, после второго и третьего взгляда все-таки мне подумалось, что зря я уж так. Не аппетитный бежевый, конечно, а что-то вроде топленого молока, пролитого на асфальт и размазанного по нему, что-то грязноватое. Но все-таки – топленое молоко. И конфигурация фасада, если я правильно использую профессиональную лексику: стена, не китайская, широкая и высокая, а слегка граненая, плоскость слегка оживлена. Я водила глазами туда-сюда и в конце концов решила, что hotel мне нравится на десять процентов больше, чем «Утюг». Королевская гладкость и блеск все же приятнее, чем сухость и шершавость «Утюга». К тому же на втором плане вздымается конструкция из стекла и металла. «Ну, прямо как у городе Париже», – подумала я, вспомнив впечатления дочери о его новых районах. «Ой, мам, да что Париж, как город из «Звездных войн!»
Вот! Вот что строится в нашем town. Наш город – город будущего. Нью-Васюки…
Офисные трудоголики
Я пожираю всю серость будней…
Шри Махадэва Ади НиданаПервые полчаса рабочего дня в одном из многочисленных офисов большого города. Съезжаются сотрудники, кто – на иномарках, кто – на общественном транспорте. Они расходятся по рабочим местам – помещениям по обе стороны коридора с двумя поворотами.
Правосторонние кабинеты обыкновенные – с дверями и окнами, а левосторонние – только с дверями. Так получилось оттого, что это одноэтажное строение левым боком притулилось вплотную к небоскребу. Микроклимат в помещениях резко контрастный. Сотрудники с правой стороны коридора летом изнывают от жары, а зимой примерзают к своим компьютерным креслам. На левой стороне духота круглый год. С помощью кондиционеров удается оптимизировать условия труда.
Сегодня утро на удивление оживленное, клиенты идут просто один за одним. (Это – полнолуние, по уверению одного из сотрудников. Всякие неожиданности в работе он связывает с фазами Луны.) Эти клиенты толпятся около девочек-операционистов в черно-белой форменной одежде, слоняются по коридору в поисках нужного отдела или знакомого менеджера. Обычно они получают вежливые и подробные объяснения, куда пройти и к кому обратиться, но, похоже, немедленно все забывают и идут просто по кривой. Вот дверь приоткрыта, и клиент уверенно ее распахивает. Поздоровавшись и извинившись, он спрашивает:
– Можно взять кредит?
Несколько мгновений все четыре обитательницы этого однодверного кабинетика молча смотрят на него. (Из-за разницы в возрасте и семейном положении они делятся на двух дам и двух барышень.) Наконец дама размерами и внешностью а 1а Надежда Кадышева отвечает:
– А вы кто?
– Юрлицо, – не задумываясь говорит клиент.
– Тогда, – мягко начинает дама (а она так и только так обращается со всеми без исключения) и далее следуют объяснения докуда дойти, сколько раз повернуть и что он увидит.
Когда является очередной посетитель, инициативу перехватывает барышня:
– Вам какой кредит? – уточняет она. И видя, что товарищ не понимает (эти клиенты, по ее мнению, все патологически тупые), с легким раздражением толкует, что кредиты бывают потребительские, авто, для малого, среднего бизнеса.
– Патрэбительский, патрэбительский, – радуется клиент. Еще бы не радоваться, – с ним говорит такая молодая, такая кра-сывая дэвушка, – вай, ну просто мисс мира.
И барышня небрежным длинным жестом указывет:
– Вон дверь, позади вас.
Клиент с трудом разворачивается и следует в заданном направлении. Фотомодель косится ему вслед и повышает голос:
– Да не туда, вон дверь открыта.
Далее неразборчиво.
Разумеется, сюда приходят и свои люди. Например, главный бухгалтер – женщина маленького роста, круглая, энергичная, умудренная трудовым и жизненным опытом, отчего к ней и обращаются со всевозможными вопросами. Она уже от двери спрашивает у «Надежды Кадышевой»:
– Вы можете найти в «юрлицах» «Копилку» с двести четырнадцатым хвостом[7]?
«Надежда Кадышева» выплывает за дверь.
Затем главбух обращается ко второй даме:
– Вам не трудно будет найти дни? – и перечисляет, постукивая карандашом по столу. Дождавшись, что продиктованное записано, уходит с таким выражением лица, как будто съела что-то вкусненькое. Вторая же дама – бледная, серая, как моль, в очках, сидящих на носу несколько набок, прибирает стол, хватает листок, резко развернув стул, вскакивает и исчезает за дверью. Кстати, все характеристики и прозвища сотрудникам дает она, никто из них об этом не знает.
Когда обе дамы возвращаются, идет разбор нештатной ситуации по банкомату. Около второй барышни (кстати, тоже невыразительной внешности) собрались и главбух, и завкассой. Главбух ведет разбор полетов с чувством и с толком. Завкассой отвечает виновато. Барышня, как всегда, невозмутима. Шуршат документы, бегают строчки по монитору, повторяются слова «проводки, чек, транзакция».
Во время обеденного перерыва все расходятся кто куда: кто по магазинам, а кто и правда пообедать. Потом уже время идет быстрее. И по окончании рабочего дня в офисе становится тише, – сотрудников остаются единицы, это те, кто ведет учет и контроль. Они, случается, сидят до тех пор, пока их не попросит уйти домой охрана. Чаще все же уходят сами, кто замучен тяжелой неволей, а кто и с чувством некоторого удовлетворения.
Мысленный монолог клерка
Ухожу из дома на рассвете, Прихожу, когда совсем темно…Наконец-то все мои ушли – кто в школу, кто на работу; и я торопливо убираюсь на кухне, в комнатах, хотя в последнее время все чаще меня посещают мысли, что кроме как мне это никому не нужно. Ну вот, последние штрихи по лицу, и – караул! сколько времени! – нужно бежать. А на транспорт все равно не пойду; что пешком идти, что на светофорах стоять – время одно и то же.
Господи, какая же еще темнота! Хорошо, что знаю дорогу наизусть: где открытый колодец, где лужа, где выбоина. И пойду-ка я сегодня другим путем, а то явлюсь на работу вся заляпанная.
Так, ну вот и мой офис, вот и моя горница без окон, и в ней уже светло. И приехала первой, как обычно, наша коллега, которая живет дальше всех, – вот что значит развитое чувство ответственности. Тьфу, уткнулась с утра в свой компьютер и не поговоришь с ней. Сейчас вот явятся наши mademoiselles, а я не люблю при них разговаривать на свои семейные темы. Хотя они, не стесняясь, делятся своими вечерними новостями: кто в каком ресторане был да с кем, да кто с кем поссорился, с кем помирился.
Вот и Нефертити. Первым делом она обзвонит всех подружек и маму и нажалуется на своего boy-friend, изольет душу по всем имеющимся под руками телефонам. Ну, а младшенькой доче пока еще рано. Она приходит в лучшем случае через полчаса после начала рабочего дня, а случалось и позже.
Ну, если так, займемся общественно-полезным трудом. Крайне полезным, чтоб ему пропасть!.. А буду я сегодня делать вот что – раскладывать paciance. Настроение просто падает, такое распротивное занятие, но это – обязательная операция в технологическом процессе обработки документов. Впрочем, есть и хорошая сторона в этом деле, – можно думать о своем или слушать, что другие говорят.
Ну да, утро доброе, кто это там? Ах, это наш дядя Федор! Ему здесь у нас что-то надо посмотреть, да еще под столами. Тьфу, и так дел невпроворот, а приходится вставать и, стоя в сторонке, дожидаться, пока дядя Федор почерпнет под столом одному ему понятную информацию. Вот оно что, ему, оказывается, надо знать, в каком году выпущены компьютеры. Можно подумать, нам дадут новые. Ждем-с!.. А Машка новую мышку сама покупала.
Ладно, не надо печалиться. Не в новых мышках счастье. Продолжим наш труд на благо наших клиентов… Как – уже обед? Тогда скорее на улицу, на белый день, прогуляться хотя бы несколько минут по свежему городскому воздуху.
А что это за список у меня на столе? Кто забыл? Ничего себе! – это мне?! От самого МОЛОКОЕДОВА?… Елки-палки, что за день сегодня! То айтишник под ногами путается, то безопасники пристают со всякими глупостями. И что им неймется, что они все грузят занятых людей! М-м-м… – тут и постановление… об изъятии… оперуполномоченный… Ну пойду изымать. Где это лежит? Поди, не докопаешься. Хорошо, что комендант ушел на почту, никого просить не надо. Ладно, не так страшен черт оказался, документов много, но все в одном месяце; теперь копии; подлинники Молокоедову – ах, вы приятно удивлены, что так быстро, – н-да, умеем работать.
А теперь – писать: «изъято согласно постановлению, копия подшита; изъято согласно постановлению, копия подшита; изъято согласно постановлению, копия подшита…» Ф-ф-у, сколько у меня копий? Сума сойти, рука отсохнет. «Изъято… согласно… постановлению… копия… подшита… изъято… согласно… постановлению… копия… подшита…» Неужели все, просто не верится.
Вот это да, уже двадцать пять шестого. Ну и все, тогда пойду домой и не буду задерживаться, я сегодня устала непонятно почему, – не так уж много пришлось нянчить коробов[8] и дел..
Так, все по местам – канцтовары, документы; так, компьютер – выключен. Ну, до свидания всем, кто остается.
Господи, какая уже темнота!
Второй монолог клерка
Сколько говорили о Хаосе ученые мужи!.. Дайте слово сказать незаметному архивариусу.
Вот стою я в своем архивохранилище и озираю стеллажи, плотно набитые делами – толстыми и тонкими, новыми и старыми, – пожелтевшими, с потертыми корешками скоросшивателей. «Уж сколько их упало в эту бездну», – вдруг приходит на ум. Да уж… бездна… хаос… «Архив, – неприязненно думаю я. – Сама себе эту работу выбрала, о чем думала, куда раньше смотрела?»
Да что ж теперь локти кусать. Начну свой скорбный труд. Надо наступить на горло всяким чувствам и песням, – так оно легче тупо начинать какую-нибудь нелюбимую работу. Вот как сейчас – выделение документов к уничтожению: надо перелопатить ворох документов, перелистать дела и толстые, и тонкие (все по инструкции!). Затем составить специальный документ, но это уже не в пример лучший этап, – это на компьютере. А документ предъявить компетентным лицам – начальникам отделов. И один, проверив сей документ в части, касающейся его деятельности, отмечает – уничтожайте. А другой требует сохранить вот это, это и вот это. «Это же нарушение! – робко пытаюсь доказать я. – Это не соответствует сроку хранения ни в нашем Перечне, ни в федеральном». «Да чего вы хотите, – объясняют мне. – У нас нет соответствия между Гражданским кодексом и инструкциями вышестоящей организации».
Слов нет, в голове одни блины и мат. Хаос… На всех уровнях… Впрочем, вопрос-то мы решили – нашелся пунктик в соответствующей инструкции.
Странно все в этом Хаосе – вроде и бардак, а элементы организованности присутствуют.
Под музыку
Была я как-то раз в гостях, случилось это на китайский Новый год. Нам, русским (не всем, конечно) – что бы ни праздновать, лишь бы праздновать: хоть Новый год, хоть Старый, хоть Валентинов день, хоть Восьмое Марта…
А хозяева – люди с некоторой восточной ориентацией – включили соответствующую музыку. Мы все слушали, а после рассказывали, кому что представилось, ну и старались поинтересней, поярче, повыразительнее, – повкуснее, как сейчас говорят.
У меня от этой музыки перед глазами сразу пошли две полосы: зеленая и оранжевая, то есть джунгли и горячее солнце. Потом представилась, вернее, вспомнилась девочка-кореяночка из какого-то древнекорейского эпоса, качающаяся на качелях. Помню, что нарядилась она и пошла себе покачаться. Ну, может быть, сначала еще веночек из мимоз и орхидей запустила на широком листе банана по журчащей Годавери.
Вот и все. Без вкуса и запаха моя картинка. Не знаю я восточных реалий, нет чувственного опыта, все на книжном уровне. Как там эти тропические цветы пахнут, кто их знает? Запах мимоз можно вспомнить, так и то они у нас с Черноморского побережья Кавказа. А юговосточноазиатские мимозы? – Может, они по-другому пахнут. А орхидеи? Я читала, что среди них есть виды с запахом гниющего мяса. Интересно, какой сорт орхидей заплетают в свой венок южноазиатские девушки? Может, когда хотят жениха отвадить, тогда вот эти вонючие посылают, мол, прошла любовь, завяли помидоры. Как хохлушки – сватам арбуз, если за их жениха замуж не хотят.
А музыка такая умиротворяющая, неги исполненная, в сон клонит, воспоминания навевает, всякие индийские Зиты, Гиты, Амрапали перед мысленным взором проходят… Вот они – культурные моменты моего деревенского детства! Вот об этом бы я растеклась. Но что вспомнилось, то вспомнилось. Рассказать-то надо было о самых первых впечатлениях.
Одно грибное воскресенье
Любите ли вы грибы? Любите ли вы их так, как наш российский писатель Владимир Солоухин? Так, чтобы написать о них книгу? Или оду, как Виктор Астафьев? Правда, о другом предмете.
Если бы первый вопрос был задан мне, ответ прозвучал бы неопределенно: «Ну, как-то так…» Если чуть-чуть подумать, то все-таки – «нет». Потому что у меня этот предмет тесно связан с процессом. Не с процессом собирания, это еще куда ни шло. А с последующим – домашним – процессом. Грибы ведь надо перебрать, перечистить, перемыть, переварить. И все это надо переделать в этот же день, потому что на другой день это уже не грибы, как пишут в кулинарных книгах. А во время варки они еще имеют обыкновение убегать. А потом их разливать горячими по горячим банкам, закрывать горячими крышками… А потом убирать кухню… Ой-й-й… Вот поэтому грибы и не люблю.
Что касается первой части процесса – прогулки в лес, – повторяю – почему бы нет. Именно прогулка, бесцельное хождение. Когда я была гораздо моложе, когда процессы заготовки продуктов впрок не вызывали у меня усталости, раздражения и отвращения, помнится, было жаль вернуться из леса ни с чем. И я считала все это тратой времени, и что в наших пригородных лесах ничего нет, а в «настоящие» грибные, далеко, мы не ездили. Муж возражал, что мне просто не везло; что вот если бы мы нашли грибное место, вот тогда бы я грибы собирать и полюбила.
Вот как-то в одно из воскресений сентября мы опять собрались в лес. Мы – это втроем, – дочь еще соглашается составить нам компанию. А сын с удовольствием остается дома со своим компьютером. «Должны быть опята», – предсказывал муж.
До леса мы добирались неожиданно долго. Мы не «настоящие» грибники, выходим не чуть свет. Поэтому, наверное, и простояли минут сорок, ожидая автобуса, пока какая-то бабушка не сказала, что у него, наверное, перерыв и на конечной их штуки четыре стоят. Наконец мы решили идти на другую остановку. Она находится на главной нашей транспортной артерии, все городские и пригородные автобусы там проходят, уехать можно быстрее. Так оно и получилось. Но пришлось изменить маршрут, выйти гораздо раньше и побродить по тем самым местам, которые я всегда считала в плане грибов и ягод «никакими». Ну что ж, тепло, солнечно, пусть дочечка после своей Москвы чистым лесным воздухом подышит. Жаль, что сын этой пользы не понимает.
Ну, шли мы, шли. Ну, как обычно попался красивый молоденький мухомор, потом пень с поганками. Потом первая примета – свинушок. И наконец опята.
– Вот! – воскликнул муж. – Смотрите! Вон! И вон еще!
Мы с дочерью видели и удивлялись. Опят было много. Поляна. Не сойти нам с места! Муж раздал нам ножи. Я распорядилась:
– Самые маленькие не берем, травинки, листочки, веточки обираем, землю счищаем.
Муж заспорил:
– Еще чего? Дома будем чистить.
– А зачем нести домой мусор? – возражала я. – А дома можно сразу мыть.
Дочь меня поддержала. Грибов было много. На пнях, на земле. Они росли кучками, такими «букетами», что хотелось на них просто смотреть, любоваться, немного жаль портить эту красоту.
– Сфотографируйте кто-нибудь, – попросила я. – Сегодня в «Одноклассниках» тете Оле покажу.
Я осторожно складывала опята в пакет. У нас никогда не было корзин. А муж вообще в руках ничего носить не любит и за грибами ходит с рюкзаком, чем всегда раздражал меня. В рюкзаке они мнутся, ломаются. Когда он свой сбор вываливает дома в тазы и другие емкости, я смотрю со скрываемым раздражением, – каша, труха. А мужу что! – состоялся любимый процесс. Да и семья грибами на зиму обеспечена. – Кормилец, добытчик…
…Я с некоторым трудом выпрямилась, огляделась.
– Косе Яськонюшину, косе Яськонюшину, – приговаривал муж, перемещаясь вприсядку по полянке. Дочь сияла.
Наша тара была заполнена. Сколько же времени мы здесь? Мы прикинули, что никак не больше часа. Да-а-а, мы были вознаграждены за долгую дорогу в лес. Я начала приставать к мужу: «Ну, хватит уже, и так складывать некуда, ну пойдем, еще дел много; не надо брать такие старые».
На обратном пути муж, конечно, еще сфотографировал нас. «Вот вечером похвалюсь Ольге!» – мечтала я. Но до этого было далеко: дела на даче, потом домашние всякие хлопоты… «Ладно, ладно, – говорила я себе, – Я устала, дома отдохну немножко, все хорошо… Солнце, тепло, все здоровы, все довольны… Все хорошо…»
Дома после всех дел я улеглась на диван и отключилась. Проснулась, когда уже все нормальные люди спят или собираются ложиться. На кухне мирно сидели муж и дочь, каждый со своим ноутбуком, сын был в ванной.
– Никому не пришло в голову грибами заняться? Что, без команды – не судьба? Опять все на меня? – спросила я.
Муж и дочь убрались по комнатам. Разумеется, весь вышеописанный «горячий» процесс достался мне. Но так как я хорошо выспалась, то свезла этот воз легко. Даже самой удивительно. А утром муж пел мне дифирамбы.
Субботняя лихорадка
Жена Волшебника аккуратно открыла дверь в кабинет. Муж сидел за письменным столом. Тогда она переступила порог и, не спуская с него глаз, стала медленно закрывать дверь. Дверь противно скрипела.
– Что случилось? – спросил Волшебник не оглядываясь.
– Сегодня же суббота. Я прибираюсь с самого утра, – устало сказала Жена Волшебника, подходя. – А еще амбар… А там такой хаос. Мне одной не справиться.
– Одной и не надо, – отозвался Волшебник, продолжая писать. – Ты позови Эроса.
Жена не ответила. Ее молчание было таким долгим, что Волшебник насторожился и оторвался от своей писанины. Жена смотрела на него во все глаза.
– А что? – воскликнул Волшебник, – Он отличный парень, всегда готов помочь! – Тут он призадумался.
– Да и зачем тебе самой? Пошли Аманду. Они все сделают. А ты тем временем отдохни.
– Спасибо за заботу… – Жена Волшебника поджала губы и пошла к двери. Волшебник смотрел, как плавно колышется подол ее платья.
– Да зачем тебе еще и амбар?! – воскликнул он. – Неужели…
– Не мне, а Королю, – перебила его Жена.
– Да ну? – теперь удивился Волшебник.
– Ну да, – как будто с покорностью в голосе сказала Жена.
– Да кто тебе сказал?
– Сорока на хвосте принесла.
Волшебник покачал головой: «Ни минуты покоя», – вздохнул он.
– Слушай, давай его не пустим. Давай я дерево свалю на дорогу.
– А на место потом поставишь? – кротко спросила Жена.
– Ну, если не забуду… Ты мне напомни.
– Я напоминала, и не однажды, – укоризненно сказала Жена. – Это последняя дорога. Остальные завалены буреломом. – Нет уж – король к нам приедет.
– Но амбар-то ему зачем?!
– Да не ему, а его лошадям.
– А конюшня?
– А там лошади охотников.
– Я этих охотников сейчас пошлю далеко и надолго! – Волшебник вскочил. – Тут же есть одно хорошее болото. Они у нас уже загостились.
Он подошел к Жене.
– Дорогая, – проникновенно сказал Волшебник, взяв Жену за плечи и улыбаясь ей. – Да забудь ты про этот амбар. Ведь твой порядок ненадолго. В амбаре все так…
– Знаю, – сказала Жена. – Но я люблю, когда порядок везде хоть какое-то время.
Она повела плечами и отступила на шаг. Дверь за ее спиной, тихонько скрипнув, открылась.
– И я думала, что ты… Жена не договорила и отвернулась.
– А я в другой раз, – проговорил Волшебник, хотя дверь уже со стуком закрылась. – Все равно этот порядок ненадолго. В этом амбаре все так…
Он медленно шел к столу. «Что-то не так, что-то изменилось, – думал он. – Не пойму…»
– Пирошка, – сказала Жена Волшебника, войдя в кухню. – У тебя все готово?
– У меня-то – все! – весело отвечала Кухарка. Имя очень шло ей – толстушечка, пышечка, с румянцем во всю щеку, с глазами-вишнями. «И смотреть приятно, и ущипнуть тоже», – как говорил конюх. – А у вас, Хозяйка?..
– Да, конечно. Через минуту придет.
Жена Волшебника приподняла край полотенца, покрывавшего блюдо.
– Отлично, Пирошка! Сегодня – как никогда!
– Так ведь и день особенный! Впрочем, я всегда стараюсь, – скромненько опустив глаза, сказала Пирошка.
– О да! Ты замечательная помощница, просто клад. До вечера можешь быть свободна.
– Если что, Хозяйка, я у Ипполита, – обрадовалась служанка. – А стол я накрыла на террасе, как вы и говорили. А Хозяин-то ведь идет, – шепнула она. – И минуты не прошло.
– Я слышу, – улыбнулась Жена Волшебника.
Пирошка торопливо понесла блюдо на террасу.
Волшебник вошел в кухню с озадаченным лицом.
– Послушай, – обратился он к Жене. – Неужели эти Незабудки стояли на моем столе все утро?.. Или ты их принесла, когда зашла ко мне минуту назад?
Жена смотрела на него, чуть улыбаясь. Пирошка остановилась на террасе.
– О Господи! – сказал Волшебник. – Сегодня же наша годовщина. Забыл – каюсь. – Он низко склонил голову.
– Не в чем, – все так же улыбаясь, ответила Жена. – Вчера же вечером ты помнил.
– Столько лет – и как один день, – говорил Волшебник, глядя в ее глаза. И каждый раз ты застаешь меня врасплох.
Юрий Краснов г. Тула
Хочу писать интересно как для себя, так и для читателя. Свежую идею нахожу до того редко, что становится обидно, да и с ленью дружу. Раз подумаешь – как бы написать роман, а потом утонешь в бьту и забудешь. На диване не лежу, но получается как у Васисуалия Лоханкина.
© Краснов Ю., 2015
Проблема кошек
В маленькой комнате живут Лена и Алеша, Катюша и Петруша. Лена и Алеша – мои дети, Катюша и Петруша – наши попугаи. Петруша голубой, а Катюша желтая. Попугаи летают и какают по всей комнате, а вечером залезают в клетку, чтобы поесть и поспать. Они могут сесть на голову, поклевать пуговицу или сережку, прыгать по тетрадям во время учения уроков. Птицы смотрятся в зеркало, кричат на разные голоса или чистят перья. Больше всего на свете они любят сидеть у окна, на раме, смотреть через стекло и переговариваться с воробьями, голубями, ласточками. Особенно летом. Наверное, мечта всей их жизни – проникнуть на волю через форточку. В тот мир, где их ждет быстрая смерть от голода, холода или кошек.
Лена любит вырезать, красить, сочинять, читать, играть в Симпсов. Алеша любит есть морковку, гулять с друзьями, смотреть телевизор, стрелять из танка, общаться «Вконтакте». Лена и Алеша иногда ругаются между собой и делят компьютер, иногда играют в заковыристую игру или смотрят телевизор. Они любят смотреть про всякие чудеса, про НЛО, экстрасенсов, на девушек с декольте, метающих энергетические шары в оборотней, и т. и. Кумир – очкарик Гарри Поттер, – побеждает всех противных и страшных, размахивая волшебной палочкой и произнося слова, похожие на названия лекарств.
Не хватает чудес в жизни. Хочется найти форточку и попасть в мир, где могут существовать левитация, телекинез, ясновидение, астрал, шамбала, Христос, Будда, Кришна, Мухаммед, Блаватская, Рерихи, Кастанеда. Я люблю читать книги об их жизни, о скрытых технологиях развития человека.
Только все экстрасенсы на вид какие-то нервные и больные. Не хочется походить на них. Даже мечтать не буду о форточке до той поры, пока Лена с Алешей будут учить уроки. А когда вырастут, в первую очередь подумаю, как обмануть кошек.
Пробоина
Я спал в своем номере, в отеле, на десятом этаже. Солнце еще не показалось, но было светло. Раздался удар, похожий на хлопанье пробки от шампанского, только громче. Тело подбросило. Открыл глаза, сидя на кровати. В полу, метрах в двух к центру, появилась дырка размером с розетку для варенья. Из дыры шел легкий сквозняк. Далее раздались крики. Сверху в унисон крикам раздался визг. Я поднял голову и увидел точно такую же дырку в потолке.
Мысленно провел линию между отверстиями. Бронебойный снаряд пролетел под углом, прошил этажа четыре и не взорвался.
Вопль вверху сменился рыданиями, а крики внизу перешли с арабского на английский. Стали слышны шум и возня на дальних этажах. На улице кричали арабы и стреляли в воздух из автоматов Калашникова. То ли ликовали, то ли клялись отомстить. Все как обычно в последнее время: то стрельба вверх, то согнутые в намазе спины и гнусавое пение, только дыра – новый элемент. На балкон выходить страшно, там в полу несколько дырок от шальных пуль. И посмотреть нельзя на этих гребаных артиллеристов. Будут ли стрелять еще?
Рыдания и крики стихли. Я не удержался и посмотрел вниз через отверстие. Номер внизу был больше моего, на широкой кровати сидела, обнявшись, пожилая пара в ночных рубашках. Вид у них был испуганно-удивленный. В смущении отвел глаза, закрыл пепельницей дырку, поверх положил для верности «Коран». Сверху почувствовал чей-то внимательный взгляд, поднял голову и увидел, что меня наблюдают. С испугу накинул рубашку, подтянул трусы и положил «Коран» на место. Вверху хмыкнули и заткнули отверстие какой-то тряпкой, снизу похожей на бюстгальтер.
Звукопроницаемость возросла, стали слышны разговоры, пение, причитания, как в общежитии им. Бертольда Шварца. Выходить из отеля опасно. Часть обслуги разбежалась, часть продавала постояльцам продукты по спекулятивным ценам. За номера, конечно, никто не платил. В сильный ветер в комнату проникал песок, на балконе перекатывалась небольшая дюна. Иногда с крыши слышны были выстрелы. Когда я варил кипятильником в трехлитровой банке макароны, сверху, после непродолжительной возни, на пол упал пистолет с глушителем. В панике, но через платок, которым передвигал банку с кипящими макаронами, схватил пистолет и бросил в дыру. Стука падения не услышал, пистолет упал на что-то мягкое. Заткнул дырку, отдышался, в голову лезли кошмарные сцены с участием полиции.
Через полтора часа на нитке спустилась записка, написанная губной помадой на английском: «Извините, мне его тоже сбросили». Приписал шариковой ручкой свои извинения, надвязал веревку валявшейся в чемодане леской и спустил записку вниз. Два часа веревка висела неподвижно, потом сверху ее потянули. Записка дошла до меня, на ней было порядочно комментариев. Гневных, матерных, извиняющихся, непонятных. На английском, арабском, непонятном, французском и, к моему удивлению, на русском. Приписал фразу «Давайте общаться», легко дернул за леску, записка исчезла в потолке.
Обмен информацией развивался. Отверстие затыкалось только на ночь. Через блоки, то есть колесики, оторванные от мебели, были натянуты уже две веревки. Это позволяло общаться как с нижними, так и с верхними этажами. Веревки то висели неподвижно, то двигались. Тогда на них были прикреплены записки с адресами, например «На восьмой этаж от двенадцатого». Обмен, торговля, оценка политической ситуации – в смысле, как быстрее и безопаснее отсюда свалить. Один раз встретились в большом номере на девятом этаже, поговорили, выпили все, даже мусульмане. Меня выбрали старостой пробитых снарядом этажей. Обменялись адресами. Жизнь продолжалась. Изредка исчезали старые жильцы, появлялись новые, перепуганные, постоянно озирающиеся. И повстанцы, и правительство нас не трогали. От забегавших иногда мародеров на нижнем этаже несли вахту по графику. Худо-бедно отбивались, показывая им пистолет. Наконец внизу кто-то победил и я смог добраться до своего посольства.
В туристическом агентстве долго извинялись, сочувствовали, но компенсацию зажилили. Не стал с ними связываться – суетно. Хорошо хоть дали объяснительную справку на работу. Стоя перед начальником, томно опустив глаза и шаркая ногой, рассказывал, как мне пришлось тяжело, как я был на волосок от смерти (а это действительно было так).
При этом воспоминания о продлении отпуска на два месяца из-за форс-мажорных обстоятельств и о братстве в отеле пока самые памятные.
Странное исчезновение русского чиновника в Португалии
Бывший чиновник Собакин исчез. Утром ванну, в которой он лежал в саду своей виллы, нашли пустой. В мутной воде плавали несколько рыбьих чешуек и лоскут от семейных трусов. На мокром песке обрывалась у океана цепочка глубоких следов рук и ног. Это было тем более странно, что последние полтора года чиновник весил четыреста двадцать килограммов, лежал в ванне и не мог самостоятельно передвигаться. Поиски длились несколько дней и не дали результата.
При расследовании этого дела местной полиция обнаружила также, что пропал осетр, который жил в той же ванне. Прислуга клялась, что ничего не видела, не слышала и осетра не ела. Рыбу привезли год назад для варки ухи, но неожиданно Собакин замычал и жестами приказал пустить его к себе в ванну. Рыба прижалась к его бедру и замерла. Русский ни с кем не разговаривал, а только мычал или беззвучно открывал рот. С кем разговаривать, если не знаешь языка и презираешь окружающих людей? Иногда рыба и человек раскрывали рот поочередно, и со стороны казалось, что они разговаривают друг с другом.
Поиски следа «Русской мафии» ничего не дали. Других русских в округе никто не видел. Из иностранцев, контактировавших с Собакиным, нашли несколько мулаток, накануне вечером плясавших голыми вокруг ванны. Он смотрел на них мутным взглядом и в такт барабану шлепал рукой по воде. К веткам деревьев были привязаны яблоки, морковки, картошка, рябина, горох в стручках, огурцы и помидоры.
Еще четыре года назад, когда Собакин весил всего девяносто пять килограммов, местные жители удивлялись его замкнутости и одиночеству – прогулкам босиком по кромке прибоя и по песчаным дюнам, поросшим сосновым лесом, по заброшенным апельсиновым садам. Он заходил в пустое кафе, садился в угол, выпивал, не закусывая, огромное количество местного самогона и вместо того, чтобы умереть от отравления, пошатываясь, уходил прочь. Толпа, собиравшаяся в отдалении, шла до самой виллы, провожая его почтительными взглядами.
Сквозь заросли папоротника просвечивали мелкие фрагменты остального мира. Секция изгороди валялась на земле и кончалась канавкой.
Через семь дней после исчезновения, ночью, засверкали молнии и началась редкая в это время года гроза. Струи дождя наполнили ванну, чертили линии по заросшему саду, широкому креслу и дому. По неглубокой ложбине от виллы к океану бежал поток воды, смывая отпечатки рук и ног.
Посол Португалии выразил соболезнование и уведомил правительство России о том, что бывший русский чиновник Собакин пропал без вести.
Железная дорога
Глубокая ночь. Лежу в темноте на даче. Не спится. Из окна сквозь листву светит луна, с шумом мелькают одиночные огни машин. Ни фары, ни звуки не тревожат меня. Я городской житель, да еще и выросший в коммунальной квартире. Может быть, бессонница из-за луны?
С другой стороны, в отдалении, иногда слышен шум проходящего поезда. Монотонный стук еле слышно возникает в деревянной даче из тишины, в другой стороне от шоссе, усиливается и так же медленно растворяется. Поезд – это всегда приятные ассоциации: отпуск, море, походы, реже – командировки. Поезд – это смена картин в раме окна. Большие вокзалы, полустанки со странными загадочными названиями, поля, леса, реки, деревянные дома, огороды, иногда – горы. Скука дороги перемешивается с ожиданием чего-то нового, необычного. Медленное, чтобы убить время, пережевывание пищи, смакование мелкими глотками из стакана дешевого вина в вагоне-ресторане, покачивание, легкое кружение головы. Люблю выходить на стоянках поезда, покупать у теток овощи, фрукты, мороженое, местную газету в киоске… Здание вокзала живет своей жизнью: зал ожидания, дети, женщины, милиционеры, железнодорожники в форме, сумки, чемоданы, узлы, забытые в больших городах авоськи. Проводник ждет, ты садишься в вагон и едешь дальше, дальше…
В романе Кортасара «Выигрыши» у одного из персонажей любимой настольной книгой был железнодорожный справочник. Читая расписание поездов, он представлял, как они мчатся в ночи, днем, с точностью до минут, встречаются, следуют друг за другом, пропадают в черных тоннелях, вырываются на свет. Переключаются стрелки, то красным, то зеленым горят семафоры.
Представляю всю землю, опутанную блестящими стальными полосами, связанными деревянными, просмоленными шпалами, или монорельсы. Мигают лампочки на диспетчерских пультах, прицепляются, отцепляются вагоны, меняются локомотивы, бригады машинистов. Все действует как единый живой механизм, требующий точности, чувственного внимания, заботы тысяч людей. Дисциплина уживается и с глупостью, воровством, разгильдяйством, таможнями, с осмотром посреди ночи. Все как у людей, ну как же без этого.
Все чувства, видения, образы и во сне, и наяву связывает движение, перемещение, деловитость стука колес, ритм, дорожный метроном. Поют рельсы, стучат колеса – танцевальная площадка, и я танцор на ней, выполняющий странные па, до тех пор пока не приеду в свой конечный пункт.
Вскакиваю. Хватаю блокнот и карандаш. Ловлю ритм за хвост.
Мерный стук слышен ночью и днем, Так за стенкой стучит метроном. То слышнее и громче, то тише, Тише мыши, язык его слышен. Поезд тянет в дорогу из дома, В города, где ничто не знакомо. По долинам, мостам и тоннелям, К незнакомым строеньям, селеньям. По пустыням, по топям, по склонам. К одиноко стоящим с наклоном Деревянным домам за плотиной, К огородам, заросшим крапивой. По траве, по листве, по сугробам, И ползущим по рельсам микробам, Муравьям, тараканам, бумажкам, По замерзшим под снегом какашкам. По весне, по зиме, и по лету, В новый город, согласно билету. На вокзалах никто не встречает. Проводник у себя отмечает Номер полки, дает одеяло, Улыбается медленно, вяло, И идет убираться. Как раньше, Поезд едет все дальше и дальше. От того, что уже совершилось, От всего, что сейчас завершилось. От земли, от родного порога, Впереди горизонт и дорога. Эта песня победной зовется. Мы несемся туда, где придется Заменить и друзей и привычку, Находить в своем сердце отмычку К словесам, деловым разговорам, Оставаться не пойманным вором Новых чувств, новых ласк и страданий, Непомерных идей и желаний. На душе зародилась тревога, – Для чего тебе эта дорога? За окном тот же мир и обман, Отвлекающий ритм и туман. Хватит стука, заткнись метроном, Этот мир одинаков в одном. От себя не уедешь, баран! Поднимаюсь и жму на стоп-кран.Сладко потягиваюсь, зеваю, довольный своими выводами, кружением, суетой в мире и в моей голове. Проваливаюсь в яму сна. Спокойной всем ночи, приятных путешествий.
Глюк
Это случилось несколько лет назад, тридцать первого декабря. Торги на бирже кончились, как обычно, в час дня. Выходить из интернета не хотелось. Я просмотрел новости, залез на несколько литературных и шахматных порталов. Собираясь выключать компьютер, неосторожно сдвинул курсор в угол монитора и нажал левой кнопкой мыши на табличку с надписью «Новогоднее исполнение желаний». На экране все пропало кроме таблицы, в которой большими буквами было написано: «Напиши желание», внизу в прямоугольном квадрате мерцал курсор.
Мысленно выругавшись и ожидая, на каком этапе «исполнения желаний» программа попросит номер сотового, напечатал – «хочу денег». Прошелся пальцами по верхнему ряду клавиатуры с цифрами, поставил значок $ и нажал Enter. Помню только, что напечатал около десяти цифр. Экран задергался и через минуту выдал на английском: Лозанна, название банка, номер счета и какие-то другие реквизиты. Загадочно улыбнувшись, напечатал в освободившемся окошке слово «Женщина», нажал клавишу ввода. Экран дергался около трех минут. Из этих трех я долбил безрезультатно одну минуту по Escenuy. На экране появилась картинка; небольшая комната с высоким потолком, в углу елка, девушка в халате стоит на табуретке, вешает игрушки. Внизу картинки надпись «Арина Титова, Россия, город Йошкар-Ола, улица, дом, квартира». Миловидное, чем-то знакомое лицо. Ракурс снизу выгодно показывает стройные ноги. Озверев окончательно, под тем предлогом, что в сказках обычно исполняется только три желания, напечатал: «Хочу всего». Загудели вентиляторы, по экрану забегали полосы. Довольно скоро на нем появился дом в глухом лесу. Он был похож на водонапорную башню, на чердаке угадывался бассейн. Изображение сменилось яхтой, плывущей под парусом по морю в белых барашках. На корме сидела эта самая Арина и смотрела на удаляющийся берег. Маразм крепчал. Черноморский берег трансформировался в атолл с пальмами, женщин стало несколько, яхта превратилась в трансконтинентальный лайнер для кругосветных путешествий. Картинки стали меняться чаще. Гималаи, вершины в снегу, внизу сквозь облака зеленеют луга в маках, овцы звенят колокольчиками, ниже – ели, еще ниже – долина с точками домов. Пещера внутри горы с сидящими в позе лотоса йогами сменилась рестораном с морской кухней в Токио. Вереницей, друг за другом замелькали пляжи, водопады, НЛО, черное дно под водой, пустыни, реки, города. Картинки стали появляться одновременно, по нескольку штук сразу, распадаться на фрагменты, тела – на части. Все чаще стали появляться геометрические фигуры: круги, прямоугольники, линии, точки. Я это видел краем глаза, а сам судорожно тыкал пальцем по всем клавишам ноутбука, желая лишь одного – его спасти. Выдергивание вилки из розетки, естественно, ни к чему не привело. Через десять минут мерцание монитора слилось в единый гудящий фон и перестало восприниматься глазом. Появилась начальная страница Оперы, позволившая выключить компьютер и вытереть пот со лба. После этого глюка несколько недель казалось, что все компьютеры, на которых работал, сильно мерцают и плохо действуют на глаза. Ноутбук, слава богу, исправно работал, потом я обо всем забыл, потом экраны стали жидкокристаллическими и в принципе не могли мерцать.
В 2011 году в конце декабря, выходя из метро на Комсомольскую площадь, в потоке людей, идущих навстречу, увидел женщину, несшую тяжелую сумку. Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись глазами и разошлись. Я шел на митинг на проспекте Сахарова, далее с друзьями в пивной ресторан. Вы догадались, о чем я вспомнил, возвращаясь один домой в ночной электричке? Девушка в переходе метро была немного пополневшая, постаревшая, но все равно привлекательная. Лучше было бы, если б я этого не вспомнил. Как доказать себе, что это обыкновенный глюк, если от него так сильно ноет под сердцем?
Сашенька
Александр возвращался домой с юга. Стояла еще поздняя осень, но плотный снег уже лег на землю в этой части России. Нудный, до боли знакомый пейзаж за окном: заброшенные поля, бедные избы, деревянные сараи, пучки голых деревьев. Вспоминать об отдыхе не хотелось, да и вспоминать было особенно нечего, главное, что он кончился и впереди работа. Поезд остановился на узловой станции среди одноэтажных домов. Шесть часов вечера, а уже темно. Саша осмотрел местность и тут, на пустом месте, возникло предчувствие приключения: легкое головокружение, волнение, возбуждение. Сначала от скуки, безотчетно, а потом с нарастающим вниманием он начал искать источник беспокойства. Первое отклонение от обычной станции – пустой перрон; не кричали привычные тетки с вареной картошкой, солеными огурцами, местными достопримечательностями флоры и фауны. Второе – вокруг вообще не было движения: в пределах видимости не было ни одного поезда, отцепленного вагона, маневрового паровоза, не слышно ни одного гудка, обычных объявлений по репродуктору, будто все в округе вымерло. Третье – светила полная луна. Окна здания станции были темные, кроме трех крайних, но там, за ними, и угадывалось частое движение и суета; дефилировали силуэты мужчин, женщин, людей с подносами. «Ресторан», – решил он.
– Дайте подмести коридор, стоять будем тридцать минут, смена бригады машинистов, прогуляйтесь, – приказала проводница.
Саша переобулся и в спортивном костюме со вздутыми коленками сошел на асфальт. Свежий ветер с редкими снежинками, отсутствие вагонной качки успокаивали и расслабляли. Пройдя группку попутчиков у дверей вагона, он перешел через рельсы и безотчетно пошел в сторону освещенных окон. К мельканию теней в окнах прибавились шум, выкрики, звон посуды, еще более усиливая контраст с тишиной, стоявшей вокруг. Дверь вокзала открылась, и из нее выскочил сосед по купе – шустрый мужчина с красноватым лицом и наглыми глазами.
– Сашенька, там наливают, – сообщил он, довольно облизывая губы.
Александр не любил, когда его так называли посторонние, но не подал вида, сдержанно улыбнулся, развел руки, сказал: – Везет же людям, – и пошел дальше в темный вечер. На потрескавшемся асфальте стоял человек в дорогом сером костюме. На выступавшем из темноты белом треугольнике чернела бабочка.
– Вы Сашенька, я Измаил, рад вас приветствовать в наших краях, – приятным баритоном сказал он и изысканно поклонился. – Извините, подслушал ваше имя, у нас свадьба, а я на ней шафер. Вы обязаны поздравить молодых, наше общество так соскучилось по красивым, интеллигентным лицам. О, не пугайтесь своего наряда, у нас все запросто, демократично – просим, просим, просим.
«Воланд или турецкий подданный», – определил Александр. Последние слова незнакомца, особенно термин «наряд», чуть насторожили его, но напор, лесть, изысканные манеры, рельефное породистое лицо говорившего на фоне занюханной станции просто убивали. «Развеюсь», – решил он, забыв о своих тревогах. На удивление, в зале было мало народа, человек десять. Во главе стола сидели молодые: девушка в обычном платье и парень в поношенном парадном костюме. Девушка передала ему бокал с шампанским.
– За здоровье молодых, – провозгласил Александр дежурную фразу и выпил.
– А теперь водочки, – воскликнул шафер, держа в правой руке стопку, а в левой маринованный огурец.
Надо или не надо было это пить? Если бы знать последствия… Саша выпил, закусил хрустящим огурцом, раскланялся, сделал три шага в сторону двери и упал в заранее расставленные руки двух молодых людей спортивного вида.
Сознание медленно, толчками возвращалось к нему. Не открывая глаз, в полусне он почувствовал движение, вспомнил поезд, довольно потянулся, но далее холодный ветер в лицо, скрип полозьев и стук копыт вмешались диссонансом в идиллию возвращения домой на поезде, сознание стремительно прояснялось. Саша дернулся и открыл глаза. Полная луна ярко светила среди редких туч, освещая белое поле и две колеи, по которым бодро ехали сани с кучером, лошадью и знакомой невестой, сидящей рядом. Впереди и сзади ехало еще несколько саней. Александр неуклюже сел и часто закрутил головой.
– Сашенька, не волнуйтесь – шепнул мягкий женский голос, – мы едем на карнавал, ваши вещи целы, завтра вы будете в Москве. – Поймите, наш хозяин так любит новых гостей. – Она мягко обняла его за плечи, положила в сани и заботливо накрыла тулупом и проворковала: – Мы почти приехали.
Впереди, на белом, чернел курган, на его макушке вырисовывались фрагменты строений.
– А свадьба? – машинально спросил Саша и тут понял, что его нахально развели. Оценка ситуации показала, что бежать, звать милицию или кричать «На помощь!» посреди чистого поля не имеет смысла. «Эх, прокачусь», – с горечью подумал он, прижался головой к коленкам девушки, единственному знакомому здесь человеку, вспомнил страуса и закрыл глаза.
Через полчаса, когда санный обоз подъехал ближе, стали видны детали ранее сплошного контура. На кургане стоял замок или крепость феодала. В обрамлении недавно посаженых елочек с ракурса у подножья холма он стоял белый как дом снежной королевы. Санки поехали по спирали к вершине, давая оценить шедевр со всех сторон. Чем выше в гору, тем сильнее имидж замка растворялся. Выделялся, скорее всего, романский стиль, но были элементы и других, точнее, стиля не было вообще. Бросалось в глаза большое количество башен. На угловых были балюстрады, еще две небольшие башенки по бокам от главного входа, в глубине угадывались и другие. Узкие готические окна, а справа от входа выступала оранжерея из тонированного черного стекла, как клякса рядом с белым и желтым. На всех башнях крутились флюгеры и шли часы. Со всех четырех сторон на земле, отдельно от строения, на высоте окон дополнительно стояли башенки с часами. – «Маленькие Большие Бены» – окрестил их Александр. Санный поезд разделился; одни повозки поехали к главному входу, другие, в том числе и его, повернули к боковому. Вместе с дамой и охранником по винтовой лестнице он поднялся в круглую комнату в середине угловой башни.
– Сейчас принесут маскарадный костюм, – сказала девушка и вышла. Вошла женщина в белой униформе со свертком.
– Переодевайтесь, – сказал охранник, подойдя к нему поближе. Трясущимися руками Саша развернул сверток, вскрикнул и вскочил. Костюм был женским!
– Давайте другой. Я это не надену, – закричал он и прибавил, для храбрости, несколько нецензурных выражений. Горничная потупилась, охранник без замаха ударил Сашу под дых. Александр согнулся, раскрыл рот и упал на стоявший рядом диван. Правая рука мужчины как бы невзначай легла на выпуклую кобуру у пояса, которую Саша только что заметил.
– Несколько гостей у нас заблудились в лесу, – сказал охранник. – Уходят гулять и пропадают.
И тут с Александром случилась истерика с всхлипыванием, дерганьем ног, бормотанием, с нелитературными междометиями и хаотичным раскачиванием. Решительно оттеснив охранника, возникла знакомая дама.
– Федор! – с негодованием крикнула она охраннику, – как вы смеете бить нашего гостя, выйдите отсюда вон!
– А что он матерится, – обиженно промычал Федор, но поспешно вышел.
«Мой ангел-хранитель», – с благодарностью подумал Александр. Девушка подсела на диван положила руку ему на голову.
– Сашенька, что вы, ей-богу, так расстраиваетесь, на нашем карнавале многие переодеваются в костюмы другого пола, вы всю жизнь были мужчиной, так интересно побыть одну ночь женщиной, совершенно особое состояние, я, например, буду Д’Артаньяном, и у каждого будет маска. У нас красивый дом, есть что посмотреть; оранжерея с орхидеями, лимонами, мандаринами, через час фейерверк, вы такого не видели, великолепный стол на всю ночь, катание на тройках. Хватит упрямиться, преображайтесь, садитесь к зеркалу, я вас представлю хозяину.
Сгорбившись и тяжело вздохнув, Саша сел на стул перед зеркалом и зажмурился. К нему быстро подошли две гримерши, и началось действо. Снимали одежду, одевали другую, что-то прикладывали к груди, затягивали корсет, надели парик, мазали лицо, подкрашивали брови, в самом конце надели туфли.
– Открывайте глаза, теперь вы настоящая Сашенька, – сказал знакомый голос. Просидев с закрытыми глазами еще полминуты, он сконцентрировался, глубоко вздохнул и отважно взглянул в зеркало. На него смотрела миловидная женщина, одетая по моде конца девятнадцатого века, не совсем молодая, но все же симпатичная. Плечи были оголены, накладные груди еле обозначались, голубое платье чуть открывало туфли на каблуке, на голове белый напудренный парик. В ложбинке на груди висел большой розовый кулон. Когда Саша понял, что это он, когда оценил, что женщина в зеркале не такая уж уродина, а даже наоборот – ничего себе, он осмотрелся по сторонам и спросил:
– А где маска?
– Сначала пройдитесь, – сказала будущая Д’Артаньян.
Он встал со стула, туфли были в пору, в дополнение тело выпрямилось, плечи расправились, а кулон заиграл, переливаясь красным и белым. Двигаться было тяжело, как на ходулях. Александр прошелся по комнате, сначала держась за предметы, углы, плечи, руки, потом нашел точку равновесия и прошел более свободно. Ему дали на плечи накидку и несколько масок на палочке.
– А на резинках нет? – спросил он.
– Остались только такие, – промямлила горничная.
Он вздохнул, выбрал черную, в виде летучей мыши – она закрывала большую площадь лица, чем другие, приложил к глазам, посмотрел в зеркало, результатом остался доволен.
Медленно, почти не оступаясь, он в сопровождении своего ангела-хранителя шел по дому; по бесконечным лестницам, то вверх, то вниз, по кривым коридорам, по анфиладам комнат. Лестницы поворачивались так, что Александр потерял ориентировку во всех трех координатах: верха и низа, севера и юга, востока и запада. Маленькие, круглые, высокие с куполом комнаты, гобелены под старину, высокие зеркала, аляповатая позолота, тяжелые портьеры, стулья с бархатными сиденьями на витых ножках. Толстые стены иногда переходили в современный ламинат, впрочем, сочетавшийся с интерьером. Они были довольно безвкусно украшены алебардами, кривыми саблями, дуэльными пистолетами, старыми гравюрами, черно-белыми фотографиями начала двадцатого века, с вензелями и фамилией фотографа. Под руку, как подруги, две дамы шли по толстым коврам, скрывающим шум шагов, по протертым каменным плитам на нижних этажах, явно оставленным от старого здания. По ним Сашины каблуки стучали, выбивая эхо, которое не могли погасить ни портьеры, ни мягкая мебель, ни ковры на стенах. В нижних галереях обнаружились старинные портреты маслом каких-то нерусских, непохожих друг на друга, но в костюмах одной эпохи. «Здесь могут быть подземные ходы, скрытые двери и потайные комнаты», – начал фантазировать Александр. Лестницы на самый верх вели в спальни, туда мало кто входил, и он отказался их смотреть на своих высоких каблуках. Весь антураж создавал впечатление роскоши и средневекового колорита. Навстречу попадались люди в костюмах эпохи; фраки, визитки, сюртуки, белые жилетки, стоячие воротнички. Сашу больше заинтересовала одежда женщин; бальные платья без рукавов, шлейфы, лифы, накидки, перчатки, веера, боа из меха и перьев, черные чулки дополняли туалет. В большинстве случаев настоящий пол гостей определить было сложно, но были и исключения. Он увидел мужчину, ехавшего на его поезде в соседнем вагоне. Попутчик, чтобы не упасть, неуклюже расставил ноги в шнурованных туфлях и с испугом озирался по сторонам. Он стоял – пожилой, с морщинами, которые невозможно замазать гримом, в нелепом бальном платье, парик съехал набок. «Я выгляжу лучше», – подумал Саша, оторвал глаза от пола, приложил маску к лицу, напрягся и мелкими шагами, с гордо поднятой головой прошел мимо. В оранжерее то ли щебетали птицы, спрятавшиеся среди низкорослых мандариновых деревьев, то ли крутили запись. Цветы радовали глаз, обольщали красотой, некоторые пахли резкими экзотическими запахами. В центре бил маленький фонтан, а дальше, за стеклами, светила луна, освещая до горизонта белую равнину с черными вкраплениями рощ. Где-то с другой стороны на перекрестке железнодорожных путей беззаботно спал уездный город. В траве, под мандариновым деревом с еще зелеными плодами, валялась пара окурков и недопитая бутылка коньяка.
Они вошли в трапезную на первом этаже. У дверей стоял Измаил во фраке и небрежными движениями руководил взводом официантов.
– А, Сашенька, – у него была добрая улыбка, – поужинайте, оцените кухню, выпейте шампанского, оно из провинции Шампань.
– А водки не нальете? – ядовито спросил Саша.
«Турецкий подданный» потупился, приложил руки к груди, задергал ногами, склонил голову, присел – всем своим видом выражая раскаяние, смирение, извинение. Саша взял руками подол, сделал книксен, мило склонив голову, независимо прошел мимо, потом покраснел и с удивлением признался: «Ничего себе, наверное, в прошлой жизни я действительно был женщиной!»
Посередине комнаты горел камин, трещали дрова, рядом на решетке была сложена небольшая поленница. Камин секторами окружал стол, заставленный разными блюдами и бутылками с иностранными этикетками. Не обращая внимания на снующих гостей в карнавальных костюмах, сгорбившись, в тени, сидел человек в потертом мешковатом пиджаке, на руках угадывались сведенные наколки. Перед ним стояла недопитая бутылка дешевой водки. Мужчина, выглядевший как недобитый кулак со склонностью к уголовному миру, поднял совершенно трезвые глаза на Сашу и спросил:
– Ехал в Москву, кореш? – Голос его оказался очень тихим, хрипловатым, расслабленным, но в нем угадывалась властность и сила хозяина. Саше пришлось напрячь слух, чтобы его услышать.
– Да, послезавтра на работу, – ответил Саша.
– Извини за пиратство, – прошептал хозяин, – но никакие уговоры тебя не сняли бы с поезда, завтра с задержкой в четыре часа будешь в столице… Тебе у меня нравится? – после паузы спросил он.
– А зачем женское платье? – вопросом на вопрос ответил Саша.
– Да так прикольнее, – хозяин налил себе и Саше по рюмке водки, сказал: «За встречу», выпил, с хрустом закусил половинкой соленого огурца.
– Дом у тебя тоже прикольный, – ответил Александр, выпил и задал новый вопрос. – В Бразилии карнавал идет две недели, а у нас сколько?
– А в России по настроению, – ответил раздраженно олигарх. – Тебя зовут Сашенька, а меня Ванечка, иди в двенадцать на улицу – фейерверк начнется, – денег вбухано немеряно, лучший вид будет с парадного крыльца, – без пауз выдал он и отвернулся. Глаза его опять стали полны грусти и смотрели в пустоту.
Александр понял, что аудиенция окончена, сел на свободное место за стол и начал есть блюда, стоявшие на расстоянии руки. Девушка-Д’Артаньян незаметно испарилась еще у дверей трапезной. Я не могу описывать то, что он ел, не хватает знаний кулинарии, да и сам Александр не знал названий тех блюд, которые вкушал. Сначала попалось что-то ракообразное, когда Александр проколол вареное тело вилкой, морское диво в ответ выстрелило соком, оставив пятно на рукаве платья. Саша перешел к салату, у которого не определил ни одного компонента. Далее он проглотил приличный кусок запеченного парного мяса, кажется поросенка. Всю еду он запивал шампанским, действительно очень вкусным. Когда все башенные часы начали отбивать куранты, гости, слуги, хозяева, не разбирая рангов и различий, отчаянно толкаясь, побежали к главному выходу. Слугам было удобнее, так как они были проще одеты и привычно ориентировались в лабиринте лестниц и коридоров.
Началось с обычных ракет, с шипением выскакивающих из-под деревьев, далее высоко в небе вспыхивали цветы – последовательно, всего спектра. Они с мерцанием опускались вниз и пропадали, не достигая земли, по периметру поляны мерцали бенгальские огни. Над ближайшей березовой рощей вспыхнуло и растворилось слово «Иван». Далее сделало кольцо вокруг сторожевых башен НЛО. В воздухе ненадолго возникали деревья, птицы, слова, кометы. На небе сияли разноцветные абстракции, вроде картин Кандинского. Толпа, как многоголовый монстр, завороженно вертела десятками голов то в одну, то в другую сторону, и тут в бойнице ближней башни, под самым куполом выстрелила пушка и ядро, просвистев над головами гостей, воткнулось в землю метрах в десяти от крайнего зрителя. В толпу полетели конфетти и шоколадные конфеты. Рядом, из другой башни, также раздался выстрел, разорвавшийся над головами шрапнелью. Далее выстрелы и взрывы перешли в канонаду. Явственно запахло порохом и серой. Под дождем из мягких игрушек, конфетти, шоколадных конфет, больно хлеставших по оголенным местам, толпа зрителей распалась на фрагменты. Вот как раз тут можно было всех разделить по гендерному признаку. Женщины визжали и хаотично бегали по кругу от разрывов, у троих началась истерика. Большинство мужчин бросилось к естественным укрытиям; кустам, елочкам, мелким сугробам, козырькам башен, двое попытались успокоить женский пол. Некоторые мужчины сразу упали на землю и поползли по-пластунски в сторону. Двери, из которых все вышли на улицу, естественно, были заперты. «Жил-был Анри Четвертый, он славный был король», – пели динамики. Саша лежал под маленькой елкой и внимательно осматривал поле боя. Голые плечи горели как от ожога, накидка не спасала, сзади, под платье, дул холодный ветер. Предыдущие испытания закалили и приготовили его ко всему, появился азарт, как у партизана, увидевшего обоз французов с трофеями. При одной вспышке на балюстраде угловой башни ему померещилась неподвижная фигура, облокотившаяся на перила, при следующей вспышке там уже никого не было. Песня закончилась, со скрипом отворились парадные двери, вышла бригада санитаров для оказания первой помощи раненым. Саше, в целях анестезии, под его елкой, достался бокал шампанского, которое он закусил валявшейся рядом конфетой.
Карнавал катился дальше без целей и распорядка. Некоторые пошли кататься на тройках и на краю поля что-то горланили под гармошку. Часть гостей разбилась на группки, кто-то заснул в проходе или за столом, этих относили вверх, в спальни. Основная масса пила: в оранжерее, трапезной, гостиной, на морозе, в коридоре. Саша обозначил себя как «праздношатающийся» и слонялся по дому в поисках приключений. Шампанское и водка совместными усилиями вогнали его в веселое настроение, к нему никто не приставал, за ним никто не следил. Наконец-то он почувствовал себя совершенно раскованно. Самое неудобное было то, что он стал путать свой пол. Взгляды мужчин и женщин одинаково волновали. Вначале Александр смущался, далее, когда внимание со стороны усилилось, начал его оценивать, потом желать. Случайное прикосновение к телу возбуждало и порождало хаотичные фантазии на тему любви. Голова шла кругом, то женское, то мужское, то в жар, то в холод. Внутри клокотали, булькали эмоции, подогреваемые шампанским. Мысли скакали, вдруг возникали совершенно идиотские или пропадали совсем. Он разглядывал себя как бы со стороны, понимая, что все это вздор и глупости, но одновременно Эго его росло, и ничего поделать с этим было невозможно.
– Компьютер у вас есть? – спросил Саша пробегающего мимо слугу. Тот показал рукой вниз, в сторону подвала или погреба и побежал дальше. Спросив еще пару местных, Александр нашел в полуподвальном помещении спрятанный за розовой драпировкой современный комп с интернетом. Он вошел в Яндекс, нашел карту узловой станции и прилегающих к ней окрестностей. Дом на кургане назывался «Хутор Лысая гора», а рядом проходило шоссе. Санный путь был проложен чуть в стороне, конечно, на карте не обозначен. Очевидно, это была тайная тропа, в обход шоссе и дорожной полиции. Он просмотрел расписание поездов на Москву, действительно, в девять часов мимо проходил экспресс, посмотрел погоду на ближайшие дни, ожидалась оттепель, потом авторизовался в Скайпе. Он сфотографировал себя, изменил аватар, изменил фамилию, в конце своей прибавив букву «а». Так поздно в сети находился один далеко не лучший знакомый по кличке «Танкист». Кличка подтверждала, что он сутками ведет танковые сражения, а свободные деньги тратит на покупку современных виртуальных танков. Когда на мониторе возникло злое лицо – зачем, гад, отвлекаешь? – Саша, закрыв лицо маской, прошептал нежным голоском:
– Мужчина, не так развлекаетесь, – потом грубым добавил: – Писец твоему танку, пока со мной разговариваешь. – Три секунды любовался мешками под глазами на лице Танкиста.
Он нажал мышкой красную трубку в мониторе и довольный пошел куда глаза глядят. Попался туалет, слава богу, он был одноместным, и вопрос, в мужскую или в женскую кабину идти, отпадал. Как проводить дальше время, было не ясно. Маскарад стремительно превращался в ординарную пьянку, разрушая российской удалью так заботливо созданный средневековый колорит. В углах стали попадаться брошенные парики, трости, веера, маски, фрагменты одежды. Несколько человек пели пьяными голосами «Ой мороз, мороз», за столом в гостиной человек шесть играли в «Дурака», четверо со стуком забивали козла, двое решили стреляться и, вяло матерясь, отдирали от стены дуэльные пистолеты. Рядом с этими группами неизменно стояли полупустые бутылки и стаканы. Сашенькой овладела скука, возбуждение прошло, сменилось усталостью, захотелось спать, компании алкашей его не интересовали, слоняться по дому надоело.
Разглядывая очередную экзотическую фотографию, Саша увидел рядом с собой мужчину, вспомнил, что некоторое время они идут вместе. Так в супермаркете покупатели ходят вокруг друг друга, фиксируют соседа краем глаза, чтобы не столкнуться, а все внимание направляют на товар. Попутчик занимался тем же, что и Саша – разглядывал стены и скучал. Александр посмотрел внимательнее на него и понял, что это она. У девушки были приклеенные усы, одета в черный фрак, в руке трость с инкрустированной ручкой, на шее болталась маска, как у мистера Икса. Вдвоем они прошли несколько комнат, заглянули в оранжерею. Там сильно прибавилось окурков и пустых бутылок, птицы уже не пели. У горевшего камина в трапезной сидел Иван и беседовал с незнакомым не наряженным человеком, Измаил руководил расстановкой десерта.
Он и она расходились по разным коридорам, потом встречались в разных местах, на разных этажах. Так продолжалось некоторое время, пока Саша не остался один, но чувство единения двух праздношатающихся осталось. Знакомиться он испугался, не решив, кто должен заговорить первым и кто за кем должен ухаживать. Сашенька увидел официанта, несшего поднос со стопками водки. Тут же на подносе лежали бутерброды с икрой. Он взял стопку, выпил, потянулся за бутербродом, но так потом и не вспомнил, закусил он или нет.
Плавное покачивание, метроном рельсов, звяканье ложки в стакане с чаем.
– Вязьма, – услышал он голос проводницы. – Стоянка пять минут. Саша в трусах и тельнике лежал на нижней полке, под одеялом, спортивный костюм был на перекладине, одежда и теплая куртка висели на крючках в изголовье. Он заглянул под сиденье, там были его ботинки и чемодан. Саша открыл чемодан, кажется, все вещи и деньги были на месте, даже зубная щетка и мыло, которые лежали вчера на полочке отдельно. «Да, сладкий сон мне приснился», – решил он. Но потом в боковом кармане куртки, рядом с кошельком, был обнаружен конверт с экслибрисом, в котором присутствовала буква «И» на фоне картинки кургана и домика с башней. Внизу типографским способом, с вензелями, впечатана надпись: «Счастливого пути». В конверте лежала купюра в сто долларов. Тут он понял, что сон был правдой, то есть был прожит кусок жизни, не уступающий самым смелым и болезненным фантазиям, приходящим во сне.
За окном мелькали заснеженные поля, станции, трубы, грязные каменные короба, элеваторы, водонапорные башни, голые деревья. Саша бездумно смотрел на них, вспоминая ночные приключения, фрагменты чудного дома, часы, розвальни с кучером, свое синее платье, розовый кулон, тепло камина. Его охватила тоска по приключению, которое закончено, по пропавшим утонченным женским чувствам, которые открыла одежда, и по той женщине, товарищу по приключению, с которой так нелепо расстался. Вспомнилось хождение по лестницам с сознанием, не имеющим пола, чувственность оценивающих взглядов своих и чужих, скрытых масками. Закрывшись маской, можно позволить себе гораздо больше фантазий. Он с грустью думал, что сказка кончилась и второй серии не будет. Саша вышел на перрон Белорусского вокзала и покатил чемодан к выходу. Пройдя два вагона, он увидел девушку, с трудом пытавшуюся вытолкнуть большой чемодан из вагона. Без колебаний Саша подбежал к двери, поставил ее чемодан на асфальт, подал руку хозяйке, помогая спуститься.
– Александр, – представился он и улыбнулся.
– Александра, – сказала она, улыбнулась, потом добавила: – Нам повезло, у девяноста девяти процентов жителей Земли такого приключения никогда не будет.
Саша взял чемоданы за ручки и покатил к дверям вокзала. Колесики синхронно стучали по трещинкам в асфальте, как вагоны по рельсам. Двое шли, каждый думая о своем, связанные общим воспоминанием, переживанием, победами и поражениями прошедшей ночи, которые никогда больше не повторятся.
Как завоевать расположение женщин
Если у вас есть деньги или так называемый «Черный бумер», то вам незачем читать это пособие. Но если вы, к примеру, инженер, врач или учитель – читайте.
Ординарное лицо, перекошенная фигура и дешевая одежда вас выдаст, даже если штаны заправлены в высокие сапоги, а выше пояса все раздуто как биллиардный шар.
Купите в магазине станок для так называемой безопасной бритвы, лезвие фирмы «Жиллет» и побрейтесь. Вы брились так в юности или, может быть, слышали о такой бритве от ваших пап или дедушек, и поэтому два, три шрама и чуть стесанный подбородок после бритья вам обеспечены.
Когда вы идете, выбритый, по улице, женщины по привычке окидывают вас безразлично-пренебрежительным взглядом и вдруг на секунду замирают. Взгляд их возвращается к осмотру вашего лица, глаза загораются каким-то внутренним огнем, а на лице появляется понимающе-мечтательное выражение. Это самый благоприятный момент для завязывания знакомства.
Конечно, порядочная женщина не спросит, откуда у вас эти шрамы и чуть стесанный подбородок, но на всякий случай, если спросит, говорите что-нибудь загадочно-нейтральное. Например: «Упал с дуба». Далее действуйте по интуиции, согласно вашим убеждениям и моральным качествам, будьте немногословны, чуть небрежны и рассеянны. Внимательно и строго смотрите на нее, скупо, краем губ пару раз улыбнитесь.
Встречаться или не встречаться с этой дамой – вам решать. А у меня высокие моральные качества и я всегда в таких обстоятельствах со злорадно-безразличным видом прохожу мимо.
Не читайте это пособие моей жене. На всякий случай.
Виталий Лозович г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Родился и жил я в Воркуте. Более тридцати лет проработал кино– и телеоператором в Воркуте. Немного работал в Салехарде, в ГТРК «Ямал». Летал часто в Арктику, от Карских Ворот на острове Вайгач до мыса Челюскин на Таймыре. Снимал пограничников на Вайгаче, на Ямале, на Таймыре, а также геологов, газовиков, оленеводов Арктики.
Публиковался в журнале «Север» (Петрозаводск), некоторое время был в нем членом редколлегии, публикуюсь в журнале «Автограф» (Донецк, Украина), в журнале «Дальний Восток» (Хабаровск), в журнале «Союз писателей» (Новокузнецк), в журнале «Аврора» (Санкт-Петербург). Опубликовал два романа: «Теща для всех» (издательство «В.А. Стрелецкий», 2010 год), «Опрокинутый мир» (издательство «Книга по требованию», 2012 год). В издательстве «Аничков мост» должен выйти первый роман трилогии авантюрных приключений «Под звездой Сердце Карла». В 2015 году вышел сборник приключений «Убойный снег». По итогам 2013 года повесть «Убойный снег» стала лучшей повестью в журнале «Дальний Восток».
Прозу пишу в разных жанрах.
Сейчас живу в Салехарде. Член Российского Межрегионального союза писателей. Член Союза журналистов России.
© Лозович В., 2015
Голубой лед Хальмер-То, или Рыжий волк
Хальмер (ненецкий) – покойник, умерший человек; То (ненец.) – озеро. Хальмер-То – озеро мертвых.
Уже давно замечено, что снег в тундре ложится не везде ровно. В одном месте будет наметено за зиму три метра снега, в другом так всю зиму земля и пролежит незаметенная, что камни на морозе пятидесятиградусном потрескаются. Такие места в народе называют продувными. Где находится продувное место, а где наоборот – узнать можно только в конце или хотя бы в середине зимы. К примеру, поставите вы палатку в пургу на берегу реки или озера, чтобы пургу эту переждать, вас снегом укроет по самую крышу, а берег напротив так и останется чистым и незаметенным. Если снег не ложится плотно на лед озера или реки, то во многих местах, благодаря чистой воде, лед без снега будет на ярком солнце отдавать небесным цветом, лазурью.
Полярные волки обычно имеют с дворовыми собаками лишь одни отношения – задрать и съесть. Это когда год голодный. Но вот у Пашки Стрельнова жила собака, а точнее полуволчица, которая получилась неизвестно как. Жила-была у Пашки во дворе огромная рыжая псина дамского пола. Жила да жила, как вдруг в один осенний день замотала мордой ночью в ошейнике, задергалась вся, что будку сдвинула десятипудовую, да и выскочила прочь… Кто-то говорил, что этой ночью видел, как эта рыжая псина бежала по поселку рядом… с волком. Причем не просто бежала, а заигрывала с ним, так как может только сука последняя и заигрывать с кобелем. В народе говорят, такое происходит тогда, когда волчья порода испытывает очень большие трудности в потомстве, когда волков повыбивают и в округе остаются лишь одиночки.
Как там было на самом деле, – но месяца через три собака вернулась и очень быстро родила щенка. Когда Пашка Стрельнов щенка увидел, то с губ сорвалось лишь одно слово:
– Волк… мать твою, волк!
Волк и в самом деле был волк, точнее волчица – серая, зубатая, кусачая, морда узкая, глаза умные, хвост паскудный, смотреть тошно.
Но росла волчица очень ласковой, верной, можно даже сказать приставучей, собакой. Без Пашки никуда не ходила, жила на крыльце, на будку матери смотрела с презрением. Однажды, когда «девочке» был уже год и по волчьим законам это был переярок, Пашка попытался одеть на нее ошейник с поводком, чтобы сходить в районный центр… Маша – так назвали щенка – дважды куснула поводок и тот лопнул на две части. Маша посмотрела на хозяина ласково и полезла мордой между колен хозяина ласкаться, чтоб погладил. Пашка погладил, посадил Машу в свою старую «Ниву», погрозил пальцем и сказал:
– Чтоб мне ни звука!
Сказал просто так, Маша лаять не умела. Что сделаешь – волчья порода. Мать Машки опять исчезла и больше так и не появилась в поселке. Говорили, что где-то за сотни верст южнее кто-то вроде как видел в волчьей стае, на которую была объявлена облава, рыжую волчицу, больше похожую на собаку.
Гордился Пашка Стрельнов своей «собакой» неимоверно, любил безмерно, нигде никогда не расставался. Если надо было уехать куда, запирал Машу дома, жене наказывал, чтоб следила как за ребенком. Кстати, маленького пятилетнего сына Сашку волчица Маша охраняла как своего щенка, ходила за ним по двору, не упуская из вида ни на секунду.
Шестьдесят пятая параллель – это так называемое Приполярье. Холодина зимой зверская, пурги жуткие, снега в три метра наметает, еще и не тундра настоящая, но уже и не тайга. Лесотундра. Жители здесь держат коров, лошадей, свиней, овец, кур, уток и так далее. Если, конечно, загон хороший, утепленный. А потому те самые полярные волки – здесь явление нередкое. Овечка – еда получше и поспокойнее, нежели гоняться по тундре за стадом рогатых северных оленей.
Полуволчица Машка прожила у Стрельновых до февраля своего второго года рождения, после чего бесследно исчезла. Пашка погоревал, погоревал, что лишился любимицы, да и успокоился, поминая, что Машка все же полуволчица. Потом, к лету, Машка вдруг вернулась, да не просто вернулась, а с двумя щенками, один был абсолютно серым, как мать, а второй имел на шее и груди яркую подпалину. Пашка не удивился и не забеспокоился. Собаки все же в них больше, решил он, раз домой тянет. Прожила Машка до самой осени вместе со своими щенками. Питалась, как обычная собака, щенков приучала к той же пище. Щенки не тявкали, воду не лакали, а тянули, как волки, зубы свои показывали всему двору ежедневно, так ни с кем и не сдружившись, ни с сыном Пашки, ни с котом, с которым Машка игралась с самого детства, да и сейчас ласково обходилась, виляя хвостом, когда тот выходил во двор. Зато оба щенка регулярно заходили в теплый сарай, который сам Стрельнов называл загоном и где у него держались зимой овцы, гуси, куры и две свиньи, – заходили, нюхали осторожно воздух и при первой же опасности, когда, к примеру, гусь крыльями хлопнет или свинья хрюкнет, тут же вздрагивали и убегали прочь к матери под бок.
Счастье продолжалось недолго, глубокой осенью, уже по первому снегу, возле поселка слышали волчий вой, после чего той же ночью пропала и Машка, и ее подросшие щенки.
Пашка подумал, подумал – а следует ли вообще связываться с собаками, у которых волчья кровь присутствует, да и завел себе обычную дворнягу с небольшой охотничьей кровинкой. Собака была обычная, лишь уши висели как у сеттера да хвост был похож на метелку. Пашка брал его на охоту, оказалось, что пес неплохо идет на утку, с удовольствием прыгая в озера и болотца за подбитой дичью.
Прошло три года. Жизнь текла обычно, буднично. Днем Пашка работал в сельском хозяйстве на своем бульдозере, в выходные мотался на старенькой «Ниве» по лесотундре за глухарями да гусями. Хоть и жил зажиточно с семьей, но охота была для Пашки чем-то вроде отдушины от жизненных тягот. Может, потому что водки не пил?
Зимой третьего года вдруг опять зачастили волки. Райцентр объявил большой приз за самое большое количество отстрелянных хищников. Все охотники поселка, в том числе и Пашка Стрельнов, выезжали пару раз на облавы и взяли приличное количество матерых да их щенков. Поселок зажил мирно и спокойно. По ночам стало тихо, собаки перестали надрываться от лая, всякая травоядная живность – орать в своих загонах да метаться по сараям в поисках спасения от волчьих зубов.
Наступил март. Ночи стали короче, дни светлее. Во многих местах стали появляться проталины, первые проталины, которые еще занесет снегом, заметет весенними пургами. Жизнь шла своим чередом, разве что охота была закрыта во всем районе. Охотники теперь ждали мая, когда пойдут утка, гуси и можно будет поохотиться на селезня.
В марте в загоне Пашки пропала овца. Собака, что была у него и неплохо справлялась с охотничьей службой, в охранники не годилась никак. Утром ее нашли полуживую – нетронутую, но полуживую от страха. Она забилась к себе в будку так далеко, что даже не вышла к утренней миске с едой. Так и просидела в будке весь день. В этот день Пашка не досчитался одной овцы. Волки.
Первое, что делает в таком положении хозяин, ставит, к примеру, капканы. Пашка и поставил капканы. Походил, посмотрел следы волчьи да ничего в мешанине дворовой различить не смог и просто поставил несколько штук. Поставил там, где хищники или хищник могли пробраться в загон или где могли перемахнуть его двухметровый забор вокруг дома. Капканы простояли три дня. Три дня Пашка спал тревожным сном, вскакивая при каждом шорохе снаружи дома. Три дня прошло, и на четвертый пропала еще одна овца… Капканы остались нетронутыми. Собака сидела в будке прочно, опять весь день из нее не выходя, то ли понимая, что не уследила, то ли трясясь от страха – ушли волки или не ушли?
Все утро Пашка потратил на то, чтобы понять – сколько волков приходило в его двор. Спрашивал у соседей – были ли у них сегодняшней ночью гости? Гостей, оказалось, ни у кого не было. А три дня назад? И три дня назад все было тихо. Как извели прошлый раз волков, так и, слава богу, все спокойно. Стрельнов задумался, что же это получается – волки были только у него? Вроде не на краю поселка живет, чтобы хищники по этой причине выбрали его двор? Потом осмотрел калитку в заборе, что была, как это обычно, ниже самого заграждения, ничего на ней не нашел и сделал над ней высокую надстройку в уровень забора.
Два дня Пашка жил спокойно, на третий начал караулить. Снарядил патроны крупной картечью, сел в сенях дома и стал ждать. Пару дней никого не было, и он уже хотел бросить это занятие, глупо сидеть перед дверью возле крошечного окошка да просматривать свой двор в ночи весенней на предмет ни кем не виденных хищников. А может, это и не волки совсем? А кто? Кто может унести такое животное, как овца, да еще так сильно напугать собаку? Да сделать все так тихо, аккуратно, что соседи ничего не слышали? Только волки. И Пашка решил подежурить еще пару ночей. Ему повезло, через сутки во дворе вначале глухо зарычала собака, причем она не гавкала, а просто рычала, да так, как может рычать напуганное животное, не защищая двор и территорию, а лишь пытаясь защитить себя. Пашка стряхнул с себя сонное состояние, проверил оружие, осторожно выглянул во двор через окошко, никого не увидел. Тогда двери тихонько открыл… Двери все равно скрипнули. Вот же зараза! Ну, хотел же смазать еще прошлый раз!.. Двери скрипнули, Пашка тут же щелкнул выключателем, и двор озарился светом хорошей киловаттной лампы. Пашка вылетел из дома, оглянулся – следы смотреть. У забора где-нибудь?.. Да глупость, какие следы, какой забор, надо срочно в загон! В загон!.. Эта тварь уже точно там хозяйничает!
Стрельнов рванулся к загону. Пролезть в загон, в сущности, можно было лишь со стороны входа, здесь дверь была не очень хорошо подогнана и между ней и землей был широкий лаз. Но лаз этот зимой всегда очень прочно заметался снегом, дверца отворялась внутрь, ничего никому не мешало. И сейчас там, где можно было подкопаться волку, было совершенно чисто, нетронуто, снег белый, мартовский, чуть севший.
Пашка двинул ногой по засову, толкнул ногой двери, ружье просто провалилось стволами внутрь загона… Тихо. В загоне лишь гоготали гуси и кудахтали перепуганные курицы, овцы сбились в кучу, стояли глупо и беспомощно. Пашка включил свет… Влево, вправо… И здесь взору его представилась картина, от которой он даже оторопел. Прямо перед ним, там, где сидели гуси, стояла огромная собака серой масти с рыжей шеей и рыжей грудью… В пасти у нее уже висел задавленный гусь, у которого еще чуть-чуть трепыхались крылья. Похоже, на овцу просто не успел. Собака была бы собакой, но когда глаза их с Пашкой встретились, Пашка сразу понял – волк! И не просто волк, это же тот… это же… щенок Машки! Тот самый рыжий!.. И подпалины на шее и груди – один в один! Все в детстве загон этот обнюхивал, как запас себе на жизнь делал! Ах, скотина! Гнев настолько охватил Пашку с такой силой, что он даже про ружье забыл, хотел даже за вилы от злости схватиться, так – по-крестьянски.
Волк с гусем в зубах легко перемахнул перегородку, отделявшую птицу, тут же в два прыжка подлетел к Пашке и вдруг, прыгнув ему прямо в лицо, повалил лапами на землю. Пашка быстро перевернулся, ружье пока поднимал, увидел, как рыжий волк с легкостью кошки, что запрыгивает на табуретку, перемахнул двухметровый забор и ушел восвояси.
– Сволочь! – бросил Пашка ему на прощание, наконец поднялся, ружье бесполезное подобрал и пошел домой.
Дома долго сидел в кухне, смотрел на стволы ружья, думал о том, как его ловко провели, и ругался тихонько, стараясь своих не разбудить.
Утром супруга Наталья спросила, как дела у сторожа-Пашки. Спросила мило так, с легким женским смешком в голосе, как бывает разговаривают с мужьями супруги, когда им весело и смешно, но мужа обидеть не хотят.
– Представляешь, – серьезно ответил Пашка за завтраком, – это тот… волк…
– Какой тот? – уже испуганно переспросила она.
– Тот щенок Машки… с рыжей грудью. Он… он гуся сегодня утащил, скоро вернется, гусь ему что – на пару дней не хватит.
– С чего ты решил, что он к нам вернется? Может он вон… к соседям вернется?
– Не-ет, – Пашка даже улыбнулся злорадно, – этот к нам вернется… этот гад…. он помнит все… детство свое. Все ходил здесь обнюхивал, щенок поганый! Все запомнил. Зачем ему соседи какие-то неизвестные? Он тут все знает, где прыгнуть, где пройти… Надо сегодня загон сзаду глянуть, там наверняка подкоп есть его… зарыть, что ли.
– Бетоном залей, – посоветовала супруга.
– Прокопает в другом месте, бетон – это чушь. Здесь иначе надо.
– Как иначе? – снисходительно спросила жена.
– Убить, – сказал Пашка и вышел из-за стола.
– Убить, – недовольно, в спину сказала жена.
– А что еще? – обернулся Пашка, – кормить его каждую неделю овцами нашими?
– Ну не знаю… как-то, – Наталья растерялась, – просто… мы его щенком же кормили, кормили…
– А он и отплатил нам! Понял, что здесь ему халява! Ну да я покажу ему халяву!
– Может, в стаю уйдет? – уже в спину спросила супруга.
Пашка остановился, повернулся на Наталью, лицо его от удивления стало вытягиваться.
– В стаю?.. А и вправду?.. – оторопел он. – Почему в стаю не ушел?.. А может, наоборот? – он даже голову склонил набок от пришедшей мысли, – Выгнали из стаи, он и повадился?
С этого утра Пашка задумался: как выманить на себя зверя и застрелить его? Даже подумал вначале просто каждую ночь спать в загоне. С ружьем в обнимку вместо жены. Как появится зверь, так лупить его, ни на кого не смотря, даже если какую овцу ранит или убьет, так это дешевле, нежели опять отдать ее этому упырю. Но спать с ружьем в загоне не стал. Вначале решил походить, благо была суббота, по знакомым старым охотникам, поспрашивать, как бороться со зверем. Ничего особенного ему и не сказали, охотники сами боролись с волками теми же методами, какими пытался бороться Пашка, – капканы ставили, сторожили в своих загонах, иногда выслеживали зверя по оставленным следам, но это приносило мало пользы. Волк мог пройти по лесотундре, в поле или самом лесу за день сотню километров, здесь надо хотя бы мотосани иметь, какой-нибудь «Буран», а у Пашки кроме старенькой «Нивы» ничего не было. Помотался Стрельнов по охотникам, посидел дома, обдумывая да на капканы вновь поглядывая, да и отправился в лес, далеко в лес на юг, где сейчас стояли стойбищем ненцы. Ненцы так и назывались – лесные. Оленей они пасли в лесотундре, заходя глубоко на юг в суровые зимы, о волках, конечно, знали много больше, нежели кто другой. Сейчас ненцы стояли совсем рядом с тракторной дорогой в лесу, потому подъехать к ним было просто.
В стойбище он знал пару человек, встречались на рыбалке на озерах не раз, помогал им сети тянуть, потому обратился к ним за помощью. Парни выслушали его, привели какого-то старого деда, что Пашку удивило – чисто выбритого. Дед по-русски не говорил совсем, приходилось переводить. Услышав, что хочет «белый» человек, старый ненец улыбнулся, сказал что-то на своем языке, Пашке перевели:
– Говорит, что просто так волка не возьмешь, выследить не сможешь, умный зверь… самый умный зверь. К нам не ходит, давно не ходит. А что до рыжего волка, так видели его наши мальчишки прошлой зимой на озере… За лесом лежит озеро Хальмер-То, но ходить туда не надо. Он там прячется, значит, знает что-то. Озеро плохое, поганое, вода идет как в реке, промоин много… Жди его, когда он с озера пойдет в поселок. Там жди. На озеро не ходи, нельзя тебе туда.
Сказав такую речь, старый дед удалился. Ненцы, что переводили, кивнули ему и тоже сказали:
– Не ходи, Паша, на Хальмер, плохое озеро, поганое, лед голубой, значит, вода рядом… промоин много…
– Рассказывай, – усмехнулся Паша, – я вон с друзьями на неделе на Башкиных озерах рыбачил, так лед там тоже голубой, а толщина знаешь?.. Полтора метра! Едва коловоротом пробурили лунку!
С этим и уехал. Возвращался домой немного в расстроенных чувствах, ничего же не узнал существенного. Что с того, что мальчишки-ненцы видели рыжего волка на Хальмер-То? Прошлой зимой этот рыжий на Хальмер-То бичевал, а сейчас, может, где-нибудь под самим райцентром лежит себе под корягой да гуся его переваривает, на оторванные бошки его овец поглядывает.
Однако тут же съездил домой, взял пару капканов, приманку, поехал на Хальмер-То. Остановиться пришлось метров за триста. Прошел пешком по крепкому насту почти до берега озера, вбил железные колья в глубокий снег и привязал к ним капканы. Правда, говорят, что волк не сидит в капкане, отгрызает себе лапу… ну да посмотрим.
Дальше Пашка поступил совсем уже разумно – он пошел в местную библиотеку, что размещалась в школе, и попросил что-нибудь почитать о волках. Ему дали книжку, которая так и называлась – «Волк», написал ее Павлов, давно написал, еще в восьмидесятых годах прошлого столетия, охотовед, биолог из Кирова. Пашка столько узнал интересного и нового об этих хищниках, что с огромным уважением вдруг вспомнил старого ненца и его слова – умный зверь, самый умный зверь. В книжке Пашка вычитал, что один матерый зарезал полугодовалого бычка, взвалил себе его на спину и перемахнул с ним… двухметровый забор! Что ж ему удивляться, что рыжий перемахнул его с гусем? Оказывается, стаи бывают такие… На Таймыре обнаружили в один год стаю в пятьдесят четыре головы! Ужас! Это же и «Калашникова» не хватит, чтобы отбиться?
После книжки, которую Пашка проглотил за ночь, уже утром следующего дня, в воскресенье, он отправился на Хальмер-То, посмотреть капканы. Доехал быстро. Шел долго. Оборачивался. Почему-то после книжки людоедства бояться начал.
Следов волчьих или какого другого присутствия хищников на озере он не обнаружил. Капканы стояли чистые. Возле южной стороны озера росли немногочисленные слабоствольные березки. Ненцы говорили, где-то здесь у них есть родовое захоронение, потому ходить сюда просто так нельзя… святое место, что ли? Ну да он же не просто так? Он по делу. Зачем-то Пашка достал свой бинокль и стал осматривать местность более внимательно, но сколько не вглядывался через мощную оптику, ничего не увидел. Озеро было чистым, пустым и голубым. Светило сегодня яркое, уже пригревающее мартовское солнце, и озеро под ним просто сверкало. По льду, где снег не мог зацепиться за лед, шла ослепительная, сияющая в голубом обрамлении солнечная «дорожка». Что бы там ни говорили ненцы, но лед на озере был такой, что можно было по нему на тракторе прокатиться. Видно было даже со стороны крепость льда и его толщину. Может, когда-то, в какой-то теплый год и в самом деле лед был слабый, но сейчас!.. Впрочем, что ему лед? Ему волк этот нужен поганый. Пашка вторично просмотрел все озеро, вглядываясь в места, где могло быть волчье логово или так называемая волчья лежка, но ничего похожего так и не обнаружил.
Домой вернулся, проверил капканы во дворе, засыпал развороченный лаз в загон с задней стороны, там, где как раз находились овцы (получалось, волк этот, когда в загон вползал, то вползал ровно к овечкам, те, конечно, блеяли, но овцы – это тебе не гуси, не куры, кричать да кудахтать не станут, животное смирное во всех отношениях – поблеет немножко да героически сдохнет в зубах хищника), после этого достал из сарая старый клок стекловаты и заткнул им дыру сверху. Посмотрел, усмехнулся, сам себя спросил: что ж ты делаешь, дурень, это же тебе не крысы с мышами, чтоб стекловаты бояться? Но клок этот оставил, а возле лаза еще и капкан один припорошил снегом да привязал его цепочкой к столбу загона.
Ничего не помогло. Этой же ночью, когда Пашка уже немного успокоился, спал с открытой форточкой, во сне услышал жалобное блеяние овец… Вскочил, перепугал жену, в одном исподнем выскочил во двор, потом впопыхах вернулся, схватил ружье, вновь выскочил во двор и… увидел серую волчью спину, с овцой сверху, перемахивающую его двухметровый забор. В бессильной злобе саданул сразу с обоих стволов в небо… Поселок сотрясло два взрыва. Залаяли собаки. Где-то послышалась грубая мужская речь. Пашка вернулся в дом, швырнул ружье на пол, сел на табуретку и закрыл лицо руками. Сил не было. Злоба душила. Рыжий опять оказался умнее.
Так началось воскресенье. Пашка весь день проходил по двору, придумывая все новые и новые ловушки для хищника. Наконец мысль пришла. Он съездил в свое хозяйство, нашел сторожа, попросил открыть гараж. Там давным-давно в подсобке валялся моток старой колючей проволоки…
Весь день Пашка, под усмешки прохожих, под сальности соседей, пытался намотать колючую проволоку на забор сверху… Прямо по всему периметру забора. Получилось неплохо, даже прочно. Только одна калитка с ее искусственным наращением до высоты забора осталась нетронутой, на калитке не было места, где можно было бы проволоку эту прикрепить. Ну да что такое калитка в метр шириной, когда десять соток двора огорожены?..
Весь оставшийся март Пашка спал спокойно. Он уже стал забывать все свои неудачи, собрал капканы, что стали проявляться из-под таявшего снега. Ружье запрятал в железный шкаф, возил сына Сашку на озеро Хальмер-То, рассказывал, как он здесь волка рыжего искал, занимался хозяйством в свободное время, даже получил премию и диплом лучшего тракториста от поселкового хозяйства. Жизнь так хорошо устраивалась, что… когда в уже светлую ночь апреля в загоне возмущенно закудахтали куры, гоготнули гуси и Пашка: пока ключ от шкафа ружейного искал, пока патроны в стволы загонял, пока не понимал, в тапочках ему выскакивать во двор или ботинки надеть… В общем, пока все эти «пока» шли, по двору метнулась тень… Стрельнов вырвался на воздух, ружье уже играло в руках, но… над калиткой мелькнул серый хвост, а над серой спиной захлопали гусиные крылья… В этот раз рыжий прокопал лаз с другой стороны и попал ровно к гусям, впопыхах ухватил птицу и был таков.
Пашка в сумерках утренних просмотрел все следы. Ночью шел слабый снег и следы теперь хорошо печатались на земле. Рыжий запрыгнул во двор через калитку, значит, понимал, собака, что колючка над забором – опасность, и ушел через калитку, с-собака!.. Соседи уже начали предлагать свои мысли по поимке волка, но исподтишка посмеивались над Пашкой, говоря – ой, мстит он тебе, Стрельнов, ой, мстит за что-то! Может, щенком кормил мало? А может, нечего было этой Машкой, матерью его, хвастать так по всему поселку? А то ходил тут гоголем – вона, мол, волчара у меня живет, типа кошки там… ага. Один товарищ по гаражу предложил ему своего волкодава, «кавказца», но Пашка побоялся – собака чужая, ребенок у него маленький, «кавказец» – он с характером… опасно.
Следующую ночь Пашка не спал, сидел с ружьем. Мысль отомстить, просто отомстить этой скотине зубастой так овладела им, что он даже на работе выговор получил (чуть-чуть ножом бульдозера председательскую машину не ткнул, когда снег собирал в кучу), жена дома тоже стала нервничать, причем сделала ему предложение, от которого у Пашки даже в глазах потемнело от ярости:
– Может, нам его прикормить? Будет жить как пес?.. А что? Он же щенком вон как кашу лопал?..
Прикормить?! Пашка кулаки сжимал – да убить, убить эту тварь! Застрелить хоть больного, хоть здорового! Найду, все равно найду!
И Стрельцов вновь и после работы, и в выходные, и в обед, и в любое время, когда свободно было, стал искать рыжего, стал искать возможность хоть поймать, хоть застрелить, хоть просто удавить эту заразу. Горячка прошла быстро. Он вновь расставил капканы во дворе. Просто капканы без приманки, то есть думая, что если хищник перемахнет калитку, то ровно лапами угодит в ловушки. Жена смеялась, сын Сашка смотрел за папой и говорил тихонько самому себе:
– Не попадет он… он умный.
Рыжий и не попал. Две недели его не было. Подошла вторая половина апреля.
В выходной, рано утром, едва рассвело, возле двора Стрельновых проезжал на мотосанях «Буран» друг по гаражу Колька Сокол, стукнул Пашке в калитку, потом долго звонил в звонок, наконец разбудил его и, когда тот в одном трико, дрожа от холода, выскочил из дома, быстро сказал:
– Видал я твоего волка, только что… на Хальмер-То сидит, просто сидит. Я в бинокль глянул, шея рыжая. Сидит на берегу и все. Один сидит. Было бы ружье, я бы снял, но я с рыбалки возвращаюсь, сам понимаешь… Рванешь, так успеешь, сейчас снег рыхлый, по следам выйдешь. Точно он!
Газанул покрепче и укатил восвояси. Пашку как пружиной подбросило, он рванулся в дом, наспех оделся, наспех ружье зарядил, с десяток патронов в карман бросил. Сунул ноги в ботинки высокие на шнуровке и побежал заводить «Ниву». Через пять минут машина уже скакала по ухабам и рытвинам весенней дороги к озеру Хальмер-То.
До озера домчался в час, может, чуть больше. Место здесь было дикое, пустынное, никто здесь не бродил, никогда не охотился. Местные охотники как-то соблюдали порядки ненцев: раз сказали, озеро нехорошее, значит, лучше и не пробовать вообще там появляться. Правда, недалеко проходила «дорога», по которой рыбаки мотались зимой на Башкины озера рыбачить, ну да это же в стороне…
Стрельнову было плевать, какое это озеро – хорошее или плохое. Он был охвачен лишь одной мыслью – найти и уничтожить. Пашка прекрасно знал многие повадки хищников, и одной из них была та, что можно назвать привычкой. Привык волк кормиться в этом дворе, так пока по-настоящему не спугнешь, или не убьешь, так и не отвадишь. Конечно, две недели срок немаленький, волк более не может без пищи. Пашка даже подумывал, что, может, хищник перешел на лесную дичь, может, наконец прекратится охота в его загоне на овец и птицу, но мысль эта как-то не укрепилась в его голове. Потому летел он сейчас на это озеро Хальмер-То по ухабам и пробитой грузовиками колее.
На озеро он примчался, когда солнце уже поднялось над горизонтом, голубой лед сверкал свой чистотой, заснеженные берега обрамляли озеро белым воротником, на южной стороне темнели слабоствольные березки. Солнце пробивало сбоку их веточки насквозь, отбрасывая на яркий снег неровные серые тени. Само озеро большим назвать было никак нельзя, метров двести в ширину, метров триста в длину, этакое вытянутое зеркало. В озеро впадало несколько крупных ручьев и где-то один ручей выходил из него, но найти, где выходил, было невозможно, однако в полусотне метров как из-под земли появлялся новый ручей и шел на восток. Потому ненцы и говорили – течение там хитрое, тянет все живое на дно.
Пашка вышел из машины. Прямо так, в ботинках, без лыж, пошел по крепкому насту к берегу. Ружье было наготове, курки взведены. Глянул в бинокль, провел взглядом по всему обозримому пространству – волка не было. Он пошел берегом дальше, утопая в снегу по колено. Подумал выйти на лед, да не стал, хотя даже отсюда было видно, что лед такой крепкий, что хоть на его «Ниве» сейчас катайся. Причем лед был уже весь треснутый, но эти трещины уходили вниз, вглубь озера на метр, а то и на два. Вновь глянул в бинокль, более тщательно просмотрел и озеро, и весь видимый берег. Пусто. Оторвав бинокль от глаз, Пашка еще раз глянул на белеющий, сверкающий снег, стараясь отыскать хоть следы хищника, но, увы!.. Где же тот берег, на котором Колька видел волка? Зря точно место не спросил, поторопился.
Он пошел вдоль берега дальше. На всякий случай смотреть стал не только по кромке озера, на этот белоснежный «воротник», но и чуть далее, где снег был темнее, переходя в месиво дороги, а рядом с ней лыжни мотосаней. И здесь, уже у самой южной стороны, прямо возле березок, метрах в ста Пашка увидел… волка.
Рыжий лежал под березой, довольно лениво развалившись под ярким апрельским солнцем. Погода стояла теплая, скорее всего, уже плюсовая, и волк, в своей шикарной шубе, вытянулся на спине, подставив под лучи брюхо. Похоже, он так увлекся принятием солнечных ванн, что даже не заметил охотника. Пашка умудрился подойти метров на шестьдесят… Здесь вскинул ружье и, слегка дрогнувшей рукой, нажал на спуск… Ружье ухнуло на пустынном месте просто гулким ударом. Волк подпрыгнул, сразу увидел человека и побежал прочь. Он бежал до того лениво, словно знал, что ружье не может принести ему никакого вреда.
Зверь пошел вдоль перелеска южной стороной, причем пошел так, словно ленился бежать, и Пашку это совсем удивило. Он уходил, оборачиваясь регулярно за свою спину, поглядывая, догоняет его Пашка или нет. Пашка на всякий случай саданул еще раз со второго ствола. Расстояние было уже большое и картечь лишь легла где-то сбоку от зверя. Матюгнувшись, Пашка со всех сил побежал берегом озера, на ходу перезаряжая ружье. Во что бы то ни стало он хотел взять зверя, он готов был сейчас бегать за ним хоть весь день, только достать хищника, достать, шкуру снять, принести домой и доказать всем – от жены, сына до самого последнего алкаша поселка, что если он за что-то берется, то доводит дело до конца.
Зверь бежал легко, нехотя, он не проваливался, как Пашка, в снег, не ругался и не плевался слюной. Пашка матерился на рыжего, сразу вспоминая книжку про волков, что недавно читал. Вес полярного волка едва достигает пятидесяти килограммов, самый большой хищник за сорок лет отстрела был убит на Таймыре и весил всего пятьдесят два кило, потому, при их широких лапах, в снегу они и не вязнут.
Волк прошел южным берегом озера и, очевидно, хотел уйти в лесотундру. Он уже сделал легкий прыжок через рыхлый снег береговой линии на зимний, еще не подтаявший наст, уже оглянулся последний раз на Пашку-недотепу и… И здесь со стороны райцентра, далеко, очень далеко, натужно ревя мотором, пошел в поселок тяжелый «Урал». «Урал» был грузовиком с «бочкой» и возил в поселок солярку для дизель-генератора. «Урал» вяз в апрельском снегу на колее, пробивая ее еще глубже, шел неторопливо. Дорога проходила мимо озера метрах в ста и отсюда была не видна.
Рыжий дрогнул духом и вновь сделал прыжок в обратном направлении, глянул еще раз на Пашку, который почти бежал в глубоком снегу и… вышел на лед Хальмер-То.
– Ах, ты, гад! – крикнул ему Пашка. – Думаешь я этой басни испугаюсь? Сволочь лохматая!
С этими словами Пашка быстро подбежал к кромке льда и уверенно пошел по голубой замерзшей поверхности озера. Волк уходил как-то совсем трусливо, уже не бежал, а просто «трусил». И лапами ступал, словно не по льду шел, а по мягкому тесту. Пашка уже бежал, бежал самым настоящим образом, дыхание срывалось, горло хрипело что-то такое – бздишь, скотина?!. Ружье прыгало у него в руках, он уже дважды хотел пальнуть, но решил все же сократить расстояние до самого верного выстрела… Добивать жертву для охотника всегда позорно. Волк не торопился, казалось, он все снижает и снижает скорость, наконец он остановился, глянул как-то перед собой и вдруг из волчьей пасти донесся какой-то то ли вой, то ли скулеж…. жалобно так, словно щенка испугали. Пашка бежал. Смотрел под ноги и видел лед толщиной в метр – не меньше. До волка было уже метров пятьдесят… сорок… тридцать… Волк стоял на месте и смотрел на охотника. Двадцать…
Здесь раздался треск, грохот, словно в хорошем лесу с двенадцатого калибра стрельнули, Пашка даже подумал, что курок у его ружья сорвался… Но тут он почувствовал, что летит вниз… Вниз с треском и грохотом. Падает, ноги намокают и тяжелеют и льдина, огромная, длинная льдина, совсем тонкая, не толще ладони и почему-то очень неширокая, переворачивается вместе с ним и волком…
Первое, что он почувствовал после обжигающего холода воды, это сильнейший толчок в спину, куда-то под лопатку – льдина треснула переворачиваясь и кусок ее ударил Пашку сзади. Хорошо в спину, а не по голове. Льдина треснула в нескольких местах. Пашка, болтая ногами в ледяной воде, уцепился за крепкий лед перед собой обеими руками. Ружье неведомым образом оказалось прямо перед ним, лежащим на льду. Но сейчас было не до ружья. Пашка попробовал вылезти… бесполезно, еще хуже, чем просто держаться. Кто-то очень настойчиво и незаметно просто утягивал его под лед, просто так ненавязчиво тянул туда… Рядом проплыла небольшая льдинка и непонятным образом заплыла под лед, показав Пашке, что его ожидает. Он обернулся – никого. Крикнул что-то – спасите, помогите!.. Никого. Обернулся по сторонам – никого. Волк-то где? Неужели уже утащило под лед? Здесь рядом, сбоку, буквально метрах в трех он увидел рыжего. Тот подплыл между льдин к краю крепкого льда, совсем рядом с Пашкой, передними лапами попробовал выбраться и подтянуть задние, его тоже начало стягивать под лед, мышцы волка даже через богатую, мохнатую шкуру были видны в огромном напряжении… Но нет. Не получилось. Рыжий спрыгнул в воду и попробовал взобраться на небольшую льдину сразу за Пашкой. Льдина тут же перевернулась, едва не накрыв собой рыжего. Пашка вновь озирнулся по сторонам, вновь что-то заорал – люди, люди, помогите!! Никого. И здесь кто-то тяжелый и мокрый, крепкий и пахучий когтистыми лапами просто вогнал его в воду… Пашка погрузился почти по самые уши, хлебанув ртом озерной воды, волк прыгнул на него из воды, ровно на его плечи, вначале передними лапами, потом задними… и выпрыгнул на свободу… Пашка ахнул от изумления – вот тварь?! Использовал его как трамплин, значит? Так не получилось, так он человека использовал и по его спине и плечам вынырнул на крепкий лед? Ах, свинья!
Волк тут же отряхнулся как ни в чем не бывало, глянул назад, на Пашку и побежал вновь к южной стороне озера, где стояли березки.
– Стой!! – вдруг крикнул ему Пашка. – Стой!! Рыжий, как тебя?! Рыжий!!
Волк вдруг остановился, обернулся одной головой и смотрел на Пашку.
– Стой! – крикнул Пашка, понимая, что его начинает затягивать под лед.
– Стой, – попросил он тихо, – не уходи… пожалуйста?..
Одежда намокла и висела на нем словно чугунная, удержаться в ней не было никаких сил. Пальцы деревенели на льду, рядом валялось ружье…
– Стой, – вновь попросил он, – боже мой… ну, стой же, не уходи… Ну, ты же собака… ты же… немного собака…
Волк повернулся и вдруг… сел на лед. Сидел и смотрел на Пашкину голову, торчащую из воды.
– Помоги, – вдруг сказал шепотом Пашка, сил на громкие слова, на вопли уже не было, сил не было даже на шепот, локти сползали в воду…
– Помоги, – прошептал он, как прощаясь со светом, – помоги…
И здесь случилось то, что и должно было произойти, – волк встал и пошел к Пашке. Подойдя почти вплотную, зверь посмотрел Пашке в глаза, или ему показалось, что зверь посмотрел ему в глаза? Только Пашка вдруг увидел глубоко не волчьи, а чисто собачьи глаза, они смотрели на него как-то сочувственно, как будто понимали, что творится сейчас и что может произойти.
– Помо… помоги… – шепнул Пашка ему в глаза.
Пашка не знал, как волк мог ему помочь, но был согласен, чтобы его сейчас просто, как щенка, взяли за холку и вытащили на крепкий лед, он был согласен, чтобы волк схватил его за руку и откусил эту руку, но лишь бы вытащил его на крепкий лед… он был согласен на все, на все, но что мог сделать волк?..
Рыжий подошел к ружью, понюхал его и мотнул мордой, потом как-то очень осторожно, как, к примеру, хищник в цирке берет пищу изо рта дрессировщика, так же осторожно взял своими страшными зубами приклад, раздался хруст дерева…
– Да, да, – шептал Пашка бессознательно, – я понял, я понял…
Он ухватился за ремень оружия, благо что к нему и тянуться не надо было. Волк поднял ружье легко, словно оно ничего и не весило, поднял зубами оружие, из которого его только что хотели убить, и… стал пятиться назад. Пашке резануло в мозгу – это последний шанс! Он бросил держаться за лед и обеими руками, негнущимися пальцами схватился за ремень ружья. Если волк сейчас выпустит приклад из своих зубов, его сразу утянет под лед, если волк случайно выпустит приклад из своих зубов, его сразу затянет под лед, если… если, если…
Рыжий пошел назад. Шел вначале легко, вытянув Пашку почти по пояс, потом видно было, что лапы его заскользили, в лед вонзились волчьи когти, зверь хрипнул дыханием, мотнул мордой и резко рванулся назад, пятясь от смертельной ловушки. Пашка не мог двигаться, он даже не мог ничем помочь этому зверю, одно его движение, беспомощное движение, и все может рухнуть в секунду. Пашка смотрел зверю в глаза, зверь смотрел на него, как понимая, что еще не до конца вытащил человека на свободу. Наконец ноги Пашки вышли из озера и он просто лег на ледяную поверхность. Он лежал на животе, голову повернул набок, двигаться не мог, дышать не мог, тело жгло холодом, но Пашка холод не чувствовал, он лежал и смотрел на зверя, в руках был ремень от заряженного ружья… Волк осторожно положил заряженное картечью ружье на лед. Между ними было… метр… метр, не больше. Сейчас хищник мог в две секунды зарезать человека. Пашка смотрел ему в глаза и опять увидел, что и волк смотрел ему в глаза…
– Ты все же не совсем волк, – прошептал он.
Рыжий постоял так еще секунду, повернулся и все так же осторожно, «труся», побежал прочь с озера в южную сторону, миновал там перелесок из березок и ушел куда-то в лесотундру.
Пашка испуганно, с тяжелым страхом пополз вначале на животе к месту, где были трещины на поверхности, когда увидел, что лед здесь прочный, устало поднялся и, шатаясь, волоча ружье по снегу за собой, через силу добрался до своей машины. Дома ничего не сказал. Только показал приклад ружья, прокусанный волком, и сказал:
– Это Рыжий… з-зубами, да?..
Потом был обморок. Потом воспаление легких. А Рыжего больше никто не видел. Может, в стаю ушел или новую стаю нашел?
Александр Ларин г. Москва
Александр Ларин родился и живет в Москве. Окончил МГУ, по образованию журналист. В течение нескольких лет работал в качестве корреспондента в странах Западной Европы. Автор сборников рассказов и эссе. В настоящее время работает в одном из российских информационных агентств.
© Ларин А., 2015
От кесаря к Богу
Открылось, что я ни во что не верю.
Застукали прямо на пропускном пункте, когда я шел на работу. Оказывается, поставили там какой-то новый аппаратик – против экстремистов, – и он тут же, подлюга, запикал. Формулировка «Не верит в радостные перспективы».
Вскоре, естественно, вызывают меня на допрос – к заму по охране стабильности. Захожу – мужик еще молодой, по-комсомольски бодрый, такой уж не разуверится… На столе – мое личное дело красуется. Спрашивает, полистывая: «Как же вы так, без надежды на будущее живете?»
– А что, – говорю, – это уже тоже под статью уголовную подпадает?
– Ну, зачем же так сразу! Пока хотел только кое-что уточнить, предупредить… С чего у вас такой пессимизм мрачный? Жалованье хорошее получаете, живете в элитном районе, на горных лыжах в Австрии катаетесь, – а в наше будущее светлое не верите. Так ведь?
Я хмуро кивнул.
– Власть не нравится?
– Мне вообще мало кто нравится, а уж тем более – во власти.
– Ишь вы, какой строгий!.. Ну а в Бога-то верите? – спрашивает вдруг в упор.
Я: «А при чем тут это? Это вопрос сугубо личный».
Он: «Да я так, по-дружески…»
– Ну, если так, могу доложить: я в этом вопросе еще не определился.
– Пора бы, пора, – говорит. – Ну хотя бы крещеный?
– Увы, – отвечаю. – Не пришлось.
– Это плохо, – покачал он головой. – Совсем плохо. Я ведь это к чему: ну, не верите вы власти, кесарю – так поворачивайтесь к Богу, ищите там истину, раз никаких других надежд нету…
– А что, хорошая мысль! – удивился я. – От кесаря – к Богу. Здорово!
– Главное, не бузите, не ломайте себе жизнь… оставшуюся, – продолжал он. – Вы, кстати, с кем проживаете? Семья, дети? В анкетке-то – пусто…
– Я один. В разводе.
– Плохо! – повторил он, внимательно разглядывая меня!.. И один, и без веры… А квартира-то у вас какая, – спрашивает, – большая, маленькая?
– Немаленькая.
– Ну, вот видите, и квартира хорошая в самом центре, – а я из Фрязино на службу езжу… Надо вам срочно креститься! – уже твердо призвал он. – Тут недалеко, кстати, церквушка есть, там у меня батюшка-приятель. Могу посодействовать. Окрестим без всяких формальностей, оперативно. – И он, словно заправский рекламный менеджер, начал расписывать мне все прелести крещения.
– Спасибо, конечно, – говорю, – но это для меня слишком большая ответственность. Боюсь подвести вас.
– Ну, уж этого мы не допустим… Вы, я думаю, и сами заинтересованы, чтобы такого крестного иметь. – И он по-свойски подмигнул мне. – В наше время это, знаете, дорогого стоит.
– Вроде как крыша, что ли? – усмехнулся я.
– Скорее ангел-хранитель, – уже без улыбки поправил он.
– Ну, уж тогда ангел-охранитель, – буркнул я.
– Можно и так. Познакомишься с супругой моей, дочкой, она, кстати, тоже горными лыжами увлекается… Будем с тобой почти как родственники. А то ведь заболеешь – даже поухаживать некому… Ну как, согласен?
– Надо подумать, – уклонился я. – Шаг очень серьезный. Только вот не пойму – вам-то это зачем? – И тут я вспомнил про пикалку на пропускном пункте – вот бы ее сюда, только программу поменять.
– У меня работа такая, – проникновенно сказал он. – Людям помогать надо, беречь их от пессимизма. Без веры, без надежды, нельзя.
– Нуда, надежда – наш компас земной…
– И не только земной, – наставительно добавил он. – К тому же ты все-таки уже не мальчик, человек в летах… Сам понимаешь, затягивать нельзя, могут там проблемы возникнуть… – И он указал глазами в потолок.
– В ад, что ли, загремлю?
– Все может быть, – хмуро произнес он. – А у крещеного уровень безопасности намного выше…
Вот теперь сижу и думаю: как быть? Может, и правда, пора… Отвернуться, уйти от всей этой безнадежной кесаревщины… обратиться к Богу. Но с другой стороны – не через таких же крестных…
Ох, верно в Писании сказано – неисповедимы пути твои, Господи!
Да и к Тебе, видно, – тоже.
Чиновник-маргинал, или До чего могут довести женщины
Я человек сугубо системный, считай, полжизни уже власти служу, да и должность немаленькая, – а вот теперь думаю: лучше б я, наверное, каким-нибудь отщепенцем стал, лучше бы меня вообще из всей этой системы взашей выгнали.
И дело тут не только в каких-то там моральных угрызениях (хотя куда ж от них денешься?). Дело, если угодно, и в женщинах, да-да, в них самых, поскольку этот фактор для меня слишком весомый, несмотря на мою системность…
А теперь расскажу подробнее.
Познакомился я как-то с одной милой дамой. И я ей, видно, понравился, и она мне – очень. Но в первый же день – облом. Как услышала, где я тружусь, сразу в личике изменилась, поморщилась, говорит: «У-у-у, я-то думала, вы какой-нибудь художник, творческая натура…»
Я уж с ней и так, и эдак, куда только ни приглашал, – нет, ни в какую. Говорит: «Извините, я люблю несистемных, с ними как-то надежнее…»
Вот тебе раз, думаю! Это уже что-то новенькое! Я-то как раз наоборот считал, хотел ее своим статусом еще больше раззадорить: вот, мол, какие мы важные!.. Раньше-то как было? Придешь куда-нибудь, знакомишься, как скажешь, откуда ты – так все притихают… Сразу к тебе – как-то по-особенному, услужливо, на лучшие места сажают… Ну, а уж о всяких там гаишниках, охранниках и говорить нечего: только ксиву свою покажешь – весь их понт тут же сникает.
Ну что ж, думаю, ищи себе несистемного – похоже, не прикладывала тебя еще жизнь, раз всяких лузеров любишь.
Знакомлюсь с другой, тоже весьма красивая женщина, даже посексуальнее той дуры. Только теперь уже с ходу не объявляю, откуда я, темню. Сначала завоюй доверие, дорогуша, а тогда уже будем и резюме предъявлять.
Наконец недели через две в порыве чувств прямо в постели ей открылся… Так эта истеричка вскочила, орет: «Почему ты мне сразу не сказал?! О таких вещах надо предупреждать!..» – Ну не дрянь!? Прямо как будто я спидоносец какой-то!
Ну, тут уж я взорвался, кричу: «Да вы чего, спятили все, что ли?! Чем же это вам моя работа так не нравится? Я ведь не каратель, не палач, и даже взяток не беру… Чего вы мне тут какой-то Нюрнберг бабий устраиваете?!.»
А она: «Ненавижу власть!..»
В общем, и эта сбежала.
Думал еще с одной попробовать, но – побоялся: так ведь и невроз заполучить недолго. А тут, как назло, и другая история в том же негативе приключилась.
Еду я как-то на личном авто на дачу – а на пути все перегорожено: какой-то там очередной марш то ли сторонников, то ли противников. Я, естественно, тут же с моей ксивой к полиции – а они никакого понимания, говорят: «Не положено, объезжайте…» А сами, гляжу, то одного хмыря пропускают, то другого…
Я разозлился, говорю какому-то старлею: «Да вы чего, ребята?! – Мы же свои люди, государевы…»
Он (с явной неприязнью): «Вам же объяснили: нельзя!»
Я: «А почему тогда «Форд» старый пропустили? Чем он лучше?!»
Он (с наглой ухмылкой): «Это врач. Ему можно». – И с выражением, наставительно: «Врач! Понимаете?» – Мол, не чета тебе, чинуша.
Я: «Да вы чего, издеваетесь, что ли?! Это же не «Скорая»… Ату «Ладу» – почему? Тоже врач?»
Он: «А это учитель, едет на занятие. Чего тут непонятного?! У людей неотложные дела…»
«Ау меня, значит, никаких дел нету?!» – вскипел я.
А рядом уже народ скучился, слышу, кто-то орет: «Знаем мы ваши дела!» – И давай меня вместе с властью крыть… А полиция – хоть бы хны. При ней на власть клевещут – а она и не чешется.
Я испугался: эдак ведь, думаю, и побить могут. Вспомнил сразу какой-то фильмец старый про Февральскую революцию – как там разъяренная солдатня эмиссара Временного правительства укокошила… – и быстренько отвалил.
В общем, с тех пор я о своей службе – ни-ни. Ни женщинам, ни мужчинам, ни гаишникам – чтобы еще хуже не было. А если кто спросит, скромно отвечаю: «Я – несистемный, можно сказать, маргинал…» И визитку себе такую сделал, и одеваться в свободное время стал соответствующе, даже серьгу в ухо цепляю для большей убедительности… Правда, все равно, бывает, не верят – все-таки деятельность в верхах свой след на лице оставляет, но тут уж, слава богу, документ не потребуешь…
Зато от баб просто отбоя теперь нету. Так и тают, когда заговариваю. Видно, и впрямь нравятся им такие мужики стремные.
Есенин и грамота
Сижу на летучке, совещании, трепе – называй, как хочешь, лучше не станет.
Смотрю на эти лица – недобрые, лукавые, с бессмысленными хихи-хаха…
Слушаю эти речи – пустые, дежурные (и вот уж точно!), на злобу дня.
И тут – чтобы хоть как-то встряхнуться, утешиться – вспомнил совсем не в тему, не к месту и уж никак не на злобу – стих раннего Есенина: «Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши вспыхнувших сил…»
Словно говор какого-то волшебника-инопланетянина – до того он сладостно чужд всему этому нашему нынешнему: проблемам, словечкам, желаниям… И вместе с тем такой близкий, родной, враз уносящий тебя из этой убого-деловой яви в детство, молодость, к давней, уже ушедшей Родине.
Всего-то пару строк про себя прошептал – а что (и спустя сотню лет) творят они с душой! Лучше всякой молитвы пробирает.
И вдруг сквозь стихи, в пол-уха улавливаю голосок нашего главного: «Ну а теперь – о приятном. Один из наших сотрудников награжден почетной грамотой за верное служение власти…» И – называет мою фамилию.
Я, понятно, растерялся (вот тебе и есенинский первый снег!), от волнения закокетничал: дескать, да чего я такого сделал, подумаешь..!?
Но тут главный меня строго пресек. Говорит: «Ты давай не скромничай! Служить верно власти – это сейчас, считай, большое мужество. Ты что, не видишь, что вокруг делается, сколько всяких крикунов антигосударственных развелось?! Людей, преданных власти, просто обложили, приличную вещь купить не дают – все отслеживают, подсматривают, сливают: я уже с женой собственной спать боюсь…» – И торжественно, под аплодисменты, вручил мне эту самую грамоту.
Выхожу с летучки, весь пессимизм-негативизм мигом сдуло, никаких стихов уже не вспоминаю… И вдруг слышу, кто-то надрывно, нараспев, как со сцены, кричит: «Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого негодяя!» Так это же, – обомлел я, – голос Есенина, – одна из немногих сохранившихся записей, монолог Хлопуши из «Пугачева». Только почему вместо человека – негодяй?!
Оборачиваюсь: батюшки! Сам Сергей Есенин! Увидел меня и еще громче кричит: «А, вот ты где! Получил какую-то хрень от начальства – и уже воспарил, лучшего поэта на Руси побоку…» И прямо с тростью своей на меня, вот-вот огреет…
Ну, я увернулся, выхватил у него трость (все-таки спортсмен-разрядник), говорю: «Не хулиганьте, пожалуйста, Сергей Александрович!» А сам с любопытством на трость поглядываю: «Это та самая, – спрашиваю, – из «Черного человека»?»
– Она самая! – отвечает.
– А я, значит, вроде как черный гость?..
– А кто же ты, – говорит, – если перед бездушной властью выслуживаешься!? Сами жиреете, а народ прозябает!
Я: «Напрасно вы на меня наезжаете, Сергей Александрович! Вы еще поищите, кто бы вас по нынешним временам так любил. Да я все ваши стихи наизусть знаю, вот любую строчку назовите и я тут же продолжу…»
Он (заинтригованно): «Врешь!» – И начал меня на полном серьезе гонять по своим текстам. Наконец увидел, что я и вправду его поэзию назубок знаю, говорит уже более милостиво, даже с каким-то сочувствием: «Как же ты с такими наклонностями жалким чиновником служишь?! Так насилить себя!..»
Я театрально вздохнул: «Так ведь, – говорю, – на стихах да заповедях долго не продержишься. Куда деваться-то?! Везде прислуживать надо – и во власти, и в бизнесе – там еще поболее, попробуй только пикни…»
Говорю, а сам глазам своим не верю: мать честная! Есенин! Да еще прямо тут, в нашем склепе офисном! Как его пропустили-то?
– Да что я?! – говорю, – с властью и многие наши столпы культуры вовсю милуются, проворней любого клерка прогнутся. Смотреть тошно.
А сам уже осмелел, освоился – думаю, да чего я перед ним оправдываюсь?! Ну поэт, ну великий… Власть-то у нас все равно выше.
– Так ведь, – говорю с ухмылочкой, – и вы им, получается, служите. Вот недавно на митинге сам лидер ваши стихи с чувством декламировал…
– Правда, что ли?! – воскликнул он. А самому, вижу, нравится, что его так в верхах до сих пор ценят.
– Вы-то еще, – говорю, – легко отделались. А Гоголю вашему любимому прямо на памятнике начертали – «От советского правительства». Даже несистемного Высоцкого к себе примазали, государственную премию после смерти дали – хорошо хоть доверенным лицом на выборах не оформили…
– А ты, я гляжу, язва…
– Да вы, – продолжал я в запале, – в общем-то, и сами власти подыгрывали – не так, конечно, мощно, как ваш недруг Маяковский, но тоже старались – оды коммунарам писали, за комсомолом, задрав штаны, бежать порывались…
– Скорее уж за комсомолками, – усмехнулся Есенин.
– Председателя совнаркома Ульянова-Ленина солнцем называли, капитаном земли, – не унимался я. – Так сейчас, пожалуй, только в Северной Корее да в Туркмении пишут… Вы это как, искренне или все же из прагматических соображений?
– Да я же им и в самом деле поначалу верил, горел, – с обидой сказал он.
– Ну а когда разуверились – появилась «Страна негодяев»…
Есенин мрачно кивнул.
– Одно заглавие чего стоит! – сказал я. – Такого по хлесткости во всей русской литературе, пожалуй, не сыскать – разве что «Мертвые души».
– Не устарело заглавие-то? – спрашивает меня игриво.
– Да что вы, наоборот! – купился я. – Негодяи у нас, как говаривал капитан земли, всерьез и надолго. Кстати, – заметил я, – жулики и воры – это ведь тоже ваше, если помните… Очень популярное у нас теперь словосочетание, стало даже своего рода брендом ведущей партии. – Есенин по-детски захохотал. – Хотя, надо признать, на такое название вполне тянут и другие – и партии, и организации, и корпорации…
Я хотел ему еще много чего рассказать и про современных жуликов и воров, и про нынешних комиссаров с чекистами, но вдруг заметил, что он уже не слушает меня, уносясь в какие-то свои, милые ему, дали… Видно, за свою краткую неистовую жизнь
он столько насмотрелся на всю эту черную шатию, что больше невмоготу…
– Сергей Александрович, – попросил я его на прощание, – а вы не могли бы мне автограф свой дать, но только обязательно прямо на этой грамоте… – И, вспомнив про его взрезанные вены, быстро достал ручку. – Знаете, – чтобы так, вперечерк.
Он понятливо кивнул и размашисто расписался.
Возвращение к нелюбимой
Вернулся к женщине, которую не люблю.
И вот думаю, пытаюсь понять – почему? Что меня на это сподвигло?
Нет ведь, по сути, ничего, что связывало бы нас: ни общих детей, ни общего добра, ни общих мыслей, чувств…
Чужие и разные во всем.
Одиночество? – эка для меня невидаль! А то с ней не был я одинок! Неизвестно еще где этого пугала больше – когда один с Интернетом или с кем-то в компашке.
Привычка? – ну, может быть. Как привыкают к глупостям, пошлостям, непониманию…
Так что же тогда?
А вот как представлю себе, что и этот (явно не лучший, кусок моей жизни отойдет с ней безвозвратно в прошлое… И никогда, никогда уже не приду я к ней, и она не будет задавать мне дурацких вопросов, раздражать меня своим кухонным умишком, присылать мне свои стихи с сердечками, трещать о своем сыночке… И становится страшно.
Слишком много потерь понесла уже душа, – чтобы вот так самому учинять еще одну, казалось бы, и вполне сносимую.
Самому – обрывать, вырывать из себя пусть даже и нелюбимое.
Своей волей творить это страшное «никогда», подыгрывая уходящему времени. А потом вспоминать и квохтать, как, в общем-то, хорошо мне с ней было. Ну да, в прошлом все становится хорошо, особенно с женщинами. И никто, как они, не заставят так жалеть об этом прошлом.
Нет, не по силам мне все эти уходы, разрывы – не мастер я по этой части. Коли распорядилась так игрунья-судьба, буду по-солдатски и дальше свое отслуживать.
И боюсь, повстречай я даже другую – и тогда не решусь разорвать с ней: до последнего буду врать, изворачиваться… Пока, видно, не разорвет она.
Пусть и без любви, без охоты, – но лишь бы продолжалось.
А может, не такая уж она и нелюбимая?
Рукопожатие идиота
Лицом он – вылитый идиот. Да и мозгами наверняка не вышел. Трудится при нашем буфете, важно именуемом бонус-баром, что-то постоянно туда-сюда таскает – воду, продукты, тару… Вечно на бегу. Глянет на меня иногда настороженно – не обижу ли? – и дальше несется в своей синей спецовке…
А мы, которые умные, ходим тут прямо косяками, – столько нас! Обсуждаем какие-то никому не нужные проекты, треплемся об отпусках, развлекухе, что-то постоянно жуем, пьем…
И вот в один из тяжких для меня дней – тут и совершенно нелепый наезд начальства, и неполадки со здоровьем, а главное – годовщина потери любимого человека, – снова в коридоре сталкиваюсь с ним. И вдруг он (вот уж не ожидал!) кидается ко мне со своей идиотской улыбкой, радостно кивает в знак приветствия и протягивает руку. Видно, что-то почуял во мне неладное на своем убогом уровне, встрепенулся – и решил неосознанно поддержать.
А мне – вот тебе раз! – сразу легче стало. Тут же повеселел, свободнее задышал ось… И подумалось: а ведь кинься ко мне сейчас с улыбчивым приветствием какой-нибудь хоть самый большой и умный наш деятель или, скажем, извинись передо мной за свою глупость мой жалкий начальник – ничему бы, наверное, я не был так рад, как рукопожатию этого идиота.
Вот про таких, видно, и говорил Иисус: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
А нам, злым, хитрым, лживым, нечистым сердцем, – ничего не светит.
У нас тут свое царство – с выборами, аферами, рейтингами, пропагандами…
Зато – умные.
Крым как вечная радость
Вот думаю: как научиться продлевать радость? Уж больно они короткие, заразы. Не успеешь чему-то порадоваться, как уже все – испарилось…
Ну, вот взять тот же Крым наш. Ведь как радовались едино, что он снова вернулся, какая эйфория патриотичная была. А сейчас, гляжу, уже спадает… Жалко.
Человеческую жизнь потихонечку удлиняем, а вот с радостями – туго.
А вот чтобы так: поймал себе какую-нибудь радость – и, считай, уже твоя на долгую перспективу. По крайней мере, до следующей.
Может, средство какое-нибудь для этого дела выдумать, госпрограмму какую-то разработать – по поддержанию радости?
Вот, скажем, живешь ты уже глубоким стариком, болеешь, кряхтишь, денег нет, нужных лекарств не купишь, на улицу выйдешь – там пыль, грязь, машины кругом, мигранты; сидишь себе в темноте из экономии, а в душе по-прежнему, уже через столько лет, словно лампадка светит: Крым-то – наш…
Друзья и смерть
Странно: кого бы я ни вспомнил из моих дружков первых – по двору, по школе, – почему-то все представляются мне уже мертвыми.
Сам вот еще живу, планы какие-то строю, спортом балуюсь, а приятелям своим давним – в жизни отказываю.
Не в силах представить душа, что они еще живы-целехоньки, может, даже трудятся вовсю, в бизнесе преуспевают, быстрей меня бегают…
Никак не поверю в это. Кого-то, я слышал, еще молодым посадили, другие пили по-черному, дурили… Как тут долго протянешь? Одного повстречал лет двадцать назад – совсем сдал, чувак. Да и кто поразумнее был, в институт попал – все равно для меня словно прах.
Кануло время, а с ним и все мои былые товарищи, одни тени остались. Нету их, не слышно, не видно, в «Одноклассниках» не числятся – значит, наверняка померли.
А чего еще ждать при этой житухе? Какие еще мысли могут в башку лезть в нашем Отечестве славном? Или от пьянки человек загнулся, или в аварии какой-нибудь грохнулся, или забили до смерти, или сам по себе раньше срока весь вышел…
Смерть у нас на Руси – самая реальная версия.
Наверное, и они вот так же обо мне думают, если еще, конечно, живы? Вспомнят вдруг про меня и решат – похоже, умер отличник, раз не видно, не слышно, по телеку не показывают…
Нет, други мои, жив я еще! Вот сижу у компьютера и вас вспоминаю… Жаль только, что следы ваши вконец потерялись, даже в Интернете всеведущем не найдешь.
А может, оно и к лучшему – чего ворошить невозвратное? Только расстройство одно.
Да и вы, бродяги, авось тоже еще живехонькие, зря я так. По крайней мере, в эти минуты грустные, когда вспоминаетесь мне.
Метаморфоза негодяя
В далеком, еще советском, году одна моя учительница (явно не пролетарского происхождения) при всем классе заявила мне, что я по задаткам типично отрицательный герой. Ну, вроде Чичикова или Хлестакова… Это двенадцатилетнему-то?!
И с тех пор так это за мной и повелось. Все другие в классе были как бы положительные, во всяком случае не чета мне, а я – негодяй и мерзавец, один такой.
Лет через десять, пятнадцать ситуация, правда, уже изменилась. Социализм тогда вступил в стабильно-загнивающую стадию, и количество отрицательных героев стало резко возрастать. И в институте, и на первых порах трудовой деятельности я уже был не в своем подлом одиночестве и мог даже группироваться с себе подобными…
Ну а в девяностые картина и вовсе изменилась: наплыв отрицательных стал просто зашкаливать, столько их вдруг заявилось из всех щелей. А положительные, напротив, начали куда-то растворяться – либо вымирали, бедняги, либо уматывали за рубеж, либо вынужденно меняли ориентацию… В общем, теперь уже они были в явном меньшинстве.
И вот недавно – забавный такой случай с вашим покорным отрицательным слугой, ныне скромным служащим в одной из крупнейших госкорпораций. Вызывает меня наш важный начальник и говорит: «Мы тут обновляем комиссию по этике. Нужен председатель. Я с ребятами посоветовался – лучше тебя кандидатуры нету. Ты у нас, говорят, самый такой положительный. Так что давай, дерзай, борись за нашу нравственность…»
Вот такие метаморфозы с нашим братом-подлецом происходят. Я даже прослезился слегка. Столько лет носить на себе клеймо какого-то отрицательного пройдохи – и вот тебе на… Оказывается, положительнее меня с моральной точки зрения и нету.
Знала бы, блин, эта старорежимная стерва, как она жестоко оболгала человека.
Страна подозреваемых
Человеку недоверчивому лечиться совсем скверно.
Не верить политикам, всяким там пиарщикам, блогерам, бабам, прочей беспринципной публике – это еще куда ни шло, но вот врачам…
Ходил я по этим врачевальникам, наверное, с месяц, – а доверия ни к кому.
Один – сразу видно – болтун, да и смыслит не больше нашего. Мы-то сейчас – спасибо интернету! – во всяких этих хворях поднаторели, не проведешь, а этот явно закоснел, ленится.
Другой – больше по финансовой части, то есть врач-барышник. Сует мне с ходу какие-то добавки сомнительные – и только вот именно этой фирмы… В общем, зарабатывает человек на твоей шкуре.
Третий – просто физически неприятный, ну отторгает его мой организм, – чего ж я буду себя корежить?
Четвертый стращает, на психику давит, будто следователь недобрый, вместо того чтобы хорошее что-то сказать.
Наконец, попался какой-то лихач и говорит:
– С таким настроем вам лечиться без толку. Надо прежде всего доверие восстановить, а уж потом и все остальное.
– Да как же его восстановить, – спрашиваю, – ежели кругом одни проходимцы и жулики, включая и вашего брата?!
– Это все лечится, – говорит. – Недоверие – это просто гормон, подрежу вам одну капризную железку – и сразу всем поверите. И морщины быстренько на лице разгладятся, взгляд по-пионерски засияет… – И все мне подробно, включая стоимость подрезания, объяснил.
А я вообще-то человек отчаянный, люблю что-то такое назло самому себе учинить. Думаю: а что, давай-ка и в самом деле от этого моего недуга разом избавлюсь, разве это жизнь – никому не верить?!
И – согласился.
Ну, подрезал он мне эту штуку, подлечил за огромные бабки – гляжу: и впрямь настроение резко улучшилось. Глаза засияли, лицо разгладилось, даже петь по утрам стал: «Солнышко светит ясное…» Но главное – сразу ко всем доверием преисполнился – и к властям, и к оппозиции, и к журналюгам, и к церковникам… Непросто это, конечно, при нашем раздрае – всем верить, у нас все-таки не Северная Корея, но, видно, постарался мужик, не лоханул.
Вступил тут же, понятное дело, в нашу главную партию, во фронт по спасению – надо же как-то свое доверие реализовывать. Но и в оппозицию тоже записался: такие доверчивые всем нужны. Выдвигать стали и там и здесь в разные советы, комитеты… На всяких там форумах в первые ряды усаживают. Бывает, только одним доверишься – тут же к другим бежать надо.
А ораторы тоже – как увидят такое по-собачьи доверчивое лицо, так прямо глаз не сводят, весь свой пыл на меня пускают, будто и нет больше зрителей.
Единственная проблема – рот все время стал открываться, когда какого-нибудь ньюсмейкера слушаю. Особенно – кто рангом повыше. Ну и на каком-то большом форуме дооткрывался: охранники, как застукали такую необычную картинку, тут же тихо скрутили меня – и в изолятор, выяснять личность, решили, что это какая-то провокация против начальника… Еле отмазался. Правда, все же взяли подписку – о нераскрытой рта.
Только вышел – сразу к хирургу: мол, так и так, выручайте, от этого вашего доверия теперь рот непомерно разевается, принимают за злостного провокатора.
А он уже без всякого интереса: ничего, мол, не знаю, я ртами не занимаюсь, это уже не по моей части… – И прямо выставил меня.
Ну, после таких фактов – какое уж тут будет доверие?! – удаляй хоть все железы. А наутро гляжу – свет в глазенках потух, румянец сдулся, морщины по-новой вылезли, и петь уже, естественно, никакой охоты. Побежал для подтверждения к телеку – ну так и есть: опять ни одному слову не верю. Полез на сайты оппозиционные – та же картина, нету и им доверия. В общем, снова сплошной скепсис в душе, будто и не оперировал, гад.
Сначала расстроился, а потом подумал: ну куда я тут со своим доверием, только людей будоражу!? За последнего лоха все держат. Одна бабешка мне прямо внаглую сказала: ой, у вас такой видок романтичный, сразу обдурить хочется…
Ну, правильно, у нас народ к бдительности привык, а иначе шалить начинает. Это уже, можно сказать, национальный синдром исторический. Все находятся под подозрением: и верхи, и низы, и богатые, и бедненькие, и пойманные, и не пойманные… Включая самого непогрешимого. Только у одних в глазах огонечки – больше гэбэшные, а у других – зэковские. Вот и вся разница.
У нас даже доверенным лицам доверять крайне нежелательно. Только и жди – возьмет и какое-нибудь заявление истеричное против сделает, не оценит такого благоволения.
Обязательно во что-то с этим доверием вляпаешься, в лучшем случае свидетелем по делу пойдешь.
Ну а если вдруг пронесет, не кинут, не продадут… – тут уж, считай, целый праздник, хоть пляши. Не обманули!
Александр Пахомов г. Москва
Хотелось бы ограничься только указанием своего возраста (0–7). В действительности, я не умею писать о себе, не хочу писать о себе, и не считаю нужным писать о себе.
© Пахомов А., 2015
Рыбка-клоун
Долго он спорил с GPS навигатором. Женский голос советовал повернуть направо.
– Какое право, здесь тупик!
Право было через пару домов. Они как будто бегали наперегонки, он и навигатор. То впереди бежал навигатор, строя невероятные маршруты, то наоборот.
– Следуйте на юг.
– Какой юг, к чертовой матери?! – Возмущался он.
Ему было интересно, кому принадлежит такой голос. Скорее всего, это программа, вряд ли настоящая женщина записывала бы в студии подобные инструкции. В любом случае, он старался представить ее внешность.
– Связь со спутником потеряна, – бырр бырр, – вибрирует телефон. – Следуйте на юго-восток.
– Ты должно быть шутишь…
Он начинал нервничать. До встречи еще сорок минут, по предсказаниям навигатора – семьсот метров и пять минут ходьбы в юго-западном направлении. Должно быть, магнитные бури, подумал он. Вспотел.
Какая новость: кругом строят дома, торговые центры, новостройки на панели, все под небом первых чисел марта. А в небе плавали серые голуби и пара сорок. Напротив выхода из метро, через дорогу, тоже стояло здание, голое и исписанное граффити, в окружении ржавых кранов. То ли не достроили и бросили, то ли решили сносить и все равно бросили.
– Продолжайте движение.
Вообще, говоря на чистоту, у метро его должна была дожидаться маршрутка специального назначения – прямиком до бизнес-центра. Никто не ждал. Он уж решил, что и здесь совершил ошибку. Он воспользовался советом из рубрики «как до нас добраться» с официального сайта, и, по всей видимости, неправильно его понял. На обратном пути тщательно проверил станцию на второй выход. Выхода не было. Но ведь отсутствие выхода не оправдывает отсутствие маршруток?
– Развернитесь, – издевается GPS.
У входа в парикмахерскую сидела на коленях старуха в платке и крестилась, и благословляла каждого из подающих. Крестилась и крестилась, без остановки, словно в трансе, уставившись в одну точку на асфальте. А всего в нескольких шагах от старухи, парень с рекламным щитом на груди раздавал листовки:
– Выставка дверей, приходите на выставку дверей!
– Направляйтесь на северо-запад.
Вот бы посадить тех «авторов-советчиков» с сайта на несуществующую маршрутку и отправить их, куда GPS скажет.
Злится. Даже как-то не смешно злится.
Он обгоняет девушку с розовыми волосами, двумя тяжелыми пакетами и кривыми ногами. Причем так уверенно и ловко это делает, как будто живет здесь всю жизнь и лично строил эти улицы, эти разбитые дороги. Но все меняется, когда он упирается в тупик, этакий урбанистический выкидыш. Розоволосая любезно просит сигарету. Последнюю любезную сигарету.
– Конечно, – говорит он. В рюкзаке лежат еще две пачки.
Согласно карте, он где-то рядом. Очень-очень рядом – нутром чует. Теперь идет дворами. Вот старый пудель в наморднике и бородатый его хозяин, и непонятно кто кого выгуливает. Вот две женщины средних лет решили передохнуть-переговорить-перекурить, и посадили свои сумочки на лавку, так что и неясно, кто кого носит. Вот два алкоголика сидят: он и она. По их лицам он безошибочно определяет, что только смерть разлучит их с бутылкой, но вот не понятно, кто кого пьют на самом деле. И все приправлено сыпучим снегом, мокрым асфальтом, сосульками-свечами, и голыми ветками, как трещины. Период полураспада зимы. «Прекрасное время, – думает он, – богатое живыми подробностями, экспрессивное, и никому не нравится, гнетущее, раздражающее, вязкое, липкое, противное». Мерзнут руки.
А вот и искомое. Здание с часами, как на фотографии, но без макияжа. Раскопал его, как клад. У центрального входа курили трое мужчин, обсуждали автомобили. Хотел было у них спросить, где здесь отдельный вход «с торца» в компанию «Н», но решил следовать своим инстинктам до конца. Хорошо бы – победного. Обошел здание слева. Уперся в шлагбаум, флагшток, и эмблему нужной компании. Для пущей уверенности поинтересовался у трех дам на крыльце:
– Это торец восемьдесят пятого здания дробь 2?
– Что?
– Торец.
Напротив – мусульманское кладбище. С верхних этажей, должно быть видны могилы. Странное соседство.
Внутри было предсказуемо. Серая плитка на полу, у входной двери специальные серые коврики, которые меняют каждый день, пара кожаных диванов, коричневых, удобных и мягких, как желе, стулья, серые, со спинкой, две штуки. Еще был большой аквариум, цвет коричневый, у тумбочки отломана дверка. Стойка регистратуры, большая, «под бук», с пластиковыми вставками и окантовкой типа «сталь». За стойкой секретарь, тоже часть интерьера, женщина тридцати пяти, немного раздражительная.
– Здравствуйте. Мне нужно в отдел кадров.
– По какому вопросу?
– Трудоустройство.
– Оформление?
– Собеседование.
– Цок.
«Да, – подумал он, – цок. Большой такой цок. Как можно еще лучше выразить свое раздражение или недовольство? Цок, етить».
– Вакансия?
– Администратор пункта выдачи.
– Заполните анкету.
Снял шапку, расстегнул пальто, присел, щелкнул ручкой. Оглянулся… Перед ним было человек пять. Все держали перед собой листочки, как на экзамене. Кто-то вносил последние изменения.
Стандартная анкета: гражданство, возраст, пол, семейное положение, опыт работы, уровень владения компьютером, табличка, в которой необходимо расставить оценки значимости факторов (пропустил), что для вас отдых, курите ли вы, укажите три ваших сильных и три слабых стороны, семь сытых лет и семь голодных. В конце анкеты размещены четыре вопроса на смекалку, озаглавленных так: «Тексты, которые помогут нам лучше узнать друг друга». Ему всегда нравились эти вопросы, это как кроссворд на последней странице политической газеты. Вопрос первый:
«Горело семь свечей, три погасло. Сколько свечей осталось?»
Остальные:
«Вы пилот самолета, летящего из Гаваны в Москву, с двумя пересадками в Алжире. Сколько лет пилоту?»,
«Обычно месяц заканчивается 30 или 31 числом. В каком месяце есть 28 число?»,
«Коробок спичек стоил 1 рубль 10 копеек. Затем он подешевел на ю%. Сколько стоит коробок теперь».
Что он узнает о компании, когда ответит на эти вопросы?
Когда частично заполнил анкету, секретарь попросила его подождать. Ждет. Смиренно и любознательно. Перед ним уже никого нет – машина работает без перебоя. Появляется девушка. Такая кроткая, скромная и тихая, как мышка. Она говорит по огромному телефону, объясняет маршрут.
– Поверните налево.
Должно быть, совсем недавно здесь работает – уж слишком неуверенно держится на серой плитке.
– Перед вами должен быть шлагбаум и флагшток. Ну, флаг, флаги. Да, сейчас.
Неужели она тоже из отдела по подбору персонала? Она неуклюже левитирует к секретарю:
– А вы можете поднять шлагбаум?
– Нет. Но охранники могут.
– А где они?
Стало быть, недавно. Стало быть, подбирает персонал, раз не видела стойку с ЧОПом дальше по коридору, за дверью стеклянной. Отсюда плохо видно, но там уютнее. И тоже стоит аквариум. Он вдруг вспомнил про ошибку в резюме. Он хотел написать, что у него есть большой опыт работы за контрольно-кассовым аппаратом, то есть ККА, а написал КПП. Контрольно-пропускной пункт. И так на всех шести экземплярах. Совсем запутался в сокращениях. Ладно, успокаивается, пусть шуткой будет.
Рыбка сказала цок.
Девушка с огромным телефоном отлевитировала назад. Через секунду в здание вошел тот самый мужик, которому она подсказывала дорогу. Он нес четыре больших коробки:
– Куда?
Мышка не успела ответить, как мужик сам пошутил:
– На пятый таж, дверъ налево. Ха-ха-ха, етить, – он оглянулся в поисках смеющихся, для поддержки.
– Да можете здесь ставить.
– Там еще штук десять.
«Это рыбка-клоун», – думает он. – Он где-то видел таких». Действительно клоун. Должно быть, самая печальная тварь на свете. В детских обучающих книжках написано, что собака говорит гав-гав. Кошка кис-кис, в смысле мяу. Бараны говорят бэээ, остальные на своих диалектах. Ничего там не сказано про рыбок. Готов был поклясться, что эта рыбка говорит цок. Она сейчас смотрит прямо на него. Пятьсот литров тропического дна с искусственными водорослями, термометром и ленивой улиткой. Они прекрасно понимают друг друга. Цок.
– Вы на позицию администратора пункта выдачи?
Идиллию нарушает еще одна девушка. Он поднимается:
– Ага.
– Пройдемте.
Тоже в балетках. Собеседование состоялось в крошечной прямоугольной комнатушке. Без окон. Стены были некогда белыми, нынче бежевые. Серый ковролин с засохшими пятнами – свидетелями былых или белых деньков. Комнату разделял небольшой рабочий стол. Еще там были два стула, вешалка, он, она, калькулятор и календарь. Последний на три месяца, с красной рамочкой под сегодняшнюю дату, и фотографией одного из городов золотого кольца. Непростительно большой календарь. Сюда бы лучше подошел на один день. Эта была определенно не та из комнат, в которых можно расхаживать кругами, размышляя о куда более интересных и полезных вещах. Здесь было тесно. Тесно для расслабленной обстановки, оригинальных замечаний, чего-нибудь окрыленного, например чувства юмора или аромата парфюма. Места хватало исключительно для быстрого профессионализма, и запаха ковра после чистки пылесосом. Ему стало интересно: можно ли поменять местами вешалку с календарем? Так, чтобы вешалка была с красной рамочкой, например. Началась пустая болтовня, этакое крепостное безумие.
– Вы закончили… цирковое?
– Да, так написано.
– Хм, как странно. В смысле это большая редкость, цирковое.
– Не то слово. В группе нас тоже было мало.
– То есть ты сможешь рассказать анекдот, стоя на канате?
– Я был на другом факультете, нас учили находить забавное в повседневности.
– Я смотрю, что вы по специальности не работали, в основном в продажах.
– Ну, ты знаешь, сука жизнь.
– Да, да…
– А почему цирковое?
– Для души. Я не знал, что будущее нужно планировать. Я думал, что оно абстрактно.
– Понимаю. Я вот тоже думала, что сегодня солнечно будет.
– Почему вы решили работать именно в нашей компании?
– Ну и черт же тебя бери, почему… Отправил резюме, вы пригласили. Если и на работу возьмете, тогда точно хочу в вашей компании.
– А если с моста попрошу спрыгнуть, тоже согласитесь?
– А сколько денег дашь?
– Последнее место вашей работы, здесь написано, повар-сушист. Почему ушли?
– Рыбу жалко. К тому же у нас с начальником резко ухудшились отношения с тех пор, как я переспал с его женой. Назойливый тип.
– И как она в постели?
– Это ничего не значит, ты же сама понимаешь.
– Ты знаешь, я подумала, что тебе не подойдет работа администратора пункта выдачи заказов. Все равно там только двадцать тысяч. Я готова предложить тебе больше. Гораздо больше. Двести тысяч и тебе ничего не надо будет делать. Ничего! Даже в офис ходить.
– Ну не знаю… А страховка будет?
– Пожалуйста, соглашайся. Сам подумай, ничего не делать за двести в месяц. Пожалуйста. Ты идеально подойдешь.
– Не уверен.
– Хорошо, триста.
– Надуй, пожалуйста, зеленый шарик. Я скручу из него жирафа.
– Как давно вы ищите работу?
– Вы ходили на другие собеседования?
– Почему отказывают?
– Пиписька не выросла.
– Ах ты клоун… Иди ко мне.
Она смахнула со стола резюме с калькулятором и сорвала календарь, а потом опрокинула стул – больше обжигающая страсть ничего не могла разрушить. И тогда она расстегнула свои штаны. А потом его. И случилось то, что случилось. На столе, в тесной комнате. Сам он не очень хотел, но это было единственным условием. Он зажмурился от нежелания. Она подумала, что ему хорошо.
– Это было прекрасно. Давай триста пятьдесят.
Они занялись этим еще раз, на ход ноги. Неожиданно в комнату ворвались террористы, с целью использовать эту кладовку в качестве тренировочного пункта. Но он обезвредил каждого из них сокрушительным ударом дзюдо, а последнего обезоружил красной рамочкой и проткнул вешалкой.
– Давайте в пятницу. Позвоните по номеру, по которому вы договаривались о сегодняшней встрече, и вам скажут результат. В любое рабочее время. Хорошо?
Он знает результат, но все равно позвонит в три часа.
Когда уходил, то сказал шлагбауму – воля, а флагштоку – отчизна. И так резко сказал, точно с намерением оскорбить. Иностранцы не оскорбились, даже не шевельнулись.
На обратном пути решил зайти в магазин дворового типа – в таких обычно отломаны все дверцы от камер хранения. Он хотел смочить горло. Купил водичку. Перед ним стояла молодая девушка. Она купила: лапшу быстрого приготовления, маленькую пачку классического печенья, питьевой йогурт и одну крошечную шоколадку. «Стало быть, – подумал он, – и она там работает».
Вдруг, ему предсказуемо захотелось творить. Писать и сочинять, отобразить на бумаге каждое мгновенье сегодняшнего дня. И такие красноречивые мысли в голову полезли, даже неловко. Он страшно не любил заставать такие моменты совершенно неподготовленным, но правила здесь диктует не он. Муза-шлюза заставляла писать палочкой по мертвому снегу. Он порхал. После лабиринта вышел на главную улицу. Старушка все крестилась, молодой парень всучил ему листовку:
– Выставка дверей!
– Нахрена мне выставка дверей?
Наивно окрыленный, он еще не знает, что через месяц будет вот так же стоять и зазывать прохожих на выставку карандашей.
У метро останавливали иностранных студентов для проверки документов, но только не его. Его вообще никто не тормозил. В вагоне парень напротив читал «flyxless», и тогда он подумал: а что если духа-то a lot, что аж из ушей течет, а всего остального zero. Пришлось записать в блокноте: где ваша палочка, господин Зеро? Какое замечательное название. Когда писал в людных местах, вот как сейчас, то научился смотреть только в блокнот, чтобы не вызывать подозрения. У того парня с книгой были еще интересные часы с прозрачным циферблатом. Они показывали не столько время, сколько сам его механизм. Записывает: ох уж это чаяние – отчаяние, глубокий пессимизм, шутки-дурки, неудовлетворенность и вопросы, повторения и смута, как будто соплями написано. «Какая навязчивая некомпетентность, какая заносчивая неприязнь», – думает он. – В следующий раз ему следует обязательно подать той старушке и рассмешить рыбку-клоуна, самую печальную тварь на всем белом свете.
Просьба
Он попросил прислать ему роман. Он сказал, что у него будет командировка на сорок дней, в далекий уездный город. И будет он сидеть в этом городе, замурованный серо-бетонным небом, как в саркофаге, черт их, мол, дери всех. Еще там будут долгие вечера и гнетущее безделье, уездная отчаянность. Словом, лучшее время, чтобы прочитать роман. Потому что, с его слов, он очень давно не брал в руки книг, даже для того, чтобы проверить цену. Ему крайне интересен мой роман, и велико его желание стать толику умнее от прочитанного. Говорит, что так и представляет себя лежащим на косой и скрипучей кровати, под отчаянно-теплым светом лампочки накаливания; за окном непогода, трубы живут своей жизнью, кран плюется, кипятильник пускает пузыри в железной кружке, а он лежит и весь такой просвещается, чтобы стать ярче лампы, и непременно новообретенные мысли суетятся в голове. Прелестно. Он так сладко описывал идиллию человека и книги, что я решил прислать ему сразу два романа. Тем лучше, сказал он.
Через сорок дней мы с ним увиделись снова. Под аплодисменты салюта, он виновато отводил взгляд, никак не решаясь признаться. Мне не терпелось выслушать пятнадцатого в моей жизни читателя. Горячо любимого читателя. Я даже подумал, что издание «из рук в руки по запросу» дает одно неоспоримое преимущество по сравнению с другими видами распространения литературы, а именно возможность самолично спросить мнение, глядя в глаза. Прямо в глаза.
Он сказал:
– Ты знаешь, я согрешил.
Он уточнил:
– Когда я туда приехал, то после работы стал пить. Сильно. Я напивался, как сволочь. На самом деле, я потратил около сорока тысяч на весь этот сволочизм.
На улице грохотало, точно на войне. Холодное небо окрашивалось сотнями вспышек до самого горизонта, под ликование горячей толпы.
Тем вечером, мы напились как сволочи.
Она проснулась раньше
Она проснулась раньше него. Без звонка будильника и посторонней помощи, а исключительно по собственной воле. Проснулась бодрой. Сначала она смотрела на него, как он спит. Он так мило спал. Затем она очень аккуратно передвинулась на самый край кровати, свесила ноги. Вот уже она поднимается. Пол холодный. Она забыла, в каких местах он скрипит. На цыпочках подошла к своей сумочке. Присела. Спросонок предательски хрустнул коленный сустав. В такой гробовой тишине, это было подобно звону колокола. Она и не подозревала. Решила больше не рисковать, и взяла сумку с собой. Из сумки выпала тушь. Думала, что сейчас сквозь землю провалится с этой тушью. Зажмурилась, не двигается. Но вроде бы все спокойно. Он не проснулся, а только что-то буркнул и повернулся на бок. Он так мило спит. Сопит и похрапывает, дергается верхняя губа, но все равно очень мило. Это все показатели глубокого сна и чистой совести. Что она найдет в ванной комнате? Ничего особенного. Типичные холостяцкие принадлежности: одна щетка зубная для труднодоступных мест, шампунь для нормальных волос, мыло, гель для душа. Пахнет как обычный мужской гель. Интересно, он поет, когда принимает душ? И если поет, то какие песни? Она хотела бы услышать. Она включила воду. Достала из сумки свою зубную щетку. Она знала, что сегодня проведет ночь с ним. Первую ночь, среди тысяч ночей. Чистит зубы. Пришлось одолжить его пасту. Он ведь не будет против? Конечно, нет. Ей хочется по-маленькому. Переживает, что слив будет слишком громким. Придется рискнуть. Потом она забудет поднять стульчак. Сейчас она немного освежит макияж. Чуть подкрасит губы и глаза. Интересно, что они будут сегодня делать весь день? У него только одно полотенце, но он так мило спит.
Да, сейчас она ляжет в постель. Он проснется. Она потянется, положит голову ему на грудь и скажет доброе утро. Она прихорашивается в ванной. Думает, что он не заметит. А он заметил. Когда он приготовит завтрак, она его похвалит. И кофе, говорит замечательный и такой ароматный. Хотя она и не пьет кофе. Для пущей сексуальности наденет его рубашку и распустит волосы. По-кинематографически предсказуемо. Все утро будет улыбаться, хлопать ресницами. Все начинается типично, у всех одинаково. Она будет светиться на работе, даже похорошеет. Подружки будут шептаться, кто он, каков он, у вас было? Через полгода он поведет ее в дорогой ресторан. Все официально, вечернее платье, пиджак, устрицы. После первого блюда она пойдет в уборную, и, убедившись в том, что там никого нет, начнет репетировать удивление. Возможно, она представит, как на свадьбе будет бросать букет своим подружкам. Знакомство с родителями, с друзьями. Начнут дружить только с парами. Все чаще будет оставаться у него. Сначала принесет свою косметику и майку… Нет, она возьмет одну из его маек, будет спать только в ней. Потом начнет покушаться на другое пространство. Будут в обнимку смотреть мелодрамы. Однажды, она позволит себе перед ним расплакаться. Первые праздники будут отмечать вдвоем. Вначале – только дорогие подарки, потом шарфы, гель для бритья и новые носки. Секс? В начале много, будут экспериментировать, страстно, словно бы высекают искры. Потом реже, и совсем редко. Она будет смотреть на его привычки, как на особенности. Будет любить каждую из них. А его друзья еще лучше, какие замечательные, конечно сходите в бар, нет, я не против. Потом… Есть это дурацкое потом, после. До и после. Начало второго акта драмы. Они съедутся. Все созидательно. Поход по магазинам, выбор мебели эпохи короля Карла XVI, который Густав. Их первая ссора случится из-за пустяка. Например, из-за цвета обоев. Найдут компромисс. Он терпеть не может всю эту кустарную живность, а она захочет разбить целый садик на подоконнике. Он уступит. Она уступит ему в его увлечении видеоиграми. Иногда, она будет смотреть, как он играет. Потом начнется период халатиков, домашних штанов и вонючих тапок. Ничего, оба терпят. Однажды во время ужина, она ему скажет, как бы невзначай, что ей стало очень неудобно добираться до работы. А он? Он добряк, он неплохо зарабатывает и полон притупляющей уверенности. Так и не ходи туда больше, скажет он, я неплохо зарабатываю. Много позже, скованный сомнениями он спросит себя: не было ли это продуманным шагом, спрятанным на дне тарелки будничного ужина? Так или иначе, но она уйдет с работы. Освободившееся время, сначала такое пугающее, подскажет ей планы на следующие годы. Дети. Добряк угодил в паутину – он не смел догадываться. Они попробуют. Ничего не получится. Она заставит его сдавать унизительные анализы, сама будет сдавать унизительные анализы, врачи будут унизительно расставлять руки в замешательстве. Это даже немного притупит их страсть, но она решит, твердо решит, даже несколько самоуверенно, что это лишь проверка прочности их отношений. И что если они действительно любят друг друга, то победят такую несправедливость вместе, даже если победа означает усыновление. А потом теплое солнышко их отношений закроют серые тучи. Три толстые тучи. Придет кризис экономический, неминуемо. Он потеряет свою работу, и в отчаянии перестанет быть таким добряком. Она вернется на свою, но с меньшим окладом. Теперь действительно неудобно добираться до работы, и самое ужасное, что и дорога до дома стала несколько отягощать. Причина тому – его индивидуальный кризис, вторая тучка. Он встретит парализующие вопросы смысла бытия безработным и безрадостным, словно бы у него отобрали точку опоры. И только одно по-прежнему приносит радость – видеоигры Ее это раздражает. Она, конечно, понимает его проблемы и такой своеобразный способ побега, но она никак не может примириться с вектором движения. Дело в том, ее вроде бы так воспитывали, что идти надо только напролом. У нее все схвачено и распланировано, и это, в свою очередь, раздражает его.
Тучка третья – кризис отношений. После стольких неудачных попыток создать семью, в подлинном значении этого слова, аляповатых ссор, безденежья и целого совка прочего, они охладевают друг к другу. Особенности раздражают, привычки непутевы. Даже в постели, они оба стараются быть как можно дальше от центра, забываясь сном, каждый на своей половине. Секс редкость, даже роскошь. Растет презрение. Так будет лет через пять. Возможно даже, что кто-нибудь появится на горизонте. На ее горизонте, он ведь будет копошиться в собственных сумерках, да и к тому же, она подвижнее.
А может быть и не совсем так, думает он, когда она входит в комнату, такая свежая и помолодевшая. В смысле не так в деталях, тут уж, как говорится, от перемены мест слагаемых. Она ложится. Он делает вид, что только что проснулся, и тогда она потягивается, и кладет голову ему на грудь. Доброе утро, как ты спал? Хорошо и крепко, а ты? Прекрасно, мне вчера очень понравилось. Да. Что будем сегодня делать? Начнем с завтрака. Он целует ее в лоб, идет в ванную. Забывает про неподнятое сиденье. Ну вот, вот, думает. За изменениями в отношениях можно наблюдать в сообщениях. Почта, телефон, в наше время с этим все в порядке. В начале сообщения громоздкие, красноречивые и сентиментальные. Затем покороче, с обязательным окончанием «я тебя люблю». Так продолжается достаточно долго. Затем уж совсем короткие, «ты где?» «ты скоро?», «купи то-то», «задерживаюсь» и тому подобное. В ванной комнате сохранился ее запах. Готов он всем пожертвовать? Он ведь изначально понял, что это не свидание на одну ночь. Это как выдергивать из головы седой волосок. Вероятно, она сейчас пишет подруге. Или ходит по комнате, рассматривая мелочи его натуры. Прикасается к корешкам книг, заглянет в шкаф, откроет ящик, ей же надо знать, как он складывает свое белье. Он аж скривился, там, в ванной, перед зеркалом. А она ведь ему нравится, может он влюбился? Сомневается, он осторожен.
Неясно, что будет потом. После кризисов. Они останутся вместе, или разойдутся? Будут ли дети? Сколько лет они проживут парой? Свадьба – обязательное условие. Он не хочет, и вообще считает это глупой затеей, но она, очевидно, придерживается другого мнения. Однажды она ему скажет: мои биологические часы тикают! Сколько еще раз она будет просыпаться раньше него, чтобы подкраситься? А если он все-таки добряк, а она уйдет с работы? Придется ему тогда ограничиваться в своих желаниях. А вдруг он влюбится в кого-нибудь, когда уже будет с ней? Что тогда? Будет гулять с сыном по парку, и влюбится. Как в том анекдоте, никому не хочется умирать в одиночестве. Сейчас он варит кофе, а она надела его рубашку, ждет и наблюдает. Он умирает, она держит его за руку, и вроде бы он должен себя чувствовать спокойно и смиренно… но нет. Вдруг он подумает тогда, на смертном одре, что она все-таки треклятая сука, и из последних сил постарается убрать свою руку? Он наливает в черный кофе молоко, смотрит, как меняется цвет. Белое и черное. Кто-то любит черный, как он. А кто-то предпочитает с молоком. Черный кофе, белое молоко, и что-то бежево-коричневое вместе. Слушай, он спрашивает ее, а тебе нравится кофе, только честно? А что? Ну, мне просто интересно. Так, иногда… мне больше нравится зеленый чай. Неужели, думает он, это все из-за страха смерти и одиночества, и продолжения рода? Неужели у него кризис? Он где-то читал, что в ближайшие годы возможен экономический… Слушай, говорит он, я думаю, что нам не стоит больше видеться.
Текстура от плоти его
Несчастье, как состояние, было сосредоточено в нем. И в этом он был солидарен со многими до него. Оно было сосредоточено в нем, и затем уж, исходило из него, затрагивая все новые и новые аспекты его жизни. Он был несчастным по определению. И мысли его были тоже несчастны, невысокого полета, и их также неминуемо тянуло к земле. Он был таков.
Но двадцать первый век, весьма предсказуемый, потому что шаблонный, и поэтому хромой, наступал на тень его любознательности. Он, этот несчастный, но любознательный, решил купить себе видеоигру. Смысл видеоигры был следующим: игрок создавал персонажа, любой внешности, и наделял его любыми чертами характера и интересами. Затем строил игрок своему персонажу дом, и находил ему работу. У персонажа было несколько показателей, как на приборной панели самолета: показатель настроения, социальной активности, голода, усталости и прочего. В задачи игрока входило поддерживать эти показатели на должном уровне, так как персонаж, пусть и обладал свободной волей, был весьма несамостоятельным, и мог, например, умереть с голоду, пренебрегать личной гигиеной, и так далее. Несчастно-любознательный создал персонажа по своему образу и подобию. Наделил своей внешностью, своими чертами характера, интересами и несчастьем. И построил дом ему, как свой, только виртуальный. И решил он, любознательно-несчастный, проследить за жизнью своего подопечного, с целью выяснить, что в реальной его жизни не так. Он кормил своего персонажа только когда ел сам, укладывал его, только когда сам ложился спать, мыл его, когда сам мылся и так далее. Создатель стал жизнью своего персонажа, как бы его инстинктами, или тем, что побуждает каждого из нас совершать те или иные действия, чтобы показатели были в норме. Это даже заставило несчастного задуматься и посмотреть на небо…
Так продолжалось некоторое время: жизнь персонажа стала точным отражением жизни создателя. Но затем, жизнь создателя стала хуже жизни персонажа. У персонажа получалось значительно больше, чем у своего создателя, из-за того, что мир, в котором жил персонаж, в отличие от него самого, не обладал свободной волей, а только программной логикой-кодом, и, следовательно, был проще реального мира. Персонажа пришлось поторопить, используя читкоды, пришлось его уволить и рассорить с друзьями-соседями. И вот они, создатель и персонаж, вновь сравнялись. Теперь персонаж и его создатель бегут вровень, к кульминации, и у каждого из них на душе и в жизни также плохо, как и у другого.
Создателю, любознательному, но несчастному, по-прежнему очень интересно, что же будет дальше с его персонажем, особенно сейчас, и что будет делать персонаж, наделенный свободной волей, но ограниченный цифровыми рамками своего мира, площадью всего несколько гигабайт, и совершенно не догадывающийся о том, что он – только персонаж, и за ним, в целях научного эксперимента, следит любознательный создатель. Все запуталось, как провода.
Спустя некоторое время, в невыносимой депрессии, вызванной внутренним несчастьем (об этом свидетельствовали показатели), распространенным, как плесень, на внешние аспекты его жизни, персонаж, – эти пиксели, полигоны и байты, наделенные свободной волей, – кончает жизнь самоубийством через повешение. Создатель обескуражен, и, неспособный сделать хоть какие-нибудь выводы, задумчиво смотрит на небо через грязное окно, как бы в поисках объяснений, чувствуя себя еще одним персонажем более сложной игры.
Баланс
Вот, к нему подошел разгневанный покупатель. Нахамил. Он был недоволен качеством товара, и в отместку продавец нахамил другому покупателю. Еще собака, совсем щенок, сожрала важные документы, за что была благополучно избита и оставлена без обеда. Один школьник, позабыв домашнюю работу, получил двойку, а за оценку, лишился еще и двух вечерних часов игры на компьютере. Долго он сидел и недоумевал над печальной и хромой несправедливостью, держа в руках забытое домашнее задание. А уж потом, когда скромно шагая по коридору задел носком телефонный провод, он разочаровался окончательно – старший брат стукнул его со злобы, вдобавок уколов расхожей фразой «за нечаянно бьют отчаянно». Потому что брат тогда страдал тревожной печалью – невеста была недовольна его вызывающим поведением на прошлой вечеринке. На то были причины, он говорил. На то были причины, вторил ему лучший друг. На то не было причин, не соглашалась девушка. Потому что на работе в ресторане посетитель не дал ей столь необходимых чаевых, вследствие чего ей пришлось занять денег. Посетитель не дал чаевых, так как его псом был съеден важный документ, что возбудило в нем чувство алчности. Дело в балансе, говорил молодой человек. Берегись официантов, говорил он, ибо в их власти твое пищеварение. Над ним смеялись, пока он, за хамство одного из завсегдатаев, не плюнул тому в тарелку с салатом, успешно замаскировав месть листочком базилика. Завсегдатай ничего не заметил, ведь он очень устал от оскорблений в его адрес на работе, когда принес товар ненадлежащего качества. А затем и официант был оскорблен в магазине, куда случайно зашел следом за своим обидчиком. Поэтому он напился на вечеринке тем вечером. Дело в балансе, подумала голодная собака, пожирая важный документ – я не должна мириться с плохой памятью своих хозяев. Дело в правильном рационе, решил ее хозяин и не стал кормить пса. Дело в балансе говорили школьнику, вырисовывая двойку в журнале, ты вновь не принес домашнее задание, за что и наказан. Хорошо, пусть в балансе, думал школьник, но разве баланс в деле?
Записка старого кота
Мои ногти тупеют.
Характер тупеет. Обиды я больше не принимаю так близко к сердцу.
Несправедливость от старости.
Консервы лишили гибкости, неуклюжесть сменила грацию. Хромаю.
Клубки седых волос, которые я выплевываю, становятся все меньше. Подолгу сижу напротив стены.
Лишний вес прибивает к полу. Ем лежа, гажу лежа, хожу лежа. Много сплю.
Вызываю жалость у золотой рыбки.
Два пластиковых шарика-погремушки, напоминают мне о чем-то давно мною потерянном.
Девять жизней говорят. Думаю, что пару задолжал.
Через меня перешагивают.
Поймал себя за игрой в горшке. Лепил бабу, но забыл, как выглядит. Потом уснул.
Вообще стал много спать.
Так, однажды, во время сна, упал с подоконника. Даже не проснулся.
Весь следующий день был занят подъемом обратно. На вершине захотелось в туалет.
Или бабу.
Шутки еще остались, но я стал часто повторяться.
Морщины теперь есть даже на моей подушке.
Ногти тупеют.
Дина Николаева г. Москва
Родилась в Баку. Учеба и нынешняя жизнь – в Москве. Образование привлекает как процесс, поэтому его продолжаю, но дипломы не коллекционирую, ограничившись двумя университетскими. Экономист.
Пишу, что пишется само, зачем-то ищет выхода.
2013 г. Первая проба пера – рассказ «Выбор?» – «Хрустальный Дюк» международного конкурса имени Дюка де Ришелье в номинации проза.
2014 г. «Отражения» – Альманах № 10 «Дебют» Национальной литературной премии «Писатель года —2014».
«…И пусть порою кругом голова От пустоты, от недостатка света И воздуха, от веток по щекам — Еще найдутся нужные ответы И музыка напишется к стихам!…» М. Мамаев© Николаева Д., 2015
Помнишь ли ты, Барбара?
Помнишь ли ты, Барбара, Как над Брестом шел дождь с утра, А ты, Такая красивая, промокшая и счастливая Куда-то бежала Вспомни, Барбара… Жак ПреверЧуть-чуть пройтись пуховкой по лицу. Несколько взмахов щеткой и волосы заструились, отливая платиной. Глаза блестят – отлично.
И хорошо, что не нужно одеваться и краситься. Очень хорошо, что Он всего этого не любит. Еду привезли из ресторана. Спиртное – не ее забота. Все. Успела!
Переливистая трель дверного звонка подтвердила, что успела в самый раз.
Мужчина шагнул в уютный полумрак квартиры, привычно прижал на мгновение податливое женское тело, вдохнул знакомый запах духов.
Привычно, буднично, но что-то было не так. Она ощутила это странным холодком где-то очень глубоко внутри. Этот нутряной сквозняк появлялся в последнее время все чаще и уже начинал ее беспокоить.
«Что не так? Почему?»
А мужская рука, между тем, соскользнула и уже не поддерживала гибкую спину.
«Слишком быстро. Раньше Он так не делал. Придется сегодня выложиться по полной… А это еще что? Почему не разувается? Не говорил же, что куда-то идем. Черт! Неужели смс-ку пропустила?»
Мужчина прошел в комнату, вслед за женщиной, небрежно бросил пиджак в кресло, сам опустился в другое, вытягивая длинные ноги. Это как бы отрезало ее, блокировало в углу, и она мысленно поморщилась. Но, только мысленно. Нежная улыбка не исчезла с лица.
– Устал? – она склонилась и обняла, потерлась щекой о висок, тонкие пальцы ловко расстегнули пару пуговиц и скользнули по горячей коже.
«Черт! Почему Он не реагирует? Неужто, и правда, устал? Ладно, сейчас отыграем назад. Массажик, а потом…»
Женские руки вынырнули из-под белой рубашки и легли на мужские плечи. Они уже мягко сжались в разминающем движении, когда ровный голос произнес:
– Не надо, Барб.
Она машинально снова сжала ладони.
– Что?
– Не надо – отчетливо повторил голос – Зачем тебе это, Барб?
– Что? Я не понимаю – женщина замерла, замерли на мужских плечах ее руки.
– Вот это зачем? – мужчина своими сжал тонкие женские пальцы, отстранил и отпустил
– Я… Я соскучилась… – выдавила она, безвольно опуская руки.
– Ты же не нимфоманка, Барб, чтобы заскучать за… – он взглянул на циферблат антикварной штучки на столике – два часа.
– Ч-что?
– У тебя же был секс. Два часа назад.
Голос был таким ровным, таким будничным, что смысл слов не сразу до нее дошел и она снова, растеряно переспросила
– Что?
– У тебя. Был. Секс. Два часа назад – все тот же спокойный тон не давал перестроиться – Подай, пожалуйста, пиджак.
Машинально, женщина повернулась ко второму креслу, взяла просимую вещь и передала.
Мужчина вынул из кармана конверт и протянул ей.
Затравлено она смотрела на склеенный бумажный прямоугольник.
Он качнул этим аккуратным белым пакетом.
– Не хочешь посмотреть? Впрочем, ты права – хорошо выглядит только постановочный секс.
Брошенный легким движением, конверт лег на столик и женщина повторила взглядом короткую траекторию полета.
– Вот я и спрашиваю, Барб: «Зачем?». Не знаю, сколько у тебя было… Мне известно о троих. Последний раз – два часа назад. На свидание ты пришла очень красивая. «А ты, такая красивая, промокшая и счастливая, куда ты бежала в тот день, Барбара?..» Ты счастливая, Барб?
Она молчала, все еще пытаясь осознать то неправильное, что сейчас происходило. И рифмованные строчки этому сильно мешали.
Мужчина устало потер ладонями лицо.
– Послушай меня, Барб. Постарайся, во всяком случае, – все также спокойно, только разве что глуховато, он продолжил – Документы по фирме нотариус привезет тебе завтра. Ты их подпишешь. Квартира оплачена еще за два месяца. Я пришлю тебе координаты агентства, сможешь, если захочешь, продлить договор аренды этого. – круговой жест руки обозначил пространство, которое еще было ее домом – Деньги я оставлял неделю назад. Ты не могла еще их потратить. Потом можешь продать машину. Она новая, тебе может хватить примерно на год. Если вспомнишь прошлые навыки обычной женщины.
Барб, помнишь, тот дом на озере, что мы смотрели? Тебе он еще понравился. Я решил его все же выкупить… – секундное молчание сгустилось, а потом он поднялся – Ну, вот вроде, и все.
В следующее мгновение ее взгляд уперся уже в мужскую спину, в распрямившиеся широкие плечи, обтянутые белым хлопком рубашки. В проеме двери он остановился и невероятная надежда успела вспыхнуть в женщине. Вспыхнуть, чтобы тут же быть погашенной спокойным, хоть и глуховатым голосом.
– Да, Барб… Будь осторожнее с мужиками. На твоем последнем долгов, как спелых яблок на яблоне в урожайный год. Скоро сыпаться начнут.
Барбара…
Ее имя он протянул нараспев. Как когда-то, под звуки рояля, когда их история начиналась…
Предать легко
«Я предала его… Так просто… Так буднично…».
Девушку звали Мариной. И эти, совсем неуместные на лекции по физике, мысли стучали в ее хорошенькой головке. Взгляд был обращен вперед и вниз. Так уж устроены традиционно лекционные залы в ВУЗах. Лесенкой – от преподавательской кафедры наверх к галерке. Тот, к кому был обращен взгляд Марины и ее мысли, сидел на несколько рядов ниже. Пряди светло-пепельных волос аккуратно подстрижены. Может быть, немного длиннее, чем предписывает военная кафедра, но аккуратно. Кремовый пуловер мягко облегает прямой разворот плеч и открывает шею. Вот он наклонился, будто ищет что-то на скамье рядом, и вдруг… обернулся. Марина непроизвольно дернулась. Ей показалось, что серо-стальной взгляд ощутимо уперся прямо в нее. Сейчас серо-стальной, а бывает, что отливает синевой. Нет, конечно же, она не может различить на таком расстоянии цвет глаз. Ей просто, кажется…
«Я его предала… О нем сказали. При мне сказали. И мне. А я промолчала. Побоялась. Чего?! Что выдам себя. Что подружка посмеется. Я ведь могла сказать, что она не права. Или, по крайней мере, чтобы не говорила такого мне. А я промолчала. Вернее, проблеяла что-то. Лучше бы уж совсем молчала. Хотя… Какая разница?! Все одно – предала… А если… А, вдруг… Катька права?.. Ну и пусть! Но говорить, так говорить, она не должна… Нет, это я не должна такое слушать. Иначе, все, что я чувствую, все мое ничего не стоит. Я ничего не стою!»
Марина вспомнила снова, как подружка назвала парня, и ее замутило. ЕЕ парня.
Нет, ну конечно, не ее, на самом то деле. Ей просто хотелось, чтобы так было. Грезилось. Мечталось…
И вот. Слово. Одно слово.
– Привет!
Марина вздрогнула и обернулась. И столкнулась с взглядом. Тем самым взглядом, от которого ее вот уже несколько месяцев бросает то в жар, то в холод. Хорошо, что видит она его нечасто.
А вот сейчас, кажется, что он сверкает. Голубовато-серебряным.
– Привет…
– Тебе помочь? А то ведь затолкают – молодой человек лукаво улыбнулся – Давай номерок и жди, я быстро.
Марина растерянно протянула пластиковый кругляшок своей Грезе, которая, с совсем не подходящей для Мечтательного Образа активностью, протолкался через бурлящую и гудящую студенческую толпу к окошку гардеробной. И через пару минут уже вернулся обратно, держа в руках ее пальто и свою куртку. Он даже галантно помог Марине.
Ей впервые подавали пальто. Вот так, как даме.
Он, наверное, тоже делал это впервые, поэтому оказался немного неловок. Держал пальто чуть выше, чем нужно, и Марина не сразу попала в рукава.
Но, разве это было важно?
Они вышли на улицу и пошли, осторожно обходя особенно грязные кучи подтаявшего снега.
Марина совсем не торопилась. И ее спутник, казалось, тоже.
– Я думал, что ваши уже все разбежались.
– Да я на кафедре тут была.
– Хочешь, угадаю на какой? Физика?
– Угу – Марина грустно кивнула
– А кто у вас?
– Вышняк (так в студенческой среде преобразовалась красивая и звучная фамилия Вышнеградский, обладатель которой был маленьким, кругленьким, и больше всего напоминал колобка).
– У-у-у. Понятно…
– А ты что? Сдал?
– Ага!
Откровенная победность в тоне, для Марины, ничего не испортила в парне. Даже наоборот.
– А кому?
– Аленушке. Она у нас ведет лабы.
– Как?! Как ты ухитрился, Леш? Она же еще вреднее, чем Вышняк.
– Личное обаяние плюс настойчивость.
Марина растерялась. Что-то неприятное почудилось ей в ответе. Легкомыслие? Самоуверенность? Нет, от таких определений она была далека. «Личное обаяние и настойчивость»? Это Аленушке адресованное обаяние? Этой грымзе настойчивость? То есть… Это как?!»
Молодой человек, видимо, почувствовал какое-то напряжение, и поспешил все же объяснить.
– Да я к ней на спецкурс еще ходил. У меня автоматом зачет. Нормальная она, кстати. Если не нарываться. А хочешь, я попрошу ее, может, она примет у тебя лабы?
– Ой! А разве так можно?
– Когда начинается сессия, то можно. Берешь допуск в деканате и идешь к тому преподу, кто свободен. Обычно, конечно, они чужих не очень то берут. Но, Аленушка Вышняка терпеть не может. Думаю, она примет.
Девушка заколебалась. Ей очень приятна была предложенная помощь. Им предложенная. Ведь это значит, значит…. Но, с другой стороны, выглядеть в его глазах дурочкой, которая не может сама справиться с учебой, не хотелось. Да и «личное обаяние» обращенное не к ней, не слишком было по вкусу. Последнее и стало определяющим.
– Спасибо, Леш. Но я, все же, попробую сама доедать. Тем более, только одна лаба и осталась.
– Ну, как хочешь… – парня, похоже, задел отказ.
Но, не надолго. И, вскоре, они вновь смеялись и болтали, беспорядочно перескакивая с одной темы на другую. Как знать, как продолжился бы тот вечер, если бы Марина, вдруг, не спросила
– Леш, так ты уже вышел на сессию? Все зачеты закрыл?
По непонятной причине молодой человек резко помрачнел
– Нет, еще. Сопромат остался
– А…
– Извини… Я тут вспомнил…, мне еще нужно в одно место забежать. Пока
– Пока…
А ведь все тем вечером могло быть иначе.
– Кать! Ну, куда ты меня тащишь?! – Марина довольно безуспешно пыталась высвободиться из крепкой хватки подруги.
– Ты ведь не поверила мне тогда? Про Лешку… Ведь не поверила?
– А почему я должна была верить?! Ты что, свечку держала?
– Ну, вот еще! Сейчас, вот сейчас, сама убедишься. Сама увидишь. Только тихо – подруга втянула Марину за собой, в какую-то маленькую дверь – Тсс!
Это была узкая как пенал комната, заставленная всякой всячиной, заваленная свернутыми в рулоны чертежами. Чужая рука подтолкнула девушку к другой двери, чуть приоткрытой. Через оставленную щель она увидела помещение, которое опознавалось, как класс кафедры сопромата. Он был небольшим и на противоположной от укрытия девушек его стороне стояли два человека: преподаватель дисциплины «Сопротивление материалов» (которого студенты величали Перельмашей, преобразовав распространенную, почему то, во всех вузах фамилию Перельман) и… Алексей. Леша. Объект наивных девичьих грез.
– Вот. Смотри. Перельмаша Лешку обхаживает.
– Катька! – сердито взъерошилась Марина – Он, наверно, зачет принимает…
– Ага! Принимает. И за плечико, это для понятливости. Смотри, смотри! И ладошку пожимает. Вот, значит, как наш красавчик – Лешенька, зачеты сдает. Вот они, его пятерочки…
– Кать! Прекрати!
Но, подругу было не остановить. Ее глаза расширились и возбужденно блестели и она жарко шептала прямо в ухо Марине.
– Ух ты! По-моему, Перельмаша сейчас всерьез к Лешке полезет…
Марина не выдержала. Оттолкнув Катерину, ринулась к выходу. В узкой комнатенке она сильно ударилась локтем о край полки и оттуда посыпались какие-то бумаги. Прядь длинных волос зацепилась за пуговицу пиджачка «подруги». Резкий рывок, короткая пронзительная боль и на пол упала заколка.
Марина этого не заметила. Она вообще пришла в себя только на улице. А безделушки хватилась уже дома. И сразу поняла, где ее потеряла. Ей было жаль вещичку. Не из-за стоимости, хотя украшение было довольно дорогим. Подарок отца, привезенный им из-за границы специально для дочери. Резная кость, ручная работа. Такой, ни у кого из девчонок не было. Но, от мысли вернуться и поискать, Марине стало нехорошо…
По институту поползли слухи. Не быстро, поскольку в период сессии коллективная активность студентов заметно снижается, всех интересуют преимущественно собственные дела и, даже, собственные зачетки. Но, пространство вокруг Алексея, как будто, разряжалось.
– Леш! Подожди! – Марина почти запыхалась, нагоняя парня – Привет!
– … Привет
– Тебя не видно совсем…
Молодой человек промолчал
– Леш, а… как с сессией? Вышел?
Вообще то, о том, что к экзаменам его не допустили, Марина уже знала. Но, ей ведь нужно было спросить. Она больше не могла терзаться одними и теми же мыслями. Поэтому, сегодня ждала его у деканата. Она узнала, через третьи-четвертые руки, уши, языки, что Алексей должен сегодня прийти. Она ждала. И, все равно, чуть не пропустила его, отлучившись на какие-то несколько минут.
Он отрицательно качнул головой.
– Сопромат? Да? Перельмаша?
Теперь отвечающий жест был утвердительным.
– Леш, а нельзя, кому-то другому сдать? Ты ведь говорил мне, что так делают…
Кривая усмешка исказила правильные черты.
– Он – зам. зав. кафедрой и еще… В общем, против него никто не пойдет
– А… как же ты…
– Я оформляю академ. Потом переведусь в другой институт.
– Ты потеряешь год?
– Да. Потеряю. Ничего – он снова усмехнулся – Поработаю лаборантом.
– Здесь? – Марина с надеждой встрепенулась
– Нет. В НИИ. Аленушка порекомендовала. Вот заканчиваю здесь – парень показал какие-то бумаги, которые держал в руке – и выхожу туда.
– Леш, я хотела спросить…
– Что?
– Леш, а почему он… ну, то есть, Перельмаша… Почему он к тебе докопался?
Алексей, до того смотревший куда-то в сторону, взглянул Марине прямо в глаза.
– Ты же знаешь. Зачем спрашиваешь?
Марина растерянно потупилась.
– Леш, я…
Алексей на ощупь открыл молнию кармана на своей сумке, пошарил там и вынул что-то, зажав в кулаке. Он протянул перед девушкой руку и раскрыл ее. На ладони лежала заколка. Резная кость, ручная работа.
– Вот… Ты забыла… В лаборантской…
Между ними повисло молчание. И оно уплотнялось с каждой миллисекундой, пока не стало ощущаться твердым, как стена
– Ну, я пойду… Мне еще печати поставить нужно, а там по времени строго. Пока…
Она смотрела на быстро удаляющуюся спину. Вот, как будто, прямее развернулись плечи…
«Он не простит. Я предала его»
Должны сбываться мечты?
Привет, моя Серебряная Птица, мой поезд прибывает ровно в семь. Нам с осенью поется и не спится, она, как мушкетер – одна за всех. Какой купаж из гордости и чести, безумия, отваги и любви — не ждем, освобожденные, известий от наших бессловесных визави. Мы так отважно этого хотели, спроси меня о главном – не солгу. Подвески королевы на постели. Задерни шторы, отпусти слугу. Кот БасеЖелтые и красные листья на темно-сером, мокром асфальте. Качающиеся под порывами ветра ветви деревьев. Низкое серое небо, с которого не столько сыплет, сколько висит какая-то морось.
Рослый мужчина, стоявший перед пятиэтажным зданием красного кирпича, поднял повыше воротник своего итальянского плаща и провел ладонью по коротким волосам. Пальцы стали слегка влажными. Он уже успел давно подзабыть, какой бывает московская осень.
В окне третьего этажа, на которое смотрел мужчина, прорисовывался силуэт молодого человека. Вероятно, из глубины комнаты его окликнули и парень отвернулся. Видна была только его рука с зажатой между пальцами сигаретой. Затем он загасил окурок и прикрыл створку.
«Курят. Хотя запрещено. Впрочем, и раньше курили…»
И в этот момент…
– Рихард! – возглас за спиной был таким неожиданным
Мужчина недоверчиво и медленно обернулся. Недоверчиво потому, что окликать его было просто некому. Никто не знал, что он будет здесь. Да что там! Даже он сам еще несколько часов назад не ведал, что форс-мажорные обстоятельства перекроят распланированное расписание его дня и несколько часов окажутся совершенно свободными. Как мог кто-то искать его здесь, если решение поехать в старый рабочий район, было принято им совершенно спонтанно. И, тем не менее, незнакомый голос произнес его имя еще раз:
– Рихард!
– …???
Особо многочисленных вариантов принадлежности голоса не было. Точнее, их не было совсем. За спиной оказался только один человек. Женщина. Когда она там появилась, мужчина не мог бы сказать. Он бы и не заметил ее, настолько она вливалась в осенний городской пейзаж. Хотя безликой ее назвать было бы нельзя. Поверх графитово-серого длинного пальто был наброшен яркий красный шелковый платок. Наброшен необычно – углом на одно плечо, и затейливо закреплен на втором. В свете уже включенных фонарей ее волосы отливали медью, а когда она слегка повернула голову, сверкнули глаза. Желтым огнем, как у кошки.
– Рихард! – сказала она в третий раз. – Здравствуйте!
– Здравствуйте, – мозг стремительно перебирал извлекаемые из памяти образы в тщетной попытке опознания.
– Не напрягайтесь, – женщина слегка улыбнулась, склоняя голову к левому плечу. – Вы не сможете меня вспомнить, поскольку мы не были знакомы. Но я вас знаю. Решили наведаться по старым местам?
– Да вот…
– Вывеску видели?
– Видел. Уже университет – непроизвольно мужчина улыбнулся.
– Да. Университет. Уже два года как переименовали. Я часто тут бываю. Офис недалеко. А где были ваши окна?
В вопросе мужчине почудилось непонятно жадное любопытство и он почувствовал себя неловко, но, тем не менее, ответил
– Крайние. Третий этаж.
Женщина проследила за его взглядом, и снова сверкнули желтым огнем ее глаза. Или это такой причудливой была игра света?
– Хотите, войдем внутрь? – она кивнула на ступеньки, ведущие к двери.
– Нас не пустят без пропусков. Там же охрана – пожал плечами мужчина.
– А мы попросим. Есть у вас какой-то документ?
Он, молча, достал из внутреннего кармана и протянул ей паспорт.
– Отлично! Пойдем? – женщина взяла книжечку в обложке дорогой кожи, сделала два шага вперед и обернулась, словно желала убедиться, что он не исчез никуда.
Ничего не оставалось, как последовать за ней и придержать тяжелую дверь.
Внутри, возле стеклянного ограждения помещения охраны, она наклонилась к окошечку. Он не слышал, что именно она говорила, поскольку стоял в нескольких шагах позади и чувствовал себя все более неловко. Ему показалось, что между его и ее документами, протянутыми в окошко, мелькнула цветная бумажка.
К его удивлению, женщина выпрямилась и махнула ему рукой, показывая, что их пропускают. Когда прошли через турникет и уже поднялись на один лестничный пролет, он прервал молчание:
– Вы что, дали взятку?
Она вновь склонила голову к левому плечу, лукаво улыбнулась и кивнула.
– Да. Это очень плохо? Вы так никогда не делаете?
Он промолчал, оглядываясь по сторонам. Сознание отмечало знакомые детали, сверяя с подсказками памяти. А там, где находило различия, удивлялось. Хотя эти различия, в силу прошедшего времени, были более естественны, чем тот факт, что многое все же осталось неизменным.
– Похоже? – женщина снова улыбалась, и он невольно ответил на ее улыбку взаимной, хотя не мог бы сказать улыбается ей или своим мыслям.
– Да. Похоже. Даже странно, как мало все изменилось.
– Поднимемся в вашу бывшую комнату?
– Наверное, это неудобно… – мужчина заколебался.
Но женщина тряхнула головой и на мгновение взметнулись и вновь легли как и прежде, отливающие медью пряди ее волос.
– Мы же на минутку. Пойдем?
И он пошел за ней, слушая стук каблучков и думая, что очень странно было не услышать на улице ее приближения.
Дверь им открыл молодой человек.
– Здравствуйте! Вы извините нас, но мой друг когда-то жил тут. Вы позволите нам войти? Совсем ненадолго.
Внимательный темный взгляд за стеклами очков в тонкой оправе скользнул по мужчине, затем по женщине, а потом парень кивнул и посторонился, пропуская гостей в комнату.
– Проходите. Сидеть, правда, негде. Стул только один. Второй вот сломался, никак не починю. Но, можно на кровать. Я сейчас…
Молодой человек сгреб лежащие вещи и разом запихнул их в шкаф.
– Вот. Присаживайтесь.
– Спасибо! – женщина вновь улыбнулась и парень даже слегка покраснел.
Мужчина же усмехнулся чему-то.
– У меня стул тоже все время ломался. Раз пять чинил. Надеюсь, это не тот же самый
– Вряд ли – парень хмыкнул – В общаге мебель вообще часто ломается.
– Угу. Кровати особенно – фыркнул мужчина.
И смеялись уже все трое.
Перекинулись еще несколькими фразами. Гости отказались от чая-кофе и распрощались. Когда они вышли обратно в коридор, мужчина кивнул в левую сторону:
– Там была кухня.
– Может, она и сейчас там. Посмотрим?
Он кивнул.
Кухня и вправду оставалась на прежнем месте. Было пусто. Но на двух конфорках плиты стояли сковородки.
Неожиданно для самого себя мужчина рассказал, как однажды на этой вот самой кухне, из также оставленной на конфорке кастрюльки, у него пропало мясо. Но не все! А только примерно треть. На выступающую часть крышки была прикреплена записка с одним словом: «Спасибо». Он рассказывал, как сначала разозлился, потом смеялся и даже, пытался определить «похитителя» по почерку. Больно уж странным было «похищение». Женщина хохотала над подробностями «следствия» и, наконец, все еще прерывающимся от смеха голосом, выдавила
– А… зачем?
– Ну… Как зачем? Нечего тут было по кастрюлькам шнырять!
– Так, кушать, наверное, хотелось. Очень.
– Можно было попросить. Я что же не отрезал бы кусок мяса?! Да хоть все!
– Так уж и все? – лукаво сверкнули желтым огнем глаза.
– Ну… да. Наверное.
– Но вы его не нашли?
– Увы.
Мужчина уже не помнил, когда столько смеялся за такое короткое время. Поэтому, уже убирая во внутренний карман плаща возвращенный охраной паспорт, на ступеньках у дверей общежития, он, не отдавая себе отчета зачем, спросил:
– А чай-кофе вы, действительно, не хотите?
– Спасибо – женщина вновь склонила голову набок, но, почему то, уже не улыбалась.
– Спасибо да или спасибо нет?
– Да. А куда вы хотите пойти?
– Даже не знаю. Так давно в Москве не был. Все изменилось. А… Вы говорили, что работаете где-то недалеко. Значит, хорошо знаете район. Ведите.
– На соседней улице есть итальянский ресторан. Иногда, мы с коллегами заказываем оттуда пиццу. И там хороший кофе. А еще, тут на углу есть студенческое кафе. Кажется, оно было еще тогда.
– Столовая…. Там была столовая. И кофе в граненых стаканах.
– Теперь кафе. Работает допоздна.
– И вы предпочтете студенческое кафе итальянскому ресторану?
– Почему нет? – снова показалось в свете фонарей, что сверкнул золотом взгляд – Если компания хорошая.
Когда они вошли в кафе, там сидело несколько парочек и в углу группа человек шести. В противоположном уголке столик был свободен.
Стулья простые, но деревянные, а не пластиковые. А столешница покрыта толстым стеклом, под которым неровно, как бы в беспорядке, были расположены газетные вырезки.
Мужчина хмыкнул про себя, оценив изобретательность творца интерьера. Он помог своей неожиданной спутнице снять пальто. При этом костяшки пальцев едва ощутимо скользнули по ее плечам.
Импровизированное меню в виде ламинированной красочной картонки уголком стояло на столике. Мужчина протянул его женщине, но она покачала головой:
– Я буду только чай
– Закажите хотя бы десерт.
– Нет. Спасибо.
– Вы на диете?
Женщина покачала головой:
– Диета со мной не совместима. Никогда не хватало силы воли.
– Тогда почему?
Она усмехнулась:
– Я не хочу отвлекаться на десерт. А чтобы заполнять паузы чая мне хватит.
И мужчина почувствовал, что у него начинает гореть лицо. Он не испытывал подобного уже… Даже не смог вспомнить как давно.
В кафе действовало правило самообслуживания. Поэтому, после того, как незнакомка села, мужчина отошел к стойке и вернулся через пару минут с подносом, на котором стояли две чашки и вазочка с мороженным.
– Я, все таки, взял для вас. Фисташковое.
– Мое любимое – снизу-вверх его окатило золотым потоком взгляда.
Уместившись напротив, он сделал глоток из своей чашки и, наконец, прямо посмотрел на свою Незнакомку.
– Может быть, вы что-нибудь расскажете?
– Что? – она втянула губами с ложечки мороженное, и он чуть не забыл, что же хотел узнать
– Например, как вас зовут? И откуда вы меня знаете?
– А это имеет значение?
– Но, должен же я как то к вам обращаться.
– Пусть будет Анна.
– Это ваше имя?
– Так вы можете меня называть.
– Хорошо. Пусть будет так. Но… Я чувствую себя, как минимум, странно. Вы чуть ли не мысли мои читаете, а я даже не знаю кто вы. И почему раздаете взятки, чтобы пройтись по студенческому общежитию в моей компании? Мы учились в одном институте? Но даже в этом случае понятно, что вы учились лет на – дцать позже.
– Ловко льстите. Всего на десять. И в другом институте.
– Тогда, я тем более ничего не понимаю. Кстати, я вам не льстил.
– А вам кажется, что все должно быть объяснимо?
– Предпочтительно.
– Зачем?
– Хотя бы из соображений безопасности.
– Я пугаю вас?
– Есть немного. То есть, я, конечно, конкретно вас не опасаюсь. Не похоже, чтобы вас привлекало содержимое моего кошелька. Тем более, добыча была бы не так уж велика. Я не представляю интереса для промышленного и любого другого шпионажа. Вы вряд ли намерены похитить меня с целью продажи на органы. И у меня нет очень богатых родственников, которые могли бы оставить мне наследство. Таким образом, исчерпаны классические детективные сюжеты. А туман не рассеивается. Ну, правда, простите мне, но я действительно не помню, как и где мы могли пересечься.
Женщина откровенно хихикнула:
– Есть еще сюжеты фантастические. Вам не нравится фантастика?
– Нравится. С элементами научности. Но только не в применении к собственной жизни.
– Почему? – она состроила нарочито огорчительную гриммаску и он невольно усмехнулся:
– Да… некомфортно как-то.
– Вы поверите, если я скажу вам, что в другой реальности мы должны быть вместе, а в этой я очень долго вас ждала?
– Простите… – он почти покраснел и порадовался тому, что за странным разговором они опустошили уже чашки и есть повод прерваться – Еще чаю?
– Спасибо, нет.
– Тогда… Пойдем?
Она кивнула.
Он встал. Отодвинув стул, помог подняться ей. Подавая пальто, вновь коснулся на мгновение округлых плеч.
На улице уже он сказал, что вызовет такси и спросил, может ли ее подвезти. Она с улыбкой покачала головой и ответила, что ее автомобиль припаркован в 200 метрах. Когда они шли к машине, навстречу пронесся какой-то субъект и женщина отшатнулась к мужчине, а он невольно прижал ее к себе.
Возле авто она в свою очередь спросила, не может ли подвезти его. И он, неожиданно для себя, согласился, назвав адрес гостиницы. На стоянке перед фешенебельным зданием из стекла и бетона он вышел. Она тоже заглушила двигатель. Он открыл перед ней дверцу и подал руку.
Почему то, самые простые жесты обретали какой-то особый смысл. Она оперлась о теплую ладонь и тоже вышла из автомобиля. Он удерживал ее пальцы.
– Спасибо за чудесный вечер.
– Не за что.
Вот сейчас он должен отпустить руку и Незнакомка исчезнет из его жизни вместе с раздражающими тайнами.
– Вы… вы оскорбитесь, если я приглашу вас подняться в номер?
– Да – она ответила очень серьезно, и он невольно отпрянул, не готовый к такому.
Ведь сладко жмурящееся самолюбие подсказывало совсем другой ответ.
Однако, после короткой паузы она продолжила:
– Оскорблюсь. Если называть меня при этом будете на «вы»…
Марина Андреева г. Тула
Даже с благими намерениями начатая перестройка не всегда завершается созиданием. Но строить надо.
© Андреева М., 2015
Гостиница
Слово «гостиница» у меня ассоциируется с именем моей прабабушки по материнской линии Анны Кирилловны 1888 года рождения. В юности с ней произошел забавный случай. Была она в услужении у барыни, и та попросила: «Аннушка, свари мне яички в мешочек». Аннушка побежала домой, нашила холщевых мешочков, наварила яичек, каждое яичко в мешочек положила и принесла барыне. Сие ее искусство барыне очень понравилось, она сильно растрогалась и похвалила свою юную кухарку. Но именно эта семейная история моей прабабушки с гостиницей никак не связана.
У Анны Кирилловны были две сестры: старшая Татьяна и младшая Ксения, на которую к моему детскому несчастью я была похожа, и мой дядюшка, который тоже был похож на нее же, очень обидно дразнил меня, называя курносой Ксюхой. Я злилась, обзывая его в ответ, но легче не становилось, обида вскипала подобно убегающей молочной пене. Но это тоже – не о гостинице…
Еще у Анны Кирилловны был племянник; рыжий не то Вася, не то еще как его звали, сейчас не помню. От кого из сестер ее или братьев он был, тоже не знаю. Но детская память сохранила его образ. Он был болен, какое-то расстройство головы, таких раньше называли «блаженными». Бабушка его жалела, всегда принимала дома, кормила. Он был маленького роста, щуплый, подвижный, как ребенок. Косматые волосы облезлого цвета торчали во все стороны, неопрятная одежда была, как мне запомнилось, серая и сильно выцветшая. Я его очень боялась…Как далеко расходятся круги ассоциаций…
У нашей калитки и до сих пор сохранился металлический накидной на скобу замок, который звонко стучит и одновременно издает певучий звук, когда его открывают. Раньше, если кто-то был дома, дверь терраски не закрывалась, и сразу было видно, кто появлялся в проеме калитки. От калитки до терраски метров двадцать, и я всегда трепетала, когда видела «рыжего», терлась возле бабушки, со страхом слушала его непонятную речь и с ужасом и животным любопытством наблюдала за его обеденным ритуалом. Бабушка наливала ему в миску «тюрю» с квасом. Он придвигал ее к себе, из котомки доставал флакон с «Тройным» одеколоном, наливал его в деревянную ложку, быстро выпивал, закручивал флакон, убирал его в котомку, а потом начинал неряшливо есть. После этого он быстро уходил, и его могло не быть много времени, пока он не появлялся снова. И как же было ужасно обедать, если мне попадалась та самая деревянная ложка, пахнущая одеколоном, сколько ее ни мой. Но в семье все без ропота относились к нему терпимо, как к больному родственнику. Куда он потом сгинул, и что с ним случилось, мне неизвестно, только он перестал ходить…. Кажется, я бессознательно удаляюсь от «гостиницы»… Племянник Анны Кирилловны, точно, никогда не бывал в «Центральной» и даже поблизости от нее. Тогда зачем он вспомнился сейчас?
Моя бабушка Анна Кирилловна, высокая, полная, статная видом, уверенная, была полновластной хозяйкой в семье. Ее побаивались до конца ее жизни даже ставшие уже взрослыми внуки. Она никогда не сюсюкалась, но сурово заботилась обо всех и до последних дней обслуживала себя и выполняла домашнюю работу. Бабуля была рачительно-скупа и неграмотна совершенно, но если в магазине недодадут ей одну копейку сдачи – никто не позавидует тому продавцу. Я не помню, чтобы она общалась со своими сестрами. Мы жили в ею выстроенном доме на окраине города, а сестры – в квартире в центре. Они быстро приспособились к городской жизни и считали нас провинциалам, хотя мои троюродные дядюшки неплохо дружили с их внучками и внуком, которого не гнушались поколачивать в своих мальчишеских играх… Нет, не о том…
Обе сестры Анны Кирилловны Татьяна и Ксения жили вместе. У Татьяны не было детей, и была она в старости мала ростом, суха, подвижна, сдержанна и очень набожна. Я помню ее всегда в черном. Ксения, напротив, была шустра, хитра, жадна и плодовита. Она тоже была небольшого роста, но к старости стала очень полной, имела миловидно-ехидные черты и была очень почитаема в своей семье. Ее я не любила, она была для меня из другого мира, с «душком»… Этот душок или привкус, безошибочно учуянный моим детским восприятием, был иного рода, чем привкус одеколона на ложке, которой ел Рыжий. Но, возможно, это было еще более неприятное ощущение именно из-за его невещественности, неконкретности, что-то такое на уровне инстинкта, никогда не сообщающего об опасности словом и фразой, а только смутно ощущаемое где-то в глубине.
Вот теперь речь пойдет о гостинице «Центральная», в которой дочь и внучка Ксении Кирилловны, выучившись на парикмахеров, работали до выхода на пенсию.
Впервые придя в гостиницу, я ощутила непривычно пугающую роскошь ее интерьера, резко-пряный запах, чванливо-покорные манеры обслуги, неприязнь от притворных улыбок и пискливо-визгливых голосов моих тетушек. Их прически из белокурых взбитых буклей удивляли своей сложностью. Вырезы и разрезы белых халатиков зазывно открывали то, что в то время было принято стыдливо прятать.
Запах лака, химикатов и одеколонов вздрючивал и одновременно дразнил обоняние. Свет ламп, многократно отражаемый в обилии зеркал, придавливал к креслу. Я замечала откровенные взгляды мужчин, прилипающих к вырезам и разрезам этих женщин, и их зазывно-кокетливый, пронзительный, как сирена, смех.
Да, наши родственники и жили уже по-другому! К тому времени не стало уже всех прабабушек-Кирилловен, но мою бабушку – Ульяну Корнеевну, невестку Анны Кирилловны – городские родственники приглашали на большие семейные мероприятия, так как она была удобной помощницей: мало ела, совсем не пила, а полы и посуду всегда помыть помогала. Иногда я ходила с бабушкой на эти праздники и видела много такого, чего не было и не могло быть в моей жизни на окраине. На одном таком юбилее я впервые узнала, что такое икра, увидела красиво натертое мелкими волнами сливочное масло (очень удобно накладывать на кусочек хлеба под икру). Тогда подавали не готовые бутерброды, а в изобилии наложенную в тарелки икру и масло. Муж одной из тетушек служил в милиции в высоком чине, а его женщины работали в гостинице – вот и могли себе позволить…
Закончились мои впечатления об этой семье и гостинице, когда однажды моя бабушка Ульяна, прибежав с похорон этого самого милиционера, где она, как всегда, помогала прибирать и обслуживать, стала с возмущением рассказывать, что после нескольких тостов и соболезнований родственники напились и запели под гармошку!
Вот, в общем-то, и вся «гостиница» – слово «с душком», нейтрализовать который я, видимо, пытаюсь воспоминаниями о моей прабабушке, абсолютно чуждой миру «гостиницы».
Самоуважение
С этой историей я бы не познакомилась никогда, если бы судьба не была ко мне неблагосклонна и не заставила выживать. В «лихие девяностые» мы с подругой пришли работать на частное предприятие, под которое было арендовано помещение бывшего советского пищекомбината, где все основательно и добротно, но до отвращения уныло и примитивно. А мы уже были опалены духом нового времени и свободы и прежде всего попытались это помещение сделать для себя максимально комфортным и элементарно чистым. Промыли все, вплоть до мест общего пользования. От приятной усталости поламывало суставы, слегка поднывали намученные мышцы, хотелось немного отдохнуть с немногочисленным, но быстро сдружившимся коллективом. Но непонятно где запропастилась моя подруга. Я стала ее искать и обнаружила в туалетной комнате сидящей подле унитаза и старательно его выскабливающей обычным столовским ножом с гравировкой и клеймом «нерж.». Сама туалетная комната была очень похожа на операционную: высокие белые потолки, белые кафельные стены, большие окна на уровне потолка, на полу желто-коричневые квадратики «метлахской» плитки, вмазанные в пол белые эмалированные «вокзальные» унитазы, изъеденные ржавчиной. И вот эту ржавчину старательно ножом соскабливала моя подруга. Я возмутилась этой, на мой взгляд, бесполезной работой, пыталась оторвать ее от неприятно-неблагодарного занятия, но она методично продолжала скоблить унитаз и одновременно начала рассказывать мне эту самую историю.
Однажды, будучи еще студенткой, она со своей подругой приехала в Ленинград и на Невском у Казанского собора поджидала свою третью подругу. Было солнечное летнее утро, каникулы, юность и полная свобода в придачу. В этот час парковые лавочки были пусты, и девчонки, устроившись с комфортом, беспрерывно болтали, снисходительно поглядывая по сторонам. Вдруг взгляд моей подруги «споткнулся» о фигуру маленькой сухонькой старушки, одетой чрезвычайно опрятно, если не сказать изысканно-старомодно, с прямой, горделиво-печальной осанкой и уверенной поступью гимназистки-отличницы. На руке у старушки висел огромный ридикюль, отдаленно напоминающий саквояж земского доктора, но гораздо изящнее. Удивительным оказалось то, что среди множества свободных скамеек она выбрала именно ту, где сидели подружки. Она подошла, кинула оценивающе-цепкий взгляд и грубо, но не зло сказала: «Девки, подвиньтесь». Села, молча закурила. Мою подругу поразило изящество ее уже древних рук, плавная резкость сухих пальцев, горделивая до брезгливости посадка головы, седые, благородно уложенные пряди волос, никогда не видевшие краски, но завораживающие естественным блеском и послушанием своей хозяйке. В ней чувствовалась воля и несокрушимость. Девичья трескотня внезапно прекратилась. Они с любопытством и бесстыдством юности осматривали старуху, и их лица выражали нескрываемый восторг, смешанный с удивлением. Мимо проходили группы туристов, одинокие зеваки-прохожие, иностранцы с висящими на груди сверкающими дорогущей оптикой фотоаппаратами. Издалека послышалась барабанная дробь, а через некоторое время перед ними промаршировал отряд бойких пионеров с развевающимися красными галстуками и неизменными красными пилотками. И тут девчонки услышали межзубное злобное шипение: «Ненавижу коммунистов!» «Что так?» – беспечно справилась моя подруга, а старуха, немного помолчав, стала рассказывать о том, как в семнадцатом ее жизнь раскололась на до и после.
Девушкой она была из «благородных», огромное «родовое гнездо» окружало ее заботой и вниманием, она училась, у нее был жених, планы, мечты. Но однажды она вернулась в свой дом, где никого кроме своей служанки не застала. Все, не дождавшись ее, поспешили на пароход. За ней должен был вернуться жених и отправить ее за границу на следующем пароходе, но следующего не было, и тот, кто должен был прийти, видимо, не дошел, – времена были смутные… Пока в доме были запасы и можно было что-то продавать, девушки жили вместе. Но потом ей пришлось сказать своей служанке, что она больше не может ее содержать, а сама пошла искать работу. Когда же она вернулась домой, нашла записку от своей деревенской помощницы. Та писала, что ничего не может делать, кроме как служить своей хозяйке, просит ее простить, не поминать лихим словом. Девушку нашли в реке, недалеко от их дома. Старуха прервала свой рассказ, долго молчала.
С девчонок в один миг слетела беспечность, они с нескрываемым ужасом глядели на рассказчицу, в глазах которой навсегда заледенели невыплаканные слезы. Потом, хрипло покашливая, она начала говорить снова: «С этим грехом я живу всю жизнь. Я устроилась работать в больницу, выполняла любую работу, мне хотелось жить. В мой дом поселили несколько семей из вновь пришедших к власти. Мне оставили одну мою комнату. Утром в доме выстраивалась очередь в ванну и туалет, на кухне стоял вонючий запах бедной еды, ругань и плач детей не давали возможности отдохнуть, даже наглухо закрывшись в комнате. Мне приходилось каждый день мыть унитаз, что я делаю и до сих пор». «Зачем?» – с возмущением и нескрываемым отвращением спросила моя подруга. И старуха спокойно ответила: «Я не могу позволить себе воспользоваться грязным унитазом!»
В туалетной комнате нашего пищекомбината повисла тишина. Я взяла другой нож и стала счищать ржу вместе с подругой.
Ностальгия
Ностальгия по детству вещь неблагодарная, но иногда, если сильно не углубляться в воспоминания, можно создать себе определенное настроение. И вспомнилось мне, как однажды я приехала в деревню к бабушке, – ее уже не было, но захотелось вернуться в ощущения давно забытого, родного, чтобы отдохнуть, отречься на время от ставшей привычной нагрузки городских будней.
Был летний полдень, когда воздух струится и прозрачно колышется от солнечного марева. Я пришла на кручу над медленно текущей рекой. С высоты почти пятиэтажного дома окрестности видны на много километров. Невдалеке ютятся маленькие домики, на берегу медленно колышутся, словно дышат, яркие головки татарника, трава на брошенных полях лежит ровным ковром, а когда-то мы бегали по ним, скрываясь в кукурузных зарослях. С этих круч в глубоком детстве катались на тяжелых длинных санях по шесть, а то и восемь человек, навалясь друг на друга. Свист ветра в ушах заглушал страх, а восторг от быстрой езды заставлял с неумолимым упорством волочить эти тяжелейшие сани вверх…
И вот такая разморенная от солнечного тепла и воспоминаний я сидела среди неумолимого стрекота кузнечиков в глухой полуденной неге и медленно оглядывала окрестности. На противоположной круче – через глубокий овраг, – жуя траву, потряхивая бородой, иногда резко перескакивая с места на место, мирно паслась белоснежная коза. Я проглядела тот момент, когда в доступной близости от козы появился мальчуган лет восьми в коротких шортиках, сандалиях на босу ногу и белой рубашечке, аккуратно застегнутой на все пуговицы. Круглое белобрысое лицо было озарено улыбкой Буратино, и весело торчащие уши нисколько не портили его портрет. Его шустрое тельце быстро перемещалось по площадке кручи, он что-то все время говорил, азартно жестикулировал, крутил головой, его ноги беспрестанно выделывали смешные кульбиты. Рядом с ним стояла молодая стройная женщина, явно не мама, возможно тетушка, которая, подставив лицо солнцу, видимо, желала, как и я, отдохнуть от жизненных забот. Легкий ветерок нежно развевал подол ее платья, сквозь которое просвечивали стройные ноги в белых туфлях «на платформе» и прямых высоких каблуках. Мальчишка стал строить рожицы и дразнить козу, а она клонила рога и наступала на парнишку. Он быстро прятался за тетушку и хохотал, когда та громко прикрикивала на козу, а мальчишку вяло журила. Так он недолго развлекался, а потом стал охотиться за кузнечиками. Коза же косилась на него, явно что-то замышляя. И когда мальчик совсем забылся и повернулся к ней спиной, коза резким взмахом головы зацепила его рогами за бедро и кинула с кручи. От неожиданности мальчик вскрикнул и, катясь и подскакивая, свалился с горы вниз в крапивные заросли. Ни секунды не задерживаясь, вслед за мальчиком, пытаясь его поймать, полетела женщина. Снизу уже раздавался закатистый рев. Когда женщина догнала мальчишку и вытащила его из крапивы, он был пунцовый в белых волдырях, его рубашка кое-где алела кровавыми пятнами. Женщина суетилась вокруг него, то прижимая к себе, то разглядывая его травмы, то жалела, то ругала за баловство с козой. Когда же первый страх прошел и она поняла, что кроме царапин у стервеца ничего нет, она посмотрела на свои ноги и с ужасом обнаружила, что на одной туфле каблук свернут и болтается при каждом шаге, а на другой его нет вовсе. В отчаянье она сняла с ног то, что когда-то было ее гордостью и завистью для подруг, и с ожесточением бросила туда, откуда только что достала своего незадачливого племянника, и стала подниматься с ним на кручу, где по-прежнему мирно паслась белоснежная коза.
Марионетка
Марионетка, ранетка, монетка, браслетка… Чушь, нет ничего общего, набор слов для рифмования, не выражающий сути.
Марионетка – куколка; ручки, ножки, головка скреплены подвижно и подвешены на веревочки – это для тех, кто не знает.
И еще для тех, кто не знает: марионетка – это я. Во что ни нарядись, какой ни прими образ, а дернули тебя и ты уже совсем не то, что о себе думала. Но ты и не догадываешься об этом. А почему?.. – А гвоздики вбиты так искусно и веревочки привязаны так незаметно, что вроде это ты сам все и есть. Дунет ветер с юга – мне тепло, иногда – жарко, размаривает, я становлюсь храброй и бесстрашно беспечной, а если с севера – то холодно, страшно, я съежилась и обо всем забыла. Ветер с востока дает свободу и разгул сладострастных чувств, поток которых растворяет и как будто бы куда-то уносит, но западный ветер меняет картинку на чувственную скупость, сухость, анализ, конкретность действия. Где же я?.. – А везде я, все это – я, и взмываю, и падаю я.
Марионетка – это распятие, но не Святое, за грехи всех поколений, и даже не за свои собственные, их не так много, и нет во мне злостного грешника. Это распятие за свою глупость, сладенькость, желание угодить, чтобы везде и всегда все было как-то, как-то хорошо при полном отсутствии понятия, что такое хорошо.
Гвоздь-то в голову вбили не очень глубоко и со знанием анатомии, – основные физиологические функции не пострадали, ноги-руки исправно движутся, дыхание в норме, заглатывающая и выделительная функции работают, как часы, даже репродуктивные инстинкты – как чистый звук от удара колокола, отлитого праведником. Но с головой все же просчитались, гвоздь не довертели. Крамольные мысли юркой крысой мелькают в голове. «Почему, почему, почему? Не согласна! Не хочу! Я – против!»
Против чего, с чем не согласна? Откуда вопросы?
Недовертели…
Как известно, крысы и тараканы – самые живучие твари на земле, их никогда не извести. Поэтому я – марионетка недокрученная.
Как «Лоуренс Аравийский»
Последний день отдыха в Мармарисе – этом местечке, где «земной рай» поселился навечно, был перенасыщен событиями и впечатлениями. Ранний подъем – и великолепие горных пейзажей резко контрастировало с огромным количеством адреналина, ежесекундно выделявшегося от страха за свою жизнь. Видавший виды, но еще резвый микроавтобус, за рулем которого сидел немолодой турок, часто ведший машину одной рукой, так как второй рукой он держал телефон, по которому разговаривал, разумеется, на непонятном языке, вез нас по горному серпантину, где двум машинам разъехаться было бы большой проблемой. Повороты были настолько крутыми (почти 180 градусов), что пока не повернешь, не поймешь, останешься ли ты жив вообще. Складывалось впечатление, что дорогу прокладывали, выгрызая техникой часть горы, и по этим дорожным неудобьям лежал наш небыстрый путь. Ехали мы так долго, что устали бояться, кто-то сумел даже вздремнуть.
Однако по-настоящему страшно стало на месте, – после того, как инструктор дал короткую вводную. Я с горечью и нестерпимым «сосаньем под ложечкой» подумала о том, как смогла я согласиться на подобную авантюру. Но отступать было поздно, и как «гордо реющий Буревестник», с низко опущенной головой, я поплелась в лодку.
Впечатления от спуска остались очень яркие. Во время коротких передышек между преодолением очередного порога, когда бурная река на несколько минут замедляла свой бешеный темп и не швыряла лодку о камни, внутри меня невольно возникало сравнение себя, как представителя вершины творческой мысли Создателя, со Стихией, и это сравнение было не в мою пользу. Я как-то отчетливо поняла, что противостоять Ей – глупо. Стихию надо изучать, чтобы научиться жить по Ее законам, остаться живым и по возможности здоровым, а еще получить удовольствие. Маленькие победы над своим страхом меня окрыляли, но я хорошо осознавала, что все победы удавались мне, потому что рядом был опытный инструктор, а мой мозг в экстренной ситуации четко работал, беспрекословно выполняя его команды.
Потом были смех и подтрунивание друг над другом, зализывание ран, обмен впечатлениями и желание запечатлеться на память с тем, кто тебе, недотепе, дал возможность продлить твое бренное существование и показал твою истинную сущность.
Дорога домой уже казалась не такой опасной и утомительной, и меня не покидало желание еще и еще раз сесть в лодку. Вернулись мы к вечеру, когда солнце медленно клонилось к закату, захотелось в последний уже раз в этом году искупаться в море.
Теплое море ласково приняло мое тело в свои нежные объятья, и я наслаждалась прозрачностью воды, горным пейзажем бухты, безоблачным небом, теплым закатом. Чем ниже опускалось солнце, тем гуще и темнее становился цвет моря. Я заплывала все дальше. Позади меня остались ровные ряды зонтиков и лежаков, красные поплавки буйков, люди уменьшились до микроскопических размеров. Наконец передо мной появилась запретная полоса из пластмассовых колец, похожих на кольца от детских пирамидок, надетых на трос; дальше простирается акватория для лодок, катеров, парусников и прочей водоплавающей техники. У этой черты я поняла, что пришел конец моему путешествию, дальше будет дорога назад, домой, к привычным домашним делам, работе: мысль полетела дальше, а взгляд задержался на чем-то маленьком, барахтающемся на легкой волне. Я подплыла поближе и увидела, как пчелка перебирает лапками, не осознавая всю безвыходность своего положения. Я подхватила ее хрупкое тельце и попыталась устроить его на пластмассовое кольцо в надежде, что она улетит. Пчелка ползла по кольцу в воду. Я стала вращать кольцо в обратную сторону и при этом дуть ей на крылышки, чтобы они побыстрее высохли, но пчелка знала только одно направление – к воде. Поняв всю тщетность своих усилий, я посадила ее к себе в волосы, и уже вместе с ней мы поплыли к берегу.
Во время путешествия пчелка вела себя на удивление спокойно, а я плыла вся преисполненная чувства собственной значимости. Когда мои ноги коснулись дна, солнце скрылось за крышами отелей, цвет воздуха посерел, вода начала чернеть, песок остывал. Мои коллеги по-доброму шутили надо мной и моей спасенной подопечной, которая уверенно сползла с табурета на песок и с неукротимой силой вновь двигалась к морю, как бы я ей в этом не препятствовала. Наконец устав спасать пчелу от смерти, я взяла и унесла ее подальше от моря, посадив в большую кадку с пальмой в надежде, что там она образумится. Прошло минут десять, мы немного поболтали, время от времени посмеиваясь над всеми пролетающими пчелками, и засобирались в отель. Каков же был мой ужас, когда я увидела в кадке с пальмой, что тысячи мельчайших насекомых, похожих на наших муравьев, облепили мою пчелку, и пожирали ее заживо. В маленьком пространстве кадки они выползали отовсюду и толпами устремлялись к ней.
Я схватила уже ставшую моей пчелку, пытаясь освободить ее от этих монстров, но было поздно. Не в силах ничем ей помочь, я бросила ее умирать в песок, раздираемая чувством несправедливости.
Я часто вспоминаю ее, рассуждая о смысле жизни, предназначении, правде и лжи, справедливости и милосердии и не нахожу ответа в себе, кроме одного, что каждый из нас бесспорно получает то, что заслуживает, и жить надо так, «чтобы не было мучительно больно…». Но как?
Мне точно известно, что жить как надо я научусь еще очень не скоро, и окончание моей печальной повести совсем не как у братьев Стругацких, где показан путь для человечества, но это моя «хромая судьба».
Ика Маика г. Уфа, Башкортостан
Мое постижение действительности и ее законов происходило и продолжает происходить с помощью наблюдения за жизнью из недр многих увлечении, специальностей и профессии, таких как: художественная школа, поэзия, подводное скоростное плавание, парашютный спорт и многоборье, журналистика, сознательное родительство, косметология, йога, живопись, многомерная терапия, руководитель фотокружка, раскладчица в «Доме моды», автор и ведущая детских телепередач, художник лаковой миниатюры, вожатая в школе.
Неожиданно для окружающих (но не для себя самой) я стала писать фантастику.
© Латыпова Э., 2015
Стальной Змей и Васька
Писатель сидел в своей комнате на пятом этаже хрущевской двухкомнатной квартиры, расположенной вдоль самого широкого и длинного проспекта промышленного гиганта.
Он сидел, прислушиваясь к словам и обрывкам фраз, поднимающимся откуда-то из глубины к поверхности его осознания. Лист бумаги был исписан ровно наполовину, а кончик шариковой ручки торчал вверх, ознаменовав короткую паузу. Автор был на вершине своего красноречия и фантазии, он был счастлив.
Он дописал предложение, поставил точку в конце строки на самой середине листа и перенес руку на следующую его половину, чтобы начать записывать следующее предложение. Как вдруг холодный ветер сшиб ставни балконных дверей и распахнул их. Он вошел, тяжело и медленно втягивая в себя воздух, обогнул комнату, подкрался, извиваясь, к столу, заполз на него, скрипя, как старый часовой механизм, и весь затрясся, увидев исписанный лист. Ветер судорожно скомкал рукопись прямо перед лицом изумленного Писателя и унес ее с собой на улицу, на прощание он еще раз пробежался по углам и погрозил в воздухе порцией ледяного вихря.
«Стальной Змей!» – успел подумать Писатель и бросился вдогонку. Но как только он коснулся балконных перил, так тут же забыл то, зачем он здесь оказался, он забыл свою историю, которую не успел закончить, и отправился на работу.
На следующий день ровно в шесть часов утра прозвенел будильник. Автор, как всегда, проснулся с мыслью: «А не попробовать ли мне написать сегодня рассказ?!» Он встал, умылся, позавтракал и, приготовив все необходимое, уселся за письменный стол. Он был охвачен вдохновением и чувствовал, что в нем определенно имеется писательский дар, согревающий его изнутри и наполняющий теплом и счастьем, словно огонь в камине. Но стоило ему вновь подойти к той заколдованной черте, расположенной где-то на середине листа, как тут же повторилось вчерашнее грабительское вторжение ветра. Он унес с собой очередной недописанный рассказ, а неведомое заклятие забвения, как и в прошлый раз, сковало сознание и память Писателя.
Через два часа он опять смог пошевелить своими руками и всем телом. Он не помнил, что с ним происходило в течение этого времени. В его памяти давно уже образовалось темное пятно, только теперь оно стало еще шире. Если б кто-нибудь спросил его, чем он занимался на протяжении двух с половиной часов после пробуждения, то писатель, скорее всего, не ответил бы ничего (он вообще не любил, когда задают много бессмысленных вопросов, тем более он не любил отвечать на них) или мог сказать, что собирался на работу.
Зато он прекрасно помнил вторую половину дня, проведенную им в конторе и в кругу семьи. Он мог подробно описать не только события этого дня, но всех предшествующих ему дней, что он делал в течение месяца и даже года. Он все прекрасно помнил. В девять часов он начинал торопиться. Жена помогала ему найти носки, галстук, дети возвращали ему взятые ими без разрешения циркуль, линейку или планшет. Писатель выходил из подъезда и шел к своему автомобилю, забрасывал портфель на заднее сиденье, грел двигатель. В девять тридцать его машина трогалась с места и вливалась в беспрерывный поток из стали и колес, несущийся мимо его дома и ослепительно сверкающий в лучах восходящего солнца. А в десять ноль-ноль он уже сидел на своем рабочем месте. Вечером он возвращался, ужинал с семьей, успевал посмотреть и обсудить с женой свеженькое ток-шоу на горяченькую тему и очень скоро засыпал.
Во сне он видел, как переливающийся серебром поток, похожий на тело красивого гигантского Дракона, проползал мимо его окон. Сначала он любовался им со стороны, потом подходил ближе, чтобы как следует его разглядеть. Он видел, что из змеиной, туго натянутой, отливающей металлическим блеском кожи торчат всевозможные детали: ножи, пружины, гайки, трубы различного диаметра и длины, тросы, приборы, автомобили, краны – все что угодно, созданное из стали, шестеренок и железа. Змей рос на глазах, становился все шире и шире, заполнял собой все пространство вокруг, весь дом, заползал к нему в рот, в глаза, накрывал его змеиными кольцами и расщеплял в своей плоти. Тогда он еще глубже проваливался куда-то в багровую тьму, и сны ему больше не снились до самого утра. Утром все повторялось. Будильник – в шесть, идея нового рассказа, завтрак, наполовину исписанный лист бумаги, очищение памяти, работа в десять, ток-шоу, поцелуй на ночь, сон в двадцать два ноль-ноль.
Однажды в форточку залетела осенняя сонная муха и разбудила писателя раньше времени. Писатель сначала отмахивался от нее, а потом решил встать. Он чувствовал, что что-то произошло, чего-то не хватает, но никак не мог вспомнить, чего же именно.
Он вспомнил про муху и, чтобы она не посмела преждевременно кого-либо опять потревожить, погнался за ней. Муха села на зеркало. Он замахнулся скрученной в рулон газетой, но, взглянув на ее маленькое бусиничное тельце, увидел, как мухино брюшко переливается стальным блеском и отражается в зеркале.
– Стальной Змей! – вдруг вспомнил Автор. – История! Ветер!
Он вспомнил все: незаконченный рассказ, продолжение этого рассказа. Он даже вспомнил все свои истории, которые он сочинял ежедневно на протяжении многих лет, но не успевал записать, так как ветер уносил их с собой и заставлял его обо всем забыть. Писатель посмотрел на муху и подумал, что, несмотря на свою неприятную внешность, она помогла ему вспомнить все это. Он опустил занесенный над ней рулон газеты и пошел в ванную комнату, но, вскрикнув, выскочил обратно.
Его пронзила острая боль, словно тысячи ножей одновременно вонзились в его кожу и тело изнутри. Казалось, что он разлетится сейчас на кусочки. Рядом повеяло омерзительным запахом, от которого тошнило. О том, чтобы умыться и позавтракать, не могло быть и речи, не говоря уже о том, чтобы сесть и записать воскрешенный финал вчерашнего рассказа. Но Автор, несмотря на боль, боялся забыть все, что чудом вспомнил несколько мгновений назад. Чтобы никого не разбудить, он выскочил на балкон, уцепился за перила и стал быстро, громко, тяжело переводя дыхание, рассказывать вслух. Ему казалось, что никто его не слышит из-за несмолкаемого шума со стороны гудящего проспекта. Он почувствовал, что как только он произнес первые слова, боль мгновенно утихла. Вдохновленный результатом, он говорил, не останавливаясь и, конечно же, ничего в этот момент не замечая вокруг себя.
А в это время широкая лента из автомобилей резко остановилась, встала, как вкопанная, прямо напротив его окон. Лента вздыбилась и начала подниматься вверх. Прибывающие вновь машины пополняли собой извивающееся в воздухе прогибающееся петлей тело гигантского Чудовища. Машин становилось все больше, переливаясь на солнце, они были похожи на чешую змеиной кожи.
Когда Автор закончил повествование, он оглянулся вокруг и поразился, сильно испугавшись, так как выросшее над ним изогнутое полотно грозилось вот-вот опрокинуться и похоронить под собой близлежащие дома вместе с людьми. Он скорее побежал в коридор к выходу, затем – наружу. Оказавшись на улице, он ничего такого из ряда вон выходящего не увидел. Транспорт проезжал мимо, как всегда, и, казалось, ничто не могло заставить его не то что остановиться, но даже притормозить на секунду. Острая боль опять напомнила о себе. Словно некая сила, слишком долго в нем дремавшая, теперь пробудилась и искала выход, причиняя ему страдания и муку. У Писателя начался жар.
В тот день и на следующий он не пошел на работу, сообщив начальнику отдела, что заболел. Он действительно чувствовал себя плохо. Жена вызвала врача, врач выписал больничный лист вместе с сопутствующим лечением. Оставшись наедине с собой, Писатель пытался понять, что же с ним произошло и как так получилось, что он обо всем забывал на протяжении долгих лет. Ежедневно он забывал то, что составляло несколько часов его жизни. Каждое утро в нем вспыхивало пламя таланта. Оно делало его счастливым. Наполнившись его светом, он успевал записать кусочек придуманной им истории только до половины листа, как неожиданно врывался ветер и уносил с собой этот лист неизвестно куда, стирая память. И это продолжалось в течение многих лет.
А теперь эта болезнь. Всего мгновение он успел порадоваться воскрешению своих идей, как тут же странная острая боль поразила все его тело.
Он соскочил с постели и чуть было не наступил на котенка. Тот, испугавшись, запищал и спрятался под кровать. Писатель понял, что пока он лежал в забытьи, дети уговорили свою мать, его жену, взять домой котенка. Но зачем она это сделала, ведь она прекрасно знает, что он ненавидит кошек, ненавидит их запах. Его выворачивает наружу при виде этих мяукающих тварей. Он нагнулся, чтобы достать этого заморыша и вышвырнуть в подъезд, но голова у него сильно закружилась и, не удержавшись на ногах, он упал, сильно ударившись обо что-то.
Как только его веки сомкнулись, Писатель увидел сразу все свои незаконченные истории прямо перед собой. Бурная река, наполненная промокшими листами его рукописей, проплывала где-то внутри него. Впереди она резко останавливалась, наталкиваясь на непреодолимую преграду. Недописанные листы продолжали прибывать, образуя мокрые нагромождения. А из этих нагромождений уже сложилась целая Гора.
Гора была живой. Из нее доносились стоны и крики. Со всех сторон торчали чьи-то руки, ноги, головы. Они царапались, бились в судорогах, кололи и увечили друг друга всем чем ни попадя. Из ран сочилась кровь.
Стоя возле реки с живой Горой посередине, Писатель понял, что это из-за нее он испытывал острую боль в своем теле. Тошнотворный запах крови проникал в ноздри. Его мутило и рвало. С вершины текли кровавые ручьи. Руки, торчащие в разные стороны, тянулись, чтобы схватить его, они кидались в него камнями, головы, завидев его, перестали рыдать и начали вопить и сквернословить. Гора наклонялась над ним все ниже и вот-вот должна была рухнуть и раздавить его. Ему стало страшно, и он закричал.
Писатель очнулся ночью, он был весь мокрый от пота. Жена, вернувшись с работы, поужинала вместе с детьми, уложила их спать, а потом легла сама. Он был твердо уверен, что все увиденное ему приснилось, и очень обрадовался, обнаружив вокруг себя знакомые и родные обои, спящую рядом жену. Он поднялся и поскорее вышел на балкон и тут же увидел, как мимо его окон, не обращая на него внимания, ярко освещенный изнутри фонарями, медленно скользит Стальной Змей.
Автор тихо зашел обратно и плотно запер за собой балконную дверь. Он спрятался под одеяло и хотел уснуть, забыться, он не знал, что ему делать и куда ему деться. Он зажмурил глаза, перед ними тут же возник кровавый речной поток, толкающий кипы незаконченных рукописей. Окрашенная кровью вода растеклась и заполнила собой улицы, дома. Она уже проникла в его квартиру из-под дверной щели и расползалась по полу, добравшись до его ног.
Он открыл веки. Тело разрывалось от боли. Он больше не мог терпеть и разбудил жену, чтобы она принесла ему что-нибудь обезболивающее. Пока жена возилась на кухне, он слез с дивана, подошел к балкону и начал наблюдать за проползающим мимо Гадом, тело которого, как прозрачный чулок, натягивалось на светящийся серпантин проспекта, поглощая в себя все, что на нем находилось. На короткий миг ему показалось, что и сам он вместе с домом и семьей тоже оказался внутри тела гигантского Змея. Он вздрогнул от того, что жена прикоснулась к его плечу, протягивая ему стакан с водой и таблетками. Он ткнул пальцем в окно и спросил, что она там видит. Женщина ответила, что видит продолжение своего сна, который не успела досмотреть, потому что он ее разбудил. И что ей завтра рано вставать, так как пока он тут болеет, ей одной приходится возиться с детьми, с хозяйством и ходить при этом на работу. Она еще долго ворчала, закутываясь в одеяло, пока вновь не уснула.
Писатель проглотил таблетки и лег рядом. Но таблетки не помогали, и сон не приходил. Казалось, боль усиливается, словно каждый новый вздох нес с собой новую ее порцию, новую волну. Он вспомнил, что когда рассказывал, боль прекращалась. Автор поморщился, пытаясь сосредоточиться и выбрать какую-нибудь историю, из тех, что были воскрешены в его памяти. Он собрался с силами, подошел к окну. Он увидел, как по телу огромной Рептилии пробежала нервная дрожь, кожа слегка сморщилась. Змей замедлил свое движение, а потом и вовсе остановился, словно ожидая удара. Где-то там впереди, его голова начала поворачиваться.
Писатель торопился. Сосредоточив свой взгляд на стеклянных пыльных банках, стоящих на подоконнике, и стараясь не видеть того, что происходит на улице, он начал быстро шептать продолжение своего следующего рассказа. Тело Стального Змея вновь вздыбилось, поднимая с собой ввысь металлоленту из автомашин. Казалось, что его голова вот-вот появится прямо над ним или напротив. Но Автор успел закончить историю до того, как это произошло. Ему удалось сочинить финал истории быстрее, чем в прошлый раз, потому что, как он сам предположил, он подбирал очень точные образы и выражения. У Писателя вновь начался сильный жар, изможденный он рухнул на кровать рядом с женой и уснул.
Проснулся он днем, когда все ушли. Возле кровати на столике стоял остывший завтрак из гречневой каши, чай с лимоном, а в ногах, свернувшись калачиком, спал котенок. Писатель хлебнул чай. В нем проснулся жуткий аппетит, и он все съел. До него донесся шум и грохот, сопровождаемый гудением и рычанием двигателей. Когда он выглянул наружу, то увидел, что строители начали расширять проспект за счет расположенных вдоль его линии домов. Почти все дома уже были снесены, остался только его дом и еще пара. Он видел, как соседи спешно покидали свои квартиры, вынося коробки и тюки. Ему ничего не оставалось, как сложить все необходимое и выйти на улицу.
Как только Писатель вытащил свой последний баул, тут же подъехал экскаватор и приготовился сгребать пятый этаж кирпичных стен, тот самый, где он жил со своей семьей. Он вдруг вспомнил, что в одной из коробок он оставил этого заморыша – котенка. Писатель хотел вынести его последним, но забыл про него. Он отчаянно замахал руками, умоляя, чтобы машину остановили, но его никто не слышал и не слушал. Кран экскаватора с ревом неумолимо приближался к стенам дома, а параллельно с ним извивался проспект.
И тут его осенило. Он подошел ближе и принялся рассказывать свою следующую историю. Тяжелый и тупой механизм с шар-бабой, казалось, вот-вот навалится на стены, но он сбавил скорость, а через несколько мгновений остановился, а вместе с ним замерли и затихли все автомобили вокруг. Автор хвалил себя за сообразительность и, не прерывая своего повествования, скорей побежал на пятый этаж, за котенком. Он не замолкал до тех пор, пока не достал его и не вынес, крепко прижимая к груди. Он чувствовал себя хорошо и легко, боль исчезла.
Когда Писатель оказался на улице, то увидел, что дома, которые только что стояли в руинах, – целы как ни в чем ни бывало, все – как обычно, а строительство дороги свернуто, словно и не начиналось. Он вернулся домой. Он понял: что причина невыносимой боли – рвущиеся наружу все его недописанные рассказы. Именно поэтому она исчезала, когда он принимался за воскрешение одного из них. Он также понял, что в это время замирал на месте поток машин, замирал и Змей. Аспид искал Автора. Но молчать – означало призвать боль обратно, сходить от нее с ума, захлебываться во сне кровавыми водами, упиравшимися в Вулкан из его неоконченных рукописей.
– Я назову тебя Васькой, – сказал он котенку, наливая ему в блюдце молока и поглаживая за ухом. Васька не торопился к блюдцу, он терся о тапок, прижимаясь к ноге всем своим крошечным телом. Вытягивая вверх свой маленький хвостик, словно игрушечную шпагу, он будто говорил:
– Подожди чуток, когда я вырасту, мы с тобой покажем этому червяку, где раки зимуют!
Глядя на котенка, Писатель понял: как только он закончит все недописанные истории, его муки и страдания прекратятся. Но чтобы не привлекать внимание Змея, он должен рассказывать быстро. Он был уверен, что теперь все будет складываться как нельзя лучше, он сможет вновь встречаться со своей семьей, ужинать, смотреть ток-шоу. Писатель представлял, как сообщит детям, что разрешает им оставить котенка, и как они обрадуются. Боль приближалась.
Не откладывая исполнение своего решения в долгий ящик, он вышел на балкон и выпалил свой следующий сюжет. На всякий случай он закрыл глаза, а когда открыл их, то с радостью отметил, что ничего особенного не случилось: дом стоит на месте, машины едут по своим делам, змеиный чулок перестал светиться на солнце, а затем и вовсе исчез, – все было как всегда.
Много дней подряд он излагал одно продолжение за другим. После каждой завершенной им истории у него начинался сильный жар. Писатель засыпал, а во сне продолжал наблюдать за Горой. Утром он просыпался от нового приступа острой боли, побуждающей его вставать и вспоминать дальше. Он всегда был один, так как просыпался либо днем, когда жена была на работе, а дети – в детском саду, либо ночью, когда все спали. Вскочив, он принимался за работу. Писатель не мог сказать, сколько времени это длилось, возможно, – уже много дней, а может быть, и месяцев или даже лет.
Он ждал, что Гора вот-вот уменьшится, а плачь и стоны наконец-то и вовсе прекратятся, но ничего подобного не происходило. Ему казалось, что он сделал уже достаточно много, но Гора по-прежнему стояла на месте, крики, вопли, стенания не утихали. Уходила лишь боль на то время, пока он говорил.
Однажды Писатель разбудил жену среди ночи. Когда она спросила его, что случилось, не сдерживая слез, он поведал ей все, что с ним произошло. Сонная женщина некоторое время молчала, пытаясь осмыслить то, что услышала от мужа. По-видимому, ей это не удалось сделать. Тогда она опять напомнила ему, что завтра она должна рано вставать, чтобы отвести детей в садик, а для этого ей необходимо выспаться. Писатель запротестовал: «Я больше не могу. Прошу, не оставляй меня одного. Пока я не расковыряю эту Скалу, я не смогу тебе помочь. Она затопит всех нас в крови, и не только нас, – наших детей, весь мир…»
Жена внимательно посмотрела на него и потрогала ему лоб. Она уговорила мужа прилечь, пока она сходит на кухню и принесет ему таблетки. Не дождавшись ее возвращения, Писатель снова провалился в сон.
Во сне он увидел Гору. Она оставалась все той же, нисколечко не уменьшившись. На сей раз Писатель подошел к ней совсем близко. Он был в ярости. Как так! Ведь он столько времени посвятил тому, чтобы закончить начатые им рассказы! Он рисковал жизнью! Он не спал! Он кинулся к Горе и стал выкручивать и выворачивать торчащие в разные стороны руки и ноги, которых становилось больше, и они с еще большей жестокостью истязали друг друга. Писатель запихивал их обратно внутрь Горы, а плачущим головам он затыкал рты камнями и грязью. Но они вылезали обратно, кусали его и орали еще громче, чем прежде. Тогда он принялся вытаскивать из-под основания Горы стопки размокших рукописей. Он разбрасывал их вокруг себя, надеясь хоть как-то уменьшить или сдвинуть ее с места.
И он ее сдвинул. Сначала медленно, затем все стремительней Гора начала рушиться прямо на него. Писатель замахал руками, закричал и побежал прочь. Случайно он поскользнулся и опрокинулся навзничь, ударившись головой. А когда открыл глаза, то увидел, что мимо него проходят люди в белых халатах, их много, но все они идут не к нему, а в соседнюю комнату, туда, где детская. Он встал и попытался протолкнуться мимо врачей, но навстречу к нему вышла плачущая жена. Она уговаривала его не вмешиваться, так как врачи лучше него знают, как помочь их детям. Он попытался разузнать, что за болезнь поразила детей, но не успел. Все вдруг вскочили и, облепив носилки, направились к выходу. Вскоре он вновь оказался в квартире один, он не знал, что ему делать дальше. Писатель плакал. Он вспомнил свой сон с обвалившейся Горой. Он был твердо уверен, что сон и болезнь детей как-то связаны между собой. Поэтому он решил вновь отправиться к ней и посмотреть, что там происходит.
Реки больше не было, она разлилась вокруг, а рухнувшая Гора превратилась в Долину Плача, усыпанную промокшими листами красной от крови бумаги, вопящими и взывающими к нему головами, изодранными руками и ногами. Воняло кровью. Багровые облака повисли в небе, в них сверкали молнии и гремел гром, начинался ливень. Писатель нагнулся и подобрал один из лежавших около ног листочков. Бумага совсем размокла и разваливалась на куски. Ему вдруг захотелось сесть за свой стол и дописать найденный им рассказ, который был, как и все остальные, записан им только до половины листа. Он вернулся в свою комнату и, разложив перед собой размокший кусок, принялся заново его переписывать.
Он больше не пытался спастись или выжить, ему было плевать, что ползучий Гад явится к нему или ворвется ветер и заморозит его память. Голова Стального Змея не появлялась. Ветер, свободно проникнув в распахнутую балконную дверь, пролетел мимо него дальше, вглубь квартиры. Он покрыл все предметы тонким слоем льда, все, кроме самого Автора и его письменного стола.
Автор продолжал трудиться. Теперь он писал долго, он никуда не торопился, он перестал бояться боли, он привык к ней. Он возвращался в Долину, брал следующий листок с новым сюжетом и создавал новый рассказ. Все это время Васька был рядом с ним, согревая воздух вокруг него своим дыханием. Он либо сворачивался калачиком и спал прямо на столе, там, где Писатель постелил ему старую шаль, либо, подняв вверх свой пушистый серый хвост, шел рядом, настораживая уши, принюхиваясь и вглядываясь в густую мглу, повисшую над Долиной, словно сторожевой пес. Автор трудился все то время, которое у него было, не разгибая спины.
Однажды, когда он в очередной раз проник в Долину, то удивился тому, какой поразительно яркий солнечный день воцарился над ней. Исчезло все, остался только звон жаворонка да бурная прозрачная река, рассекавшая зеленый луг прямо посередине. Вдоль берегов реки выстроились чудесные сказочные дома. За домами виднелись цветущие сады, за садами высились дремучие и дивные леса. Воздух здесь был чистым и свежим.
Один из этих домов особенно приглянулся Писателю. Он стоял на холме и был похож на замок с башней и шпилями. Но в отличие от замка в нем было много окон и света. Дом был окружен вишневым садом. Деревья в саду сейчас цвели, издавая дивный нежный аромат. Писателю сильно захотелось войти внутрь. Но он не мог, так как знал, что не закончил еще до конца свою работу. Возле голубого ручья, бегущего к реке, под камнем он нашел последний лист с новой идеей своего будущего рассказа. Ему предстояло вернуться в ледяную пустую квартиру на пятом этаже, чтобы закончить его. Он еще раз окинул взглядом солнечную Долину и нагнулся, чтобы погладить по спине Василия, который успел вырасти за это время и всюду следовал за ним.
– Как только мы завершим наше дело, мы вернемся сюда, Васька, вот увидишь. Осталось совсем немного, осталась всего лишь одна история. Мы заглянем с тобой вот в этот уютный дом. Я вижу, ты тоже не сводишь с него глаз. Смотри, кажется, занавеска на одном окне дернулась. На нас оттуда смотрит кто-то…
В это время из домика вышла женщина, точь-в-точь, похожая на его жену. Следом за ней выбежали мальчик и девочка, вылитые его дочь и сын, только старше. Они стояли на том берегу и все вместе махали ему руками. Грудь Писателя затряслась от сдерживаемых рыданий, он не мог поверить своим глазам и бросился к ним, но у самого края реки резко остановился, чуть не свалившись в воду. Он вдруг понял, глядя на свою семью, что если сейчас он переплывет на ту сторону, то никогда больше не вернется в ледяную комнату, а значит, не допишет свой рассказ и может снова потерять все. Он бросил взгляд на опустившую руки жену и детей. Нет, он должен закончить то, что начал.
И загадав скорее вновь оказаться здесь, Автор резко развернул свое лицо к ледяной комнате. Возможно, он сделал это слишком быстро, и Василий не успел последовать за ним туда же. Поэтому в этот раз он оказался в своей заледеневшей квартире совсем один.
Он потер руки, пытаясь согреть их, сел за стол и принялся быстро записывать. За окном по-прежнему раздавался тот же несмолкаемый рокот моторов и гул мчащихся автомобилей. Неожиданно шум прервался шипением, словно у тысячи машин одновременно перегрелись двигатели, и они резко остановились, выпустив пар. Писатель осторожно открыл балконную дверь и выглянул наружу.
Напротив его окна замерла в ожидании гигантская голова Стального Аспида. Его глаза были налиты кровью, они блестели яростью, оттуда на него смотрела смерть. Чудовище изрыгало сквозь несколько рядов стальных зубов ядовитую пену, которая, выливаясь, капала на землю, превращаясь в пламя и сжигая все живое вокруг. Писатель мгновенно вернулся в комнату и захлопнул за собой дверь, подперев ее спиной. Некоторое время он прислушивался к звукам, которые доносились с улицы. Отдышавшись, он снова сел за стол и продолжил свою работу. Чудовище зашипело еще громче, на этот раз сила звука проникала вглубь сознания, пытаясь парализовать все движения Писателя и его память. Форточку распахнул тот самый ветер и унес с собой исписанные им листы бумаги.
Долгое время Писатель не мог пошевелиться. Его тело стало покрываться тонким слоем льда, затем рухнуло на пол. Ему снился ужасный сон про то, как он приходил с работы, смотрел по телевизору ток-шоу, целовал детей и жену в щеку и ложился спать. И так повторялось много-много дней и лет подряд. Отсюда, из своей ледяной комнаты он протягивал к ним руки, пытаясь их обнять, прижать к себе и сказать, как он счастлив, что они живы, и как сильно он их любит, но неведомая ему сила всовывала ему в рот камни с землей и мокрой бумагой, выворачивала и выламывала руки. Его тело лежало на вершине Горы, оно было покрыто ранами, из ран текла кровь, ее было много, очень много, она заполнила собой всю квартиру: и кухню, и детскую. Кровь продолжала прибывать. Наконец она вышибла балконную дверь и фонтаном вырвалась наружу, прямиком влетая в распахнутую пасть Стального Змея. Писатель увидел, что изо всех окон и дверей брызжут алые фонтаны, вливаясь в сверкающее серебром тело Монстра.
Он проснулся от того, что что-то мокрое касалось его щеки и шеи. Оказалось, это Василий ласково будил его своими деликатными прикосновениями носом. Когда Писатель поднялся на ноги, то с радостью осознал, что он отлично помнит все, что здесь только что произошло. Он отыскал на кухне спички и заварил себе чай, потом сел за стол и записал финал той последней не дописанной им истории, которую ветер вырвал из-под его пера и унес с собой.
Яростное шипение, рычание и вой вновь послышались снаружи, они заполнили собой все пространство, весь мозг. Писатель
подошел к окну и увидел, что Змея обмотала его дом кольцами своего стального чешуйчатого тела, а сама, широко раздвинув пасть, повисла сверху, готовясь поглотить его дом.
Автор не стал дожидаться, пока дыхание Рептилии ворвется к нему вместе с ветром и вновь парализует его сознание. Он бесстрашно вышел на балкон и громко начал читать Змею только что законченный им рассказ.
«…И наконец, после долгого путешествия благородный рыцарь увидел на берегу реки свой родной замок. Он пытался остановить коня, чтобы полюбоваться открывшимся ему видом на родные долины. Но конь не слушался его, он шустро продолжал шевелить своими ногами, надеясь быстрее добраться до дома.
– Василий, друг мой, мы оба сильно устали за время нашего похода. Мы совершили много благородных дел. Позволь мне постоять и посмотреть на мой замок издали. Как только мы окажемся в нем, уверяю тебя, у нас не будет такой возможности.
Конь заржал и нехотя остановился. Было жарко, солнце стояло в зените. Тогда рыцарь слез с него, снял седло и пустил его пастись по зеленому лугу. Конь Василий тут же направился к реке и начал жадно пить. Вода в ней была чистая и прохладная. Она проникала в чрево коня тонкой ледяной струей и наполняла его силой и мощью.
Рыцарю тоже захотелось напиться и искупаться перед тем, как он предстанет перед своей женой и детьми, ведь за все эти годы он ни разу не помылся и не почистил зубы. Такова была принесенная им жертва во имя победы. Если бы он умывался каждый день, как его учила его матушка и как делал его батюшка, то никогда бы не вспомнил, что он – благородный рыцарь и должен победить дракона.
По правде сказать, рыцарь немного волновался и оттягивал тот момент, когда он увидит свою семью. Столько лет прошло. Дети выросли и, наверное, не узнают его, а жена спросит: «Где ты был так долго, дорогой?»… Поэтому он позволил себе подольше поплескаться и понежиться в прохладной воде.
Рыцарь решил, что расскажет им о том, что все эти годы он гонялся за страшным и злым чудовищем, которое уничтожало все, что было так дорого его сердцу. Благородный рыцарь знал, что в этот момент следующий вопрос обязательно задаст его сын, он спросит его: «Ну что, отец, ты нашел того дракона?» И рыцарь ему ответит: «А ты как думал, сынок?! Раз твой отец за что-то берется, он сделает это на все сто!» И тогда сын восхищенно задаст ему следующий вопрос: «И ты убил его?»
Рыцарь не успел придумать, что он ответит на этот раз, так как к берегу подошла молодая женщина с двумя подростками. Это была его жена и дети. Они узнали отца и кинулись ему навстречу. Но рыцарь жестами остановил их, он крикнул им, чтобы они не приближались, потому что он – совсем голый, ведь вся его одежда износилась и ободралась. И только после того, как сын принес ему из замка новую чистую одежду, рыцарь, облачившись в нее, подошел к своей жене и обнял ее, они оба заплакали. Следом за женой он обнял свою красавицу-дочь и не мог ею налюбоваться, потом он обнял своего возмужавшего краснощекого сына…
– Где ты был? Почему тебя так долго не было, дорогой? Забор вокруг замка весь покосился.
– Я должен был кое-что выяснить.
– Что?
– Куда и почему исчезает все живое вокруг нашего замка.
– И что, дорогой, ты выяснил?
– Да, дорогая, я узнал, что тот волшебный лес, где каждое дерево говорило с нами, где я впервые встретил тебя, скачущую на лошади с развевающимися по ветру волосами, и где я полюбил тебя, тот лес, где жили наши друзья, тот лес, где водилось столько чудных птиц и животных, тот лес, который когда-то окружал наш дом, этот лес до тла спалило гигантское чудовище. Я долго искал его в чужих странах. Но оказывается, оно жило здесь, неподалеку.
– Да, я знаю.
– Ты знала?!
– Я знала, что это чудовище, но не знала, что оно спалило тот лес. Обычно я брала у него огонь для камина. Но сегодня я не могла нигде его найти, поэтому разожгла огонь сама с помощью дров.
– Ты брала у него огонь для нашего камина?! В тот огонь, что ты брала у него, и было помещено все, все, что было нам дорого, что было живым, что приносило нам радость!..
И тут родителей перебил сын, он спросил:
– Так ты убил его, отец? – рыцарь замялся и вдруг вспомнил, что он очень проголодался, пообещав рассказать все самое интересное после ужина. После этого жена и дети повели его к замку. По дороге он заметил, что вблизи замок не такой уж прекрасный, как издали. Ворота действительно обветшали, окна в оранжерее разбились, и теперь там не растут те волшебные цветы, которые они сажали когда-то вместе с женой… Чтобы не огорчаться по этому поводу, рыцарь стал вспоминать свои подвиги, которые он совершал в поисках чудовища. Он вспомнил о том, что не убил его, что в самый последний момент он опустил руку с занесенным над ним мечом. Потому что увидел, как нежная шерстка на его теле поднялась дыбом от страха и как оно заплакало и тут же превратилось в муху с блестящим брюшком. Приблизившись к замку, рыцарь уловил запах пылающего огня в камине и готовящегося ужина. Он оглянулся и, приложив ладони ко рту, позвал:
– Василий!
– Кто такой Василий? – спросили его дети.
– Мой боевой конь, друг и товарищ, – отвечал им рыцарь».
Как только Писатель закончил повествование, он тут же принялся рассказывать новую, он мог рассказывать их бесконечно долго, ведь он помнил их все наизусть. Пока он рассказывал, голова Стального Змея не смела пошевелиться. Она так и осталась висеть над его домом с широко распахнутой пастью.
Анатолии Дон Украина, г. Киев
Родился 19 июля 1989 года в Киеве, где и живу. Окончил Академию муниципального управления по специальности «психология». Основной своей деятельностью считаю писательство. Являюсь создателем портала prl/v\ochKa.KJev.ua. Пишу исключительно на русском.
Шоколадный Артур
Горожане, раскаленные лучами летнего солнца, суетливо носились по бульварам…
Претензионные лица монументальных хищников здесь выражают доблесть минувших эпох… Несметные полчища бутиков преподносят дань эпохе нынешней… В отличие от столицы украинской державы в Будапеште сохраняется архитектурный ансамбль. Никому и в голову не придет крушить наследие былого, коверкать вековые фасады…
Габаритный край мистической Венгрии известен своими купальнями. Именно там, среди блаженных родников, я намеревался развеять дорожную усталость…
Когда я преодолел центральный сад, моему взору явилось удивительной красоты здание… Кремовые стены и белые колонны в стиле необарокко внушали почтительные ассоциации. Я решил, что нахожусь у подножия корпуса Национальной филармонии. Каковом же было мое удивление, когда через главные ворота вышли люди в плавках, с полотенцами в руках…
Сомнений не было – здесь начинается аквазона…
Очутившись внутри, я был потрясен многогранностью и широтой дизайнерской прыти. Авангардистские залы на любой вкус: термальные фонтаны, гималайская аэробика и классические, но от того не менее блаженственные парные купальни удовлетворят запросы любого гурмана…
В пределах мокрого павильона властвовал интернационал. Здесь можно встретить совместно бултыхающихся выходцев с Индонезийского полуострова и скандинавских альбиносов, праздных бразильцев и надменных англичан. Комнаты водного царства завсегда пропитаны воскресной, дружеской атмосферой…
Первым делом мне хотелось расслабиться после длительного путешествия. Любезно отказав пожилому венгру составить компанию для игры в поло, я угнездился в парной ванночке. Легкое испарение создавало иллюзию ненавязчивого тумана. Мягкие ощущения во всех членах призывали шиковать и наслаждаться блаженным моментом…
Рядом красовались две польки. Чуть далее расположились темпераментные итальянцы…
Минуту спустя в комнату вошел высокий темноволосый юноша. Его широкие плечи прикрывало белоснежное полотенце. Эффектный равномерный загар придавал его коже сияющую свежесть. Поглядывая на спусковые ступеньки, парень ласково заулыбался. Шаги его были полны грации. Юноша оккупировал центральный бассейный ряд. В руке у него был фруктовый коктейль бордовых оттенков. Он неспешно посасывал чудотворную жидкость из трубочки…
В правой стороне целебной лагуны итальянские господа активно обсуждали перипетии в мире спорта, не замечая ничего вокруг. Совсем иная реакция образовалась у парочки сладеньких девиц, что нежились в другом крыле бассейна, подле меня. Новоявленный молодец разжег интерес в сердцах (и прочих зонах) доселе скучающих красоток. Блондинка нашептывала брюнетке некие премудрости, кротко поглядывая в сторону загадочного незнакомца. Та, в свою очередь, многозначаще кивала головой. Шевеления в дамском лагере интриговали. Будучи по натуре человеком любопытным, я не преминул осмотреть, что за дивный субъект явился на горизонте. Юноша глядел против солнечной стороны, однако это не помешало уловить дивные аспекты его наружности. Зеленовато-голубые очи идеально гармонировали с аккуратным носиком, слегка выпуклые губы пробуждали кукольные ассоциации. Было заметно, что он с невообразимой тщательностью ухаживал за своим лицом. Кругом соблюдались изящные контрасты. Легкая теневая подводка и чуть заметная помада выгодно подчеркивали комплексные силуэты…
Заприметив любопытные гляделки, молодой человек таинственно усмехнулся. Светлая, по-голливудски шикарная улыбка вызывала эстетическое восхищение. Редко где можно увидеть такую очаровательную улыбку. А уж тем более в мужской среде…
Вдоволь напарившись, я подумал, что настало самое время освежиться. Уличная часть аквапарка представляла собою аттракционы и многочисленные лежбища для загара. Оголенные тела различной масти сверкали из-под зонтиков. Беспечные дети предпринимателей ловили кайф под натиском веселой центрифуги. Более умиротворенные граждане расположились на мраморном выступе, омываемом термальной водой…
Здесь благородные азиатские старцы пыхтели над шахматной доской. В былые годы я занимался шахматами и даже сохранил приличный разряд. Естественно, бывший спортсмен не мог проплыть мимо очередной баталии…
Ловкие мужи стучали в блиц. Данный тип игры не предполагает капитальных раздумий. Здесь побеждает тот, кто хорошо знает теорию и не совершает роковых просчетов.
– Тьфу-тья-я!..
Сраженный бородатый китаец, махнув рукой, пробормотал себе под нос некую досаду и отправился в воду. Я напросился на следующую партию. Радушный азиат учтиво кивнул гладковыбритой черепушкой – и атака понеслась…
Каково же было общественное удивление, когда через каких-то двадцать ходов его позиция затрещала по швам…
– Русиш чемпион, йа? – поддельно улыбаясь, вопрошал китаец. Он пребывал в некотором смятении.
– Ноу-ноу… Рашн скул! – гордо ответил я со встречной улыбкой хозяину шахматной доски.
– Прошу прощения, могу я составить вам компанию?!
Услыхав родные мотивы, я обернулся. Приятный тембр принадлежал молодому человеку, которого я имел честь видеть ранее в парных купальнях. Высокий брюнет доброжелательно улыбнулся.
– Плиз… Рашн парти! Иа-йа…
Китаец возжелал свести нас в поединке.
– Сенк-ю, – молвил вновь прибывший юнец и дружественно протянул мне руку.
Мы принялись стучать по часам. Противник оказался весьма искусным. Играя «сицилианку» за черных, я попал в затруднительное положение. Молодой человек держался беспристрастно. Было заметно, что у него за плечами имеется шахматная школа. В итоге меня спасла заблаговременная жертва фигуры. У соперника оставалось чуть меньше времени, поэтому мы согласились на мировую посредством «вечного шаха».
Наблюдатели разразились хвалебными аплодисментами.
Как истинно русские джентльмены, мы пожали друг другу руки и принялись комментировать «по горячим следам». Безволосый китаец озадаченно кивал головой. Другой, его плавучий товарищ, экспрессивно констатировал: «Янг чемпион файт!» – «Янг чемпион файт…»
– Буря… – добавил мой недавний противник, нервно улыбаясь. – Откровенно признаться… я по времени горел…
– Вы-то по времени, а я по самой что ни на есть… позиции.
В голове мы все еще удерживали комбинации и варианты развития партии.
– Блиц – это шахматы с долей иронии. Что называется: как карта ляжет…
– Вы правы. Дебют сложился для меня не лучшим образом… Честно говоря, совершенно позабыл сицилианские схемы…
– Да, ход пешкой в середине игры выглядел немного авантюрно. Но какая блестящая жертва фигуры! Бесспорно – наиболее остросюжетный момент игры. Смело, идейно…
Мы возобновили позицию на доске и начали смаковать тактическую жертву фигуры. Круглощекий владелец доски тоже принимал участие в диспуте, слегка поквакивая и шатая коней.
– Кстати говоря… Артур.
Молодой человек вновь протянул мне смуглую руку. Я заприметил тщательный, полупрозрачный маникюр на его ногтях.
– Евгений… Очень приятно.
– Взаимно… Вы москвич?
Новый знакомый вопрошал механически, слегка туманным голосом.
– Нет. Представляю Киевград…
– Гм… Столица украинской державы. Гостил у вас тремя годами ранее. Был вешний сезон. Приятные воспоминания остались…
– А вы сами…
– Санкт-Петербург. Некогда великий и некогда ужасный…
Артур воспроизвел надменный маневр, обратив очи к небесам.
– Бывали и мы у вас. Необычайной красоты город. Вам крупно повезло.
Я решил блеснуть жестикулярным контркокетством.
– Возможно, вы и правы. Сам по себе город недурен. Маэстро Растрелли не сплоховал. Однако же климат… Невыносимые перепады. Летом – убийственная жара. Зимою – лютые, сквозные метели. И беспробудная скукотища. Каменное однообразие площадей, безмолвное величие соборов и вечно журчащая Нева… Которая, час от часу, выходит за отведенные ей пределы…
В голосе парня доминировал иронический настрой. Ему была присуща некоторая вальяжность.
– Киевские просторы не менее въедливы… Более того, в последнее время столица «помешалась». В буквальном смысле. Провинциальный суржик гремит отовсюду. Региональное невежество провоцирует тошноту. Ни манер, ни элементарнейшего понимания…
– О, у нас другой бич. Вам, наверное, известно. Особи «иноземных» кровей! Шататели народного покоя…
К слову, в Питере обстановка еще не столь критическая… А вот Москва… У-у… Вовсю пляшет лезгинку.
– О, времена…
– Не то слово!
Мы быстро отыскали общие темы. Артур казался приятнейшим собеседником. В нем ощущался некий магнетизм, своеобразное манящее начало, призвание которого – создавать эффект первого впечатления. Легкая мимика, приветливая улыбка и обходительно-учтивый тембр голоса – все эти компоненты формировали дружеское притяжение.
Артур гостил в Будапеште вторую неделю. Он признался, что купальни ему слегка опостылели и что остаток светового дня хочет провести в гостинице.
В Будапеште я ориентировался плохо, а потому возжелал расспросить земляка о местах вечернего времяпрепровождения. Артур предложил встретиться через несколько часов возле моста Свободы, и уж оттуда, вдвоем, отправиться на «поиски приключений»…
Я был рад новому знакомству. Ощущение родственных мотивов в чужом городе круче любых достопримечательностей.
Время пролетело незаметно. Ночные фонари одарили светом проспекты венгерской столицы. Звездное небо и полная луна дополняли масштабную иллюминацию. В городе царила атмосфера карнавала, все дышало праздностью…
Я надел фиолетовую майку с разноцветной эмблемой на груди и серые потертые шорты. В плане прически ничего сверхъестественного изобретать не стал, довольствуясь легким, почти равномерным пробором.
Совсем другое дело – Артур. Мой новый приятель, опоздав на добрых пятнадцать минут, имел восхитительный вид, достойный передового франта. Его образ я заприметил издали. Модные белоснежные джинсы были тщательно подвернуты, выгодно подчеркивая мокасины из добротной кожи. Идеально облегающая однотонная рубашка с интересным гербом в районе сердца демонстрировала его спортивную фигуру…
– Прошу прощения за опоздание. Таксист зазевался.
Артур улыбнулся. Теплый летний ветер слегка теребил его шикарную укладку. Такой дивной прическе позавидовали бы даже манекены, украшающие витрины бутиков.
Мы начали неспешное движение в направлении развлекательного центра «Белая кость». Артур именовал его «приемлемым для некоторого времяпровождения». Громадное овалообразное строение мерцало всяческими огоньками. Купола искрились златом. Мраморные дорожки и водопады призывали клиента тратить, тратить, тратить… не задумываясь о масштабности чека.
С помощью эскалатора мы поднялись на третий этаж. Здесь, у подножия гигантского стеклянного ущелья, расположился кафе-бар. Мы с Артуром обосновались на мягком диванчике с видом на бутики, сверкающую сцену и комнату для катания бильярдных шаров. В глубине пространства звенела живая музыка. Элегантный джентльмен в бежевом костюме саксофонил джазовые ритмы. Вскоре к нам подошла молоденькая темнокожая официантка. Мой новый приятель заказал двойной коктейль и охлажденный фруктовый салат. Я ограничился лишь коктейлем, предварительно поужинав в гостиничном ресторане. Озвучивая заказ, Артур разразился фирменной улыбкой. Официантка сыграла прядью и ответила ему игривым взором. Отблески витрин эффектно украшали изумительные черты лица моего собеседника.
– Это хорошо, что вы не москвич.
– Почему же?
– Видите ли, современный москвич – хамообразный потребитель. Не осталось в нем и зернышка аристократизма. Все бездушье… мелочность… Погоня за материальными благами. Погоня, в которой жизнь человеческая продается, покупается, унижается до пределов…
Артур подпустил горчинку, знаменуя тотальную безысходность, что проникает во все сферы нашего бытия. Голос его переменился. Этого человека было приятно не только видеть, но и слушать…
– А вы считаете, наши края еще не постигла подобная участь?
– И не постигнет. Знаете почему? Нечто сокровенное хранится в истории наших городов… Что-то родное, столь близкое славянскому сердцу… Духовный базис, не подлежащий перестройкам. Ах, мой друг…
Волнующие нотки проскакивали в голосе Артура.
Вдумчивая искренность собеседника растрогала и меня.
– Нынче Киев разлагается… Украина – страна бедная. Регионы нищенствуют. Работы нету. Вот и прутся все кому не лень на берега днепровские. За хлебом, так сказать… Культуры никакой, образование отсутствует. Зато амбиций – хоть отбавляй. Когтями землю рыть готовы – лишь бы тут угнездиться. А столица что… Столица трещит под натиском невежества. Заплевали бульвары и скверы. Словно мухи. Грязь и вонь, прости Господи. Больно глядеть…
Мы защебетали в унисон, будто давние знакомые.
– Как я понимаю вас, друг мой. У нас орудуют туркмены, хазары, таджики. Гены сильные. Наглость фонтаном хлещет. Все группы формируют. Ощущение такое, будто русский человек вырождается. Скоро и страну нашу воспринимать начнут сквозь призму азийского облика. Эх…
Я узнал, что Артур окончил институт прикладных искусств, а нынче удалился в долгосрочный отпуск…
Мы обсуждали последние перипетии в мире спорта, классическую литературу и современный театр.
– Двумя месяцами ранее я визитировал Париж. Очень порадовала выставка неизвестных ранее картин мастеров-импрессионистов. Изнеженное французское восприятие действительности умиляет. Не обремененные люди, живущие чувствами и сиюминутными порывами… Они готовы поклоняться обнаженному дамскому телу, смаковать оперную атмосферу. Дети роскоши…
Я, в свою очередь, поведал Артуру о московских вояжах, упоминая о неведомых работах Гойи и Делакруа, что красовались в музее имени Пушкина прошлою зимой.
При упоминании о России Артур морщился.
– Я бежал от скуки. От всей этой монотонности. Последние полгода я скорее гощу на родине, нежели проживаю. Стараюсь не задерживаться на одном месте. К счастью, родители не противятся моей воле. «Пускай мальчик страны поглядит… Покамест имеются время и возможности…» Время, да… Право, только подумаешь о работе, так сразу тошнота и подбирается… Терпеть не могу постоянства. В любой отрасли перемены необходимы. Они вдыхают жизнь в обесточенные клетки. Именно поэтому я и веду сезонный образ жизни…
– В каком смысле?
– В буквальном. К примеру, сейчас – я странствующий франт. Эдакий человек эпохи барокко, ищущий впечатлений «за бугром»… Ха-ха…
Артур был совершенно раскован. Его кожа благоухала свежестью и здоровьем, улыбка сияла белизной. Я разглядел стильную сережку-гвоздик в его левом ухе. Она как бы подчеркивала принадлежность владельца к касте реальных модников.
Я пытался отыскать хотя бы малый изъян в его умопомрачительной внешности, однако все попытки были тщетны. Одноединственное утверждение сформировалось у меня в голове – этот человек не знал лишений…
– Из Италии – в Австрию, из Австрии, вот, – в Венгрию…
– Где планируете следующую остановку?
– Ой… Думаю, сначала заглянуть в Питер. А то наши разговоры пробудили инстинкт «домашнего очага»… Ах-ха-ха… Нужно дела семейные исследовать. Повидать предков. Согласовать вопросы материального характера… И рван-у-у-ть… в Бельгию!
– Интересно… Не бывал. В столицу?
– В Брюссель, да. Говорят, там впервые будет проводиться съезд метросексуалов всех возрастов и национальностей. Событие, не имеющее аналогов…
– Вы увлекаетесь модой?
Вопрос сам по себе несмышленый, ибо внешний облик Артура красноречивее любых слов. Просто я хотел разузнать побольше о пользе ухода за собой…
– Как говорил Джуд Лоу в нашумевшей картине «Красавчик Алфи»: «Я, типа того, модник…» Да, на самом деле я увлекаюсь fashion-индустрией, отслеживаю модные тенденции. Тщательно формирую домашний гардероб… Знаю, вам это может показаться вычурным… В мужском обществе бытуют некоторые стереотипы…
– Нет-нет… Напротив, я полагаю, что современный джентльмен обязан выглядеть достойно. Пускай и не дорого, но со вкусом… Честно говоря, стремлюсь к этому сам… Вот только пробелов еще очень много…
– О, так значит-с… вы свой человек! Не переживайте. По-дружески скажу, данные у вас имеются. Необходимо стремление. Действовать нужно следующим образом: выберите определенный типаж…
– Выбрать типаж?
– Да-да… Это может быть ваш любимый киногерой или же спортсмен. А вполне возможно, и рядовой модельмен с обложки глянцевого журнала, обладающий завидной фотогеничностью. Не важно. Что действительно важно, так это детали. Обратите внимание на его телосложение, добротные зубешки… На волосы или на загорелый торс. Спроектируйте и постепенно начинайте самосовершенствоваться.
– При создании теперешнего образа вы руководствовались этой же инструкцией?
Артур отвел взгляд и задумчиво улыбнулся.
С соседнего этажа доносились потешные крики венгерских девчонок, играющих в боулинг. Барные музыканты зарядили проникновенный блюз с оттенком давнишней печали…
– В школьные годы вы бы не узнали меня. Сомнительный прикус, кожа, далекая от идеала… Лишь после выпуска я осознал, что настала пора перемен…
– Что послужило ключевым стимулом?
– Чтение, саморазвитие… Экранные поп-звезды, мелькающие перед глазами… Хотелось блистать на фоне тотальной «мужицкой» серости. Потешить самолюбие, куда ж без этого… Но основным движущим фактором являлись… барышни.
– Хм… Понимаю…
– Быть востребованным, престижным… Я искал чудотворный эликсир, своего рода универсальное оружие против недоступных кокеток всяческой масти.
Нужно было видеть глаза Артура в этот момент. В них гарцевало пламя роковой идеи…
– Многие парни ломали себе судьбы ради этих демониц в обличье невинности. Я хотел их перехитрить. Стать воплощением потайного женского желания… И я отыскал свое оружие…
– Внешность, стало быть?
– Да. Внешность… Женщины во все времена теряли голову при виде мужской красоты… Они любуются отнюдь не вашими нравственными идеалами и не хитромудрыми болтиками внутри козырного интеллекта, поверьте… Это лишь прилагающие частицы… Наблюдая девичью природу, я пришел к удивительно пустяковому выводу: внешность… ну и деньги…
Вместе с заключительной фразой Артура накрыло волной брезгливости.
– Неужели все настолько предсказуемо?
– Предсказуемо, друг мой… Необходимо лишь грамотно самопрезентоваться. Остальное – дело техники…
– Ну а как же леди, так сказать… более высокого порядка? В плане… духовной ориентации… Те, для которых важна чувственная составляющая… Внутренние характеристики мужчины, находящегося рядом…
– В младые годы подобный типаж именуется «китчевым». То бишь скорее «пендрится», нежели является… Копнуть немного глубже и рассыплются эти мнимые порывы а-ля карточный домик.
Слова Артура были не беспочвенны. За ними стоял опыт, которого не имел я, что слегка задевало…
– То есть, обладая этими атрибутами… можно «закадрить» любую? Вы к этому клоните?
– Девы, словно мотыльки, любят все яркое и красочное… Вы думаете, мы, мужчины, руководствуемся первичным импульсом, то бишь гормонами, а они, женщины, возвышенными идеалами божественной любви? Чушь, mon cher! Они желают лицезреть подкачанные мужские ягодицы, крепкий пресс и смазливое личико… Они горят и стонут от вожделения похлеще нашего брата…
– Довольно откровенно…
– А главное правдиво! Я не хочу показаться неучтивым, но вам стоит принять эти убеждения… И чем скорее, тем лучше! Тогда вы будете хищником, а не жертвой… Скажите, вам доводилось быть жертвой?
– В каком смысле?
– Жертвой несчастной любви. Игрушкой в руках женщины…
Мне хотелось выпалить нечто остросюжетное в противовес бесцеремонным откровениям Артура, но какая-то неведомая сила тотчас остепенила мятежные рвения…
– Доводилось…
Вихрь, укрытых под саркофагом чувств, вновь взбудоражил мое сердце…
– Не говорите. Я понимаю… Понимаю…
Артур взял меня за руку и произнес без искусства, с подобающей чуткостью, словно разделяя мою боль…
– Вы знаете, я думал, что нашел грозное противоядие… Только ошибся. Мое оружие обернулось против меня самого…
Он резко переменился в лице. В его красивых чертах мелькнула скрытая досада.
– Поступил я на первый курс… Эдакий разгоряченный обалдуй… Амбициозный, словно птенец, вырвавшийся на волю после длительного заточения, впервые ощутивший вкус свободы… Подобно павлину, я часами наводил марафеты у зеркал. Летом записался в тренажерный зал. Хотел обрести атлетический вид. Родители в Грецию отпустили с дружками-толстосумами… Там оформил загар. Зарекся поддерживать его до зимы посредством солярия… Настолько был обуреваем навязчивой идеей совершенства… Тогда же отбелил зубы и разукрасил волосы. Стал завсегдатаем питерских салонов…
Постепенно я сотворил желанный образ. Результат превзошел любые ожидания. На вечерах, в разношерстных компаниях, меня буквально прожигали девичьи взгляды…
Артур сделал паузу, дабы поправить укладку…
– Тогда я начал встречаться с Кристиной. Юная моделька. В голове клубняк да шмотки. Особых чувств к ней не питал. Ее сексапильные ножки разверзли внутреннее огнище… Мы весело проводили время. В истинно мажорной обстановке: бутики, тусовки, центры развлечений… Короче говоря, я устал от этой бессмысленной беготни. Захотелось более глубокого… В те годы меня добивалась, а точнее донимала ее подружка. После расставания с Кристиной я решил испить чашу страсти с этой вот… Господи, как же ее звали… Ах, да! Ниной… Тогда я вел себя, как настоящий гаденыш: заносчивый, высокомерный… Стервец, одним словом… Мой нарциссизм ее утомил. Она поистеричила какое-то время, да и стихла, объявив мне об окончании нашего романа. Романа, которого, в сущности, и не было… Ха-х… Признаться, я был рад избавиться от нее… На некоторое время я покинул женщин. Однообразие фраз и реакций томило меня. Да и нужно было реабилитировать запущенную учебу… Как-то в университете, будучи на пересдаче, я познакомился с Дмитрием. Веселый паренек, обладающий «атипичным» восприятием действительности. Между нами говоря, довольно инфантильный. Но с доброю душой… Он увлекался отечественной рок-музыкой, носил высокие черные сапоги и зачитывался Толкиеном… В пылу беседы он поведал мне о несчастной любви, что гнобит его душу на протяжении вот уже трех месяцев. Любовь эту Натальей звали…
В круглосуточном ТЦ доминировала атмосфера ночи. Звуки шумящей толпы уже были менее слышны. Суета и блески отошли на второй план… Рассказ Артура ненадолго прервался ввиду синхронного посасывания коктейлей…
– Она училась в параллельной группе. Вместе с Димой. Роскошная девушка. Из довольно зажиточной семьи. Весьма избалованная, любила погулять… Как вы понимаете, нужды в поклонниках не испытывала… Я глядел на картинку трезво. Со стороны, так сказать… У невзрачного, чудливого паренька вроде Дмитрия шансов заполучить такую девчонку практически не было. Он названивал ей вечерами, предлагал погулять после пар, сказывал о своих увлечениях… Наташа, будучи по натуре человеком неравнодушным к горестям другого, стойко терпела оказываемые знаки внимания… И тут, в один прекрасный день, он разжалобил ее до того, что она согласилась пойти с ним в кафе. Тогда же он занял у меня денег… Я понимал, что не отдаст, однако нужно было видеть, какой радостью сияли его глаза в тот момент…
Рассказчик снова замолчал, углубившись внутрь таинственных переживаний.
– Он пригласил и меня… «Артур, дружище, тут такое дело… Мне Наталья ультиматум поставила… Говорит, компанейский люд подыщи, иначе не пойду. Скучно ей, видать, со мною наедине… Но это ничего, это пока… И вот по такому случаю ты бы не хотел… пойти с нами?»
– Вероятнее всего, он обратился ко мне по причине заимствованных ранее денежек. Частично возвращая долг товарищеским вниманием… И что вы думаете? Я любезно согласился. Меня интриговала завязка… Несчастная любовь – что это? Какой отпечаток она накладывает на человека? Ведь сам я подобного никогда не испытывал…
Кем я был в то время? Высокомерным юнцом, не знающим цены ни деньгам, ни человеческим отношениям…
Вечером они условились встретиться в кофейне «Карамельница», что на Невском. «Почему бы и нет», – подумал я. Уж коли презентабельны районы, уж коли девица красна…
– У вас были планы насчет Наташи?
– Помилуйте. Быть может, я и подлец, но не настолько… Имел место здоровый интерес. Хотелось поглядеть, что это там за птица растакая… головы кружит сердобольным романтикам… Да, я видел ее пару раз в стенах университета. Мы даже обменялись взглядами. Симпатичная девчушка, спору нет… Однако ж… я не был в поиске и планов не имел…
Артур сделал паузу. Его травонула печаль…
– Как обычно, я организовал предварительную подготовку… За два часа до выхода. Надел любимую куртку из кашемира… О, вы бы ее видели, мой друг… Коллекционный экземпляр! Нынче томится глубоко на полках… Под нее выдумал морское поло. Отменно дополнили образ светлые облегающие брюки… Накануне я приобрел пару черных сережек. Их блики удачно сочетались с темной краской… Да-да, по сей день щеголяю мнимым брюнетом…
– А почему вы избрали именно этот цвет? Чем руководствовались?
– Женскими предпочтениями. Жгучий брюнет с голубыми глазами – мечта многих…
– Понимаю…
– Я опоздал минут на двадцать. Дима горячо разглагольствовал о каких-то небылицах. Блондинка, зевая, глядела в сторону…
«Ба, какие люди! Мы уж подумали, вы не придете! Наташа… это Артур. Артур… Наташа!»
– Очень приятно…
«Взаимно, поверьте…» – глаза ее заблестели. В них пробудилась весна. Мне понадобились доли секунды, чтобы это прочувствовать… Наташа была в поиске подходящей кандидатуры…
– Постойте, а Дмитрий? Уж если он был ей настолько противен… зачем давать надежду? Это похоже на издевательство…
– Она упоминала об этом позже…
«Дима утомил своими предложениями встретиться. Жалею о том, что дала ему свой мобильный телефон. Мало того что днем проходу не дает, так еще и вечером трезвонить любит… Просто наказание какое-то… Думала, если пойду, мальчик хоть немного утихомирится…»
– Наталья мне понравилась. На контрасте с неадекватным ребячеством типичных восемнадцатилетних куриц… Рассуждения ее были достаточно трезвы и аргументированны. Бред если и проскальзывал, то в малых количествах.
К тому же я не мог не обратить внимания на ее гладкую, сексапильную шейку, упругие груди… К слову, попка была тоже ничего… Думаю, вы меня понимаете…
– Разумеется. Отчего же не понять… Проснулся охотничий инстинкт…
– Грешно было бы упустить столь цветущую деву… В то самое мгновение я решил, что на ближайшие полгода она станет моей новой партией…
– А Дмитрия вы, конечно же, списали в аутсайдеры?
Я ощутил легкое презрение по отношению к Артуру в этот момент. Уж больно похотливыми и фривольными казались мне его рассуждения…
– Я не списывал Диму в аутсайдеры.
Артура будто пронзило стрелою беспокойства. Сначала он глянул внутрь павильона, после чего обратил свой вдумчивый взор на меня… Парень говорил отрешенно, с долей безысходности…
– Он сам заполз в те дебри… Вернее, иллюзии привели его туда. Кто виноват в том, что он был не в состоянии адекватно оценить свои возможности? Чья вина в том, что он – «большой ребенок», увлекающийся гоночками и драками на мечах? Он щеголял в одном свитере на протяжении месяцев и головы, pardon, не мыл… Не встретился бы ей я… нашла б иного хахаля, ласкающего своим видом мечтательное бабское начало… С Наташей мы начали встречаться. Завязался эдакий романчик… У нас были схожие взгляды во многих позициях. Она любила психологическую литературу, артхаузное кино… Я в те годы увлекался фотографией. Мы оба были ориентированы на гламурное существование…
– А как на это отреагировал Дмитрий?
– Он продолжал ее донимать: клялся в вечной любви, носил букеты… В итоге в один прекрасный день она объявила ему о том, что между ними ничего и никогда не сбудется… Что у нее уже давно есть любимый человек.
– Понимаю…
– Реакция Дмитрия оказалась болезненной… Он изводил ее вопросами и просьбами… Учебу запустил. Начал систематически прогуливать. Пытался выяснить, кто его соперник…
– И как? Ему это удалось?
– Нет, мы все держали в тайне. В стенах университета изображали холодных незнакомцев. Наташу стимулировала подобная обстановка… Словно та похотливая самка, убегающая с сильным самцом, попутно втаптывая в грязь немощного, генетически слабого ухажера… Открылась темная сторона медали личности первокурсницы… Меня эти глупости выводили из себя. Быть может потому, что я совершенно ее не любил. Когда мы встречались, Дима был ключевым предметом обсуждения. Наталья рассказывала о бесчисленных письмах и звонках. Говорила с возбуждением, так ее это подогревало… Ее повадки искренне бесили…
Проникновенный блюз сопровождал речи питерского друга…
– И чем кончилась эта история?
– Ничем. С Наташей мы расстались в конце мая. Тихо, мирно, без эксцессов… С абсолютным пониманием бесперспективности дальнейших отношений…
– А Дима?
– А Диму выгнали из института. За неуспеваемость и многочисленные пропуски. Жил он бедно. Делили с матерью комнатушку. Защиты не было… Впрочем, он и не пытался исправить положение… Той же весной его забрали в армию… Рассказывали знакомые… Там он подхватил воспаление легких… Запустился…да и помер…
Я глядел на собеседника и не мог прийти в себя… Артур также притих. На протяжении нескольких минут мы хранили обоюдное молчание…
– Звали на похороны. Не пошел… Наташка, когда узнала, поплакала денек, да и позабыла… Говорила, проведать намеревается. Да так по сей день и не собралась…
– Жалко парня…
– Жалко, да. Его судьбу угробил случай. От этого никто не застрахован. Неудачная женщина, неверные выводы…
– А какая трагедия для матери. Она осталась без единственного сына…
– Вы знаете, Евгений… Пускай наши отношения с Натальей и были омрачены трагедией, но если б вы видели… какие изумительные фрагменты мы пережили вдвоем… Шла середина весны… Природа благоухала теплыми красками… Мы арендовали загородный домик… М-м… Я тогда ударился в розовый… Рубашечка, жакет… Ах, эти кадры были бы достойны наивысшей награды в качестве образца «сезонного гламура»…
В глубине холла неспешно журчала мелодия. Звуки таяли в пространстве… Людские голоса становились все менее и менее отчетливыми… Былые ноты утратили исконную значимость…
Анна Бабич г. Санкт-Петербург
О себе: с рождения живу в Санкт-Петербурге. V меж замечательная, любимая и любящая семья, которая всячески поддерживает мое увлечение писательством. Любовь к литературе у меня проснулась еще в средней школе, и за это стоит благодарить мою учительницу русского языка и литературы Кольцову Юлию Николаевну, которая привила мне интерес к хорошим книгам. Этим я и живу последние несколько лет. Писательство стало моим настоящим и серьезным увлечением, которое, я надеюсь, перерастет в нечто большее.
© Бабич А., 2015
Восемь минут моей бесконечности
Эпизод I. Восемь минут
Уходящий момент
Кто ты, Тьма? Чего ты хочешь от меня, Тьма? Где я, Тьма? И почему ты так странно выглядишь, Мой Тихий Ночной Кошмар, украдкой подстерегающий меня за горизонтом теней бренного мира, сотворенного на крови и костях? Ты, Кошмар, который пришел из ниоткуда, из глубины моего подсознания, из-под корочки моего головного мозга, медленно отказывающегося жить и бороться за свободу, за безграничность и легкость бытия. Что нужно тебе, Непроницаемая Тень из Мира Того? Почему зовешь ты меня с собой? Я хочу остаться здесь, среди своих, среди знакомых мне осточертевших людей, которым нет дела сейчас до того, что я вишу на волоске от смерти. На волоске от смерти. На волоске от смерти, границей которого являются восемь минут. Восемь минут, за которые я потеряю драгоценные клетки моего головного мозга – они вымрут, как давно изжившая себя цивилизация древнего и могучего, непобедимого народа, они падут, как великая Римская империя. Я чувствую, что они уже стремительно начали исчезать, сворачиваться; я чувствую, как кровь в моих венах замирает и, останавливаясь, звенит, стуча по артериям. Этот мимолетный звук отдается по всему телу миллионами тоненьких неразделимых иголочек, которые с каждым мгновением приближают мою душу к освобождению, расширяя сознание, перерождая и преображая меня. Тьма охватывает мое существо слева и справа. Вот она постепенно начинает перемещаться к низу моих ног, неподвижно лежащих на леденеющем после потери моего мелкого пульса металлическом столе мясника, который уничтожил мою хрупкую жизнь. Скомкал ее в своих врачебных и пытливых знаниях, которые могли бы пригодиться ему, чтобы спасти меня, вытянуть из всепоглощающей Тени потустороннего мира, медленно, но верно притягивающего меня к себе. Теперь уже облако мрака обволакивает мой мокрый лоб, начинающий постепенно остывать. Это облако просачивается сквозь поры в моей коже, сквозь эпидермис, сквозь дерму, сквозь гиподерму, а потом подходит к черепу, затем к сереющему и мрачнеющему веществу и впитывается в него, полностью – без остатка. До состояния плазмы. Тогда я последний раз вздрагиваю на столе, бьюсь в последней предсмертной конвульсии, сжимаю кулаки и напрягаю все свои мышцы. Широко распахиваю от болевого секундного шока глаза, замираю под хруст выгибающихся позвонков, а затем, наконец, в беспамятстве падаю, проминая своим уставшим от иллюзорной борьбы за жизнь телом грубый металл, забрызганный какой-то влагой: потом, кровью, слюной, спиртом – уже не вижу. Последний омерзительный запах ударяет в нос, в мои внутренние рецепторы, готовые к итоговому рывку. Я навсегда запомню этот аромат. Аромат свежеумершего тела. Мой Рим пал. Восемь минут оказались секундой вечности, и истекли они так же быстро, как перемещается комета в космическом пространстве; а к жизни меня так никто и не вернул. Нет больше слез, нет больше боли, нет больше страха и обреченных страданий, которые невозможно было переживать в течение всего того времени, которое было отведено мне в этом скудном мире. Я словно бабочка, которая угодила в ловушку, устроенную десятилетним мальчишкой. И вот с моих крыльев, которые когда-то порхали между измерениями грандиозного безумия, уже осыпалась вся пыльца, уходя блестящим млечным дымом в пустоту, у которой нет ни конца, ни края. А теперь и сама я погибаю, прикрыв свое нагое тельце, бывшее когда-то гусеницей, а потом куколкой; ослабевшими и обессиленными, побледневшими крыльями, в которых нет былой энергии, нет былой пестроты и яркости, нет солнечного и природного блеска. Все осыпалось за восемь минут во Тьму, пока я медленно и целенаправленно подходила к кульминации моего жизненного пути. Мой мир разрушен, разгромлен в пух и прах. И мальчишка глядит на меня своими погрустневшими на пару мгновений большими и любопытными детскими глазами, огорчаясь, что я больше не смогу доставлять ему эстетическое удовольствие, тщетно пробиваясь сквозь стены душной, стеклянной и жестокой ловушки. Он берет мое слабенькое и легкое тельце, которое полностью обездвижено, в руки и аккуратно переносит его под тень ветвистого старого дуба. Кладет меня на сырую землю и убегает по зову матери, в ту же секунду забывая о маленькой смерти, увиденной им сегодня, в этот час. А я проваливаюсь в неизведанный покой, в котором поют свои давно отпетые песни голоса нимф и херувимов. Они мелодично убаюкивают мой разгоряченный и обезумевший разум, который не может принять неожиданное окончание всего на свете, который не может привыкнуть к непроглядной темноте в этой сфере. Дыхание угасает, движение уходит, оставляя после себя полупрозрачные мелкие следы на кончиках моих волос и пальцев. Не успев попрощаться, я покидаю все то, что когда-то помнила и знала. Здесь я не помню того, что было, я не знаю того, что знала. Мой разум чист и пуст. Он обновлен и возрожден для свежих открытий и свершений. Я открываю глаза…
Эпизод II. Невыносимая легкость одушевления
Познание внутреннего существа
Что в имени тебе моем, зовущий меня поодаль, по ту сторону? Да, ты, машущий мне рукой на том берегу чернеющей и быстрой реки. Я не вижу тебя, я лишь ощущаю твое присутствие, ощущаю твои невесомые прикосновения к моему пространству, к моему духу. Не зови меня, не пой мне этих дивных и чарующих песен – здесь и так слишком много голосов и немых звуков…
Моргаю. Я умею моргать. Двигаю пальцами – я умею двигать пальцами. Оказывается, мне подвластно мое тело, я могу управлять этим сложным и удивительным механизмом, который пока что непонятно, как и для чего создан кем-то. Что за мир? Что за окружающий поток? Здесь все вертится и кружится. Дует ветер, сухой и пустой, как омертвевшая засушливая пустыня, бывшая когда-то дивным плодородным садом. Нет никого рядом. Только обременяющие приятные голоса, со временем начинающие, угнетая, превращаться в тихие стоны и агонии. Место, место. Место, место. Кто зовет меня? Куда? Тени, тени. Вокруг мелькают тени, скользящие образы, касающиеся моих мыслей, которые я пытаюсь познать, понять и увидеть, отличить и отделить от всего лишнего, что надоедает мне уже. У меня появляется первая эмоция, как первая росинка ранним утром на заре. Она стекает по зеленой сочной травинке вниз, падая о мягкую землю и разбиваясь еще на десятки мелких капелек, молекул и атомов. Так же и мои эмоции возвращаются ко мне: из одной эмоции, из одного чувства рождаются десять, из этих десяти – еще сто, из этих ста – еще тысяча и так до сумасшедшей и непостижимой бесконечности. Они пока что неописуемы, эти мои чувства, ибо я не до конца овладела своим сознанием и интеллектом, который мог бы описать все это в точных красках и подробностях. Но эмоции уже начинают свою летопись, так как, рождаясь, они мгновенно умирают, создавая свою собственную историю, которая начинается с крохотной крупинки всех процессов в моем организме. Теперь я начинаю осязать и обонять. Как будто в первый раз, но у меня deja’vu. Я могла делать это раньше? Нет, нет. Исключено и невозможно. Таким чудом можно овладеть лишь единожды, а забыть просто нереально! Ведь это навсегда. Историю создания этой кропотливой, постепенно выстраивающейся системы нельзя просто так взять и перечеркнуть за один раз. Ведь это самое настоящее чудо. Как то чудо, которое мы испытываем при первой поездке на велосипеде, при первом снегопаде, при первом купании в речке, при первом поцелуе. Такое не забывается, такое может произойти только однажды, и больше оно не случится никогда. Первое невыносимое и незабываемое одушевление.
Эпизод III. Путь через тень
Мироздание покойников
Оглядываюсь – меня окружают такие же, как и я… наверное, люди. Так это называется. Да. Это то самое верно подобранное слово. Человек. Один, второй, третий, четвертый… тысячный. Все они смотрят на меня потухшими глазами, в которых должен априори возникать интерес, должно возникать познавательное любопытство, как у мальчишки, желающего понять, сколько сможет прожить бабочка в закрытом пространстве без живительного и бесценного кислорода, без шансов на выживание. Они стоят, не шевелятся. Боятся подойти. А вдруг я зло? А вдруг я уничтожаю все, к чему прикасаюсь? Ведь это вполне вероятно и обоснованно. Страх. Страх – это логичная и вполне объяснимая эмоция, основанная на смысле человеческого существования; которую вызывает неизведанность и непонимание того, что может случиться в определенной или критической, спонтанной ситуации. Испуг, он присущ всему, что может ощущать мир вокруг себя, что может видеть детали абсолютной и только своей собственной жизни. Проходит время, которое тут уже не имеет особенного или торжественно важного значения, которое ему так усердно все пытаются придать, идя на поводу у своих стереотипов о протекании мгновений, секунд, минут, часов в обусловленном пространстве. И тут сквозь неподвижную и мрачно бледную толпу ко мне прорывается дух. Человек, но он дух, призрак, мистическая субстанция, тщетно цепляющаяся за свое с этого момента окончательно и бесповоротно бессмысленное существование. Он, как я, ушел из этой жизни понапрасну, даже не имея малейшего представления о кодексе смерти, о кодексе восьми минут.
– Ты пришла! Тебя уже ждут! Мы опаздываем! – кричит он, оглушая всю непомерную и степенную тишину в этом пустом месте.
– Это ты, та самая рука, зовущая меня вдали? Ты, тот голос, который приманил меня сюда? – вопрошаю я, пытаясь начать проявлять эмоции не только внутри, но и снаружи. Это приходит со временем, которого тут нет. Оно стоит на платформе не существующего в реальности кругового потока, который витает здесь повсюду.
– Тот голос слышат все – не только ты одна. Поэтому следуй за мной, если хочешь получить то, за чем ты вернулась сюда, – объясняет он мне без энтузиазма и восторга, что сильно удивляет меня. Удивление. Новая эмоция, новое проявление.
– Вернулась? Я была здесь уже однажды? Но такое бы я точно запомнила? Зачем ты лжешь мне? – практикую я удивление на себе и на этих мистических субстанциях, которые неотрывно глядят на нас, паря в гравитации воздуха.
– Ты перерождалась тут не одну тысячу раз, как и все мы. Но теперь время твоего перерождения, твой бесконечный лимит истек, и тебе пора обрести то, для чего тебя сюда призвали раньше положенного срока. Идем же за мной. Идем. Все ответы на вопросы ты получишь позже.
И дух повел меня сквозь умирающую и мысленно стонущую толпу, которая провожала нас своими бессодержательными и скучающими, утомленными взглядами рабов собственного создания и собственной сути. И выйдя из толпы, я начала дышать. Дыхание – еще один величайший дар, данный нам от творца мира и созидания. Воздух здесь был так же пуст и скуден, как и ветер. Грубый, жесткий и сухой. Но дыхание свое я буду помнить во все года.
Прогулка между смысловых иллюзий
Я шла за ним, как Данте шел когда-то за Вергилием. Но призрак не размыкал своего рта, а только вел меня вперед и только вперед. А в мыслях у меня вертелась фраза на иностранном, чужом мне языке: «Führe mich und verstehe mich, bitteЧто означало это, я не знаю. Я помню это, но откуда – без понятия малейшего. Поначалу взгляд мой видел лишь сплошную и кромешную темноту и черноту, но чем дальше я следовала за духом, тем больше я начинала различать силуэтов, красок, цветов, предметов. Они, как и тот поток, кружили рядом со мной и моим попутчиком. Как какой-то космический мусор кружит вокруг планет и их спутников: медленно, неспеша, не дотрагиваясь до меня и впереди плавно скользящего по воздуху привидения. Еще спустя пройденные часы моему взору стали подвластны живописные, но темные и дикие пейзажи окровавленных горизонтов с закатным и восходящим солнцем. В этом мире было два солнца: одно из них вечно садилось, а второе вечно вставало в багровом устрашающе высоком небе. Горы чернели жуткими и опасно острыми макушками, так и норовя убить своей громадой близ проходящего. Трава была высокой и абсолютно черной, словно уголь или вороное крыло. По этим длинным травинкам и растениям стекали капельки свежей крови, словно утренняя или вечерняя роса. Я старалась не касаться пятками и пальцами ног этого ужасного природного зрелища, потому что не хотела запачкать свой белый саван. Деревья были огромными, массивными и ветвистыми настолько, что некоторые из них царапали своими ветками своды огненных небес. Листья на них росли малиновокрасные или угольно-черные, иногда вперемешку, а сами стволы были белоснежные, будто бы их только-только окунули с головой в белую краску. Потом нам начали встречаться разные животные и цветы, растения, между которыми они шныряли. При виде меня и моего мертвого попутчика все эти странные и мелкие зверьки прятались в кустах, состоящих из ярко-красных или кислотно-оранжевых листочков, по которым так же, как и по блестящей атласной траве, скатывались капельки крови. Они сливались с красными листьями и были похожи скорей на болезненные выпуклости и опухоли. Где-то начали появляться глиняные или деревянные домики с соломенными крышами, которые сильно контрастировали с общим ландшафтом. У некоторых сооружений были загоны, в которых теснились очень страшные, но на вид спокойные твари. У некоторых были остро заточенные и большие клыки в пасти на всю морду, кто-то был лысый, как больная побритая собака, кто-то был мохнатый, как настоящий волк-оборотень. У многих было по нескольку пар разноцветных глаза, сияющих общим фоном. Кое-где возвышались рога: ветвистые, закрученные, прямые, спиралевидные – самые разные и непонятные. Воздух начал становиться свежее, чище, просторнее. Послышались отчетливые голоса, звуки, потрескивания, шорохи, мычание, гогот. Потом появилась и простая легкая музыка, затрагивающая мой слабый слух, который еще не мог окончательно сформироваться, – словно раненый солдат в лазарете приходит в себя после ампутации загангрененных конечностей. Далее перед нами стали внезапно возникать черные полупрозрачные тени в виде человеческих силуэтов, которые, не обращая на нас, мимо пролетающих путников, никакого внимания; занимались своими делами. Здания начали становиться более высокими, большими и сложными. Количество теневых силуэтов постепенно увеличивалось, а количество животных и растений – уменьшалось, и вот перед нами уже возник обширный город, раскинувшийся на многие-многие мили вокруг, который встретил нас легким содроганием земли под собой.
Эпизод IV. Город мертвых
Путь к хозяину жизни
– Мы подошли к тому месту, в котором ты получишь и осознаешь новую себя. Молчи. Не задавай вопросов, а продолжай так же смиренно идти за мной по пятам, не отставая. Мы и так задерживаемся, – пропел покойник, обернувшись ко мне своим худощавым и безжизненным, осунувшимся ликом.
Я без пререканий поспешила за быстро плывущим передо мной духом. Огромные ворота кирпичного цвета покорно отворились перед нами. Жутко было глядеть на одну из их сторон, ведь барельеф левой стороны ворот олицетворял весь неприкрытый ужас адских мук, которые только могли существовать. Тут были и уродливо безобразные и искаженные в гримасах издевательского удовольствия морды чертей и бесов, каких-то омерзительно отталкивающих и страховидных демонов, которые истязали людей, мучили их. И по их виду можно было предположить, что это доставляло им грандиозное и безумное удовольствие – выполнять свою грязную работу, которую поручили вышестоящие силы. Ведь так распорядились не они одни. Правая же половина ворот рассказывала о том, как умирает человек и перерождается в новой жизни. Здесь были неясные и необъяснимые иероглифы, символы и знаки, похожие на рунические. Где-то изображались люди грустные, опечаленные своей нелегкой и жестоко обернувшейся судьбой. А где-то, наоборот, пестрели улыбки и смеющиеся лица, как будто в смерти есть что-то забавное и смешное или что-то, что может скрасить переход из одного мира в другой, что может убить этот невыносимо тяжелый траур, который невозможно ощутить из-за отсутствия каких-либо ощущений. Мы прошли внутрь города под пристальным наблюдением оживших каменных статуй, стоявших в нишах внутри стен за воротами. Они строго и оценивающе оглядывали нас с ног до головы, и выражение их беспристрастных лиц говорило лишь о том, что они были бы не против задержать нас или не пропускать вовсе. Но мой верный спутник, не замедляя темпа, продолжил свой безмолвный путь, ведя меня за собой. Город шумел, гудел. Здесь уже были не только тени, но и всяческие жуткие существа и монстры, которые, проходя широким и уверенным шагом мимо нас, не говорили ни слова, даже не поворачивали голов своих. Тихий ужас накрыл мой полностью восстановившийся и оживший мертвый разум, но я молчала и двигалась вперед, не подавая признаков жизни, чтобы не смущать впереди идущего призрака. Дома здесь были расположены над рыночными палатками и деревянными прилавками. Где-то мелькали фигуры, хотя бы частично похожие на людей, что придавало мне уверенности в том, что я точно не имею права на страх, ведь это все обыденно, этого не стоит бояться, страшиться и сторониться. Из окон грязнорыжих и отвратительно-красных домов высовывались монстры и выскакивали, вылетали, выпрыгивали оттуда всевозможные мелкие пищащие или хихикающие твари. Когда мы подошли к центральной рыночной площади, на меня свалился шквал омерзительнейшей вони, от которой хотелось скукожиться и зажаться в самый дальний угол этого сумасшедшего и шумного города. Но я безропотно и послушливо терпела, ожидая нашего конечного прибытия. И спасение мое было уже близко. Мне больше не приходилось смотреть на то, как монстры выливают из окон и из дверей помои, отходы и отбросы, которые и источали такое зловонное амбре. Как будто бы все самые грязные и смрадные вещества и запахи собрались воедино и решили устроить здесь адскую феерию, шабаш, чтобы оскорбить этот мир своим пребыванием в особом положении. Наш путь окончился у замка. Черные железные ворота, которые любезно отворили нам два трехногих фиолетово-бордовых монстра с рогами и двумя парами ярко-желтых светящихся глаз, открывались медленно и несуетливо. Монстры пыхтели, кряхтели, но все-таки выполнили предназначенную им работу. Мы вошли внутрь.
Эпизод V. Желания, имеющие тенденцию исполняться
Последний диалог в мире мертвых
– Я привел тебя в царство Мертвого Короля, и теперь настала твоя очередь показать себя и продемонстрировать все свои знания и способности. Будь честна и откровенна с ним и с собой, и тогда ты получишь то, за чем вернулась сюда.
Затем мой друг безответно и кротко поклонился мне и исчез в темноте черного и пыльного грязного угла. А я, поняв, что мне не убежать, поплыла дальше, не глядя по сторонам. В конце простого обшарпанного коридора меня ожидала уже распахнутая тонкая дверь, вся запачканная пятнами. Прошла я в просторный и свободный зал, который освещался тремя убывающими и тремя растущими лунами, хаотично парящими в иссиня-черном звездном небе под самым потолком. Казалось, что почва уходит из-под ног от этого неземного завораживающего вида. Словно весь смысл всего неживого собрался в этом месте.
– Я ждал тебя! – послышался голос из центра залы. Там, на высоком резном троне из черного золота, сидел мужчина средних лет обычной европейской внешности. Один глаз его был небесно-голубого цвета, а второй темно-карего. Пронзительно глядел он на меня, не вставая со своего трона.
– Что делаю я здесь? Что нужно мне в этом месте? – опомнилась я.
– Ты получишь то, чего при жизни так страстно желала! – покорно ответил мне мужчина, вставая со своего места и приближаясь ко мне.
– Чего же я желала? Я не помню.
– Тебе не нужно вспоминать – ты просто знай, что каждый, кто ищет, тот найдет, и каждый, кто желает, тот получит. Неважно что, неважно как, а главное – что все желания его сбываются однажды, и уж тогда никто не станет искать скупые оправдания, чтобы отвлечь внимание Вселенной и Высших Сил от просьбы. Все это зафиксировано тут, все это исполнимо и реально. И нет на свете вещи хуже и глупей, чем самонадеянно полагать, не веря власти сил, что все сказанное и задуманное не осуществимо в этой жизни. Но тот, кто понимает смело, и все желания свои безропотно готов он принимать, получит все, чего желал при жизни, не зная как, зачем и почему. Ведь отпадает этот смысл, ведь нет уже той вечности путевой, которая ведет из года в год усердно весь род людской: кого-то на погибель, кого-то к возрожденью. Вот ты пришла ко мне и к возрожденью. Взойдешь ты скоро над всем тем земным и низменным уставом, который люди кропотливо пытаются выстраивать годами, не зная, впрочем, что удивительно, в чем вся суть, весь смысл непроглядный. Имея лишь часть знаний, не сможешь ты построить целый мир. Тут нужен и опыт, и нужно созиданье, благословенье Высших Сил, тогда получишь ты все то, о чем мечтаешь постоянно, без устали и ночью, днем. Тебе понятно?
– Вполне все ясно мне. Вот только я не помню, чего же я всю жизнь желала. Так долго, мерно. Я помню, я страдала, я помню, сколько боли нанесли мне люди. Я помню тех, кто обжигал меня постоянно, я помню тех, кто помогал вставать, но вновь потом ронял меня. И это было страшно, потому что не было сил подняться вверх, чтобы сказать, что я жива и не умерла еще. Но теперь это поздно делать. Теперь я мертвая, взгляни. Я жалко выгляжу, и тут не надо оправданий. Мне страшно даже думать о том, что происходит с моим же телом в том мире, в земном. Расскажешь?
– А смысл мне расстраивать тебя? Мне нужно лишь отдать тебе то, зачем ты долго так шла сюда. Держи.
И незнакомец руку протянул в перчатке. Я увидела, что лежит травинка. Сухая, желтая, скукоженная.
– Возьми! – приказал он мне.
– Что взять? Ее? Травинку, что ли? – я не понимала этой глупости бездонной.
– Это не глупости какие-то, – прочитав мои мысли, ответил осекающе незнакомец, – это то, что спасет тебя, твою душу и поможет тебе переродиться в новой жизни в старом мире. Бери, не тяни!
И я поближе подошла решительно уверенной походкой, схватилась за травинку, и та возродилась, ожила, позеленела, стала сочной, влажной и красивой где-то даже. А затем из нее вырос стебелек, который сформировался в маленький бутончик, которой, в свою очередь, невероятно красиво и живописно распустил свои алые лепестки. Внутри оказались ярко-черные пушистые пестики и тычинки.
– Какая красота! – восхитилась я, обретя окончательно все свои прежние эмоции и чувства, неповторимые ощущения. Что-то содрогнулось в моей охладевшей груди, и по телу моему разлилось бесконечное тепло. Оно красным заревом заполнило все то, что опустело внутри меня после смерти. Перед глазами моими все начало расплываться, и последнее, что я увидела, это была довольная и понимающая улыбка того самого незнакомца, хозяина замка, вручившего мне этот невообразимо красивый цветок. Затем тьма. Вновь непроницаемая и холодная, но внезапно, резко она начала растворяться, и на меня откуда-то сверху хлынул поток теплой, кристально чистой воды. Я оказалась в каком-то водоеме. Но мне не нужно было дышать, я просто наблюдала за тем, как перед моим взором перетекает голубая и приятная жидкость. В руке я по-прежнему сжимала стебель подаренного мне цветка, который ни в коем случае мне не хотелось выпускать. Его красные прожилки на лепестках восхитительно переливались под водой, мерцая огненным сиянием. Над головой моей появилось белое свечение, и я сразу же заметила его, оттолкнулась ногами от дна, на которое уже успела опуститься за всеми своими короткими раздумьями о смысле моего подарка и о том, где я сейчас нахожусь. Когда я всплыла на поверхность, меня ослепил неудержимо яркий и неистовый свет, от которого я мгновенно потеряла сознание и провалилась в какой-то дурманный сон.
Пробуждение и возрождение
Глаза мои самопроизвольно открылись в том же мерзком и сером помещении, в котором меня покинула жизнь. Я была вся мокрая, как будто действительно только что вынырнула из воды. Надо мной склонились врачи, от шока и изумления округлив глаза.
– Ж-жива… – промямлила ассистентка врача и с грохотом уселась на столик, заваленный операционными принадлежностями, которые в то же мгновение с треском повалились на жесткий и звенящий кафель. Она стянула с себя маску и приложила руку к груди. Врач довольно усмехнулся, все еще пытаясь отойти от удивления, и дрожащими руками откинул рукав назад, чтобы посмотреть на время.
– Время клинической смерти 17:58. Время прихода в сознание 18:07. На девятой минуте пришла в себя. Н-невозможно… Ты слышишь меня?
– Да, – четко и внятно ответила я, проморгавшись и подняв корпус. Я уселась на столе, оглядывая всех присутствующих. На меня смотрели так, словно я совершила невероятное кругосветное путешествие, хотя, образно выражаясь, так оно и было.
– И ты понимаешь, что я тебе говорю? – по слогам чересчур отчетливо спросил врач, начиная трястись, как осиновый лист, уже всем телом. Вторая ассистентка упала в обморок с тяжелым вздохом. Ее никто даже не стал пытаться подловить, так как все в операционной были ошарашены так, словно началась Третья мировая война.
– Конечно. Очень ясно. А в чем дело? – не понимала я ничего.
– И ты хорошо себя чувствуешь? – не унимался тот.
– Вполне.
– Это невозможно! Просто феномен какой-то! – истерически засмеялся врач. – Мозг должен был умереть. Если ты и пришла в себя, то должна была быть овощем… инвалидом на всю жизнь. Это… просто чудо.
Все еще долго приходили в себя после моего чудотворного возрождения. Качали головами, вздрагивали при воспоминаниях о произошедшем. Вся больница около трех дней носилась со мной, как будто я очень важная и необычная персона. Делали анализы, обследования, снимали показатели, но объяснить ничего не смогли. Да. Никто не понимал порядком ничего, и только я одна, спустя неделю, вертя в своих руках будто бы только-только распустившийся красный цветок, понимала, что я больше не человек, что я, пережив восемь минут моей бесконечности, стала тем, кем желала стать всю жизнь. Бессмертной.
Виктория Черевко г. Тула
То предсказуемая, то непредсказуемая. Меняющая весовые категории. То отчаявшаяся до истерики, то собравшая последние силы для преодоления и взятия хоть небольшой вершины. Обливающая слезами умиления чужие таланты и сожалеющая, что своих маловато. То есть занимающаяся черт знает чем.
© Черевко В., 2015
На пироги…
Дверь оказалась открытой – хозяева, дожидаясь гостей, не стали ее запирать. На мой стук приветливо: «Заходите, пожалуйста!».
Ароматный, даже дурманный запах свежих пирогов пьянил уже с площадки. В прихожей было пусто, а на кухне позвякивала посудой хлопотливая Наденька, как ее ласково называл хозяин. Посреди уютной комнаты стоял большой круглый стол, накрытый зеленой скатертью, а над ним висел старинный, тоже зеленый, абажур. Ильич предпочитал этот цвет, так как считал его самым гармоничным. Золотистый свет отражался в двух лысинах, одна из которых отмечена родимым пятном, напоминающим очертаниями Южную Америку.
– Ну, вы, батенька, наделали шуму в мире! Я столько сил потратил, чтобы построить, а вы столько же, чтобы развалить. И ведь удалось!
– Я же знал, где собака порылась!..
Речь гостя была многословной. Тонкая нить рассуждений порой терялась в буреломе ассоциаций, а потом возникала, едва не задохнувшись в нем, но находила выход и завершала логическую мысль. Острые замечания хозяина, хоть и произнесенные с мягкой картавостью, периодически прерывали пространное словоблудие и ставили в тупик Михаила Сергеевича.
Они были похожи внешне, особенно круглыми лысыми головами и в то же время – очень разные. Один порывистый, мощный, стремительный, с совершенно железной логикой, а другой размеренный, порой даже медлительный, вечно блуждающий в своих длинных речах. Оба были увлечены беседой. Не хотелось им мешать. Поздоровавшись, я тихонько села в кресло под фикусом.
Внезапно балконная дверь распахнулась от порыва ветра и в комнату влетела на метле Марина.
– Приветствую, уважаемые! Цветаева, – представилась она. – Вот на очередном вираже завернула к вам. Очень уж вкусно пирогами пахнет… Ненадолго, – тороплюсь на Шабаш.
Вся затянута в черную кожу, лаковые ботфорты, шлем на голове, а в глазах эдакая чертовщинка.
– Где же моя дорогая Сонечка Губайдулина?
Гости весело переглянулись, а радостная Софья ринулась с распростертыми объятьями к подруге. Копна черных кудрей, обрамлявших ее лицо с веселыми карими глазами, прильнула к груди новоявленной ведьмы.
– Возьмешь вторым седоком? Я тоже хочу с тобой. Будут исполнять мое «Жертвоприношение» – концерт для баяна и струнных.
– Тогда всем привет! Держись покрепче, а то я люблю быструю езду.
– Постойте! А пироги? – Я еле успела вручить кулек по просьбе хозяев и тут же закрыла окно за улетевшими дьяволицами.
– Эта непоседа даже к столу не присела. Но хороша чертовка! А ножки! Так и вьются вокруг метлы – мечтательно заметил Котя. На его лице пронеслась целая череда эмоций – ужаса, удивления, иронии и влюбленности.
Ритмичная музыка, наполнявшая дом, раззадорила его и он принялся выделывать такие кульбиты, что разговоры стихли. Все смотрели на Райкина с восторгом. А он, не останавливаясь, потирая руки, вопросил: «Где же чай с пирогами? Пора подкрепиться».
Сдвиг
Открываю глаза, а кругом слепящая белизна.
– Я на том или этом свете?
Начинаю присматриваться. Медленно проступают контуры белого потолка с многочисленными строчками люминесцентных ламп, белого кафеля стен с приборами и шкафами, людей, облаченных в белое, явно не ангелов, так как лица родные, земные. Поверх белых простыней лежат бледные, тонкие, костлявые руки – похоже, мои.
Появляется заведующий отделением, осматривает меня, участливо и даже ласково подбадривает: «Сейчас покапаем, и все будет хорошо».
Я с мольбой: «Только глюкозу. Есть пока тоже не буду – у меня сегодня последний день очищения».
А он безропотно: «Пожалуйста, не волнуйтесь, так и будет».
Голова уже работает четко, а тело словно придавлено многотонной плитой. Сил нет.
Что же случилось? Я ведь только что была ответственной дежурной. Сама оформляла больных в реанимационный блок. Теперь – пациентка… Доигралась.
В последний месяц затеяла грандиозное очищение, видимо, хотела прожить 150 лет. Шейпинг – каждый день, адсорбенты, система питания по Пятибрату. Состояние легкости позволяло мне порхать. Я все успевала, даже дежурила регулярно. На шейпинге периодически проводилось обследование: вес, толщина кожных складок, высчитывался баланс белков, жиров, углеводов. Вердикт – идеальное соотношение. Кругом зеркала, а в них отражается идеальная конструкция, больше похожая на забор: ключицы торчат, ребра, как стиральная доска, впалые глаза и щеки. Правда, глаза лучатся жаждой жизни и изливают на окружающих любовь. Я счастлива. С окружающими безоблачные отношения и любимый рядом.
Когда же я переступила грань между реальностью и нереальностью? Ведь старалась контролировать каждый шаг, свои ощущения и изменения. Чувство удовлетворения не покидало ни на минуту. Оказывается, уже пребывала в иллюзии, а мозги этого не подтверждали. Уверенность в четком отражении реальности серым веществом рухнула.
Тишина. Я одна в большой комнате. В руках книга. Перед глазами разворачивается жизнь Ван Гога. Времени теперь много – читаю взахлеб. Вот его реальность не очень занимала. Жил в своем иллюзорном мире и творил, хотя ни одной картины не продано при жизни. Эта судьба заворожила меня и поглотила полностью. Трагичность событий вызывает душевную боль. Ловлю себя на мысли, что завидую его таланту и упорству. Если бы я могла построить свою жизнь иначе, то чистота тела не стала бы главной целью моих трудов.
Хатха-йога
Стою я в «березке» и рассматриваю все пространство вверх ногами. Пол стал потолком, и из него свисают вниз диваны и этажерки.
А как же коврики держатся и не падают?
Зато пол, который «потолок», ровный, свободный – хоть бегай, хоть пляши. Занавески приобрели такую устойчивость, что струятся фалдами к «потолку».
Может быть, я муха? Эти насекомые, когда ползают по потолку, тоже все наблюдают в перевернутом виде.
Витаю я так в новом пространстве, даже забылась, пока звон какой-то не появился в голове, которая, видимо, «ноги».
Что бы это значило?
Роза
Тлен касается всего земного. Никому и ничему его не избежать. Рождаемся, развиваемся и умираем. Но у одних это получается красиво, а у других ужасающе.
Ржа коснулась тела, бросила на землю…
Это всего лишь консервная банка, брошенная беспечно туристами на солнечной веселой поляне. Еще живы у нее воспоминания о наполнявшей ее ароматной тушенке, да и о самой себе изящной, плоской, сверкающей, с яркой наклейкой на боку. Как нахваливали ее содержимое, смачно причмокивая, аппетитно уплетая, а она гордилась, что доставила такое удовольствие людям.
Ощущение полета еще более укрепило чувство своей значимости, но когда приземлилась в кустах, поняла, что, видимо никому не нужна. Вся внутренняя пустота и остатки пищи протестовали против такого исхода.
– Почему так бесславно? Я не хочу!
Когда был пережит первый шок, начала рассуждать: «Еще не все потеряно. Я еще, пожалуй, пригожусь».
Радовалась суетливым муравьям, которые добирали последние остатки пищи: «Пожалуйста! Мне не жалко».
Дождь до краев наполнил ее прозрачной, как слеза, водой. «Налетай! Подходи! Напейся!» – кричала она пролетающим и пробегающим мимо и ликовала, когда утоляла жажду лесного зверья и птах.
Но жаркое лето не баловало дождями, поэтому последняя капля воды высохла. Опять ее заполнила пустая звенящая безысходность. Утренняя роса увлажняла ненадолго ее серебристую поверхность, но дно уже затуманилось ржавой шероховатостью.
И вдруг в один прекрасный день распустилась ржа буроватой розой, которая, конечно, не имела аромата настоящей розы, но была так же величественна. Лепестки ее, раскрываясь, поднимались над поверхностью, отражаясь в еще зеркальных, гладких стенках. Банка вновь наполнилась содержанием, любовалась своей новой сущностью и лелеяла ее. Роза распускалась все новыми лепестками, но теперь не отражалась, так как стенки банки потускнели, стали шероховатыми и морщинистыми. Она уже заполняла весь объем – банка отдавала себя ей всю без остатка, не сожалея.
По следам…
Предстояло путешествие на юг Франции в Монтон. Билеты заказаны в Ниццу через Женеву, где встретит дочь. Строгая инструкция гласила: «Сесть по возможности ближе к выходу, может, даже попросить стюардессу пересадить; в Женеве не зевать, а быстрым шагом дойти до места посадки – аэропорт большой, а времени мало».
Я, конечно, пообещала, но не придала особого значения ее словам.
Началась основательная подготовка. Чем может Тула удивить Европу? Город оружейников с Петровских времен – конечно, своими ружьями. В музее выставлены неподражаемые образцы, инкрустированные золотом, серебром, драгоценными камнями. Но это неимоверно дорого и небезопасно. Остаются самовары и пряники. Самовар красиво, но громоздко, да и будут ли современные европейцы пить чай из него? Они больше предпочитают кофе, вино, соки. Вот пряники выручают всегда. Медовые, печатные нравятся всем.
Чемодан получился увесистым – пряники и Белевская пастила занимали почти все его пространство.
«За два часа до посадки в самолет быть в аэропорту «Домодедово» в Москве» – вспомнила я инструкцию.
Времени катастрофически не хватало. Такси и маршрутка не ускорили процесс. От станции метро «Анино» надо было перейти на «Домодедовскую» и сесть в маршрутку до аэропорта.
Чемодан скакал по ступенькам метро, как кузнечик. Когда надо было перескочить с платформы в вагон, он не выдержал. Раздался резкий звенящий звук и выдвижная ручка оторвалась. Вместо нее медленно раскачивались две проволоки, как усы у кузнечика. Чемодан мне удалось втащить в вагон. Обратно оторвавшаяся ручка не вставлялась. Так и осталась болтаться, страшно мешая в моем бесноватом беге.
Выскочила из метро взъерошенная, почти потерявшая последнюю надежду увидеть дочь и Лазурный Берег, и, конечно, – не там – маршрутки виднелись через дорогу. Рядом оказалось такси, которое за двадцать минут домчало до нужного терминала. У стойки я стояла за пятнадцать до вылета самолета, когда регистрация давно закончилась, а багаж погрузили. На меня укоризненно посмотрели, куда-то позвонили и велели взять чемодан с собой. Мой попрыгунчик был уже без усов и замотан в зеленую пленку. При таможенном досмотре в нем проявился контур бутылки.
– Что это?
В последний момент сборов пристроила зеленый чай в такой оригинальной упаковке. Теперь очень пожалела об этом.
Мне, конечно, не поверили. Надо было открыть чемодан, а перед этим вскрыть пленочную упаковку. Женщина-таможенник стала резать ее маленькими маникюрными ножничками.
– Сколько же это продлится? – билось лихорадочно в моем мозгу.
Я стала судорожно помогать рвать упаковку пальцами. Лицо стало пунцовым, капли пота медленно катились и шумно шлепались. Процесс был такой трудоемкий и медленный, что я опять распрощалась с возможностью отдохнуть. Посмотрев на меня и мизерные результаты нашего труда, она махнула рукой: «Идите».
В одно мгновение вещи были собраны, а натруженные ноги ступили на трап самолета: «Все-таки увижу море!» Во мне все пело.
За время полета успела отдохнуть, перекусить и насмотреться на проплывающие под нами территории Белоруссии, Польши, Чехии, Германии и Швейцарии. По мере продвижения вглубь Европы лесов становилось все меньше, а земля все четче нарезана на цветные лоскутки полей. Расстояние между городами сократилось. Появились горные массивы. Ошеломляюще красиво выглядело Женевское озеро, бескрайнее, как море. Женева сверкала, как бриллиант в оправе Альпийских хребтов.
Из самолета вышла быстро, так как сидела сразу за первым классом. По дороге вроде поторапливалась, а когда подошла к стойке, никого из пассажиров уже не было – самолет улетел. Это я поняла быстро, а из того, что мне говорили, не понимала решительно ни слова. Тело сковывало оцепенение, а на лице читалась такая трагедия, что молодой человек взял меня за руку и повел к другой стойке. На пальцах мне пытались объяснить мои дальнейшие действия, но ничего не получалось – мозги отключились от страха. Вот когда я поняла, что такое цивилизованный мир и как я в него не вписываюсь со своим единственным, хоть и могучим, русским языком. Подошел еще один пассажир и стал бойко объясняться со служащими на английском. Совершенно неожиданно повернулся и на чистом русском сказал мне: «Сейчас нам закомпостируют билеты, но полетим с пересадкой в Цюрихе».
– Боже! – кричала каждая клеточка моего замученного организма. – Ты послал мне замечательного грамотного человека! Разве я заслужила?
Сергей тоже не успел, так как наш самолет запоздал и виновата была не моя нерасторопность. Швейцарская авиалиния брала все издержки на себя.
Теперь я от Сергея ни на шаг.
Это оправдалось. Аэропорт в Цюрихе огромный. Мы почти бежали. Я пыхтела изо всех сил, боясь потерять моего спасителя из виду. Трижды нам помогала «бегущая» дорожка, по которой мы продолжали бежать. При этом беге возникало какое-то шизофреническое чувство – тело понимало скорость, с которой мы двигались, а глаза отмечали значительно большую. В мозгах происходила сшибка.
Сергей периодически оборачивался – не отстала ли я. Моей благодарности не было границ. В этот момент это был самый дорогой мне человек.
Не прошло и двенадцати часов, как под крылом засверкала золотым огнем Ницца, а море серебрилось умиротворенно у ее ног. Сказка только начиналась. Она встретила меня счастливыми глазами дочери.
Когда узнала, что лечу в Ниццу через Женеву, то подумала: «По стопам В. И. Ленина!» Цюрих продолжил этот путь. Но тот позор, который я перенесла перед цивилизованной Европой, не забуду никогда. Стопы стопами, а языки надо знать!
Мария Бондаренко г. Тула
Не сидела, не получала орденов, не была на Луне. Сомневалась. Решалась. Ошибалась.
© Бондаренко М., 2015
Собачье одиночество
На часах пробило двенадцать. В городе время обеда. Я замерз и устал, я лежу на канализационном люке и грею подбитые бока. Уже несколько дней я ничего не ел. На улице холод, суета и нескончаемый дождь, обрушивающий на меня всю свою печаль и погружающий в безысходность. Коктейль из грязи, плевков и косых взглядов летит на меня из-под подошв прохожих, но мне некуда идти, и я закрываю глаза и тихо терплю происходящее, погружаясь в печаль, которую разбрасывает дождь. Мой взгляд блуждает по прохожим, несущим в своих сумках так много вкусного, что кружится голова. Они даже не догадываются, что я знаю, что лежит в их сумках и желудках.
Вот, например, тощий, как я, мужик с суетливым взглядом, – в желудке у него лежит теплый, только что проглоченный бутерброд с докторской стародворской колбаской, да еще и с маслом, и если хорошо принюхаться, можно понять, что там целых три бутерброда. Я с завистью смотрю на него, провожаю взглядом, пока он не исчезает, и снова погружаюсь в свое собачье одиночество. Уж лучше бы мне и не знать вовсе, что у него там из желудка, медленно разлагаясь, перемещается в кишечник, а то становится слишком тошно, и я чувствую, как моя душа постепенно покидает меня и мчится за этими бутербродами.
И пока она преодолевает метр за метром, мой взгляд жадно цепляется за мальчишку лет семи, с большими добрыми глазами и, главное, с большой, вкусно пахнущей сумкой, а в ней… – щас-щас!.. что-то знакомое., да, да, ну как же я сразу не понял, – скумбрия копченая! Холодного копчения, наисвежайшая, две штуки. А еще там – батон хлеба и ммм… – ветчина.
Помню, как-то давно угостил меня один человек этим собачьим бланманже, мне она потом еще месяц снилась. Каждый день я просыпался и все облизывался, облизывался, облизывался, представляя, что я ее не месяц назад, а вот только что съел. Но как же мне теперь выпросить у этого мальчишки хоть маленький кусочек этой вкуснятины? Я чувствую, что она мне жизненно необходима. Я бегу за ним, виляя хвостом, – даю понять, что я настроен доброжелательно. Он сначала боится меня, отпугивает, машет своей тяжеленной, как моя тоска, сумкой, а потом, потом, зайдя за угол, – о боже! – открывает ее, да, открывает и достает что-то для меня. Да, для меня! Кладет под нос, я впиваюсь обонянием в этот кусок и понимаю, что это всего лишь корка хлеба, но корка, от которой так сильно пахнет и рыбой и ветчиной, что мне кажется, что я снова очутился в том времени, когда я единственный раз в жизни ел ветчину. Она снова плывет передо мной, ложится мне на язык и тает, тает, я не спешу проглатывать ее, я держу во рту это сокровище и знаю, что ничто не может нарушить мое счастье в эту минуту, нет, ничто не может. Воспоминания будоражат меня, как утренний дождь, и я беру в рот эту корку и бегу снова на свой теплый люк, проглатываю ее, потому что очень хочется есть. Корка, смешанная с такими воспоминаниями, оставляет очень приятное послевкусие, и, убедившись, что она в целости и сохранности попала в желудок, я задремал.
Через два часа моей сладкой дремоты на улице заиграло солнце, я проснулся, и в груди моей уже плескалась надежда на благополучное продолжение дня. Я бегу то к одному, то к другому, то к третьему, но безрезультатно, даже бабульки вымещают на мне свой накопившийся старческий гнев. Так до конца дня и пробегал, ничего интересного и вкусного со мной не случилось.
Бывали в моей жизни дни, когда весь день ходишь сытый, то тут, то там найдешь какую-нибудь кость или рыбью голову и греешься на люке не от горя, а от счастья. Это, конечно, другое дело, но такое, как правило, бывает только когда ты молод, потому что все знают, что новичкам везет, сначала жизнь гладит тебя по голове своей теплой мягкой ладонью, а потом ей же дает тебе горячую пощечину. Тут нужно не пропустить момент и приготовиться к ней. А после нее жизнь становится у всех одинаково пресная, жалкая и очень болезненная, настоящая собачья жизнь, с которой ты всегда играешь один на один, и, черт побери, у нее никто еще не выигрывал.
Зато за недолгую мою жизнь я сумел найти лучшее место на всей планете, вы знаете, где это место? А я вам скажу, просто так скажу, – это продуктовый магазин номер десять, и хоть находится он на улице Доктора Гумилевской, на отшибе, я привык называть ее просто докторской улицей, так, знаете ли, слаще звучит и даже утоляет голод. Когда произносишь это медленно, с нужными паузами и правильной интонацией, тогда тебе на язык нежно-нежно ложатся толстые кусочки докторской кремлевской, любительской, черкизовской, стародворской и дымовской, вы только представьте – стародворской и кремлевской. Поистине – лучшее место.
Но даже здесь, в этом благословенном богом месте, бывает, сидишь, задумаешься о чем-то своем, родном, о колбасе опять же, а к тебе подойдет какой-нибудь несчастный мужик, да и пнет для облегчения души. А ты так громко-громко, так жалобно-жалобно заскулишь, что самому себя жалко становится за один только этот стон, даже если и не больно было. А ведь все равно обидно, что ни говори, ни за что, просто так, подошел и пнул, слезы наворачиваются, и сделать-то ничего не можешь. Вот и приходится всю жизнь бегать от этих дураков. Убежишь вроде, скроешься за поворотом, а ему и хорошо, сильным себя чувствует, удовлетворенным, и настроение налаживается, и жизнь его гнилая будто бы розами запахла. Да ну их, что о них говорить, с ними все ясно! Чему-чему, а человеческой глупости, кажется, конца нет, ну, по крайней мере, я его еще не видел, конца-то этого, и даже представить не могу, как он выглядит, то ли страшный, то ли не очень. Вот, казалось бы, если родился ты человеком, тут уж грех не быть Человеком, так ведь нет, на десять человек только два Человека приходится.
Задумался весь.
А на следующий день сижу со своими друзьями молчаливыми, они молчат, ну и я тоже не решаюсь заговорить, а все вроде как и дружим мы. Настроение с утра паршивое было, на улице снова дождь, ветер, да с такой силой дует, будто чихает кто. Я еще вчера неладное почуял, вчера хороший день был, солнечный, меня никто не пнул, и я ни про кого плохо не подумал. Так вот сидим мы с друзьями, молчим, холодно, греемся, жизнь такая паршивая-паршивая кажется, такая гадкая-гадкая, думаешь, ну зачем? Ну почему? Ну за что? И ищешь, выискиваешь, за что бы взглядом зацепиться, чтоб теплей на душе стало, чтоб этот кто-то чихать на меня перестал. И одни только рожи унылые ходят, один злей другого. Ну, понял я тогда, что нечего на них пялиться, и ушел весь в мысли, – страдаю. И думаю все, – один бок у меня подбит, его лучше бы первым греть, но пока его грею, второй очень замерзает и греть его приходится в два раза дольше, а подбитый бок морозить нельзя, вот и закрутился я на люке, то так, то сяк лягу, то на животе распластаюсь солнышком так, знаете да, то хвост подожму, в клубочек завяжусь, но так и не смог, в общем, себе места найти, измучился, истосковался и даже дремать начал.
Только глаза прикрыл, вижу, как проплывают передо мной курочка копченая, скумбрия соленая, килька в томате, утка, фартированная гусем, гусь, фаршированный свининой, свинина, фаршированная кроликами, кролик фаршированный говядиной, говядина, фаршированная рыбой… Я уже поднимался по последним ступеням рая и уже приступал к оленине, фаршированной кониной, как почувствовал острую, резкую боль в своем теплом боку, я ничего не мог понять, а только видел, как льется кровь из оленины в конину, а из конины в меня. А потом уже не видел ни конины, ни оленины, а только кровь, а потом и крови не видел, а только боль, она была грязная, тошнотворная, холодная и почему-то боялась меня, а я ее. Я приоткрыл глаза и увидел перед собой мужика, только красный он какой-то был, с палкой…и палка красная, – странный мужик, подумал я. Потому что глаза у него были черные-черные, но с примесью, как помойное ведро. И тут снова показалась его палка, он поднял ее вверх, как будто указывая мне путь в небо, я жалобно скулил, пытаясь сказать, что я туда не хочу, что мне рано, попытался встать и сразу понял, что мои лапы сломаны и я не могу подняться. В безысходности я прижался всей своей жизнью к люку, и когда тень от палки плотно закрыла мне глаза, испытав секундную невыносимую острую боль, моя душа, моя собачья измученная душа провалилась сквозь люк, и ей стало там впервые тепло и комфортно, а мое уставшее, голодное, никому не нужное тело осталось лежать на теплом люке, под жгучими холодом и каплями дождя.
Так я и не подготовился к своей пощечине.
Круговорот
Теплый летний день. Она в легком платье гуляет под лучами солнца. В ветхом маленьком доме ее ждет старая мать, на стене покачиваются календарные листы, мухи бьются в окно. Мать в протертом свитере сидит у окна, на столе – остывший чай, на щеках – не высыхающие слезы. За окном цветет яблоня, жизнь бушует своими красками, дети смеются, молодые влюбляются, но это все там – за пределами ее жизни. Все напоминает ей о молодости, детстве и былом счастье. Так сменяются тысячи жизней, и на земле не остается следа от них. Лишь воспоминания, слезы и снова воспоминания.
Обрушивающаяся внезапно старость одного за другим обрекает на тягостное существование.
Дочь в летнем платьице, жизнерадостная и счастливая, еще не знает, что совсем скоро ее ждет такое же пассивное бытие в окружении предметов молодости и воспоминаний, рядом с вечно цветущей яблоней.
Изначальная непроявленная причина
Вначале было слово, раздавшееся в беспорядочной бесконечной материи, которое Плутарх и Платон произнесли в один голос: «Я есть все, что было, есть и будет, но наше покрывало никому не отдадим». И с тех пор их слова носились эхом во времени.
И пока Гесиод играл со своими детьми в «пустое неизмеримое пространство», его дети в это же время играли с ним в «основу жизни».
Плутарх и Платон плели из жесткой нефильтрованной первоматерии свое первое покрывало. А кругом царила могущественная неупорядоченная первопотенция мира.
Аристотель приходился им правнуком по материнской линии. Он всегда знал свое место, это место было точкой, вмещающей все существующие тела и пространства.
Их сосед по даче Марк Аврелий подписывал свои труды псевдонимом «род вечности», и даже были замечены граффити с его псевдонимом на плотных высокоструктурированных скоплениях аммиачных паров.
Их внуки Эмпедокл и Анаксагор представляли собой беспорядочную, дерзкую смесь хаотичных неустойчивых и неугомонных явлений.
В те времена все жили мирно. И только какой-то Двуногий Янус все пытался разорвать Великое покрывало Плутарха и Платона на две абсолютно равные и симметричные части.
В те времена Крокодилы еще плавали задом наперед и, проглатывая жертв, не проливали слез.
Их первая школьная учительница Свабхават – классическая сущность материи, по ночам плела тонкие нити совершенства, хранившиеся в сырых подвалах и так ни разу не доставшиеся никому из живущих.
Об этих нитях ходили легенды, и о них всегда мечтали Плутарх и Платон, чтоб обшить свое вселенское покрывало каймой совершенства.
А одна девица легкого поведения Богиня воды Анаит, жившая по соседству, никогда не вылезала из своей ванны, и днем и ночью ее преданные мужья обтирали ее полотенцами из нежнейших переплетенных отголосков материи, чтоб кожа на ее пальцах не морщилась от воды.
Так жили великие искатели истины и великие обладатели этой истины, которые тщательно скрывали ее в сверкающей звездной глади всеобъемлющей лжи.
Поездка домой
В черном
Приезжаешь домой в пятилетку, а тут все порастает стабильностью.
Те же лица, только старее и толще, даже подростки выглядят как старики, а взрослые – как истоптанные подошвы.
Всем удовлетворены и думают, что живут на уровне – поддерживают моду, носят калоши, ходят регулярно друг к другу в гости, следить, чтоб никто не свернул с дороги – не изменил образ жизни и не избавился от надаренного барахла – взял кредит, ипотеку, поставил большую антенну.
В холодильнике нет ничего, из чего можно было бы сделать еду. Здесь принято есть мясо на ночь, завтракать всухомятку, весь день догоняясь сладким.
Не пропускать по телевизору ни одного убийства, спать с телевизором, переключая во сне каналы, и желательно знать все программы – это единственный признак широкого кругозора и образованности.
Здесь все друг друга знают, поэтому нет необходимости казаться воспитанным и культурным и обязательно нужно кому-то рассказать, ежели ты услышал, как кто-то пукнул за стенкой.
На один автобус – пятнадцать соседей и один незнакомый пьяный мужик.
Дома обязательно – семейные фото детей – одинаковые и в большом количестве, чтобы всегда себе напоминать, что ты не зря прожил жизнь, что ты выполнил долг. Дети здесь – самая популярная цель жизни, а если не дети, то тогда внуки. И если дети выросли похожими на родителей, хотят жить как родители и близко с родителями, значит, ты хорошо их воспитал.
Все комнаты завалены книгами, точнее сказать, макулатурой для детей до пяти-шести лет.
На двери – вечно сушится полотенце.
В часах – севшие батарейки.
Ванна – не отмывается.
У табуреток – скошены ножки.
Хорошая посуда – стоит на полочке, – пьем и едим из чего приходится.
Зачем я сюда приезжаю, не знаю. Но если я здесь родилась, значит, что-то меня с ними связывает.
В сером
Перед дверью… Уставшая с долгой дороги, со странным предчувствием, звоню, – открывают.
Начинается привычный ритуал обливания друг друга потоком любезностей. Как доехали? Мы соскучились. Подросли-то как! Ну а сами как?
Время 10 утра. Угощают салатом из помидор, крепким чаем, остатками печенюшек и хлебом.
Отказываться – не прилично, соглашаться – чревато. Приходится скрывать легкое отвращение и мобилизовать улыбку.
Тут так принято, тут суровая полоса.
Так начиналось мое внутреннее недоумение.
И я поняла, как все здесь отстало.
Повсюду бардак, называемый здесь «порядком». Невежество, называемое «нас так воспитали». Горячие макароны здесь промывают водой, пока не станут холодными, и только потом едят, потому что так научили.
Вопрос «Зачем?» здесь никто не задает.
– Ну как же вы так живете? Неужели вам не хочется все изменить или хотя бы что-то?
– Нам и так хорошо, ну что ты, ну что ты! – все время я слышу в ответ.
Они настолько наивны, замкнуты на своей жизни и закрыты для всего нового, что устройство мира представляют себе примерно как папуасы, – в виде расширяющихся кругов, где первый круг – родовая и охотничья территория, второй круг – великий лес, третий – большая вода, а дальше начинается мир мертвых.
Здесь все население составляют только дети разного биологического возраста. Кто-то старый усатый малыш, кто-то ранимый ребенок в расцвете лет.
Здесь не принято говорить правду в лицо и к чему-то стремиться.
Здесь говорят: мы не знаем людей, которые не любят общаться с детьми и проводить с ними все свое время.
Я хочу сказать, что они просто не видели жизни, не видели нормальных людей.
Но я молчу.
Они говорят – за каждым деревом нужно поставить человека, чтобы он ухаживал за ним, чтобы дерево не погибало.
И смотрят на меня как на инопланетянина. Хотя это я должна так смотреть на них.
Я взрываюсь от этих бессмысленных разговоров.
И чтоб убежать от них, я забираюсь на самую вершину своей гордости и придуманной мудрости. А на самой этой вершине стоит моя собственная обсерватория, в которой я наблюдаю недостатки, слабости и ошибки всех людей.
Но в этой обсерватории невозможно увидеть себя, здесь можно только задавать себе вопросы.
Я приезжаю сюда редко. Проверить, насколько я повзрослела и избавилась от присущих здешним недостатков.
Насколько высоко я взлетела и оторвалась от них, насколько стала не похожа на ту, кем была раньше.
Но здесь я всегда приземляюсь. Обнаруживая свою неизменность, неспособность, нерешительность, нетвердость.
После долгих споров я задаю и задаю себе здесь вопросы:
– А чего добилась я?
– Где плоды моих длинных речей и рассуждений?
– Разве я не делаю те же ошибки, что и все они?
– Чем я лучше?
– Чем я могу гордиться и за что зацепиться?
– Есть ли во мне что-то, за что меня можно любить?
Но снова и снова все эти вопросы уходят в никуда и остаются без ответа.
В новом городе, с новыми людьми намного легче казаться и даже быть лучше, нежели перед теми, кто тебя воспитал, точнее сказать, вырастил и знает все твои слабости. И знает, что ты обычный человек, такой же, как они, ничем не лучше их, что бы ты не говорил. И подает тебе свою руку, и ты смиренно подаешь свою в ответ и спускаешься с этой горы туда, в обычный мир странных людей, и ты становишься человеком, которому все происходящее кажется нормальным и естественным.
В белом
Приезжаю домой подышать воздухом, посмотреть на мир с высоты пятого этажа, посмотреть, как изменились они и как я.
Поля, тополя, реки и берега окружают дом. Здесь такая тишина – лучше чем любой спальный район.
Никто не загрузит сложным вопросом и не поставит в тупик ответом, – все предсказуемо настолько, что знаешь, чем все это кончится.
Я здесь выросла, мне все это казалось нормальным.
Я выросла на словах «тубаретка», «отстанет» и «скипел», – я ведь не думала, что родители могут говорить неправильно.
Теперь я выросла, – все кажется здесь смешным и одновременно страшным.
Бабушки, дяди и тети остались те же, как холодильники, унитазы и чайный сервиз в стенке.
Здесь меняется только погода, – об этом и принято говорить при встрече и при расставании.
Интернет, телефон здесь, конечно, есть, но инстинкт продолжения рода сильнее: каждая вторая женщина – мать, каждая первая – беременная. Поэтому в автобусах неразбериха – все должны уступать друг другу места, а машины должны пропускать пешеходов. Зато здесь не бывает пробок.
И дружат здесь только семьями, а точнее сказать, стаями. Гуляют районами и домами.
Книги читают только библиотекари, а их у нас человека три.
Молодежь работает кондукторами и продавцами мороженого. Взрослым приходится тяжелее – мало кто трудится на одной работе, так как у всех по три глотки на шее.
На одной работе зарплату выдают конфетами, на другой – молоком, на третей просто не платят. Так и перебиваются – строят дачи, садят морковь и курей выращивают – все на натуральном хозяйстве.
А для тех, кому хочется чего-то необычного и захватывающего, – вот тебе, пожалуйста, кружок по валянию из шерсти! Дети заняты – родители спокойны. А те, кто решил завязать с телевизором, играют по вечерам в карты. Но тут уж не знаю, что хуже.
Жизнь здесь проходит тихо, пляжный сезон – незаметно, зима – без приключений.
Но, может быть, я что-то не понимаю?
Но если я здесь родилась, значит, что-то меня с ними связывает.
Лачин Азербайджан, г. Баку
1972 г. р. Образование высшее (искусствовед) и среднее специальное (художник). Бывший препод. истории живописи в Академии художеств, в 2001–009 гг.
Победитель международного конкурса фантастики «Злата Кан» (София) 2009 г. Денежная премия от русского посольства за «изысканное литературное хулиганство» 2013 г. Член редакции электронного журнала «Новая литература».
© Лачин, 2015
Демон IV, или Вариации на тему подвига Соч. 65
Жизнь – это подвиг.
Джон СэйГлава 1 Кот сидящий
Тайны, тайны обступили Руслана сразу же по приезде в Баку: где живет Амир, что с ним случилось и чего ему надо; Кина, стерва, ставшая еще красивее, подлила масла в огонь: сам объяснит, невмочь ей излагать такую дикость, только ты и нормален в этой стае безумцев – Руслан и впрямь был положителен: коренастый, светлоглазый блондин в костюме с галстуком, с простодушным и немного суровым лицом, этакий доктор Ватсон, подрастерявшийся без скрипача в этой странной атмосфере недомолвок, да еще черный кот в коридоре гостиницы: тишина, безлюдие, величина животного, до неприятности осознанный взгляд (будто в гости явился и ждал, что откроют) впечатлили странно и сильно, вспоминались неотвязно, это же ворон Эдгара, чертыхался Руслан, а точнее, монета заир: явившись раз, преследует всечасно. Но вот Амир, полноватый, ухоженный, с черным мазком бородки, выглядит старше двадцати восьми и с вежливой иронией рассуждает о понятии «смелость». Дезертиры плюют на отчизну – из трусости или нелюбви к родине? Не спасли утопающего – трусость или равнодушие? Быть эгоистом некрасиво, но кто отважнее, другой вопрос. Солдат в авангарде атаки: из храбрости? тщеславия? страшась командира? Не прав Стендаль, мол, храбрость неподвластна лицемерам, но ближе к истине Фейхтвангер. Итак, смелость вызывается иными чертами характера, зачастую неблаговидными, и – да простят храбрецы всех времен и народов – но вот вопрос: была ли храбрость? А был ли мальчик, господа? Публика млела, улыбалась понимающе, восторгались юнцы (не спасут утопающего), однако: здравым умом от оратора веет, благопристойною будет просьба, мало ли зачем сумасбродка сочла ее дикой, и вот, подобно Кине, ухватившейся за него как за единого здравомыслящего, Руслан за чаепитием потянулся к Амиру, натыкаясь на взгляд соседа, второй раз, третий. Незнакомец глядел неотрывно.
Взор, тяжелый и недвижный, вызывал раздражение, общий вид – недоумение, если не насмешку: желто-бледная кожа обтягивала угловатый скелет, в грязных тряпках штанин (в таких беспризорники моют машины) и замусоленном свитере; воротник неопределимого цвета венчала голова диковинная – худоба и бледность гротескные, до неприятности; длинные, редкие, рыжие волоски усов, лохмы каштаново-рыжих волос, истончившийся нос и зеленый взгляд без ресниц – двадцать лет или тридцать пять, какая-то тупость в выражении лица, то ли дебил, то ли пьянчуга, чего уставился, экий придурок. Незнакомец отвернулся, разминая сигарету, Руслан к Амиру: наконец-то, веришь, и телефона не мог узнать. Тот улыбнулся: помнит Руслана, знал о приезде, поговорили с Амиром? Руслан растерялся: разве не ты Амир? Писатель. У него эспаньолка. Сбрил, отвечали, вон смотрит на нас.
И оборачиваясь, Руслан уже знал, с кем предстоит ему встреча, более того, он почувствовал ясно, что не будет теперь благопристойности, здравого смысла, что безумной обещает быть просьба, одного не мог еще понять: кого напоминает этот тяжелый зеленый взгляд.
Глава 2 Демон сидящий
Много мрака в глазах Мало крови в лице… Луис ГонгораВсе смешалось, как в доме Облонских: гости пили, найдя именинника, иные не знали, кого поздравлять, что не мешало веселиться; оратор с эспаньолкой, оказавшийся Мирзой, вел в танце новоприбывшую Кину, поясняя: Амир удружил семье Руслана, неоценимо, Руслану известно от отца, он согласится; невозможно, стонала Кина, он такой положительный; потому и согласится, чувство долга, благодарность, у него же на лице отпечатано; боже, вновь простонала Кина, что ж теперь будет – хлопнула пробка, взметнулось шампанское, и они вернулись к столу. За женщин, крикнул русый верзила с косичкой. Мы выпьем: за женщин.
На балкончике крохотном недоумевал Руслан от собеседника: нездоровая бледность, эта тяжесть в зрачках являли веселью контраст совершеннейший, как о скалу, разбивались бесследно радость и гвалт, казалось, скорей протрезвеет и утихнет весь дом, прислушавшись к диким речам, – Амир ответных услуг не ждал, вынуждают обстоятельства, и просьба такова: стать свидетелем зрелища, кое ни один человек, исключая садистов, не согласится лицезреть по доброй воле. Рок поставьте! восклицали. Давайте слушать рок. Шесть столетий назад в пыльном арабском городишке заживо содрали кожу с азербайджанского поэта Насими, и под улюлюканье нелюдей истязуемый импровизировал стихи. Что за дрянь он курит, так не воняют ни одни сигареты – ну и что нам нужно засвидетельствовать? То же самое, сказал Амир. Танцевали уже все, Мирза, на диво ловко для своей комплекции, Кина, обольстительней вдвойне, швабра с косичкой, уворачиваясь от люстры, и некто в водолазке, что требовал рок; это сумасшедший, изобрел машину времени и предложит прогуляться. Казнь устроится заново – Амир потянулся вновь за сигаретой, но Руслан, памятуя вонь, спешно подставил свои – только очевидцев будет меньше, и, пожалуй, не будут издеваться. В недоумении тягостном, переходящем в раздражение, Руслан, прикуривая в темнеющем воздухе, спросил, кого же будут свежевать. Меня, Амир закурил в свою очередь и поднял лицо, меня.
И тут грянул рок. Тяжелый, свинцовый удар потряс весь дом до основания. Дрогнули оконные стекла. Заматерились соседи. Собутыльники застыли в экстазе. Небо потемнело как-то враз. Обследуюсь: не под наркотиком и трезв. Гости бесились, прыгая, бились о мебель. Стекла буфета дрожали с мольбой. Сухопарая в мини, на ком-то зависнув, дрыгнула ляжкой. Есть справка, что вменяем. Длинный, косу распустив, на балкончик ввалился, выпьем за баб, заявил, хоть они, стервы, мою жизнь под откос пустили. Вывалился. Оператору уплачено. Мирза, почему же мы так бесимся? С отчаяния, Кина, с отчаяния. Я не верю, Руслана не запугать, и вообще он уже иностранец. Так его Амир и не пугает. Что же нам делать? Выпить пива. Баварского. Исполнитель оплачен щедро, и затраты на случай суда, в свидетелях Мирза и Кина, только вот доброволец нужен, без шантажа, как с этими танцорами, на Руслана надежда, и хоть зрелище будет тяжелым, но ведь такого рода просьбы – они последними бывают. Гости лежали едва не вповалку, кто-то в ванной мучительно рвал, стоял Мирза средь валявшихся вдрызг, даже эспаньолка будто съехала набок, вот такие дела – улыбнулся криво – да уж завтра обсудим; Амир вырубил звук, резанула тишина, никогда не думал Руслан, что бывает так тихо, тут Кина приплелась из ванной с отекшей сильно красотой – ты согласился? прошептала – и ты: согласился?! Руслан поглядел на нее молча, минуя Мирзу, окинул взглядом Амира в дверях балкона и встретил глаза – в этот миг и пронзило его понимание всего, ибо до последней минуты думал о розыгрыше, увидел Кины лицо потерянное и поколебался: неужто столь хорошая актриса, но сильней впечатлила его другая деталь, брюки Амира, эти тряпки вместо брюк, подтянутые чуть не до груди, что комично было до слез: выглядящий столь несуразно и на это наплевавший сам может стать объектом шутки, может даже учинить сумасшествие – попросит, скажем, казнить его лютою смертью, – но не будет разыгрывать других; однако и в это мгновение Руслан еще на что-то надеялся, на недоразумение уповал дурацкое, но встретил этот зеленый немигающий взгляд и вспомнил наконец, кого он так напоминает: кота в гостиничном коридоре (и разительной схожесть была) – Руслан оставил все надежды, он ощутил (и примирился), что здравомыслию конец и что так предрешено оно было – поправил галстук, перешагнул через кого-то и вышел.
Глава 3 Смертельные поэты, или Эстафета безумия
Поэт – это тот, кого завтра убьют.
Марат ШафиевОни поголовно безумны, думал Руслан, вглядываясь в эти лица: диковатые взгляды, время от времени кто-нибудь даст соседу наотмашь по лицу, потом умоляюще зашепчет на ухо. Не менее сотни мужчин на бескрайней песчаной равнине выстроились в затылок друг другу, оборачиваются, спорят, порой меняются местами – видно, в очереди стоят и за место дерутся. Он ближе подошел, снедаем любопытством, и тогда поразился костюмам: тоги, туники, халаты в восточном духе и военные мундиры всех времен, да и шепот (только так и говорили) на невообразимой смеси языков. Впереди виднелось возвышение, и там сгрудилась толпа. Непонятный порыв охватил Руслана: он встал в очередь. Странно, его будто узнали: впереди посторонились, один, второй, подталкивали, уступали дорогу, так через несколько минут оказался он в головах, узрев, к чему стремятся – эшафот, и стоял палач в черной маске. Хотел отпрянуть, но чувствовал десятки ожидающих взглядов в затылок и не посмел. Со странной пустотой в груди шагнул он на ступени помоста…
…и проснулся в поту – довершил Руслан свою импровизацию, засыпая – наверняка приснится нечто кафкианское. А приснилась и вовсе невнятная дрянь, да почище пражского еврея: будто бы дед Руслана по отцовской линии, азербайджанец, оставил завещание диковинное – раз в год внук должен распинаться на кресте, натурально, с гвоздями, секунд через десять его снимают и залечивают раны. Раза три проходил он экзекуцию и вот, взбунтовавшись, ходит по квартире, пиная стулья, плевал я, кричит, на маразм старого; мать в слезах заламывает руки, последний раз, сынок, хотя бы раз; хорошо, черт вас дери, хорошо, я согласен…
Идиотизм, думал Руслан, разбуженный и вышагивающий под ветром ночным, при чем тут дед, да и память оставил он добрую… Идиотизм. Меж тем Мирза пояснял, дабы ввести в курс дела по дороге: идея Амира такова – каждый может стать героем, но не каждый – быть гением. Ясно ведь, что и при всем желании никто из нас не в силах писать портреты Веласкеса и бетховеновские сонаты, это, так сказать, для большинства невозможно физически, отсутствуют природные данные, но стерпеть пытки и улыбнуться гильотине может в принципе каждый, если очень захочет. Это просто: возьми и улыбнись. Природной преграды здесь нет. Нельзя пристыдить человека, что он не пишет «Илиаду», но стыдно устрашиться боли. Он и Рылеева перефразировал: поэтом можно и не быть, но быть героем ты обязан. И потому, продолжал Мирза, подпрыгивая на ходу от предутреннего холода, по амировской мысли, поскольку одаренность не заслуга, Паскалю нечем гордиться перед продавцом огурцов, это лотерея: кому сколько выдаст природа, почетны только геройство, выдержка и физическая смелость, он не хочет хвастаться прозой своей, другой ему надобен повод для гордости. Изложил беспристрастно (так подумал Руслан, ускоряя шаги), не поймешь, сам согласен иль нет. Он хотел и себе задать тот же вопрос, но не стал, а все слушал Мирзу. Потому-то, как считает Амир, обыватели смеются над героями лишь, но не людьми гениальными, никто Леонардо не высмеет, расскажи про Декарта ему – не изругает, но поведай торговцу редиской про молчавших под истязанием: не поверит мужик, рассмеется мужик, обругает и под ноги сплюнет. Амир говорит, в этом логика есть – знает торговец, что неможно ему быть Декартом, не его тут вина, и потому стыдиться нечего, а героем стать мог бы, вот только не стал, и отсюда злость его, насмешка, стремление подвиг опорочить. Обыватели любят гениев, но ненавидят героев.
Потому именно, по мысли Амира, вся уличная сволочь, да и многие «интеллектуалы» тоже, ведь средний интеллигент еще трусливее, чем обыватель (тут странное выражение приняло лицо Мирзы: лукавое, с оттенком цинизма, и – с еще более тонким – самоиронии оттенком), потому и рады они гибели советской власти – героизм почитала она наравне с гениальностью, если не более того, опасно (и стыдно) было признаться в малодушии открыто, помнишь, говорил Мирза (и непонятно было, передает он по-прежнему слова Амира или это его наблюдение, или то и другое вместе, а если только Амира, то насколько с ним согласен Мирза: ничего понять нельзя было), помнишь наши школьные годы в Союзе, редкий трус мог бы прямо сказать, что боязно помереть за идеалы, малодушные молчали в тряпочку, сейчас они смело открыли – нет, не открыли, разинули – рты, и свой голос – нет, не голос, а рык – подают они смело, и если люди, одаренные чрезмерно, остались в прежнем почете (почти прежнем, если совсем откровенно), то на героев может теперь излить обыватель все раздражение накопившееся, и открыто гогочет, плюется мужик. Вот Амир и решил – приструнить мужика.
И тут еще одна деталь психопатом подмечена (да, усмехнулся, я в сердцах его так называю), деталь, что на руку играет малодушным: если творения одаренных сверх меры, оставаясь в веках, самим своим существованием доказывают гениальность их породивших, то поступки исключительной воли и храбрости не оставляют материальных свидетельств, в них легко усомниться, и один тут способ заткнуть обывателя – это взять и повторить.
Здесь подходили они к дворцу правительства, прошли мимо дома жилого, этажей в пять: глухая каменная стена с одним-единственным окном посередине, светившимся желтым пятном. Мирза указал на него: «здесь живет грек», и вновь вернулся к разговору. Это обрывистое замечание еще более омрачило Руслана: что за странная глухая стена, что за грек и зачем сказал об этом Мирза, все это только усугубляло ощущение странности в истории с Амиром, неправдоподобной, но физически осязаемой; а Мирза продолжал: по тем же причинам и литература современная не в чести у смертника нашего – если для стародавних поэтов аксиомой являлись смелость и выдержка (преподношение их читателю, окружение ореолом, во многих же случаях: проявление их в личной жизни (а если кто и трусил, подобно Тургеневу на корабле, то хоть стыдился этого и скрыть пытался, не считая поведение свое естественным)), то со временем падала мужеству цена, современные же писатели (многие из них, весьма многие) порой сильно смахивают на того самого мужика, что хохочет при упоминании героизма. Амир наш решил подхватить эстафету, чудную, выстроенную им же самим: Насими, Байрон, Лермонтов – их почитает он смертельными (тут зашли во двор собеседники и закружили вдоль черно-желтых окон, медля в дом заходить (пояснил Мирза, что покончить хочет с материей сложной до захода в компанию шумную)), и причудлив выбор Амира: будто на них отпечаток особый, мол, не к жизни зовут они – к смерти, а это (тут подошли наконец к полуподвальной двери (мастерские художников, догадался Руслан)), это в Амира устах комплименту созвучно: мол, и насекомые жить хотят и умеют (здесь Мирза постучал), лишь умирать не способны животные, они сливаются с природой, в иное переходят состояние, но умирать (да к тому же и с музыкой) – то бесценный дар человека. Так порешил наш Амир…
И открыли им дверь.
Глава 4 Диспут. Истязания. Лопе де Вега
Петр, это не больно[9].
Встал Руслан посреди мастерской, расставив ноги и слегка набычившись, коренаст, упрям и прямодушен (ну да, это Ватсон), однако враз оценил совокупность деталей – ветер, ночь, потолок низковат, освещение слабо (перебои с электричеством), диковатая тема разговора предстоящего и струною натянута Кина: атмосфера была Достоевской. Чертова жизнь, ведь мечталось об усадьбах Тургенева, о беседах положительных, ан судьба не дала, не к добру это все, Достоевский – смертельный поэт. Тут заметил Руслан, что перенял терминологию Амира, и это крепко смутило его. Подошел лет пятнадцати русый парнишка, поздоровался робко (с непривычки старшим руку подавать (растрогало это Руслана, и сердечно он руку пожал)), глянул на закуривавшую Кину, пожирая глазами; не чавкай, процедила ледяно, чай разлей. Мальчуган поплелся разливать, мужчины сели, Кина встала за креслом, нагнувшись, уперлась в подлокотники (самые мужеские манеры были ее, даже в этом стоянии раком не проглядывал Эрос, столь была напряжена (а ведь как хороша)), начав: Амир позвал тебя на помощь, но мы также тебя призываем, не желая под суд и в скандальную хронику, дело ведь спорное, темное – достоевское, добавил Мирза (тут Руслан слегка даже дернулся), – да и свихнувшегося тоже жаль, в конце концов (так политики, защищая свои интересы, соображением гуманным любят речи округлять (усмехнулись ребята, Кина поняла и на мгновение смутилась)). Тут Мирза обратился к Руслану: нужно герою нашему внушить, что не вынесет, посмешищем станет; внушить, не выказывая своего интересу, и на эту роль ты годишься нас более. Кина живо обернулась: как думаешь, стерпит? Руслан замялся, развел руками: не знаю. Значит, выдержит, мрачно подытожил Мирза – ну почему, почему? – так это ж просто: скажи кому-нибудь, что подобное снесешь, не воспримут всерьез, мы изначально расположены не верить в героизм; положим, кто и сдюжит, так ведь априори люди не поверят, но если мы, целых трое, не можем «нет» произнести и рассмеяться, то это какой же от него веет силой; он, стервец этот – сдюжит; он не здоровяк, напирала отчаянно Кина, соплей перешибешь, то-то и оно, что не силен, бесстрастно иронизировал Мирза (и вновь Руслану было непонятно: над кем, зачем, чего он хочет), будь он атлетом, можно было бы сказать со стороны, что нас троих в заблуждение ввели бицепс с трицепсом, меж тем как мужество не зависит от мышечной массы (и от половой принадлежности, кстати), но если щуплый дохляк – впечатление произвел такое, то значит, стервец этот сдюжит.
Затянулось молчание – секунды на три, вдруг мальчик сорвал наушники, отодвинул бумаги (битый час он высчитывал что-то) и налетел на собеседников, восклицая ломавшимся голосом: объем написанного Лопе де Вегой в сто раз – нет! в сто шесть-сто семь раз – больше полного собрания сочинений Пушкина. Что тут ответишь – пауза возникла вновь, а парнишка продолжил, отчеканив восторженно-звонко: на каждую страницу Александра Сергеевича приходится целая пьеса – по восемьдесят-сто двадцать страниц – и еще два сонета плодовитого испанца, это все на одну лишь страницу. Шел бы ты, послушал музыку, сказала Кина. Мирза сказал: м-да, а Руслан не нашелся, что ответить. Апологет Веги вернулся за столик. «Достоевский достает», – добавила Кина. Кто-кто? Пояснили – Федей зовут, к тому ж и Михайлыч. А-а…
Помолчали еще немного, выбиты из колеи, неожиданно Руслан вопросил: чего боитесь? Почему не в силах отказать? Кина едва не поперхнулась, отставила стакан, Мирза занялся эспаньолкой: чесал, приглаживал, дергал, молчание из задумчивого и недоуменного перешло в фазу неловкости. Не хотят раскрыть причины шантажа. Один черт. Сменим тему. А насколько реальна эта история? С освежеванным импровизатором. Вот-вот, оживилась Кина. Можно ли верить? Есть несколько источников, и толпа очевидцев была. Так ведь Средние века, дегенераты, правда, Руслан? Да, легенд и легковерных было много, и насчет чудес религиозных – ситуация простая, продолжал Мирза преподносить пилюли горькие, – чернь расположена была в это верить, но признать факт существования еретика, коего сломить оказалось неможным: дело иное, признание мужества твоими же врагами: комплимент самый верный, и когда дивились арабы выдержке Бабека, когда вырвалось у чекиста: «шикарно умер Гумилев» – этому хочется верить. Отрадного не скажешь – затянулась – фу, надымили, поднялся Мирза, и кстати, у меня идея. Минутку. Хлопнул дверью. Достоевский, в наушниках посвистывая, цифры чертил, Кина раза два порывалась что-то сказать, но пошла в туалет.
Мирза вернулся не один. Гость был тощий, высокий, лет сорока и с вислыми усами. Он сказал: «Гера». Мирза добавил: «эрудит» и к нему: с меня литр за сведения определенного рода. «Алкаш», – вполголоса заметил Руслан. «Все эрудиты алкаши», – довольно громко ответила Кина, непонятно, в знак презрения к знатокам или в алкоголиков защиту. Гера сел, подобрал полы пальто, жевнул усы и заговорил, попутно оглядывая Кину с Русланом (интеллигентное лицо, хоть и спитое): Степан Разин молчал при поднятии на дыбу (а при этом ломаются кости) и при копчении не проронил ни звука; это как – копчении? спросила Кина; медленное, на огне, коптить, уточнил Гера, явно доволен лишней возможностью на нее поглазеть – господи, дикуши, – Кампанелла выдержал тридцатишестичасовую пытку, после чего потерял сознание (то был упадок физических сил – физических, но, возможно, не духа), пытавший шестнадцатилетнюю Беатриче Ченчи заявил суду недоуменно, что девица просто молчит, после чего в недоверия знак был сменен стариком, дряхлым и с многолетним стажем, его не растрогала б и троянская Елена, отчаявшись дождаться показаний, подвесил девушку за волосы (фраза, казалось бы, ясная, была не понята, пришлось повторить внятно и медленно: подвесили за волосы, под потолок, висела на волосах), истязуемая покачивалась молча; Мирза вручил купюру лектору – для начала, но давай поближе к современности, чтоб осязательней было – Гера куснул правый ус, стимулируя память, но продолжить не успел. Достоевский с потрясенным лицом ринулся к ним, позабыв снять наушники, отчего заорал невыносимо громко: Лопе де Вегой написано в тридцать два – тридцать четыре раза больше, чем Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем вместе взятыми или в шестнадцать – семнадцать раз больше Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Шекспира. Взятых вместе.
Молчали. Руслан задумчиво, Мирза как-то с насмешкой (над чем? над кем?), Кина со сдерживаемой яростью. «Впиши и Грибоедова. У него все равно одна только пьеса, – сказал Гера. – Цифры не изменятся, а список станет внушительней». Достоевский, еще в наушниках, не слыша, проорал: «А-а?!! Что-о?!!» Вдруг понял, покраснел и снял наушники. «Сейчас не до тебя», – мягко промолвил Мирза. Вислоусый выдержал паузу, продолжил: Карнак и Шульце-Бойзен, истязуемы гестапо, показаний не дали, а Бойзен так и вовсе молчал, без стенаний, ошарашенные наци жгли его ультрафиолетовыми лучами – без результатов, тогда на технику решили наплевать и припомнили Средневековье – «испанский сапог», Бойзен кричал, но информации не выдал, не солоно хлебавши отправили в газовую камеру, прокурор Редер, уходя с места казни, обронил: «Шульце-Бойзен умер как настоящий мужчина», а впрочем, неважно, кто что сказал (тонкая усмешка тронула губы Мирзы, Руслан уловил, Кина уже ничего не ловила, молча давая понять, что перечисление затянулось, но Руслан слушал сосредоточенно и как-то напрягшись, отчего стал казаться еще коренастей и пружинистей, и это подхлестнуло рассказчика (он даже перестал глазеть на Кину)) – супругов Херша и Миру Сокол калечили те же эсэсовцы, посадив по соседству, но даже взаимная жалость показаний не выбила; советская пропаганда? спросила Кина ядовито – архивы гестапо, бесстрастно ответствовал пропойца, не повернув головы, но смотря на Руслана (кто знает, может, Кину раздражало и это – сильнее женских чар оказалась невнятная сила, незримая связь между этими двумя, а впрочем, до того ли ей было, и к чему ей внимание голодранца проспиртованного – но кто знает, кто знает), Сюзанна Спаак в тех же учреждениях прошла через многодневный кошмар, не выдав никого, только лишь сошла с ума от боли, вместо требуемых данных декламируя Платона и Гомера – дальше не продержался выпивоха, деликатно Мирзой выпровожен, ассигнациями начинен, но отчего-то не радостный, как во время заначки, а сумрачен, сдержан, как и Руслан (к чему, отчего?).
Откуда деньги у него на палача и прочие издержки – продал квартиру, вполне состоятелен, хоть и выглядит по-прежнему дико, ты представь… соблазните его – перебил Руслан, сминая пачку сигарет – что? – соблазните. В бар отведите, в ресторан. Пусть развеется. Пусть оторвется. (И невольно улыбнулся Руслан, в ресторане представив Амира: этакий двойной вопросительный знак в государственном гимне.) Да хоть сама постарайся, добавил про себя, окинул взглядом Кину и опешил: явно была смущена, и Мирза теребил эспаньолку, черт… видно, она попыталась, но не вышло ничего, и себе подивился Руслан: был рад, что ей не удалось, этой писаной диве, и ведь с кем не удалось – с этаким чучелом, почему же я рад, идиот (странное дело: всегда ясный и цельный, с самого начала сей нелепой истории он постоянно сомневался в себе, будто обнаружив в душе кого-то другого, удивлявшего его, порой раздражавшего, иной же раз Руслан пред ним робел). А Мирза пояснял: не пройдет этот номер, на сей счет у Амира своя философия – только животные, говорит, умирают от дряхлости, к забавам плотским доступа лишившись, это значит – жизнь их отбрасывает, но подобает человеку: ее – отбросить, в самый раз помереть, коли деньжата завелись, пинком отбросив ягодицы с шампанским, это значит – ты жизни хозяин, а не правят тобой, как скотом; это я – Мирза добавил – у психиатров читал: подчас безумцы мыслят очень тонко.
Едва он кончил, как стало очень шумно: вспылила Кина – мне надоел твой тон дурацкий, снисходительный, порой бесстрастный, будто на научной конференции, да мне плевать на ваши философии; нет, ты послушай, тараторил Достоевский (угадав, что Руслан не заткнет), чтобы догнать Вегу по объему написанного, работая со скоростью Бальзака (сочинявшего по двенадцать-восемнадцать часов в сутки), понадобится двести двадцать – двести двадцать пять лет непрерывного труда, в темпе Горького или Достоевского – семьсот пятьдесят – восемьсот лет, Флоберу потребовалось бы полторы-две тысячи лет, Пушкину – около двадцати пяти веков, а Данте – четыре с половиной тысячелетия, это ж значит – будь Пушкин современником Сократа, доживи до нашего времени и работай все это время, он догнал бы Вегу лишь сейчас, на исходе двадцатого века, Данте же пришлось бы начать еще раньше, со времен пирамиды Хеопса, и писать все это время, на протяжении всех мировых цивилизаций, от медного века до телефона мобильного, и только сейчас он дошел бы до Веги: ведь это же чудо, это кошмар, и сего не постигнуть рассудком – так кричали Достоевский и Кина, а в дверь стучались: Гера, нетвердо держась на ногах, сообщил о бесстрашии суфия Халладжа и об индейском императоре ацтеков Гватимозине (Куаутемоке), положенном на раскаленные угли, но говорившем спокойно и внятно; едва был выставлен нежданный информатор, как свет потух (отключили по дому всему), не могли никак на столе нашарить зажигалки, ходили взад-вперед, сшибаясь друг с другом, выставив руки, чертыхаясь, повалили с грохотом мольберт, сядемте, сказал Мирза, поменьше движений – присели осторожно, помолчали, слушай – вновь раздался голос Мирзы – только в тебе нет сомнений, верно подметила Кина, что и я уже болен, все мы здесь немножечко амиры, и сама она тоже, а не только этот… лопевед вегавед, но ты спокоен и свеж, сыграй же роль успокоителя – вспыхнул свет, резанул по глазам, и Мирза с Киной еще усиленно моргали, когда гость медленно, с запинкой и потупившись (так несвойственна была ему сия манера, что воззрились с удивлением), сказал: вовсе не по душе ему затея сумасброда, но слишком многим Руслан ему обязан, он боится, боится, что не сможет отказать, он в надежде, в надежде, что уладится дело нечаянно, но прямо отказать – он не в силах. Тишина теперь звенела, Достоевский вошел (к соседям выходил обсудить электричество), радостный возглас издал и осекся: самый воздух звенел, этого я и боялся, выдавил Мирза, ты слишком положителен… в своем роде, Кина бешено молчала, никогда не думал Руслан, что молчание бывает оглушительным, и между тем пытался вспомнить, что сделать позабыл, ах да, уйти; Мирза догнал на пороге: не торопись; и тут постучали – Гера сказал, не входя, запинаясь и подбирая слова, как за минуту до него Руслан – Будаг Амцети, чтец, за декламирование стихов Насими был сожжен, впрочем… не об этом хотел сказать, ах да: Хачатур Жигранагерци за следование тому же Насими казнен был тем же способом – с него содрали кожу заживо, хотя как вел себя при этом, неизвестно, а сам Имадеддин… но, верно, про него Мирза поболе знает. Мирза молчал, дар речи утеряв. Руслан рассмеялся: эффектнее не сочинить концовки, и ему действительно пора.
Глава 5 Учи английский!
Кто в состоянии оспорить. Ибо я скоро умокну и испущу дух. Библия. «Книга Иова» 13-19Он ел с аппетитом, поминутно тыкаясь в тарелку, чтоб вдохнуть аромат, и в уже полупустой посуде различил на дне два трупика котят, оба на боку и уткнулись друг в друга. От омерзенья он обледенел, окаменел с ложкой в руках, даже не отпрянул, не скинул посуду, только глядел на мокрую слипшуюся шерсть и спросил у жены, что это. Так он же всегда это ел, недоумевала, все едят, почему ты так смотришь. Он встал и, подойдя, переспросил шепотом, точно ли, что всегда. Ну да, ведь не доедал никогда, потому и не замечал, что на дне. Но почему, она вдруг вскричала, почему ты так смотришь?! Он вышел неодетым на улицу, сутулясь и шаркая, враз постарев душою и телом, не в силах понять, как не примечал этого ранее, как никто не примечает, или может, знают, но едят? И хотел спросить у прохожих.
Это вконец придавило Руслана, но не знал еще, чем, лежал в светающей тишине и слушал карканье вороны, отчетливо идущее с бульвара, вспоминая, слышал ли раньше такое, кажется, только в кино, и тут уразумел: эти сны, явление кота и Амира с ним схожесть, карк зловещий, как трагедии пролог – все было литературно, киношно, но тем не менее было, а значит, могло случиться и дальнейшее, непредставимое; если позавчера Руслан уверился в серьезности намерений Амира, вчера – в его способности не дрогнуть под экзекуцией, то теперь понял, что сторонних препон может также не быть, эта дикость возьмет и случится, если не вмешаться решительно, не прямым отказом – так не сможет, а чтоб не знал Амир, что это он…
…и поразительный контраст представляли друг другу, так смотрелись Леонардо с Микеланджело, на флорентийских улицах столкнувшись, так различались Кихано и Санчо: безукоризненно собранный Руслан, ясный как Гете, как теорема Пифагора, и Амир, изощренно-нелепый, как двойной восклицательный знак в колыбельной, от усов (что росли как-то странно, пучками) до громадных заусениц – два полюса, меж которых шли оттенками Кина, Мирза и прочие три миллиона бакинцев, например бугай этот в спортивном, уголовником отдающий, но обыватель солидный на фоне Амира. Крикнул ему, развалясь на скамье и лениво лузгая семечки: «Козе-ел!», Амир не шелохнулся, не напрягся, и завидовал Руслан этой каменной выдержке, ему недоступной – Ставрогин побледнел и трепетал, а этот не бледнеет, не трепещет, с недоверчивым восторгом понял Руслан, что ему все равно, и тут приметил Кины взгляд, в Амира вперенный с нетерпением жадным…
…позвал тебя на час раньше, чем было б можно, прошу простить, сказал Амир быстро и тихо, придвинувшись к Руслану (не в его это было манере, и дивился тому собеседник), я боюсь, они помешают, план сорвут (странная мысль овладела Русланом, но додумать не успел), должен я встретить одного литератора – меж тем длинноволосый юноша лет двадцати с лишним мчался к ним по аллее бульвара, скорость развив небывалую и вниманье обращая прохожих, и пролетел было мимо, Амир окликнул: «Лачин!», тот дернулся, развернулся обратно и вторично мимо пролетел, наконец угодил в точку нужную, мотнул головой (ничего до сих пор он не видел, все лицо сплошь охвачено было черным пожаром волос) и взглянул на Руслана восторженно: «Амир?», ошибку поняв, оторопело на Амира воззрился и наконец заговорил (но начало разговора прослушал Руслан, невольно вслед Кине в Мирзой обернувшись (удалялись они, оборачиваясь также), и тут додумал мысль свою, доощутил чувство странное: ведь казалось – безумец принуждает мирных людей принять участие в дикости, но вот сейчас Амир ему представился дичью – жертва, обложена хищностью (и этот Кины жадный взгляд недавний), и тут явилась вторая мысль, ошарашившая вовсе – Амир призвал его не свидетелем очередным, но как защитника в первую очередь, и с тоскою (а впрочем, с тоской ли?) понял Руслан, что план свой – помешать Амиру – в жизнь претворить никак не сможет, и тут к разговору прислушался), а принципы мои, коль тебе интересно – зло Амир говорил – они невнятны малость будут, ибо идиотами я почитаю считающих, что главное: эрудиция и труд, остальное приложится, и считающих, что главное: в интуиции, в гении, и учиться тут нечему; идиоты – ганнибалова правнука божеством почитающие, и – снисходительно о нем говорящие; те, что у классиков почтительно учатся, на возможности свои глядя с унылой трезвостью, и в бонапартовых планах своих героически уверенные, так что критикой не проймешь. Что теперь делать? Выход ищи из сего тупика, не найдешь – ты также идиот. Указать выход? Это погубит тебя вконец, ибо только идиоты шагают по указанной тропе, не сомневаясь в мудрости наставника. Не будь идиотом!
Руслан присел на скамью, Лачин стоял недвижно, рукой придерживая волосы (будто схватился за лоб в раздумий тягостном), а монолог продолжался также страстно и зло – при твоем щеголянии логикой необъяснима наивность, с коей решил ты, что на людей воздействовать логикой можно. На все хватает у тебя интеллекта, кроме одного – понять, что людям это без разницы. Говорил из классиков кто-то: если наглядно, неопровержимо что-то доказать, кто-нибудь обязательно назовет это чушью. Выходит, остальные поймут. Автор афоризма большой оптимист, я бы иначе сказал, – если привести такое доказательство, обязательно найдется чудак, который поймет, прочие – никогда. Как мог ты не заметить, что неважно, что написано, а важно лишь, кем? Но это не самое грозное из тебя поджидающего. (Руслан сел потому, что ему было жутко. Когда он понял, что именно Амир ему видится загнанным и мешать ему уже нельзя, он не огорчился. Стало легко. Будто груз свалил с души. А значит, осознавал он сейчас, был рад, что препон чинить уже нельзя. Он всегда думал, что помощь
Амиру – долг неприятный, и было б хорошо уклониться без прямого обману, но теперь стало ясным, что постылой обязанностью было: мешать помешанному, а как понял, что можно не мешать, враз стало легко. Но почему? И впервые в жизни понял Руслан, что не понимает себя, и не зависит больше от себя. Потому-то ему стало жутко, потому-то он сел на скамью.) Бросай, пока не поздно. Ты занялся самым невыгодным делом. Шахматист обыграет противника, – и видно даже дураку, – кто обыграл. Боксер пошлет в нокаут слабака – и кто сумеет оспорить, что Б, а не А растянулся на ринге? В литературе не докажешь ничего. Мало классика нокаутировать: нужно еще, потному, загнанному, к публике обернуться и – нет, не рукой помахать, – а доказывать ей, задыхаясь, перчаткой утирая пот, что он повержен, а не ты – но их-то много: ты один, ты измочален: им удобно – и ничего не сможешь доказать. Ну, хорошо, предположим (так Амир говорил раздраженно, хотя Лачин не думал возражать, а только позу изменил, ноги расставил и руки в карманы вложил, не сутулясь, нежданно выше оказавшись собеседников), тебе все равно, но подумай лично о себе – вот стоишь ты, плечи расправив, силен и уверен в себе, видом своим, волосами раздражая обывателя восточного, видно свистят порой вслед, ты же рад их нагнать, да вмочить кулаком – прет из тела энергия, сладко и просто: морду сволочи набить, так услышь же печальную новость – сила уйдет, в монологи страстные уйдет, в лихорадку творческого бокса, лимоном выжатым станешь выползать на тротуар, и помереть будет боязно: а ну как пырнут ножиком, царские планы на ветер пустив? – станешь людей избегать, ночами изводя бумагу, страсть изливая вулканической лавой, на людях являясь вулканом потухшим, далек от планов меркантильных, не замечая, что ешь да и ешь ли ты вообще, похудеешь и щеки впадут, погоди… чем же ты заболеешь? (Лачин пытался иронично улыбаться, но вышло ненатурально, Руслан это видел, Амир не видел ничего, как будто сходу отметая возможность недоверия, он танком пер со своим пророческим тоном, и дурацкое чувство сгустилось в Руслане: что в говоримом есть некая весомость, тяжелая, могущая претвориться в реальность (и видать, Лачин чувствовал то же, потому и провалилась улыбка), попытался задушить это чувство, но оно было скользким и не далось.) Ах да – туберкулез! Ну конечно. Болезнь бедных! Ты не ценишь реальность, только блеск композиций словесных, – но оценишь на койке больничной, исхудалым, в поту, вспомнишь утерянное: солнце, море, смех под перезвон бокалов, женщин, коим нравился и мог овладеть, только вот не успел, эфемерностью слова прельстившись – не ценит счастья человек, пока не утеряет! – помирая, оценишь. И исходясь от обиды и кашля, кашля: натужного, обиды: бессильной – ты подохнешь. Тебе двадцать два? В двадцать семь-двадцать восемь – подохнешь. Но есть другой сценарий. Владеешь английским? Нет? Амир расхохотался (впервые Руслан его видел таким, и не шел ему смех (верно, так Брюсов смеялся), лицо искажая гримасой), обратился к Руслану: бьюсь об заклад – знает, сколько полотен написано Рубенсом и когда опочил король-Солнце, а вот английского не знает! Тупые, белые люди говорят по-английски. Говори же и ты. С краснорожими янки сойдись. Займись перфомансом. Поп-артом. Ерундой займись: за это платят. Уедешь, гранты отхватив. Не бойся поглупеть: на фоне американского стада все равно будешь чувствовать себя Лобачевским. Живи, не помирай. Вон шарик воздушный (указал он под дерево), он надут неразумным ребенком и ветром угнан: теперь достаточно укола одного, нажима, чтоб лопнул, – долго ли, думаешь, продержится он? А в состоянии спущенном он был неуязвим – придавишь каблуком: нипочем. Так и с людьми происходит. Растешь духовно, обостряются мысли и чувства, и жесточе ранит мерзость жизни, сильней впечатляют обиды невинных – шаром воздушным разрастается дух, от наплыва мыслей и чувств становясь уязвимей, и довольно укола булавочного, нажима легкого, дабы лопнул к чертям. Ницше, Врубель и Блок – шарами полопались от нажима обыденности. Не раздувайся.
Под конец, на Лачина наставив палец (и затруднительно сказать, кто выглядел мрачнее), трижды Амир отчеканил:
– Учи английский! Учи английский! Учи английский!
Глава 6 Феникс
Жив, а не умер Демон…
М. Цветаева«Обескуражил ты парня», – бросил Руслан, влезая в автобус (на остановке нагнали Кину с Мирзой). «Разве? – спросил Амир, глядя вперед. – Да я подстегнул его. Теперь уж точно не сойдет». «С чего?» «С пути смертельного». Руслан хотел продолжить разговор, тут ход набрал автобус, пошатнув пассажиров, и он с ужасом вспомнил, куда и зачем они едут, точнее не зная куда, но ведь понятно, для чего, и был бы рад он сказать, что происходящее кажется дурным сном – но именно сном ничего не казалось, а холодной и твердой реальность была, и хотелось спросить, куда едут, но осекся – нелепо: спокойно спросить человека, где тебя, мол, убьют, тут Мирза подался вперед (на заднем сиденье устроился с Киной) и рассказывать начал в газете прочитанное: как уголовников трое с неделю назад решили отпраздновать выход на волю, уселись в кафе и глушили дешевый коньяк, стало им весело, избили официанта и повалили стол, на шум прибежал хозяин, и его тоже били, явился участковый и ему проломили череп, забрали пистолет, стало еще веселей, угнали машину и в пригород помчались, сбив по дороге подростка, стали приставать к женщине, некто заступился и драка завязалась, тут нагнали их полицейские и пристрелили заступавшегося, посчитав за одного из бандитов – Мирза говорил почему-то со смехом, и Руслан все гадал, отчего столь некстати вывалил он эту безобразную историю, вдвойне угнетающую от сознания предстоящего дела, есть ли намек и в чем? Все трое слушали молча, а Мирза продолжал не смущаясь: из этого можно сделать рассказ, нет только яркой концовки, изюминки, но это дело поправимое, предлагал сюжет Лачину, тот загорелся – заместо концовки можно поведать с иронией именно о ее отсутствии, сюжет оттого только выиграет, озарясь новым светом, и ирония будет горька, а назвать: «Неудачный рассказ», и можно даже цикл написать под названием «неудачных» – но потом вздохнул и признался, что сюжетов у него уже целый вагон, и потому не поспеет, а у Мирзы других пишущих знакомых и нет, кроме Амира… Руслан сжался, боясь к Амиру повернуться, понял намек – Амиру сюжеты уже ни к чему, но зачем Мирза об этом, как он мог, ведь Амир, конечно же, все понял, или просят остаться в живых ради творчества?
Непросветная глушь – кучка шиферных крыш над выжженной солнцем землей с кустарником чахлым. Гарачухур, ядрена мать, сказала Кина, отряхивая брюки в пыли безлюдной улочки – тут одни дикуши. С трудом верилось, что есть Баку с зеркалами витрин и нарядными женщинами. Руслан помнил, что «тара» – это «черный». А «чухур»? Никто не знал. Черный чухур. В непривычной горожанам тишине подошли к типичному домику в два окна…
Руслан не понимал, как он мог так одернуться. С самого входа в дом все воспринимал он с обостренным вниманием, каждые деталь и звук: женственного юношу с косичкой (у видеокамеры крутился), мужчину борцовского телосложения, с низким лбом и синевой небритых щек, неприязненно думая, что палач до неприличия похож на палача, будто для киносъемки подобран, и тут Мирза их представил друг другу, сказав: «оператор», и ошарашенный Руслан медленно обернулся обратно, к женоподобному юноше, улыбавшемуся с простодушием детским, и его передернуло, и хотелось теперь злодея картинного с руками в крови, а Мирза сказал: «Аполлон. Ну, я прозвал его так», и в ответ на недоумение пояснил: ну он же Марсия[10]… того; кстати, этот – хихикнул – и по нации грек, я тебе показывал, где он живет; Амир, снимая рубашку, сказал серьезно: «Мирза прозвал наше дело операцией «Марсий», а Мирза с каким-то нервозным весельем принялся рассуждать, как все мельчает со временем, и бог Аполлон обращается невесть во что; уйди от камеры, Аполлону пробасил оператор, еще сломаешь чего, а Кина повторяла, расхаживая из угла в угол и держась за виски, что любая нормальная женщина устроила бы сейчас истерику, но она не сделает этого, потому что она ненормальная, да-да, повторяла с мазохистическим надрывом: «я ненормальная» – все это Руслан видел и слышал, и выхватывал каждую мелочь: нож на табуретке, два железных бруса в стене и козлы во второй комнате; и не мог понять, как проглядел момент, когда в эту самую комнату прошли Кина с Мирзой за Амиром: он задержался, глядя завороженно на Аполлона, девичьим жестом заложившего прядь волос за ухо – а потом вместе с ним и оператором бросился на грохот и увидел Амира в позе неловкой на бетонном полу, у козлов, и стоят над ним Мирза и Кина…
…и он вдруг понял, что произошедшее для него страшней ожидавшейся казни. Надо ж было сверзиться так неудачно, сказал Мирза, воровато как-то в окно выглядывая, но возни с полицией будет теперь куда меньше; и оператор, сидя и голову уронив – а жаль ведь, ребята: такой, можно сказать, подвиг не состоялся, и телесенсация моя теперь – пшик, и тогда Мирза произнес, эспаньолку пригладив: «Так это еще неизвестно…» – все смотрели на него, и он досказал, улыбаясь с иронией мягкой: «Ну, то есть – состоялся бы подвиг, нет… Смог бы выдержать – уже не узнаем».
Пауза, а потом прозвенело: «Сам он специально свалился. Якобы случайно». Никто не шелохнулся, и продолжила Кина: «Теоретизировать – одно, а этот нож увидать – другое. Может, и сам надеялся череп раскроить. Идеальный для него вариант – не докажешь теперь, что не смог бы пройти до конца».
Черт, выдохнул Мирза восхищенно, как же я не догадался – ну, родной, не все же тебе одному, чиркнула зажигалкой и победно пустила дым, песок, глухо сказал Руслан, глядя ей на ноги – что? – у тебя на туфлях песок. У тебя – на Мирзу указал – тоже.
Снова пауза, теперь оглушительная. Почему-то в этот момент он ясно припомнил Амира: полуобнаженного, в проеме двери, обернувшегося к нему ожидающе, и вспомнил давнишнее свое ощущение – Амир его вызвал защитником, а вот он проглядел, и странным образом это помогло ему оформить смутное свое подозрение, вы убили его, это грязь с козлов, влезли привязывать и столкнули, думали – ногу сломает, недочет вышел, неудачно сверзился – вы убили его. Он никогда не смог бы описать выраженье их лиц, но сразу понял, что угадал, хотя не было в них ни страха, ни наглости – просто понял, что прав; он сам пришел за смертью, тихо промолвил Мирза, его лишь избавили от мук, и никто не добивался именно смерти, но Руслан спешил донести свою мысль (и было странное в этом – будто Ватсон предстал в роли Холмса): ты был прав, оба вы слегка Амиры, ровно настолько, чтобы оценить задуманное им по достоинству и не высмеять его – возненавидеть, легче думать, что никто не способен на то, на что не способен ты сам – мы почти не сомневались, что он не дрогнет, сказал Мирза – вот именно, потому и убили, чтоб не стало это непреложным фактом – никто не думал, что он проломит голову об угол табурета, успокоительно говорила Кина и сделала шаг к Руслану, но всмотревшись, отступила обратно; послушай внимательно, раздельно Мирза говорил, ты же самый нормальный из нас, вы с Амиром как… два полюса, тебе не к лицу – по местам, сказал Руслан, иначе заявлю в полицию, что убили и меня убить хотели, в посольство пойду, неприятностей у вас будет больше. Ну и что собираешься делать, Мирза вопросил, сохраняя спокойствие, а вид Руслана был странен: положительность и ясность, через которые просвечивала ярость, и было б менее внушительно, предстань он сумасшедшим буйным, и Кина, первой поняв предстоящее, прислонилась к стене и сползла на карачки. Из соседнего домика донеслась музыка (было тихо в округе, и отчетливо звук разносился), мрачноватый негритянский реп, и под этот ритм, не спеша и уверенно, сорвал с себя галстук Руслан и стал расстегивать рубашку.
Нари Ади-Карана г. Какой-нибудь другой
Постмодернистский взгляд на мир – единственное лекарство от безнадеги и безысходности. Он работает по принципу оксюморона, примиряя противоположности и создавая третью сторону. Когда все предыдущие стили исчерпали себя, он предоставляет возможность оттолкнуться от дна благоразумия реальности и подняться к поверхности тяжелых вод жизни.
© Нари Ади-Карана, 2015
Мохенджо Даро
Судьба моя – менять все, что встречу на пути своем. Рушить незыблемое. Отыскивать признаки гниения в, казалось бы, цветущем и сильном.
Эта страна должна погибнуть, чтобы дать начало новому. И этот город с прямыми улицами и зеленью садов, с потоками чистой воды, бьющей на площадях и перекрестках из глиняных труб, стекающей водопадами по ступеням бассейнов, отражающих в своих зеркалах бирюзу небесного свода, и этот город тоже обречен. Ибо прекрасна лишь оболочка его, душа же – мертва. Душа города – люди, живущие в нем, а они забыли, зачем пришли в этот мир. Забыли смысл и цель жизни человека. Они хотят удержать время, сохранить неизменным все то, что их окружает, и сами хотят оставаться прежними. Они называют его «Город Живых», но через тысячелетия его назовут «Холмом Мертвых», и это название больше соответствует его сути.
Я вошел в город, и невидимая рядом со мной шла Судьба. По мощенным белым камнем улицам поднялся я к площади, в кругу прекрасных зданий, и там нашел Его. Окруженный толпой горожан, Он говорил, а они слушали. Слушали, не понимая ни слова из Его речи, наслаждаясь звуком голоса, медленно покачивая головами и блаженно улыбаясь. Он был ужасающе худ, кожа на скулах, казалось, вот-вот прорвется, а нос, и без того длинный, заострился и вытянулся сверх меры. Растрепанные волосы образовали вокруг головы некое подобие нимба, и закатное солнце подсвечивало их живым пурпуром.
Последние розовые блики растворились в серых сумерках, и Он замолчал. Бессильно упали руки, тоже исхудавшие, серые глаза закрылись, лицо погасло. Люди приходили в себя, словно после сна, оглядывались, трясли головами, терли руками глаза… Только двое детей, сидевших у самых Его ног, продолжали смотреть на Него.
Площадь опустела. Я подошел к кучке лохмотьев, которая только что была Голосом Бога. Обессиленный. Он сидел, прислонясь к ограждению фонтана, и каменные чудовища на барельефе выглядели гораздо более живыми, чем Он. Я взял Его руку в свою и вылечил Его. Он не удивился, не поблагодарил, не попросил помощи. Да и не в моей власти было помочь Ему. Эти существа не могли взять то, что Он так щедро раздавал. Их форма не вмещала этих даров. А те двое, что немного отличались от остальных, были еще слишком слабы. Нужны годы, пока они вырастут, а этого у Него не было…
Через два дня в Праздник Длинной Ночи они убили Его. Отсеченную голову Его в драгоценном ларце принесли Владычице. Огромная пещера казалась пустой несмотря на то, что здесь собралась почти тысяча жрецов и служителей. Было тихо, не слышно даже дыхания, только падали где-то одинокие капли с высокого свода. Ожидание длилось бесконечно, но никто не проявлял нетерпения. Наконец тусклый свет стал немного ярче – это взошедшая луна отразилась в зеркалах, развешанных по стенам пещеры. Где-то в невообразимой дали запела флейта, рассыпалась барабанная дробь, лучи зеркал сошлись в центре зала. Фигура, до глаз закутанная в черное, двигаясь странно, будто скользя в воздухе, бесшумно и быстро поднялась над толпой. Все склонились и произнесли торжественное приветствие. Старший Служитель с поклонами поставил ларец к ногам существа в черном.
Света словно бы прибавилось, стали отчетливо видны очертания тела, до странности высокого и узкого, длинный шлейф одежды, вытянувшийся за спиной, и лицо, закрытое маской, напоминающей змеиную голову. Затянувшееся молчание показывало, что ритуал нарушен. Среди собравшихся начался ропот, перешептывания, Старший Служитель выглядел растерянным.
– Скажи, Царственная, разве наш дар не угоден Тебе? – голос старшего пресекся.
Тяжелые веки, скрывавшие нечеловеческие глаза, дрогнули, но не поднялись, лишь колыхнулись мрачные одеяния.
– Глупцы… – свистящий шепот напоминал шипение. – Это был ваш единственный шанс…
Долгая пауза, недоумение на лицах.
– Сотни лет Он, а до Него Его Учитель и Учитель Его Учителя спасали город и вас от гибели. Лишь оттого, что в городе был хотя бы один Живой, вам было позволено жить. Все Они пытались разбудить вас. Они просили отсрочить вашу гибель. Надеялись, что вы способны измениться… Вы убивали Их Одного за Другим, но оставались ученики, те, кого Им удалось разбудить… А у Него не было Преемника, значит, в этом городе больше нет живых… Сегодняшняя Длинная Ночь будет самой долгой для вас. Никогда больше не родитесь вы вновь. Ветер и Пустота заберут ваши тела, как было с вашими соплеменниками тысячи лет назад. Вы кичились тем, что уцелели в гибельной пучине, считали себя избранными. Знайте же, что лишь благодаря Ему вам была дарована жизнь. А теперь идите и танцуйте перед Вечностью, что пришла за вами.
Голос смолк, и гигантская змея, плавно свивая кольца своего блестящего черного тела, скрылась в темном проеме в стене.
Всю ночь в городе звучала музыка. Люди танцевали на улицах взявшись за руки, с отрешенными лицами и бледным светом луны в широко раскрытых глазах. И среди танца в бесконечной цепочке сомкнутых рук то и дело возникали бреши. Один за другим танцующие просто исчезали, не оставляя после себя даже воспоминания, – Владычица взялась за работу…
Натюрморт с опрокинутым стулом
На полу валяется стул, на нем (в нем?) – миска с тремя яблоками, игрушечный заяц, старая ручная кофемолка. Из этой груды вещей торчит гимнастическая палка с надетой на нее шляпой…
…Ковчег?..
Несомненно, Ковчег!
А роль Ноя, конечно, выполняет этот серый тряпичный заяц с отрешенно-настойчивым выражением лица. Эдакий саддху под деревом боддхи! Желтая распашонка с морковкой-аппликацией на груди – видимо, знак вегетарианства и прочего ненасилия. Ну и миска с яблоками, опять же…
Стул опрокинут. Очевидно, это рухнувший мир… Стул такой… венский или вроде того… Спинка, услужливо обнимающая хребет сидящего, тонкие реечки, еле уловимый изгиб ножек, изящные дуги под сиденьем, само сиденье – его плоскость, призывно уступающая весу опускающихся на нее ягодиц…
Старая соломенная шляпа на палке. Женская. С широкими полями и пестрой ленточкой на тулье.
В общем, рухнул, видимо, не весь мир, а только его утонченноинтеллигентная часть, женственная и мягкотелая.
Яблоки тоже наводят на гендерные мысли – Ева? Три Евы?
Соблазнение Знанием? Три сорта Знания? Три Яблока Раздора, чтобы ублажить трех ревнивых богинь и отменить раздор?
Не выйдет! Все трое захотят получить лучшее яблоко. Т. е. – красное…
Да, видимо, так и случилось – кофемолка с выдвинутым ящичком вызывает ассоциации с Ящиком Пандоры…
Работу выполнил студент 3. Фрейд
Очень женское
Зрение слегка не в фокусе, поэтому все окружающее как бы дымится. Неподвижные объекты – дома, деревья, детская площадка – дрожат в зыбком мареве…
Люди – видимо оттого, что в движении – смазаны сильнее. За бегущей собакой тянется инверсионный след, как за сверхзвуковым…
При этом то, что находится под ногами, вижу удивительно отчетливо, даже чрезмерно резко и контрастно. Ярко-желтый лист на черно-сером, мокром асфальте, изумрудные обрывки бархатного мха вдоль грязно-белого бордюра, красно-коричневый камешек в луже, отражающей чугунное небо – серебристо-пористое с глухо-синими подпалинами.
Угольно-черные кеды с малиновыми шнурками появляются в поле моего зрения поочередно – правый – левый, правый – левый…
Звуки тоже плавают. На фоне какого-то общего глухого гула неожиданно раздаются высокие вскрики сигналов автомобилей и детские голоса. Это особенно неприятно…
Кирпичное здание с нашлепками плесени на сырых стенах по периметру окружено окопами и насыпями. На дне окопов – трубы как стволы орудий. Горы мокрой глины с лоснящимися рыжими боками не оставляют надежд прыгунам в длину. Обход, естественно, далеко вокруг и тоже по грязи…
Выщербленные ступени с торчащей железной арматурой. Зачем так высоко?!
В предбаннике надеть поверх уличной обуви целлофановые бахилы (или переобуться в домашние тапочки). И то и другое сразу лишает устойчивости, ты весь – один, а ступни – другие. Домашние, смешные, беспомощные…
Внутри – бедненько, но чистенько. Угрюмая очередь без лиц. Вернее, с одним общим лицом – лицом ожидания несчастья. Или ожидания и несчастья.
Или это только у меня такое?..
Очередь.
Долго.
Очень долго…
– Беременные – без очереди.
– Нет, ну хотя бы через одну!
Здесь никто никому не сочувствует. Бабье царство – страшная вещь. Одинокий ультразвуковик выглядит тихим зайчиком в окружении этой прекрасной половины, прекрасно знающей возможности своего организма и пределы своей беспредельной выносливости. Почти у всех небеременных сейчас имеется опыт беременности в прошлом, так что жалеть их, бедненьких, никто не согласен, тем более в ущерб себе.
Персонал монстровиден и, по большей части, транссексуален. Видимо, по причине ежедневного созерцания прелестей и тайн утратил всякое романтическое восприятие оных. Вообще-то они милые. Похожи на симпатичных парней – атлетический торс, узкий таз, длинные спортивные ноги, изящные (для юноши) черты лица. Эдакие грубовато-изящные не-пойми-кто. Мальчико-девочки, но не как эмо или там анимешники, а такие крепкие, справные, мускулистые. Те, что постарше лет на пятнадцать, принадлежащие другому поколению, – более женственны, но от этого не более привлекательны. Напротив, они-то и вызывают особенную неприязнь – старые гарпии! А вот совсем бабульки (в гардеробе) – те просто тетки, без заморочек – вымирающий тип женщины.
Моя очередь…
Нет!
Не…
Точка, в которой пересекаются параллельные
1. Личинка
Дождь немного поутих, только мелкая водяная пыль по-прежнему висела в воздухе и оседала на ветровом стекле. Мы, я и мой старый автомобиль, пробирались по раскисшему проселку. Ехать приходилось осторожно, коварные глубины безобидных с виду луж только и ждали нашей оплошности. С обвисших под тяжестью влаги ветвей то и дело срывались гигантские капли, они грохотали по крыше вызывающе и даже нагло. Лес хвастал своей силой перед двумя ничтожными существами, оказавшимися в его власти. Но вот впереди, в дикой путанице ветвей, стволов, листьев, замаячил просвет, серое небо обещало избавление. Дорога резко повернула, подбросила еще одну водяную ловушку и вывела нас на тропу автомобилей. Здесь мы могли показать себя во всей красе, – мотор взревел, колеса провернулись на мокром асфальте – и вот мы уже несемся своим излюбленным аллюром.
Встреча прошла успешно. Все два дня, что я находился в сторожке, Они поддерживали штормовую погоду – ветер бушевал, лило как из ведра, и ни один, даже самый безумный, грибник-ягодник не появлялся поблизости. Работа моя была одобрена, мало того, было сказано, что через год, максимум через два, меня пригласят на стажировку. От всего этого хотелось петь и мчаться, что мы и делали…
Шоссе в этот час пустынно – байкеры отошли ко сну, дальнобойщики еще не проснулись, до появления автобусов оставалась еще пара часов. На обочине возникла одинокая фигура пешехода. Я взглянул на часы – четыре ровно, – однако!.. Пешеход поднял руку. Мы притормозили. С обратной стороны долго возились с ручкой, пришлось перегнуться через сиденье и открыть дверь самому. В проеме появилась голова, закрытая до глаз капюшоном, жалобный голосок попросил подбросить до города. В салоне на полу мгновенно образовалось озеро, и пассажирка смущенно покосилась в мою сторону, я сделал вид, что держать ноги в сырости – для меня самое большое наслаждение, и она немного приободрилась. Даже унылый нос стал выглядеть более оптимистично.
До города было еще около часа езды, завязался обычный дорожный разговор незнакомых людей, которых случай свел на мгновение и разведет через полчаса, чтобы больше в этой жизни уже никогда не встречаться. Такие разговоры часто бывают излишне откровенными, вот и моя попутчица, не нарушая традиции, принялась подробно излагать обстоятельства своей маленькой, глупой, неинтересной жизни: детство в деревне, школа, первая любовь, ранний брак, пьющий муж… Такие категории, как идеалы, музыка, литература – в этой истории отсутствовали. Теперь она едет в город искать другой жизни. Наивная, она и не подозревает, что другую жизнь ищут не вовне, а внутри себя, и в городе ее ждет точно такой же муж, скандалы и тот же финал.
Без всякой надежды привычно начинаю говорить, что подобное притягивает к себе подобное, что только изменив себя, она может рассчитывать на другую жизнь, что, пребывая в невежестве, она обрекает себя на вечную серость… Словом, стандартная проповедь, во время которой слушатель на восьмой минуте начинает блуждать глазами по потолку, выискивая дефекты штукатурки, и с трудом сдерживает зевоту, а на пятнадцатой – откровенно похрапывает. Говорю и чувствую, что-то не так. Моя пассажирка развернулась ко мне всем телом, сбросила капюшон и слушает! Смотрит во все глаза и даже рот приоткрыла, – вот оно преимущество молодости – вера в возможность преображения.
В городе я высадил ее в переулке с незапоминающимся названием и поехал к себе – меня ждала работа.
Нечувствительно пролетел год, ничто не напоминало о той встрече на мокром шоссе, быть может, лишь пару раз в моих работах мелькнул полузабытый длинноносый профиль и такой очаровательный в своем безмыслии огромный глаз. Когда заржавленный почтовый ящик на двери моей квартиры выбросил из своих заросших паутиной недр лоснящийся розовый конверт с золотым тиснением, я только поморщился – очередное приглашение на тусовку. Дело в том, что с некоторых пор я стал моден в определенных кругах, близких к искусству, считалось хорошим тоном приобрести что-нибудь из моих ранних работ, повесить в гостиной и, глубокомысленно созерцая, рассуждать о колорите и композиции. Что уж там нашло на искусствоведов, не знаю, но именно им я обязан всплеском этой внезапной популярности. В те годы, когда я писал эти картины, надо мной не смеялся разве только ленивый, а теперь они вдруг обнаружили и стиль, и почерк, и шарм, и бог знает что еще. Меня это уже не интересовало, и я с легким сердцем освобождал антресоли и кладовку от залежалых шедевров.
А в конверте на сей раз оказалось не просто приглашение, приглашение-загадка: меня извещали, что «решением компетентной комиссии» я признан победителем конкурса одаренных личностей в номинации «Живопись» и посему меня убедительно просят прибыть в означенное время по указанному адресу для получения награды. В правом нижнем углу письма стоял знак, которого здесь быть никак не могло… Я смотрел на него, а он таял, растворялся прямо на глазах – это было задание…
Мероприятие проводилось с размахом, арендованный по такому случаю дворец князей то ли Толстоногих, то ли Тугоухих сиял – сверкали люстры и канделябры, зеркала и паркет, бриллианты на шеях и пальцах. Я похвалил себя за предусмотрительность, – хотя крахмальный воротничок сдавливал горло, а смокинг сковывал движения, я мог без труда затеряться в толчее. Стоя у одной из колонн, я наблюдал за приливно-отливным движением толпы и пытался понять, для чего я здесь. Церемония чествования победителей подходила к концу, на моей шее красовался позолоченный Пегас, почему-то прыгающий сквозь горящий обруч, а в кармане лежал чек на приличную сумму. И еще десяток таких же лошадок обрели владельцев, кстати, людей талантливых, некоторых из которых я знал лично, о других только слышал, были среди них и вовсе незнакомые. Вот объявлен последний лауреат – демонстратор одежды, попросту говоря – манекенщица или, как еще говорят – модель. Что ж, видимо, и это принято считать искусством, но что здесь делаю я?
По разодетой толпе прошел ропот, она всколыхнулась и заговорила вся разом, выражая некую смесь восторга и негодования. Я понял, что это – гвоздь программы. А все предыдущие победители – не более чем разогревающая группа перед выходом звезды. Кто же оказался этой интригующей личностью? Я просто не поверил глазам – моя мокрая попутчица! Но, полно, она ли это? Куда подевались тяжелая походка, бессильно висящие вдоль тела руки и напряженность в движениях? По паркету (или над ним?) плыла величественнейшая из цариц! Казалось, горностай и пурпур недостойны укрывать эти гордые плечи, а на поднятой высоко и торжественно голове уже мерещилась драгоценная корона! Успех ее был ошеломляющим. Жалкие служители искусства со своими смычками и флейтами, кистями и перьями – мы скромно потеснились перед этим олицетворенным величием красоты. Мы признали себя побежденными. Что уж говорить о гостях, независимо от пола и возраста, все они, влекомые глубинным инстинктом стремления к совершенству, потекли в ту часть зала, где допотопный старичок-церемониймейстер уже произносил ритуальную фразу, ударяя в сияющий гонг, висящий на барочной подставке. И нелепый Пегас, скачущий через кольцо, лег на ее грудь…
Она отыскала меня в толпе смокингов, удостоила царственным наклоном головы, и в глазах ее я увидел отражение мокрого шоссе и скрытый за торжеством испуг. Она заговорила, и речь ее также была иной, чем год назад, – спокойная и плавная, а голос завораживал, стирая содержание.
Всю ночь меня одолевали кошмары, проснулся я поздно, с головокружением и чувством, что заболел. Такого со мной не случалось уже лет пятнадцать. Свои чувства и ум я контролировал безукоризненно, так мне казалось. И что же сломало меня? Что нарушило равновесие? Женщина! Любовь! Я боялся признаться себе в этом, но это было правдой. История Татьяны и Евгения всегда вызывала у меня некоторое недоумение, как же сильно должна была измениться Татьяна, чтобы пленить Онегина сразу и окончательно? Теперь я знал, что это возможно.
Мы стали встречаться. Гуляли. Разговаривали. Пили друг друга и не могли утолить своей жажды, мы были пьяны и безумны. Она влюбилась уже в ту первую встречу, и чудесное ее превращение – дар и ловушка для меня. О, сколь счастливы жертвы Охотницы, как сладостно стать Ее добычей! Я совершенно забросил остальные темы, ничто более не привлекало меня, я писал только ее. То Дианой, то Афродитой. Но все казалось мелко и не приносило удовлетворения. Уже год я не говорил с Учителем, но беда была в том, что я не особенно и переживал…
В тот день мы снова встретились, был серый осенний рассвет. Мокрые тела деревьев чернели на фоне разгоравшегося неба, золото и охра окружали нас, и белые птицы, грохоча крыльями, кружили над холодным зеркалом пруда. В темной воде отражались их грациозно изогнутые белоснежные шеи, желтый лист с ажурными краями и мы двое, стоящие у самой кромки…
Так я и написал все это, не изменив ни одной детали. Работа удалась. Больше я ничего не хотел, наступила апатия, и я чувствовал, что это надолго.
Держась за руки, мы стояли, пропуская вереницу людей, приплясывающих, поющих, звенящих колокольчиками. Колонна свернула на соседнюю улицу, шлейф развевающихся шафрановых одежд и лес воздетых в экстазе рук скрылся меж серых стен, но песня продолжала звучать:
Проснитесь, спящие Души! Проснитесь, спящие Души! Довольно вам спать На коленях ведьмы Майи!Ночью пришел Учитель и объявил, что пришло время выбирать – жизнь художника и влюбленного или жизнь Ученика и Жертвы.
2.. Куколка
Вот уже много лет изо дня в день я прихожу сюда… триста ступеней вниз по винтовой лестнице, потом направо, длинный – сто шагов – коридор, еще раз направо. Вот она заветная дверь. Я знаю эту дорогу на ощупь, и, кажется, что на стенах уже обозначились желобки от моих пальцев, хотя этого не может быть – базальт не истирается веками. На века и рассчитано это укрытие для Того-Кто-Спит-в-Хрустальном-Гроте. Я прислоняюсь к прохладному камню горячим лбом, стараясь утихомирить бешено стучащее сердце. Проникаю мыслью сквозь толщу каменной плиты, закрывающей вход в тайную камеру, – тебя там нет. Хотя глазок, проделанный в цельном камне двери, позволяет смутно разглядеть фигуру, сидящую со скрещенными ногами и неестественно прямой спиной – это лишь твое тело, скорлупа, кокон, в котором медленно, неимоверно медленно продолжает течь жизнь. Один удар сердца в несколько суток. Врачи не дождались бы его и объявили тебя мертвым еще пятьдесят семь лет назад, а я дождалась. И продолжаю ждать, как раз сегодня его время. Зеленый индикатор говорит, что еще рано. Сажусь, скрестив ноги и выпрямив спину, и обращаю взор внутрь себя. Я вспоминаю.
Шел дождь. Во влажной дымке смутно вырисовывались контуры соседских домов, сараев, уложенных в штабеля бревен, – все было мокрое, скользкое, холодное. Я закуталась в огромный брезентовый плащ и стала крадучись пробираться вдоль улицы. Деревня спала, не светились окошки, не слышно голосов, даже собаки спали. За околицей немного светлее, но различить что-либо было практически невозможно из-за дождя. С трудом я отыскала тропинку, ведущую через поле, и помчалась по ней во весь дух. Мокрая трава норовила опутать ноги, ветки кустов хлестали по лицу, гигантский дождевик тянул к земле. Далеко позади хрипло запел петух…
Не помню, как оказалась в машине, о чем мы разговаривали, как ты выглядел, помню только ощущение давно не испытываемого покоя. Покоя и безопасности. Тогда я думала, что это результат моего удачного побега, но в городе, где, казалось бы, я должна была чувствовать себя в еще большей безопасности, тревога и страх, терзавшие меня, вернулись опять. И я поняла, что блаженный покой исходил от того человека, который подвез меня до города. Целый месяц я пыталась вспомнить что-то важное. За это время тетка устроила меня на работу, – и стать бы мне ударной станочницей, если бы ровно через месяц во сне я не вспомнила бы, не пережила бы вновь весь тот разговор в дороге. Я проснулась…
В девятнадцать лет кажется, что вся жизнь исходит из тела и происходит в теле. Поэтому я взялась за ее изменение, начав с физического. В первом же фитнес-клубе меня взяли на работу. Естественно, уборщицей. Состоятельные женщины приходили сюда пообщаться, растрясти жирок. А я мыла, мела, протирала – и все это до бесконечности. И еще я училась. Были там, конечно, и откровенно дикие тетки, но были и дамы с манерами, за ними я наблюдала, копировала осанку, походку, жесты, выражение лица. А по ночам занималась в зале. Училась я легко, и через пару месяцев прохожие на улице смотрели на меня иначе. Особенно мужчины. А потом меня заметил муж одной из клубных дам, владелец модельного бюро. Показал меня своему тренеру. И к концу года я уже работала на подиуме. Работа мне нравилась, возможность пусть не иметь, но хотя бы надевать красивую одежду, привлекать внимание – кого из женщин это не увлечет? Но в глубине души я мечтала о большем, я хотела славы, ведь только став знаменитой, я осмелилась бы искать встречи с тобой.
И это случилось. Буквально как в сказке про Золушку – из грязи и пренебрежения к богатству и счастью. Богатство было чисто номинальным, почти все мои гонорары и премии забирало агентство, а счастье было настоящим – я нашла тебя. И был целый год любви.
Сейчас, с высоты своих лет, из этой дали, я могу сказать – целый год! Тогда же я едва не сошла с ума от горя, когда наши встречи прекратились. Ты пришел весь какой-то светлый, прозрачный, словно лес зимой, когда за обнаженными ветвями сквозит холодное небо, и рассказал мне все: и кто ты такой, и что тебе предстоит, и что такое для тебя я. И какой выбор ты сделал. Не сказал только одного, чего это решение тебе стоило. Я плохо понимала, о чем ты говоришь, внутри меня все кричало. Я теряла смысл жизни, а значит, и саму жизнь.
Следующий год я провела в психушке. Несчетное количество часов без сна, уставившись пустыми глазами в серую больничную стену… Но здоровое тело полно инстинктов, и первый из них – жить, пока жизнь не ушла сама. Пришло время листопада – я вышла из ступора. Врачи приписали мое выздоровление достижениям медицины, но я знаю, что сделал это кленовый лист, трепетавший на ветру язычком живого огня. В этом пламени сгорели мои страдания, сердце больше не разрывалось от горя разлуки, оно сжималось от красоты – я увидела Осень. Вспыхивали от первых прикосновений зари вершины деревьев, разгоралось небо, облака наливались алым и золотым…
Все, что я считала достижением – моя новая внешность, манеры, – все стало маленьким, несерьезным, но могло пригодиться для осуществления моей новой цели. Мне многому нужно было учиться, а для этого были необходимы деньги и время. В городе еще помнили мой прошлогодний триумф, и с работой все устроилось быстро. Очень богатый и очень известный человек, интересующийся в сексуальном отношении исключительно мужчинами, но опасающийся, что это может повредить бизнесу, искал женщину на роль любовницы. Мы заключили контракт, согласно которому я должна была оставаться красивой, дорогой, изображать сексуальную связь с ним и хранить его тайну. Все это за очень хорошие деньги.
За три года я побывала во всех тайных организациях, сектах и клубах города, перечитала горы книг, пробовала различные практики. Я была перегружена информацией и не знала, что делать дальше. Целыми днями я бродила по аллеям парка без единой мысли в голове, ноги отмеряли километры и гудели от усталости, а в груди словно зияла бездонная яма, там было пусто и холодно. Стоял сентябрь, листья уже пожелтели, но крепко держались на ветках. И вот пришел ветер, он взметнул столбы пыли, закрутил их в спирали и обрушился на нетронутую временем позолоту. Ветер снял всю листву разом, одной горстью, и несколько мгновений небо над парком играло всеми красками заката, потом все эти сокровища хлынули на меня водопадом. Я рассмеялась – Даная и Золотой Дождь… Ночью во сне, хотя был ли это сон? – приходил ты. Ты сказал, что мне делать дальше.
Прошло еще три года. Мой гомосексуальный работодатель решил усилить свою конспирацию и предложил мне брачный контракт. В качестве его законной супруги я получила еще большую свободу в передвижении, теперь я смогла посещать Точки Контакта, расположенные за границей: ашрамы, монастыри, отшельничьи пещеры. И опять пришла осень, на сей раз я встретилась с ней в маленькой деревушке на побережье северного моря. В это время здесь уже довольно холодно, отдыхающих почти нет. По вечерам я приходила на берег – расплавленное золото текло от горизонта к моим ногам, и только белые пенные каймы ограждали меня от этого огня. С некоторых пор я заметила, что мое одиночество разделяет некто – худощавый мужчина неопределенного возраста, закутанный в широчайший плащ, с лицом, закрытым капюшоном. Сначала я не придала этому значения. Потом это стало меня раздражать. И однажды я подошла к нему и прямо спросила, не мог ли он выбрать для своих прогулок другое время или другое место. Он молчал, отвернувшись, и что-то в наклоне его головы насторожило меня. Я резко шагнула в сторону, удержав его за плечо. Это был ты. Любимое лицо, истончившееся до почти до бесплотности, знакомый трепет ресниц, но глаза… Это уже не было тобой. Чья-то чужая жизнь нашла пристанище в твоем теле, и вы оба нуждались в моей помощи.
Теперь мне уже за восемьдесят. Я – старая женщина, а ты, Спящий-в-Гроте, не изменился, только золотистая патина покрыла лицо и тело. Ты теперь – золотой кокон, в котором растет нечто, не известное миру. Спящий Мерлин, а я – Ниниана, стерегущая твой сон. Ученики называют меня Хозяйка Горы. Я купила ее на деньги, полученные в качестве наследства магната. Он умер лет сорок назад от обычной в их кругах болезни, а я получила все его богатство. Создала ашрам и поселилась здесь. Скоро я умру, тогда ученики кремируют тело и обрушат своды ходов, ведущих к этому месту. Так я смогу охранять тебя и после…
Красный блик скользнул по полированной глади камня – еще один удар сердца. В коридорах наверху звучат голоса учеников. Мне пора идти.
3. Бабочка
Охотники возвращались, деревня наполнилась голосами и запахами. В дверях хижин замелькали пестрые одежды женщин, следом потихоньку потянулись старики, не было видно только детей. И в каждой хижине шел один и тот же разговор:
– Что дети?
– Как обычно.
Мужчина выражает свою ярость ударом кулака по столу: «Этот старый пень доведет меня до греха!» И женщина привычно отвечает: «Брось, это их единственная игрушка. Вспомни, что имели мы».
Мужчины негодуют оттого, что это последние человеческие детеныши на этой земле, и отцы хотят насладиться своей ролью сполна. Им хочется, чтобы дети встречали их, усталых и гордых, возвращающихся с добычей, чтобы приставали с расспросами об охоте и просили взять с собой. До недавнего времени так все и было, но появился Старик и детей словно подменили. Оставив игры и беготню, они сидят с ним целыми днями на горе и слушают его байки о богах и героях, о людях и животных, о прошлом, которого никто уже не помнит. Они окружили его плотным кольцом и наперебой задают вопросы:
– А что такое Дракон?
– Он спит в нашей горе?
– Какой он?
Старик лишь улыбается, покачивая головой – он устал. Он ложится на спину и закрывает глаза. Дети тут же смолкают, поднимаются и уходят. Они возвращаются в свои дома и пересказывают там сегодняшнюю сказку. Родители снисходительно посмеиваются, но не перебивают. Ведь у их детей нет того изобилия игрушек и развлечений, какое было в свое время у них самих. Их мир погиб в страшной войне. Последней войне, которую никто не выиграл, и горстка хижин, прилепившихся к склону гигантской каменной горы, – все, что осталось от шести с лишним миллиардов человек, населявших планету.
Старик лежит на склоне горы и всем телом чувствует ее дыхание. В темных недрах происходит неясное движение. Оно началось семь дней назад, значит, сегодня ночью…
Тьму прорезали снопы света, вырвавшегося из каменных глубин. Земля дрогнула. В небо ударил фонтан пара и пламени. Вершина горы взорвалась и разлетелась на тысячу сверкающих осколков. Гул прокатился по окрестной пустыне.
Жители деревушки высыпали из своих хижин, женщины обнимали мужей, мужчины старались скрыть испуг, а дети восторженно вопили…
В россыпях огней, затмевающих звезды, в темной синеве парило, раскинув сверкающие крылья, нечто небывалое. Оно было бы похоже на гигантскую золотую бабочку, но никто на этой земле уже не помнил, что называлось бабочкой…
4. Личинка – новый цикл
Мои глаза закрываются, голова медленно укладывается на стол, на рассыпавшиеся листы рукописи, испещренные дополнениями и вставками, написанными разноцветными буквами и по меньшей мере тремя разными почерками. Из моих рук, опухших и потрескавшихся от постоянной возни с мороженой рыбой, выпадают карандаши: красный – из правой, зеленый – из левой… Я закончила эту романтично-сентиментальную историю – историю, которую задумал ты. Задумал и попросил написать… Она получилась не такой, как ты представлял. Да и я тоже.
Я посплю пару часов до твоего следующего приема лекарств.
…Огненная бабочка из моего сна размеренно машет крыльями, гора разрушается и вновь вырастает…
Создатели миражей
Когда среди унылой равнины повседневности вдруг замаячит в отдалении нечто яркое, что привлечет внимание путника, он невольно отклоняется от намеченного маршрута, ускоряет шаг, стремясь приблизиться к этому смутно различимому, неопределенному. Его воображение, окрыленное надеждой, рисует чудный оазис, затерянный в бескрайней пустыне. Там ждут его плоды земли, дабы насытить физическое, вода для утоления чувств и огонь для очищения ума! Быстро движется путник, растет его нетерпение, но чудесное видение все отдаляется от него, а потом и вовсе исчезает… И снова вокруг до самого горизонта – пустынная равнина.
Слабый – плачет и клянет обманувшую его иллюзию. Сильный – хранит чувство восторга и благодарности неизвестным силам, что даровали ему видение, заставившее отклониться от проторенного пути. Со временем он присоединяется к рою тех бабочек, чьи пестрые крылышки своим хаотичным трепетом рождают миражи. Так человек становится художником.
Художник – существо прекрасное, нежное и до крайности безответственное. Он, как ребенок, бросающий камушки в воду, не думает о жителях пруда, которых своей игрой лишит пищи, распугав их добычу. Иные миры, кроме тех, что создал он сам, не интересуют его. Бессмысленно искать понимания с его стороны, ибо путь комет – поэтов путь, а комета не озирается по сторонам. Распушив свой огненный хвост, пересекает она небосклон. Люди со зверино-серьезными лицами смотрят вверх, и это прекрасно! Но сама комета следует пути, который избран не ею.
Художник также лишен знания, как и обычный человек, только сфера его Известного обширнее и граница с Неизвестным имеет большую протяженность. Едва приподнявшись над толпой, художник претендует на всезнание. Он свободен, как сердце девы, ветер и орел. Но пора уже ему брать на себя ответственность за слова, слова, слова…
Примечания
1
Bona fide! – вполне искренне (лат.).
(обратно)2
Homō cōgitāns ― человек мыслящий (лат.).
(обратно)3
Тавии бэн! Атроца бэн? – У тебя будет сын! Ты хочешь сына? (иврит).
(обратно)4
Кэн, тода — Да, спасибо (иврит).
(обратно)5
Киндерлех — детишки (идиш).
(обратно)6
Строки Леонида Аронзона.
(обратно)7
Хвост — три последние цифры в двадцатизначном номере счета.
(обратно)8
Короб — несколько дел, связанных вместе.
(обратно)9
Петр, это не больно — римский патриций, должный покончить с жизнью узаконенным способом (заколовшись мечом), замешкался в нерешительности. Его супруга взяла у него меч и всадила себе в живот, обратившись к мужу со словами, вынесенными в эпиграф.
(обратно)10
Марсий — герой греческого мифа, музыкант, вызвавший на состязание Аполлона, за что тот велел содрать с него живого кожу.
(обратно)





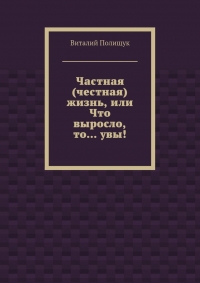

Комментарии к книге «Листая Свет и Тени», Антология
Всего 0 комментариев