Ирвин Шоу СОЛНЕЧНЫЕ БЕРЕГА РЕКИ ЛЕТЫ
Хью Форстер всегда все помнил. Он помнил дату битвы у Нью-Коулд-Харбор (31 мая — 12 июня 1864-го); помнил, как звали его учителя в начальной школе (Уэбел, вес — 145 фунтов, рыжий, без ресниц); он помнил рекордное число неудачливых игроков, не набравших ни одного очка за одну игру по Национальной лиге (Диззи Дин, Сент-Луисские козыри, 30 июля 1933-го, 17 человек, против Юнцов); он помнил пятую строчку из стихотворения «Жаворонку» Шелли («И потому так чист безмерный твой экстаз»); он помнил адрес самой первой девочки, которую он поцеловал (Пруденс Коллинвуд, 248, Юго-Восточная Темпл-стрит, Солт-Лейк-Сити, Юта, 14 марта 1918-го); он помнил даты трех разделов Польши и разрушения Храма Иерусалимского (1772, 1793, 1795-й и 70-й н. э.); он помнил количество кораблей, взятых Нельсоном в Трафальгарской битве (20), и профессию главного героя романа Френка Норриса «Мактиг» (зубной врач); он помнил имя человека, завоевавшего Пулитцеровскую премию по истории в 1925-м (Фредерик Л. Паксон), имя победителя дерби в Эпсоме в 1923-м (Папирус) и номер, написанный им на чеке в 1940-м (4726); он помнил свое кровяное давление (165 на 90, повышенное), свою группу крови (0) и свое зрение (плюс 2 правый глаз и плюс полтора — левый); он помнил, что сказал ему начальник, когда его увольняли с первой работы («Эту работу будет теперь делать машина»), и что сказала его жена, когда он сделал ей предложение («Я хочу жить в Нью-Йорке»); он помнил настоящее имя Ленина (Владимир Ильич Ульянов) и что послужило причиной смерти Людовика XIV (гангрена ноги). Он помнил также породы птиц, средние глубины судоходных рек Америки, имена всех пап, включая и авиньонских, до и после их вступления на престол; пропорции и объемы Гарри Хейлмана и Хейни Грох, даты полных солнечных затмений, начиная с царствования Карла Великого, скорость звука, место погребения Д. Г. Лоренса, все рубай Омара Хайяма, население заброшенного сеттльмента Роаноук, прицельное расстояние при стрельбе из автоматического ружья Браунинга, кампании Цезаря в Галлии и Британии, имя пастушки в «Как вам будет угодно» и количество денег, которые лежали у него в «Химическом Банке и Кредите» утром 7 декабря 1941-го (2.367,58).
Потом он забыл о 24-й годовщине своей свадьбы (январь, 25-е). Утром его жена Нарсис как-то странно поглядывала на него за завтраком, но он читал вчерашнюю вечернюю газету и думал: «Никогда у них не будет порядка в Вашингтоне», — и не обратил на это внимания. Пришло письмо от их сына, который учился в университете в Алабаме, но Форстер сунул его в карман, не распечатав. Оно было адресовано ему одному, значит, он опять просит прислать денег. Когда Мортон писал семейные письма, выполняя сыновний долг, он адресовал их обоим родителям. Мортон учился в Алабаме, потому что с такими отметками невозможно было устроить его в Йель, Дартмут, Уильямс, Антиох, колледж города Нью-Йорка или Колорадский университет.
Нарсис спросила, не хочет ли он к обеду рыбы, и он сказал «да». А еще Нарсис сказала, что это просто преступление, до чего подорожала рыба, и он сказал «да». И она спросила, не случилось ли что-нибудь, и он сказал «нет», поцеловал ее и вышел из дому, сел в метро на станции «242-я улица» и стоял всю дорогу до самой работы, читая утреннюю газету. Родители Нарсис когда-то жили во Франции, чем и объяснялось такое имя, но теперь он уже привык к нему. Читая газету в набитом вагоне, он потихоньку мечтал, чтобы они пропали, те, о которых пашут в газетах.
Хью пришел на работу первым, забрался в свой уголок и, оставив дверь открытой, сел за свою конторку, наслаждаясь гладью не заваленных бумагами столов и тишиной. Он вспомнил, как Нарсис подозрительно шмыгала носом за завтраком, словно собиралась заплакать. К чему бы это? Но, зная, что объяснение не заставит себя долго ждать, бросил об этом думать. Нарсис плакала от пяти до восьми раз в месяц.
Компания, в которой он работал, выпускала однотомную энциклопедию, абсолютно полную, на индийской бумаге, с семьюстами пятьюдесятью иллюстрациями. Был даже разговор, чтоб назвать ее Гигантская Карманная Энциклопедия, но к окончательному решению так пока и не пришли. Хью трудился над «С». Сегодня надо было составить Саго, Сода, Софокл и Сорренто. Он помнил, что в Сорренто жил Максим Горький и что из ста двадцати трех пьес, написанных Софоклом, найдено всего семь.
Хью в общем-то неплохо чувствовал себя на работе, пока не появлялся м-р Горслин. М-р Горслин был владелец и главный редактор издательства. Он верил, что лучший способ заставить своих служащих работать — это стоять за их спинами и молча наблюдать, как они трудятся. Стоило м-ру Горслину войти в комнату, как у Хью появлялась щекочущая слабость в паху.
М-р Горслин был сед, носил твидовые костюмы, обладал внешностью пикадора и начинал с календарей. Его издательство все еще выпускало массу самых разнообразных календарей, порнографических, религиозных я тематических. Хью был незаменим в составлении календарей, потому что он помнил и когда умер Оливер Кромвель (3 сентября 1658-го), и когда Маркони отправил первое послание по беспроволочному телеграфу через Атлантический океан (12 декабря 1901-го), и дату первого пароходного рейса от Нью-Йорка до Олбани (17 августа 1807-го).
М-р Горслин ценил особые таланты Хью и по-отечески неумолимо пекся о его благоденствии. М-р Горслин верил в гомеопатические средства и живительные свойства сырых овощей, особенно баклажанов. Кроме того, прочтя в 1944 году книгу о комплексах упражнений для глазных мышц, он выбросил очки и стал их ярым противником. В 1948 году он настоял на том, чтобы Хью отказался от очков, и целых семь месяцев Хью мучился постоянной головной болью, от которой м-р Горслин предписал ему лечиться каким-то гомеопатическим средством — от него в голове у Хью возникало ощущение, будто ему туда влепили заряд мелкой дроби. Теперь, появляясь за спиной Хью, м-р Горслин с неудовлетворенностью итальянского генерала, смотрящего на Триест, упрямо таращил глаза на его очки. Со здоровьем дела у Хью были не так уж плохи, но оставляли желать лучшего. Он часто страдал насморком, и глаза его после ленча наливались кровью. Он не скрывал этих своих недостатков и того, что в холодную погоду ему по нескольку раз в час приходилось совершать прогулки в туалет. В этих случаях м-р Горслин нарушал привычное молчание, чтобы прописать ему диету, улучшающую работу носовых каналов, глаз и почек.
Сегодня утром м-р Горслин заходил в комнату дважды. Первый раз он молча простоял за спиной Хью пять минут, потом сказал: «По-прежнему на Соде?» и вышел. В следующий раз он восемь минут стоял, не произнося ни слова, потом сказал: «Форстер, вы полнеете. Белый хлеб», — и вышел. Каждый раз Хью чувствовал знакомую слабость в паху.
Перед самым перерывом в контору влетела дочь. Она чмокнула Хью, сказала:
— Поздравляю тебя, папуля! — и вручила ему небольшой продолговатый пакетик, перетянутый вверху цветной резинкой.
Клэр было двадцать два, и замужем она была четыре года, но упрямо продолжала звать его «папуля». Смущенный Хью открыл пакетик. Там была авторучка с золотым колпачком. Это была четвертая авторучка, подаренная ему Клэр за последние шесть лет: две — в дни рождения, третья — на рождество. Она не унаследовала отцовской памяти.
— Это еще зачем? — спросил Хью.
— Папуля, — сказала Клэр, — ты шутишь!
Хью уставился на ручку. Он твердо знал, что это не день его рождения (12 июня) и, уж конечно, не рождество (25 декабря).
— Не может быть, — недоверчиво проговорила Клэр. — Забыл? Ты?
Хью вспомнил лицо Нарсис за завтраком, ее шмыгающий нос.
— О господи!.. — сказал он.
— Сегодня вечером не вздумай являться домой без цветов, — сказала Клэр. Она беспокойно глянула на отца. — Папуля, ты плохо себя чувствуешь?
— Я в полном порядке, — раздраженно ответил Хью, — а о годовщине раз в жизни каждый может забыть.
— Только не ты, папуля.
— И я. Я тоже человек, — сказал он, но был потрясен.
Он отвинтил колпачок и, низко склонившись над столом, заглавными буквами написал в блокноте: ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА. Теперь у него стало восемь авторучек.
— Это как раз то, что мне нужно, Клэр, — сказал он, пряча ручку в карман, — большое спасибо.
— Ты не забыл, что обещал повести меня обедать?
Клэр сговаривалась с ним об этом накануне по телефону, чтобы за обедом, как сообщила она Хью, обсудить с ним ряд серьезных вопросов.
— Конечно, нет, — поспешно сказал Хью.
Он надел плащ, и они вышли. Он заказал морской язык, но потом, вспомнив, что Нарсис за завтраком сказала, что на ужин будет рыба, передумал и заказал баранью отбивную. Клэр заказала жареного цыпленка, уолдорфский салат и бутылку вина, потому что, сказала она, после бутылки вина день кажется не таким печальным. Хью не понимал, почему хорошенькой двадцатидвухлетней девочке необходима бутылка вина, чтобы день не казался таким печальным, но не вмешивался.
Пока Клэр исследовала карту вин, Хью достал из кармана письмо Мортона и принялся за чтение. Мортон просил прислать двести пятьдесят долларов. По его словам, он одолжил «плимут» у одного из приятелей по колледжу и, возвращаясь с танцев, влетел на нем в канаву, а ремонт ему обошелся в сто двадцать пять долларов. С ним в машине была девушка, она себе сломала нос, а доктор потребовал за нос сто долларов, которые Мортон обещал заплатить. Потом шли десять долларов за две книги по этике и еще пятнадцать, пользуясь выражением самого Мортона, для круглого счета. Хью сунул письмо в карман, не сказав о нем Клэр ни слова. «Это еще слава богу, — подумал Хью, — в прошлом году, когда его чуть не выгнали из школы за списывание на экзамене по теории счислений, было хуже».
Поедая цыпленка и запивая его вином, Клэр рассказывала отцу о своих тревогах. Главная — это Фредди, ее муж. Она была в нерешительности, сообщила она, расправляясь с цыпленком, — бросать его или заводить ребенка. Она была уверена, что у Фредди роман с другой женщиной, на 78-й Восточной улице, они встречаются днем, и, прежде чем предпринять какие-либо шаги в том или другом направлении, она просила Хью повидаться с мужем, поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, и выяснить его намерения. С ней Фредди не станет объясняться. Стоит ей заговорить об этом, как он уходит из дому и ночует в отеле. Если развод, то шесть недель в Рино обойдутся Хью в тысячу долларов минимум, потому что Фредди ее уже предупредил, что на такую ерунду не даст ни цента. И вообще у Фредди сейчас финансовые затруднения. Он превысил свой счет в автомобильном агентстве, на которое работает, и они две недели назад перестали переводить ему деньги. Ну, а если ребенок, то доктор, такой, какой ей нужен, обойдется в восемьсот долларов, и еще минимум пятьсот на больницу, на сиделок, но вообще-то она знает, что тут во всем можно положиться на папулю.
Она пила вино и говорила, говорила, а Хью молча ел. Фредди, по ее словам, уже пять месяцев не платил членских взносов в гольф-клубе, и они собираются объявить об этом публично, если он не внесет долг до воскресенья. А это такой позор, что просто срочно необходимо заплатить, и Фредди, как получил письмо от секретаря клуба, места себе не находит и на всех кидается.
— Я сказала ему, — продолжала Клэр со слезами на глазах, не переставая методично жевать, — я сказала ему, что я с радостью пойду работать, но он ответил, что будь он проклят — он не даст никому повода говорить, будто он не в состоянии обеспечить собственную жену. И правда ведь, за это его можно только уважать. А еще он сказал, что больше ни за что не попросит у тебя ни гроша. И разве можно им после этого не восхищаться?
— Конечно, — сказал Хью, памятуя, что за четыре года зять перебрал у него в долг три тысячи восемьсот пятьдесят долларов и не вернул ни цента. — Конечно, конечно. Он знал, что ты сегодня пойдешь со мной разговаривать?
— Смутно, — сказала Клэр и налила себе еще стакан вина. Тщательно подобрав последние кусочки яблока и грецких орехов из салатницы, Клэр добавила, что рада бы не сваливать на него все это, но он единственный в мире человек, чьему решению она может довериться. Он такой надежный, здравомыслящий и находчивый, а она уже и не знает, любит она Фредди на самом деле или нет, и в голове у нее такая путаница, и она не может смотреть, как Фредди все время мучается из-за денег, и пусть Хью скажет, только честно, как он думает: ей уже можно стать матерью в ее двадцать два? К тому времени, как они покончили с кофе, Хью пообещал поговорить в ближайшее время с Фредди о той женщине с 78-й улицы, и подписать чек либо на путешествие в Рино, либо на акушера — это уж как сложится дело — и обещал подумать насчет просроченных членских взносов.
По пути в контору Хью купил для Нарсис сумку из крокодиловой кожи за шестьдесят долларов, и, когда он выписывал чек и отдавал его продавщице, его на мгновение кольнуло острое беспокойство: не дай бог вдруг инфляция.
После ленча работать было трудновато, потому что он все продолжал думать о Клэр и о том, какой она была маленькой (корь в четыре, через год свинка, шины на зубах от одиннадцати до пятнадцати, прыщи между четырнадцатью и семнадцатью). Он медленно двигался по Сорренто. М-р Горслин во второй половине дня заходил дважды. Первый раз он сказал: «Все еще на Сорренто?» — а второй раз: «Какого черта! Кому интересно, что этот коммунистический русский написал там книгу?».
Кроме обычной слабости в паху, Хью в этот день чувствовал, как у него учащалось дыхание и комок подкатывал к горлу, когда м-р Горслин стоял у него за спиной.
После работы он поехал на Лексингтон-авеню, в маленький бар, где три раза в неделю они встречались с Джин. Она уже была там и допивала первый виски, и он сел рядом и приветственно сжал ее руку. Они любили друг друга уже одиннадцать лет, но поцеловал он ее лишь однажды, в день, когда пришел конец войне в Европе, потому что она была школьной подругой Нарсис еще по Брин Мор, и давно, когда все только еще начиналось, они решили вести себя благородно. Она была высокая, величественная женщина; жизнь ее не баловала, отчего она выглядела сравнительно молодо. В часы, когда день уже клонится к вечеру, они потаенно и печально сидели в печальных маленьких барах и тихими, тоскливыми голосами говорили о том, как все могло сложиться совсем по-другому. Вначале разговоры их были оживленнее, и иногда на целых полчаса к Хью возвращались оптимизм и уверенность того молодого человека, который был среди первых в колледже и не знал еще, что от цепкой памяти, таланта и ума до удачи дорога совсем не близкая.
— Я думаю, — сказала Джин, пока он потягивал свой виски, — скоро нам придется покончить со всем этим. Это уже ни к чему не приведет. Ну в самом деле, разве я не права? И мне скверно. Я чувствую себя виноватой, а вы?
До сих пор Хью не приходило в голову, что он в чем-то виноват, кроме разве что того поцелуя в день победы. Но сейчас, когда Джин сказала об этом, он понял, что каждый раз, входя в бар и видя ее за столиком; он будет теперь чувствовать себя виноватым.
— Да, — сказал он печально, — наверно, вы правы.
— Я уезжаю на лето, — сказала Джин. — В июне. Когда вернусь, видеться мы больше не будем.
Хью горестно кивнул. До лета еще оставалось пять месяцев, но чувство было такое, будто позади что-то прошелестело и упало, словно опустился занавес.
Всю дорогу домой ему пришлось стоять, а вагон метро был так набит, что он не мог даже развернуть газету. Он читал и перечитывал первую страницу и думал при этом: «Нет, я определенно рад, что меня не выбрали в президенты».
В поезде было жарко, и, зажатый среди пассажиров, он чувствовал себя жирным и неуклюжим, и в нем вдруг поднялось дотоле незнакомое, неловкое чувство, что его тело ему в тягость. Потом перед самой 242-й улицей он обнаружил, что крокодиловая сумка осталась на столике в конторе. На мгновение от ужаса защекотало в горле и под коленками. И дело было даже не в том, что, приди он домой с пустыми руками, весь вечер будут вздохи, полувысказанные упреки и почти неизбежные слезы. И даже не в том, что он не доверял женщине, которая вечерами убирала контору и которая однажды (3 ноября 1950 года) — в этом он не сомневался — взяла из правого верхнего ящика почтовых марок на доллар и тридцать центов. Но сейчас, в уже опустевшем вагоне, некуда было скрыться от мысли о том, что за один день он дважды что-то забыл. Он не мог припомнить, чтоб еще хоть раз с ним случилось что-нибудь подобное. Он потер лоб кончиками пальцев, словно это могло ему помочь отыскать хотя бы туманное объяснение. Он решил больше не пить. Он выпивал всего пять-шесть виски в неделю, но, с другой стороны, алкоголь вызывает частичную амнезию (временную утерю памяти), это в медицине хорошо известно, и, может быть, он слишком восприимчив.
Вечер прошел, как он и предполагал. На станции он купил роз для Нарсис, но о крокодиловой сумке, забытой на столе, промолчал, потому что, как он правильно рассудил, это только усугубило бы его утренний проступок. Он даже предложил ей отправиться в город и ради такого торжественного случая пообедать где-нибудь в ресторане, но Нарсис целый день в одиночестве растравляла свои раны и лелеяла свое мученичество, и она настояла на том, чтобы они ели рыбу по девяносто три цента за фунт. К половине одиннадцатого она уже плакала.
Хью спал плохо и на следующий день явился на службу рано, но даже вид крокодиловой сумки, которую уборщица положила на самую середину стола, не поднял его настроения. В тот день он забыл названия трех пьес Софокла («Эдип в Колоне», «Трахиния» и «Филоктет») и номер телефона своего зубного врача.
Так это началось. Хью все чаще и чаще совершал прогулки в справочную библиотеку на тринадцатый этаж, он страшился этих прогулок, потому что всякий раз, как он снова и снова на протяжении часа пересекал комнату, сослуживцы поглядывали на него с недоумением и любопытством. Был день, когда он не смог вспомнить названий произведений Сарду, какова территория Санто-Доминго, симптомы силикоза, определение синдрома и как умерщвлял свою плоть, Симеон-Столпник.
В надежде, что все как-нибудь обойдется, он не сказал об этому никому, даже Джин, там, в маленьком баре на Лексингтон-авеню.
М-р Горслин все дольше и дольше простаивал за стулом Хью, и Хью сидел, делая вид, что работает, делая вид, что прекрасно выглядит; брыли его болтались, как веревки виселицы, а мозг был точно кусок мороженого мяса, который изгрызли волки. Однажды м-р Горслин пробормотал что-то о гормонах, в другой раз отправил Хью отдыхать в четыре тридцать. Хью работал у м-ра Горслина восемнадцать лет, и это был первый случай, что м-р Горслин сам предложил ему уйти домой, не дожидаясь конца рабочего дня. Когда м-р Горслин вышел, Хью продолжал сидеть за столом, слепо уставившись в отверзшуюся перед ним бездну.
Как-то утром, несколько дней спустя после годовщины свадьбы, Хью забыл название своей утренней газеты. Он стоял перед газетным киоском, глядя на разложенные «Таймсы», «Трибьюны», «Ньюзы» и «Мирроры», и все они были на одно лицо. Он знал, что последние двадцать лет он каждое утро покупал одну и ту же газету, но сейчас ни по макету, ни подзаголовкам он не мог определить, какую именно. Он наклонился и впился взглядом в газеты. Один из заголовков сообщал, что вечером президент будет произносить речь. Выпрямившись, Хью обнаружил, что не помнит имени президента и демократ он или республиканец. В первое мгновение он испытал то, что можно описать только как острую боль наслаждения.
Но он знал, что это обманчиво, как экстаз, пережитый Т. Е. Лоренсом, когда турки едва не забили его до смерти.
Он купил экземпляр «Холидей» и всю дорогу безучастно разглядывал цветные фотографии далеких городов. В этот день он забыл, в каком году Джон Л. Саливэн выиграл первенство мира в тяжелом весе и имя изобретателя подводной лодки. Ему пришлось идти в справочную библиотеку еще потому, что он не был уверен, где находится Сантандер — в Чили или в Испании.
В полдень он сидел за столом, уставясь на собственные руки: уже целый час он не мог избавиться от ощущения, что у него между пальцами бегают мыши. В это время в комнату вошел его зять.
— Привет стариканам! — сказал зять.
С того самого дня, как зять переступил порог его дома, он обращался с Хью непоколебимо весело.
Хью встал, сказал «привет» и осекся. Он смотрел на зятя. Он знал, что это его зять. Знал, что это муж Клэр. Но не мог вспомнить, как зовут этого парня. Второй раз за этот день в нем поднялась звенящая волна наслаждения, та же, что и утром у газетного киоска, когда он обнаружил, что забыл, как зовут президента Соединенных Штатов и к какой партии он принадлежит. Только на этот раз ощущение было более продолжительным. Оно длилось, пока они с зятем обменивались рукопожатиями, и все время, пока ехали с ним в лифте, и потом, в соседнем баре, где он поставил зятю подряд три мартини.
— Хью, старикан, — сказал зять, принимаясь за третий мартини, перейдем к делу. Клэр сказала, что вам нужно со мной о чем-то потолковать. Что там у вас? Давайте выкладывайте поскорее, и покончим с этим.
Хью пристально взглянул через столик на сидящего напротив мужчину. Он добросовестно обшарил весь мозг, но не мог придумать ничего, что интересовало бы их обоих.
— Ничего, — медленно сказал Хью, — ничего особенного…
Пока Хью платил за выпивку, зять враждебно поглядывал на него, но Хью лишь довольно хмыкал про себя и рассеянно улыбался официантке. На улице, возле выхода, они приостановились. Зять прокашлялся.
— Послушайте, старина, если это о…
Но Хью сердечно пожал ему руку и бодро зашагал прочь, чувствуя себя хитрым и ловким.
Однако, очутившись снова в конторе, глядя на свой захламленный стол, Хью обнаружил, что ощущение легкости исчезло. К этому времени он уже перешел на «Т» и при виде клочков бумаги и кучи книг на столе вынужден был признаться самому себе, что успел забыть многое о Таците и уж вовсе ничего не помнит о Тэне. На столе лежал листок бумаги с датой и обращением «Дорогой…».
Он внимательно глядел на бумагу, пытаясь вспомнить, кому же он писал. Только пять минут спустя Хью сообразил, что письмо предназначалось сыну и он собирался по просьбе сына послать ему чек на двести пятьдесят долларов. Он полез во внутренний карман за чековой книжкой. Книжки не было. Он тщательно осмотрел все ящики стола, но и там книжки не было. Он затрепетал: впервые в жизни он положил чековую книжку не на место. Он решил позвонить в банк и попросить их прислать новую. Он взял телефонную трубку. И бессмысленно уставился на нее. Он забыл номер телефона своего банка. Он положил трубку, взял телефонный справочник, открыл его на букве «Б»… И остановился. В горле пересохло. Хью глотнул. Он забыл название своего банка. Он взглянул на страницу с названиями банков. Все они казались ему смутно-знакомыми. Но ни одно ничего ему не говорило; Он закрыл справочник, встал и подошел к окну. Глянул вниз. Два голубя сидели на карнизе, вид у них был озябший, а в доме напротив в окне стоял лысый мужчина с сигарой и пристально смотрел на улицу, словно размышляя, не кинуться ли ему вниз.
Хью вернулся к столу и сел. «Может, это предзнаменование, — подумал он, — эта история с чековой книжкой? Может, это знак, что пора взяться всерьез за сына? Пусть хоть раз сам за себя ответит». Он взял ручку, собираясь написать все это в Алабаму. «Дорогой…» — прочел он. Он долго смотрел на это слово. Потом аккуратно закрыл ручку и положил ее в карман. Он больше не помнил имени сына.
Он надел пальто и вышел, было всего три двадцать пять. Он направился к музею. Шагалось легко, и с каждым кварталом он чувствовал себя все лучше и лучше. Дойдя до музея, он уже чувствовал себя так, словно выиграл пари на сто долларов, хотя у него был всего один шанс к четырнадцати. В музее он пошел в раздел Египта. Он много лет собирался посмотреть Египет, но всегда был слишком занят.
Покончив с Египтом, он почувствовал себя великолепно. В метро по дороге домой он продолжал себя чувствовать великолепно. Он больше не пытался покупать газет. Они потеряли для него всякий смысл. Имена, которые упоминались в газете, ничего ему не говорили. Это было все равно, что читать «Синд обсервер», издаваемую в Карачи, или «Эль Мундо», выходящую в Соноре. Без газеты долгий путь оказался куда более приятным. Всю дорогу в метро он рассматривал людей вокруг. Теперь, когда он больше не читал, что эти люди проделывают друг с другом, его попутчики казались и интереснее и куда симпатичнее.
Правда, стоило ему переступить порог собственного дома — блаженство кончилось. Нарсис по вечерам стала к нему слишком внимательно приглядываться, и ему приходилось быть очень осторожным в разговорах. Он боялся, что Нарсис догадается, что с ним происходит. Он не хотел, чтобы она беспокоилась или принялась его лечить. Он весь вечер сидел и слушал проигрыватель, но забыл сменить пластинку. Это был автоматический проигрыватель, и последнюю пластинку — Второй фортепьянный концерт Сен-Санса — он проиграл семь раз подряд, пока, наконец, из кухни пришла Нарсис и, заявив, что она сойдет с ума, выключила проигрыватель.
Он рано лег спать. Он слышал, как на соседней кровати плакала Нарсис. Третий раз за этот месяц. Значит, осталось еще от двух до пяти раз. Это он помнил.
На следующее утро он корпел над Талейраном. Он работал, низко склонившись к столу, работал медленно, но не так уж плохо, когда вдруг почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Он развернулся вместе со стулом. За спиной, пристально глядя на него, стоял седой мужчина в твидовом костюме.
— Ну? — отрывисто сказал Хью. — Вы кого-нибудь ищете?
Мужчина ни с того ни с сего покраснел и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Хью равнодушно пожал плечами и вернулся к Талейрану.
Когда он спускался после работы, лифт был переполнен, холл внизу затопили служащие конторы, спешившие поскорее выбраться на улицу. Возле выхода стояла очаровательная девушка. Она улыбалась и через головы устремленных домой клерков махала Хью рукой. Хью на мгновение остановился, польщенный, готовый улыбнуться в ответ. Но у него свидание с Джин, да и вообще староват он уже для этих штучек. Он нахмурился и нырнул в поток выходящих из здания людей. Ему показалось, что вслед раздался вопль, как будто кто-то кричал: «Папа!» — но он понимал, что это ему послышалось, и даже не обернулся.
Он доехал до Лексингтон-авеню, радуясь теплому зимнему вечеру, и пошел на север. Он прошел мимо двух баров, но, подходя к третьему, замедлил шаг. Он мысленно повторил свой путь, вглядываясь в фасады баров. Все три блестели хромированной сталью и неоновыми огнями и были неотличимы друг от друга. Напротив через улицу был еще бар. Он подошел к нему, но и этот ничем не отличался от остальных. На всякий Случай он вошел, но Джин здесь не было. Он заказал виски прямо у стойки и обратился к бармену:
— Сюда за последние полчаса не заходила дама, одна, а?
Бармен поглядел на потолок, подумал.
— Какая она из себя? — спросил он.
— Она… — Хью замолк. Залпом выпил. — А, ну ладно, — сказал он, положил на прилавок долларовую бумажку и вышел.
Подходя к метро, он чувствовал, что всего один раз в жизни ему было так же хорошо, как сейчас, — тогда ему было одиннадцать лет, и 9 июня 1925 года он выиграл бег на сто ярдов на ежегодных легкоатлетических состязаниях средней школы Бригмана в Солт-Лейк-Сити.
Чувство это, разумеется, испарилось, едва Нарсис поставила на стол суп. Глаза у нее опухли; по-видимому, она плакала днем. Странно, Нарсис никогда не плакала в одиночестве. За обедом под пристальным взглядом Нарсис Хью снова почувствовал, как между пальцами бегают мыши. После обеда Нарсис сказала:
— Я не такая дура. Тут замешана другая женщина.
И еще она сказала:
— Никогда не думала, что со мной может случиться такое.
Отправляясь спать, Хью чувствовал себя, как пассажир утлого суденышка в зимнюю бурю у мыса Гаттераса.
Он проснулся рано. За окнами светило солнце. Он лежал в постели, и ему было хорошо и тепло. С соседней кровати послышался шорох. Взгляд его пересек узкое пространство, разделявшее две кровати. На соседней кровати лежала женщина. Ей было за сорок, волосы накручены на бигуди. Она похрапывала во сне. Хью готов был поклясться, что никогда в жизни ее не видел. Он тихо выбрался из постели, быстро оделся и вышел прямо в солнечный день.
Он машинально дошел до метро. Он наблюдал, как люди торопятся к поездам, и понимал, что и ему надо бы последовать их примеру. Ему чудилось, что где-то в городе, там, в южном его конце, в каком-то высоком здании на узкой улице, ждут, что он придет. Но он знал, что, как ни старайся, он ни за что не найдет этого здания. «Эти теперешние здания, пришло ему в голову, — слишком похожи друг на друга».
Он широко зашагал от станции в сторону реки. Река блестела от солнца, а вдоль берегов тянулась кромка льда. Мальчик лет двенадцати в теплом двубортном пальто из шотландки и вязаной шапочке сидел на скамейке и глядел на реку. У его ног, прямо на замерзшей земле, лежали учебники, перетянутые кожаным ремешком.
Хью присел рядом.
— Доброе утро, — сказал он, улыбаясь.
— Доброе утро, — ответил мальчик.
— Что ты делаешь? — спросил Хью.
— Считаю яхты, — сказал мальчик. — Я вчера насчитал тридцать две яхты. Это без моторок. Я моторки не считаю.
Хью кивнул. Он засунул руки в карманы и стал смотреть вниз, на реку. К пяти часам они с мальчиком насчитали сорок три яхты. Моторок они не считали.
Лучшего дня он не мог припомнить во всей своей жизни.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


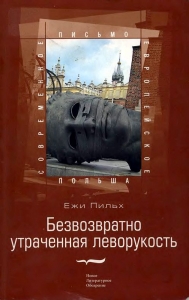



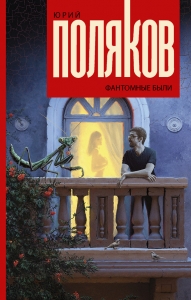
Комментарии к книге «Солнечные берега реки Леты», Ирвин Шоу
Всего 0 комментариев