Ирвин Шоу РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «ОТСТУПЛЕНИЕ»
Отступление
Колонна грузовиков, лениво извиваясь, втянулась на небольшую площадь рядом с церковью Мадлен[1] и остановилась в тени деревьев. При отступлении из Нормандии на машины осело столько пыли, что они казались мохнатыми, а черные кресты под этим сухим, шероховатым покрытием были едва различимы даже в ярких лучах парижского солнца.
Моторы замерли, и на площади все вдруг стихло. Водители и солдаты лениво потягивались в своих грузовиках, а люди за крошечными столиками летних кафе равнодушно взирали на линию побитых пулями машин на фоне зеленой листвы и греческих колонн Мадлен.
Возглавляющий колонну майор неторопливо поднялся с сиденья и вылез из своего автомобиля. Некоторое время он стоял, подняв глаза на Мадлен, покрытый с ног до головы пылью, средних лет человек в скверно сидящем на слегка оплывшем теле, потрепанном мундире. Затем этот, столь мало похожий на военного, офицер повернулся на каблуках и медленно зашагал через площадь в сторону «Кафе Бернар». Под слоем пыли глубокие морщины на его усталом, лишенном всякого выражения лице выглядели как-то театрально, а светлые пятна, оставленные защитными очками, придавали физиономии майора зловещий вид. Офицер тяжелой походкой шагал мимо своих машин и людей. Солдаты равнодушно и без всякого любопытства смотрели ему вслед, так, словно они знают его много-много лет и услышать что-то новое от него уже не рассчитывают. Некоторые из них слезли с грузовиков и задремали, улегшись под солнцем на тротуаре. Со стороны их можно было принять за тела, оставшиеся после боя, — боя не столь серьезного, чтобы нанести ущерб зданиям, но достаточно кровопролитного, чтобы оставить несколько трупов.
Майор подошел к стоящим на тротуаре столикам «Кафе Бернар» и обратил на пьющих равнодушный взгляд холодных глаз. Точно так он несколько мгновений тому назад изучал Мадлен. Посетители, в свою очередь, смотрели на офицера с каменным выражением лиц, как привыкли смотреть на немцев за четыре года оккупации.
Майор остановился перед столиком, за которым в одиночестве и с полупустым бокалом пива в руке сидел Сегал. Губы немца дрогнули в едва заметной улыбке при виде маленького лысого человечка в костюме пятилетней давности, который, видимо, лишь ценой невероятных усилий удавалось содержать в пристойном виде, и штопаной-перештопаной рубашке. Голая как колено голова человечка ярко сверкала в лучах яркого солнца.
— Вы не возражаете…? — спросил майор, указывая тяжелым, медленным движением руки на свободное место рядом с Сегалом.
— Не возражаю, — ответил Сегал, пожимая плечами.
Немец опустился на стул и демонстративно вытянул перед собой ноги.
— Garcon, — произнес он, — два пива.
Некоторое время они сидели молча. Майор внимательно смотрел на своих, распростертых на тротуаре и похожих на трупы солдат.
— Сегодня мне необходимо выпить в обществе гражданского лица, — сказал немец по-французски.
Официант принес пиво, поставил высокие бокалы на стол и бросил между ними два картонных поддонника. Майор машинально придвинул обе картонки к себе.
— За ваше здоровье, — сказал он, поднимая свой бокал.
Сегал поднял свой, и они выпили.
Майор пил жадно, закрыв глаза, и почти опустошил бокал, прежде чем поставить его на стол. Затем он открыл глаза, слизал языком с верхней губы небольшие клочья пены, обвел взглядом окружающие их здания и сказал:
— Красивый город. Очень красивый город. Наверное, я пью здесь последний раз.
— Вы были на фронте? — спросил Сегал.
— Да, я был на фронте.
— И теперь возвращаетесь?
— Да, я возвращаюсь. Фронт тоже возвращается. — Он мрачно усмехнулся и добавил: — И ещё не известно, кто из нас возвращается первым. — Майор допил пиво, перевел взгляд на Сегала и внимательно глядя ему в глаза, произнес: Скоро здесь будут американцы. Что вы об этом думаете?
Сегал несколько нервно погладил подбородок и сказал:
— Неужели вы действительно желаете, чтобы парижанин отвечал на этот вопрос?
— Нет, — улыбнулся майор. — Думаю, что этого делать не стоит. Скверно, что американцам вообще пришлось вмешаться. Однако переживать по этому поводу уже, пожалуй, поздно.
Теперь его лицо под слоем похожей на боевую раскраску пыли казалось усталым, спокойным и умным, хотя и не очень красивым. Это было лицо человека, который после работы читает книги и время от времени ходит на концерты добровольно, а не только под давлением супруги.
— Garcon, ещё два пива, — распорядился майор, и, обращаясь к Сегалу, спросил: — Вы не против того, чтобы выпить со мной ещё бокал пива?
Сегал посмотрел на бронированные машины, на две сотни отдыхающих солдат, задержал взгляд на тяжелых, смотрящих в небо пулеметах и пожал плечами. Смысл этого циничного жеста был предельно ясен.
— Нет, — усмехнулся майор, — у меня не было намерения использовать вооруженные силы Германии для того, чтобы заставить француза выпить со мной пива.
— С того момента, как немцы оккупировали Париж, я не только не пил с вашими соотечественниками, но и не беседовал ни с одним из них, — сказал Сегал. — Ровно четыре года. Однако, в качестве опыта стоит попробовать. Сейчас самое время. Ведь очень скоро подобное будет просто невозможно. Разве я не прав?
Майор предпочел этот выпад проигнорировать. Он внимательно посмотрел на своих солдат, развалившихся в тени греческого храма, тщательно воспроизведенного парижанами в самом сердце своего города. Военные грузовики и люди в униформе рядом с классическими колоннами являли собой нелепое зрелище. Казалось, что офицер не в силах оторвать глаз от брони и солдат, словно между ним и подчиненными существовала невидимая и горькая связь — нерушимые узы, которые невозможно разорвать на миг, даже сидя в кафе за бокалом пива.
— Ведь вы — еврей, не так ли? — спросил майор негромко, наконец повернувшись к Сегалу.
Подошел официант, поставил на стол два бокала пива и положил рядом поддонники.
Сегал надавил ладонями на колени, чтобы скрыть дрожь в пальцах и не дать вырваться на волю ужасу, который пронизывал все его тело каждый раз, когда он слышал слово «еврей». Первый раз он испытал этот смертельный страх четыре года тому назад — летом 1940-го. Сейчас он молчал, облизывая губы и машинально оглядываясь по сторонам в поисках дверей, подворотен, темных проулков или входов в метро.
— За ваше здоровье, — сказал майор, поднимая бокал. — Перестаньте. Давайте-ка лучше выпьем.
Сегал смочил губы пивом.
— Перестаньте, — повторил майор. — Вы можете сказать мне правду. Ведь, если вы откажетесь говорить, мне ничего не стоит позвать сержанта и приказать ему проверить ваши документы.
— Да, — сказал Сегал. — Я — еврей.
— Я так и знал, — произнес майор. — Именно поэтому я к вам и подсел. Офицер вновь пристально посмотрел на своих людей. Взгляд этот говорил о его неразрывной связи с ними, но в тоже время был лишен любви, тепла и даже проблеска надежды. — У меня есть несколько вопросов, на которые лучше вас мне никто не ответит.
— Слушаю, — с тревогой в голосе выдавил Сегал.
— Не будем спешить, — сказал майор. — Мои вопросы могу немного подождать. Разве вам не известно, — продолжил он, с любопытством глядя в глаза собеседника, — что во Франции евреям запрещено посещать кафе?
— Я знаю об этом, — сказал Сегал.
— Кроме того, всем евреям предписано носить на одежде желтую звезду.
— Да.
— У вас же звезды нет, и я средь бела дня встречаю вас в кафе.
— Да.
— Вы — очень смелый человек, — с легким налетом иронии произнёс майор. — Неужели желание выпить стоит угрозы депортации?
— Это вовсе не желание выпить… — пожал плечами Сегал. — Боюсь, что вам этого не понять, но я родился в Париже, и вся моя жизнь прошла в кафе на бульварах.
— Чем вы занимаетесь, месье…?…месье?
— Сегал.
— Чем вы, месье Сегал, зарабатываете на жизнь?
— Я был музыкантом.
— Ах, вот как… — в голосе немца непроизвольно прозвучало уважение. И на каком же инструменте?
— На саксофоне. В джаз-оркестре.
— Любопытная профессия, — ухмыльнулся майор.
— Я не играю вот уже четыре года, — сказал Сегал. — Да и в любом случае я стал слишком стар для этого инструмента. Приход немцев просто позволил мне элегантно удалиться от дел. Джазовый музыкант проводит в кафе всю свою жизнь. Кафе для него — всё: студия, клуб, библиотека, рабочее место и убежище, где он занимается любовью. Если я не имею возможности сидеть в Париже на terrasse, потягивая vin blanc, то я с тем же успехом мог бы находиться и в концентрационном лагере…
— Каждый человек, — заметил майор, — ощущает патриотизм по-своему.
— Пожалуй, мне пора, — сказал Сегал и начал подниматься со стула.
— Не уходите. Садитесь. У меня ещё есть немного времени. — Немец ещё раз посмотрел в сторону своих людей и продолжил: — Ничего не случится, если мы прибудем в Германию на час позже. Если прибудем вообще. Расскажите-ка мне лучше о французах. Во Франции мы вели себя вовсе не плохо. Тем не менее, я чувствую, что французы нас ненавидят. Они нас ненавидят — по крайней мере, большинство из них, — не меньше, чем русские…
— Да, это так, — сказал Сегал.
Фантастика! — изумился майор. — Ведь по отношению к вам мы вели себя предельно корректно. С учетом требований военного времени, естественно.
— Это вы так считаете. Как ни удивительно, но вы действительно в это верите. — Сегал начал забывать, где находится и с кем говорит. Все существо его звало к спору.
— Конечно, я в это верю.
— А как быть с теми французами, которых расстреляли?
— Армия не имеет к этому никакого отношения. СС, Гестапо…
— Как много раз я слышал эти слова! — резко бросил Сегал. — Так же, как и все убитые евреи.
— Армия об этом ничего не знала, — упрямо стоял на своем майор. Лично я ни разу не поднял руку на еврея ни в Германии, ни в Польше, ни здесь, во Франции. Я не сделал им ничего плохого. Настало время, когда необходимо каждого судить по его делам…
— Почему это вдруг стало так необходимо? — спросил Сегал.
— Будем смотреть в глаза фактам, — майор огляделся по сторонам и, неожиданно понизив голос, продолжил: — Вероятно, нас все-таки побили…
— Вероятно, да, — улыбнулся Сегал. — Это можно допустить с не меньшей долей уверенности, чем заявление о том, что солнце взойдет завтра около шести утра.
— Победители станут жаждать мести, и вы это назовете торжеством справедливости. Армия вела себя цивилизованно, и это должно остаться в памяти.
— Мне не доводилось встречать гестаповцев в Париже, пока туда не пришла германская армия…
— Да, я совсем забыл, — прервал его майор. — Ваше мнение не типично. Вы — еврей и настроены несколько резче, хотя, как мне удалось заметить, вы сумели совсем неплохо прожить все эти годы.
— Я прожил их прекрасно, — ответил Сегал. — Я все ещё жив. Правда, оба моих брата погибли, сестра вкалывает на принудительных работах в Польше, а моих соплеменников в Европе почти не осталось. Я же остался жив, так как оказался очень умным человеком.
Сегал извлек из кармана бумажник и показал его майору. Звезда Давида была уложена в нем таким образом, что выхватить её можно было за доли секунды. Рядом со звездой находилась желтая картонка с иголкой. В иглу уже была продета нитка.
— В трудные моменты и всегда имел возможность взять звезду и пришить её себе на одежду, — сказал Сегал. — Для того, чтобы её закрепить, требуется ровно шесть стежков. — Когда он закрывал и возвращал в карман бумажник, его рука дрожала. — Представьте, майор, что четыре года, четыре долгих года вам каждую секунду приходится молить Господа о том, чтобы он подарил вам полминуты, и вы успели бы пришить звезду, прежде чем они начнут проверять ваши документы. Да, я прожил это время прекрасно. Мне всегда удавалось выкроить искомые тридцать секунд. И знаете, какое место, будучи очень умным евреем, я выбрал для сна? Женскую тюрьму! Поэтому, когда Гестапо являлось в мой дом, чтобы меня арестовать, я пребывал в комфорте в запертой камере рядом со шлюхами и магазинными воровками. Это можно было устроить потому, что моя жена католичка и работает медицинской сестрой в тюрьме. Видите, как хорошо я сумел устроиться? Правда, в конце концов, моя супруга решила, что с неё достаточно. Я её не осуждаю — такую жизнь женщине выдержать трудно. Это может тянуться год, от силы два, но, когда благотворительность становится утомительной, таскать подобный жернов на шее уже не хочется. Поэтому она решила со мной развестись. Для христиан эта процедура во Франции с последнего времени очень упрощена. Вам достаточно явиться в суд и заявить: «Мой муж — еврей». Больше для расторжения брака ничего не требуется. У нас с ней трое детей, но с тех пор я их не видел. Вот так. Кроме того, существуют пропагандистские агентства, к которым добрая немецкая армия никакого отношения, разумеется, тоже не имеет. Французы ненавидят немцев, но за эти четыре года их так накормили ложью, что они, как мне кажется, уже никогда не избавятся от предвзятого отношения к евреям. У немцев масса достижений в разных областях, и это ещё одно из них…
— У меня создается впечатление, что вы оцениваете события слишком пессимистично, — сказал майор. — Люди со временем меняются. Мир вернется к норме, и все устанут от ненависти и крови…
— Это вы начали уставать от ненависти и крови, — ответил Сегал. — В последнее время я начал это понимать.
— Лично я, — произнес офицер, — этого никогда не хотел. Взгляните на меня. По сути своей я совсем не солдат. Приезжайте после войны в Германию, и я пришлю за вами Ситроен. Я всего лишь облаченный в мундир скромный продавец автомобилей, имеющий супругу и троих ребятишек.
— Возможно… — протянул Сегал. — Возможно… Вскоре мы, видимо, услышим нечто подобное от очень многих. «По сути своей я не солдат. Я всего лишь продавец автомобилей, музыкант, любитель домашних животных, филателист, школьный учитель, лютеранский священник…» и так далее до бесконечности… Но в 1940 году, когда вы строем маршировали по бульварам, мы таких слов не слышали. В то время в ваших рядах не встречались продавцы автомобилей, там были лишь капитаны и сержанты, летчики и артиллеристы. И военные мундиры в 1940-ом вовсе не считались случайным нарядом.
Некоторое время они сидели молча. Из глушителя проезжающего мимо автомобиля раздался громкий двойной выхлоп, и один из спящих солдат закричал во сне. На тихой, залитой солнцем площади этот вопль казался совершенно неуместным. Другой солдат разбудил спящего товарища и объяснил, что произошло. Кричавший уселся на асфальт, оперся спиной на колесо грузовика, нервно вытер ладонью лицо и снова погрузился в сон. На сей раз сидя.
— Сегал, — заговорил майор, — когда война закончится, нам надо будет спасать Европу. Нам придется существовать рядом на одном континенте. И фундаментом этого существование должно быть прощение. Я знаю, что простить всех невозможно, но ведь есть и миллионы таких, которые не совершили ничего плохого…
— Таких, как вы?
— Да, таких, как я, — ответил немец. — Я никогда не был членом Партии. Я вел мирное существование в обществе супруги и троих детей, как типичный представитель среднего класса.
— Мне почему-то начинает надоедать постоянное упоминание о вашей жене и троих детках.
Лицо майора под слоем пыли залилось краской. Он тяжело опустил ладонь на руку Сегала и произнёс:
— Вы, видимо, забыли, что американцы пока ещё не вошли в Париж.
— Прошу прощения, — ответил Сегал, — но мне показалось, что вы просили меня высказываться свободно и откровенно.
— Я и сейчас на этом настаиваю, — сказал офицер, снимая ладонь с руки Сегала. — Продолжайте. Я уже давно размышляю на эти темы и готов вас слушать.
— Простите, но мне пора домой, — произнес Сегал. — Я живу на другом берегу, и прогулка получится довольно долгой.
— Если не возражаете, то я мог бы доставить вас туда на автомобиле, сказал майор.
— Благодарю вас, — ответил Сегал.
Немец расплатился, и они бок о бок зашагали через площадь мимо солдат, провожающих их равнодушными или враждебными взглядами. Они уселись в автомобиль майора и отправились в путь. Сегал помимо воли получал огромное удовольствие от первой за четыре года автомобильной поездки. Когда они проезжали по мосту через Сену, он не смог сдержать улыбки, такой голубой и приятной показалась ему вода.
Майор почти не смотрел на красоты, мимо которых они проезжали. Он устало откинулся на спинку сиденья — немолодой человек, которому в силу внешних обстоятельств приходится действовать за пределами отпущенных ему природой сил. Его лицо от непомерного утомления выглядело помятым и добрым. Когда машина проезжала мимо больших статуй, охраняющих здание Палаты депутатов, майор снял фуражку, и свежий ветер сразу растрепал его редковатые, слегка вьющиеся волосы.
— Я уже готов смириться с тем, — произнес он тихим, почти просящим голосом, — что нам придется платить за всё то, что считается нашей виной. Мы проиграли войну и поэтому — виноваты.
Сегал сухо хихикнул. Он чувствовал необыкновенное возбуждение от выпитого пива и автомобильной поездки. Это возбуждение обострялось ощущением опасности, которое порождала у него беседа с немецким майором в городе, полном вражеских войск.
— Не исключено, что, даже выиграв войну, мы все равно оказались бы виноватыми, — сказал майор. — Если быть до конца честным, то я обдумываю этот вопрос два последних года. Вначале события увлекают человека. Вы представить не можете, какое давление испытывает простой обыватель, когда страна, подобная Германии, вступает в войну. Человек всем сердцем рвется в армию, надеясь преуспеть в солдатском ремесле. Но и тогда, среди этих энтузиастов не было зрелых людей, подобных мне… Это были юнцы, фанатики, но их напор походил на напор неудержимого вала, увлекающим за собой всех окружающих. Да, вы и сами все видели…
— Я видел как юнцов, так и тех, кто постарше, — ответил Сегал. — Они четыре года рассиживались в лучших ресторанах, уплетая масло, бифштексы и белый хлеб. Они заполняли театры, носили красивые мундиры и отдавали приказ расстрелять… сегодня десять человек, а завтра ещё двадцать…
— Человеческие слабости, — сказал майор. — Потакание своим прихотям. Человеческая раса состоит, увы, не из святых. Но прощение все же должно начаться с чего-то.
Сегал наклонился вперед и прикоснулся к плечу шофера.
— Остановитесь, пожалуйста, — сказал он по-немецки. — Я хочу выйти.
— Вы здесь живете? — спросил майор.
— Нет. Я живу в пяти кварталах отсюда. Но при всем моем к вам уважении, майор, я не хочу показывать немцу — любому немцу — свой дом.
— Останови здесь! — пожав плечами, распорядился офицер.
Автомобиль подкатил к тротуару и замер. Сегал открыл дверцу, чтобы выйти.
Однако майор удержал его за руку.
— А не кажется ли вам, что мы уже сполна заплатили за все? — жестко спросил он. — Разве вы видели Берлин? Или Гамбург? Вы были под Сталинградом? Вы имеете представление о том, как выглядело поле боя под Сэн Ло, под Мартэном и Фалезе? А, может быть, вы знаете, что чувствует человек, оказавшись на дороге под американскими бомбами? Способны ли вы разделить чувства простых людей, бегущих по этой дороге в фургонах, пешком, на велосипедах? Можете ли вы понять тех, кто ютился в темных подвалах, ощущая себя скотом, приготовленным к забою? Разве это не расплата за наши грехи? Лицо майора под слоем пыли конвульсивно дергалось, и Сегалу на миг даже показалось, что офицер вот-вот зарыдает. — Да, — продолжал Майор. — Мы виновны. Некоторые из нас виновны больше, чем другие. Как же мы теперь должны поступать? Что должен сделать я, чтобы смыть с себя всю эту грязь?
Сегал освободил свою руку. Он даже почувствовал слабое желание утешить этого немолодого, изрядно побитого войной, прилично выглядевшего человека продавца автомобилей и отца троих детей. Сегал видел перед собой испуганного, бегущего с фронта и усталого солдата, ставшего мишенью для американских бомб на длинных дорогах Франции. Но вот Сегал перевел взгляд на жесткое лицо молодого солдата, сидящего в позе напряженного ожидания на переднем сиденьи автомобиля. На крюке под ветровым стеклом висел пистолет-пулемет шофера — компактная, прекрасно сконструированная, тщательно смазанная и готовая к бою машина смерти.
— Что я должен сделать, чтобы смыть с себя эту грязь?! — снова выкрикнул майор.
Сегал тяжело вздохнул и без всякой экзальтации, злорадства или горечи сказал — не от своего имени, а от имени того первого еврея, которому давным-давно проломили череп на улицах Мюнхена, и того американца, который только что рухнул на землю от пули снайпера где-то под Шартром; он говорил от имени тех, кто погиб мучительной смертью за все эти долгие годы:
— Перережьте себе горло и посмотрите, не смоет ли ваша кровь всю эту грязь.
Майор резко выпрямился и в его глазах зажегся холодный, опасный огонь — огонь злобы и поражения. Сегал понял, что на сей раз он зашел слишком далеко, и что после стольких лет успешной борьбы за выживание, ему предстоит сейчас умереть. Умереть всего за неделю до освобождения! Однако увидев перед собой это разъяренное, измученное, напряженное и в то же время жалкое лицо, он ничуть не пожалел о вырвавшихся вдруг словах. Сегал повернулся и подчеркнуто спокойно зашагал по направлению к своему дому. Его спина между лопатками окаменела, ожидая удара пули. Медленно пройдя десять шагов, он услышал, как майор что-то сказал по-немецки. Сегал зашагал ещё медленнее, глядя сухими глазами вдоль широкой аллеи бульвара Распай. Затем он услышал шум мотора и сразу же после этого визг шин — машина сделала резкий разворот. Сегал не стал оглядываться, чтобы увидеть, как автомобиль рванулся назад к Сене и ещё дальше — к Мадлен, где рядом с бронированными машинами его ждали спящие, так похожие на мертвецов солдаты. Ждали для того, чтобы отправиться в Германию по дороге, которая не в силах привести их к прощению.
Роль в пьесе
Алексис Константан слыл приятным человеком, и множество людей ещё до войны, когда на парижских сценах было тесно от прекрасных актеров его амплуа, считали, что Алексис обладает незаурядным талантом. Это был плотный, похожий на крестьянина человеком средних лет, и ему особенно удавались роли в остроумных комедиях нравов. Константан всегда мог рассчитывать на успех у публики в роли престарелого, богатого супруга молодой и склонной к измене вертихвостки. Год или два Алексис провел в Голливуде, где удачно имитировал Буайе[2], развлекая народ на вечеринках. Когда-то совсем молодым он был женат, но довольно скоро благополучно и вполне по-дружески развелся. Еще с довоенных времен Алексис делил квартиру в квартале Сен Жермен с актером по имени Филипп Турнеброш. Они дружили ещё с тех лет, когда юнцами таскали копья в массовке театра «Одеон». Их дружба продолжалась, несмотря на то, что Турнеброш задолго до прихода нацистов успел превратиться в одного из самых блестящих актеров Франции, в то время как карьера Константана развивалась ни шатко, ни валко. На жизнь Алексис себе, конечно, зарабатывал, но ему неизменно доставались роли второго плана, и театральные критики крайне редко удостаивали его отдельным абзацем в своих обзорах.
Квартира, которую делили актеры, была очень приятным местом. Турнеброш получал кучу денег и бездумно тратил их направо и налево. Мужчины уживались друг с другом гораздо лучше, чем когда-то со своими женами, и в их доме постоянно устраивались приемы и вечеринки. На этих сборищах появлялись люди с Бродвея и из Голливуда, так же как и представители иных видов изящных искусств. Шампанское лилось рекой. В доме постоянно крутились компании молодых, привлекательных девиц, которых Алексис и Филипп честно делили между собой. Квартиру в Сен Жермен навещали богатые дамы и мужчины (и таковых было не мало), владевшие поместьями в Нормандии или виллами в Каннах, и на гостеприимство которых друзья могли рассчитывать, когда в Париже становилось скучно. Одним словом, это была славная, богатая приятными событиями, сладкая жизнь художника 30-х годов, — жизнь, которая, как нам теперь не устают твердить, никогда уже не вернется.
Время от времени у Константана портилось настроение. Это случалось в те моменты, когда ему предлагали новую роль.
— Одно и то же, — сказал он как-то утром приятелю, с унылым видом листая очередную пьесу. — Постоянно одно и то же.
— Давай, я попробую догадаться, о чем идет речь, — сказал Филипп. Было время завтрака, и он сидел за столом напротив друга, методично постукивая ложечкой по скорлупе яйца. — Ты — промышленник. Занят производством духов.
— Автомобилей.
— Автомобилей? Какая великолепная пьеса! Продолжаем: твоя жена изменяет тебе с итальянцем.
— С венгром. Мне уже столько раз наставляли рога, что у меня есть повод для развода с целой монастырской школой английских девиц, — сказал с горькой усмешкой Константан.
Филипп ухмыльнулся и, подняв палец, ораторским тоном произнес:
— Я обращаюсь к тебе, Алексис Константан, как к незыблемому столпу французского театра. Скажи, что бы мы делали, если бы мужьям не наставляли рога?! Когда думаешь о столь ужасной возможности, голова идет кругом. Передай мне, пожалуйста, соль.
— Наступит день, — мрачно произнес Алексис, — когда ты удивишься. Они предложат мне новую роль, а я откажусь. Это не карьера, а какая-то болезнь…
— Наступит день, — мягко сказал Филипп, — когда ты сыграешь Сирано. Я в этом не сомневаюсь.
Филипп был мягким, добропорядочным и очень милым человеком. Он любил Алексиса и делал все, чтобы смягчить страдания обманутого честолюбия друга.
Но подобные моменты, когда Алексис ясно видел, что его карьера быстро катится под откос вместе с бесконечной чередой не запоминающихся, жалких ролей, наступали сравнительно редко. Он не завидовал Филиппу, а если и завидовал, то совсем немного для актера, и в глубине души постоянно лелеял надежду, что новый театральный сезон станет совсем иным. В последний момент в труппе могут произойти изменения, один из друзей-актеров, занятой в сложной и интересной роли умирает, и его, Алексиса, призывают, чтобы он заполнил неожиданно возникший вакуум в дневном спектакле. На парижской сцене вдруг может появиться необыкновенно проницательный продюсер, который позвонит ему и скажет:
— Константан, я давно слежу за вами. Вы понапрасну тратите жизнь, соглашаясь на эти бездарные роли. Передо мной лежит рукопись пьесы, в которой жизненный путь героя начинается в девятнадцать лет, а заканчивается в восемьдесят пять. Женщины не могут перед ним устоять, а на сцене он проводит два часа и двенадцать минут…
Но друзья почему-то не умирали, а, если и умирали, то были заняты в скверных ролях. Проницательные продюсеры в Париже не возникали. Схема, по которой предстояло развиваться его карьере, была предельно ясна до тех пор, пока немцы не вошли в Париж.
Немцы, любившие Париж больше чем Берлин, и считавшие себя знатоками, ценителями и покровителями европейского искусства, почти не вмешивались в театральную жизнь столицы. Правда, все пьесы еврейских авторов немедленно исчезли со сцены, а театры, которыми владели евреи, были за определенную цену переданы более приемлемым для новых властей французам. Спектакли, в которых англичане, американцы или русские изображались в благоприятном свете, были, естественно, запрещены, но в целом немцы нанесли театру урона не больше, чем могли нанести крупные кинофирмы, получи они столько же власти, сколько имели оккупанты.
Филипп в то время был занят в зажигательном спектакле о франко-прусской войне. В третьем и четвертом актах пьесы французы красиво погибали от копий прусских улан, так что о возобновлении постановки не могло быть и речи. Однако Алексис играл в своей обычной сладенькой поделке, вполне приемлемой для всех, кроме истинных любителей театра. Постановщика этой пьески пригласил к себе Комиссар по вопросам культуры — романтически настроенный баварский немец в чине полковника, — и предложил вернуть спектакль на подмостки.
— Да, это — действительно проблема, — сказал Алексис. Он и Филипп токовали на эту тему всю ночь. За окнами было темно и тихо, а коньяка к этому времени было уже выпито немало. — Ведь у меня только одна профессия. Я — всего лишь актер.
— Да, — ответил Филипп. Он, вытянувшись во весь рост, лежал на кушетке, придерживая на груди рюмку с коньяком.
— Пекарь продолжает выпекать хлеб. Врач не прекращает лечить. Вне зависимости от того, есть немцы или нет…
— Да, — согласился Филипп.
— Ведь, в конце концов, эта пьеса и в Третьей республике пользовалась большим успехом.
— Да, — согласился Филипп. — Но особенно громкий успех она имела во время правления Калигулы.
— Она никому не может причинить вреда.
— Точно, — сказал Филипп и добавил: — Передай-ка мне коньяк.
— В ней нет ничего такого, что могло бы принести пользу нацистам.
— Именно, — сказал Филипп.
После этого обмена репликами возникла пауза. С улицы донесся звук шагов марширующих людей. Строем шли всего три или четыре человека, но их кованые сапоги стучали о мостовую так громко, что казалось, будто марширует целая армия.
— Немцы, — заметил Филипп. — Они ходят строем на свадьбу, на любовные свидания и в сортир…
— Ты собираешься играть в этом сезоне? — спросил Алексис.
Филипп покачал рюмку с коньяком в руке, помолчал и ответил:
— Нет, я не собираюсь играть в этом сезоне.
— Что же ты намерен делать?
— Я намерен пить коньяк и перечитывать лучшие пьесы Мольера.
Алексис прислушался к топоту удаляющихся в сторону Монпарнаса сапог и спросил:
— А в следующем сезоне ты играть будешь?
— Нет, — ответил Филипп, — я начну играть в тот сезон, когда в Париже останутся только мертвые немцы.
— И ты считаешь, что будет неправильно играть даже в такой пьесе, в которой я…
Филипп медленно поводил рюмкой с коньком под носом и сказал:
— Каждый должен решать это для себя сам. Я не вправе навязывать кому-либо свое мнение по такому вопросу.
— Значит, ты думаешь, что это неправильно? — не сдавался Алексис.
— Я… — медленно и тихо заговорил Филипп в большую коньячную рюмку из тонкого стекла. — Я полагаю, что это — предательство. Я не хочу быть товаром на рынке развлечений для смелых, германских воителей-блондинов.
Два друга некоторое время молчали. На улице кто-то хрипло ревел lied[3] Шуберта, и сквозь этот рев до слуха друзей едва доносилось женское хихиканье.
Что же, — наконец произнес Алексис, — утром я позвоню Ламарку и скажу, чтобы он подыскивал на эту роль кого-нибудь другого.
Филипп медленно поставил рюмку, поднялся с кушетки и подошел к сидящему другу. И Алексис увидел, как в первый раз после появления немцев в городе, сквозь каменную, холодную маску, в которую превратилось известное всему миру лицо, прорвались эмоции. Филипп дал волю своим чувствам. Он плакал.
— Я так боялся… — начал он, протягивая руку. — Я так боялся, что ты этого не скажешь… Прости меня, Алексис… Прости…
Они пожали друг другу руки, и Алексис изумился, заметив, что тоже плачет, сжимая ладонь человека, которого знал вот уже более двадцати лет.
Первое время все было не так уж и плохо. Немцы вели себя корректно, особенно по отношению к известным в театральном мире людям. Алексис и Филипп продолжали оставаться в стороне от сцены, делая вид, что подыскивают себе подходящие роли, и вежливо отклоняя все предлагаемые им для прочтения пьесы. У Филиппа были большие накопления, которыми он щедро делился с Алексисом. Друзья как бы находились на своего рода продолжительных вакациях. Они читали, по утрам долго валялись в постелях, а иногда даже проводили время в деревне. За город они стали выезжать лишь после того, как немцы с реверансами, и не задавая никаких вопросов, выписали им специальные пропуска. В их квартире по-прежнему собирались друзья. Теперь это были тихие, долгие посиделки, где художники показывали свои новые картины, отказываясь выставлять их на публике, а драматурги читали пьесы, которые должны были увидеть сцену в некоем туманном будущем после того, как оккупанты, наконец, уйдут из Парижа. Однако оккупация затягивалась, и для многих освобождение превратилось во все более и более отдаленную мечту. Некоторые мужчины и женщины начали выпадать из их кружка и стали появляться на более привычном для себя месте — на сцене. Они примирились с тем, что места в партере занимали немецкие солдаты и офицеры, заслужившие отпуск в Париж своими подвигами на других фронтах.
Эти вынужденные каникулы сказывались на Филиппе и на Алексисе сильнее и сильнее по мере того, как на парижской сцене стали появляться всё новые и новые лица, а у публики — иные любимцы. Финансовые ресурсы Филиппа начали проявлять признаки истощения, и, кроме того, немцы конфисковали их квартиру. Теперь они оба были вынуждены ютиться в районе Сен Дени, в комнатушке на пятом этаже, и без лифта.
И вот, наконец, наступил день, когда Ламарк прислал Алексису письмо, в котором говорилось, что он хочет встретиться с Алексисом тет-а-тет и просит пока держать его приглашение в секрете.
Собираясь на беседу, Алексис надел свой лучший костюм и повязал скромный, но очень дорогой галстук, который не носил вот уже два года. По пути к Ламарку он заглянул в парикмахерскую, чтобы привести в порядок свою шевелюру. А перед тем, как подняться по лестнице в офис, купил цветок в бутоньерку. По ступеням Алексис шагал неторопливо, с серьезным выражением лица, как и положено шагать солидному, немолодому, но внешне привлекательному гражданину. Под этой маской величия и уверенности Алексис прятал нервное напряжение и боль, которую он заранее испытывал от того чувства вины, которое ему ещё предстояло пережить.
— Есть в Париже немцы или нет, — говорил Ламарк, возбужденно помахивая над столом рукописью, — но эта пьеса — новое слово в театральной литературе. Она являет собой неоценимый вклад в культуру Франции. Ну а главная роль… Мой Бог! — Ламарк обратил взор к небесам. — Немолодой человек, но все ещё могучий, в расцвете зрелых сил…Он остается на сцене половину первого акта и весь второй. А сцену смерти в третьем лучше бы не смог написать и сам Расин!
Невысокий и несколько тучный Ламарк обладал живым, хитрым и проницательный взглядом коммивояжера. Он прибыл в Париж из Марселя и вполне процветал как во времена Третьей Республики, так и при немцах. Алексис не сомневался в том, что Ламарк будет процветать даже в эпоху Девятой Диктатуры Пролетариата.
— Алексис… — продолжил он, энергично хватая актера за руку. Алексис, прочитав пьесу, я сразу подумал только об одном человеке! О тебе. Я знаю, какой мусор тебе приходилось играть. Одно и то же. Год за годом. Повторяющиеся приемы, приевшиеся трюки. Смерть для любого актера! На сцене появится новый Константан. В сравнении с тобой Ремю[4] и Буайе покажутся школярами! Я всегда чувствовал, что, как только появится достойная тебя роль — ты сможешь потрясти мир.
— Верно, — сказал Алексис, прекрасно понимая, что Ламарк обратился к нему только потому, что большинство стариков отказывались выходить на сцену, — получилось так, что у меня не было возможности…
— Твой час настал, Алекс! — торжественно объявил Ламарк. — Поверь мне. Я проработал в театре всю жизнь и вижу, когда роль и актер сливаются воедино подобно…
— Я тебе очень благодарен, — неуверенно произнес Алексис, — но я, пожалуй, все же ещё подожду немного.
— Главный герой — несчастный человек, — благоговейно произнес Ламарк. — Огромный, с могучими кулаками, но при этом абсолютно несчастный. Этот безжалостный повелитель промышленной империи, одержимый патологической страстью к деньгам, пережил в молодости любовную драму т отвернулся от женщин. Деньги заменяют ему жену, любовницу и детей. Он, хохоча, губит мужчин, за какую-то несчастную тысячу франков. Там есть сцена, когда к нему приходит его лучший друг и умоляет…Но будет лучше, если ты сам всё прочитаешь. Такая мощная вещь! Я не хочу портить впечатление. А знаешь что происходит, когда он встречает чистую юную девушку… Твой герой совершенно преображается. Сад расцветает в декабре. Страшно смешно. Девица оказывается потаскушкой. Она убегает с офицером зуавом в тот момент, когда он покупает для неё большой бриллиант чистой воды на Пляс Вандом. А что стоит сцена безумия, Алекс! По сравнению с ней сцена безумия в Гамлете покажется простой воскресной партией в домино. Затем следует убийство. А какую речь герой произносит перед тем, как принять яд! Яростное обращение к Творцу с мензуркой яда в дрожащей руке! Бог, Алекс, не даст мне соврать — настало время для того, чтобы ты занял подобающее тебе место в истории французской сцены… Вот, бери! — он сунул манускрипт в руки Алексиса. — И ничего больше не говори. Прочитай пьесу дома, возвращайся сегодня же в пять и, пожимая мне руку, скажи: «Ламарк, я хочу поблагодарить тебя от всего сердца. Завтра с утра я готов приступить к репетициям».
Когда Алексис выходил из кабинета, у него слегка кружилась голова. Он медленно добрел до набережной Сены и, усевшись на скамью, прочитал пьесу. Пьеса была написана пером острым и энергичным, хотя и не столь огнедышащим, как можно было заключить из слов Ламарка. Впрочем, для главного героя в ней нашлось довольно много больших и ярких сцен. Устремив невидящий взгляд на противоположный берег реки, представил себя на ярко освещенной сцене. Перед его мысленным взором предстал чудовищно жестокий, вызывающий жалость мятущийся человек — человек, потрясенный неожиданно свалившимся на него горем, убийца и самоубийца. Алексис слышал, как этот человек призывает все силы ада обрушить свой гнев на мир, который он собирается покинуть.
Это была именно та роль, мечта о которой преследовала его с того момента, когда он первый раз ступил на сцену. Медленно шагая домой, Алексис знал, что возьмет роль, что бы по этому поводу не говорил Филипп…
Спектакль имел грандиозный успех, и всего за один вечер вписал себя в историю французского театра. Комический рогоносец был мгновенно забыт, и вместо него на сцене родилась трагическая фигура эпических масштабов. С этого момента все более или менее значительные пьесы прежде всего предлагались ему. Алексис сыграл главную роль в двух фильмах, снятых в пригородах Парижа, и лицо его стало знаменитым во всей Европе. Правда, несколько наиболее нетерпимых друзей Алексиса сделали вид, что не узнали его, встретив на улицы, да в паре жалких, издаваемых Сопротивлением листков, появилось несколько оскорбительных статеек. Какой-то недоброжелатель не поленился прислать ему эти так называемые газетки.
Филипп порвал с ним в тот же день, когда он принес от Ламарка пьесу.
— Да, да, — устало произнес Филипп. — Мне давно известны все аргументы. Аргумент номер один: нам надо питаться. Аргумент номер два: булочники продолжает выпекать хлеб, врачи лечить людей и так далее. Аргумент номер три: немцы выиграли войну и продолжают одерживать победы. Неужели мы не смиримся с этим до конца наших дней? Аргумент номер четыре: мы знаем, что у французов есть недостатки. Неужели мы должны представлять их только как ангелов? И аргумент пять: я больше не желаю иметь с тобой никаких дел.
Филипп упаковал свои пожитки, и с тех пор Алексис его не встречал. Позже до него долетали смутные слухи, что Филипп сражается в отрядах Маки где-то в Верхней Савойе. Говорили даже, что его пару раз видели мельком в Париже, что он очень постарел и выглядит довольно жалко. Узнавая о появлении бывшего друга в Париже, Алексис каждый раз испытывал некоторые угрызения совести, но легко утешался, так как был очень занят, пользовался успехом и со всех сторон слышал в свой адрес только хвалу.
Алексис встретился с Филиппом лишь в июле 1944-го года, когда американцы уже были в Сен Ло, и в Париже началась беспокойная жизнь. У одних в глубине души появилось чувство неуверенности и ощущение вины, а другие тайно ликовали, ожидая близкое освобождение. По ночам на улицах раздавались выстрелы, а немцы бродили по городу, ловя взглядами взгляды парижан — взгляды внимательные и выжидательные. Немецких солдат часто находили мертвыми на берегу Сены, а некоторые трупы медленно плыли лицом вниз по течению к морю. Все знали, что силы Сопротивления собирают в городе боевые батальоны, и что семнадцатилетний мальчишка, убирающий в ресторане грязные тарелки с вашего стола, может оказаться коммунистическим руководителем, с целым арсеналом под матрасом и списком предателей, которых ждет возмездие. Никто не мог быть уверен в том, что в этом списке нет и его имени. Те, кто процветал под немцами, и те, кто с ними просто уживался, вели в уме тревожные подсчеты. Алексис не был исключением. В эти дни он ничего не играл, и у него оставалось время для долгих, медленных и задумчивых прогулок. Он засиживался далеко заполночь, вглядываясь из темных окон своей квартиры в трепещущий от нетерпеливого ожидания город. Алексис внимательно изучал карту театра военных действий, пытаясь при этом, как можно более честно анализировать свою реакцию на успехи союзников. Актер был страшно доволен тем, что испытал радость после того как американцы прорвали фронт в Нормандии и устремились к Парижу. Он радовался, несмотря на то, что продвижение американцев таило опасность для него лично.
Алексис встретил Филиппа на площади Звезды. Его старый друг изменился почти до неузнаваемости. Он очень постарел, волосы поседели, а осунувшееся, обветренное лицо избороздили глубокие морщины. Мешковатая одежда и тяжелые башмаки делал его похожим на крестьянина — нищего сельского трудягу, обрабатывающего десять акров тощей земли и приехавшего в город всего лишь на день. Алексис пошел за ним следом, с болью в сердце следя за тем, как Филипп сильно припадая на раненую ногу, проходит мимо столиков уличного кафе.
На какой-то миг Алексис остановился, чувствуя в глубине души, что будет лучше, если он избежит встречи с этим покрытым шрамами ветераном. Но, глядя на сутулую, побитую временем и все же такую знакомую спину и вспомнив двадцать лет дружбы, рухнувшей в тот кровавый август, он ускорил шаг, догнал Филиппа и положил ладонь на руку бывшего друга. Филипп остановился и оглянулся. Лицо его напряглось. Но напряглось всего лишь на миг. Всё. Больше никакой реакции.
— Что вам угодно, месье? — вежливо поинтересовался он.
— Пожалуйста, Филипп, — взмолился Алексис, — не обращайся ко мне «месье».
Филипп стал освобождать руку.
— Ну, пожалуйста, поговори со мной…
Филипп зашагал мимо столиков. Зашагал, нельзя сказать, чтобы очень медленно, но достаточно спокойно.
Алексис пошел за ним следом.
— Прости меня, — твердил он, — я вел себя очень глупо. Проявил слабость. Я должен бы уйти вместе с тобой. Я слышал, чем ты занимался, и горжусь тем, что когда-то был твоим другом.
Филипп ковылял, глядя прямо перед собой с таким видом, словно не слышал ни единого слова.
— Я готов сделать все, что ты скажешь, — умоляюще лепетал Алексис. — У меня много денег, и мне известно, что ваши люди в них очень нуждаются. Возьми их. Возьми их все.
Впервые за все это время, на лице Филиппа промелькнул какой-то интерес, и он задумчиво покосился на своего бывшего друга.
— На деньги можно купить ружья, — торопливо продолжил Алексис. — Все знают, что немцы торгуют оружием, хотя и очень дорого… Ты не смеешь отказываться от моего предложения, вне зависимости от того, что ты обо мне думаешь. Я хочу оказать хоть какую-то помощь. Возможно, что делать это уже слишком поздно, но я все же хочу помочь. В том числе и себе. Скоро начнутся бои, и я желаю сражаться. Забудь об этих трех годах. По крайней мере сейчас, хотя бы на время…
Филипп остановился. Холодно, без каких-либо признаков дружбы, он посмотрел в глаза Алексиса и сказал:
— Не так громко, месье.
— Прости меня.
— Немедленно уходите отсюда и отправляйтесь домой. Там и ждите.
— Ты придешь? — со счастливой улыбкой спросил Алексис.
— Возможно, — пожал плечами Филипп и мрачно улыбнулся. — Возможно, мы и придем.
— Я живу…
— Мы знаем ваш адрес. Прощайте, месье.
Не улыбнувшись и не протянув руки, Филипп зашагал прочь. Алексис следил за тем, как припадающий на одну ногу суровый крестьянин растворяется среди залитых солнечным светом ярких одежд, велосипедов и зеленых мундиров. Мысли об утраченной двадцатилетней дружбе причиняли ему боль, но в то же время он ощущал подъем и в нем проснулась надежда. Подобных чувств Алексис не испытывал вот уже много месяцев.
Вернувшись в свою квартиру, он принялся ждать.
— С этим господином… — начал Филипп с оттенком пренебрежительного изумления, указывающим на то, что этот штатский солдат когда-то был первоклассным актером. — Этот господин мне знаком.
Они появились в доме Алексиса после наступления темноты. Трое мужчин в сопровождении Филиппа. Это были невысокие, спокойные люди в потрепанной одежде. Однако, сидя напротив них в своей светлой, комфортабельной гостиной, Алексис чувствовал, что в каждом из его гостей таится смертельная опасность. Об этом говорили их обращенные на него откровенно изучающие взгляды.
— В начале оккупации, — продолжал Филипп, — он, впрочем, как и многие другие, стал служить немцам…
Алексис открыл, было, рот, чтобы выразить свой протест. Ему хотелось сказать, что он всего-навсего продолжал заниматься своим делом, поддерживая свет рамп на французской сцене. А в том, что спектакли с его участием посещали немцы, смертного греха он не видит. Алексис хотел объяснить этим людям, что его профессиональная деятельность не может идти ни в какое сравнение с коллаборационизмом в других сферах. Однако, взглянув ещё раз в эти холодные спокойные лица, он предпочел хранить молчание.
— И вот теперь, — продолжал Филипп с легкой сценической издевкой в голосе, — теперь, когда американцы уже в Ренне, этот господин вдруг испытал новый прилив патриотизма…
— Филипп, — не выдержал Алексис, — может быть, мне будет позволено высказаться за себя?
Один из посетителей кивком выразил согласие.
— Я совершил ошибку и теперь хочу её исправить. Я могу предложить деньги. Всё, что у меня есть. Я могу предложить себя, если от моей помощи может быть какая-либо польза. Больше мне сказать нечего.
Три человека посмотрели друг на друга. Филипп же повернулся ко всем спиной, сделав вид, что рассматривает рисунок Дерена на стене. Один из визитеров — видимо, главный — поднялся, подошел к Алексису и протянул ему руку. Другие ему улыбнулись. В их легких улыбках он заметил человеческую теплоту. Лишь Филипп по-прежнему отворачивался от него. Он не смотрел на бывшего друга даже тогда, когда тот принес из другой комнаты толстенную пачку банкнот и вручил их командиру. Ушел Филипп, не попрощавшись.
Когда в городе начались бои, и стрельба шла с баррикад, из окон и крыш, недавние визитеры позвали Алексиса, и он пошел с ними, одевшись в старый фланелевый костюм, в котором когда-то сиживал в дорогих гостиных в Каннах. Костюм был старым, но повязка на рукаве совсем новой. Повязка говорила о том, что её обладатель является бойцом Французских сил сопротивления. В забитой людьми комнате в доме недалеко от Мэрии, ожидая получения хоть какого-нибудь оружия и прислушиваясь к пока ещё редким автоматным очередям за окнами, он снова и снова поглядывал на знак признания на своем рукаве. Алексис чувствовал себя слишком старым для боя, и где-то в глубине горла у него комком засел страх. Он стыдился того, что на его рубашке выступили пятна нервного пота, но каждый раз, глядя на повязку, он ощущал благоговение и покой, которые почти снимали нервную дрожь и сдерживали бешеный бег крови по жилам.
Ему выдали четыре похожие на картофельную толкушку гранаты. Посмотрев, что с ними делают другие (он очень походил на кузена из провинции, случайно угодившего на званый ужин и внимательно следящего за тем, какими ножами и вилками пользуется хозяин), Алексис сунул гранаты за ремень.
Вошел Филипп, и в комнате воцарилась тишина. Филипп встал лицом к бойцам и тихим, ровным голосом произнес:
— В данный момент нам не следует вступать с ними в открытый обмен ударами. Мы будем их беспокоить, уничтожать, где можем, загонять в укрытия и пытаться держать их там, до тех пор, пока не придут американцы. Надо сделать так, чтобы за любое передвижение по Парижу им пришлось бы платить дорогой ценой. Нам следует экономить боеприпасы и беречь оружие. Я сожалею о том, что вооружить вас лучше у нас нет возможности. Каждый, кто чувствует, что недостаточно готов для того, чтобы вступить в бой, может спокойно удалиться… — с этими словами, он внимательно посмотрел на Алексиса, который машинально отбивал дробь пальцами на рукоятке гранаты.
Филипп подошел к нему и спросил:
— Месье, вы умеете обращаться с этим оружием?
— Я, мм… Не совсем.
Филипп извлек одну гранату из-за пояса Алексиса и показал, как следует её держать, как выдергивать кольцо и как бросать. Алексис поблагодарил его, а Филипп, обращаясь ко всем остальным, резко бросил:
— Итак, мы готовы…
Отряд тихо выскользнул в ночь.
Следующие два дня слились для Алексиса в бесконечную череду навязчивых и путаных сновидений. Все происходящее представлялось ему чем-то далеким от реальности: и резкий запах пороховой гари, и проносящиеся рядом с головой острые осколки каменных подоконников, и лающий звук немецких пулеметов, выискивающих свои жертвы, и то, как стоявший рядом с ним человек, вдруг упал с простреленными легкими, а он, Алексис, поднял его винтовку образца 1918 года и принялся палить в тучу пыли в ста метрах от себя, пытаясь попасть в убегающие серые фигуры. Столь же далекими от реальности казались ему бесконечные перебежки от одной баррикады к другой, от одного ствола дерева к другому. Страшным миражом представились ему неожиданно вывернувший из-за угла немецкий «Тигр» и грохот взрывающихся снарядов. Столь же нереальной показалась ему сцена, в которой один из снарядов угодил в стоящий на улице грузовик, и скрывающиеся под ним люди — мужчина и женщина — вдруг исчезли… Окружающие Алексиса мальчики были очень довольны действиями пожилого человека и ласково называли его «Папа». Мальчишки разразились восторженными проклятиями, когда где-то неподалеку от здания «Опера» брошенная им с третьего этажа граната попала в открытый люк танка. Страдая от жары, переутомления и страха, он время от времени испытывал приливы самоуважения. Алексис был изумлен тем, что под его шкурой «бульвардье» и актера оказалось так много солдатского. Лишь один Филипп говорил с ним холодно и профессионально. Он относился к бывшему другу без предвзятости, но в то же время не давал ему никаких поблажек. Алексис не возражал. Атакуя и отбивая атаки, укрываясь от неожиданной очереди с крыши и пробираясь с пересохшим горлом по залитым лунным светом улицам, он не мог думать ни о чем, кроме очередного немца, надежного укрытия или торопливом глотке вина, способным на миг утолить жажду и приглушить страх. Находясь так долго на ногах, Алексис умирал от усталости и мечтал о тихом месте, где можно было бы улечься и соснуть хотя бы часок…
Вскоре он оказался в обществе лишь одного Филиппа, поскольку семь человек из их группы отправились проверить сообщение о том, что чуть дальше по улице, примерно в половине квартала от них, в погребе виноторговца укрылась группа немцев. Филипп и Алексис стояли за чуть приоткрытой деревянной дверью и держали под контролем улицу.
Рядом с собой он слышал тяжелое дыхание Филиппа. Чтобы добраться до укрытия, им пришлось пробежать две сотни метров по открытому пространству, и засевшие на крыше немецкие снайперы успели произвести по ним два выстрела. Алексису казалось, что мир перед его глазами пребывает в каком-то странном многокрасочном круговороте, а собственное дыхание представлялось скрипом древней машины, остро нуждающейся в смазке. Опустившись на одно колено, Алексис прислонился лбом к дверной панели и почувствовал, как дерево стало скользким от выступившего на лбу пота. Остановив усилием воли вызванное изнеможением многоцветное вращение мира, он взглянул в сухое, иссеченное резкими морщинами лицо Филиппа. Увидев покрасневшие от бессонницы глаза бывшего друга, Алексис на миг вспомнил, как много лет тому назад они, освеженные ванной, в шелестящих шелковых халатах сидели друг против друга за завтраком. На столе дымил кофейник, перед ними лежали свежие газеты… Филипп тогда шутливо произнес: «…твоя жена изменяет тебе с итальянцем».
— Они двигаются слишком медленно. Слишком… — Филипп приоткрыл дверь чуть шире и следил за тем, как его патруль, прижимаясь к стенам домов, крадется в направлении винного погреба. — Надо заставить их шевелиться. Вопросительно взглянув на Алексиса, он спросил: — С вами все в порядке?
Собрав остатки сил, Алексис поднялся на ноги, выдавил подобие улыбки и ответил:
— Вполне. Если не считать того, что я, пожалуй, слишком стар для подобного рода упражнений.
— Хорошо, — сказал Филипп и выскользнул из дверей.
Через пять секунд после его ухода Алексис увидел, как из-за угла выкатился грузовик и на миг остановился в конце улицы. Это был большой армейский бронированный автомобиль с пулеметом, установленным над кабиной водителя. Борта машины со всех сторон щетинились стволами винтовок.
— Филипп!! — широко распахнув дверь, крикнул Алексис.
Филипп обернулся. Он, его люди, водитель машины и пулеметчик увидели друг друга одновременно. Французы побежали, а водитель включил передачу и, быстро набирая ход, бросил машину вслед за ними. Пулеметчик дал несколько коротких очередей, но тряска мешала ему целиться, и пули, не попав в цель, рикошетировали от мостовой у ног мчащихся к углу улицы Филиппа и его друзей. Там они надеялись найти хотя бы временное укрытие. Алексис бросил взгляд на Филиппа — сутулую, хромающую, нелепую фигуру, с винтовкой в руке.
Затем он выскочил из своего укрытия и побежал по улице с таким расчетом, чтобы оказаться рядом с грузовиком, когда тот будет катиться мимо. Некоторое время с машины его никто не замечал, и у него хватило времени на то, чтобы сорвать чеку с гранаты. Алексис бежал тяжело, почти тем же курсом, что и грузовик, однако чуть-чуть под углом к нему. Так бегут люди, намеривающиеся вскочить на подножку движущегося трамвая. Пулеметчик, наконец, увидел его и развернул ствол. Первая очередь прошла мимо, и Алексис продолжал молотить ногами, стараясь не выронить гранаты из потной ладони и не слыша ничего, кроме своего тяжелого дыхания. Солдаты в грузовике тоже увидели бегущего француза, и стволы винтовок обратились в его сторону. Выстрелов он почему-то не услышал, но зато услышал свист пролетающих мимо головы пуль. Одна из пуль ударила Алексиса высоко в плечо, он споткнулся, но, сумев чудом удержаться на ногах, заковылял на перехват приближающемуся грузовику. Пулеметчик развернул пулемет, и на сей раз Алексис услышал даже истерический стук бойка. В тот же миг что-то ударило его по голове, а рот заполнился кровью. Кровь имела какой-то странный привкус. По непонятной для Алексиса причине язык его перестал шевелиться, и проглотить кровь он не мог. Однако француз продолжал двигаться. И среди множества шумов — рева мотора, выстрелов, криков на немецком языке — ясно слышался размеренный стук его каблуков по камням мостовой. Расставленные в сторону руки помогали Алексису удерживать равновесие, а ноги, в некогда так прекрасно смотревшихся на средиземноморских пляжах, а теперь превратившихся в лохмотья фланелевых брюках, действовали самостоятельно, наподобие старинного музыкального автомата. Из ран на плече и голове лилась кровь, оставляя на мостовой темный извилистый след. На превратившемся в кровавую маску лице белела оголенная кость скулы, а один глаз, вывалившись из глазницы, висел на обрывках мышц. Другой, оставшийся целым глаз, он не сводил с грузовика. Когда машина оказалась рядом, Алексис вцепился рукой в дверцу кабины. Грузовик поволочил его за собой, а сидевший в кабине солдат стал бить прикладом по судорожно захватившим край окна пальцам. Со стоном, который издает толстяк, вцепившийся мертвой хваткой в ручку двери уходящего пригородного поезда, Алексис подтянулся и сунул гранату через борт грузовика в массу винтовок, мундиров, боеприпасов и бестолково вопящих людей…
Он упал на спину и вытянулся на мостовой. Откуда-то, как ему показалось, очень издалека до него донесся грохот взрыва. Каким-то совершенно непостижимым образом Алексис сумел сесть, чтобы полюбоваться плодами своей деятельности. Опрокинувшийся грузовик полыхал ярким пламенем. От него на метр-другой с трудом отползали фигуры в серых мундирах, но большая часть серых мундиров лежала неподвижно, а некоторые из них даже горели.
На том, что осталось от его лица, промелькнул призрак улыбки.
К нему медленно подошел Филипп. Алексис судорожно поднял руку, чтобы стереть кровь с единственного глаза и яснее увидеть своего друга. На какой-то миг он вспомнил о тысячах совместных выпивок, о красивых девицах, которых делил с другом, о путешествиях во время вакаций и о беспечных, веселых часах после завершения спектакля. Вспомнил он и о том дне, когда, чувствуя себя всего лишь отрешенным от сцены актером, решил согласиться на ту большую, постыдную и греховную роль… Он пробормотал что-то окровавленным ртом, сквозь раздробленные зубы, но слова захлебнулись в крови. Его единственный умирающий глаз смотрел на Филиппа, умоляя о прощении.
— Лежите спокойно, месье, — произнес Филипп, мягко, но без всякого тепла в голосе. — Мы уже послали людей за медицинской помощью.
Поняв, что даже в этот последний миг жизни, он не получил прощения, Алексис тоскливо уронил на грудь голову и опустился на разбитую, покрытую пятнами масла мостовую.
Ветераны вспоминают
Поезд весело катил по весенней долине. Отовсюду слышался колокольный звон, а паровоз то и дело издавал басовитые гудки. Вдоль реки тянулась гряда невысоких холмов. На деревьях уже появилась первая робкая зелень, и создавалось впечатление, что на пологие зимние склоны набросили потертое до дыр, зеленое бархатное покрывало.
Питер Уайли с мечтательным видом следил за тем, как за окном вагона убегает назад такая знакомая и столь милая сердцу долина Гудзона. Он улыбнулся, увидев, как при приближении поезда, стоящая у входа в фермерский дом маленькая девочка, принялась торжественно размахивать американским флагом. Машинист ответил на её салют длинным гудком.
Питер Уайли сидел у окна вагона торопящегося поезда, стараясь не слушать, о чем бубнит прехорошенькой даме сидящий через проход от него джентльмен. Питер устроился поудобнее, вытянул ноги и, полуприкрыв глаза, стал наслаждаться сельскими видами. Над зеленеющими просторами от одного городка к другому катился едва слышный колокольный звон. Колокола говорили о том, что этим утром кончилась война.
— …Погиб два года назад, — гудел джентльмен. — Их корабль ушел с Аляски, и больше вестей мы от него не имели. Ему тогда шел всего двадцать первый год. Вот его фотография в военном мундире.
— Он выглядит таким юным, — произнесла женщина.
— Да. У него на подбородке пробивалась светлая поросль, и он практически ещё не брился. Корабль пошел на дно за пятнадцать минут…
Колокола звонят, подумал Питер, а в могилах покоится множество одетых в мундиры мальчишек, которые так и не успели побриться. Два его кузена по линии матери погибли в Африке, а Мартина — человека, с которым он три года делил комнату, убили в Индии. А ребята из эскадрильи… Могилы, могилы, могилы… Могилы на равнинах. Могилы в горах. Могилы на островах, где в тверди кораллов можно выбить лишь неглубокую ямку. А на военном кладбище рядом с госпиталем прекрасно ухоженные могилы, которые так хорошо были видны из окна палаты. Питер припомнил тревожный шепот медицинских сестер в коридоре и торопливый мягкий каучуковый топот ног вбегающих в палату врачей.
— Весьма удобно, — произнес он, как ему казалось, с улыбкой, и сопровождая слова слабым движением руки в направлении окна. — Прекрасная современная планировка.
— О чем вы? — спросила палатная сестра, которая постоянно рыдала, укрывшись за ширмой. Плакать она переставала лишь в те моменты, когда подходила к кровати Питера.
Питер слишком утомился и, вместо того чтобы ответить, закрыл глаза. Умирающий человек, подумал тогда он, имеет право на подобную невежливость. Однако Питер не умер. На его животе всего лишь появилось похожее на тарелку плотное углубление, и он потерял способность наслаждаться едой. Кроме того, ему теперь до конца дней придется подниматься по ступеням крайне медленно. А ведь как раз сегодня, под этот звон колоколов ему исполняется двадцать девять лет.
Однако военное кладбище и могилы остались на своих местах, думал Питер, сидя у окна поезда, идущего по долине Гудзона. В них по-прежнему покоятся юнцы в мундирах, но ты сам скоро встретишься с женой и ребенком. Мертвые не встанут, хотя пушки уже молчат, самолеты отдыхают в ангарах, а летчики рубятся в карты и пытаются вспомнить телефоны девиц, которых когда-то оставили дома.
Ты едешь домой, чтобы увидеть жену и детей. Три года ты в одиночестве проводил бессонные ночи в чужих комнатах на разных континентах. Даже когда ты пил или смеялся в баре, тебе казалось, что все музыкальные автоматы, рыдая, наигрывают для тебя одну и ту же песню: так далеко и так давно, так далеко и так давно… Все эти годы женщины относились к войне крайне серьезно и в патриотическом порыве были готовы прыгнуть в постель к пилотам, штурманам, бомбометателям, бортинженерам, радистам, метеорологам и командирам эскадрилий союзных ВВС, включая Военно-воздушные силы русских.
Все три года во время бесконечных ночных полетов над Тихим океаном, с его валами, длиною в сотни миль, он видел перед собой лица жены и дочери. Иногда они возникали перед его взором даже в те моменты, когда после слов бомбометателя — «С этого места приступаем…» — самолет нырял вниз на цель, и вокруг него на темном небе начинали распускаться огненные цветы от взрывов зенитных снарядов. Он видел волевой, резко очерченный подбородок супруги, её живые голубые глаза и большой рот с пухлыми губами. Этот столь знакомый и такой любимый ротик имел способность постоянно меняться. Он мог быть веселым, сердитым и трагичным. Умел он мягко и с любовью показать, иногда, правда, с легкой издевкой, что его владелица понимает и прощает все, столь обожаемые ею, мужские слабости главы семейства. Перед ним вставал и образ дочери, которую он знал лишь по фотографии, присланной ему через океан. Дочь взирала на него из ночи строго и серьезно, так, как часто смотрят маленькие дети. Прошло три года, думал он, и вот завтра утром поезд втянется под своды старого, грязного чикагского вокзала, и жена с дочерью красивая женщина и слега полноватый, очаровательный ребенок — будут стоять рука об руку средь лязга и копоти, выискивая его взглядом среди других мужчин в военных мундирах. Шагая по платформе, он увидит на их лицах любовь и надежду — ту надежду, с которой они ждали его три бесконечных года.
— Дин-дон!! — орал изрядно подвыпивший маленький лысый толстяк. Он, не очень твердо держась на ногах, сопровождал пару дам в вагон-ресторан. Дин-дон!! Мы все-таки сделали это! Победили!
— Ты — псих! — выкрикнула блондинка, шагающая по проходу между креслами следом за плешивым. — Раззвонился в свой дурацкий колокол. А вы все, — обратилась она к пассажирам, — добро пожаловать в Америку!
— Мы применили принцип дробилки, — вещал толстяк на весь вагон. Вечный принцип стальной пружины. Сжимались, сжимались, сжимались, а затем…
Конца фразы Питер не расслышал, так как троица скрылась за выступом, с надписью на двери: «Для женщин».
А на противоположной стороне океана в совсем иной горной стране из затемненного дома вышел какой-то человек и двинулся к длинному, бронированному автомобилю, ожидающему его на пустынной, ночной дороге. Следом за ним торопливо шагали двое в армейских шинелях, их сапоги негромко чавкали на влажной почве. Шофер держал дверцу машины открытой, но вместо того, чтобы сразу усесться, человек задержался около автомобиля, обернулся и взглянул на горы, возвышающиеся темной стеной на фоне звездного неба. Он не очень уверенно поднес руку к воротнику, чуть-чуть оттянул его и глубоко вздохнул. Двое в шинелях, не поднимая глаз на горы, ждали в тени дубов, покрытых юной, лениво шевелящейся под легким ветром листвой. Затем человек повернулся и медленно залез в машину — медленно и очень осторожно, так как это делает старик, который недавно падал и который знает, что кости его стали хрупкими и плохо срастаются. Двое военных быстро впрыгнули на передние сиденья, шофер захлопнул заднюю дверцу, обежал машину, занял свое место и включил мотор. Автомобиль ровно покатился вниз по ночной дороге, лишь негромким шумом мотора попрощавшись с темным домом. Скоро и этот шум растворился в глубокой тьме горной, весенней ночи.
Человек на заднем сиденье держался прямо и неподвижно, устремив в пространство перед собой невидящий взгляд. Где-то наверху, не переставая, звонил колокол. Его мелодичный и такой одинокий звон отражался эхом от темных холмов. Человек в автомобиле услышал колеблющийся звук деревенского колокола, и его губы тронула легкая, чуть горькая улыбка. Да, это немцы! Их погибло уже более пяти миллионов, русские, идут на Берлин, а вожди Германии вынуждены тайно, темными, глухими тропами в сопровождении испуганного шофера и пары дрожащих от страха лейтенантов пробираться к швейцарской границе. Дела обстоят гораздо хуже, чем в 1918 году, а немцы звонят в колокола так, словно сегодня капитулировала Франция. Немцы! Идиоты! Костюмы из эрзац ткани, эрзац каучук, эрзац яйца и, в конечном итоге, эрзац люди… Что можно получить из подобного материала? В ведь мы были почти у цели, почти у цели… Стояли у ворот Москвы. Но враг не пошатнулся. Монумент остался на своем пьедестале. Все остальные бежали. Бежали дипломаты. Бежали журналисты. Бежало правительство. Лишь Сталин остался на месте. И вместе с ним остался народ… Деревенщина. Остался в горящем доме со своим дробовиком и своим плугом. Но каким-то непостижимым образом дом не сгорел. Штурмовые отряды, гвардия, ветераны блицкригов стояли у ворот Москвы и погибли. Чуть похолодало, и они поникли, как оранжерейные фиалки. А ведь мы были почти у цели. Почти у цели…
Колокол зазвонил громче, и ему ответили колокола других деревень.
Теперь, если они его поймают, ему не миновать виселицы… Англичане, когда вешают аристократов, используют шелковый шнурок. На него они шелк тратить не станут…
Он наклонился и резко ткнул в спину шофера.
— Быстрее.
Машина рванулась вперед.
— Производство, — гудел джентльмен на противоположной стороне прохода, обращаясь к миловидной женщине, которая, склонившись к нему, олицетворяя собой уважительное внимание. — Победа была неотвратима. Войну выиграла американская промышленность.
Питер подумал о бесчисленных могилах и о лежащих в них англичанах, китайцах, австралийцев, русских, сербах, греках и американцах, которые не щадя себя сражались с винтовками в руках на выжженных полях и в искалеченных войной лесах, в самолетах, или стреляя из орудий. Они легли в могилы, питая иллюзию, что если война и будет выиграна, то выиграют её они. Для этого надо лишь стоять насмерть с раскаленным автоматом в руках, не обращая внимания на разрывы снарядов вокруг, рев самолетов над головой и грохот танков, надвигающихся на них со скоростью пятьдесят миль в час…
— Я это точно знаю, — продолжал джентльмен, — так как пробыл в Вашингтоне с 1941 года до самого конца. Сам я занимаюсь машиностроением и имею возможность держать руку на пульсе индустрии. Поэтому точно знаю, что говорю. Мы творили чудеса.
— Не сомневаюсь, — пробормотала миловидная женщина. — Совершенно в этом уверена.
Она была не столь молода, как показалось Питеру с первого взгляда, а её одежда была изрядно потерта. Дама выглядела усталой, и складывалось впечатление, что она уже вполне созрела для того, чтобы принять приглашение на ужин.
— …заводы в семи штатах, — не унимался мужчина. — Мы увеличили свое производство на четыреста процентов. Теперь, когда война кончилась, я могу об этом говорить открыто…
Война кончилась, с наслаждением подумал Питер. Усевшись поудобнее, он откинулся на спинку кресла, позволив голове подрагивать в такт стука колес. Война кончилась, промышленник, который расширил свое производство на четыре сотни процентов, получил возможность рассказывать об этом красивой женщине в пульмановском вагоне, а я завтра увижу жену и дочь. Никогда в жизни я больше не влезу в самолет. Если мне придется куда-нибудь отправиться, я пойду на вокзал, куплю билет, чтобы путешествовать в удобном кресле, потягивая виски с содовой, и с журналом в руке. Колеса будут постукивать на стыках стальных рельс, уложенных на надежных подушках из гравия, а единственным проявлением вражеской деятельности станут попытки какого-нибудь мальчишки запустить камнем в сверкающие окна вагона-ресторана проносящегося мимо поезда. Уже завтра после полудня он будет неспешно прогуливаться по набережной в обществе жены и дочери. «А это, милая, озеро Мичиган. Ты знаешь, откуда приходит водичка в твою ванну по утрам? Прямо отсюда. Специально для тебя. Когда твой папа был маленьким мальчиком, он часто стоял на этом месте и наблюдал за тем, как индейцы плавают на своих боевых каноэ со скоростью сорок миль в час, выкрикивая при этом, что есть мочи, стихи Генри Уодсурота Лонгфелло[5].По глазам твоей мамочки я вижу, что она мне не верит и желает мороженного с содовой водой. Её глаза, правда, говорят и том, что мороженное так скоро после ленча тебе давать не следует. Однако твоя мамочка не знает, что я три года мечтал о том, как угощу тебя мороженым. Думаю, что теперь, когда война кончилась, она не станет поднимать из-за этого шум…»
А завтра ночью они будут расслаблено лежать в мягкой постели, бездумно и лениво уставившись в потолок. Её голова будет покоиться на его руке, а их шепот смешается с шумами спящего города: отдаленным звоном сцепок и стуком колес на сортировочной станции рядом с озером, и мягким шелестом пролетающих по скоростному шоссе автомобилей…. «В Каире, в Египте мне пришлось спать в одной кровати с парнем из Техаса, который весил двести тридцать фунтов. Парень мечтал поступить на флот, но рост у него был шесть футов шесть дюймов, и ему сказали, что он не поместится как ни на одном из действующих судов, так и на тех, что строятся. Кроме того, он был влюблен в девицу, с которой познакомился в Нью-Йорке — она торговала перчатками в „Саксе“[6] — и о которой толковал все ночи напролет. Теперь мне известно, что объем бюста у неё тридцать шесть дюймов, живет девица в районе „Гринвич виллидж“ в одной квартире с шестью выпускницами Вассара[7], а на правой ягодице у неё шрам длинной шесть дюймов, который она получила, упав на катке. Какой-то мужчина на беговых коньках не сумел вовремя затормозить. Сейчас, надо сказать, мое положение гораздо лучше, чем тогда в Каире в одной постели с техасцем весом в двести тридцать фунтов. А теперь я тебя поцелую, если не возражаешь…».
Он услышит голос, что-то шепчущий ему в ухо в ласковой темноте ночи, дышащей свежим ночным ветерком с озера, знакомый аромат духов и едва уловимый, сухой запах её волос, который хранился в его памяти эти три года… «Когда я дежурила в госпитале, она весь день проводила в детском саду в Тусоне. Там её все очень любили, но у неё появилась склонность колотить лопаткой других маленьких мальчиков и девочек. В итоге мне пришлось поручить её заботам сестры. Перестаньте смеяться, мистер ветеран, или я заткну вам рот подушкой. Вам легко хохотать, поскольку вы летали в десяти тысячах миль отсюда, и у вас не было никаких забот, кроме япошек и немцев. Хотела бы я взглянуть на вас, мистер ветеран, если бы вы были матерью, а семь юных мамаш налетают на вас, чтобы сообщить, что ваше дитя ежедневно колотит их отпрысков деревянной лопаткой….». За этими словами следует поцелуй, после которого её головка снова оказывается у него на груди. Посмеявшись немного над дочерью, которая спит в соседней комнате, и, наверное, видит во сне других детей и множество деревянных лопаток, они постепенно стихают. Однако проходит совсем немного времени, и он снова чувствует ищущее прикосновение ладони к своей груди. «У тебя грудь более волосатая, чем я помню.»
«Была война, а я во время войны всегда накладываю на грудь дополнительные волосы. Ты возражаешь?»
«Нисколько. Я всегда славилась, как женщина, обожающая волосатых мужчин. Но, может быть, тема нашей беседы кажется юному солдату слишком вульгарной? Как, по твоему, я очень сильно растолстела? С 1942 года я набрала восемь лишних фунтов. Ты заметил?»
«Теперь замечаю.»
«Я стала очень жирная?»
«Хммм…»
«Говори правду.»
«Хммм…»
«Я сажусь на диету.»
«Отлично. Потерпи немного, пока я схожу вниз и притащу тебе тарелку картофельного пюре…»
«Заткнись! О, родной, как же я рада, что ты вернулся!»
Впрочем, не исключено, что вначале они вообще не будут разговаривать. Возможно, что они просто возьмут друг друга за руки и, прижавшись щекой к щеке, станут оплакивать три потерянных года. Затем они так же молча будут думать о тех долгих годах, которые ждут их впереди. Всю эту длинную и холодную ночь они, не промолвив ни слова будут держать друг друга в объятиях. Затем они отправятся в Висконсин на ферму его родителей, чтобы под лучами утреннего солнца бродить рука в руке по зеленеющим полям. Их ноги будут утопать в мягком суглинке, и они оба будут вполне удовлетворены первыми часами, исполненными любви и молчания. И первые слова придут лишь после того, как они сядут рядом одни одинешеньки, под мирным синим небом, наслаждаясь духом только что вспаханной земли и запахом реки, напоминающим аромат арбуза.
…Те вещи, о которых он думал долгими часами полетов, те замыслы и сомнения, которые терзали его во время бесконечных военных ночей, все громче и громче звучали в его душе по мере того, как поезд сокращал расстояние между войной и домом. Он расскажет ей и о тех вещах, которые был вынужден похоронить в себе на все эти три громовых и кровавых года…О тех моментах, когда он испытывал смертельный страх… В первый раз это случилось, когда на горизонте появилась эскадрилья вражеских самолетов безобидные точки, становившиеся с необычайной быстротой все больше и больше. Он расскажет ей о том, как его ранили. Это случилось, когда машина находилась в шести часах полета от базы. Он лежал, истекая кровью, на парашютах, а Деннис тащил самолет домой. Первые четыре часа он ухитрялся молчать, но зато последние два провел в рыданиях. Плакал он почти механически, поскольку в глубине души оставался совершенно спокойным. В то время, когда его самолет болтался в холодном небе, он, будучи уверен в том, что все равно умрет, впервые позволил себе подумать о смысле происходящего. Он расскажет ей о мыслях, сверливших его мозг все шесть долгих часов полета. Она услышит от него о тех мальчишках, которые беззаботно устремлялись в небо со скоростью четыреста миль в час и которые столь же легко и беззаботно — или, по крайней мере, молча — умирали… Она узнает, как её муж с пулей в брюхе, зная, что умрет, трезво все взвесил и решил игра стоит свеч, и если бы ему все пришлось повторить, он снова оставил бы дом, жену, ребенка, мать, отца и страну, чтобы ещё раз поймать своим телом вылетевшую откуда-то из облаков немецкую пулю, чтобы разделить чудовищные страдания и беззаветную отвагу тех парней, которые повсюду — на море, на островах и в горах встали вместе с ним плечом к плечу против общего врага. И в тот момент, рыдая и находясь, как он считал, на пороге смерти, можно было дать волю своим чувствам… С затуманенным от боли сознанием, он рушил те тайные барьеры, которые мешали ему признаться даже самому себе в том, насколько сильно он любит всех этих взявшихся за оружие людей. Всех, без исключения. Своих школьных друзей, хладнокровно атакующих вражеские бомбардировщики, несмотря на то, что снаряды и пули рвут крылья истребителей. Ему были дороги приятные в обращении англичане, так отчаянно и глупо верящие в неуязвимость своих кораблей и ведущие их в заведомо проигранное сражение с той же самоуверенностью, с какой водили свои парусники их предки из романов. Не менее дороги были ему вооруженные одними ружьями, одетые в юбки китайцы, твердо вставшие на коричневой китайской земле, чтобы вступить в безнадежный бой с танками. Любил он и огромных, укутанных в теплые одежды русских, сражающихся днём и ночью, в стужу и дождь, убивающих врагов неутомимо, неумолимо и хитро; русских, которым неведомы муки сомнения и одержимых одной мыслью — истребить врага любым способом — сжечь, изуродовать, уморить голодом… Он теперь сможет сказать ей, насколько сильно в глубине сердца любил всех этих окровавленных, усталых, жестоких, но таких надежных людей, как он чувствовал себя, оказавшись частью вала, состоящего из этих беспечно встречающих смерть людей. Да, эти люди знали поражения, они мучились, терпели боль, их часто вели в бой безответственные, преследующие ложные цели вожди, но насколько все они — смертельно опасные, шумливые и нераздельные были лучше, чем эти вожди. Жена поймет, насколько тесно сплелись его и их жизни, поймет, что эти люди стали ему ближе, чем отец и мать, хотя он и не говорит на их языках. Он скажет ей, что несет ответственность за их покой и боевую славу, точно так же как они — за его славу и покой. Расскажет он ей и о том холодном подъеме духа, который он, несмотря на боль, испытывал, погружаясь в эти мысли, проводя этот финальный анализ. Ведь раньше в своих мыслях он никогда не выходил за рамки повседневной жизни обитателя маленького городка. О чем мог размышлять обыватель, сидящий с девяти утра до пяти вечера за рабочим столом в офисе, проводящий ночи в комфортабельной спальне тихого дома, посещающий дважды в неделю кинотеатр, играющий по субботам в теннис и беспокоящийся лишь о том, выдержит ли его автомобиль ещё год или нет…
Длинная бронированная машина катилась по извивающейся между холмов дороге вниз в направлении швейцарской границы. Немолодой мужчина с прямой, как палка спиной, по-прежнему неподвижно сидел на заднем сиденье автомобиля, уставив невидящий взгляд чуть прищуренных глаз в лишь одному ему известную даль.
Победы… думал он. Сколько побед можно ожидать от одного человека? Париж, Роттердам, Сингапур, Афины, Киев, Варшава — а они всё продолжают наступать… Числу побед, которые способен одержать один человек, имеется предел. Наполеон тоже открыл для себя эту аксиому… Наполеон… Наполеон… Ему смертельно надоело слышать это имя, и недавно он приказал, чтобы в его присутствии никто не смел упоминать об этом человеке. И вот теперь все принялись охотиться на него. Создается впечатление, что мир населяют лишь собаки-ищейки. Немцы, англичане, русские, американцы, австрийцы, поляки, голландцы, болгары, сербы, итальянцы… Что же, у них на то имеются причины. Дураки. Довольно долго дела шли, как по маслу. Города падали к нашим ногам, словно гнилые яблоки. Но затем Америка и Россия… Время было выбрано не совсем точно. В политике события проистекают раньше расчетного времени, а в войне, напротив, все запаздывает… Так близко к победе… Так близко… Русские… Если бы удалось сохранить равенство, то колокола звонили бы сегодня по иному поводу… Если бы не русские… И почему случилось так, что именно та зима стала самой холодной за последние пятьдесят лет? Да, во всяком деле, видимо, должен присутствовать элемент везения. Но если взять в целом, то карьера его складывалась весьма удачно. А ведь начал он из ничего. Отец тогда постоянно орал, что его сын — ничтожество и никогда не получит приличной работы… Теперь же его имя известно во всех уголках земного шара, включая джунгли… В результате его деятельности тридцать миллионов людей умерли преждевременно, сотни городов были сравнены с землей. От него зависело благосостояние целых народов. Рудники, заводы, фермы… Итак, если учитывать все обстоятельства, то его карьеру, вне сомнения, можно признать удачной. Даже отец был бы вынужден с этим согласиться. Однако следует признать, если бы он не сумел ухватиться за случай первым, за него ухватились бы другие, и все произошло бы без его участия. Не признать этого нельзя. Но он все же оказался первым, и имя Гитлер, а не какое-то иное, стало известно всем обитателям земли. Так близко от победы… Так близко…
…Чуть подморозило, и они стали умирать. Идиоты! А теперь они желают его повесить. Если удастся перебраться через границу и залечь на дно… До тех пор пока всем не надоест убивать немцев. Что ни говори, а Наполеон все же вернулся с острова Эльба. Сто дней. Если бы ему тогда немного повезло, он сумел бы удержаться… Наполеон… Его имя упоминать запрещено… Очень скоро они начнут беспокоиться по поводу русских. Русские, русские… Их армии были истреблены, они гибли миллионами… И несмотря на это, сегодня они идут на Берлин. Союзникам потребуются люди, способные остановить русских, и если ему удастся укрыться на несколько месяцев, его имя снова всплывет… Вернувшись, он прежних ошибок не повторит. И если ему хотя бы немного повезет…
Пожилой человек в бронированной машине расслабился, откинулся на мягкую спинку заднего сидения, и на его покрытых трещинами губах промелькнула едва заметная улыбка.
— Я дал интервью «Вашингтон пост», — громко загудел джентльмен, прервав мечтательные размышления Питера. — Это случилось перед моим уходом с поста. Я тогда заявил им без всяких экивоков: производство сокращать нельзя.
Питер рассеяно посмотрел на шумливого джентльмена. Это был высокий, тучный человек с лысым черепом. Несмотря на возраст, какими-то неуловимыми чертами толстяк напоминал Питеру тех любимчиков учителей, которые постоянно водились в его классе в то время, когда он ещё обучался в средней школе. Розовощекая, жирная физиономия. Крошечный ротик с пухлыми и вечно самодовольными губами. Постоянное желание поразить всех своими познаниями и продемонстрировать, каким успехом пользуется он у преподавателей. Питер закрыл глаза и улыбнулся, представив, как будет выглядеть толстяк в рубашке с крахмальным итонским воротником и с галстуком бабочкой.
— Остановите машину на день, — говорил мужчина, — и через месяц вы уже будете плестись в хвосте. Нравится нам это или нет, но мы уже настроены на военное производство.
— Вы абсолютно правы, — пробормотала красивая дама.
Питер в первый раз посмотрел на неё внимательно. Её одежда была изрядно поношена, и у неё самой был измученный вид. Ему даже казалось, что такой же потертый вид имеет весь континент, как будто война выпила все соки из его обитателей, заставляя их денно и нощно трудиться без сна и отдыха… Любимец школьных учителей напротив сиял здоровьем и лучился радостью так, словно шагнул в этот изрядно постаревший мир прямо из 1941 года.
— Лишних пушек никогда ни у кого не было, заявил я им прямо в лицо.
— Вы совершенно правы, — промямлила красивая дама.
— Мой сын утонул неподалеку от Аляски…
Питер напрягся, уловив в голосе толстяка хвастливые нотки. Слова розовощекого джентльмена прозвучали так, словно он сообщал о том, что его приняли в клуб для избранных.
— Мой сын утонул у берегов Аляски, я производил машины круглые сутки семь дней в неделю и имею право высказаться. Перед нами стоит серьезная проблема, сказал я им, и мы должны смотреть правде в глаза. Нам ещё придется столкнуться с ними…
— Да, — пролепетала красивая дама, мечтая под стук колес о хорошем ужине.
А Питер принялся мечтать о том, как станет вечерами после ужина неторопливо расхаживать по огромной деревенской кухне, теплый воздух которой наполнен густыми вкусными ароматами. Рядом с ним будут мама, как всегда раскрасневшаяся и в фартуке, и отец, дымящий своей вечной пятицентовой сигарой… В сумерки он будет бродить бок о бок с Лаурой по разбитой фургонами проселочной дороге, зная, что ему никуда не надо торопиться, что он может сколь угодно долго следить за тем, как на пологие холмы опускается ночь, и слушать последний вечерний концерт птиц. Он будет лениво передвигать ноги по пыльной дороге, не знакомой с гусеницами танков и не ведавшей запаха крови. Он расскажет Лауре о всем лучшем, что случилось с ним в этом безумном и жестоком веке. Он скажет жене, что самым счастливым событием в его жизни был тот краткий миг, когда он шел к ней по платформе чикагского вокзала, поняв окончательно и бесповоротно, что война закончилась. Он расскажет ей и о смертельной усталости, о том как отказывалось служить тело и сдавали нервы, когда казалось, что нет такой силы, которая может заставить тебя двигаться, а исход войны — победа или поражение — не имел никакого значения. Но, несмотря на это, самолеты должны были летать, за пулеметами должны были находиться стрелки, а усталый мозг и лишенное сил тело были обязаны принимать мгновенные решения, от которых зависела жизнь… И он летал, стрелял и принимал решения только потому, что знал — на других фронтах ещё более отчаявшиеся и гораздо более усталые люди принимают решения, стреляют и летают в небе более опасным, чем то, в которое поднимался он. Жена узнает и о том обете, который дал её супруг. Он поклялся, что, если вернется домой, то, окруженный любовью и заботой близких, никуда не будет спешить, никогда сознательно не пойдет на насильственное действие, ни с кем не станет спорить и будет повышать голос, лишь хохоча или распевая… На старую работу он не вернется. Протирание штанов с девяти утра до пяти вечера за письменным столом в банке — не самый лучший венец карьеры для человека, проливавшего свою и чужую кровь на высоте тридцать тысяч футов над тремя континентами. Не исключено, что Лаура подскажет ему, чем можно будет заняться. Это должна быть тихая, неторопливая и не требующая больших умственных усилий работа.
…Однако вначале он предастся полному безделью. Будет слоняться по ферме, учить дочку правильно писать слова и слушать пространные объяснения отца, почему тот предпочитает свою систему севооборота, а не рекомендуемую, и почему проводит сев собственными методами. Возможно, через три, пять месяцев, а, может быть, и года подобной жизни усталость пройдет, воспоминания о крови погаснут, а его искалеченная душа распахнет для него двери военного госпиталя, чтобы он твердой ногой мог ступить в мир. Для этого он готов потратить столько времени, сколько потребуется…
— Мы лишь приступаем к делу, — гудел розовощекий джентльмен. — Пусть себе звонят в колокола, если их это радует. Однако уже завтра утром…
— Да, — пискнула красивая дама, готовая заранее согласиться со всем, что он скажет.
— Мы должны смотреть фактам в глаза. Бизнесмен всегда смотрит фактам в глаза. Итак, каковы же факты? Во-первых, русские уже в Берлине. Так?
— Да, — ответила дама. — Конечно.
— Берлин. Прекрасно. Этого избежать нельзя. Русские сидят в Европе…
Питер попытался закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы вернуться к дорогим сердцу мечтам о проселочной дороге в сумерках, об идущей рядом с ним жене, о пыли, не ведавшей запаха крови. Но голос джентльмена прорывал все барьеры, и Питер не мог не слушать.
— Как бизнесмен я вам заявляю: мы попали в нетерпимое для нас положение, — голос розовощекого любимца учителей звучал все громче. Положение совершенно невыносимое. И чем скорее мы это поймем, тем лучше. Если смотреть в самую суть, то война, которая закончилась, была делом вовсе не плохим. Она высвечивает реальную проблему, стоящую перед американцами. Позволяет нашему народу рассмотреть настоящую опасность. Чем мы обязаны встретить эту опасность? Только производством! Пушки и снова пушки! Мне плевать, что говорят эти коммунисты в Вашингтоне. Я заявляю: война только начинается!
Питер тяжело встал со своего места и подошел к розовощекому.
— Убирайся отсюда, — сказал он, стараясь говорить, как можно спокойнее. — Убирайся отсюда, но прежде заткнись, или я тебя убью.
Джентльмен поднял на Питера удивленный взгляд. Его крошечный ротик дважды открылся и дважды без слов закрылся. Но бесцветные глаза уже смотрели в усталое, изможденное лицо Питера со злобной внимательностью. Затем джентльмен пожал плечами, поднялся и, протягивая руку даме, произнес:
— Пойдемте. Кстати, мы можем и перекусить.
Красивая дама испуганно встала со своего места и неуверенной походкой направилась к дверям.
— Если бы не ваш мундир, — громко сказал джентльмен, — я бы добился того, чтобы вас арестовали.
— Убирайся отсюда! — сказал Питер.
Джентльмен резко повернулся и заспешил вслед за спутницей в направлении вагона-ресторана. Питер сел на свое место, ощущая на себе взгляды всех пассажиров. Он был огорчен тем, что для него так быстро нашлось занятие на несколько лет. Однако это дело откладывать нельзя. Хорошо хоть то, что ездить для этого никуда не придется.
Машинист дал гудок, хотя перед поездом лежали десять миль ровного, свободного пути. Паровоз радовался тому, что войне пришел конец. Слушая этот громкий, триумфальный рев, Питер закрыл глаза и попытался думать о жене и дочери, которые утром будут ждать его на перроне шумного чикагского вокзала…
Обитель страданий
— Скажите, что её хочет видеть мистер Блумер, — произнес Филип, вытянувшись со шляпой в руках перед элегантным портье. У служащего гостиницы были на удивление белые руки.
— Мисс Герри, вас желает видеть некий мистер Блумер, — сказал портье. Эта простая фраза прозвучали весьма элегантно. Произнося её, портье смотрел сквозь чисто выбритое, простоватое лицо Филипа вдаль, в глубину роскошного вестибюля.
Из телефонной трубки до слуха Филипа доносились все модуляции знаменитого голоса.
— Кто такой, дьявол его побери, этот самый мистер Блумер? — ласково поинтересовался знаменитый голос.
Филип, испытывая неловкость, стеснительно повел под пальто плечами, а его торчащие из-под растрепанной шевелюры уши деревенского мальчишки залились краской.
— Я все слышал, — сказал он. — Передайте ей, что меня зовут Филип Блумер, и что я написал пьесу «Обитель страданий».
— Это некий мистер Филип Блумер, — томно протянул портье, — и он утверждает, что написал пьесу. Какую-то «Обитель страданий».
— Он что, явился сюда лишь для того, чтобы поделиться со мной этой новостью? — прогудел в трубке роскошный низкий голос. — Передайте ему, что с его стороны это очень мило.
— Позвольте мне с ней поговорить, — сказал Филип, выхватывая трубку из бледной руки служителя гостиницы. — Хэлло, — произнес он, дрожащим от смущения голосом. — Я — Филип Блумер.
— Как вы поживаете, мистер Блумер? — произнес полный очарования голос.
— Мисс Герри, речь идет о моей пьесе, — Филип пытался как можно скорее добраться до сути и выпалить подлежащее, сказуемое и дополнение, прежде чем она бросит трубку. — Название пьесы: «Обитель страданий».
— А портье, мистер Блумер, сказал, что пьеса называется «Какая-то обитель страданий».
— Он ошибся.
— Он — болван, этот ваш портье, — сказал очаровательный голос. — Я говорила ему это наверное тысячу раз.
— Я заходил в контору мистера Уилкса, — произнес, потерявший всякую надежду, Филип. — И там мне сказали, что рукопись все ещё у вас.
— Какая ещё рукопись? — спросила мисс Герри.
— Да, «Обитель страданий»! — выкрикнул Филип, чувствуя, что уже начинает потеть. — Когда я принес её в контору мистера Уилкеса, то предложил вас на главную роль и попросил переслать рукопись вам. Один человек из Театральной гильдии хочет на неё взглянуть, и я решил, что вы сможете мне вернуть рукопись, поскольку она у вас уже больше двух месяцев.
На противоположном конце провода воцарилась тишина. Очаровательный голосок, видимо, решил взять короткую передышку.
— Почему бы вам ни подняться ко мне, мистер Блумер? — сказала, наконец, мисс Герри несколько призывным, но, тем не менее, преисполненным целомудрия тоном.
— Хорошо, мэм, — ответил Филип.
— Номер 1205, сэр, — сказал портье, осторожно приняв из рук Филипа трубку и нежно водрузив её на пьедестал.
Войдя в кабину лифта, Филип нервно взглянул на свое отражение в зеркале, поправил галстук и попытался пригладить волосы. Мистер Блумер был действительно очень похож на деревенского парнишку, работающего подручным на молочной ферме. Впрочем, судя по его виду, нельзя было исключить и того, что он пару лет проучился в сельскохозяйственной школе. Филип, по мере возможности, избегал контактов с театральным миром, поскольку знал — никто, увидев его, не поверит, что человек с подобной внешностью способен что-нибудь сочинять.
Покинув лифт, он прошагал по покрытому мягким ковром коридору до номера 1205. К металлическим дверям номера при помощи магнита был прикреплен листок бумаги. Филип собрался с духом и надавил на кнопку звонка.
Дверь ему открыла сама мисс Адель Герри. Она появилась перед ним высокая, темноволосая, благоухающая и такая женственная, в дневном туалете, открывающим взору не менее квадратного ярда пышной груди. Глаза мисс Герри сияли темным огнем. Этот огонь, пылавший во многих, сыгранных ею сценах, всегда приводил в восхищение таких знатоков театра, как Брукс Аткинсон, Мантл и Джон Мейсон. И вот теперь она стоит на пороге, обратив на него задумчивый взгляд. Ладонь её лежит на дверной ручке, волосы свободно закинуты назад, чуть-чуть на одну сторону.
— Я — мистер Блумер, — сказал Филип.
— Почему бы вам ни зайти ко мне? — спросила она ласковым голосом, призванным успокоить деревенского парнишку — подручного на молочной ферме, и полностью отвечающим этой задаче.
— На ваших дверях — какая-то записка, — сказал Филип, безмерно радуясь тому, что у него оказалась наготове хотя бы одна фраза.
— Благодарю вас, — ответила она, снимая с металлических дверей бумажку.
— Видимо, послание от тайного вздыхателя, — с улыбкой сказал Филип. Неожиданно для самого себя, он решил проявить светскость, тем самым объявляя войну юному деревенскому увальню и уничтожая подручного на молочной ферме.
Мисс Герри подошла с листком к окну, пробежала её глазами, поднеся ей близко к носу, как делают близорукие. Казалось, что она всем своим прекрасным телом тянется к начертанным в послании словам.
— Это — меню, — сказала она, бросая листок на стол. — Сегодня у них на ужин тушеный ягненок.
Филип на мгновение закрыл глаза в надежде на то, что когда он их снова откроет, мисс Герри, комната, да и весь отель исчезнут.
— Почему бы вам ни присесть, мистер Блумер? — сказала мисс Герри.
Он открыл глаза, промаршировал через всю комнату и уселся с прямой спиной на краешек золоченого креслица. Мисс Герри примостилась на диване и сделала это, надо сказать, весьма живописно. Она уселась на диван с ногами, согнув, как маленькая девчонка, колени. Её рука вытянулась вдоль невысокой спинки дивана, а холеные ноготки стали выстукивать на ней, какой-то замысловатый ритм.
— Знаете, мистер Блумер, — произнесла она с очаровательной игривостью в голосе, — вы совсем не похожи на драматурга.
— Знаю, — мрачно ответил Филип.
— У вас такой здоровый вид.
— Знаю.
— Но вы, тем не менее, драматург? — чтобы придать интимность беседе, она чуть наклонилась вперед, и Филипу лишь ценой больших усилий удалось оторвать трепетный взгляд от её декольте. Похоже, что эта роскошная грудь станет главной помехой в нашей беседе, подумал он.
— О, да, — ответил он, упорно глядя поверх её плеча. — Да, конечно. И, как я вам уже сказал по телефону, я пришел для того, чтобы забрать свою пьесу.
— «Обитель страданий»? — с небольшой заминкой, произнесла она, вскинув головку. — Какое милое название! Впрочем, довольно необычное для человека с таким завидным здоровьем.
— Да, мэм, — ответил Филип, стараясь держать голову прямо и смотреть вдаль.
— Как мило, что вы в связи с ней подумали обо мне, — сказала мисс Герри и ещё сильнее наклонилась вперед. Её полные благодарности глаза горели таким огнем, что, без сомнения, могли бы залить светом даже третий ряд верхнего яруса самого большого театра.
— Последние три года я практически находилась на покое. Я даже решила, что Адель Герри уже никто не помнит.
— Нет, нет. Это вовсе не так, — галантно произнес Филип. — Я вас прекрасно помню, — добавил он, понимая, что говорит совсем не то, что требуется, и опасаясь, что все, что он скажет дальше, будет ещё хуже.
— Театральная гильдия намерена поставить вашу пьесу, мистер Блумер? благосклонно поинтересовалась мисс Герри.
— Нет. Этого я не говорил. Я просто сказал одному знакомому из Гильдии, что неплохо было бы разослать её по театрам, и, поскольку она у вас уже два месяца…
Светившийся в глубоких глазах мисс Герри интерес слегка померк.
— У меня нет экземпляра вашей пьесы, мистер Блумер. Она у моего постановщика, мистера Лоуренса Уилкса. — Мисс Герри улыбнулась Филипу, несмотря на то, что при улыбке морщинки на лице становились заметнее, и добавила: — Мне было очень интересно встретиться с вами. Я постоянно стараюсь следить за приливом в театр новой крови.
— Благодарю вас, — промямлил Филип, ощущая при этом, как ни странно, какой-то восторг.
Лучистые глаза мисс Герри смотрели прямо на него, и он чувствовал, как его взор, видимо, будучи не в силах выдержать это сияние, все время стремится опуститься на её грудь.
— Да, я знаю мистера Уилкса, — сказал он очень громко. — Я видел множество спектаклей в его постановке. Вы в них были неподражаемы. Он прекрасный режиссер.
— Да, у него есть определенные достоинства, — ледяным тоном произнесла мисс Герри. — Но в то же время ему присуща и некоторая ограниченность. Очень серьезная ограниченность. Трагедия американского театра состоит в том, что в нем не осталось людей, не страдающих ограниченностью.
— Да, — согласился Филип.
— Расскажите мне о вашей пьесе, мистер Блумер. О той роли, которую вы уготовили мне. — Она изменила позу и села, скрестив ноги, с таким видом, словно была готова слушать бесконечно долго.
— Что же, — начал Филип, — дело происходит в пансионе. Низкопробном, жалком, ободранном пансионе, с вечно текущими водопроводными трубами. В нем обитают жалкие людишки, не способные платить за проживание. Такова примерно общая обстановка.
Мисс Герри промолчала.
— Злым гением всего заведения является его хозяйка — неряшливая, распутная и грубая интриганка, с наклонностями тирана. Я списал её со своей тетки, которая владела пансионатом.
— Сколько ей лет? — просила мисс Герри.
— Кому? Моей тетке?
— Нет. Женщине в пьесе.
— Сорок пять, — Филип поднялся с креслица и принялся расхаживать по комнате, продолжая пересказ своего опуса. — Она за всеми шпионит, подслушивает у замочных скважин, а затем реконструирует события из подслушанных обрывков трагедии своих жильцов. Она вздорит в семье, ругается с… Что с вами, мисс Герри? — спросил он, оборвав рассказ. — Мисс Герри?
Она, сгорбившись, сидела на диване, а из её глаз капали горькие слезы.
— Этот человек… — рыдала она, — этот человек.
Вскочив с дивана и промчавшись через всю комнату к телефону, она схватила трубку и набрала какой-то номер. Оставленные без внимания слезы, проложив путь через тушь для ресниц, стекали по её щекам, образуя черные каналы на тенях для глаз, румянах и пудре.
— Этот человек… — продолжала твердить, — этот человек…
Филип инстинктивно попятился к стене между столом и комодом, спрятав руки за спину. Казалось, что он ожидает нападения.
— Лоуренс! — кричала она в трубку. — Очень рада, что застала тебя дома. У меня сейчас молодой человек, и он предложил мне роль в его пьесе, слезы ручьем бежали по темным канала на её щеках. — Ты знаешь, какая это роль? Сейчас я тебе скажу, а затем выброшу этого молодого человека из отеля!
Филип прижался спиной к стене.
— Заткнись, Лоуренс! — визжала мисс Герри. — Я достаточно долго выслушивала твои льстивые объяснения. Женщина сорока пяти лет, — прорыдала она, — злобная, неряшливая, ненавидящая весь мир содержательница пансиона, подслушивающая у замочных скважин и терроризирующая свою семью. — Страшное горе сгорбило актрису, и та стояла согбенной, неловко держа трубку обеими руками. Поскольку слезы мешали мисс Герри говорить, она была вынуждена слушать своего собеседника. До слуха Филипа доносился мужской голос. Мужчина говорил что-то утешительное, говорил быстро, но достаточно спокойно.
Не обращая внимания на голос в трубке, мисс Герри выпрямилась и, злобно цедя сквозь зубы, спросила:
— Мистер Блумер, скажите, почему вы решили, что я подхожу для этой глубокой роли? Почему, по вашему мнению, я лучше всех способна сыграть столь обаятельную персону?
— Я видел вас в двух спектаклях, — ответил несчастным тоном и по-мальчишески писклявым голосом Филип, не покидая своего места у стены между столом и комодом.
— Да заткнись же ты, ради Бога! — рявкнула в трубку мисс Герри, и спросила Филипа, сопровождая вопрос ледяной улыбкой: — В каких спектаклях, мистер Блумер?
— «Солнце на востоке» и «Возьми последнего».
Из её глаз полился новый, и, на сей раз ещё более бурный поток слез.
— Лоуренс, — зарыдала она в трубку, — знаешь, почему он предложил мне эту роль? Оказывается, он видел меня в двух спектаклях. В тех двух, которые принесли тебе славу. Ему понравилось, как я играла шестидесятилетнюю стерву в «Солнце на востоке» и проклятую богом и людьми наседку, опекающую ирландских хулиганов в «Возьми последнего». Ты погубил меня Лоуренс. Ты меня погубил.
Филип выскользнул из своей ниши у стены, подошел к окну и посмотрел вниз. Двенадцать этажей, машинально подумал он.
— Все видели меня в этих ролях! Буквально все! И теперь, когда появляется пьеса, в которой присутствует старая карга, эти все в один голос твердят: «Пригласите Адель Герри». Я — женщина в полном расцвете сил. Я должна выступать на сцене как Кандида, Гедда или Жанна. Но вместо этого я оказываюсь первой кандидаткой на роль престарелой матери главного героя! Или содержательницей пансионатов в первых детских творческих упражнениях!
Бросив взгляд вниз на Мэдисон авеню, Филип непроизвольно отшатнулся от окна.
— И кто это все сделал? — в глубоком голосе мисс Герри теперь звучали трагические ноты. — Кто сделал это? Кто умолял, убеждал, соблазнял, вынуждал меня согласиться на роли в этих жалких пьесках? Ты, Лоуренс Уилкс! Лоуренс Уилкс может гордиться тем, что погубил блестящую карьеру великой актрисы. Великий Лоуренс Уилкс, обманом заманивший меня на роль престарелой матери, в то время когда мне было всего тридцать пять лет!
По мере того, как известный всему миру глубокий голос звучал трагичнее и трагичнее, плечи Филипа поникали все ниже и ниже.
— И ты ещё смеешь спрашивать… — несмотря на то, что она стояла у телефона, движение её рук и плеч были полны иронии. — Ты смеешь спрашивать, почему я отказываюсь выходить за тебя замуж. Ты посылаешь мне цветы, книги, билеты в театры. Пишешь письма, в которых утверждаешь, что тебе безразлично, встречаюсь ли я с другими мужчинами или нет. Так знай, отныне и до конца дней я стану встречаться со всем гарнизоном Губернаторского острова[8]! Каждый вечер я буду ужинать в ресторане с другим мужчиной, сидя за соседним с тобой столиком. Я ненавижу тебя Ларри, я тебя ненавижу…
Рыдания, наконец, доконали мисс Герри. Небрежно бросив трубку, она медленно пробрела через комнату и с гримасой боли опустилась в глубокое кресло. Чумазая, растрепанная и с мокрым от слез лицом, она всем своим видом напоминала огорченного донельзя ребенка.
Филип глубоко вздохнул, повернулся и сказал хрипло:
— Я глубоко сожалею.
Вы ни в чем не виноваты, — произнесла она, сопровождая слова усталым взмахом руки. — Я терплю вот уже три года. Вы же — всего лишь олицетворение обстоятельств.
— Благодарю вас, — испытывая облегчение, сказал Филип.
Вы только представьте себе, — простонала мисс Герри, казавшаяся в своем глубоком кресле несчастной девочкой. — Я ещё так молода, а мне теперь никогда не удастся получить интересную роль. Никогда. Никогда. Только старые мамаши. Вот до чего довел меня этот негодяй! Постарайтесь не иметь никаких дел с этим человеком. Он маниакальный эгоист, и готов распять собственную мать ради заключительной сцены второго акта. — Она вытерла глаза, окончательно размазав всю косметику и добавила со зловещим смехом: И он ещё хочет, чтобы я вышла за него замуж.
— Я глубоко сожалею, — повторил Филип. Не сумев найти другие слова, он снова стал ощущать себя деревенщиной. Подручным со скотного двора. — Я очень и очень сожалею.
— Он говорит, что вы можете зайти и взять рукопись, — сказала мисс Герри. — Ларри живет на противоположной стороне улицы в здании, именуемом «Чатам-хауз». Позвоните ему снизу от портье, и он спустится к вам с пьесой.
— Благодарю вас, мисс Герри, — промямлил Филип.
— Подойдите ко мне, — произнесла она. Слез в её глазах уже не было.
Филип медленно приблизился к актрисе, и та, прижав голову драматурга к своей груди, поцеловала его в лоб.
Затем, взяв его двумя руками за уши, мисс Герри сказала:
— Вы — славный, чистый и глупый мальчишка, — сказала она. — Я рада, что в театре появляется новая поросль. А теперь идите.
Филип, доковылял до дверей и оглянулся. Он хотел сказать мисс Герри что-нибудь приятное, но, увидев, как она уныло сидит в кресле, уставив взгляд в пол, увидев её покрытое черными подтеками, огорченное лицо, со следами прожитых лет, передумал. Он тихо открыл дверь и так же тихо закрыл, выйдя в коридор.
Переходя улицу, Филип полной грудью вдыхал прохладный воздух и, войдя в вестибюль, сразу же позвонил Лоуренсу Уилксу. Он узнал Уилкса сразу, едва тот с манускриптом «Обители страданий» под мышкой успел выйти из кабины лифта. Уилкс был одет дорого и со вкусом, его очередная постановка снова оказалось хитом сезона, и он, судя по всему, недавно побывал у парикмахера. Несмотря на это, лицо его казалось измученным и безрадостным. Такие лица, судя по кинохронике, бывают у людей, сумевших укрыться от вражеских бомб, но не верящих, что им удастся сделать это в следующий раз.
— Мистер Уилкс, — негромко позвал Филип.
Уилкс посмотрел не Филипа, улыбнулся и, видимо, прощая его, сказал, забавно склонив голову на бок:
— Молодой человек, поскольку вы имеете дело с театром, вам надо на всю жизнь запомнить одну истину. Никогда не говорите актрисе, какой, по вашему мнению, тип, ей следует играть.
С этими словами он вручил Филипу манускрипт «Обители страданий», повернулся и направился назад к лифту. Филип, дождавшись, как за спиной измученного человека в великолепно сшитом костюме закрылась дверь кабины, выскочил на улицу и побежал через проезжую часть на противоположную сторону, где располагалась Театральная гильдия.
Причуды любви
— Уйду в монастырь, — заявила Кэтрин, покрепче прижимая учебники к телу. — Оставлю мирскую жизнь.
Они шли по улице в направлении дома Харольда.
— Ты этого не сделаешь, — сказал Харольд, тревожно глядя на неё сквозь стекла очков. — Твои тебе этого не позволят.
— А вот и позволят, — ответила Кэтрин. Она шагала, напряженно глядя прямо перед собой и мечтая о том, чтобы до дома Харольда идти надо было бы не менее десятка кварталов. — Я католичка и могу поступить в монастырь.
— В этом нет никакой нужды, — сказал Харольд.
— Как ты думаешь, я красивая? Учти, комплименты мне не нужны. Я желаю услышать правду.
— Я думаю, что красивая, — сказал Харольд. — Думаю, что ты, почти что самая красивая девочка в школе.
— Так все говорят, — согласилась Кэтрин. Её несколько беспокоили слова «почти что», но своего беспокойства она ничем не выдала. — Я, конечно, так не думаю, но все остальные уверяют, что это — правда. Похоже, что ты тоже с этим не согласен.
— Согласен, — торопливо заявил Харольд. — И даже очень.
— По тому, как ты себя ведешь, этого не скажешь, — заметила Кэтрин.
— По поведению людей иногда бывает трудно сказать что-то определенное, — ответил Харольд.
— Я тебя люблю, — ледяным тоном произнесла Кэтрин.
Харольд снял очки и нервно протер линзы носовым платком.
— А как же Чарли Линч? — спросил он, обрабатывая стекла и не глядя на Кэтрин. — Все знают, что ты и Чарли Линч…
— А я тебе даже вовсе не нравлюсь, — продолжала Кэтрин, с каменным выражением лица.
— Нравишься. И даже очень. Но Чарли Линч…
— С ним покончено! — бросила Кэтрин настолько резко, что у неё клацнули зубы. — Я сыта им по горло.
— Но он же классный парень, — сказал Харольд, водружая очки на место. — Ведь он — капитан бейсбольной команды. Президент клуба восьмиклассников и…
— Он меня не интересует, — ответила Кэтрин и добавила, — с некоторых пор.
Они продолжили путь молча. По мере приближения к дому, Харольд слега ускорял шаги.
— У меня есть два билета в кино на вечерний сеанс, — сказала Кэтрин.
— Спасибо, — ответил Харольд, — но мне надо готовить уроки.
— В субботу вечером Элеанор Гринберг устраивает вечеринку, — сказала Кэтрин, слегка замедляя шаги, по мере приближения к дому Харольда. — Я могу привести с собой кого хочу. Тебя это интересует?
— Бабушка… — произнес Харольд. — В субботу мы едем к бабушке. Она живет в Пенсильвании, в Дойлстауне. У неё семь коров. Я живу там летом. Я знаю, как надо их доить, а они…
— Тогда в четверг вечером, — торопливо сказала Кэтрин. — Папа и мама по четвергам уходят играть в бридж и возвращаются не раньше час ночи. В доме остаются лишь я да малышка, которая спит в своей комнате. Одним словом, я бываю одна. Ты не хочешь составить мне компанию?
Харольд с несчастным видом сглотнул, чувствуя, как краска смущения выползает из-под воротника, разливается по щекам и забирается под очки. Он громко закашлял на тот случай, если Кэтрин заметила его смущение. Пусть думает, что лицо злилось краской от приступа кашля.
— Может быть, тебя поколотить по спине? — с надеждой спросила Кэтрин.
— Спасибо, не надо, — ответил Харольд. Приступ кашля как рукой сняло.
— Ну как, ты не хочешь прийти ко мне в четверг вечером?
— Мне очень хотелось бы, — ответил Харольд, — но мама все ещё не позволяет мне уходить по вечерам из дома. Говорит, что вот когда мне исполнится пятнадцать…
— А в среду я видела тебя в библиотеке в восемь часов вечера, заметно помрачнев, сказала Кэтрин.
— Библиотека — совсем другое дело, — устало ответил Харольд. — Для неё мама делает исключение.
— Но ты же можешь сказать ей, что идешь в библиотеку. Что тебе мешает?
— Каждый раз, когда я вру, — с безнадежным вздохом произнес Харольд, она об этом как-то догадывается. В любом случае, маме врать нехорошо.
Губки Кэтрин скривились в насмешливом удивлении.
— Мне просто смешно, — сказала она.
У входа в большой многоквартирный дом, где жил Харольд, они остановились.
— Во второй половине дня, большую часть времени в нашем доме не бывает никого кроме меня, — сказала Кэтрин. — По пути из школы, проходя под моим окном, ты можешь свистнуть, — моя комната выходит на улицу. Я открою окно и подам тебе сигнал. Тоже свистну.
— Я ужасно занят, — ответил Харольд, со смущением заметив, что за ними наблюдает Джонсон — их консъерж. — Ежедневно во второй половине дня у меня тренировки по бейсболу в Атлетическом клубе Монтаука; кроме того, я каждый день по часу должен упражняться на скрипке. Я отстал по истории, и до конца месяца мне надо усвоить столько глав, что…
— Тогда я буду каждый день провожать тебя до дома, — сказала Кэтрин. Из школы. Ведь ты все-таки будешь ходить домой, не так ли?
Почти каждый день проходят репетиции школьного оркестра, — со вздохом протянул Харольд, глядя с несчастным видом на Джонсона, который наблюдал за ними с циничным выражением человека, который не только видит всех входящих в дом и его выходящих из дома, но и имеет собственное мнение об этих входах и выходах. — Мы репетируем «Поэт и крестьянин», там очень трудная партия для первой скрипки, никто не знает, когда мы кончим и…
— Я буду тебя ждать, — ожесточенно сказала Кэтрин, глядя ему в глаза. — Я буду сидеть у входа для девочек и ждать тебя.
— Иногда мы кончаем в пять.
— Буду ждать до пяти.
Харольд тоскливо взглянул на дверь дома — массивное сооружение из бронзы и металла, — и сказал:
— Я должен тебе кое в чем признаться. Я вообще не очень люблю девочек. У меня на уме совершенно другие вещи.
— Ты ходишь домой из школы вместе с Элейн. Я видела.
— О'кей! — выкрикнул Харольд, жалея, что не может двинуть кулаком по этому розовощекому, нежному личику, с осуждающим, холодным взглядом голубыми глаз и яркими, дрожащими губками. — О'кей! Я хожу домой с Элейн! Тебе-то какое до этого дело? Оставь меня в покое! У тебя есть Чарли Линч. Он — герой и лучший питчер в бейсбольной команде. А я толком не могу играть даже в поле. Оставь меня в покое!
— Да не нужен он мне! — закричала в ответ Кэтрин. — Чарли Линч меня не интересует! А тебя я ненавижу! Ненавижу! И уйду в монастырь!
— Ну и хорошо! Очень хорошо! — крикнул он, открывая тяжелые двери. Джонсон смотрел на него холодными, все понимающими глазами.
— Харольд, — тихо сказала Кэтрин, скорбно прикоснувшись к его руке, Харольд, если тебе случится проходить мимо моего дома, то просвисти, пожалуйста, мелодию «Пофлиртуем намного». И я буду знать, что это ты. Харольд…
Он стряхнул её руку и вошел в дом. Девочка проследила за тем, как он, не оглядываясь, подошел к лифту, открыл дверь кабины и нажал на кнопку. Двери закрылись, неумолимо и безвозвратно отделив его от неё. Кэтрин едва не зарыдала. Собрав все силы, она сдержала слезы и подняла глаза на окно четвертого этажа, за которым он проводил ночь.
Затем девочка повернулась и медленно побрела к своему дому, до которого оставался ещё один квартал. В тот момент когда она, глядя себе под ноги, подошла к углу улицы, откуда-то выскочил какой-то подросток, едва не сбив её с ног.
— Ой, прости меня, — сказал он.
Кэтрин поднял глаза.
— Чего тебе надо, Чарли? — ледяным тоном спросила она.
— Ну, разве не смешно, как я на тебя налетел? Чуть не уронил. Не смотрел, куда иду. Задумался о чем-то и…
— Да, — сказала Кэтрин, быстро зашагав к своему дому. — Да, конечно.
— Хочешь знать, о чем я думал? — негромко спросил Чарли, семеня за ней следом.
— Прости, но я очень тороплюсь, — бросила девочка, резко вздернув голову. Теперь она смотрела куда-то в небо сухими, без всяких следов слез глазами.
— Я думал о том вечере, два месяца тому назад, — выпалил Чарли. — О вечеринке, которую устроила Нора О'Брайен. В тот вечер я проводил тебя домой и поцеловал в шею. Помнишь?
— Нет, — бросила она в ответ и, как можно быстрее зашагала через улицу к ряду совершенно одинаковых двухэтажных домов, рядом с которыми детишки играли в классики, катались на роликах и гонялись друг за другом с пистолетами и автоматами, выскакивая с криком «бах-бах-бах» из-за укрытий, которыми служили ведущие к входным дверям каменные ступени.
— Прости, — продолжала она, — но мне надо торопиться домой, чтобы присмотреть за ребенком. Мама собиралась уйти.
— Однако ты не очень спешила, когда была с Харольдом, — сказал Чарли, не отставая ни на шаг и пожирая её горящим взглядом. — Рядом с ним ты шагала довольно медленно.
Кэтрин бросила на Чарли Линча короткий испепеляющий взгляд и сказала:
— Не знаю, почему ты вдруг решил, что имеешь право совать нос в мои дела. Они никого, кроме меня, не касаются.
— В прошлом месяце ты возвращалась домой вместе со мной.
— То было в прошлом месяце, — громко сказала Кэтрин.
— Ну что я такого сотворил? — с гримасой душевной боли на гладкой, без морщин физиономии, и с распухшим от удара бейсбольным мячом детским носиком, спросил Чарли. — Пожалуйста, Кэт, скажи, что я не так сделал.
— Ничего не сделал, — сухо и несколько утомленно ответила Кэтрин. Абсолютно ничего.
Чарли Линч с трудом увернулся от трех малолеток, которые вели серьезное сражение. Их деревянные мечи со звоном колотили по служившим щитами крышкам от мусорных баков.
— Нет, наверное, я все же что-то сотворил, — сказал он.
— Ни-че-го, — отрубила Кэтрин таким тоном, словно произнесла окончательный приговор.
— Лапы вверх, незнакомец! — крикнул какой-то, оказавшийся рядом с Чарли, семилетка. Игрушечный револьвер в его руках был наведен на другого мальчугана, так же вооруженного револьвером. — Этот город, незнакомец, слишком мал, и в нем не хватит места для тебя и меня, — заявил семилетка, когда Чарли стал обходить его, чтобы приблизиться к Кэтрин.
— Ах, вот как… — произнес второй младенец с револьвером.
— Может быть, сходим вечером в кино? — с надеждой спросил Чарли, благополучно миновавший юных героев Дальнего запада. — Идет фильм с Кэри Грантом. Все говорят, что очень смешная картина.
— С удовольствием пошла бы, — ответила Кэтрин, — но вечером мне придется читать. Я очень отстала по литературе.
Чарли молча шагал, лавируя, меж фехтующих, борющихся и палящих друга в друга из игрушечных стволов малышей. Кэтрин — розовощекая и пухленькая шла чуть впереди, вздернув головку и сверкая голыми и тоже розовыми коленями. Чарли не отрывал глаз от того места на шее девочки, в которое он поцеловал её в первый раз. Ему казалось, что его душа вот-вот отлетит от тела.
Чарли прервал тяжелое молчание громким, неестественным смехом. Однако Кэтрин даже не соблаговолила оглянуться.
— Я засмеялся потому, что подумал об этом парне, — пояснил он. — О Харольде. Ну и имечко! Это надо же — Харольд! Он пожелал потренироваться с нашей командой, но тренер в первый же день вышвырнул его прочь. Тренер сделал три броска, и каждый раз мяч пролетал между ног этого самого Харольда. Четвертый мяч отскочил от земли и врезал ему прямо по сопатке. Жаль, что ты не видела рожу Харольда в этот момент, — фыркнул Чарли. — Мы тогда чуть не умерли от смеха. Ну, точненхонько по сопатке! Знаешь, какую кличку дали ему все ребята? «Четырехглазый Оскар». Он не может отличить первой базы от «дома». «Четырехглазый Оскар». Ну, разве не потешно? несчастным тоном спросил Чарли.
— А он о тебе очень хорошо отзывался, — сказала Кэтрин, сворачивая к своему дому. — Он говорит, что восхищен тобой и называет отличным парнем.
Последние следы вымученной улыбки исчезли с физиономии Чарли.
— Никто из девочек не выносит его, — вяло произнес Чарли. — Они над ним смеются.
Кэтрин улыбнулась про себя, вспомнив беспечную девичью болтовню во время перемен в гардеробе.
— Думаешь, я вру?! — выкрикнул Чарли. — Можешь их сама спросить.
Кэтрин равнодушно пожала плечами, опустив ладонь на ручку двери. Когда они оказались в полутемном вестибюле, Чарли попытался встать рядом с девочкой.
— Пойдем в кино, Кэтрин, — прошептал он. — Пожалуйста…
— Я же сказала тебе, что занята.
Чарли протянул руку, пытаясь прикоснуться к ней в полутьме.
— Кэтти… — умоляюще прошептал он.
— У меня нет времени, — она оттолкнула его руку и, пытаясь двинуться к лестнице на второй этаж, громко добавила: — Мне некогда.
— Ну, пожалуйста, пожалуйста… — прошептал он.
Кэтрин отрицательно покачала головой.
Чарли, разведя руки в стороны, потянулся к Кэтрин. Крепко обняв девочку, он попытался её поцеловать.
Кэтрин отчаянно закрутила головой, одновременно стараясь пнуть его что есть силы в голень.
— Ну, пожалуйста… — со слезами в голосе молил он.
— Убирайся отсюда! — выпалила девочка, упершись обеими руками ему у грудь.
— Ты же позволяла мне себя целовать, — сказал, отступая, Чарли. Почему сейчас нельзя?
— Терпеть не могу идиотских вопросов, — сказала Кэтрин, одергивая с решительными видом платье.
— Я все скажу твой маме! — отчаянием в голосе выкрикнул Чарли. Скажу, что ты гуляешь с методистом! С протестантом!
Глаза Кэтрин от ярости округлились, щеки налились кровью, а губы напряглись.
— Убирайся отсюда! — прошипела она. — Все! Конец! Я не желаю с тобой разговаривать! И не хочу, чтобы ты ходил за мной следом.
— Я уйду, когда захочу, будь я проклят! — выкрикнул Чарли.
— Я слышала, что ты сказал, — заметила Кэтрин. — Ты начал употреблять проклятия.
— Я хожу за теми, дьявол всех побери, за кем хочу! — ещё громче возопил Чарли. — Мы живем в свободной стране.
— Больше никогда в жизни я с тобой не стану говорить! — её голос гулко разносился по вестибюлю, отражаясь от почтовых ящиков и дверных рам. Для того чтобы придать своим словам большую убедительность, она притоптывала ножкой. — Ты меня утомил! Ты мне не интересен! И ты просто глуп! Ты мне вовсе не нравишься. Ты — всего-навсего здоровенный идиот! Топай домой!
— Я сломаю ему шею! — бесцельно размахивая кулаками перед носом Кэтрин, выкрикнул Чарли. Его глаза туманила ярость. — Я ему покажу! Скрипач! После того, как я с ним разделаюсь, ты и смотреть на него не захочешь. Ты его целовала?
— Да! — триумфально прозвенел её голос. — Я его целовала постоянно. И он умеет целоваться по-настоящему! Не слюнявит девочку с ног до головы, как ты!
— Пожалуйста… Ну, пожалуйста… — проскулил Чарли и, вытянув как слепец руки, двинулся на Кэтрин.
Ты хладнокровно отвела руку мальчика и, вложив в удар все восемьдесят пять фунтов своего округлого, хорошо упитанного тела, врезала ему по физиономии. Затем, резко развернувшись, Кэтрин помчалась вверх по ступеням лестницы.
— Я убью его! — проревел Чарли ей вслед. — Убью его вот этими голыми руками!
Ему ответил лишь стук захлопнувшейся двери.
— Передайте, пожалуйста, мистеру Харольду Парселу, — спокойным и рассудительным тоном произнес Чарли, обращаясь к консъержу Джонсону, — что внизу его ждет друг, который хотел бы с ним встретиться, если мистер Парсел не возражает.
Джонсон отправился вверх на лифте, а Чарли с мрачным удовлетворением обвел взглядом лица друзей, которые составили ему компанию, дабы убедиться в том, что не будут нарушены установленные правила.
Харольд, выйдя из кабины лифта, направился к топчущейся у дверей компании мальчишек. Он близоруко и с любопытством вглядывался в них тощий, гладко причесанный, аккуратный юноша в очках и с чистыми руками.
— Хэлло, — сказал Чарли, — мне хотелось бы потолковать с тобой один на один.
Харольд обвел взглядом окружающие его молчаливые, лишенные всякого сострадания, жаждущие узреть заслуженное возмездие лица. Поняв, что его ожидает, мальчик тяжело вздохнул.
— Хорошо, — сказал он, и, распахнув дверь, придержал её, пока все молодые люди не вышли на улицу. Весь путь до пустыря в соседнем квартале они прошли молча.
Тишину нарушали лишь нарочито громкий топот ног секундантов Чарли Линча.
— Сними очки, — сказал Чарли, когда они остановились в самом центре пустыря.
Хрольд снял очки и нерешительно огляделся в поисках места, куда их можно было бы положить.
— Давай я подержу, — предложил Сэм Розенберг — вечный оруженосец Чарли.
— Спасибо, — сказал Харольд, передавая ему стекла. Затем, повернувшись лицом к Чарли и близоруко помаргивая, он добавил — О'кей.
Чарли принял боевую стойку. Его худосочный соперник, с тонкими руками и уступающий ему в весе, по меньшей мере, двадцать фунтов, сделал то же. По жилам Чарли прокатилась волна ликования. Он сделал шаг вперед, чуть поднял руки и нанес удар правой точно в глаз Харольда.
Бой не занял много времени, хотя продолжался несколько дольше, чем ожидал Чарли. Харольд продолжал совать руками, проталкиваясь через град ударов, наносимых самыми жестокими, умелыми и сильными кулаками во всей школе. Лицо Харольда мгновенно залила кровь, глаз заплыл, а на изодранной рубашке появились кровавые пятна. Чарли непрерывно наступал, не пытаясь уклониться от слабеньких тычков Харольда или парировать их. Он чувствовал, как его кулаки бьют по костям Харольда, скользят по его окровавленной коже или попадают противнику в глаз. Чарли почти обезумел от восторга, видя, как враг корчится и извивается под напором его не знающих жалости кулаков. Ему казалось, что даже костяшки пальцев и сухожилия руки, перекладывающие тяготы битвы на мышцы плеч, радуются успеху этого безжалостного возмездия.
Время от времени Харольд, издавал болезненные хрипы. Это случалось в те моменты, когда Чарли, оставляя в покое, лицо противника, принимался обрабатывать хуками и апперкотами его живот. Если бы не эти хриплые стоны, то бой протекал бы в полной тишине. Восемь друзей Чарли без всяких комментариев со спокойным интересом профессионалов наблюдали за тем, как Харольд опускается на землю. Сознания он не потерял. Он был лишь измотан настолько, что не мог даже пошевелить пальцем. Мальчик лежал вытянувшись. Прижавшись окровавленным лицом к земле пустыря, он благодарно вдыхал запах пыли и щебня.
Чарли, тяжело дыша, стоял над поверженным врагом. Его кулаки при виде этой ненавистной, тощей, уткнувшейся лицом в землю фигуры, трепетали от счастливого напряжения и рвались в бой, сожалея лишь о том, что избиение так быстро закончилось. Он молча стоял над павшим противником до тех пор, пока тот не зашевелился.
— Всё, — произнес Харольд, все ещё уткнувшись носом в пыль. — Пожалуй, хватит.
Он поднял голову, сел, а затем, опершись дрожащей рукой о землю, заставил себя встать. Мальчик стоял, покачиваясь и широко расставив трясущиеся руки. Но на ногах Харольд все же держался.
— Могу я получить свои очки? — спросил он.
Не говоря ни слова, адъютант Чарли Сэм Розенберг протянул ему очки, и Харольд неуклюже, непослушными руками водрузил их себе на нос. Чарли смотрел на врага. Целые и чистые стекла казались совершенно нелепыми на изувеченном лице. И в этот миг Чарли вдруг осознал, что плачет. Он, Чарли Линч, победитель в более чем пятидесяти отчаянных драках, не пролившей ни единой слезинки с четырехлетнего возраста, понял, что рыдает, и что тело его содрогается от непроизвольных и неудержимых всхлипов. До него вдруг дошло, что он плакал на протяжении всего боя, начиная с первого удара в глаз Харольда и кончая последним прямым, повергшего врага лицом в пыль. Чарли ещё раз внимательно посмотрел на Харольда. Глаза у того заплыли, нос опух и смотрел набок, потные волосы свалялись, а на кровоточащий разбитый рот налипли комья грязи. Однако, видя непоколебимо спокойное лицо врага, Чарли понял, что дух у того не сломлен. На глазах у Харольда не было ни слезинки. Горько рыдающий Чарли знал, что Харольд не заплачет и позже. Знал он и то, что у него, великого Чарли Линча нет и никогда не будет средств заставить плакать этого человека.
Харольд набрал полную грудь воздуха и, не говоря ни слова, заковылял прочь.
Чарли, не отрываясь, следил за тем, как бредет Харольд. Из глаз его хлынул новый поток слез, и в этом потоке исчезла узкоплечая, оборванная и такая не героическая спина недавнего противника.
А я ставлю на Демпси
Над людским потоком, изливающимся из дверей «Медисон сквер гарден», витал скорбный, задумчиво-унылый дух. Такое настроение у зрителей возникает лишь в тех случаях, когда бой оказывается из рук вон плохим. Фланаган, ловко пробившись через толпу расстроенных болельщиков, затолкал Флору и Гурске в такси. Гурске занял откидное место, а Фланаган и Флора разместились на заднем сиденье.
— Мне надо выпить, — сказал Фланаган Флоре, когда машина двинулась. Хочу поскорее забыть то, что видел этим вечером.
— Ну, они были не так уж и плохи, — вмешался Гурске. — Дрались по науке.
— Ни тебе разбитого носа, — продолжал Фланаган, — ни единой капли крови. Тоже мне тяжеловесы! Бабы тяжелого веса!
— Демонстрация высокого искусства, — возразил Гурске. — Мне бой показался интересным.
— Джо Луис[9] смахнул бы их с ринга не позже, чем через две минуты, сказал Фланаган.
— Джо Луиса сильно переоценивают, — произнес Гурске. Он привстал с крошечного откидного сиденья и, потрепав Фланагана по колену, добавил: Очень даже чрезмерно.
— Ну да, — язвительно сказал Фаланган, — его переоценивают, как переоценивают новый лайнер «Техас». Я видел бой Луиса со Шмелингом.
— Немец — уже старик, — заметил Гурске.
— Когда Джо врезал ему в брюхо, — вступила в беседу Флора, — он зарыдал, как младенец. Кулак Луиса погрузился ему в живот до самого запястья. Я видела это своими глазами.
— Немец забыл свои ноги в Гамбурге, — стоял на своем Гурске. — Его мог завалить даже лёгенький ветерок.
— Ничего себе… Это надо же, назвать Джо Луиса лёгеньким ветерком! возмутился Фланаган.
— Сложением он похож на металлический сейф, — заметила Флора.
— А здорово было бы взглянуть на его бой с Демпси[10], - мечтательно закатив глаза, произнес Гурске. — С Демпси в лучшие его годы. Кровь лилась бы рекой.
— Луис сделал бы из Демпси отбивную котлету. Кого, вообще, смог побить твой Демпси? — возжелал узнать Фланаган.
— Ты это слышала?! — возопил изумленно Гурске, ткнув Флору в колено. Демпси не даром получил кличку «Манасская Кувалда»!
— Луис — мастер, — сказал Фланаган, — а лупит так, будто у него в каждой руке по бейсбольной бите. Демпси! А ты, Юджин, — просто дурень.
— Мальчики! — тревожно бросила Флора.
— Демпси в бою походил на пантеру. Все время приплясывал и раскачивался. — Гурске продемонстрировал, как покачивался Демпси, в результате чего с его аккуратной маленькой головки слетел котелок. — В каждом своем кулаке он таил гибель, — продолжил Гурске, склоняясь за шляпой. — У него было сердце раненого льва.
— Твой Демпси был бы покрыт ранами с ног до головы, если бы вышел на ринг против Луиса, — Фланаган решил, что шутка ему удалась, и разразился громким хохотом, слегка шлепнув огромной ладонью по щеке Гурске. Котелок снова оказался на полу.
— Ты очень странный человек, — сказал Гурске, наклоняясь, чтобы поднять шляпу. — Очень странный.
— У тебя есть одна большая беда, Юджин, — произнес Фланаган, — и беда эта — полное отсутствие чувства юмора.
— Я смеюсь, когда вижу что-то по-настоящему смешное, — ответил Гурске, смахивая со шляпы пыль.
— Разве я не прав? — спросил Фланаган, обращаясь к Флоре. — Скажи, имеется ли у Юджина чувство юмора?
— У нашего Юджина весьма серьезный нрав, — ответила она.
— Да, провалитесь вы к дьяволу! — сказал Гурске.
— Эй, ты, — Фланаган положил тяжелую лапу на плечо Гурске. — Я бы на твоем месте от таких слов воздержался.
— Что…? — изумился Гурске. — Что такое?
— Ты не умеешь спорить, как подобает джентльмену, — сказал Фланаган. Что с тобой? Все вы коротышки по одной мерке сделаны.
— Что?!
— Я заметил, что все парни ростом ниже пяти футов шести дюймов слишком возбуждаются, как только вступают в спор. Разве не так, Флора?
— Кто это возбуждается?! — завопил Гурске. — Я всего-навсего утверждаю точный факт. Мой Демпси расстелил бы твоего Луиса, как ковер. Больше я ничего не говорю.
— Ты производишь слишком много шума, — сказал Фланаган. — Умерь-ка свой рев.
— Я видел и того и другого. Своими глазами!
— Да что ты вообще понимаешь в боксе? — спросил Фланаган.
— В боксе?! — Гурске от возмущения даже подпрыгнул на крохотном откидном сиденье. — В боксе я разбираюсь. Это ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, кроме как засесть с пушкой в руке в темном проулке, чтобы вывернуть карманы у заблудшего алкаша!
Фланаган, закрыл своей огромной ладонью рот Юджину, другую ладонь он возложил приятелю на затылок.
— Заткнись, Юджин, — сказал он. — Прошу тебя — заткнись.
Едва видимые над широкой ладонью глаза Гурске слегка вылезли из орбит, но вскоре обрели нормальный вид.
Фланаган освободил голову Гурске и, вздохнув, сказал:
— Ты мой лучший друг, Юджин. Но время от времени приходится затыкать тебе пасть.
— Давайте веселиться, — сказала Флора. — Устроим себе вечеринку. Замечательная будет вечеринка. Я и две гориллы. Горилла большая и горилла маленькая.
До центра города они ехали молча. Однако, после то того, как они вошли в кафе «У дикаря» и приняли по паре порций «Старомодного», их настроение заметно улучшилось. Оркестр, состоящий из пяти похожих на студентиков музыкантов, наяривал быстрые мелодии, а «Старомодный» прекрасно разогревал кровь. Когда они уселись за столом, Фаланган вытянул руку и дружески потрепал Гурске по голове.
— Брось дуться, Юджин, — сказал он. — Ведь мы — друзья и знаем друг друга всю жизнь.
— Хорошо, — ответил Юджин. — Давайте веселиться.
Поскольку вечеринка была в разгаре, они приняли ещё по паре порций.
— Теперь вы, мальчики, видите, как глупо себя вели. Ссориться из-за двух парней, с которыми вы и слова не сказали.
— Это — не спор о парнях, — сказал Гурске. Это вопрос отношения. Он смотрит на меня сверху вниз только потому, что вымахал ростом со шкаф и имеет кулачищи размером с молот.
— Я всего лишь сказал, что Джо Луис — мастер, — произнес Фаланган, ослабляя ворот рубашки.
— Неужели это все, что ты сказал?
— Демпси не держал ударов. Сам лупил сильно, а защищаться не умел. Вспомни, как его разделал тот буйвол из Южной Америки. Я говорю о Фирпо. Демпси не мог подняться, и на ноги его ставили журналисты. Ни один писака никогда не ставил на ноги Джо Луиса.
— Неужели это все, что ты сказал? — повторил Гурске. — Это все, что он сказал! Бог мой!
— Мальчики! — взмолилась Флора, — Всё это уже давно история. Давайте веселиться.
— Перед нами — типичный Юджин, — заметил Фланаган, поигрывая стаканом. — Стоит вам что-нибудь сказать, как он тут же лопочет противоположное. Автоматически. Весь мир считает, что ещё не существовало боксера равного Джо Луису, а Юджин всё долдонит нам о Демпси.
— Весь мир! — язвительно произнес Гурске. — Фланаган считает себя всем миром!
— Я желаю танцевать, — заявила Флора.
— Сиди! — оборвал её Фланаган. — Я желаю побеседовать со своим другом Юджином Гурске.
— Придерживайся фактов, — сказал Гурске. — Я прошу тебя об одном придерживайся фактов.
— Недомерки не способны ужиться с нормальными людей, — заявил Фланаган. — Они никогда ни с кем не соглашаются, и их следует держать в клетках.
— Всё так, — сказал Гурске. Валяй, переходи на личности. Если не можешь победить в споре доводами, начинай оскорблять. Очень типично.
— Я даю Демпси всего два раунда. Два. — Бросил Фланаган и тут же добавил: — Всё! Для меня спор закончен. Я хочу выпить.
— Позволь мне ещё кое-что сказать! — выкрикнул Гурске. — Луис не смог бы…
— Всё. Дискуссия закрывается.
— Кто сказал, что она закрывается? В Селбе, в Монтане Демпси…
— Меня это не интересует.
— … встретился со всеми по очереди и всех побил.
— Послушай, Юджин, — произнес, посерьезнев, Фланаган. — На эту тему я больше не желаю слышать ни единого слова. Я хочу послушать музыку.
— Я буду говорить! — взвизгнул Гурске, вскакивая со стула. — Понял? И ты не сможешь мне помешать! Понял? — он был в вне себя ярости. — И…
— Юджин, — протянул Фланаган, медленно поднимая руку с раскрытой ладонью.
— Я… — Гурске, поводя глазами, внимательно следил за тем, как огромная красная лапа с украшенными золотыми перстнями пальцами, помахивает перед его носом. Губы его дрожали. Затем, он как-то поникнув, схватил свой котелок, и выбежал из зала, сопровождаемый веселым смехом присутсвующих.
— Он вернется, — заявил Фланаган. — Просто наш Юджин легко возбудимая натура. Как маленький петушок. Время от времени приходится просить его снизить тон. А теперь, Флора, можно и потанцевать.
Они с удовольствием танцевали около получаса, принимая «Старомодный» в каждом перерыве. Когда Гурске, с большой бутылкой содовой в каждой руке, появился в дверях, Фланаган и Флора находились на танцплощадке.
— Фланаган! — заорал с порога Гурске. — Где Фланаган?! Я ищу Винсента Фланагана!
— Боже мой! — взвизгнула Флора, — Да ведь он сейчас кого-нибудь убьет!
— Фланаган, — повторил Гурске. — Выходи из толпы! Появись передо мной!
Танцоры расступились в обе стороны, и Флора потянула Фланагана за рукав.
— Винни, — кричала она, — там есть черный ход!
— Дайте-ка мне бутылочку джинджер-эля, — сказал Фланаган, делая шаг навстречу Гурске. — Ей, кто-нибудь, суньте мне в руку бутылку газированной!
— Не приближайся ко мне Фланаган! С этим аргументом тебе даже своими вшивыми ручищами не справиться!
— Где же джинджер-эль? — спросил Фланаган, шаг за шагом приближаясь к Гурске и глядя тому прямо в глаза.
— Я предупреждал тебя Фланаган!
Гурске кинул в него одну бутылку, Фланаган увернулся, и метательный снаряд разбился о стену.
— Ты об этом пожалеешь, — сказал Фланаган.
Гурске нервно занес для броска вторую бутылку. Фланаган сделал шаг, затем ещё один.
— Боже мой! — выкрикнул Гурске, метнул бутылку в голову Фланагана и бросился наутек.
Фланаган поднял бутылку на лету и прицелился и что есть силы швырнул её низко над полом танцплощадки. Бутылка ударила Гурске по лодыжке, и тот рухнул на стол так, как падает одинокая кегля в кегельбане от точного удара шара. Через мгновение Фланаган, оказавшись над ним, уже держал его за ворот пиджака. Он одной рукой оторвал его от пола и, держа приятеля в подвешенном состоянии, произнес:
— Гурске. Ты страшно надрался, но этого мало. Человека, более никчемного и нелепого, чем ты в мире не существует. Ты — Наполеончик весом в сто тридцать фунтов.
— Не убивай его! — закричала, подбегая к нему Флора. — Ради всего святого, Винни, не убивай его!
Некоторое время Фланаган молча взирал на болтающегося в его лапе Гурске. Затем обернувшись лицом к аудитории он произнес:
— Леди и джентльмены, надеюсь, что никто из вас не потерпел никакого ущерба.
— Я промахнулся, — жалобно пискнул Гурске. — Надо было надеть очки.
— Все танцуют, — объявил Фланаган, а я приношу извинения за своего друга. Обещаю, что он никому больше беспокойства не доставит.
Оркестр рванул «Дипси Дудл», и гости заведения, вернувшись к жизни, задвигали ногами.
Фланаган отнес Гурске к столику и, усадив на стул, сказал:
— Ну, хорошо. Давай закончим дискуссию. Раз и навсегда.
— А больше ничего не хочешь? — спросил, впрочем, без всякого энтузиазма Гурске.
— Юджин, — сказал Фланаган, — подойди ко мне.
Гурске приблизился к Фланагану, который сидел боком к столу, широко расставив ноги.
— Итак, что ты скажешь о тех профессиональных боксерах, достоинства которых мы сравнивали недавно?
— Из этих двоих я ставлю на Демпси.
Фланаган взял Гурске за руку и легонько потянул на себя. Гурске упал на колени приятеля лицом вниз и задницей кверху.
— Ты похож на старую шарманку, — осуждающе произнес Фланаган и принялся размеренно и размашисто шлепать Гурске по мягкому месту. Оркестр на некоторое время умолк, и смачный звук шлепков разносился по всему заведению.
— Ой! — пискнул Гурске на седьмом ударе.
— Ох! — ответили ему дружным вздохом многочисленные зрители. На девятом ударе барабанщик из оркестра поднял палочку и басовый инструмент принялся отсчитывать удары, отвечая на каждый взмах безжалостной и неутомимой ладони.
— Итак, мистер Гурске, — спросил Фланаган, — что вы теперь скажете?
— Я ставлю на Демпси.
— О'кей, — произнес Фланаган, и возобновил экзекуцию.
Гурске сломался лишь после тридцать второго удара.
— Хорошо, Фланаган, — со слезами в голосе выдавил он. — Достаточно.
— Я рад, что вопрос решился к обоюдному удовлетворению, — сказал Фланаган, ставя приятеля на ноги. — Теперь садись и выпей.
Гости зааплодировали, оркестр вновь заиграл, и танцы возобновились. Фланаган, Флора и Гурске сидели за своим столиком, потягивая «Старомодный».
— За выпивку плачу я, — объявил Фланаган. — Поэтому пейте от души. Итак, на кого же ты теперь ставишь, Юджин?
— Я ставлю на Луиса, — ответил Гурске.
— В каком раунде он выиграет?
— Во втором, — ответил Гурске. Он тянул «Старомодный», а по его щекам катились слезы. — Он выиграет бой во втором раунде.
— Вот теперь я вижу, Юджин, что ты, — настоящий друг.
Перестань давить на меня, Рокки
Мистер Гензель аккуратно обматывал знаменитую правую Джоуи Гарра шестью футами клейкой ленты. Джоуи сидел на краю массажного стола. Он покачивал ногами, с мрачной задумчивостью глядя на своего менеджера.
— Осторожность, — произнес мистер Гензель, продолжая работу. Запомни: «осторожность и деликатность» — вот два ключевых слова.
— Ладно, — буркнул Джоуи и громко рыгнул.
— Всему есть предел, Джоуи, — сказал мистер Гензель. — Экономность может завести тебя слишком далеко. Ты — человек не бедный, и на твоем банковском счете денег не меньше чем у голливудской актрисы. Скажи, почему ты предпочитаешь питаться в забегаловках за тридцать пять центов.
— Прошу вас, не говорите так много, — пробурчал Джоуи, протягивая левую руку.
Мистер Гензель приступил к обработке знаменитой левой Джоуи Гарра.
— Язва… — продолжал он. — Скоро я буду иметь боксера с язвой желудка. Блестящая перспектива. Этот человек почему-то предпочитает питаться отбросами. Отбросами с кетчупом. Будущий чемпион в полусреднем весе. Динамит в каждом кулаке. Рыгает сорок раз на день. Побойся Бога, Джоуи.
Джоуи, не обращая внимания на причитания менеджера, покосился на свое изображение в зеркале, чтобы ещё раз полюбоваться своими аккуратно прилизанными, напомаженными волосами. Мистер Гензель вздохнул и, потрогав языком зубной протез, закончил бинтовать руку.
— Позволь мне когда-нибудь, — сказал он, — угостить тебя настоящей едой. Один доллар пятьдесят центов за порцию. Чтобы ты мог почувствовать вкус.
— Экономьте деньги, мистер Гензель, — ответил Джоуи. — На безбедную старость.
Распахнулась дверь, и в помещение вошел МакЭлмон. Его сопровождали двое высоких, широкоплечих парней с плоскими лицами и покрытыми шрамами губами, сейчас скривившихся в дружелюбном оскале.
— Рад видеть вас, парни, — сказал МакЭлмон. Подойдя к боксеру он потрепал его по плечу и спросил: — Как чувствует себя мой маленький Джоуи?
— Нормально, — ответил Джоуи, растянулся на массажном столе и закрыл глаза.
— Он все время рыгает, — пожаловался мистер Гензель. — В жизни не встречал боксера, который рыгал бы так много, как Джоуи. Такого я не видывал за все тридцать пять лет пребывания в этом бизнесе. Как поживает твой парень?
— Рокки в отличном состоянии, — ответил МакЭлмон. — Хотел зайти к вам вместе со мной, чтобы убедиться в том, что Джоуи понял все правильно.
— Я все отлично понимаю, — раздраженно ответил Джоуи. — Тот ещё Рокки! Тоже мне — скала. Больше всего он боится, что кто-нибудь, когда-нибудь его, как следует, ударит. Тот ещё боец!
— Я бы на твоем месте не стал его осуждать, — назидательно произнес МакЭлмон. — Ведь он знает, что если Джоуи захочет, то он уложит его так, что Рокки не поднимется с брезента до самого дня Благодарения.
— Одной рукой, — мрачно подтвердил Джоуи. — Тот ещё боец, этот ваш Рокки.
— Ему ни о чем не стоит беспокоится, — возник мистер Гензель. — Все всё понимают. Всё всем кристально ясно. Мы держим его на ногах целых десять раундов.
— Послушай Джоуи, — произнес МакЭлмон, склонившись над массажным столом, над лицом боксера, — сделай так, чтобы он выглядел пристойно. Здесь в Филадельфии у него имеются поклонники.
— Я сделаю так, что он будет выглядеть классно, — устало сказал Джоуи. — Он будет смотреться не хуже, чем военно-морской флот Великобритании. Ведь я всю жизнь тревожусь только о том, чтобы Рокки не потерял в Филадельфии своих поклонников.
— Мне не нравится твой тон, Джоуи, — с ледком в голосе произнес МакЭлмон.
— Ну и что? — спросил Джоуи, переворачиваясь на живот.
— Так, на всякий случай, — жестко продолжил МакЭлмон. — Позвольте мне представить вам мистера Пайка и мистера Петроскаса, которую способны принести мне неоценимую пользу, если один из участников договора вдруг забудет о содержании соглашения.
Оба так похожих на шкафы парня широко осклабились.
Джоуи медленно поднялся и обратил на них свой взгляд.
— Они будут сидеть среди зрителей, с интересом наблюдая за развитием событий, — пояснил МакЭлмон.
Парни улыбнулись от уха до уха и их продавленные носы совсем утонули в плоских лицах.
— У них револьверы, мистер Гензель, — сказал Джоуи. — Во вшивых кобурах под их вшивыми мышками.
— Это всего лишь мера предосторожности, — сказал МакЭлмон. — Я уверен в том, что все пройдет гладко. Но нельзя забывать, что в дело вложены немалые средства.
— А теперь послушай меня, тупоголовая филадельфийская деревенщина… начал Джоуи.
— Не надо говорить в подобной манере, Джоуи — беспокойно произнес мистер Гензель.
— … я тоже вложил бабки в это предприятие! — проревел Джоуи. Поставил тысячу долларов на то, что твой вшивый Рокки продержится против меня десять раундов. И твоих гориллах нет никакой нужды! Боюсь лишь того, что Рокки от страха грохнется в обморок, не дождавшись конца десятого раунда.
— Это так? — спросил МакЭлмон у мистера Гензеля.
— Я сделал ставку через мужа сестры, — сказал мистер Гензель. — Богом клянусь.
— Как ты думаешь МакЭлмон, — орал Джоуи, — я, по-твоему, такой идиот, что готов выбросить тысячу зеленых? Я — бизнесмен!
— Поверьте моему слову, — поспешил вмешаться мистер Гензель. — Джоуи бизнесмен с ног до головы.
— Хорошо, хорошо, — произнес МакЭлмон, поднимая обе ладони в примирительном жесте. — Думаю, что нет ничего плохого в том, что мы заранее обговорили все проблемы. Теперь никому из нас не придется брести во тьме. Я люблю работать так и только так. — Повернувшись к Пайку и Петроскасу, он бросил: — О'кей, ребята. Теперь вы можете просто сидеть на своих местах и получать удовольствие.
— Для чего нужны там эти болваны? — спросил Джоуи.
— А ты разве против того, чтобы ребята получили удовольствие? — с холодной язвительностью поинтересовался МакЭлмон.
— Всё прекрасно, — примирительно сказал мистер Гензель. — Мы вовсе не против. Пусть мальчики немного порадуются.
— И пусть убираются отсюда, — громко заявил Джоуи. — Мне не нравится, когда в моей раздевалке торчат какие-то типы с пушками под мышкой.
— Пошли, ребята, — сказал МакЭлмон, открывая дверь.
Ребята приятно улыбнулись и отправились к выходу из раздевалки.
— Пусть победит сильнейший, — обернувшись с порога, бросил Петроскас, дважды кивнул и закрыл за собой дверь.
Джоуи поднял глаза на мистера Гензеля и, покачивая головой, произнес:
— Те ещё дружки у МакЭлмона. Крутые филадельфийские парни.
Дверь распахнулась, и появившийся на пороге служитель провозгласил:
— Следующим на ринг приглашается Джоуи Гарр! Джоуи Гарр — следующий!
Джоуи поплевал на забинтованные руки и, приплясывая, приступил к разминке с мистером Гензелем.
Бой едва успел начаться, как Рокки тут же вошел в клинч. Кожа его под густыми зарослями волос на груди и на плечах была покрыта потом.
— Послушай Джоуи, — нервно шепнул он, повиснув всем телом на противнике, — ты не забыл наше соглашение? Ведь ты не забыл условия, Джоуи?
— Не забыл, — ответил Джоуи. — Отпусти мою руку. Ты что, её оторвать хочешь?
— Прости меня Джоуи, — сказал Рокки и вышел из клинча, не забыв при этом нанести двойной удар по ребрам противника. По мере того, как шел бой, а публика ревела, одобряя работу ног, умелый обмен ударами и нокаутирующие кроссы, которые лишь на какой-то волосок не достигали цели, Рокки действовал все увереннее и увереннее. В начале четвертого раунда, он выскочил на середину ринга и начал пританцовывать, выпятив челюсть и картинно работая согнутыми в локтях руками. Его находящиеся среди зрителей сторонники визжали от восторга, громко вопя: «Прикончи этого болвана, Рокки! Давай, Рокки! Давай!» Рокки сделал глубокий вдох и врезал Джоуи по уху. Голова Джоуи слега дернулось, а на лице появилось выражение легкого удивления. «Уложи его, Рокки!» прогремел голос какого-то энтузиаста из числа поклонников, перекрыв общий рев толпы. Рокки послушался совета и, покрепче встав на ноги, отгрузил противнику хук, но уже в другое ухо. Раздался удар гонга и Рокки, самодовольно улыбаясь, отправился в свой угол.
Мистер Гензель, склонившись над Джоуи и вытирая ему лицо мокрым полотенцем, шептал:
— Послушай, Джоуи, он начинает на тебя давить. Скажи ему чтобы перестал. Если он не перестанет на тебя давить, дело может кончиться скверно.
— Да, ладно, — отмахнулся Джоуи. — Ничего страшного. Это все работа на публику. На дружков. Добавляет перца. Делает бой интересным. Так что волноваться нечего, мистер Гензель.
— Прошу тебя, скажи ему, чтобы он перестал на тебя давить, — умоляюще прошептал мистер Гензель. — Хотя бы ради меня. Ему полагается выстоять против нас десять раундов, а нам, в свою очередь, полагается победить. Мы не можем позволить себе проиграть бой Рокки Пиджену, Джоуи.
В пятом раунде филадельфиец продолжал атаковать, резко работая обеими руками, легко передвигаясь и гоняя Джоуи туда-сюда по рингу. Его земляки вскочили со своих мест и громко ревели, демонстрируя поддержку своему любимцу. Джоуи прекрасно держался, отступая, или принимая удары на перчатки. Сам он бил только по касательной, лишь время от времени, нанося резкий удар в грудь противника. В тот момент, когда Джоуи оказался прижат к канатам в углу ринга, Рокки, с громким выдохом ударил нанес ему свинг справа под ребра.
На сей раз, Джоуи почувствовал удар. Войдя в клинч, он очень вежливо прошептал:
— Эй, Рокки, перестань на меня давить.
— О… — протянул Рокки, словно только что вспомнил о соглашении. Филадельфиец чуть отступил, после чего они ещё секунд тридцать легонько фехтовали кулаками. Со стороны всем казалось, что Джоуи все ещё прижат к канатам.
— Давай, Рокки! — проревел знакомый голос. — Кончай его! Он уже почти готов! Жми, Роки!
В глазах Рокки сверкнула молния, и он резко ударил Джоуи в голову. В тот же момент послышался удар гонга. Джоуи на несколько мгновений задержался. Он стоял, прижавшись спиной к канатам, и наблюдал за тем, как Рокки под яростные аплодисменты публики легким шагом направляется в свой угол. Джоуи оттолкнулся от канатов, подошел к своему табурету и сел.
— Ну и как идут дела? — спросил он у мистера Гензеля.
— Этот раунд ты проиграл, — торопливо и нервно произнес мистер Гензель. — Ради всего святого, Джоуи, скажи ему чтобы он перестал давить. Если ты проиграешь Рокки Пиджену, то тебе до конца жизни позволят выступать лишь за команду Еврейского сиротского приюта. Почему ты не сказал ему, чтобы он перестал давить?
— Да, говорил я! — выпалил Джоуи. — Он просто завелся. Его приятели все время орут, какой Рокки великий, а он в это с дуру поверил. Если этот придурок ещё раз ударит меня по уху, то после боя я вытащу его в темный проулок, и измолочу так, что с него свалятся брюки.
— Скажи ему, чтобы он работал полегче, — тревожным тоном произнес мистер Гензель. — Напомни ему, что мы держим его до десятого раунда. Просто напомни.
— Ну и тупица же этот Рокки, — сказал Джоуи. — Его ещё и приходится уговаривать. Как будто у меня и без этого дел мало.
Раздался удар гонга, и бойцы быстро вышли навстречу друг другу. В глазах Рокки все ещё пылало пламя битвы, и он сходу принялся наносить боковые удары. Джоуи вошел в клинч и, крепко прихватив руки, противника, сказал со всей серьезностью:
— Послушай Рокки. Что хватит, то хватит. Брось корчить из себя героя. Все уже убедились, что ты классный боец. Очень хорошо. Давай на этом остановимся. Перестань давить на меня, Рокки. Ты что, свихнулся? В дело вложены хорошие деньги. Ты хоть понимаешь, о чем я толкую? Отвечай!
— Понимаю, — прохрипел Рокки, — я просто хочу устроить интересное шоу. Ты ведь тоже хочешь участвовать в хорошем шоу. Разве нет?
— Хочу, — буркнул Джоуи, и рефери развел их в стороны.
После этого они пару минут танцевали друг против друга, но перед самым концом раунда, Рокки нанес ему сильнейший апперкот, от которого из носа Джоуи во все стороны брызнула кровь. После удара гонга, Рокки повернулся лицом к публике и, вскинув руки в перчатках, послал радостный привет своим почитателям. Джоуи посмотрел ему в спину и сплюнул кровью.
К нему подбежал мистер Гензель и потащил за собой в угол.
— Джоуи, почему ты не скажешь ему, чтобы он перестал на тебя давить? Почему ты меня не слушаешь?
— Я ему говорил, — огорченно произнес Джоуи. — Посмотрите, у меня разбит нос. Приехать в Филадельфию для того, чтобы тебе разбили нос… Ну и мерзавец же этот ваш Рокки.
— Сделай так, чтобы он прекратил безобразничать, — говорил мистер Гензель, обрабатывая нос Джоуи. — С этого момента ты должен начать выигрывать. Ты больше не смеешь ошибаться.
— Надо же… — бормотал Джоуи, — прибыть в «Звездный парк» города Филадельфии лишь для того, чтобы какой-то Рокки Пиджен изувечил тебе нос. Святой Иисус!
— Ты слышишь меня, Джоуи? — кудахтал мистер Гензель. — Понял что я требую? Скажи ему чтобы он…
Ударил гонг, и они двинулись друг на друга. Толпа взревела так, словно начала сразу с того места, на котором её застал перерыв. Громкий, перекрывающий шум публики голос причитал непрерывно: «Дави его, Рокки! Рокки, дави!».
Джоуи вошел в клинч и хрипло прошипел:
— Слушай меня внимательно, идиот. Я прошу тебя на меня не давить. Если не прекратишь, то после боя я выведу тебя на улицу и вышибу тебе все зубы. Предупреждаю.
Для того чтобы его слова выглядели более убедительно, он сопроводил их легкой серией точных ударов по ушам Рокки.
Целую минуту Рокки держался на почтительной дистанции, и Джоуи стал быстро набирать очки. Но по прошествию минуты добрая половина публики вдруг начала дружно распевать «Рокки, о Рокки! Рокки, о Рокки!» Вдохновленный этим призывом Рокки глубоко вздохнул и нанес боковой правой. Удар пришелся точнехонько в уже пострадавший нос, и из него снова брызнула кровь. Джоуи потряс головой, чтобы стряхнуть капли и, шагнув навстречу яростно атакующему Рокки, хладнокровно встретил его хуком слева. Со стороны могло показаться, что развернулась туго скрученная пружина. За хуком левой последовал кросс правой, после которого глаза филадельфийца остекленели. На лице Джоуи промелькнула удовлетворенная улыбка. Промелькнула и тут же исчезла. Публика взорвалась ревом, и Джоуи судорожно сглотнув слюну, бросил взгляд в свой угол. Мистер Гензель повернулся спиной к рингу и спрятал лицо в ладонях. Переведя взгляд в противоположный угол, он увидел, как МакЭлмон подпрыгивает, нанося удары по своей шляпе и выкрикивая:
— Рокки! Поднимайся! Понимайся, сукин ты сын, или я нашпигую тебя свинцом! Ты меня слышишь, Рокки?
За спиной МакЭлмона Пайк и Петраскис поднявшись со своих мест, взирали на Джоуи с дружескими улыбками. И мистер Пайк, и мистер Петраскис почему-то держали правую руку за бортом пиджака.
— Рокки, — хрипло прошептал Джоуи, когда рефери довел счет до пяти. Мой старый, добрый Рокки. Вставай! Ради всего святого! Прошу тебя, поднимайся. Пожалуйста… — Он вспомнил г тысяче долларов, и по его щекам потекли слезы. — Рокки, — рыдал он, стоя на полусогнутых ногах в своем углу ринга, когда судья досчитал до семи. — Вставай же, ради Бога!
Рокки перевернулся и привстал на одно колено.
Джоуи, чтобы избавить себя от дальнейших страданий, зажмурился. Когда он снова открыл глаза, то увидел, что Рокки, пошатываясь из стороны в сторону, стоит центре ринга. С губ Джоуи сорвалась благодарственная молитва и он, театрально размахивая кулаками бросился к противнику. Подбежав к Рокки он сразу же что есть силы охватил шею филадельфийца, но тот несмотря на это, начал снова опускаться на брезент ринга. Джоуи запусти обе руки ему под мышки и принялся дергаться, делая вид, что из всех сил старается освободить свои конечности.
— Держись, Рокки, — хрипло шептал он, поддерживая обмякшее тело. Попробуй напрячь колени. Ты в порядке? Ей, Рокки, ты в порядке? Отвечай! Прошу тебя, Рокки, скажи хоть что-нибудь.
Но Рокки так ничего и не сказал. Вместо этого он с замутненным взором и болтающимися чуть ли не до колен руками, всем телом припал к Джоуи. А Джоуи, тем временем, двигал локтями, делая вид, что ведет бой.
После того, как прозвенел гонг, Джоуи поддерживал Рокки до тех пор, пока на ринг не взобрался МакЭлмон и не уволок своего бойца в угол. Рефери внимательно посмотрел на Джоуи и сказал:
— Весьма занимательный бой, сэр. Да, весьма…
— Очень интересный, — согласился Джоуи, опускаясь на табурет. — Эй, мистер Гензель! — позвал он.
Мистер Гензель впервые, если считать со середины раунда, обратил лицо в сторону ринга. Тяжело, как старик, он поднялся по ступеням, и принялся машинально обрабатывать своего боксера.
— Скажи мне, — произнес он ровным, лишенным всяких эмоций голосом, — о чем ты думаешь?
— Ну и тип, этот ваш Рокки, — утомленно процедил Джоуи. — У него мозгов не больше чем у кобылы мороженщика. Всё давил на меня и давил. У меня из носа вытекло не меньше кварты крови. Я должен был проучить его, заставить хоть немного меня уважать.
— Да, — сказал мистер Гензель, — это было замечательно. Еще чуть-чуть и нас похоронят здесь в Филадельфии.
— Да не бил я его сильно! — запротестовал Джоуи. — Удар был так себе, — средний. Просто у него челюсть как у кинозвезды. С такой челюстью ему в наше дело лучше бы вообще не соваться. Парню следует обслуживать покупателей за прилавком. В молочной лавке. Масло и яйца.
— Пожалуйста, окажи мне услугу, — сказал мистер Гензель. — Подержи его ещё три раунда. Обращайся с ним осторожно. А я, пожалуй, пойду посижу в раздевалке.
Мистер Гензель удалился, предоставив Джоуи возможность возить кулаками по локтям Рокки.
Пятнадцать минут спустя он вошел в раздевалку и устало присел на массажный стол.
— Ну и как? — поинтересовался, не поднимая головы, мистер Гензель.
— Мы выиграли бой, — хрипло произнес Джоуи. — Мне пришлось таскать его на руках как младенца целых девять минут. Осторожно, как восьмимесячную девочку. Тот ещё Рокки. Я ткнул его всего лишь раз — да и то слегка — а он отпал на три года. Так надрываться как сегодня мне в жизни не доводилось. Даже тогда, когда я разливал жидкую резину в городе Акрон, штат Огайо.
— Кто-нибудь догадался? — спросил мистер Гензель.
— Мы, славу Богу, в Филадельфии, — ответило Джоуи. — Они здесь ещё не сообразили, что война кончилась. Они все ещё стоят там и вопят «Рокки! Мы с тобой, Рокки!». Они верят, что их Рокки — парень крутой и бился отчаянно. Боже мой! Каждые десять секунд мне приходилось пинать его в колено, чтобы он держался прямо и не валился на ринг!
— Но зато мы заработали кучу денег, — вздохнул мистер Гензель.
— Это верно, — согласился Джоуи без всякого восторга.
— Приглашаю тебя на ужин за доллар пятьдесят, Джоуи.
— Неаа… — протянул Джоуи, растягиваясь на массажном столе. — Я, пожалуй, останусь и отдохну. Буду валяться здесь долго-долго.
Помощник шерифа
Макомбер сидел во вращающемся кресле шерифа, возложив ноги на корзину для мусора. Закинуть их на стол ему мешало чересчур обширное брюхо. Он сидел, вперив взгляд в плакат на противоположной стене комнаты. Плакат гласил: «За совершение убийства разыскивается Уолтер Купер. Вознаграждение четыреста долларов». Иногда Макомберу приходилось торчать на этом месте семь дней в неделю и пялиться на слова «четыреста долларов», удаляясь лишь для того, чтобы немного перекусить. Справедливости ради следует сказать, что на ночь он тоже покидал офис, дабы соснуть часиков десять.
Макомбер был всего лишь третьим помощником шерифа и взвалил на себя всю заботу о делах конторы только потому, что ему страшно не хотелось возвращаться домой к супруге. Вскоре после полудня на службу пожаловал и второй помощник. Он уселся, привалившись спиной к стене, и тоже уставил взгляд на надпись, гласящую: «Четыреста долларов».
— Я вычитал в газетах, — сказал Макомбер, чувствуя, как пот струится по шее и стекает за воротник рубашки, — что в штате Нью-Мексико климат более здоровый, чем в любой другой части мира. Посмотри, как я потею. Разве можно подобную гнусность называть здоровьем?
— Ты слишком заплыл жиром, — ответил второй помощник, не отрывая взгляда от слов «Четыреста долларов». — Чего же ты теперь хочешь?
— Здесь на мостовой можно жарить яичницу, — произнес Макомбер, глядя на раскаленную улицу за окном. — Мне нужен отпуск. Тебе нужен отпуск. Всем нужен отпуск. — Он лениво передвинул кобуру револьвера, которая, как ему показалось, слишком глубоко погрузилась в его сало, и спросил: — Ну почему бы этому Уолтеру Куперу, не появиться прямо сейчас в нашем офисе? И чего он только ждет?
Зазвонил телефон, и Макомбер снял трубку. Немного послушав, он ответил:
— Нет. У шерифа послеобеденный сон. Я все ему передам. Пока.
Он медленно положил трубку на рычаг, и в его глазах сверкнул огонек.
— Это — Лос-Анджелес, — пояснил Макомбер. — Они поймали Брисбейна. Держат его в тюрьме.
— Ему светит пятнадцать лет, — заметил второй помощник. — Его подельщик уже схлопотал свои пятнадцать. Так что теперь будут распевать друг другу песни.
— Это мое дело, — сказал Макомбер, задумчив возлагая на голову шляпу. — Я первым заглянул в товарный вагон, после того как они его взломали. Шагая к дверям, он добавил: — Кто-то должен доставить Брисбейна из Лос-Анджелеса. Разве я не тот, кто должен это сделать?
— Ты — именно тот, кто должен это сделать, — лениво ответил второй помощник. — Прекрасная поездка. Голливуд. Девочки из Голливуда, которые, как известно, в полном порядке. — Он покачал головой и мечтательно добавил: — Я и сам не прочь потрясти телесами в этом городе.
Макомбер неторопливо двинулся к дому шерифа. Однако, подумав о прелестях Голливуда, он улыбнулся и, несмотря на испепеляющую жару, зашагал быстрее.
— Боже мой, — пробормотал шериф, когда третий помощник доложил ему о звонке. — Что, дьявол их побери, твориться в этом Лос-Анджелесе? — Шериф сидел на краю дивана, на котором спал, лишь сбросив ботинки, и расстегнув три верхних пуговицы на брюках. Он ещё не до конца проснулся и поэтому был сердит. — На вполне хватает и одного приговора по этому делу.
— Брисбейн — изобличенный преступник, — сказал Макомбер. — Он совершил кражу со взломом.
— Да, он совершил взлом, — согласился шериф. — Влез в товарный вагон. Увел два пальто и пару носков, а я теперь должен посылать за ним человека в Лос-Анджелес! А если попросишь их отправить к нам убийцу, то ответа не получишь и через двадцать лет! Скажи, пожалуйста, с какой стати ты решил меня разбудить? — с кислой миной спросил шериф.
— Лос-Анджелес просит вас позвонить им, как можно скорее, — без запинки выпалил Макомбер. — Хотят знать, что с ним делать. Они желают от него избавиться. Говорят, что он весь день ревет белугой, и целый тюремный блок громогласно требует его отправки. От него в тюрьме все уже озверели. Так мне сказал парень из Лос-Анджелеса.
— Мне только его здесь не хватает, — сказал шериф. — Я лишь об этом мечтаю.
Тем не менее, он сунул ноги в ботинки, застегнул штаны и направился вместе с Макомбером в свой офис.
— Ты не против того, чтобы съездить в Лос-Анджелес? — спросил он у своего третьего помощника.
— Кто-то, так или иначе, должен это сделать, — пожал плечами помощник.
— Мой старый, добрый, надежный Макомбер, — не скрывая сарказма, сказал шериф. — Становой хребет полиции. Он настолько предан службе, что готов на любые жертвы.
— Я знаком с делом, — ответил Макомбер. — Изучил его вдоль и поперек.
— Там, как я где-то вычитал, такое множество девиц, что даже толстяк не рискует остаться без дела, — покосившись через плечо на помощника, сказал шериф. Ты намерен прихватить с собой жену, Макомбер? — добавил он, ткнул большим пальцем в слой сала на ребрах спутника и рассмеялся.
— Кто-то ведь должен ехать, — серьезно произнес Макомбер. — Не скрою, мне было бы интересно познакомиться с Голливудом. Я много о нем читал.
Когда они вошли в офис, второй помощник вскочил с вращающегося кресла, и шериф тут же занял свое место, не забыв расстегнуть три верхних пуговицы на брюках. Затем он выдвинул ящик стола, извлек оттуда журнал регистрациии, обильно потея, спросил:
— И почему только люди вообще соглашаются жить в местах подобных этому? — С отвращением открыв журнал регистрации, он раздраженно продолжил: — У нас не осталось ни пенни. Ни единого вонючего пенни. Эта поездка в Нидлз за Бюхером окончательно обескровила наши фонды. Новых финансовых поступлений не будет два месяца. Мы работаем в замечательном округе. Стоит поймать одного жулика, как сразу остаёшься без средств на целый сезон! Скажи-ка Макомбер, что должен означать твой, обращенный на меня взгляд?
— Командировка одного человека в Лос-Анджелес, обойдется не более чем в девяносто долларов, — сказал Макомбер, опускаясь на крошечный стульчик.
— Может, у тебя сыщется девяносто долларов? — спросил шериф.
— Лично меня это дело не колышет, — ответил Макомбер. — Но мы имеем дело с изобличенным преступником.
— Может быть, удастся уговорить их продержать Брисбейна пару месяцев в Лос-Анджелесе? — высказал предположение второй помощник.
— Ну и мозговитые же ребята трудятся в моем офисе, — заметил шериф. Ужасно мозговитые. — Тем не менее, он поднял телефонную трубку и произнес в неё: — Соедините меня с Полицейским управление Лос-Анджелеса.
— Дело ведет человек по имени Суонсон, — подсказал Макомбер. — Именно он ждет вашего звонка.
— Если попросить их поймать в Лос-Анджелесе убийцу, то услышишь такое… Но зато, как славно они действуют против людей вскрывающих товарные вагоны.
Шериф стал ждать соединения, а Макомбер тем временем тяжело повернулся на стуле, — промокшие от пота брюки уже успели прилипнуть к его клеенчатой обивке — и посмотрел в окно на пустую, залитую белым солнечным светом улицу. На асфальте от жары появились маленькие черные пузырьки. В этот момент он всем своим скрытом под толстым слоем жира сердцем ненавидел дыру, именуемую город Гатлин, штат Нью-Мехико. Окраина пустыни. Замечательное место для больных туберкулезом. Вот уже двенадцать лет как он живет здесь. Вот уже двенадцать лет он дважды в неделю ходит с женой с кино и слушает её болтовню. Толстяк. Да любой человек, прежде чем помереть в городе Гатлин, штат Нью-Мексико, успеет обрасти жиром. Двенадцать лет… думал он, глядя на вечно пустынную улицу, оживляющуюся лишь субботними вечерами. Макомбер вдруг представил, как он выходит из парикмахерской в Голливуде, и легкой походкой направляется в бар с изящной блондинкой. Они выпивают по бутылке или даже по две — пива, беседуют и весело смеются, находясь среди миллионов таких же беседующих и весело смеющихся людей. Он будет ходить по улицам, по которым ходила Грета Гарбо, Кэрол Ломбард и Элис Фей[11]. «Сара, по делам службы мне необходимо уехать в Лос-Анджелес. Вернусь через неделю», скажет он супруге.
— Алло… — произнес в трубку шериф. — Алло… Где же этот чертов Лос-Анджелес?
Девяносто долларов. Девяносто вшивых долларов… Макомбер отвернулся от окна, чтобы не видеть опостылевшей улицы. Шериф снова заговорил в трубку, и его третьему помощнику пришлось положить ладони на колени, так как тот с изумлением обнаружил, что у него дрожат руки.
— Это Суонсон? — спросил шериф.
Будучи не в силах тихо сидеть и спокойно слушать разговор шефа, Макомбер поднялся и неторопливо зашагал через заднюю комнату в туалет. Войдя в уборную, он тщательно закрыл за собой дверь и принялся изучать свое отражение в зеркале. Да, эти годы сказались на его физиономии. Вот что значит, двенадцать лет без перерыва слушать болтовню жены. Вернувшись в офис, он услышал как шериф чуть ли не кричит в трубку:
— Да, да. Вы не обязаны держать его у себя два месяца. Мне известно, что тюрьма переполнена. И я понимаю, что это явилось бы нарушением конституции. Послушайте же, ради всего святого! Я же сказал, что знаком с вашими трудностями. Это было всего лишь гипотетическое предположение. Мне жаль, что он донимает вас рыданиями. Но разве я виноват в том, что у него глаза на мокром месте? А вы бы не зарыдали, если бы вам грозили пятнадцать лет тюрьмы? Перестаньте орать, ради Бога! Не тратьте время. Этот звонок и без того обойдется административному округу Гатлин в миллион долларов. Хорошо, я вам ещё позвоню. Хорошо, в шесть часов! Хорошо, говорю я вам! Хорошо!
Шериф положил трубку и некоторое время сидел молча, рассеянно глядя на расстегнутый пояс брюк.
— Тот ещё город, — сказал он, — этот самый Лос-Анджелес. — И, покачав головой, продолжил: — У меня настроение послать всё это дело к дьяволу. С какой стати я должен раньше времени загонять себя в гроб из-за какого-то типа, забравшегося в товарный вагон? Кто может ответить на этот вопрос?
— Но он же — изобличенный преступник, — стоял на своем Макомбер. — У нас же против него завершенное дело. — Голос третьего помощника звучал ровно, но все его естество — невидимо для других — дрожало от нетерпения. Закон есть закон.
— Голос совести — тот призрак, который вечно преследует шерифа, посмотрев на помощника, с горечью произнес шеф.
— Мне-то что до этого, — пожал плечами Макомбер. — Я всего лишь хочу закрыть дело.
Шериф снова обратился к телефону.
— Соедините меня с казначеем нашего округа, — сказал он и стал ждать, держа трубку у уха и внимательно глядя на Макомбера. Макомбер подошел к дверям, открыл их и выглянул на улицу. Чуть дальше в конце квартала он увидел свой дом и свою жену, которая сидела у окна скрестив на груди жирные руки. С её округлых локтей капал пот. Макомбер отвернулся и стал смотреть в другую сторону.
Откуда-то, как ему казалось издалека, до него долетали голоса. Это шериф беседовал по телефону с казначеем округа Гатлин, штат Нью-Мексико. Он слышал, что казначей ведет беседу на повышенных тонах. Искаженный телефоном голос чиновника звучал так, как будто на противоположном конце линии находится не человек, а какой-то скрипучий механизм.
— Все умеют тратить деньги, — верещал казначей, — но никто не хочет их зарабатывать! Все берут у меня деньги, и никто мне их не приносит! Я считаю, что мне необыкновенно повезет, если к концу месяца останутся средства на выплату моего жалования, а ты просишь девяносто долларов на увеселительную прогулку в Лос-Анджелес, чтобы привести оттуда человека, который украл подержанное барахло, ценою в девять долларов! Катись к чорту! К чорту!!
Услыхав стук брошенной казначеем трубки, Макомбер сунул руки в карманы брюк, чтобы никто не видел, как дрожат его пальцы. С холодным вниманием он следил за тем, как его шериф медленно опускает трубку на аппарат.
— Боюсь, Макомбер, — сказал шеф, — что Джоан Крауфорд придется пострадать этот год без тебя.
— Они вывесят черный креп во всех студиях, как только до них долетит эта весть, — заметил второй помощник.
— Лично мне на это плевать, — ровным голосом произнес Макомбер, — но что скажут люди, узнав, что шериф отпускает уличенного преступника после того, как тот был арестован? Боюсь, что всем это покажется весьма забавным.
Шериф резко вскочил со своего вращающегося кресла.
— Что прикажешь мне делать? — напористо и зло спросил он. Я не могу создать девяносто долларов из воздуха? Обратись к властям штата Нью-Мексико!
— Это — не мое дело, — пожимая плечами, ответил Макомбер. — Но думаю, что весь преступный мир умрет от смеха, узнав, как вершится правосудие в штате Нью-Мексико.
— Ну, хорошо! — заорал шериф. — таком случае, сделай, что-нибудь. Уходи отсюда и попытайся чего-нибудь добиться. До шести часов я в Лос-Анджелес звонить не буду, и у тебя для свершения правосудия остается три часа. А я умываю руки — Он сел, расстегнул три верхних пуговица на брюках и положил ноги на стол. — Если это для тебя так важно, — бросил он вслед направляющемуся к дверям Макомберу, — устраивай все сам!
По пути к окружному прокурору, Макомбер должен был пройти мимо своего дома. Его супруга все ещё сидела у окна, и по её телесам струился пот. Она спокойно равнодушно посмотрела на мужа, и он ответил ей таким же взглядом. Ни один из супругов не улыбнулся, и ни один из них ничего не сказал. Несколько секунд они без всякого интереса смотрели друг на друга. Так смотрят люди, которые слишком хорошо узнали один другого за двенадцать долгих лет. Макомбер решительно ускорил шаги, чувствуя, как жар раскаленного асфальта, пробившись через подошвы ботинок, ползет вверх к бедрам, наливая ноги свинцовой усталостью.
В Голливуде он будет передвигаться легко и уверенно по чистым тротуарам, прислушиваясь к звонкому перестукиванию высоких каблучков. Там он будет ходить совсем не так, как ходят толстяки. Он мечтательно зажмурился и, перед тем как свернуть на главную улицу города Гатлин, шагов десять шел с закрытыми глазами.
Макомбер вошел в огромное административное похожее на греческий храм здание, сооруженное для округа Гатлин властями штата Нью-Мексико. Проходя по гулким мраморным залам, прохладным даже в послеполуденный зной, он злобно бормотал, оглядываясь по сторонам:
— Девяносто долларов… Всего лишь девяносто вшивых долларов…
У дверей, на которых значилось: «Окружной прокурор», третий помощник шерифа задержался. Он чувствовал, как на него накатывает волна неуверенности и беспокойства. Когда Макомбер стал поворачивать ручку двери, его ладонь внезапно вспотела. Однако в помещение он вступил с независимым видом человека, выполняющего важное государственное дело.
Дверь в личный кабинет начальства была приоткрыта, и из-за неё до Макомбера доносился крик окружного прокурора:
— Побойся Бога, Кэрол! У тебя совсем нет сердца! Неужели я похожу на человека, который состоит из долларов? Отвечай!
— Я всего-навсего хочу немного отдохнуть, — упрямо пробубнила в ответ прокурорская супруга. — Каких-то три недели. Я больше не в силах выносит здешнюю жару. Если мне придется остаться здесь ещё хотя бы на неделю, я просто лягу и умру. Неужели ты хочешь, чтоб я легла и умерла? Тебе мало того, что ты заставил меня жить в этом оазисе. Теперь хочешь, чтобы я в нем закончила свои дни. — Она заплакала, покачивая головкой с прекрасно ухоженными светлыми волосами.
— Ну, хорошо, Кэрол, хорошо, — сказал прокурор. — Поезжай. Ступай домой и начинай паковаться. Перестань плакать. Ради всего святого умоляю перестань плакать!
Кэрол подняла голову, поцеловала окружного прокурора и вышла из кабинета. Проходя мимо Макомбера, она все ещё смахивала слезинки с кончика носа. Прокурор тоже вышел из кабинета, провел супругу через всю приемную и распахнул перед ней дверь. На пороге она поцеловала его ещё раз и вышла в коридор. Окружной прокурор закрыл дверь и, устало опершись на неё спиной, и ни к кому не обращаясь сказал:
— Она хочет уехать в Висконсин. У неё там есть знакомые и там множество озер. — Затем прокурор взглянул на Макомбера и спросил: — Что вам надо?
Макомбер рассказал ему о Брисбейне и Лос-Анджелесе, о средствах, которыми располагает шериф и о том, что по этому поводу думает казначей. Окружной прокурор присел на стоящую у стены скамью и слушал помощника шерифа, низко опустив голову.
— Что же вы хотите от меня? — спросил он, когда Макомбер закончил повествование.
— Этот Брисбейн, должен сесть за решетку на пятнадцать лет. Если мы доставим его сюда, у судей на этот счет не возникнет никаких сомнений. Он полностью изобличен. И обойдется это нам, в конце концов, не больше чем в девяносто долларов… Если бы вы сказали свое слово… Выразили бы протест…
Окружной прокурор сидел на скамье, низко склонив голову. Его руки расслабленно болтались между колен.
— Все готовы тратить деньги ради того, чтобы выбраться из Гатлина. Хотя бы на время и куда угодно. Знаете, во сколько обойдется моей жене трехнедельное путешествие в Висконсин? В три сотни долларов. Боже мой!
— Но то, о чем говорим мы — совсем другое дело, — мягко, но убедительно произнес Макомбер. — Оно благоприятно отразится на вашей карьере. Вы, окружной прокурор, добьетесь осуждения преступника!
— С моей карьерой и без этого всё в порядке, — сказал, поднимаясь со скамьи, прокурор. — По этому делу я уже добился одного обвинительного приговора. Может быть вы хотите, чтобы я всю оставшуюся жизнь провел в суде, выступая о краже тряпья, ценой девять долларов?
— Вам стоит сказать всего лишь несколько слов казначею… — не сдавался Макомбер, следуя в кильватер за направляющимся в свой кабинет прокурором.
— Если окружной казначей хочет экономить средства, — сказал прокурор, — то я во всеуслышанье готов заявить: «Это — тот человек, который нам нужен». Кто-то должен экономить деньги. У нас так много важных дел, а мы тратим все средства на субсидии железным дорогам…
— Мы создаем плохой прецедент. Человек, вина которого… — сказал Макомбер, и слова эти прозвучали несколько громче, чем ему того хотелось.
— Оставьте меня в покое, — оборвал его окружной прокурор. — Я очень устал, — бросил он, вошел в кабинет и плотно закрыл за собой дверь.
— Сукин ты сын. Мерзавец, — негромко произнес Макомбер, обращаясь к крашенной под дуб двери, и отправился в мраморный зал. Его рот пересох, а язык стал похож не наждачную бумагу. Склонившись над фонтанчиком со сверкающей фаянсовой чашей, поставленным заботливой администрацией штата, он выпил немного воды.
Оказавшись на улице, он, едва волоча ноги, двинулся по раскаленному тротуару. Брюхо причиняло ему неудобство, выпирая над узким поясом брюк. Вспомнив кулинарное искусство своей супруги, Макомбер рыгнул. В Голливуде он займет столик в ресторане, где питаются звезды — не имеет значения, сколько это будет стоить. Он закажет себе легкие французские блюда, которые подают под серебряными крышками, и станет запивать их охлажденным, только что со льда вином. И всего девяносто вшивых долларов… Он напряженно думал, заливаясь потом и старясь держаться в тени маркиз над витринами магазинов.
— Будь все проклято! Будь все проклято! — бормотал он себе под нос, не зная, куда двинуться дальше. Он боялся, что может проторчать до конца дней в городе Гатлтн, штат Нью-Мексико, так и не получив другого шанса, хоть не на долго, подышать воздухом радости и свободы… От напряженной работы мысли у третьего помощника шерифа начали ныть глазные яблоки. Но тут его вдруг осенило, и он, выскочив из тени маркизы, направил свои стопы в редакцию «Геральд» — единственной, издаваемой в городе газеты.
Редактор сидел за огромном столом, покрытым пылью и исчерканными вдоль и поперек верстками. Редактор лениво расчерчивал синим карандашом большущий лист белой бумаги, слушая в пол уха то, что ему излагает Макомбер.
— Вы можете продемонстрировать всем избирателям Гатлина, — торопливо говорил Макомбер, склонившись через стол к редактору, — каких людей они избрали, и как эти люди им служат. Вы можете показать всем собственникам нашего округа, какую защиту им обеспечивает шериф, окружной прокурор и окружной казначей, получившие свои посты в результате всеобщего волеизлияния. Всем будет очень интересно узнать, что преступники, совершившие кражу в нашем городе, разгуливают на свободе, показывая длинный нос правоохранительным органам округа. На вашем месте я состряпал бы оглушительную передовицу. Девяносто вшивых долларов. Стоит газете высказаться по этому вопросу, и шериф завтра же пошлет человека в Лос-Анджелес. Вы меня слушаете?
— Да, — ядовито произнес редактор, проведя три жирных синих линии на листе бумаги. — Почему бы тебе, Макомбер, сейчас не вернуться на службу и не приступить к выполнению обязанностей третьего помощником шерифа? По-моему — самое время.
— Вы — партийная газета — язвительно произнес Макомбер, — и в этом все дело. Вы — Демократы, и не вякните даже тогда, когда ваши демократические политиканы умыкнут на грузовиках весь городской центр. А газетка ваша продажный листок!
— Это точно, — сказал редактор, продолжая хладнокровно линовать бумагу. — Ты одним ударом загнал последний гвоздь в крышку нашего гроба.
— О… — протянул Макобер, поворачиваясь, чтобы уйти. — Ради всего святого…
— Знаешь, Макомбер, какая у тебя главная беда? — спросил редактор, и тут же сам ответил: — Твоя главная беда состоит в том, что ты не получаешь достаточного питания. Тебе надо лучше питаться.
Чтобы придать больше значимости своим словам, редактор поднял карандаш, направил его кончик на Макомбера и держал его так до тез пор, пока третий помощник шерифа не выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью.
Макомбер уныло брел по улице, не обращая внимания на обжигающее солнце.
По пути на службу он прошел мимо своего дома. Жена по-прежнему сидела у окна и смотрела на вечно пустынную улицу, и оживляющуюся лишь субботними вечерами.
Макомбер посмотрел на неё с противоположной стороны улицы и громко спросил:
— Неужели тебе за весь день нечем заняться, кроме как торчать у окна?
Она подняла глаза на супруга, и, не снизойдя до ответа, вновь устремила взгляд вдоль улицы.
Макомбер вошел в офис шерифа и тяжело опустился на стул, Его босс сидел все в той же позе, закинув ноги на стол.
— Ну и как? — поинтересовался босс.
— Пошли они все к дьяволу! — сказал Макомбер, стирая пот с лица цветистым носовым платком. — Разве мне больше всех надо?
Он нагнулся, развязал шнурки на ботинках и снова уселся, привалившись к спинке стула. Шериф, тем временем, связывался с Лос-Анджелесом.
— Суонсон? — произнес он в трубку. — Говорит шериф Хэдли из округа Гатлин. Отправляйтесь к Брисбейну и сообщите ему, что он может больше не рыдать. Выпускайте его. Мы за ним не явимся. Можете не беспокоиться. Благодарю. — Он повесил трубку и вздохнул так, как вздыхает человек в конце трудового дня. — Время к ужину, и я иду домой, — произнес шериф и вышел.
— Я побуду здесь, пока ты будешь питаться, — сказал второй помощник, обращаясь к Макомберу.
— Не беспокойся, — ответил тот, — я не голоден.
— О'кей, — сказал второй помощник, поднялся и направился к двери. С порога он бросил: — Будь здоров, Бэрримур[12], - и вышел посвистывая.
Макомбер проковылял в расшнурованных ботинках к вращающемуся креслу шефа, опустился в него, откинулся на спинку и уставился на плакат. На слова «За совершение убийства разыскивается… Четыреста долларов» теперь, ближе к вечеру, косо падали солнечные лучи. Макомбер возложил ноги на корзину для мусора и произнес:
— Будь ты проклят, Уолтер Купер.
Греческий генерал
— Я сделал это, — продолжал твердить Алекс. — Клянусь, что сделал.
— Рассказывай сказки, — сказал Фланаган. — Обожаю слушать сказки.
— Богом клянусь, — произнес Алекс, начиная испытывать страх.
— Давай, двигай! — Фланаган рывком поднял Алекса на ноги. — Мы собираемся в Нью-Джерси. Хоти вернуться на место преступления, которого так и не произошло.
— Ничего не понимаю, — тараторил Алекс. Он поспешно влез в пальто и, оставив дверь открытой, заторопился вниз по лестнице следом за Фланаганом и Сэмом. — Совершенно не понимаю.
Сэм вел машину по пустынным ночным улицам, а Фланаган с Алексом разместились на заднем сиденье.
— Я делал все как надо и очень внимательно, — рассказывал тревожно Алекс. — Насквозь пропитал этот проклятый дом лигроином. Ничего не забыл. Ты же знаешь меня Фланаган. Я умею делать дело…
— Даа… — протянул Фланаган. Эксперт мирового класса Александр! В любой ситуации действует не менее эффективно, чем великий греческий полководец. Только дом почему-то не загорелся. Всё. Конец сказки.
— Нет, честно, я ничего не понимаю, — Алекс недоуменно покачал головой, — Я положил фитиль в кучу тряпья, пропитанного таким количеством лигроина, что в нем можно было бы искупать слона. Богом клянусь.
— Но дом почему-то не загорелся, — упрямо твердил Фланаган. — Всё было сделано классно, только дом не пожелал гореть. Ой, как мне хочется двинуть тебя в брюхо!
— Послушай, Фланаган, — возмутился Алекс, — почему тебе вдруг захотелось двинуть меня в брюхо? Я старался изо всех сил. Сэм, — обратился он к водителю, — скажи ему… Ведь ты меня знаешь. Разве у меня плохая репутация?
— Нормальная, — буркнул Сэм, не отрывая взгляда от идущих впереди машин.
— Господи, Фаланган, скажи, с какой стати, по-твоему, я мог захотеть отвалить? Какая мне от этого польза? Ответь мне на этот очень простой вопрос.
— Меня, Алекс, начинает от тебя тошнить. Тошнить, и очень сильно, сказал Фланаган, достал пачку сигарет и не предложив Алексу, закурил, после чего принялся следить за тем, как полицейский взимает с Сэма плату за проезд через Холланд-Туннель.
Через туннель они ехали молча, и лишь Сэм один раз нарушил тишину.
— Классный туннель, — сказал он. — Великое достижение инженерной мысли. Посмотрите, они расставили копов через каждые сто ярдов.
— От тебя меня тоже воротит, — сказал Фланаган, и дальше они молчали до тех пор, пока не оказались на скоростной магистрали. Вид чистого, усыпанного звездами неба, по-видимому, чуть успокоил Фланагана, и он, сняв котелок, нервным движением провел ладонью по своим светлым, песочного цвета волосам.
— У меня, наверное, помутился разум, когда я согласился связаться с тобой, — сказал Фаланган Алексу. — Незамысловатый поджог дома ты превратил в липкую бумагу для ловли мух, а в качестве липучки использовал двадцать пять тысяч долларов, подвесив их передом мной на нитке. Нет, мне следовало тебя сразу пристрелить.
— Ничего не понимаю, — жалобно произнес Алекс. — Фитиль должен был тлеть два часа, после чего дом был обязан вспыхнуть как газовая духовка.
— Ты — типичный греческий генерал.
— Послушай, Фаланган, — сухо, деловым тоном сказал Алекс (он хотел казаться крутым) — мне не нравится, как ты со мной говоришь. Ты говоришь так, будто я нарочно провалил дело. Неужели ты думаешь, что я готов выбросить пять тысяч баксов в окно вот так, за здорово живешь? — Для большей убедительности он щелкнул пальцами.
— Я не знаю, что ты сделал, — ответил Фланаган, зажигая вторую сигарету, — но полагаю, что тебя просто не хватает мозгов. Даже в ливень ты не способен сообразить, что от него следует укрыться. Вот, что я о тебе думаю — честно и откровенно.
— Пять тысяч баксов есть пять тысяч баксов, — гнул свое Алекс. — С такими бабками я мог бы открыть бильярдную, и до конца дней кантоваться, как джентльмен. — Он поднял глаза вверх и мечтательно произнес: — Мне всегда хотелось владеть бильярдной. — Неужели ты думаешь, что я намеренно отказался от такой возможности? — довольно грубо спросил он у Фланагана. Может быть, ты считаешь, что у меня поехала крыша?
— Я ничего не думаю, — угрюмо произнес Фланаган. — Я знаю лишь то, что дом не сгорел. Это мне точно известно.
Больше Фланаган не произнес ни слова. Он мрачно смотрел в окно. Машина катила по зеленым полям Нью-Джерси, а её пассажиры дышали запахами скотных дворов, навоза и ароматам фабрик, в который варился клей. Добравшись до развилки дороги, они свернули на Оранджбург и, не доехав две мили до городка, они остановились на перекрестке. Из-за дерева вышел МакКракрен и влез в машину. Сэм начал движение ещё до того, как МакКракен успел опуститься на сиденье. Мундир МакКракерн не надел, а на его лице было выражение идущей по следу гончей.
— Бред какой-то, — сказал он, едва успев захлопнуть за собой дверцу, Чудеса, да и только. Сборище идиотов.
— Если вы явились сюда рыдать, — без обиняков заявил Фланаган, — то можете сразу выметаться.
— Я сидел в полицейском участке и чуть не сошел с ума в ожидании.
— Да, будет вам, — произнес Фланаган.
— Всё шло точно так, как мы и планировали, — продолжал МакКракен, ритмично постукивая кулаком по колену. — Без десяти одиннадцать на противоположном конце города заработал сигнал пожарной тревоги, и все пожарные части кинулись туда, тушить кусты на пустыре. Я ждал два часа, но так и не дождался никаких признаков пожара в доме Литтлуортов. Двадцать пять тысяч баксов! — Будучи не в силах преодолеть обрушившееся на него горе, он принялся раскачиваться взад и вперед. — После этого я позвонил вам. Чем вы занимаетесь? Играете в веселые игры?
— Полюбуйтесь, — сказал Фланаган, ткнув большим пальцем в сторону Алекса. — Вот — наш герой. Эксперт, эффективно действующий в любой ситуации. Как великий греческий полководец. Мне ужасно хочется пнуть ногой его в брюхо.
— Послушайте, — стараясь казаться спокойным, произнес Алекс, — там что-то пошло не так. На сей раз всё будет в лучшем виде.
— Да уж постарайся, — угрюмо ответил Фланаган. — Если ты и теперь ошибешься, тебя подадут в зажаренном виде в пироге.
— Не надо так говорить, — обиженно протянул Алекс.
— Я говорю так, как того хочу, — сказал Фланаган и добавил: — Сэм, езжай к дому Литтлоуортов.
Машина ещё не успела до конца остановиться, как из неё выскочил Алекс, и бегом кинулся к дому.
— Мы вернемся через десять минут! — крикнул он ему вслед. — Выясни к тому времени, что там не так… — он захлопнул дверь и закончил:…Алекс. — Последнее слово прозвучало, как ругательство.
Алекс посмотрел на дом Литтлуортов, огромной глыбой чернеющий на фоне звездного неба. По всем правилам дом уже давно должен был стать грудой золы, с уныло бродящими по ней в попытке установить ущерб экспертами страховой компании. Почему же он не сгорел, спрашивал себя Алекс, а сердце его обливалось кровью. Пять тысяч долларов… думал он, быстро шагая по лужайке. Прекрасная, уютная бильярдная, музыкально постукивающие друг о друга шары и парни, покупающие после каждого удара коко-колу за десять центов бутылка. Мелодичный, радующий слух звон кассового аппарата… Одним словом, жизнь джентльмена, и никакого страха, когда в твою сторону случайно взглянул коп. Так почему же этот проклятый дом не сгорел?
Алекс бесшумно скользнул в окно, которое ещё раньше оставил открытым и зашагал по толстому ковру в библиотеку, освещая себе путь короткими вспышками карманного фонаря. Войдя в библиотеку, он сразу же прошел в угол к куче тряпья, все ещё слабо попахивавшей лигроином. Затем Алекс направил луч фонаря на фитиль, который аккуратно запалил, перед тем выбраться через окно. От фитиля осталась лишь полоска пепла, и это говорило о том, что он горел как положено. Алекс неувернно потрогал тряпки. Те оказались сухими словно песок.
— Идиот! — прошептал он. — Что за идиот! — он шлепнул себя обеими руками по лбу. — Неужели, нельзя было сообразить?
Злобно пнув ногой кучу тряпья, он прошел через зал, вылез из окна, пробежал через лужайку, спрятался за дерево и, дымя сигаретой, принялся ждать возвращения Фланагана и Сэма.
Глубоко вздохнув, Алекс огляделся по сторонам. Вот как надо жить, думал он вглядываясь в большие дома, темнеющие на фоне звездного неба. Деревья и лужайки, свежий воздух тишина и пение птиц, поездка на Палм-Бич, когда вы хотите, чтобы ваш дом сгорел, и вы ничего не желаете, как это случилось. Алекс ещё раз вздохнул и раздавил сигарету о дерево. Бильярдная, при правильном управлении, может принести шесть, семь тысяч долларов в год. Имея шесть-семь тысяч можно уютно устроиться в районе Флэтбуш, где повсюду растут деревья, а в садах резвятся белки. Настоящие живые белки! Этот район Нью-Йорка похож на парк, и именно там следует жить порядочным людям…
К нему подкатил автомобиль, Фланаган открыл дверцу, и мрачно спросил, не выходя из машины:
— Итак, что скажешь, полководец?
— Знаешь, Фланаган, была совершена ошибка, — произнес Алекс, переходя на шепот.
— Не может быть! — издевательским тоном бросил Фланаган. — Не надо! Не надо меня огорчать!
— Ты намерен веселиться? — спросил Алекс. — Может быть, все же выслушаешь, что там произошло?
— Ради всего святого, Фланаган, — срывающимся голосом пропищал МакКракен, — перестань паясничать. Говори то, что надо сказать и уезжаем отсюда. — Тревожно оглядев улицу, он добавил: — Насколько мне известно, здесь каждую минуту может появиться коп!
— Наш славный Шеф Полиции. Наши «Старые железные нервы»[13], — сказал Фланаган.
— Не могу себе простить, что ввязался в это дело, — хрипло произнес МакКракен и спросил: — Итак, Алекс, что же там произошло?
— Все очень просто, — ответил Алекс, — я рассчитал горение фитиля на два часа, и за это время произошло испарение лигроина.
— Испарение? — протянул Сэм. — Что эта за штука такая «испарение»?
— Он у нас образованный парень, этот Алекс. Ну прямо студент. Знает кучу мудреных слов. Теперь послушай меня, тупоголовый грек! Гений эффективных действий! Безголовый сукин сын! И как я мог доверить подобному кретину поджог дома? Ведь ты способен только на мытье посуды в дешевой забегаловке! Александр! — сказал Фланаган и плюнул Алексу в физиономию.
— Ты не должен так говорить, — сказал Алекс, вытирая лицо, — я старался, как мог.
— Я что же нам теперь делать? — взвыл МакКракен? — Кто-нибудь может мне сказать, что нам теперь делать?
Фланаган резко наклонился вперед, схватил Алекса за воротник, и, притянув к себе, прошипел ему прямо в лицо:
— Слушай меня, Александр. Слушай внимательно. Сейчас ты вернешься в это дом и подожжешь его. На сей раз, ты подожжешь дом, как следует! Ты всё понял?
— Да, — ответил Алекс дрожащим голосом. — Конечно, я слышу тебя, Фланаган. Тебе вовсе не обязательно отрывать мой воротник. Послушай, рубашка обошлась мне в восемь долларов…
— На этот раз, ты будешь поджигать дом вручную, — сказал Фланаган и для большей убедительности сильнее затянул воротник рубашки. — Осчастливишь пожар, так сказать, своим личным вниманием. Никаких фитилей, и никаких испарений. Ты меня хорошо понял?
— Да, — ответил Алекс. — Я понял тебя, Фланаган, очень хорошо.
— Если что-нибудь опять пойдет не так, тебя запекут в пироге, протянул Фланаган, уставив взгляд своих маленьких, светлых, подловатых глаз прямо в зрачки Алекса.
— Ну почему ты не отпускаешь воротник? — прохрипел Алекс — он уже начал задыхаться, — Эта рубашка стоила мне…
— Как мне хочется врезать тебе в брюхо, — сказал Фланаган.
Еще раз плюнув Алексу в лицо, он отпустил воротник рубашки и тычком ладони оттолкнул от себя его голову.
— Послушай, Фланаган… — возмущенно пискнул Алекс и попятился назад, едва устояв на ногах.
Дверца машины захлопнулась.
— Поехали, Сэм, — бросил Фланаган, откидываясь на спинку сиденья.
Автомобиль резко рванулся с места. Алекс вытер лицо дрожащей ладонью.
— О, Господи! — прошептал он и двинулся по темной лужайке к ещё более темному дому.
Тишину ночи нарушило чириканье воробья, и Алекс едва не заплакал под сенью столь мирных деревьев.
Оказавшись в доме, Алекс повел себя весьма деловито. Первым делом он поднялся на второй этаж, где с прошлого раза оставил ведра с лигроином и перетащил их вниз по два за ходку. Затем он сорвал все драпри с окон первого этажа и сложил их кучей в дальнем конце коридора, тянущегося вдоль всей стены дома. После этого он сдернул холщовые чехлы с мебели и бросил их поверх драпри. Алекс не поленился спуститься в подвал, чтобы принести оттуда картонные коробки из-под яиц, наполненные древесной стружкой. Когда он высыпал стружки на драпри и чехлы, куча в конце коридора достигла высоты семи футов. Он работал решительно и быстро, разрывая ткань в том случае, если она легко поддавалась, и передвигаясь по ступеням лестницы бегом. На нем было тяжелое пальто, и он обильно потел, чувствуя, как струйки пота стекают под воротник рубашки. Алекс пропитал лигроином всю мягкую мебель и вылил десять галлонов жидкости на кучу, которую он воздвиг в коридоре. От острого запаха лигроина у него свербило в носу. Алекс отступил на пару шагов и с удовлетворением осмотрел дело своих рук. Если и теперь ничего не получится, подумал он, то этот дом не сожжешь даже в доменной печи. Когда он закончит подготовку и приступит к делу, в домике Литтлуортов станет очень жарко. На сей раз для ошибок не останется места. Алекс взял метлу, отломил рукоятку и обмотал её коней тряпками. Он макал этот факел в ведро до тех пор, пока тряпки не пропитались настолько, что лигроин стал стекать с них на пол широкой струей. Тихонько насвистывая мелодию песни «В старом городе сегодня будет жарко», он широко распахнул окно в противоположном от кучи тряпья и стружек конце коридора. Коридор был узким и длинным. Окна от погребально костра отделяли, по меньшей мере, тридцать пять футов.
— В старом городе сегодня будет жарко, — пропел он негромко, доставая одну спичку, из тех, что хранились россыпью в его кармане. Стоя рядом с окном, чтобы иметь возможность сразу из него выпрыгнуть, он зажег спичку и поднес огонек к своему факелу. Факел ярко вспыхнул и Алекс, что есть сил, швырнул его вдоль коридора в кучу пропитанных лигроином тряпья и стружек. Бросок оказался точным. На какой-то миг, казалось, что ничего не случилось. Алекс стоял у окна, в глазах его отражался свет факела. Он улыбнулся, поднес руку ко рту, поцеловал кончики пальцев и послал воздушный поцелуй, в противоположный конец коридора.
И в этот миг весь коридор взорвался. Куча тряпья и стружек превратилась в огненный шар, который со страшной скоростью понесся к окну за спиной Алекса. Крик, вырвавшийся из его горла утонул в громовом реве взорвавшегося дома, и Алекс успел нырнуть на пол в тот момент, когда над ним пролетал клубящийся огненный шар. Шар сорвал с него шляпу, опалил волосы и огромным клубом огня, вырвался из окна так, как вылетает дым из печной трубы.
Придя немного в себя, Алекс прежде всего почувствовал сильный запах гари. Затем он увидел, что ковер под его лицом горит — горит тихо и ровно, словно уголья на каминной решетке. Алекс три раза ударил себя по голове, чтобы погасить огонь на том, что осталось от его волос, и попытался принять сидячее положение. Однако дым оказался настолько густым, что он кашляя и заливаясь слезами, снова лег на пол и медленно фут за футом пополз по горящему ковру. Он полз к ближайшей двери, а руки его чернели и сохли, а кожа на них трескалась. Наконец, он открыл дверь и выполз на боковую веранду дома. В тот же момент, позади его рухнули стропила, и плотный, как цемент, столб пламени взвился из крыши в черное небо. Алекс вздохнул, подполз к краю террасы и свалился с высоты пяти футов на кучу земли, которой предстояло стать цветочной клумбой. Земля была теплой и пахла навозом, но он тихо лежал, с благодарностью вдыхая этот аромат. Алекс лежал бы и дольше, если бы вдруг не почувствовал, что с его бедром происходит нечто странное. Он сел и покосился на бедро. Из-под пальто выбивалось пламя, а кожа под ним, похоже, начала запекаться. Алекс аккуратно расстегнул пальто и несколькими ударами сбил пламя, вырывающееся из кармана, в котором он хранил спички. Покончив с пожаром на своем бедре, Алекс выполз на лужайку и сел под деревом, тряся головой. Он тряс ею снова и снова, в надежде прояснить затуманившееся сознание. Однако силы оставили его, и он в бесчувствии улегся под деревом, головой на корневище.
Где-то вдали беспрестанно звонил колокол. Алекс открыл глаза с опаленными ресницами и прислушался. Пожарные машины уже сворачивали на улицу. Он ещё раз вздохнул и, как можно ниже припадая к холодной земле, пополз по земле к задней стене дома и затем дальше через живую, но без листвы изгородь, больно царапающую обожженные руки. Скрытый высокой живой изгородью Алекс поднялся и пошел прочь как раз в тот момент, когда первый пожарный выбежал из-за угла к задней стене дома.
Упорно, но замедленно, так как ходят во сне, он шагал к дому МакКракена. Для того, чтобы добраться до дома шефа полиции ему потребовалось сорок минут. Алекс двигался темными проулками и задворками, чувствуя, как лопается на коленях опаленная кожа. Он нажал кнопку звонка и стал ждать. Медленно открылась дверь и из-за неё осторожно выглянул МакКракен.
— Боже мой! — прошептал МакКракен и стал закрывать дверь. Однако Алекс выставил ногу и не дал ему это сделать.
— Впустите меня, — хриплым, срывающимся голосом произнес он.
— Ты обгорел, — сказал МакКракен, пытаясь ударом ноги столкнуть ступню Алекса с порога. — У меня с тобой нет ничего общего. Убирайся отсюда.
Алекс извлек револьвер, уткнул ствол в ребра МакКракена и прошипел:
— Впусти.
МакКракен медленно открыл дверь и Алекс чувствовал, как дрожат ребра полицейского под стволом револьвера.
— Полегче, — пискнул голосом испуганной девочки МакКракен. — Слышишь, Алекс, полегче!
Они вошли в прихожую, и МакКракен закрыл дверь. Дверную ручку он, однако, не отпускал, так как боялся, что от ужаса хлопнется в обморок.
— Что тебе надо от меня, Алекс? — Когда он говорил, его свободно болтающийся на шее галстук дергался в такт словам. — Что я могу для тебя сделать?
— Мне нужна шляпа, — ответил Алекс. — И пальто.
— Хорошо, хорошо, Алекс, — захлебываясь от торопливости произнес МакКракен. — Что ещё я могу для тебя сделать?
— Я хочу, чтобы вы отвезли меня в Нью-Йорк.
— Послушай, Алекс, — МакКракен нервно сглотнул и провел по сухим губам тыльной стороной ладони, — давай рассуждать здраво. Я не могу везти тебя в Нью-Йорк. У меня работа, за которую мне в год платят четыре тысячи. Я начальник полиции и не могу рисковать…
— Я всажу тебе пуля в кишки, — сказал Алекс, а из его глаз полились слезы. — Так что, давай, помогай!
— Хорошо, хорошо, — поспешил согласиться МакКракен. — Почему ты плачешь?
— Мне больно. Мне так больно, что нет сил терпеть, — сказал Алекс и, покачиваясь от боли, принялся расхаживать взад-вперед по прихожей. — Мне надо попасть к доктору, пока я не загнулся. Давай, ублюдок, вези меня в город, — прорыдал он.
Машина катила на восток в сторону рассвета, и всю дорогу до Джерси-сити Алекс плакал, дергаясь на переднем сидении машины. Он завернулся в большое пальто МакКракена, а старая шляпа полицейского свободно ерзала туда-сюда на его опаленном черепе. Бледный, с отрешенным лицом МакКракен что есть сил держался потными руками в баранку, время от времени испуганно косясь на Алекса.
— Да, — сказал Алекс, случайно поймав один из этих взглядов. — Я все ещё здесь. Пока не умер. Ты, Шеф полиции, лучше смотри, куда правишь.
Не доезжая квартала до входа в Холланд-тоннель со стороны Джерси, МакКракен остановил машину.
— Пойми, Алекс, — взмолился он, — не заставляй меня ехать через Тоннель до Нью-Йорка. Я не могу рисковать.
— Я должен попасть к врачу, — сказал Алекс, облизывая растрескавшиеся губы. — Мне нужен доктор. И никто не помешает мне получить медицинскую помощь. Ты провезешь меня через тоннель, а потом получишь пулю — потому что ты ублюдок. Ирландский ублюдок! Заводи мотор. — Раскачиваясь от боли, он крикнул: — Заводи мотор, тебе говорят!
МакКракен так дрожал от страха, что управление машиной давалось ему лишь с огромным трудом. Тем не менее, он доставил Алекса в Бруклин к отелю «Святого Георга», в котором обитал Фланаган. Шеф полиции остановил машину и, бессильно поникнув, опустил голову на рулевое колесо.
— О'кей, Алекс, — сказал он. — Мы на месте. Ты же будешь хорошим парнем, не так ли? Ты ведь не сделаешь ничего такого, о чем тебе придется позже пожалеть? Я семейный человек, Алекс. У меня трое детей. Почему ты молчишь, Алекс? Почему ты хочешь сделать мне плохо?
— Потому что ты — ублюдок, — с трудом с трудом смог выдавил Алекс, так как у него одеревенела челюсть. — У меня хорошая память. Я помню, как ты не хотел мне помочь, и я должен был тебя заставлять.
— Моему младшенькому лишь два годика, — со слезами в голосе сказал МакКракен. — Неужели ты хочешь сделать младенца сироткой? Умоляю, Алекс. Я сделаю все, что ты скажешь.
— Ну, ладно, — вздохнул Алекс. — Пойди приведи Фланагана.
МакКракен выпрыгнул из автомобиля и вскоре вернулся в сопровождении Фланагана и Сэма.
Алекс слабо улыбнулся, когда Фланаган открыл дверцу и посмотрел на него.
— Мило. Очень мило, — присвистнув, произнес Фланаган.
— Ты только посмотри на него, — покачал головой Сэм. — Будто только что с войны вернулся.
— Вам надо посмотреть, что я сделал с домом, — сказал Алекс. Первоклассная работа!
— Ты умрешь, Алекс? — участливо поинтересовался Сэм.
Алекс пару раз бесцельно взмахнул револьвером, а затем рухнул головой на приборную доску с таким звуком, что со стороны могло показаться, будто кто-то изо всех сил ударил по мячу бейсбольной битой.
Открыв глаза, он обнаружил, что находится в полутемной, скудно меблированной комнате, и до него откуда-то издалека долетел голос Фланагана:
— Послушайте, док, нельзя допустить, чтобы это парень умер. Он должен выкарабкаться. Понимаете? Нам будет трудно избавиться от мертвого тела. Объяснить его появление мы не сможем. Мне плевать, если он потеряет обе руки и обе ноги, или что на это уйдет пять лет. Вы должны его вытащить.
— Мне не следовало с вами связываться, — послышался вой МакКракена. Какой же я идиот! Рискнуть работой, которая дает четыре тысячи в год. Мне следует пройти психиатрическое обследование.
— Возможно, он выживет, но, возможно, и нет, — произнес какой-то незнакомый голос профессиональным тоном. — Парень постарался, что надо.
— Похоже, что ему предначертано быть похороненным на конском кладбище, — заметил Сэм.
— Заткнись! — распорядился Фланаган, и добавил: — С этого момента никто больше не произносит ни слова. Это дело сугубо частное. Александр! Полководец! Вшивый грек!
Прежде чем снова потерять сознания, Алекс услышал, как они уходят.
Следующие пять дней доктор держал его на уколах морфина, а Фланаган держал Сэма рядом с постелью Алекса. Сэм в свою очередь держал в руках полотенце, которое использовал в качестве кляпа, когда больной начинал вопить от боли.
— Это приличный пансион, Алекс, — примирительно говорил он, затыкая Алексу рот. — Здесь не любят шума.
И Алекс сколько угодно мог кричать в полотенце, никого при этом не беспокоя.
По прошествии десяти дней, доктор сказал Фланагану.
— Всё в порядке. Он будет жить.
— Тупой, грек, — со вздохом проговорил Фланаган, ласково потрепав Алекса по перебинтованному черепу. — Как мне хочется врезать ногой ему в брюхо! Но ещё больше мне хочется напиться. — С этими словами он поправил криво сидевший на голове котелок и вышел.
Алекс провел в меблированной комнате три месяца, почти не меняя позы. Сэм выступал в роле няньки и медицинской сестры в одном лице. Он его кормил, играл с ним в карты — преимущественно в рамми, и читал ему спортивные новости.
В то время, когда Сэм отсутствовал, Алекс лежал, смежив веки, и мечтал о своей бильярдной. Над её дверями будет ярко вспыхивать и гаснуть неоновая надпись «Бильярдная Алекса». Внутри он расставит новые столы и кожаные кресла, чтобы заведение стало похожим на клуб. «Бильярдная Алекса» станет столь рафинированным местом, что там смогут играть даже леди. Он сделает всё, чтобы бильярдная отвечала утонченным вкусам избранных слоев общества. Не исключено, что там станут подавать холодный бесплатный ленч: ростбиф и швейцарский сыр. Всю оставшуюся жизнь он проведет как джентльмен, сидя в клубном пиджаке за кассой. В этот момент Алекс всегда улыбался. Как только Фланаган выдаст ему его долю, он тотчас отправиться в бильярдную на Клинтон-стрит и выложит деньги на стойку. Наличными. Эти доллары дались ему тяжело. Он едва не умер, и были моменты, когда он мечтал о смерти. Его волосы сгорели и теперь до конца дней будут расти пучками, как трава на заброшенной дороге. Ну и дьявол с ними! Ничего нельзя получить задаром. Пять тысяч долларов, пять тысяч долларов, пять тысяч долларов…
Первого июня, впервые за три месяца и двенадцать дней он оделся. Натянув брюки, он был вынужден некоторое время посидеть, так колени не держали. Затем он оделся до конца, оделся очень тщательно, уделив особое внимание галстуку. Покончив с одеванием, Алекс сел и принялся ждать появления Фланагана и Сэма. Вскоре он выйдет из этой вшивой каморки с бумажником, распухшим от пяти тысяч долларов. Что же, думал он, я заработал эти деньги. Заработал.
Фланаган и Сэм ввалились без стука.
— Мы торопимся, — объявил Фланаган. — Уезжаем на Адирондакские горы. В июне там, как говорят, классно. Мы хотим произвести окончательный расчет.
— И правильно, — осклабился Алекс. Он не мог не улыбаться, думая о деньгах. — Пять тысяч долларов, детка.
— Боюсь, что ты ошибаешься, — медленно произнес Фланаган.
— Ты сказал, пять тысяч долларов? — вежливо переспросил Сэм.
— Да, — ответил Алекс. — Да. Пять тысяч баксов, как мы и договаривались. Разве не так?
— Это было в феврале, Алекс, — ровным голосом пояснил Фланаган. — А с февраля много что успело случиться.
— С тех пор произошли великие изменения, — добавил Сэм. — Почитай газеты.
— Перестаньте издеваться, — сказал Алекс, обливаясь в глубине души слезами. — Прекратите это дерьмо!
— Всё верно, полководец, — произнес, глядя без всякого интереса в окно, Фланаган, — тебе причиталось пять тысяч долларов. Но всех их сожрали докторские счета. Разве это не ужасно? Страшно подумать, насколько дорогими в наши дни стали медицинские услуги!
— Мы пригласили для тебя специалиста, Алекс, — вмешался Сэм. — Самого лучшего. Кроме ожогов, он знаменит и тем, что классно лечит огнестрельные раны. Но стоит безумно дорого.
— Послушай ты, вшивый Фланаган! — заорал Алекс. — Я тебя достану! Не думай, что я не смогу тебя достать!
— В твоем состоянии кричать вредно, — примирительно сказал Фланаган.
— Да, — подтвердил Сэм, — специалист говорит, что тебе нельзя напрягаться.
Фланаган подошел к комоду, выдвинул ящик и извлек из него револьвер Алекса. Умело открыв барабан, он вытряхнул себе на ладонь патроны и тут же пересыпал их в карман.
— На тот случай, если твоя горячая греческая кровь на минуту затуманит тебе голову, Алекс, — пояснил он. — Это было бы очень плохо.
— Послушай, Фланаган! — крикнул Алекс. — Неужели я ничего не получу? Совсем ничего?
Фланаган взглянул на Сэма, открыл бумажник, вытянул оттуда пятидесятидолларовую банкноту и швырнул её Алексу.
— Из собственного кармана, — сказал он. — Как знак моей ирландской щедрости.
— Наступит день, — сказал Алекс, — когда я расплачусь по всем долгам. Запомни. Так что жди.
— Эксперт мирового класса, эффективно действующий в любых обстоятельствах, — захохотал Фланаган. — Послушай Александр, тебе наш бизнес противопоказан. Поэтому завязывай. Прислушайся к совету старика. Тебе для нашей работы не хватает темперамента.
— Я расплачусь, — упрямо повторил Алекс. — Запомни.
— Полководец! — рассмеялся Фланаган. — Ужасный грек! — Он приблизился к Алексу и ткнул тыльной стороной ладони в лицо. Голова Алекса резко дернулась назад. — Будь здоров, Александр! — бросил Фланаган и вышел из комнаты.
После этого к Алексу подошел Сэм. Он положил ладонь на плечо страдальца и ласково произнес:
— Береги себя, Алекс. Тебе пришлось пройти через большие испытания.
Сказав слова утешения, он последовал за Фланаганом.
Минут десять Алекс сидел в кресле, уставившись сухими глазами в стену. Нос от удара Фланагана слегка кровоточил. Затем Алекс вздохнул, встал с кресла и влез в пиджак. С трудом наклонившись, он поднял с пола пятьдесят долларов и положил банкноту в бумажник. Пустой револьвер он опустил в карман пальто и медленно вышел из дома на яркое июньское солнце. Едва доковыляв до парка «Форт грин», он, тяжело дыша, уселся на первую скамейку. Несколько минут он сидел в неподвижной задумчивости, время от времени печально покачивая головой. Затем Алекс извлек из кармана пальто револьвер, осторожно огляделся по сторонам и незаметно опустил оружие в стоящую радом со скамьей урну. Пушка упала на накопившиеся в уроне бумаги с негромким глухим стуком. Алекс запустил руку в урну, вытащил оттуда выброшенную кем-то газету и сразу обратился к разделу «Работа». Солнце ярко освещало газетные листы. Алекс прищурился и начал водить пальцем по странице, отыскивая секцию «Требуются молодые мужчины». Он ещё долго сидел в своем тяжелом пальто под жарким июньским солнцем, делая на полях газетного листа крошечные карандашные пометки.
Жители иных городов
Когда пришли большевики, все мужчины, включая мелких лавочников, приказчиков, служащих и случайно оказавшихся в городе селян, поспешно нацепили красные банты и высыпали на улицы приветствовать их приход, распевая наспех, и поэтому плохо заученный «Интернационал». Пока большевики оставались у власти, в городе царил покой и порядок. Ночные улицы охраняла милиция и ко всем — даже евреям — обращались «товарищ». Затем, когда белые снова овладели городом, все те мужчины, которые не ушли вместе с большевиками, вышли на улицы, чтобы выразить свой восторг в связи с их возвращением, а женщины на всех окнах вывесили белые простыни. Сразу начались погромы. Дома евреев подвергались разграблению, а еврейских женщин насиловала городская шпана. Таким был Киев в 1918 году. Город много раз переходил из рук в руки. Ураган войны сотрясал его, и всю историю того времени можно было прочитать в печальных глазах живших в нем евреев.
Волнения начались около пяти вечера. Сразу после полудня на площади и в расположенных рядом с ней трактирах стали скапливаться молчаливые мужчины. Туда же стягивались, бросив работу, вооруженные топорами деревенские жители. Рядом с крестьянами в тех же трактирах сидели и солдаты разбежавшейся царской армии. У солдат в руках были винтовки, с которыми они до этого воевали с германцами.
Мы не сомневались, что они обязательно придут, и поэтому поспешили спрятать серебряные вещи, атласные одеяла, деньги и кашемировую шаль мамы. Вся семья собралась в доме отца — четыре сына, четыре дочери, мой дядя и его жена. Мы выключили свет во всех комнатах, задернули занавески и стали ждать в полутемной гостиной. Все молчали. Даже самые маленькие выглядели подавленными и тихонько сидели на полу. Жена дяди тут же кормила грудью своего четырехнедельного младенца, поскольку здесь, в кругу семьи ей было не так страшно. Я не сводил с неё глаз. Сара — так звали жену моего дяди была красивой женщиной. Ей недавно исполнилось девятнадцать лет, и у неё были очень пышные, но, тем не менее, не отвислые груди. Она, кормя свое дитя, негромко мурлыкала песенку, и лишь этот звук нарушал царящую в гостиной тишину.
Мой отец седел в середине комнаты с тем же отрешенным видом, который у него бывал, когда он вел службу в синагоге. Создавалось впечатление, что папаша вступил в прямой контакт с ангелами и ведет с ними оживленную дискуссию на тему, известную лишь ему одному и, конечно, ангелам. Отец всегда очень мало ел, и его волновали лишь дела духовные. Меня он, в некотором роде, недолюбливал за то, что я, высокий и широкоплечий не по возрасту, смахивал на деревенского мужика и посещал Академию художеств, где рисовал голых женщин. Он поймал мой, обращенный на груди тети Сары взгляд, и его ноздри на мгновение гневно раздулись, а губы чуть дрогнули. Я же в знак протеста смотрел на тетю ещё секунд тридцать.
Где-то вдали тишину молчащего города нарушил чей-то крик. Нарушил, чтобы тут же умолкнуть. Младенец на руках тети Сары, вздохнул и погрузился в сон. Молодая мама прикрыла грудь и, сев прямо, стала неотрывно следить глазами за своим мужем. Мой дядя Самуил тем временем медленно расхаживал взад-вперед между супругой и входной дверью. На дядиной челюсти играли желваки, и маленькие светлые выпуклости то появлялась, то снова исчезали. Мама быстро снимала с полок книги, вкладывала между страниц деньги и возвращала книги на место. На полках стояли две тысячи книг, как на иврите, так и на русском, немецком и французском языках. Я бросил взгляд на часы. Без четверти пять. Это были новые наручные часы, точно такие, какие носили офицеры на войне, и я ими страшно гордился. Мне очень хотелось, чтобы что-нибудь произошло. А было мне тогда шестнадцать лет.
Погром проистекает следующим образом. Вначале откуда-то издалека до вас доносятся один-два вопля. Затем раздается шум бегущих ног, шум быстро приближается, и вы слышите, как со стуком открывается дверь соседнего дома. После этого до вас снова и снова доносится звук шагов. Криков не слышно, а шум шагов похож на шорох гонимых ветром по мостовой сухих, осенних листьев. Затем наступает тишина, а через некоторое время, до вы вновь начинаете слышать движение толпы.
На сей раз погромщики прошли мимо нашего дома. В окна мы выглядывать не стали и не сказали друг другу ни слова. Дядя не прекращал своего хождения, а тетя Сара продолжала следить за ним глазами. Когда толпа приближалась к дому, отец закрыл глаза и открыл их тогда, когда угроза миновала. Моя семилетняя сестра Эсфирь безостановочно ковыряла в носу, а мама тихо сидела, положив руки на колени.
Через некоторое время мы услышали под нашими окнами женское рыдание. Женщина прошла мимо дома, свернула за угол, и рыдания стихли.
Толпа вернулась только через полчаса. Все началось с того, что погромщики переколотили стекла окон дубинами и проломили двери топорами. Уже через несколько мгновений наш дом и вся улица перед ним оказались заполненными мужчинами. В помещение ворвался запах пота, скотного двора и алкоголя. И в нашем аккуратном, маленьком доме, который мама подметал три раза на день, закружился водоворот лиц, шинелей, темных пальто, винтовок, ножей, штыков, дубин и топоров. Погромщики зажгли все лампы, а здоровенный, усатый детина в мундире унтера царской армии непрестанно орал:
— Заткнитесь! Заткните свои пасти, ради Христа!
Мы все сгрудились в одном углу гостиной, а перед нами расхаживал усатый унтер. Дядя Самуил прикрыл собой жену и ребенка, а мама заняла позицию впереди отца. Сестра Эсфирь впервые за все время заревела.
Унтер-офицер держал в руках штык.
— Старший сын! — заревел он, поигрывая штыком. — Кто здесь старший сын?
Эсфирь рыдала. Никто не промолвил ни слова.
— Не слышу ответа! — рявкнул унтер и рубанул штыком по столешнице с такой силой, что во все стороны брызнули щепки. — Кто здесь, дьявол вас, вонючек, побери, старший отпрыск?!
Тогда я выступил вперед. Мне всего шестнадцать, и мой брат Эли старше меня. Так же как другой брат Давид. Но вперед вышел я.
— Что? — спросил я. — Что надо?
— Малыш, — произнес унтер, шагнул вперед и ущипнул меня за щеку. Погромщики за его спиной весело заржали. — Что же, жидочек, теперь ты можешь послужить обществу.
Я взглянул на отца. Тот, чуть прищурившись, смотрел на меня с отрешенным лицом. Видимо, папаша снова беседовал с ангелами.
— Что вы желаете? — спросил я, обращаясь ко всей толпе и чувствуя, как пульсирует кровь. Особенно сильно она почему-то пульсировала в локтях и коленях.
Унтер взял меня — хотя и не очень грубо — за воротник.
— Жидочек, — сказал он, — мы желаем получит все, что имеется в этом доме. Ты станешь водить нас по комнатам и все отдавать. — Чтобы придать своим словам больше убедительности, он меня слегка потряс. Думаю, что унтер весил не меньше двухсот двадцати пяти фунтов.
Мама протолкалась ко мне и прошептала на идиш:
— Отдавай им, как можно меньше, Давид.
— Говори по-русски! — рявкнул унтер, отталкивая маму. — Всем говорить по-русски!
— Она не говорит по-русски, — соврал я, лихорадочно пытаясь сообразить, что из ценностей им отдать, а что приберечь на потом.
Я ходил из комнаты в комнату в сопровождении пяти выделенных погромщиками доверенных лиц. С каждым шагом я становился взрослее и умнее. Я продумывал каждый очередной шаг, отдавая им только то, что они и без моей помощи легко могли обнаружить. Я отдал им немного серебряных вещей, пару одеял и несколько маминых безделушек. Я знал, что последуют другие налеты, и новых погромщиков придется тоже чем-то ублажать.
Когда я снова проходил через гостиную, то увидел, что дядя лежит на полу, и из раны на его голове течет кровь. Здоровенный селянин держал одной рукой четырехнедельного младенца, и Сара рыдала в углу, в окружении мужчин, которые с хохотом дергали её за рукава и пытались приподнять юбку. Эсфирь сидела на полу, сунув в рот кулак, а мама, маленькая и толстая, стояла как скала перед застекленными дверцами книжного шкафа. Папаша, длинный и тощий, мечтательно смотрел в потолок, время от времени дергая свою жидкую бороденку. Мужчины громко хохотали, и слов я расслышать не мог. Пол гостиной был усыпан разбитым стеклом.
Выйдя из спальни матери, я остановился. В коридоре уже высилась большая гора вещей, собранных сопровождающими меня грабителями.
— Конец, — сказал я. — Вы забрали всё.
Унтер ухмыльнулся и дернул меня за ухо.
— Ты — хороший мальчик, — сказал унтер, который явно наслаждался ситуацией. — Ведь ты не станешь мне врать? Правда?
— Не стану.
— Ты ведь знаешь, что бывает с маленькими мальчиками, которые мне врут?
— Да. Отпустите ухо! Мне больно.
— О… — унтер с издевательской тревогой повернулся к своим подручным. — Я делаю ему больно. Я делаю бо-бо ушку жидочка. Как скверно я поступаю.
Погромщики расхохотались. В других комнатах тоже смеялись, и мне казалось, что весь дом трясется от их хохота.
— Может быть, стоит ушко вообще отрезать? — спросил унтер. — Может, после этого оно перестанет болеть? Что скажете, ребята?
Ребятам это предложение явно пришлось по вкусу.
— Прекрасное кошерное ухо, — сказал один из них. — Сгодится на студень.
— Ты уверен, что больше ничего не осталось? — спросил усатый унтер, нещадно крутя мое ухо.
— Надеюсь, что ты прав, жидочек. Ради своего же блага.
Унтер повел меня через гостиную в маленькую музыкальную комнату, которую от гостиной отделяли широкие раздвижные двери.
— Теперь мы приступаем к обыску дома, мальчик, — очень громко, перекрывая общий шум голосов, сказал унтер. — И если мы найдем хоть что-нибудь, что ты нам не отдал, хотя бы одну крошечную серебряную ложечку для младенца, то… — он прикоснулся острием штыка к моему горлу.
Я почувствовал, как по шее потекла струйка крови, и краем глаза я увидел, что на воротничке рубашки появились красные пятна.
— …то тебе — хана. Бедный маленький жидочек.
Унтер со значением посмотрел на маму. Она ответила ему твердым взглядом. Давид и Эли, бледные и высокие духом, как, впрочем, и мой папаша, стояли рядышком, взявшись за руки. На щеке Давида я увидел светлые припухлые полосы. Братья не могли оторвать от меня взгляда округлившихся глаз.
Отдав приказ приступить к обыску, унтер провел меня в музыкальную комнату.
— Садись, мальчик, — сказал он, плотно сдвинув створки дверей. Я повиновался, а он уселся напротив и положил штык себе на колени. — Одна крошечная серебряная ложечка и вжжик…
Я не верил, что он может меня убить. Передо мной сидел грузный, глупый амбал, а по его подбородку стекала струйка слюны. Я же читал книги по французскому искусству и видел репродукции творений Сезанна и Ренуара. Невозможно даже и в мыслях допустить, чтобы какой-то дурак в изодранном и заляпанном грязью мундире мог убить такого знатока искусств, как я.
— Ты все ещё уверен, что ничего не осталось? — спросил он.
— Вы забрали все до последнего клочка, — ответил я.
— Всех жидов надо убить, — вдруг заявил он.
Я не отрывал глаз от штыка и представлял, как ведущие обыск бандиты осматривают книжную полку со спрятанными между страниц книг рублями, как находят чемодан под двойным полом чердака, как находят зарытый в куче угля самовар, а в самом самоваре — дорогие кружева…
— Россия заражена жидами, — с ухмылкой продолжал унтер. — Они — как чума. Я дрался под Таненнбургом и имею право на собственное мнение.
Из соседней комнаты донеслись крики Сары, и я услышал, как начал возносить молитвы отец.
— Вначале мы прикончим всех жидов, — не унимался мой мучитель, — а потом и большевиков. Думаю, что ты — тоже большевик.
— Я — художник, — ответил я, даже в эту трудную минуту, не без гордости.
— Это хорошо, — сказал унтер. Ему пришлось повысить голос, так как в гостиной громко кричала Сара, — такой маленький жидочек, а уже художник. Он взял меня за руку и, увидев часы, продолжил: — Вот как раз то, что я искал. — Унтер сорвал часы с моего запястья и опустил их в свой карман. Спасибо, малыш, — с ухмылкой бросил он.
Я страшно огорчился. Эти часы делали меня джентльменом, превращали в гражданина мира.
Унтер достал пачку папирос, вынул одну и машинально протянул пачку мне. Я никогда раньше не курил, но на сей раз взял папиросу и закурил, вдруг ощутив себя взрослым мужчиной. Интересно, что сказал бы папаша, увидев, как я дымлю. В нашем доме никому, включая дядю, курить не дозволялось. Что же, подумал я, теперь я, по крайней мере, знаю, что такое курение. Дым я глубоко не вдыхал. Я лишь набирал его в рот и тут же выдувал обратно.
— Художник… — протянул унтер. — Маленький художник. Вам со мной не скучно, господин художник?
Он был очень жестоким человеком, это унтер.
— Наверное, они сейчас открывают шкаф внизу, — сказал он, ласково похлопывая меня по колену. — И находят там канделябр. Здоровенный золотой канделябр.
— Ничего они не находят, — ответил я, заливаясь слезами, так как в глаза мне попал дым. — Там нечего искать.
— Маленький художник. Маленький жидовский художник, — произнес он и при помощи штыка принялся одна за одной срезать пуговицы с моего костюма. Унтер явно наслаждался жизнью. Из гостиной доносились крики Сары и Эсфири. Двери музыкальной комнаты раздвинулись, и в неё вошли два следопыта.
— Ничего, — объявил один из них. — Ни единой вонючей пуговицы.
— Тебе повезло, малыш, — сказал унтер, улыбнулся, наклонился ко мне и, что есть силы, ударил меня кулаком в висок. Я упал, и весь дом погрузился в тишину и во тьму.
Когда я пришел в себя, моя голова покоилась на коленях мамы, а погромщиков уже не было. Открыв глаза, я увидел, что дядя Самуил обнимает тетю Сару, и что из раны на его голове все ещё сочится кровь, пачкая их одежду. Но они этого не замечали, без слез приникнув друг к другу. Рядом с ними на кресле безмятежно спал младенец. Склонившееся надо мной лицо мамы было абсолютно спокойным, и откуда-то издали до меня доносился её голос:
— Всё хорошо, Даниил. Всё хорошо, мой маленький Даниил — львиное сердце. Всё хорошо, мой милый. Все просто отлично.
И уже где-то уже совсем далеко звучал голос папаши.
— Вы желаете знать, какую самую серьезную ошибку я совершил в своей жизни? — вопрошал он. — Я вам отвечу. В 1910 году у меня имелась возможность уехать в Америку. И почему, спрашивается, я не уехал? Скажи мне, Творец Всемогущий, почему твой раб не уехал в Америку?
— Не двигайся, детка, — прошептала мама. — Закрой глаза и лежи тихо.
— Я сгораю от стыда, — донесся до меня полный слез голос моего брата Давида. — Ведь старший сын в семье — я. А выступил навстречу им он. Ему шестнадцать, а мне девятнадцать, и я спрятался за его спиной, — с горечью причитал он. Да простит меня, Бог.
— Даниил, — промурлыкала мама. — Маленький, но с умом философа, продолжила она и вдруг неожиданно фыркнула.
Мама смеялась среди всей этой крови и слез. Я приподнялся и тоже рассмеялся, а она меня поцеловала.
За окном, где-то очень далеко, на противоположной стороне города, слышались выстрелы, а чуть ближе к нам громко кричали люди. По соседней улице, судя по стуку копыт, галопом промчался конный отряд.
— Может быть, это большевики? — с надеждой сказала мама. — Если это так, то мы спасены.
— Помолимся, — произнес папаша, и все, даже дядя Самуил приготовились вознести молитвы.
Дядя нежно снял руки Сары со своих плеч и поцеловал её пальцы. Затем он поднял с пола шляпу и водрузил себе на голову. Сара, держа ребенка на руках, села на стул, выражение ужаса постепенно начало исчезать из глаз молодой женщины. Бандиты её серьезно не обидели.
Папаша притупил к молитве. Я, надо сказать, никогда не верил в его ритуалы. Папенька постоянно пребывает рядом с Творцом, и поэтому очень далек от жизни. Я просто ненавидел его нездоровую до безумия святость, его отрицание всего земного — отрицание всего сущего ради вечности.
— Благословенен будь, Отец наш, Творец Всемогущий… — начал он, а я поднялся и отошел к окну.
— Даниил, — сказал папаша, прервавшись на миг, — мы возносим молитву.
— Знаю, — ответил я, а мои братья и сестры тем временем бросали на меня тревожные взгляды. — Мне хочется посмотреть в окно. А молиться я не желаю.
Было слышно, как из легких моих братьев со свистом вырывается воздух.
Губы папаши дернулись.
— Даниил… — начал было он, но тут же, пожав плечами, снова обратил взор на своих ангелов. — Благословенен будь, Отец наш… — возобновил он молитву, — …Творец Всемогущий.
Братья заныли ему в ответ.
Глядя в окно, я улыбался. Первый раз в жизни я не согласился с отцом.
«Кто здесь старший сын?» спросили они, а я вышел и сказал «Что вы хотите?». После этого у меня есть право сказать папаше: «Молиться я не желаю».
Я улыбался, прислушиваясь к далеким выстрелам, крикам и глухому гулу толпы.
В последующие два дня грабители навещали наш дом девятнадцать раз. Постоянно пребывая в центре людского водоворота, трепеща от страха, слушая хохот и угрозы, я с упорством безумца вел точный учет. Итак, они были здесь девять раз, думал я, и сейчас придут в десятый. Я смогу выдать пару хранящихся в погребе серебряных вазочек для конфет. Интересно, убьют ли они кого-нибудь на сей раз. Это десятый визит… Значит следующий будет одиннадцатый…
Наш дом превратился в руины. Все окна остались без стекол, двери были сорваны с петель и пошли на топливо для костров, от зеркал остались лишь осколки. Погромщики содрали все ковры и утащили их вместе с мебелью. Жалкие остатки наших продовольственных запасов были найдены и унесены, так же как все одеяла и одежда. На второй день, ближе к ночи погромщики разграбили винные лавки, и когда они с грохотом ворвались к нам, от них разило перегаром. С каждым разом их визиты становились все опаснее, я мы чувствовали, что смерть уже витает где-то рядом. Одиннадцатый погром… Двенадцатый…. Тяжелые, заляпанные грязью сапоги, пьяные вопли и песни… С трудом стоящие на ногах типы направляют штыки на отца и дядю, ожидая протеста, или какого-то признака сопротивление. Любого выкрика одобрения со стороны приятелей может хватить для того, чтобы заставить этих людей начать бойню. Они веселятся, играя со смертью, им страшно нравится держать нас на грани гибели. Они принюхиваются, чувствуя запах крови. Они подпускают смерть ближе, а затем заставляют её отступить, предвкушая наслаждение в ближайшем будущем. Так ребенок приберегает конфетку, чтобы полакомиться ею вечером.
Погромщики дважды раздевали Сару и мою старшую сестру Рахиль догола, и заставляли их стоять нагишом перед разбитыми окнами на виду у всех. Дальше этого бандиты пока не заходили, и после того, как в доме на время наступала тишина, мы заворачивали женщин в тряпье и уводили их подальше от окон по засыпанному битым стеклом полу. Тогда моя мама в первый раз заплакала.
Всю ночь мы смотрели из окон на зарево пожаров, прислушиваясь к стрельбе и крикам.
Женщины плакали, лежа на холодном полу, дети ревели во весь голос, а мой брат Давид расхаживал по комнате и твердил:
— В следующий раз я убью одного из них! Убью! Богом клянусь!
— Шшш! — остановил его причитания папаша. — Ты никого не убьешь. Пусть убивают они, а не ты.
— Тогда пусть они убьют меня! — кричал Давид. — Разреши мне убить одного из них, а потом умереть! Это — лучше, чем так страдать.
— Шшш! — останавливал его отец. — Их накажет Бог! В итоге им воздастся за все наши страдания!
— Боже мой! — всхлипнул Давид.
— И почему только я не поехал в Америку в 1910 году? — вопрошал папаша, раскачиваясь, как на молитве. — Скажите мне, почему?
Дядя Самуил сидел у окна с ребенком на руках. Он то вглядывался в конец улицы, чтобы первым увидеть приближение толпы, то поглядывал в сторону своей жены Сары, которая, завернувшись в тряпье, лежала на полу в углу комнаты лицом к стене. Струйки крови на лице Самуила высохли, и извилистые полоски были похожи на реки, как их изображают на географических картах. Борода его взлохматилась и торчала во все стороны, глаза ввалились, а кожа щек обтягивала скулы так сильно, что лицо стало походить на лицо черепа. Время от времени он наклонялся, чтобы поцеловать спящего на его руках младенца.
Я сидел, обняв за плечи брата Эли, а в пространство между нами, чтобы хоть немного согреться, втиснулась наша сестра Эсфирь. Погромщики отняли у меня пиджак, и я, одеревенев от холода, думал о вчерашних слезах, слезах сегодняшних и о тех слезах, которые ждут нас завтра.
— Попробуй уснуть, Эсфирь, — тихонько повторял я, когда сестра просыпалась. — Попытайся снова уснуть, моя маленькая Эсфирь.
Каждый раз, открывая глаза, она начинала рыдать, как будто природа сделала маленьких детей такими, что они не плачут когда спят, и ревут, как только проснуться.
Надо мстить, думал я. Женщины плакали, мое избитое тело при каждом вздохе ныло, ссадины и порезы кровоточили, пачкая одежду. И во всех этих страданиях я слышал лишь одно слово: мщение, мщение, мщение.
— Они идут, — сообщил перед самым рассветом дядя Самуил, не оставлявший своего наблюдательного поста у окна. Вскоре до нас долетел так хорошо нам знакомый гул толпы. — Я здесь не останусь, — сказал Самуил. — К дьяволу! Сара, Сара… — нежно произнес он, и такого нежного обращения к супруге, я раньше ни у кого не слышал, — …поднимайся, дорогая. Пойдем…
Сара встала с пола и взяла его за руку.
— Что нам делать? — спросила мама.
Отец посмотрел в потолок на своих ангелов.
— Пойдем, — сказал я. — Попытаем счастья на улице.
Мы гуськом вышли через черный ход. Двенадцать человек двигались самостоятельно, а младенец отправился в путь на руках Самуила. Мы брели по заледеневшей грязи, стараясь держаться ближе к стенам и всеми силами избегая появляться в тех местах, откуда доносились звуки жизни. Мы бежали от света и страшно мучались, когда уставшие дети каждые пять минут требовали отдыха. Через широкие улицы мы перебегали так, как кролики перебегают через открытое поле.
Месть…месть…месть… думал я. Чтобы спасти близких от смерти, огня и мучений, я шел первым по темным закоулкам, стараясь держаться ближе к высоким заборам. Маму я держал за руку.
— Иди, мама, иди… — молил я, когда она замедляла шаг. — Ты должна идти! — кричал я на неё, когда она останавливалась.
— Да, Даниил… конечно, Даниил, — шептала она, цепляясь за мои пальцы натруженной от вечной работы, покрытой мозолями рукой. — Прости, что я иду так медленно. Прости, пожалуйста…
— Кливленд… — произнес папаша, когда солнце поднялось над горизонтом. — Ведь я мог поехать в Кливленд. Дядя приглашал меня туда.
— Успокойся, папа! — сказал Давид. — Прошу тебя, перестань говорить об Америке.
— Да, конечно, — согласился отец. — Что сделано, то сделано… На все воля Божья. Кто я такой… — произнес он, опершись спиной на стену, когда мы на некоторое время остановились. — Кто я такой, чтобы задавать вопросы…? Тем не менее, в Америке такое не случается, и у меня была возможность…
Давид больше не произнес ни слова.
С наступлением дня избегать встречи с толпой становилось все сложнее. Создавалось впечатление, что последние двое суток в Киеве никто на ночь не смыкает глаз, и даже ранним утром нам едва удавалось избежать смертельной опасности. Дважды в нас стреляли из окон, и нам приходилось мчаться что есть мочи за угол, скользя по грязи и волоча за собой вопящих детей. Когда в нас начали стрелять в третий раз, мой брат Давид вдруг замер с открытым ртом и сел в грязь.
— Колено, — сказал он. — Мое колено…
Мама и я оторвали рукав от отцовского пиджака и обмотали им ногу Давида чуть выше колена. Отец молча взирал на наши действия. Без одного рукава он почему-то казался кривобоким и выглядел абсолютно нелепо. Я взвалил Давида себе на спину, и мы двинулись обратно к дому. Когда я качался, и поврежденное колено утыкалось в меня, брат, чтобы сдержать крик, колотил меня кулаками по спине.
Вернувшись домой, мы снова оказались в разграбленной гостиной. В разбитые окна лился солнечный свет, и обстановка казалась совершенно абсурдной. Все семейство сидело на полу, завернутые в тряпье Сара и Рахиль походили на мумии. Папаша по-прежнему оставался в пиджаке с одним рукавом. Второй рукав был затянут на ноге Давида. Давид потел настолько сильно, что вокруг него на полу начали образовываться маленькие лужицы. Все дети сбились в угол. Они вели себя ужасающе тихо и лишь следили за каждым движением взрослых быстрым движением глаз.
Весь день одни погромщики сменяли других, и с каждым новым появлением бандитов мы всё сильнее ощущали приближение смерти. Уколы штыками становились чуть глубже, и крови проливалось все больше и больше. Ближе к вечеру у Давида началась истерика, и он в состоянии экстаза принялся с воплем колотить кулаками по полу. Нам не оставалось ничего иного, кроме как слушать эти крики и смотреть друг на друга с видом обезумевших от ужаса животных, заключенных в каком-то фантастическом зверинце.
— Во всех наших бедах виноват только я, — не унимался отец. — Передо мной открывались великолепные возможности, но мне не хватило мужества ими воспользоваться. Такова истина. Я слабый человек. Я — ученый. Мне не хотелось пересекать океан ради страны, языка которой я не знаю. Судите меня. Прошу вас всех — судите меня, как можно строже.
В четыре часа Эли поднялся с пола.
— Я ухожу, — сказал он. — У меня нет сил здесь оставаться.
И прежде чем мы успели его задержать, он повернулся и выбежал из комнаты.
Погромщики, освещая дорогу факелами, появилась сразу после наступления темноты. На сей раз они были настроены крайне воинственно. Налившись алкоголем, толпа жаждала крови.
Обыскав весь дом, бандиты снова вернулись в гостиную, раздосадованные тем, что им не удалось найти ничего ценного.
Они заставили подняться с пола всех мужчин и, выстроив их перед собой, стали изобретать новые издевательства, чтобы слегка развлечься. На этот раз, подумал я, мы, видимо, умрем. В доме больше нечего было грабить. Мне очень не хотелось умирать.
И мы бы обязательно умерли, если бы одного из мучителей не осенила великая, как ему показалась идея.
— Побрейте его! Побрейте старого выродка-святошу!
Бандиты встретили это предложение восторженным ревом. Два человека вытащили отца на середину комнаты, а третий — толстый коротышка — принялся брить его штыком, в пляшущем свете факелов. Толстяк, развлекая публику, изображал из себя клоуна. Он то и дело сильно оттягивал скрюченными пальцами кожу на щеках отца и, горделиво вздернув голову, делал вид, что любуется своим мастерством. Топчущиеся за его спиной бандиты весело хохотали.
В конце концов отец не выдержал издевательства и заплакал. Слезы катились по его щекам, и их капли поблескивали на штыке, удаляющем мягкую, не очень густую, но хорошо ухоженную черную поросль с его лица.
Покончив с бритьем, жирный шут толкнул отца на пол, и толпа удалилась в хорошем настроении.
В доме снова повисла тишина. Отец сидел на полу, и на его голом, таком непривычным для меня лице, виднелось множество кровоточащих порезов. Я в первый раз увидел, что у папаши девичьи губы и мягкий, безвольный подбородок. Взор его был обращен к ангелам, но теперь он смотрел на них не как равное им в славе существо, а всего лишь как ничтожный проситель.
— В следующий раз… — сказал я, стараясь обращаться к своим, похожим на затравленных зверей родичей, деловым тоном и без всяких эмоций, — …в следующий раз они нас убьют. Пойдемте на улицы, пока темно. Пожалуйста… Ну пожалуйста…
Когда мы уже были готовы двинуться в путь, дверь в расположенной на противоположной стороне улицы портняжной мастерской открылась, и из неё вышел наш сосед — портной по фамилии Киров. Он не был евреем, и его мастерскую не тронули. Высокому и тучному Кирову чуть перевалило за тридцать, но, несмотря на молодость, на его голове уже сияла здоровенная плешь.
— Какой ужас, — сказал он. — Ну, просто, дикие животные. Ну и времена. И кто мог подумать, что мы доживем до того, как в нашем Киеве наступят такие ужасные времена?
Мой отец бессмысленно размахивал руками, беседуя с ангелами, и говорить с соседом не мог.
Куда вы направляетесь? — спросил он.
— Никуда, — ответил я. — Мы будем просто бродить по улицам.
— Боже мой! — воскликнул Киров, гладя Эсфирь по головке. — Но это же невозможно! Не могу поверить! Не могу… Идите ко мне. Все… Да, все. В моем доме вас никто не побеспокоит, и там вы сможете переждать это страшное время. Идемте. И не спорьте!
Мама посмотрела на меня, я на неё и мы криво улыбнулись друг другу.
Киров помог мне перенести Давида, и уже через пять минут мы все оказались лежащими в темноте на полу его дома. Первый раз за последние два дня мы чувствовали себя в безопасности.
Я даже уснул и проснулся лишь на краткий миг, услыхав, как хлопнула дверь дома. Я спал без сновидений, без прошлого, без будущего, не жаждая мести и не удивляясь тому, что всё ещё жив. Спал я, спали дети, рядом со мной, в обнимку с папой, спала мама, а Сара спала в объятиях дяди Самуила. Под боком матери спал младенец.
Кто-то пнул меня ногой в бок. Я открыл глаза и увидел, что комната освещена и полна людей. Заметив злобную ухмылку Кирова, я вдруг понял, как ненавидел нас сосед все эти восемь лет. В этот миг я впервые осознал, как ненавидел он нас, приветствуя по утрам, или починяя нашу одежду. Восемь долгих лет, говоря «Доброе утро» или «Какая прекрасная весна выдалась в этом году», он всеми силами пытался скрыть эту ненависть. И вот, наконец, события двух последних дней позволили ненависти выплеснуться наружу. Бандитов собрал и привел он сам, и теперь нас ожидало самое страшное.
Я сел. Комната была ярко совещена, и я видел, как родные мне люди, поднимаясь из глубин сна, начинают замечать вокруг себя ухмыляющиеся лица и возвращаются в мир безнадежности и ужаса.
Киров привел всех мужчин своего семейства, включая пару здоровенных братьев, дядю и даже отца — беззубого, припадающего на одну ногу старца. Старец ухмылялся так же зловеще, как и остальные члены семьи.
— Господин Киров, — сказала мама, — что вы хотите? У нас ничего не осталось. Ничего, кроме лохмотьев. Мы были соседями восемь лет, и за все эти годы вы не слышали от нашей семьи ни одного грубого слова…
Один из братьев схватил Сару и сорвал с неё тряпье, в которое та была завернута. Я понял, зачем явились эти люди. Они хотели отнять то последнее, что у нас осталось. Сам Киров протянул руки к Рахили. Сестре уже исполнилось семнадцать, но она все ещё оставалось похожей на худенькую маленькую девочку.
Дядя Самуил бросился на брата Кирова, но какой-то, оказавшийся сзади дяди человек, воткнул в него штык. Самуил успел схватить жену за руку, но человек выдернул штык, и дядя осел на пол. Самуил попытался привстать, но второй брат Кирова взял штык и вонзил его в горло дяди. Дядя опрокинулся навзничь и остался лежать со штыком в горле.
Я видел все, что происходило потом. Все остальные — отец, мама, Давид и даже дети — закрыли глаза. Губы отца чуть шевелились в молитве, но глаз он не открывал. Я же видел все происходящее.
В эти минуты я не умер только потому, что с холодной изобретательностью придумывал способы мщения находящимся в комнате людям. Картины расчленения заживо, избиение плетью, муки огнем и другие ужасы рождались в моем воспаленном мозгу. И я буду истязать их сам, дабы быть уверенным в том, что каждый из мучителей получит удар в самое болезненное для него место. Я считал количество погромщиков в комнате и старался запомнить их лица.
Не знаю, сколько времени пробыли бандиты в нашем доме, но вскоре с улицы послышались крики: «Большевики! Красные! Красные идут! Большевики в городе! Красные! Да здравствуют Советы!!».
Киров поспешно погасил свет, и из темноты до меня донеслись растерянные голоса и панический топот. Я открыл окно, выпрыгнул на тротуар и помчался в ту сторону, откуда доносились радостные крики. Вскоре я оказался в толпе мужчин и женщин, бегущих с радостными криками навстречу победоносной армии. Я чувствовал, как по моим щекам стекают слезы, тяжелые и горячие, словно расплавленное железо. Среди бегущих рядом со мной людей было много таких, которые, как и я, не могли сдержать слезы радости.
Мы свернули за угол и увидели триумфально вступающий в Киев авангард Красной армии. Часть красноармейцев была одета в лохмотья, а некоторые в потрепанные мундиры, кто-то из них носил сапоги, а кто-то лапти. Бородатые и радостные победители уплетали консервированный компот из банок, захваченных в оказавшейся на их пути бакалейной лавке. Среди этих воинов особенно выделялся один, в клеенчатом фартуке мясника и с огромным кавалерийским палашом в руках. Несмотря на свой странный вид, эта разношерстная армия смогла отвоевать Киев, и теперь обитатели города бежали, чтобы обнять и расцеловать своих освободителей.
— Гражданин начальник! — выкрикнул я, останавливая человека, который показался мне командиром. Человек был не высок ростом и очень смахивал на конторского служащего. Он был целиком поглощен выуживанием персика из банки при помощи штыка.
— Гражданин начальник, умоляю…
— Что ты хочешь? — спросил он, продолжая выковыривать из банки фрукт.
— Я хочу ружье. Мне нужно ружье и несколько человек в помощь! — рыдал я, вцепившись в его рукав. — Выслушайте меня. Выслушайте меня, ради Бога!
— Сколько тебе лет, товарищ? — спросил он, не замедляя шаг и жуя успешно извлеченный персик.
— Шестнадцать. Дайте мне, пожалуйста, ружье и пошлите со мной несколько человек.
— Отправляйся домой, маленький товарищ, — сказал он, ласково потрепав меня за волосы. — Иди домой к маме и папе, а завтра утром, когда мы выспимся и наведем порядок, приходи к нам в штаб, и мы все решим…
— Я не могу ждать до завтра! — слезы лились по моим щекам. — Только сейчас! Этой же ночью! Ружье мне нужно прямо сейчас!
— И в кого же ты хочешь стрелять? — спросил он, первый раз внимательно взглянув на меня.
— Там пятнадцать человек, и я должен…
— Боже мой! — со смехом произнес он.
— Почему вы смеетесь?! — заорал я. — Какого дьявола вы смеётесь?
— Я, товарищ, очень устал, — ответил он, вытирая лицо. — Мы две недели были в боях, и мне очень хочется прилечь.
— Да будьте вы прокляты! Почему вы не хотите меня выслушать?
Он обнял меня за плечи, и мы зашагали рядом.
— Ну, хорошо, малыш. Я тебя слушаю. Неужели дела обстоят действительно так плохо, как ты думаешь?
Я рассказал ему о нашем горе. По мере моего рассказа командир все больше мрачнел. Он отбросил банку с недоеденным компотом и крепко сжал мое плечо. Выслушав все до конца, командир отвел меня к какому-то очень высокому человеку в форменном кителе и обычных штатских брюках. Человек шагал чуть позади нас. Это был сотрудник Чека, который должен был немедленно наладить милицейскую службу в Киеве.
Красный командир, не отпуская моего плеча, поговорил с сотрудником Чека, и тот со вздохом произнес:
— Я могу дать тебе только одного человека. Надеюсь, что он не заснет по пути к дому.
— И ружье! — крикнул я. — Мне нужно ружье. Не забудьте дать мне винтовку!
Военные вначале с сомнением взглянули на меня, а затем обменялись вопросительными взглядами.
— Ему уже шестнадцать, — сказал командир.
— Не волнуйся, — произнес чекист, — мы дадим тебе винтовку. А теперь, ради всего святого, перестань выть.
— Хорошо, — ответил я, хотя слезы продолжали катиться по моим щекам. Не обращайте внимания. Где ружье?
Чекист отдал мне свою винтовку и подозвал красноармейца.
— Отправляйся с этим парнишкой, — сказал он. — Там надо навести порядок. Молодой человек знает, что надо делать. Да перестань же ты реветь… Как тебя, кстати зовут?
— Даниил, — ответил я. — И я вовсе не плачу. Большое вам спасибо.
И мы отправились в путь. Красноармеец и я. Мой сопровождающий был очень высоким, широким в плечах человеком. И почти таким же юным, как я. Он шел, почти смежив веки, а вокруг обеих глаз у него были огромные синяки, как будто его кто-то ударил.
— Да здравствует революция! — прокричал мне вслед командир. — Да здравствует товарищ Ленин!
— Да, — откликнулся я.
— Жутко хочу спать, — сказал красноармеец. — Готов завалиться прямо на землю.
Вернувшись в дом Кирова, я застал там только своих родственников. Они молча топтались вокруг тела дяди Самуила. Сара и Рахиль лежали ничком на полу. Обе женщины были прикрыты взятыми у Кирова одеялами. Рахиль рыдала, а Сара лежала тихо и неподвижно, прижимая к себе ребенка. Бандиты исчезли.
— Где они? — спросил я, едва переступив через порог. — Где вся эта семейка?
Отец посмотрел на винтовку в моих руках и сурово спросил:
— Зачем тебе ружье, Даниил?
— Где эти Кировы?! — выкрикнул я.
Папаша покачал головой. В его глазах уже можно было увидеть туманное отражение Бога и ангелов.
— Говорите! Говорите же! — кричал я.
— Их здесь нет, — ответил папаша. — И это все, что я могу тебе сказать. Больше они нас никогда не побеспокоят. Нашим бедам пришел конец. Господь наказал нас, и этого достаточно. Мы же никого не вправе наказывать.
— Ты — дурак! — завопил я. — И будь ты проклят!
— Послушайте, — сказал красноармеец. — Я жутко хочу спать.
— Мама! — обратился я к матери. — У меня — винтовка. Скажи, куда они подевались?
Мама вопросительно посмотрела на отца, а тот в ответ отрицательно покачал головой. Тогда мама взяла меня за руку и сказала:
— Они прячутся в подвале нашего дома. Шесть человек. Старик не мог бежать, у него болят ноги. Я говорю о старике Кирове.
— Какой стыд! — выкрикнул отец. — Что ты делаешь?
— Значит, там все Кировы? — спросил я у мамы.
Мама ответила мне утвердительным кивком головы.
— Пошли, — сказал я красноармейцу.
Мы быстро скатились по ступеням крыльца и перебежали на противоположную сторону улицы к нашему дому. В кухне я нашел свечу. Красноармеец её зажег и стал освещать мне путь. Я распахнул дверь подвала и спустился вниз. Там, прижавшись спиной к стене и скорчившись, сидели шестеро мужчин. Четверо из семейства Кировых, их родственник по жене и бандит, зарезавший штыком дядю Самуила. Штык все ещё был в руках мерзавца.
Увидев в наших руках винтовки, он отбросил штык. Клинок с сухим стуком заскользил по кирпичному полу.
— Мы ничего не сделали! — выкрикнул Киров-портной. — Бог тому свидетель!
— Мы спрятались лишь для того, чтобы случайно не оказаться в гуще боя, — сказал старик Киров, из его носа текли сопли, но он не обращал на это внимания.
— Мы — красные! — заявил владелец штыка. — Да здравствует Ленин!
— Да здравствует Ленин! — подхватила вся шайка.
Крики резко оборвались, когда перед ними появились мои мама, папа и Сара.
Красноармеец, покачиваясь, стоял, почти закрыв глаза и едва удерживая в руках винтовку. Время от времени он зевал, широко открывая рот.
Отец, мама и Сара встали за нашими спинами. Сара прижимала к груди младенца, глаза у неё были совершенно сухими.
— Да здравствует революция! — его голос в сыром подвале прозвучал тихо, и более всего походил на скрип.
— Значит, это — они? — спросил красноармеец.
— Да, — ответил я.
— Мы ничего не сделали! — выкрикнул Киров, тот, что портной. — Иисус тому свидетель!
— Это не те люди, — выступил вдруг папаша. — Здесь прячутся наши старинные друзья.
— А это что за тип? — поинтересовался красноармеец.
— Мой отец.
— И кто же из вас говорит правду? — спросил красноармеец, обратив на отца затуманенный от усталости взгляд.
— Старик говорит правду! Старик! — завопил Киров. — Мы были добрыми соседями восемь лет!
— Это — те самые люди, — сказала мама.
— Идиотка! — язвительно бросил папаша. — Ты ищешь на нашу голову новые неприятности. «Это — те самые люди», говоришь ты. Сегодня их арестуют, а завтра придут белые, и они снова окажутся на свободе. Ты понимаешь, что с нами будет?
— А это кто? — зевая, спросил красноармеец.
— Моя мама.
— Это — те самые люди, — срывающимся голосом и очень тихо произнесла Сара. Казалось, что она произносит свои последние слова, чтобы после этого навсегда перестать говорить.
— Теперь вы удовлетворены? — спросил я у красноармейца.
— Теперь я удовлетворен, — ответил он.
Я выстрелил из винтовки в кирпичную стену подвала.
В небольшом помещении грохот выстрела был оглушающим. Все, кроме солдата, вздрогнули, вздернув головы. Запах пороховой гари оказался настолько резким, что я чихнул.
— Что ты собираешься сделать? — дрожащим голосом осведомился папаша.
Я передернул затвор винтовки, чтобы выбросить стреляную гильзу и послать в патронник новый заряд.
— Это так делается? — для большей уверенности поинтересовался я.
— Точно, — равнодушно ответил смертельно уставший красноармеец.
— Что ты намерен сотворить? — спросил Киров-портной.
Я выстрелил ему в голову. Он умер мгновенно. Меня от него отделяли каких-то три метра.
Остальные прижались к стене, но все порознь, стараясь как можно дальше отодвинуться от своего соседа.
— Даниил! — возопил папаша. — Я запрещаю тебе делать это! Ты не смеешь обагрять свои руки их кровью! Даниил!
Я выстрелил в старшего брата портного.
Старик Киров начал рыдать. Он упал на колени и, протянув ко мне руки, забормотал:
— Даниил, Даниил, мальчик мой…
Я увидел его в ярко освещенной комнате дома портного, увидел его беззубый оскаленный рот, тянущиеся к тете Саре руки… Я застрелил его, стоящего передо мной на коленях.
Отец разразился рыданиями и бросился вон из подвала. Сара и мама по-прежнему стояли у меня за спиной. Красноармеец, чтобы не уснуть, протер кулаком глаза. Я чувствовал себя счастливым. Но это было счастье с привкусом горечи.
Я передернул затвор.
— Прости меня, прости… — лепетал самый младший из Кировых. — Я не занял, что де…
Я нажал на спуск и он, завертевшись волчком, рухнул на тело своего отца.
Я ещё раз передернул затвор и тщательно прицелился в очередную жертву. Этот человек стоял спокойно и, глядя в потолок, потирал нос.
Я нажал на спуск, но ничего не случилось.
— Нужна новая обойма, — сказал красноармеец и протянул мне патроны. Я открыл затвор, вставил обойму, вогнал патрон в патронник и прицелился. Моя очередная жертва все так же стояла, глядя в потолок и потирая кончик носа. Было даже несколько странным увидеть его через мгновение мертвым.
Когда я в последний раз открывал затвор, владелец штыка бросился на меня, толкнул, промчался мимо и помчался вверх по ступеням лестницы. Я кинулся за ним. Он успел выскочить на улицу. Выбежав из дома, я выстрелил в него, и по какой-то странной случайности не промахнулся. Владелец штыка упал, но тут же поднялся и побежал дальше. Я бросился вдогонку, выстрелив на ходу. Он снова упал. И снова поднялся. Но на этот раз значительно медленнее. Встав с земли, он побрел на заплетающихся ногах, и у меня было более чем достаточно времени, чтобы подойти ближе и тщательно прицелиться. Этот миг был для меня мигом счастья. Я получал наслаждение при виде качающейся окровавленной фигуры в рамке прицела моей винтовки. Я выстрелил. Он упал. Затем попытался приподняться на одной руке, но рука подломилась, и он ткнулся лицом в грязь. Теперь навсегда.
Я стоял, ощущая под ладонью тепло винтовочного ствола. Я чувствовал себя опустошенным, и меня обуревало разочарование. Мщение вовсе не принесло мне той радости, о которой я мечтал, находясь в доме Кирова. Чаши весов так и не уровнялись. Эти люди умерли слишком легко. Они слишком мало страдали, и, в конечном итоге, я остался в проигрыше.
Подошел красноармеец, я отдал ему винтовку и заплакал.
— Все в порядке, юный товарищ, — сказал он, погладил меня по голове и, повесив обе винтовки на плечо, отправился немного поспать.
В этот момент подошли мама и Сара, чтобы увести меня домой.
Отец перестал со мной разговаривать и даже не смотрел в мою сторону всю неделю, в течение которой мы оплакивали дядю Самуила. За эти немногие дни я стал совсем другим человеком, и больше не мог оставаться в доме отца на положении недоросля-школяра. Одним словом, я решил уйти.
И я ушел.
Красные снова оставили Киев, война тянулась ещё очень долго, и домой я вернулся не скоро. К этому времени мой отец уже умер.
Примечания
1
Церковь Св. Марии Магдлины, сооружена в 1764 г. Перестроена в 1806 г. Пьера Виньона и превращена в Храм славы Великой армии. Религиозные функции возвращены в 1816 г, после реставрации Бурбонов. (Здесь и далее примеч. переводчика).
(обратно)2
Шарль Буайе (1899–1978) — французский актер и киноактер. С 1931 г. в Голливуде. Снялся почти в восьмиесяти фильмах.
(обратно)3
Песня (нем.)
(обратно)4
Ремю (1883–1946), наст. имя Жюль Огюст Мюрер. Актер театра «Комеди франсез». Прославился в заглавных ролях пьес Мольера — в первую очередь «Мещанини во дворянстве» и «Мнимый больной».
(обратно)5
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-82), американский писатель. Поэт романтик. Одно из наиболее известных произведений — «Песнь о Гайавате» (1855 г; на основе индейских сказаний).
(обратно)6
Один из наиболее крупных и дорогих универмагов Нью-Йорка.
(обратно)7
Престижный женский колледж в штате Нью-Йорк.
(обратно)8
Остров в заливе Нью-Йорка, на котором расквартированы части береговой охраны. Пурли мурли.
(обратно)9
Луис Джо Барроу (1914-81) — чемпион мира в тяжелом весе (1937-49) среди боксеров профессионалов.
(обратно)10
Джек Демпси — (1895–1983), наст имя Уилльям Харрисон Демпси. Чемпион мира в тяжлом весе (1919-26) среди боксеров профессионалов.
(обратно)11
Известные киноактрисы Голливуда.
(обратно)12
Бэрримур — семейство известных голливудских киноактеров. Наиболее знамениты Джон и Лайонел Бэрримуры.
(обратно)13
Намек на фрегат «Конститъюшн», прославившийся во время Войны за независимость и получившим прозвище «Старые железные бока» или «Железнобокий». До настоящего времени в составе кораблей ВМС США под № 1. На вечном приколе в гавани г. Бостона.
(обратно)
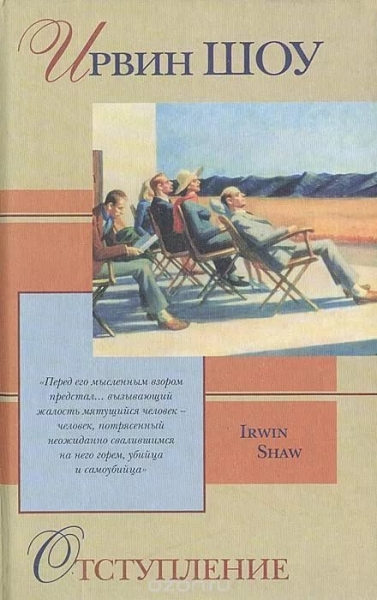






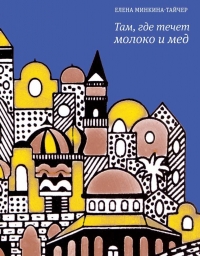


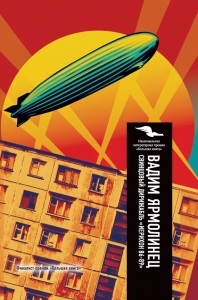

Комментарии к книге «Рассказы из сборника «Отступление»», Ирвин Шоу
Всего 0 комментариев