Анна Златковская Страшно жить, мама
© Златковская А., 2017
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2017
* * *
Все совпадения случайны
Я набрала его номер третий раз подряд. Нет ответа, и я набираю снова, зная, кожей чувствуя, что он сейчас с той длинноногой рыжеволосой девицей, которая прижималась к нему своим плоским животом в коридоре университета. Я видела их, когда выходила из аудитории. Еще вчера я ночевала у Паши. Странно было видеть сегодня его с другой девушкой.
Я молча уставилась на них, не в силах сделать и шаг. Было правильнее броситься и разнять эту парочку, может, надавать ему пощечин, отпихнуть рыжую, встать между ними жирным «тире», показать, что я существую и нельзя игнорировать меня, целуясь у всех на виду.
Но я не могла этого сделать. Мы встречались с ним полгода. Почти каждый день после занятий я приезжала к нему домой, замирала в его комнате, словно собака в ожидании команд. Приготовить ужин – сделано. Целоваться – пожалуйста. Помочь написать реферат – конечно, я буду только рада. Ждала, когда он накрутит на пальцы прядь волос, заглянет в глаза и смеясь скажет: «Лика, ты моя». Этот романтический бред я видела снова и снова, но Паша лишь накручивал волосы на пальцы и распускал, будто нитки из клубка тонкой шерсти. У меня не было прав, не было характера, чтобы уйти. Иногда так и хотелось отрезать ножницами волосы, оставить ему на подушке темную змейку и хлопнуть дверью. Но я не умела уходить. И, глядя, как он обнимает рыжую девицу, я убежала под лестницу, что была в дальнем углу университетского коридора.
Паша не отвечал. Выходной день – и снова одна в квартире, заваленная тишиной, как старая игрушка за шкафом, куда в кучу свалили ненужные вещи и чемоданы. Внутри сжималось и разжималось сердце, словно кто-то мял губку сильными руками. Мама всегда учила меня, что хорошо не будет. Кому-то везет, но не нам. Наша семья обречена на страдания. Наша семья… Всего-то два человека…
1
Мама и я. Вот и вся семья. Отец был, но весьма зыбким расплывчатым предметом маминых негодований. Мама любила отца те недолгие полгода, которые он провел с ней. Отец был плохим художником, работал в театре, устанавливал декорации. Постоянно выпивал по пятьдесят грамм водки в обед и страстно любил женщин. В них он видел вдохновение, подпитку творческой энергии, поэтому вдохновения часто сменяли друг друга. Отец рисовал, картины прятал за старый платяной шкаф, искал новую женщину, потом снова рисовал, выпивал и верил, что его работы имеют будущее. Может, однажды они будут висеть в картинной галерее, а не прятаться в темном нежилом углу. В кармане рубашки он носил мастихин. На кисти руки всегда было пятно краски – то синее, то красное. Символ его художественного духа. Подозреваю, что эти пятнышки он старательно рисовал каждое утро перед выходом на улицу. Плачевная карьера не убила в нем романтизм и веру в светлое завтра. Будучи неудачником, он являл собой неутомимого бунтаря против системы, общества, политической власти. Ему, казалось, важно было выступать против всех. Обожал шумные застолья, походы, друзей-собутыльников, неплохо бренчал на гитаре и даже, что вообще удивительно, вязал на спицах. Этому отца научила его мама, моя бабушка, умершая, когда ему было двадцать пять. «Если бы твой отец женился на мне, – говорила мне мама, – то свекровь у меня была бы редкостная сука». Вот и вся характеристика бабушки. О своих дедушках я вообще ничего не знала.
Мне, маленькой, ужасно не хватало людей вокруг. Хотелось, чтобы, как у всех, у меня были бабушки и дедушки, дарящие бесчисленное количество странных игрушек. Хотелось конфет и шоколадок из их рук, нудных нравоучений и новых запахов, пусть то старой кофты или вязаного покрывала, засахаренных конфет в вазочке или таблеток валидола.
Услышав про суку, я обрадовалась, что у меня есть только мама. Потому что с мамой было непросто, и выдержать еще одну суровую женщину я, наверное, не смогла бы. Бабушка по маминой линии в моей жизни все-таки появилась, но гораздо позже, в тринадцать лет. Она была глубоко оскорблена тем фактом, что мама родила меня вне брака, от какого-то пьяницы, да при этом в силу чувств. «Блудница и проститутка», – только и вымолвила бабушка, когда мама позвонила ей, чтобы обрадовать внучкой. И пропала, окатывая молчаливым презрением дочь и меня.
Отец оставил маму ночью. На часах было два, за окном лил дождь, она лежала рядом с ним, уткнувшись носом в подмышку. Сказала, что беременна, что у них будет замечательный сын и, может, он, наконец, сделает ей предложение. Уснула. Не слышала, как он тихо встал с дивана. Пошарил под ним в поисках носков. Оделся, допил вино прямо из горлышка. На прощание не смыл за собой в туалете и ушел. Мама утром рыдала в голос, била рюмки, истошно кричала на балконе, что все мужики сволочи. Истерика длилась с семи до девяти утра. Это было воскресенье. Успокоившись, она принялась за уборку.
– Вычищу к черту твой дух, – злобно шипела она, вытирая пыль с полок. А внутри нее была я. У меня уже билось сердце, и я, покачиваясь в маминых водах, ощущала ее недовольную вибрацию. Нас объединяло ощущение весьма грустного будущего, грядущего одиночества. Мама, правда, была уверена, что родится сын. Назвала меня Димкой, и когда я родилась, когда акушерка сунула ей под нос мои ножки, она в недоумении спросила:
– А где писюн?
– Какой писюн, мамаша?! – гаркнула акушерка. – Девку родила!
– Несчастная, – прошептала мама.
Нарекла Анжеликой. Пока все вокруг называли девочек Танями, Ирами и Олями, мама решила, что раз девочка, судьба незавидная, всю жизнь метаться и маяться, то пусть хотя бы имя будет красивое. Желанное имя, любила говорить мама. С таким именем каждый мужик будет тебя вожделеть. А тех, кого вожделеют, не бросают. Отцу она послала открытку, в которой карандашом написала: «Поздравляю, теперь твое существование на земле оправдано, говнюк: ты стал отцом».
Отец приехал к нам домой, но мама его не пустила. Он звонил и звонил в дверь, я орала от этого кричащего нарастающего звука, мама качала меня на руках, зажмурившись. Она знала, что если откроет глаза, то не выдержит и пустит его на порог. Расклеится, размякнет, бросится с поцелуями, начнет гордиться дочерью, а этого всего не надо, не надо… Он бросил ее, и этот визит всего лишь любопытство, желание взглянуть на дочь как на единственное свое правильное и искусное творение. Отец перестал звонить, лег на коврик, откупорил шампанское и выпил всю бутылку до дна в считанные минуты. Через полчаса его прогнала соседка, пригрозив милицией. Отец ушел, оставив пластмассовую погремушку и пару беленьких пинеток.
Именно эти пинетки сломали мамину гордость, и спустя неделю она пустила отца к дочери. Она стояла возле балконной двери, на расстоянии двух метров от отца, чтобы его запах не коснулся крыльев ее носа. Отец всегда был такой: магически действовал на женщин, поэтому они всю жизнь его любили и ненавидели. Он был никем, коллеги по цеху его обливали презрением, обзывали страдальцем и лопухом, но завидовали. «Чем берет, стервец?» – шептали за спиной, когда отец обвивал талию очередной хорошенькой женщины.
Отец, казалось, был ошарашен мною. Он стоял над кроваткой, вцепившись в перила, смотрел, щупал глазами личико, улавливая малейший виток мимики.
– Наташа! Это лучшее, что случалось со мной! – он бросился к ее ногам. Мама сидела, подавленная, на диване, а отец целовал ее колени. Она, наклонившись вперед, сжимала пальцами его затылок.
– Ты кот, дворовый кот, Василий… – частенько шептала она ему. Отец жмурился. Многие женщины говорили ему об этом. Он обычно целовал их слегка вспотевшие ладони.
Отец помог зарегистрировать меня, вписав в метрику свое имя и фамилию, тем самым официально подтвердив, что он мой папа. Мама была очень счастлива. «Это, конечно, не замужество, но все же», – бормотала она, успокаивая саму себя.
Через три недели отец снова сбежал. Орущий ребенок, стирка пеленок, отрыжка – все это было не для него. Умиление сошло на нет, когда я испражнилась на свежевыстиранную рубашку отца. Мать старалась, как могла, и выглядела безупречно. Она даже кормила меня в нарядном сливовом платье с глубоким вырезом на груди. Лишь бы отец не видел измученную бессонными ночами, уставшую женщину. Ему показалось, что он сможет сыграть роль семьянина, но его ждало нечто большее, чем ребенок и женщина. Мама на этот раз была спокойна. Она чуяла, что упустила его. Вся эта роль папочки была своего рода забавой и экспериментом, не более.
2
Так мы остались вдвоем. Без алиментов, жили на маленькое государственное пособие. Мама штопала колготки, варила картошку на обед и ужин, сдавала бутылки из-под молока и покупала с выручки сладости. До развала «советов» еще было семь лет.
Жили мы в однокомнатной квартире огромного дома, называемого в народе «малосемейкой». В нем были длинные коридоры с шестью квартирами на каждом этаже, в которых на маленьких метрах ютились большие семьи.
Мама сделала для меня уютный уголок, отделив кровать от остальной комнаты шторой на карнизе, который уперся одним концом в одностворчатый шкаф, что стоял у подножья кровати, другим – в стену. Я всегда могла задвинуть штору и оказаться в своем мире. Часто на карниз мама вешала надо мной свои свитера и пиджаки на деревянной вешалке. В темноте строгий силуэт казался мне огромным чудовищем, подвешенным на тонкой веревке. «Девочка, ты почему не спишь?» – каждую ночь обращалось оно ко мне, и я в страхе жмурилась. Чудовище всегда следило за мной, иногда это очень пугало, иногда мне казалось, что оно охраняет мой сон от других чудовищ, которые были гораздо страшнее, ведь поутру они не превращались обратно в черный жакет, а навсегда оставались жить под кроватью в дальнем темном углу. Чтобы дождаться следующей ночи и пробраться в мое сознание, разрушая его своими когтистыми щупальцами и острыми клыками.
Мама…
Она не собиралась становиться матерью в двадцать четыре года. Внутри нее горело желание любить. Женщина она была красивая, с кудрявыми светлыми волосами, пыльно-голубыми глазами. Часто звонко хохотала или громко рыдала. Балансировала между радостью и диким ужасом.
– Господи, ну неужели так трудно поставить табуретку на место?! – кричала мама и отодвигала ее на десять сантиметров в сторону. Я сжималась от ее крика. Так было всегда. Так будет всю жизнь. Мы будем тщательно убирать квартиру, вытирать пыль, вытряхивать ковры, складывать, а не разбрасывать плед, расставлять подушки, словно солдат, ровным строем на диване. Шторы будут висеть складочка к складочке, стулья стоять строго на своих местах. Наверное, надо было на полу белым мелом очертить эти места, как покойников, чтобы никогда не ошибаться. Я всегда ошибалась. Я буду пальцами убирать невидимые крошки со стола и следить, чтобы вокруг умывальника не было воды, даже маленькой капельки. Уже в четыре года я лихо вытирала пыль, мыла полы. Я боялась, что мама будет ругать меня. А она всегда ругала. Заберет меня из садика, мы придем домой, поужинаем. Я выйду из-за стола, забуду отодвинуть стул. Она кричит. Я плачу. Вечер безнадежно испорчен.
Потом, спустя часа два, мама придет, обнимет меня. Начнет плакать и просить прощения. Я стану возиться с игрушками, она сядет в старое кресло и начнет шить. Уколется иголкой, выругается. А сама на телефон поглядывает. Позвонит, не позвонит? Новый роман, тощий психолог с вечно сальными волосами. Видела его пару раз. Меня мутило от него, от нее. Наперед знала, что он походит так с месяц, а потом пропадет. Вот и сидит, ждет, что затрещит телефон, на часах уже десятый час, меня спать укладывать пора. Забыла.
На Восьмое марта сделала маме открытку. Сама. Остальным помогали воспитатели, а я упорно желала приклеить все бумажные лепестки к твердому картону своими пальцами. Открытка получилась кривая, заляпанная клеем, но воспитательница меня хвалила.
Отдала маме, когда она вытягивала из шкафа тонкие чулки. Она улыбнулась, глядя мимо меня.
Потом она крутилась перед зеркалом в прихожей, вила кудри, подводила стрелки. Открытка лежала на трюмо.
– У меня свидание, Лика! – шепнула она.
Меня наскоро собрала, отвезла к тете Маше, говорливой еврейке. У нее была дочь Оля, старше меня на пару лет, которая тем не менее обрадовалась моему появлению, так как тетя Маша тоже не собиралась в праздник заниматься детьми и пригласила гостей.
– Опять напьются и будут орать песни, – недовольно буркнула Оля и уволокла меня к себе в комнату.
Открытку я нашла в мусорном ведре на следующий день, вечером. Я вынула ее и подошла к маме. Она стирала белье в ванной, наша убогая советская машинка умерла на прошлой неделе. Наверное, я плакала или была очень грустна, но мама тут же принялась рыдать, выхватив открытку у меня из рук. Прижимала к груди и повторяла:
– Доченька, прости, прости, это случайно.
Маме я не поверила. И с тех пор не делала для нее никаких открыток, картинок. Когда все рисовали гуашью цветы на вазе с подписью «любимой мамочке», я лепила из пластилина домик, объясняя учителям, что это дворец для мамы, ей очень понравится. Выходя с урока, комкала его в лепешку и прятала до следующего раза.
Однажды пришел отец. Принес мне огромных размеров куклу с выпученными синими глазами на круглом выглажено-пластмассовом лице, которую я отдала соседской девочке. Мама пила с ним чай, молча слушая о его проблемах, планах. Выкурила три сигареты. Отец дал немного денег.
– Даже на сандалики для Лики не хватит, – выдавила тихо она.
3
Соблюдение порядка было не самым утомительным занятием в нашей с мамой жизни. Я привыкла к ее крику, привыкла класть каждую вещь на свое место, а если забывала, откуда взяла, просто выбрасывала в окно, чтобы не получить очередной нервный срыв. Всякие книжки по шитью, клубки ниток, спицы, ластик, карандаши. Бывает, лезешь за фломастером, а вывалится колечко серебряное. Откуда? Не сообразишь, шкатулка в другом месте стоит, на полке, за картиной, ну и мучаешься, мечешься, да в форточку со всего размаху. Маму, конечно, злило, что многое стало пропадать, но она не догадывалась, кто виновник. Мне было стыдно, но я так устала от бесконечно крика, что лучше уж выбросить вещь в окно. Нервничала, кусала губы, часто до крови. Маму ужасно раздражала моя глупая привычка, а ведь только так я могла успокоиться.
Мама за меня постоянно боялась. Нет, она вообще просто боялась. Всего на свете. Тараканов, мух, высоты, воды, автомобиля. Если я ела, то она следила, чтобы аккуратно, не спеша, ведь я могла подавиться едой и задохнуться. Если сбегала по лестнице, то ругала, останавливала, объясняя, что я могу подвернуть ногу и упасть головой вниз. Добавляя, что так одна девочка свернула себе шею. В ванной кругом были липкие коврики, чтобы не поскользнуться, ела я ложкой до шести лет. Любое шевеление в моей жизни подвергалось страшному риску, мама настойчиво просила меня быть острожной.
– Ты же понимаешь, если с тобой что-то случится, мне незачем будет жить, – говорила она. – Я умру. Тут же, на месте, от сердечного приступа.
И я боялась за любимую мамочку. Старалась быть очень аккуратной. Чтобы ничем ее не расстраивать. Пока была маленькой, худо-бедно мне удавалось быть тихой, незаметной. Один раз, правда, вместе с соседкой Людой выползла на крышу. Мы с ней просто постояли в двух метрах от края и спустились вниз, где нас встретил отец Люды с ремнем в руках. Мама, как узнала, долго пила корвалол. Вымолвила только: «Ты хочешь моей смерти», – и не разговаривала со мной два дня.
В отместку купила мне синие колготки, а синий цвет я недолюбливала. Заставила надеть их в садик. Все девочки смеялись и обзывали «мальчиком». Я спряталась за веранду и плакала. Пока обессиленная нудными поисками воспитательница не вытянула меня оттуда за ухо.
Даже моя близкая подружка по группе Катя смеялась надо мной. Я пыталась понять, почему она не хочет больше со мной дружить, ведь синие колготы – это такая глупость.
Мы никогда не катались на аттракционах. Мама говорила, что это страшно и опасно. Еще вытошнить может. Но однажды уступила и попросила свою подругу прокатиться со мной на безопасных «ракушках», которые крутились по кругу и вокруг своей оси. Тренажер для будущих космонавтов. Меня вырвало пирожком с повидлом прямо на цветастое платье маминой подруги.
– Ну, вот видишь, я же говорила, – мама хмыкнула. Я вытирала рвоту с подола платья своей кофтой, так как салфеток у нас собой не было. Подруга что-то бурчала, мама тараторила, перебивая, что ребенок мечтал о каруселях, ты уж прости, я устала ей, бестолковой, объяснять. Они в итоге разошлись по-хорошему. Но я чувствовала себя виноватой. Аттракционов, правда, больше не хотелось. Никогда. Тем более, когда в другом городе рухнула кабинка вместе с маленьким мальчиком и мама зачитала мне эту новость вслух, дрожащим голосом, с придыханием и слезами в глазах, я поняла. Все в этом мире направлено на убийство человека. Нужно быть очень настороженным, изворотливым, чтобы не стать жертвой несчастного случая.
Мне постоянно говорили: «Будь аккуратна, помни, сколько всего страшного может случиться», – и отправляли в новый ясный день. Мама желала мне добра и боялась, ведь всегда из-за угла может резко выскочить автомобиль и раздавить хрупкое тело черными колесами. А я боялась расстроить маму. Круговорот взаимозависимости.
4
Я сидела с бутылкой дешевого вина у двери в Пашину квартиру. Была пьяна. Стены и углы уже начинали двоиться, слезы превратились в неровные дорожки, сползающие на подбородок, и, кажется, я слышала голос Бога. Он говорил: «Дура. Беги».
– Паша! Открой дверь! – мычала я.
Я видела его. Как он натягивает шорты, как бросает очередной девице покрывало, чешет затылок и мечется по дому, не зная, что делать. У девицы приподнимается бровь, тонкой радугой. Паша в итоге хватается за сигареты.
– Нормально?! – я открыла глаза и увидела Пашу. Он возвышался надо мной. Я уснула прямо на коврике у его двери. Он закатил глаза.
Я сидела на кухне, пила крепкий кофе.
– Лик, ну чего ты, а?
– Что чего? Ты не понимаешь? – я была зла. Да еще голова болела, словно она колокол, а по нему кто-то изо всех сил бьет железным молотом.
– Я тебе разве говорил, что мы встречаемся, любовь и все такое? Лика, мне двадцать два, тебе двадцать, у нас время такое, все со всеми спят.
– А любовь? – мой сиплый голос сорвался. Жалостно так.
– Никакой любви нет. Мой отец вот с мамой живет больше двадцати лет. И знаешь, что он мне сказал? Что давно маму не любит. Что живут они вместе только ради детей: меня и сестры. Что каждый нормальный мужик всегда хочет только одного – денег и секса. Всё. Но брак это тыл. Поэтому ты хороший муж и еще парочка любовниц. Другой судьбы не дано. Ты предлагаешь мне жить такой жизнью? Врать кому-то, что я способен на любовь и прочую чепуху? Нет, детка.
Паша сел рядом и положил руку мне на колено.
Я молчала. Паша уже стянул с меня майку.
– Плохой ты, Паша. За что я тебя люблю?
Он промычал что-то над моим ухом.
Осталась я у Паши. Его родители уехали на дачу, квартира была свободна на все выходные. Я была счастлива, что провожу это время с ним. Правда, к нему тут же набежали друзья, все пили водку, много курили и матерились. Громко играла музыка. Паша любил электронную, и с каждым новым музыкальным завитком мне казалось, что у меня разовьется шизофрения. Но быть в толпе – незнакомое и удивительное чувство, мне нравилась эта пульсация, жжение от сигаретного дыма в глазах, песни, смех. Иногда ловить Пашину руку и улыбаться. Его поцелуй в висок. Желала застрять в этом хаосе навсегда, чтобы никогда не встречать пыльное утро, требующее моего ухода в ту реальность, где Паша бежит по своим делам, а мне остается ждать его звонка.
Иногда мы прятались в родительской спальне, и мне было весьма неуютно падать спиной на кровать, где еще недавно лежали его отец и мама. На меня укоризненно смотрела фотография в золотой рамке, где крупным планом – мужчина и женщина на фоне еловых лап с мерцающим снегом. Никогда не могла понять этот снимок, обыденность и взгляды, устремленные в камеру фотоаппарата.
На прикроватной тумбочке – бульварный роман в мягком переплете, футляр для очков, расческа, помада. Из шкафа торчит рукав свитера, под кроватью – стоптанные тапочки. Я все это замечала, пока падала спиной на кровать, и мысленно шептала: «Простите».
Утром в воскресенье я бежала домой. Не нравился беспорядок после вечеринки, чужие люди, которые спали в комнатах прямо в одежде, кто на диване, кто на полу. Окурки, бутылки, остатки еды. Знала, что Паша проснется чужим, отгородится от меня, словно мы незнакомцы в общем пространстве. Хмуро станет бродить по квартире, разбудит друга. Они выпьют на двоих бутылку холодного пива и примутся за уборку.
Я позвонила ему только вечером. «Приезжай ко мне, – попросила, – испеку вкусный луковый пирог». Паша согласился. Я прыгала в сумасшедшем визге, словно маленькая собачка. Готовила, убиралась, поправляла шторы и подушки. «Паша приедет!» – мысль теннисным шариком прыгала во мне и била в виски.
В десять я звонила ему домой. Никто не ответил. Едет – я еще не теряла надежду. В одиннадцать поставила пирог снова в духовку подогреться, холодный он был невкусный. Но Паша не приехал. Я прождала его до трех ночи. Курила, сидя на подоконнике в кухне, бросала крошки от пирога вниз и старалась ни о чем не думать.
5
Когда мне исполнилось семь лет, в нашей с мамой жизни появился дядя Федя. Большой усатый мужчина с легким перегаром и серыми, как грязный лед, глазами. Мама влюбилась.
– Доченька, ты его папой не называй, но я очень надеюсь, что однажды мы станем большой семьей.
Дядю Федю я терпеть не могла. Он казался мне шумным, глупым и наглым. Дома у нас он вел себя по-хозяйски. Вроде польза была, краны больше не текли, розетки не отваливались, все быстро чинилось пухлыми волосатыми пальцами, но видеть, как он разваливался в полосатых трусах на нашем диване, мне было противно. Укладывать спать меня начинали довольно рано. Уже в восемь загоняли в кровать, и задвигалась штора.
– И не смей мне! – грозила мама пальцем, и я покорно пыталась уснуть. А они хохотали, гоготали, стучали стаканами и бокалами. Весь этот взрослый шум и шорох отдавал чем-то вульгарным, пошлым, казался плохо сыгранным водевилем. Я понимала, что дядя Федя не собирался создавать семью, он по какой-то причине решил пожить у нас, искренности и чистоты в его помыслах я не чувствовала.
Глядя на людей, я представляла их посудой. Мне не нужно было стараться или выдумывать что-либо. Эти образы всплывали сами, подсказывая мне, насколько человек добр, мил, строг, самолюбив. Это мог быть человек-кастрюля, нарядная пузатая кастрюля с крупными цветами по бокам. Иногда попадались тарелочки, милые аккуратные прохожие с ясным взором и смешинками в темных зрачках. Чаще – это люди-стекло: вазы, фужеры, стаканы. Цвет стекла подсказывал мне, насколько порядочен и добр мой собеседник или знакомый. Мутное, заляпанное, пыльное либо прозрачное, словно река.
Я не любила маминых подруг. Вера, Галя и Лида. Все три – убогие кривые вазы с бледными узорчатыми вертикалями. Подруги постоянно ныли, пытались учить жизни, отчего после совместных встреч у мамы заметно портилось настроение. Помню, спросила ее:
– Мама, зачем ты с ними общаешься, если потом тебе тяжело на душе?
Мама встрепенулась:
– Бог мой, ребенок! Тебе шесть лет! Откуда ты знаешь?!
Она гладила мои волосы и смотрела куда-то вдаль.
– Это общение, это быть с кем-то… – тихо вымолвила она.
Зачем такие друзья, если потом ты ходишь мрачной тенью? Мне казалось, что мама истончалась после визитов подруг. Словно из нее выкачивали воздух и воздушный яркий шарик превращался в бесформенный резиновый комок.
Дядя Федя был грязным. Свинцовое плотное стекло, заляпанное дорожной пылью и радиоактивным дождем. «Мама, прогони его», – умоляла я, но она срывалась и плакала.
– Эгоистка растешь! Я любить хочу!
После полугода отношений дядя Федя перестал ходить к нам каждый день. Пропадал. Врал маме, что ночные смены. Она плакала ночами, тихо-тихо, чтобы меня не разбудить. А я все слышала. Шла к ней, ложилась рядом и обнимала.
– Мамочка, он плохой, плохой, забудь его.
Неожиданно дядя Федя приходил снова, впереди него бежал запах дешевой водки и машинного масла. Он сжимал маму в объятиях, дарил мне шоколадную конфету и требовал ужина.
– Ну что, жена, покормишь мужа? – горланил он, и мама глупо хихикала. Меня выворачивало от него, я сбегала во двор. Мы играли в «городки» с соседскими детьми, гоняли мяч, делали «секретики» из бутылочного стекла и тонких веток, а мама изредка выходила на балкон, чтобы проверить, не украл ли кто меня. Будто был на земле человек, которому я была нужна.
– Домой! – с седьмого этажа кричала мама. И я неслась в подъезд, оставляя за спиной детский смех и скрип качелей.
Однажды на пути встретился мне человек-коробка. В подъезде. Мы должны были вместе зайти в лифт и проехать неизвестно сколько этажей. А может, даже и не доехать. Мама рассказала мне три страшные истории о том, как дяденьки-маньяки заходили в лифт вместе с маленькими девочками и потом люди находили истерзанные детские тела. Мне виделись сломанные пальцы, вывернутые шеи, запачканные в крови платья, я чувствовала страх и запах мочи.
– Надо внимательной быть. И никогда не заходи в помещение одна с мужчиной, – шептала мама мне на ночь вместо сказки.
Обычно я игнорировала эту просьбу. Топать на седьмой этаж пешком мне совершенно не хотелось. Поэтому я смело шагала в лифт вместе с мужчинами, мальчиками, дяденьками и соседями, нисколечко не переживая, что меня найдут на грязном полу со вспоротым животом.
Но тут, глядя на тощего мужчину с большими очками на длинном с пупырчатой горбинкой носу, мне стало по-настоящему страшно. Он не превратился в вазу, пусть и грязную. Я увидела огромных размеров темную картонную коробку, в которой шевелилось нечто мерзкое, слизкое.
Когда двери лифта распахнулись и он галантно махнул рукой, мол, проходи, деточка, я замешкалась. Смотрела в его очки, погружаясь в темное пространство коробки с чем-то мерзким, суетящимся внутри.
Я побежала. Вверх, по лестнице, на свой этаж, надеясь, что он не последует за мной.
– Мама, мама, там!.. – задыхаясь, бормотала я.
– Кто? Кто? – мама выглянула в коридор. Лифт приехал на седьмой этаж, и человек-коробка вышел на лестничный пролет.
– Ты его испугалась, дурочка? – она с любопытством разглядывала мужчину, который звонил в соседнюю дверь. – Обычный человек, чего ты…
Она гладила мои волосы, а я чувствовала, что в этом мужчине было нечто ужасное, необъяснимое. Теперь мне придется всю жизнь ходить пешком.
Вечером мама со смехом рассказывала дяде Феде, как я испугалась незнакомца. Тот качал головой, хмыкал, курил сигарету.
– Никого не бойся, Анжелика. Если что, бей кулаком в пах, и все дела.
– Ты чему ребенка учишь? – возмущалась мама.
– Жизни. Вчера прочитал в газете, что девочку задушили в подъезде, очередной маньяк в городе орудует. Так что пусть твоя дочка научится себя защищать. Ногой так р-раз, и сюда бей, поняла? – он прислонил руки к ширинке брюк и ухмылялся. Я видела в глубине его мерзкого рта золотой зуб, черный налет.
Обидевшись, я убежала к себе в уголок.
– Она же ребенок совсем, ну что… – слышала я мамин голос.
– Вырастишь дуру, как ты сама. Надо воспитывать дитя!
Укрывшись одеялом с головой, забравшись в себя, подобно улитке, я размышляла. Мои видения – они правдивы или это разыгравшееся воображение? Могу ли я доверять тому, что чувствую, давать верную оценку происходящему и стоящему передо мной человеку? Может, нет никакого зла и все люди на земле одинаковы в своих помыслах, страхах и желаниях, а я просто слишком боюсь? Нет грязных стекол, скользких существ внутри человеческих сосудов, а лишь вены, артерии, кости? А может, ошибаются взрослые, не чувствуя, не видя того, что вижу я? Каждый день в мире происходят беды, эти беды по вине человека, который кажется нормальным, добрым и сильным. А на самом деле это человек-коробка, внутри которого прячется нечто настолько омерзительное, что когда оно выбирается наружу, все рушится, прожигается, растворяется. С чьей-то болью, слезами и по́том…
– Видишь облако, похожее на собаку, бегущую за мячом? – спросила я в первом классе свою соседку по парте. Она долго вглядывалась, щурила глаза, морщила лоб.
– Выдумала! – отрезала скрипучим голосом.
Я снова посмотрела на небо. Синее полотно с белой испариной, пушистыми рисунками собак, кошек, гномов с круглыми крупными носами, смешных овечек… Почему она не видит? Я оглядываю украдкой девочку и вижу, что она милая конфетница с побитым сколотым краем. Всю жизнь будет сиротливо прятаться в буфете с засохшими леденцами, пока случайно не упадет, не разобьется, с неким облегчением, что вот выпала случайно, но теперь-то ее заметили. Одинокая, тонкая девочка, которая уже к тридцати шести годам будет считать себя старухой, мелочно завидуя подругам.
Мне было неловко, что все это я увидела в одну секунду и будто предопределила своими видениями дальнейшую судьбу милой соседки по парте. А она просто не разглядела собаку в облаке.
6
Пашу видела пару раз в университете. Он бежал на свои на лекции, я – на свои. Подмигнул мне, я отвернулась. Наивно было предполагать, что его совесть забьет в колокола и заорет на ухо: «Эй, ты! Посмотри, она же классная, ты что творишь?» Мы поженимся, родим девочку, потом мальчика.
– Привет! – это был Игорь. Он возвышался надо мной, казалось, метра на три, таких невероятно больших размеров был человек. Высокий, статный, атлет, густые черные волосы и карие глаза. Мне кажется, я ему нравилась. Часто замечала его взгляды, сиротливо бросаемые в мою сторону. Он всегда улыбался мне и спешил открыть двери в аудиторию, если пробегал мимо. Не будь я влюблена в Пашу, я бы обязательно удивилась такому вниманию, проанализировала бы его, чтобы понять: это все происходит на самом деле? У меня есть поклонник?
– Привет! – я улыбнулась «чеширским» замахом. Игорь заметил улыбку.
– У меня сегодня вечеринка, придешь?
– Обязательно! – я дотронулась до его руки, Игорь вздрогнул.
Это была слабая попытка убежать от наивной привязанности к Паше.
Двухкомнатная квартира была заполнена громкой музыкой и запахом пережаренного теста. Кто-то лохматый на кухне жарил блины, рядом полуголая девица с пирсингом в губе курила сигарету со вкусом шоколада. Черный кот сидел на табуретке и морщился. На полу коричневое липкое пятно от кофе. В большой комнате на подушках валялись пьяные парни и девушки. Игорь стоял у окна и всех фотографировал. Кругом разбросаны бутылки, салфетки, пустые пластиковые тарелки с остатками еды. Грязь, пыль – ненавижу замусоренные пространства.
– М-да, убойная вечеринка.
Я сунулась во вторую комнату, но там, на большой кровати, жарко целовалась какая-то парочка.
Я развернулась, чтобы исчезнуть, но Игорь поймал меня за руку.
– Согласен. Жуткий компот. Останься.
Я представила, что мне придется вернуться в свою квартиру, где меня ждал лишь старый диван. Стало грустно. Здесь – помойка, дома – черная дыра с одинокой плотной тишиной.
Игорь посадил меня на подоконник, вручил бокал из синего стекла с белым вином. Я питала слабость к синей посуде, особенно хрустальной. Было в ней что-то благородное. Синее стекло – холодное, словно иней, легкое и полупрозрачное. Я выросла, и синий стал для меня цветом спокойствия.
Один из парней взял гитару. Выключили музыку и забренчали струны. Играл он неплохо, но складывалось ощущение, что никто не знает, как себя развлечь. Было весело только тем, кто громко возился за стенкой. Игорь иногда смотрел на меня, и я чувствовала, что ему неловко.
После пятого бокала вечеринка стала мне нравиться. Песни пелись громче. Игорь утащил меня в освободившуюся комнату. Все плыло перед глазами. Я думала о Паше, о том, что молодость моя проходит не так, как я хочу. Пыльные прокуренные квартиры, глупые разговоры о поисках себя в ближайшие десять лет, фальшивые ноты в незатейливой мелодии – мне откровенно скучно. Только беда в том, что дома было так же скучно и одиноко. Игорь сказал, что я очень красивая и давно ему нравлюсь.
– Бархатные глаза у тебя, слышишь? – он провел пальцем у виска. Что за чушь, думала я.
Игорь попытался поцеловать меня, неловко клюнул в шею, обнял руками за талию. Ждал, что я отвечу, начну реагировать на его неумелые прикосновения.
Давай, давай, уговаривала я себя. Он, кажется, влюблен, он будет нежен и счастлив. Не отряхнется, как похотливый кот, не уйдет после секса на кухню хладнокровно пить кофе, напевая что-то под нос. Может, даже скажет, что я прекрасна, и станет целовать ладони. Но тело сопротивлялось. Не подавало сигналов, застыло, замерзло, подобно завалявшейся в глубине морозилки пельмешке.
Я вырвалась из его рук и выбежала на балкон. Вцепилась в перила и дышала. Игорь встал позади меня, сжал плечи. Я чувствовала его дыхание, и отчего-то стало так противно, гадко. Вроде вот человек, который пульсирует от меня, а я в мыслях о Паше. Никакого равновесия, меня треплет ветер, как простыню на веревке. Обдает прохладой, и внутри одни сквозняки. Игоря позвали. Кого-то стошнило прямо на диван. Я тихо сбежала в ночь. Последний троллейбус повез меня домой.
Надо завести кота, подумалось мне. Чтобы он встречал меня на пороге, тогда не так страшно возвращаться домой.
7
Мне было девять лет, когда впервые летом мама оставила меня одну. Точнее, она купила мне путевку в оздоровительный лагерь. Обещала, что мне обязательно понравится. Я оказалась в палате с тремя девочками. Просторная комната, пружинные кровати и старые тумбочки с падающими с петель дверцами. Трое вожатых на тридцать человек. Две замученные тетки и студент-практикант в очках, которого прозвали Черепахой. Девочки меня невзлюбили. Я помню, как вошла со старым чемоданом, как стала разбирать вещи, а они сидели тихо и только переглядывались.
– Анжелика, – представилась я.
Они засмеялись и выбежали. Я пыталась еще раз поговорить, но каждый раз они глупо хихикали и кривили лица. Почему я им не нравлюсь? Они замолкали, стоило мне оказаться в их обществе. Или сдвигались поближе друг к другу, склонив низко головы, что-то обсуждали, но так, чтобы я не слышала ни слова. Только едкий мерзкий смех. Ночью я плакала от обиды. Все в отряде общались группками, лишь я сидела в сторонке, потому что подружиться не получалось. Стала изгоем. Обычный ребенок, который не понимал, что сделать, чтобы понравиться. Когда мама приехала, я плакала на ее коленях, умоляла меня забрать. Но мама твердила, что не может, ведь у нее работа. Надо потерпеть еще две недели.
Две недели тянулись медленно. Я завтракала, бродила по лагерю одинокой вороной, спала после обеда, рисовала в альбоме вид из окна. Одна из вожатых, с виду грозная и толстая женщина, Марина Викторовна, пожалела меня и порой пускала к себе в комнату. Я сидела на стуле, пока она читала книгу. Иногда она рассказывала мне о своем сыне, какой он умница, что вот через полгода вернется из армии и женится на красивой девочке Наде. Она хочет внуков, хотя сама так молода. Мне нравилось ее слушать. Было тепло оттого, что она не бросила меня, как все эти дети. Я часто хотела спросить, почему со мной никто не дружит, но боялась признаться в своей грусти. Так страшно было произнести эти слова вслух, ощущение ничтожества самой себя пугало. Марина Викторовна понимала мои метания, часто гладила меня по голове, хвалила мои рисунки. За пять дней до окончания смены она пропала. Лица у вожатых были скорбные. Взрослые перешептывались на улицах, в столовой, но мы, дети, ничего не знали. Я спросила у Черепахи, где тетя Марина, но он испуганно дернул меня за руку.
Ночью, помню, я бродила по коридору. Возле комнаты вожатых остановилась. Прижала ухо к двери и стала слушать. Говорили тихо, голоса шелестели, ударялись согласные, не желая облекаться в понятные мне слова.
– Вот и отправляй сына в армию… – разобрала я наконец.
– Горе… Какое горе…
Фраза ударила мне в ухо. Я отшатнулась от двери. «Какое горе» эхом покатилось по полутемному коридору, просочилось в дверную щель и убежало в лес, чтобы разразиться раскатистым громом на его опушке.
Я вернулась в палату. Кинула свои вещи в чемодан. Ждала рассвета. Уснула на пару часов. Испугалась, что проспала, что не успею, но в отряде было тихо. Я побежала вон из корпуса. Хотела только одного: скорее сесть в электричку и оказаться в городе, на вокзале, полном суеты и людей. Как доберусь домой, не знала. Но оставаться в лагере я больше не могла. Там было «горе» в пугающем и отталкивающем одиночестве.
Я просидела на станции два часа, ожидая первую электричку. Боялась, что меня хватятся. Будут ругать и пристыжать, все будут смеяться и показывать на меня пальцем. Но я успела. Электричка уехала, когда Черепаха прибежал на станцию в поисках маленькой девятилетней девочки. В городе я вспомнила, что мы с мамой приезжали на вокзал на троллейбусе номер 44. Добралась домой я легко. Села на коврик в коридоре перед нашей квартирой. Положила голову на чемодан и уснула. Меня застала соседка Нина, она позвонила маме. Мама сидела на полу в рабочем кабинете, тяжело дыша, не в силах встать и пытаться что-то сделать, ведь ей сообщили, что ее дочь пропала…
Она ругалась, плакала, ударила меня по лицу. Я стояла в прихожей и молчала. Мне хотелось, чтобы она обняла меня.
– Ты?! Да как ты посмела?! Ты понимаешь, что могла попасть под поезд? Тебя могли украсть, убить! Ты меня не жалеешь совсем!
– Мамочка, обними меня, пожалуйста, – прошептала я.
Все лето я просидела у мамы на работе. В ее кабинете стояла огромная печатная машинка, и я часами барабанила по ней. Мне нравилась тяжесть клавиш и звонкий стук. Я бродила по заводу, выискивая неприметные помещения, куда редко заходили люди, и пыльные лестницы, ведущие в подвалы, которые казались мне таинственными местами с эльфами, чудищами и спрятанными сокровищами. В больших пространствах всегда есть странные места, которые фантазия ребенка превращает в неприступные дворцы с потайными комнатами и волшебными существами внутри. Здесь было куда лучше, чем в детском лагере со злыми детьми.
Но через год, вручив мне все тот же старый чемодан, мама отправила меня в летний лагерь. Со строгим указанием не сбегать. Мне было очень страшно. Снова оказаться в одиночестве, быть отвергнутой девочками, снова плакать под одеялом и тоскливо считать ели за окном.
С вызовом я смотрела на окружающих меня детей. В палату, куда меня заселили, я отправилась, гордо подняв голову. Никто мне не нужен – читалось в моем взгляде. Меня встретила бойкая кучерявая девочка. Она сразу потянула меня за руку к себе.
– Таня, – представилась она. Я задрожала. Помню, так и присела на краешек кровати. Она улыбалась мне. А я смотрела на нее, пытаясь угадать: она лжет, притворяется или правда такая добрая?
– Давай со мной рядом ложись, – она указала на соседнюю кровать и весело засмеялась. Я засмеялась в ответ. Мне хотелось обнять ее, прошептать: «Спасибо». Взявшись за руки, мы побежали во двор.
Всю смену мы не отходили друг от друга. Я была просто влюблена в Таню. Подвижная веселая девочка, круглолицая, с рыжими пятнами веснушек, она громко смеялась, словно издавала клич гусыни. «Го-го-го!» – слышалось отовсюду. Я вторила ей. Мы любили прятаться в кустарнике, изображая партизан-разведчиков, нам нравилось прыгать на тарзанке, обнаруженной возле дачного поселка, в крутом овраге. «Таня! Лика!» – шипели на нас вожатые, когда мы разрывали тишину ночного сна в общей палате на двенадцать девочек горланящим сдавленным смехом.
За несколько дней до отъезда Таня упала. Просто зацепилась носком ботинка за корягу, которая вывернутой дугой торчала из земли. Таня бежала, пружиня, словно резиновый мячик, да и упала, смешно вывернув ногу. Я захохотала. Таня поднялась, хмуро посмотрела на меня и медленно пошла в сторону. Я подбежала к ней, взяла за руку. Но она потянула ладонь на себя, освобождаясь от моих пальцев, и я на всю жизнь запомнила это медленное скольжение, словно из кармана извлекаешь руку. С легкой вибрацией наши пальцы отскочили друг от друга, Таня зло взглянула на меня и убежала. Я мчалась за ней, кричала: «Таня! Таня! Ты чего?» Но она не разговаривала со мной. Когда через два дня она тащила чемодан к воротам, чтобы ожидать приезда родителей, я снова побежала за ней, бросив свою сумку у корпуса. Я пыталась схватить Таню за локоть, умоляла простить меня, но она отталкивала меня, окатывая презрительным молчанием. И даже когда я разрыдалась, она лишь вскинула соломенную бровь. Я плакала потом еще целый месяц. Мама пыталась успокоить меня, уверяла, что у меня еще будут подружки. А мне казалось, что Таня – она одна такая и другой подруги я уже не встречу никогда.
8
Приближалось лето. Экзамены, суета, планы. Я надеялась, что Паша обратит на меня свое внимание. Только его не было видно. Я остановила его друга Витю, спросила, где Паша. Он сказал, что Паша бросил университет и улетает в Америку. Зарабатывать настоящие деньги. Друг усмехнулся. Да, это было похоже на Пашу. Недовольный ситуацией, он всегда искал новое пространство. Ненавидел систему, будь то распорядок в университете или идеалы его родителей, любые планы подвергал сомнению, но в то же время он витал в облаках. Желал большего, стремился быть первым. Прозябание на лекциях тормозило его. «Я уже сейчас могу зарабатывать, а вынужден получать образование. Для чего?» – часто говорил он.
Америка… Не сказав мне ни слова. Ненужный человек, не нужны и слова. «У нас с тобой клевый секс», – сказал он мне как-то, а я хотела верить в большее. Улетает – мысль-пуля пробила висок.
Я купила бутылку вина и пошла домой. У подъезда меня встретил лохматый котенок с желтыми глазами.
Кота я назвала Блохой. Отмыла его хозяйственным мылом. Передо мной сидел грифельного цвета заморыш, требующий еды. Блоха пил молоко, я – вино. Мы дополняли друг друга. Испуганный котенок и дура.
В полупьяном бреду я лежала на полу, глядя в потолок. Немного трещинок, паутинка, толстый паук в углу. Блоха свернулся рядом, цепляя коготками мои волосы. Мама была бы в шоковом состоянии, узнав, что я завела кота. Она терпеть не могла животных. Ни собак, ни котов, ни рыбок. «Нам никто не нужен, мы всегда вдвоем», – говорила она. И я верила, что она всегда будет рядом. С упреками, страхами, причитаниями и поддержкой. Не сдержала ты обещание, мама…
Распахнулось с силой окно, вырвав старую занавеску, что висела на металлическом карнизе. Блоха вскочил, зашипел. Я закрыла окно, но кот не успокаивался и шипел, будто пытался кого-то прогнать. Неуловимый запах корицы мягким ароматом распространился по комнате. Мама…
Блоха залез под диван и жалобно мяукал. Я в нерешительности стояла посреди комнаты. Я чувствовала – она здесь, она пришла. Мама часто готовила пирог с корицей и яблоками, а еще любила добавлять корицу в чай и кофе. Мамины руки пахли корицей, волосы были пропитаны ею насквозь. Даже коллеги в шутку звали ее булочкой с корицей.
– Мама, ты? – глупо спрашивать у пустой комнаты, но я кожей ощущала, что она здесь. Вот она села в свое любимое кресло. Шелест по ткани. Заморгала лампа. Блоха с воплем бросился на кухню. Мне стало страшно, я пошла за ним. Поставила чайник. Включила радио. Надо нарушить тишину, разорвать ее звуками музыки и глупой болтовней диджеев. Нужно наполнить эту квартиру запахами, шумом, а не призраками… Я посмотрела на свои руки. Иногда на меня находит странное чувство, будто реальность искажена, словно это плод фантазии или написанная кем-то книга. Я вымышленный персонаж, голограмма, рисунок в тетрадке, но никак не живой человек. Воздух становится кисельным, мое тело отказывается меня слушать, я замираю вне времени и пространства. Неуютное чувство: тебя выпихнули из этой Вселенной, будто не хватило места, словно в вагоне метро толпа вытеснила тебя за резко закрывающиеся двери. И ты на перроне один.
Если бы рядом был человек, который одним касанием дал бы мне ощущение, что я жива. Будто прочтя мои мысли, котенок бросился на мои ноги, слегка поцарапав кожу.
Мама стояла позади нечетким силуэтом и качала головой, укоряя меня за безрассудство.
Я позвонила Паше.
– Какого черта ты уезжаешь? – набросилась я на него.
– Здравствуй, Лика, – невозмутимый, как всегда.
– Паша, ты мне нужен. Мне кажется, я тебя люблю.
– Правда? – он мяукал. Я знала, что сейчас он выйдет на балкон. Закурит. Будет стряхивать пепел вниз в надежде, что попадет кому-нибудь на голову.
– Пашенька, приезжай, пожалуйста. Ты… не бросай меня.
– Сейчас приеду.
Я прождала его до четырех утра, потом уснула.
На следующий день обрывала его телефон. Наконец трубку сняла его мама и сказала, что Паша улетел два часа назад.
Вот и все. Сердце мое раскрошилось.
Я сняла гардину и выбросила ее в мусорку. Комната тут же стала неживой, мне всегда казалось, что окна без занавесок – это словно быть голым. Мамин призрак тихо шелестел в углу.
Я взяла сумку и поехала к Игорю. Он открыл дверь. Обрадовался, будто не удивился даже.
– Ты живешь один? – я бродила по квартире. Следов той помойки уже не было, аккуратно, чисто, только черный кот сидел на том же табурете.
– Да. Я сирота.
В ту ночь я осталась у него. Потому что нельзя было иначе. Останься я дома, меня бы тошнило алкоголем, рвало от слез, я бы содрала кожу с пальцев, состригла волосы. Уничтожала бы себя всю ночь.
Игорь целовал мне висок. Шептал о своей привязанности. Я не слушала его. Но прикосновения были напоминанием, что я жива…
Все последующие дни я делала вид, что со мной все в порядке. Рисовала счастливое лицо, обсуждала с одногруппниками преподавателей и экзамены, говорила о планах на лето. Играла спектакль нормальности, когда за кулисами робко стояла плачущая девочка. Сжимала портьеру, чтобы не упасть, ноги подкашивались, внутри ветром выло, билось в висках: Паша, Паша…
Купила гардины. Стоили дорого, но мне понравился их чистый морозный белый цвет. Разбросанные сероватым рисунком нечеткие спирали напоминали скругленные веточки крупных цветов. Можно было долго скользить взглядом по тонким кружевным нитям, забывая о реальности.
Игорь то ли был дурак, то ли ловко маскировался, но всегда казался веселым, не замечал моего призрачного состояния. Чтобы в отчаянии не содрать дома обои со стен, я пригласила его к себе в гости. Он тут же определил, что Блоха – девочка.
– Не-ет, – возмущалась я.
– Разница есть? – удивился Игорь.
– Девка, – горестно вздыхала я. – Несчастье это.
Игорь не сообразил, о чем я.
Мне было с ним плохо. Скучно. Тошно. Пыталась себя убедить, что он мне нравится. Просыпаясь утром, я желала, чтобы его не было в постели, но он лежал рядом. Я вставала, запиралась в туалете и ревела. Быть одной не хотелось, а быть с ним с каждым днем становилось все противнее.
Я сдала все экзамены. Впереди было еще два месяца лета, еще один год учебы и поиски работы. «Почти стала взрослой», – улыбалась я своим мыслям.
Игорь ждал меня на крылечке. Я вышла к нему. Взяла за руку, отвела в сторону.
– Прости меня. Но я больше не могу.
Ускользнула в метро.
Он растерянно смотрел мне вслед. «Необычно, – подумала я. – Мне разбили сердце. Я разбила сердце в ответ».
Помню, будучи маленькой, я очень хотела быстрее вырасти. Казалось, что взрослые умеют принимать правильные решения и не чувствовать вину за содеянное ими зло или совершенные поступки. Не плакать, сдерживая свои эмоции, не кричать, когда что-то не нравится, как делала это мама, быть такой серьезной дамой, которой подвластно все. Я взрослая теперь. Но внутри сидит ребенок, растерянный и одинокий. Он очень хочет разреветься прямо здесь, в вагоне метро. Но сдерживаешься, потому что показывать свои слабости окружающим весьма глупо.
9
Однажды мама застала дядю Федю у соседки. Она пошла к ней попросить сахара, дверь была приоткрыта. Вошла. А они там на кухне. Между плитой и столом. Она швырнула в них вилки, что лежали тут же на столе, и выбежала в слезах. Плакала каждый день. На выходных выпила две бутылки вина, отчего потом всю ночь ее рвало в синий таз, который я приставила к дивану. Я сидела рядом на полу, иногда опорожняла таз и возвращала его на место. Мама просыпалась, ее рвало, я держала волосы, чтобы не запачкалась. Мне было очень страшно. Помню, как глаза слипались, я засыпала на мгновение, а сама вся в слуху, не замычит ли мама, не застонет ли. Она и кричала, то ли от вина, то ли от боли душевной.
Жаль было маму, но соседка Яна подходила усатому Федору больше. Мама была тонкая кисть, а Яна – веник для уборки подъезда. Дядя Федя – желтый самовар. Мама не видела разницы между ними, а я видела. Дяде Феде было все равно, но ментально его потянуло к той, что была проще и безыскуснее, одной рукой она жарила котлеты, другой мыла посуду. Запах чеснока и пота от ее тела не смущали. Мама же чиста, свежа и много требовала…
Долгие месяцы мама была замкнута, часто плакала ночами, утром я находила пустую винную бутылку под раковиной. Она молчала, уйдет на работу, вернется. Пролистает мой дневник, погладит волосы. Сядет в кресло, возьмет спицы и вяжет, вяжет.
– Мама, что ты вяжешь?
– Кофту себе.
– Мама, красивая будет кофта, да? – пыталась я ее подбодрить. Но она смотрит вперед, сквозь стены, сквозь города, туда, где мнутся с ноги на ноги ее мечты о том, чтобы кто-то любил ее сильно, как в пошлых романтических фильмах.
Однажды мама резко изменилась. Повеселела. Стала ярче краситься и одеваться. «Опять кто-то появился», – с горечью подумала я. Безнадежно все это. Мне всего десять лет, но я твердо знала, что мужчины на любовь не способны. У мамы их вон сколько было, ни один не сделал ее счастливой.
Казалось, на этот раз было по-другому. Влад, так он представился мне в первый день нашего знакомства, жил за городом в большом двухэтажном доме с взрослой дочерью и черной беспородной собакой. Дом был странный. Для меня слишком необъятный, с множеством комнат, крутой лестницей на второй этаж и абсолютно голый. Мебель, обои, невзрачные люстры. Несмотря на домашнюю утварь, создавалось ощущение, будто в него только въехали и еще не успели обжить. В доме отсутствовали запахи, тепло, приятные мелочи, которые могли наполнить пространство особым дыханием, сделать жилище родным. Я бродила по комнатам, чувствуя, как дом выталкивает меня, не принимая в свои стены.
– Мама, мы здесь чужие, – сказала я перед сном. Меня уложили в комнате на втором этаже, где был лишь стол, кровать и огромный стеллаж, в котором хранились инструменты, провода, гвозди, гайки и прочие мужские вещи для ремонта.
– Спи, – мама поцеловала меня и упорхнула вниз, к Владу. Я слышала ее звонкий голос, радостный смех.
Теперь мы проводили у Влада все выходные. Его дочь Ира меня не выносила. Она смотрела злыми глазами, будто змея, пытаясь вычислить в маленькой девочке все известные ей пороки. Ира всегда ходила с книгой. Пытаясь подружиться, я как-то спросила ее, что она читает.
– Историю, географию, мифы древней Греции, все, что читают только образованные люди! – Ира раскрыла передо мной книгу. – На, читай!
Я смотрела в книгу, гадая, отчего эта Ира такая вредная. Может, потому что некрасивая? Тощая, с редкими серыми волосами, длинным носом и худой шеей, она была словно Кощей бессмертный, только женского пола. Ни разу не видела, чтобы она улыбалась. Всегда с презрительной ухмылкой, неодобрительным взглядом, она морщилась от всего, что попадалось ей на глаза. Она была трехлитровой банкой, из которой достали маринованные огурцы, а жижа осталась.
– Очередная любовница, папа? Ну-ну, посмотрим, как долго продержится здесь эта идиотка, – услышала я однажды ее разговор с Владом.
А мама, наоборот, старалась. Она драила дом, наводила порядок. Повесила на стены несколько картин, которые нашла у Влада в кладовке, их рисовал еще его дедушка. На стол постелила скатерть, купила плед кофейного цвета, чтобы укрываться им, когда смотришь телевизор. Добавила к дырявым с неровным узором гардинам яркие темно-вишневые шторы. Пыталась вдохнуть жизнь в этот мертвый дом. Маме нравилось, а я видела, что остались по-прежнему холод и тоска.
– Мама, мы здесь чужие, – твердила я ей перед сном.
– Ну что ты! Я его люблю, дочка. Он хороший.
– Хороший, – соглашалась я. – Но…
Мама грустно смотрела на меня. В ее взгляде читалась тревога, женская тоска, в которой, словно в глубоком озере, тонула последняя надежда на любовь и семью. Я держала ее за руку. Хотела сказать, что я вижу, каков он, этот Влад. Да, он лучше дяди Феди в том, как выглядит, как говорит и как думает. Но только не любит маму, просто играется, как кот с клубком ниток. Она старается, порхает по дому, словно птичка, украшает, готовит, а ему все равно. Он живет в своем мире, где нам с мамой нет места. Но разве могла я учить жизни в десять лет? Я надеялась, что ошибаюсь. Или что однажды она застанет его с какой-нибудь глупой соседкой и сама прекратит этот холодный роман.
10
Я спряталась под одеялом. Под окнами шумела пьяная компания. Лето ведь. Жара. У большинства нормальных людей любовь, веселье, танцы и хмельной рассвет. Только я лежу под одеялом, рядом наглая кошка, мы так молоды и так одиноки. Ни парня, ни подруг. Лишь тени и страх, что вся моя жизнь станется узкой тропинкой среди неприступных скал, по которой никто так и не рискнул пройти. Под одеялом было не так страшно. Черная пещера, в которой ты лежишь, словно в утробе матери, защищенный от внешнего мира, полного равнодушных и чужих друг другу людей.
– Ты просто влюбилась… – услышала я мамин голос. – А первая любовь всегда глупая, плохая, злая…
Я закрыла уши руками.
– Ты призрак, ты голос в моей голове, уходи, – шептала я.
– Я воспоминание, – прошелестела она над моим ухом и исчезла.
И я начала гибнуть. Я захлебывалась от жалости и обид, тонула в собственных слезах, внутри эмоции – боль и тревога – перекрутились, спутались, словно провода. Еще немного, и безумие схватило бы меня в свои цепкие лапы. Этот хищный и мощный зверь, который ловит слабых и уносит в свою нору, где царит лишь тьма, сырость и печальное эхо.
Я откинула одеяло и бросилась в ванную. Достала ведро, тряпку, начала убирать. Вытирала пыль на каждой полке, на плинтусах, книгах, телевизоре. Протирала даже лампочки в абажуре и люстре. Уборка меня успокаивала. Остановись я, на миг задумайся, и снова станет так больно, словно кто-то выжигает буквы у меня внутри, тщательно нажимая пирографом на тонкую плоть.
– На шкафу пыль. Плохо, плохо убираешь, – мамин призрак парил над шкафом, тонкий палец указывал мне на его поверхность. Она подула, и серая пористая пыль полетела на меня сверху, как пепел, осыпая пол.
– Я стараюсь! Я стараюсь, черт побери! – я схватила табурет и взобралась на него, чтобы протереть место, на которое она указывала. Но мама уже была под диваном, она просунула руки под него, бормоча под нос, как грязно, какая я несносная неряха. Блоха шипела на нее, подпрыгивала в безумном танце, цепляясь когтями за обивку.
Я носилась по квартире, мамин призрак за мной, он везде дотрагивался до мебели, стен, книг, фотографий, протягивал мне пальцы, испачканные в мутной саже.
Стало трудно дышать. Казалось, пространство наполнено черным воздухом, плотным вареньем из копоти и пыли, и только шипящая кошка разбивала эту тьму в попытке вырвать меня из сгущающегося тумана.
Зазвонил телефон.
– Ну что ты, крошка, скучаешь? – услышала я голос Паши.
– Паша? Ты… – я села на пол.
– Из Америки звоню, дурочка! Устал как черт. С утра до ночи мою посуду в занюханном баре, – он смеялся. – Свобода, жизнь, а что! Это еще ладно. Мой сосед подрядился клубнику собирать, представляешь – клубнику! Вечером разогнуться не может, скрюченный, как бабка старая, лежит на кровати и кряхтит. Так я еще ничего. Посудомойка. Ха-ха!
– Паша, ты вернешься, да? – пальцы сжимали телефон, словно Пашины руки были здесь, и я цеплялась за них. Родной мой, вот он, рядом.
– Нет, конечно! Лика! Звоню сказать, что я тут навсегда. Буду мыть посуду, учить английский и уеду в Голливуд. Ну а что! – он нервно смеялся.
– Зачем ты мне звонишь?
– Соскучился, – Паша бросил трубку. Гудки, словно колокол, отбивали гулкую музыку. То было слово одно лишь: «Прощай…»
Выглянув в окно, я увидела жизнь. По улице шла компания девушек, они были на каблуках, в платьях, воздушные бабочки. Подруги. Я любовалась их грациозностью и легкой беспечностью, тем, как они едва касались друг друга локтями, как взмахивали руками и смеялись. Даже сквозь плотный шум транспорта до меня долетал тонкий, как у колокольчиков, беззаботный звон.
Распахнув окно, я взобралась на высокий подоконник, закурила. Мне хотелось кому-нибудь рассказать, что мне позвонил Паша, мальчик, в которого я безнадежно влюбилась, мне ведь всего двадцать два, мне положено влюбиться. Что внутри меня сердце съежилось, что плакать хочется, а не могу. Но у меня не было подруг. У меня не было никого. Только кошка и призрак мамы.
Кода я поступала в университет, мечтала, что наконец подружусь с кем-нибудь. Я не учиться пошла, а искать друзей. Вокруг было столько людей! Огромный улей, в котором скука разбивалась на мелкие куски о яркие и творческие натуры, о молодость и неудержимую страсть. Казалось, окружающие меня студенты занимаются любовью и жизнью, лишь я была незаметным пробелом в необузданной веселящейся толпе. Я не могла. Старалась улыбаться, пыталась быть милой и бесстрашной. Когда однокурсница Саша предложила прийти на вечеринку после окончания семестра, я согласилась. «Вот оно!» – думала тогда я. Все напьются, будут расслабленными и добрыми, я обязательно с кем-нибудь подружусь. Но не пошла. Мне позвонили и сказали приехать в морг, на опознание.
11
Зимой мне нравилось бывать у Влада. Недалеко от его дома была крутая горка, с которой так здорово было кататься на старых, немного ржавых санках с отломанной спинкой. Со мной каталась девочка-соседка, Тая. Ей было семь лет, молчунья, с черными глазами, как у ее мамы. Родители девочки, Олег и Ольга, частенько наведывались к Владу и засиживались до поздней ночи. Ольга напивалась. Олег отводил ее домой, удерживая под руку. Сам он не пил, хотя по его глазам я видела: очень хочет. «Закодировался», – сообщил он присутствующим. Все пили, а он только водил языком по губам.
– Он буйный, – Ольга пила рюмку за рюмкой. Страшная женщина. Толстая, она всегда ходила в хлопковом цветастом халате, даже зимой надевала его с темными шерстяными колготами под собачью шубу. Глаза узкие, черные, как угольки, свирепые. Такого же цвета волосы, спутавшиеся в широкую косу. Она приходила в дом, и возникало чувство, будто светлый солнечный день резко оборвался заполнившей небо грозовой тучей, что предвещала неутихающие раскаты грома. За спиной пряталась Тая, рядом с ноги на ногу переминался муж.
– Владичек, у нас там рабочие шумят, можно пересидим у тебя? Я пирожки принесла.
Они заходили на кухню, расставляли рюмки, водку, Ольга доставала из плетеной сумки пирожки с капустой, пирог с грибами. Мама и Влад садились вместе с ними. Мы с Таей, ухватив по пирожку, убегали в мою комнату играть. Зимой просились на горку кататься.
– Доченька, аккуратно, хорошо? Смотри, чтобы острые края санок не попали тебе в глаз, – наставляла меня мама. Я кивала головой, впитывая каждое слово, запоминая в деталях: острые углы – в глаза – опасно.
– Горку выбирай маленькую, а то перевернешься, руку сломаешь, поняла?
Мы с Таей убегали на самую крутую горку. Все равно мама не проверяла. Я даже скатилась спиной с этой горки. Перевернулась, конечно, в яму какую-то попала, санки в лоб угодили, разбив его до крови. Мама кричала. Запретила кататься целый месяц.
Теперь, когда приходили Олег и Ольга, я сидела рядом с мамой и Владом. Они пили водку, говорили о строительстве дома. Скучно было невыносимо. Ольгу я побаивалась. Мне все казалось, что глаза ее – острый нож. Смотрят так, будто разрезают меня, словно погружают свое лезвие в масло. Было в ней что-то недоброе. Ваза, банка, конфетница? Я ждала привычный образ, но видела лишь черный рой навозных мух. От нее даже пахло плохо.
– Мама, можно я уйду? От тети Оли плохо пахнет, – шепнула я маме на ухо.
– Ты что?! – мама покраснела, испугавшись, что Ольга услышит.
Ночью перед сном мама призналась, что Ольга ей тоже не нравится. Но Влад их жалеет, они дом строят, спят на полу, на кухне плита да стол, на втором этаже в окна даже стекла не вставлены. Поэтому нужно терпеть.
– Ради Влада, понимаешь, Ликочка?
Я не понимала. Мы уже полгода ездили к Владу по выходным, но дом не принимал нас по-прежнему. Бездушный, бесчувственный дом, в котором даже солнечные лучи преломлялись в серые полосы, что тонкой паутиной ложились на желтый линолеум.
Однажды я увидела, как Олег, пока все вышли на улицу покурить, торопливо выпил рюмку.
– Тсс, – он приложил палец губам. – Никому не говори, хорошо?
Я молчала. Убежала в комнату. Какое мне дело, что он выпил. Я и не знала, что ему нельзя.
Олег и Ольга ушли поздно ночью. Тая осталась спать в доме Влада, ее уложили в комнате на первом этаже. Мама пришла ко мне.
– Лика, – позвала она меня.
– Что, мам?
Она сидела на краешке кровати. Плакала.
– Мам, что случилось?
Мама погладила меня по голове.
– Хочешь, мы уедем? Прямо сейчас?
– Но поздно ведь. Электрички, наверное, не ходят.
– Ну да, – она легла рядом со мной. Обняла. Я слушала, как она печально вздыхает, и внутри меня что-то обрывалось. Я словно тряпичная кукла, из которой выдергивали нитки, беспощадно распарывая швы. Рвалась на кусочки, на лоскутки. Одного я желала, чтобы мама была счастливой, веселой. Тогда и мне было бы легко и уютно в этом мире.
Утром мама в спешке собирала вещи. Влад ходил мрачный, недовольный. Тая сидела на стуле, болтая ногами, пила чай.
– А когда папа придет? – она, как я заметила, больше любила отца.
– Скоро, Таисия, скоро, – Влад вышел на улицу.
Мама выбежала за ним. Я последовала за мамой, на улице было невероятно красиво. Голубое прозрачное небо, снег, солнце, падающее на него жирным светом, отчего ярким блеском слепило глаза. Влад направился к дому Ольги и Олега, он был через дорогу.
Ольга сидела на крыльце с топором в руках. Хлопковый халат в крови, волосы скрывали лицо, она будто спала. Влад помедлил. Обошел Ольгу и зашел в дом.
Мама замерла у калитки, а я маячила за ее спиной.
– Мама, что с тетей Олей?
– Не знаю, – шепотом ответила мама.
Влад выскочил из соседского дома.
Он схватил нас за локти и потащил прочь.
– Она его зарубила, – только и сказал он и схватился за голову.
– Топором? – мама в ужасе уставилась на Влада.
– Уезжай. Нечего ребенку все это видеть. Надо милицию вызвать.
Мы ехали в электричке. Молчали. На прощание Тая мне улыбнулась. Я думала о том, что же с ней будет. Она пила чай и еще не знала, что ее мама убила ее отца.
– Рой мух, – вслух сказала я.
– Что? – мама удивилась.
– Тетя Оля – это рой мух. Все вазы, банки, а она – рой навозных мух.
Мама покачала головой, осуждая мои глупые мысли.
12
Когда мне исполнилось двенадцать лет, у меня появился друг. К нам в класс пришел новенький. Мальчика звали Львом, но все называли его Левкой. Левку посадили за мою парту. Он оказался нашим соседом, жил этажом ниже. После школы мы вместе пошли домой, вошли в наш лифт и застряли.
– Это надолго, – хмуро сказал Левка после разговора с диспетчером.
– Почему?
– Я часто в лифтах застреваю, минимум пять раз в месяц, и всегда рабочие приезжают только часа через два.
Левка достал из портфеля альбом и карандаш. Присел на корточки, разложил альбом на коленях и стал рисовать. Я присела рядом с ним. Левка рисовал огромное чудовище с выпученными глазами и клыками, из его пасти лилась то ли слизь, то ли кровь, а в лапах оно сжимало тонкую фигурку девушки.
– Ого! Ты здорово рисуешь! – я с восхищением смотрела на мальчика. Левка только кивнул, продолжая заштриховывать зверя. – А я людей представляю посудой.
– Как это?
– Ну вот, например, наша соседка Валя, от нее всегда пахнет кислой капустой, но вообще она хорошая женщина, мне она видится пузатой белой кастрюлей, в них обычно варят борщ. А училка по русскому – тонкая вытянутая ваза из розового стекла.
Левка посмотрел на меня с удивлением. Протянул руку.
– Будем дружить, – сказал он с неким уважением.
Когда нас наконец извлекли из лифта, на часах было четыре. Я с ужасом думала о маме. Обычно, вернувшись из школы, я звонила ей на работу и сообщала, что я дома. Мама стояла возле двери, будто статуя. Руки лежали на груди, глаза закрыты, она дышала тяжело и со свистом.
– Мам?
Она очнулась. Посмотрела на меня тяжелым взглядом и залепила пощечину.
– Нагулялась?! – крикнула она, словно бросила мне в лицо мелкие камни, так больно ударили ее слова.
– Мам, я не виновата… – я стояла растерянная, щека горела и болела. Мама развернулась и ушла.
– Мне пришлось отпрашиваться с работы, я думала, с тобой что-то случилось, а у меня отчет! – бросила она на прощание.
Домой она вернулась поздно. Я лежала в кровати, гадая, почему она задерживается. Мама со мной не разговаривала. Накапала демонстративно корвалол, выпила несколько сердечных таблеток и легла спать.
– Мамочка, я не виновата… Я в лифте застряла.
Но она молчала.
– Если ты хочешь моей смерти, то своего добьешься, – наконец вымолвила она.
Всю ночь я ворочалась. Заснула около четырех утра, а через два часа уже нужно было подниматься в школу.
– Мамочка, ну пожалуйста, – молила я. Ее молчание убивало меня. Сердце становилось тяжелым, будто на него повесили гирю и оно падало вниз под грузом. «Почему я страдаю? – спрашивала я себя. – Ведь нет моей вины в том, что я не позвонила, как обычно, в два часа. Я застряла в лифте, что не так? Почему же мне так плохо, отчего нужно во что бы то ни стало помириться с мамой, иначе весь день будет безнадежно испорчен?»
Левка ждал меня внизу у подъезда.
– Ну что, пошли? – он переминался с ноги на ногу. Неуклюжий, смешной, с темными вьющимися волосами и шоколадными глазами.
– Родители не ругались? – спросила я его.
– Чего им ругаться? Ну, застрял, бывает, – он пожал плечами.
– Везет тебе, – вздохнула я. Левка не понял.
Левка был моим подарком и маминым проклятием. Мы забирались с ним на деревья, представляя себя птицами, лазили по подвалам, пугая крыс, залезали на крышу, чтобы плеваться на прохожих внизу. Когда соседка рассказала маме, что видела, как я поднимаюсь на крышу, мама плакала весь вечер. Она швыряла в меня вещи из шкафа, потому что они криво лежали, бросала грязное белье, вытаскивая его из бельевой корзины:
– Кто это будет убирать? А?! Я?! Ты по крышам шатаешься, а я тут домработница? Что ты смотришь? Посмотри в шкаф, давай, давай! – она схватила меня за шею и засунула головой между полок.
– Видишь, сколько грязи, вещи лежат, будто их ногами топтали, ты девочка растешь или кто?!
Когда я сложила все вещи на место и стала стирать руками майки, она немного успокоилась.
– Стиральную машинку Влад скоро починит, – она стояла возле ванной комнаты. – Крыша – это очень опасно, понимаешь?
Я кивнула.
– Ну, иди ко мне, – она обняла меня, поцеловала в щеку. – Не хочу, чтобы ты дружила с этим мальчиком.
– Я – хочу.
Мама внимательно смотрела на меня, задумавшись.
– Ладно, посмотрим.
Она повеселела, слишком быстро забыв о случившемся. А все дело в выходных. Завтра опять к Владу поедет и не хочет, чтобы я все испортила своим плохим настроением. Я же ехать к Владу решительно не хотела.
Я пила чай с бутербродом, пытаясь придумать, как остаться дома. Неожиданно позвонили в дверь.
На кухню вошел мужчина. Сутулый, с сединой на висках, с уставшими глазами.
– Привет, дочка, – сказал он и сел рядом на табурет. Мама встала позади него, немного удивленная, она не знала, что и делать.
– Зачем пришел? – спросила она его. Поставила перед ним чашку чая.
– Дочку увидеть, – он смотрел на меня внимательно, будто мелкие ракушки выискивал в песке. Неуютно.
– Ммм, двенадцать лет, знаешь? – мама иронично улыбнулась.
– Я твой папа, понимаешь? – он попытался взять мою руку, но я отдернула ее.
Если бы ты был мой папа, я бы это чувствовала, но ты чужой человек, который не знает меня, не знает, каково мне жить, каждый день моля о взрослении. Потому что я неподвластна себе, я живу и дышу только мамой. У меня всегда была только мама, больше никого. Я не знаю, как становятся папами, но, наверное, они всегда рядом, да? Я видела несколько раз, как отцы подбрасывали на руках своих маленьких дочек. Девочки так глупо и счастливо визжали. Вверх – в небеса, волосы тонкими искрами взметались ввысь вместе с громким радостным визгом, вниз – в руки, громкое «хлоп», объятия. Каково это, когда тебя любит отец?
Я хотела сказать это вслух, но не смогла. Отметила лишь про себя, что я на него похожа. Глаза зеленые, мутноватые, как болото, нос широкий, скулы высокие. Волосы жесткие, непослушные. Мама вдруг показалась совсем белоснежной и прозрачной на фоне нашей с отцом смуглой кожи и черных прядей.
Я встала и медленно вышла, спряталась за шторой на кровати в надежде, что мама сама его выгонит.
Отец что-то бормотал, я слышала его голос, доносящийся из кухни. Мама иногда срывалась на крик:
– Знаешь, как мне одной тяжело было?!
Он барабанил пальцами по столешнице. Ему важно было сейчас почувствовать себя отцом, чувство вины не входило в его планы. Они долго спорили. Мама рассмеялась отцу в лицо, когда он пытался громко высказаться: «Она моя дочь!»
Вскоре он ушел, оставив маме деньги.
– Купи ей то, что она пожелает, хорошо?
Он подождал в прихожей, надеясь, что я обниму его на прощание, но я спряталась в своем темном уголке и не желала ничего знать.
Мама расстроилась из-за прихода отца, поэтому поехала к Владу, оставив меня дома впервые одну. Как только приехала к нему, тут же позвонила. Я прослушала лекцию об электроприборах, маньяках, непогашенном газе, опасности крыши и бытовой химии. Уверила маму, что буду все время дома и стиральный порошок с сахаром могут перепутать только глупцы. Она проворчала, что будет звонить каждый час, проверять, так ли это. Я побежала к Левке.
– Поехали кататься на велике, – с горящими глазами Левка вытаскивал из прихожей велосипед.
– Мама через час позвонит, если меня дома не будет – убьет.
– Ой, ладно тебе. Придумаешь что-нибудь, – Левка не понимал моих проблем и относился к ним с пренебрежением.
– Поехали!
Мы катались на велосипеде. Левка любил скорость. Мы носились по двору, а я каждые пятнадцать минут смотрела на часы. Мне нужно было вернуться домой. Если мама позвонит и я не сниму трубку, ей опять будет плохо, снова схватится за сердце и станет обвинять меня в черствости. С Левкой было весело, беззаботный и в то же время довольно замкнутый человек, он открывал мне мир с другой стороны. И не пытался меня переделать. У меня впервые за долгие годы появился друг, и мамин контроль мог его забрать. Я невероятно страдала.
– Давай на кладбище? – Левка интригующе подмигнул.
Кладбище было прямо за нашим домом, через дорогу, и нисколько меня не пугало. Мы каждый день проходили мимо выпирающих вдалеке крестов и гранитных черных памятников, не видя в этом никакой зловещей тайны. Пару раз я бродила по кладбищу. Днем, конечно. Там было тихо и невероятно спокойно. Старые кресты с черно-белыми фотографиями были словно мои спутники в прогулке.
Я замялась. Мама должна была позвонить через десять минут.
– Поехали! – мне стало обидно. Ведь я не делаю ничего плохого. И мне не пять лет.
Мы неслись по кладбищу, огибая старые ограды, радуясь, что никого нет на пути, можно разгоняться еще быстрее. Лишь одна пожилая дама убирала у могилы цветы и возмущенно качала головой. А мне казалось, что лица покойных нам улыбаются, они одобрительно провожают нас глазами. Шелест велосипедных шин по неровной дороге разрывал плотную тишину, разбивал застывшее пространство движением легкого ветра, что шлейфом тянулся за нами. Мы дарили мертвым жизнь, они нам – безмолвную радость и ласковые взгляды.
Но через двадцать минут я ужасно испугалась. Вдруг мама мне постоянно звонит, думая, что со мной случилась беда?
Я спрыгнула с велосипеда и помчалась домой. Сердце колотилось, я, словно бешеный пес, бежала, бежала, чтобы поскорее ухватиться за телефонную трубку.
Пальцы дрожали, когда я набирала номер Влада.
– Да? – услышала я звонкий смех.
– Мама? – я пыталась говорить спокойно, но голос срывался.
– А, доча, мы тут пироги готовим, приезжай.
– Ты не звонила разве? – осторожно спросила я.
– Нет, зачем, ты же дома, умница моя.
13
В дверь настойчиво звонили. Я лежала на диване, читала Маркеса, за окном летний ливень, август, в душе – промозгло и неуютно.
Игорь стоял на пороге с букетом взъерошенных ромашек и бутылкой вина. Ручка зонтика была вставлена в майку сзади на спине, а полотно шапкой плюхнулось на голову. Смешной, мокрый, Игорь смотрел на меня пронзительно, улыбался.
Хорошо-то как. Впервые за долгие месяцы улыбнулась.
– В нашем возрасте девушки должны постоянно смеяться, знаешь? – мы пили вино, лежа на диване, я захмелела и осмелела, стала болтать. Блоха валялась у него на коленях. – Я часто слышу, как смеются девушки, и все хочу спросить у них, в чем их сила. Отчего они настолько легки? Я тоже так хочу.
– Ты нравишься мне своей меланхолией. Ты – красивая.
– Да?
Красивая… Это слово, понятие наполнило меня колокольным звоном, вибрируя эхом в каждой части тела. Когда смотришь на пальцы, на острые коленки, на пухлый кончик носа и думаешь: я красивая? Игорь мне не нравился. С ним было слишком просто, слишком скучно. Но благодаря ему я впервые ощутила легкость. Да и цветы мне никто не дарил. Разве что Левка давным-давно на Восьмое марта. Но в четырнадцать лет от друга – это не считается.
Игорь старался. Вел себя так, словно знаком со мной много лет.
Приготовил чай. Достал из пакета неожиданно мягкие пышки с сахарной пудрой. Конечно, я переспала с ним. Нужно пытаться начать новую жизнь, решила я. Пашка не вернется. Никто не возвращается из Америки – страны больших возможностей. А тоска меня заела. Мне нужно было выдавить из себя грустного человека, который прозябает в квартире с кошкой и призраком и лишь слышит звонкий смех прохожих тремя этажами ниже. И мне никто не говорил, что я красивая. Даже мама. А Игорь сказал. И пышки были вкусные.
На следующий день Игорь потащил меня в ночной клуб. Я напилась текилы и полезла танцевать на барную стойку, где уже отплясывали две пьяные девицы на огромных каблуках. Я танцевала, забыв обо всем, а Игорь стоял внизу и посылал мне воздушные поцелуи. Музыка была очень громкая, она ударяла в голову пушечным выстрелом, выбивая мозги, оставляя внутри лишь шум и ритм. В этом ритме я растворилась, стала легким перышком, которое парит в воздухе и заметно лишь на свету, поднимается к пыльному потолку, замирая там на доли секунды, и опускается вниз. Волны музыки уносили меня в космические дыры, где, наконец, не нужно было ни о чем думать.
Игорь ночевал у меня часто, мы смотрели триллеры, ели сладости. Иногда он вытаскивал меня на вечеринки к его друзьям, где всегда было неспокойно и пьяно. После таких ночей я возвращалась домой с ощущением грязи на теле. В душных квартирах всегда кого-то тошнило в туалете, сигаретный дым проедал вещи, кожу и плоть до самых атомов, отчего мне казалось, что я сама стала синим пеплом. Студенты орали песни, целовались, разбивали бутылки, и я отчаянно веселилась, хотя меня уже через час тянуло домой, под старый абажур и плед. Но Игорь крепко держал за руку, чтобы я не сбежала, приобщая меня к всеобщей радости и угару. И не знаю даже, терпела я или пыталась научиться этому праздному образу жизни, но с каждым днем мне становилось очевиднее, что я чувствую себя чужой. От этой мысли подташнивало. Лишь тепло руки Игоря вселяло надежду, что, возможно, наступит то время, когда без внутреннего диалога и припрятанных в потайной карман мыслей я растворюсь в толпе танцующих и пьющих и мне будет действительно легко.
А потом он исчез. Через две недели молчания, первого сентября, я позвонила сама. Но он не ответил.
14
Учительница математики поставила мне двойку за невыполненное домашнее задание. Я сидела на кухне, перед дневником, глядя на алую цифру, раздумывая, как все это исправить. Мама пришла чуть раньше.
– Что случилось? Грустная?
– Двойку получила.
– О, а я тебе кофточку принесла! – мама развернула пакет и достала белоснежный свитер.
– Красивый, правда? Зоя Петровна отдала. Говорит, еще тебе вещей передаст. Дочка чуть старше тебя, – мама приложила свитер к моей груди. – Ты же исправишься, да?
– Да. Математику ненавижу!
Мама никогда не ругала меня за плохие оценки. К школе она относилась несерьезно, считая, что учителя редко бывают справедливыми. Она не проверяла мой дневник, не сидела со мной над домашними заданиями. Я честно старалась все делать сама. Учеба давалась легко, за исключением математики и физики.
В школе одноклассница Вика спросила меня, когда мы выбежали на переменке в туалет:
– Ну что? Ругали родители? – она сделала большие глаза.
– Нет, а за что? – я удивилась.
– За двойку, конечно, – Вика хлопнула ресницами. Она вчера схлопотала сразу несколько плохих оценок. – Смотри.
Вика опустила колготки, и я увидела ее ягодицы, окрашенные в кровавые полосы.
– Батя. Ремнем, – она цокнула языком и выбежала за дверь.
Весь день я не могла выкинуть Викину попу из головы. Как можно бить за плохие отметки?
Левка пришел ко мне вечером, притащил приставку. Мы играли, пока мама нас не прогнала. Если бы меня спросили, когда я была счастлива, я бы ответила: в тот момент, когда мы с другом, сидя на ковре перед телевизором, гоняли по экрану смешного усатого человечка.
– Тебя бьют родители?
– Ты что! Нет, конечно! – Левка вскинул кустистые брови. Стал таким смешным, что я засмеялась. Рассказала ему про Вику.
– Ну-у, – он почесал затылок. – Воспитательный момент такой. Вика все-таки не столь сознательный человек, как ты, – в свои двенадцать лет Лев был очень рассудительный. – Хотя, конечно, избивать собственную дочь – это чрезвычайные меры.
– Ты нормально выражаться можешь? – я толкнула его в бок.
– Я хочу стать философом, – Лев оставался невозмутимым.
– А я не знаю. Актрисой стану. В театр хочу. Там многолюдно.
Мама прогнала нас на улицу, хотела посмотреть телевизор. Мы с Левкой полезли на крышу. Высоты я боялась, но отказать другу не могла. Мы стояли почти у самого края. Мне казалось, сделай шаг – и можно будет оторваться от крыши, полететь туда, вдаль, за деревья, над пятиэтажками и детской площадкой. Меня немного шатало и манило к краю.
– Боишься?
– Да, – я не желала глупо храбриться.
Вдруг со стороны послышался шум. К нам стремительно приближался мужчина в порванных штанах и вязаной шапке. Нечто безумное было в его глазах. Мы рванули с места и побежали. Нужно было добраться до следующего подъезда, перепрыгнув ограждение. Когда оказались в подъезде, то мчались вниз по лестнице, пока не оказались на улице.
– Кто это был? – я едва дышала.
– Сумасшедший какой-то, – Левка посмотрел на крышу.
На следующее утро Левка зашел за мной, и мы пошли вместе в школу. У четвертого подъезда толпились люди и милиция. Один мужчина подошел к нам.
– Вы живете в этом доме?
Мы кивнули.
– Можно вас попросить опознать тело?
Левка отказался.
– Не, я не пойду.
Я решилась. Возле дома на земле лежала девушка в бежевом синтетическом халате на голое тело. Голова повернута набок, лужа крови. Незнакомка. Я вспомнила тетю Олю, сидящую на крыльце с топором в руках в том ужасном затертом халате. Осознала, что никогда в жизни не буду носить халат.
Я отрицательно покачала головой.
– Она прыгнула с крыши?
– Да.
По дороге в школу я думала о девушке. Неужели не страшно прыгать?
– Самоубийство – это глупо.
– Почему? – Левка неожиданно удивился. – Это выбор человека. Если ты больше не хочешь жить, то зачем мучиться?
– Может, тот мужик ее? – я размышляла, Левка нахмурился. – Больше я на крышу ни ногой.
– Трусиха.
Я подняла голову и посмотрела на крышу нашего дома. Впервые дом показался мне мрачным. Многоквартирный улей, где каждый человек заперт в тесной клетке небольшого жилища и единственный выход – это крыша. Потому что крыша – это свобода и бескрайнее небо над головой.
Вечером, сидя на полу, я рисовала. Черным карандашом сумрачные тени города, приглушенные фигуры, скользящие по мокрому асфальту, темные тучи, падающие на головы людей, протягивающие к ним широкие щупальца, словно монстры. Я рисовала дом, он протыкал крышей рыхлое небо, а в окнах застряли лица людей, в немом крике молящих о спасении.
– Господи, почему у тебя всегда все такое мрачное? – мама склонилась над рисунком. – В детстве ты любила рисовать собак. Такие забавные они у тебя получались, корявые, на тоненьких ножках. Но они улыбались.
– Собаки улыбались? – недоверчиво спросила я. Вспомнила. Да, мне нравились таксы, и я пыталась их нарисовать. Смешные добрые собаки, которые, казалось, всегда ухмылялись.
– Лучше собаки, чем такие безнадежные рисунки, – мама села в кресло и включила телевизор.
Раздался звонок.
– Да? – мама долго слушала.
– Твой отец умер, – она положила трубку и долго смотрела на телефон, будто по окончании разговора он мог еще что-то дополнить.
Я закончила рисовать. Легла спать. Долго не могла уснуть. «Твой отец умер», – юлой вертелось в мыслях. Я должна была что-то почувствовать, ощутить вес потери, чтобы сдавило в груди, но была лишь оглушительная пустота. Потому что отец – это пустота.
– Ты что-то сказала? – мама, кажется, плакала.
– Нет, мам. Ты только не плачь, хорошо?
Впервые на похоронах я увидела бабушку, мамину маму. Она была большая, в темном шерстяном пальто и пуховом платке на голове. Угольные брови над серыми глазами. Взгляд тяжелый, острый, как тот ветер, что хлестал нас по лицам. Оказалось, бабушка дружила с папиной соседкой, которая жила этажом выше. Бабушка была в курсе всех дел, что происходили в старом доме, и, конечно же, знала, как жил моей отец. Это странное и глупое совпадение долго не давало мне покоя. Бабушка, которую я никогда не видела, знала все об отце, с которым я встречалась лишь пару раз в жизни.
Мама держала меня за руку, крепко сжимая пальцы. Отца хоронили непонятной толпой, незнакомые люди и лица. Мне было все равно. Неуютное кладбище, ледяная равнина и могилы, рассыпанные по плоскости, словно прыщи на лице подростка. Ни одного дерева или куста, лишь несколько ворон, сидящих на крестах и громко лающих. Хотелось домой, на кухню и теплого чая.
На обратном пути, сидя в машине, мама и бабушка пытались разговаривать, а я – уловить, что с ними не так.
– От твоего-то квартира осталась. Ты поди узнай, может, дочке твоей что удастся урвать.
– Мама, пожалуйста, не сейчас.
– Ой, ты еще переживаешь из-за этого алкаша-неудачника? Родила неизвестно от кого, он вас бросил, дочь свою ни разу в жизни не видел…
– А ты что? – мама вяло огрызалась.
– …так пусть хоть квартира достанется Анжелике, да, деточка? – она внимательно посмотрела на меня. Так доктора обычно смотрят, пытаясь за робким испуганным взглядом ребенка увидеть болезнь, которую он не может описать яркими эпитетами.
На поминки мы не поехали, хотя мама сначала хотела. Мы пришли во двор старого дома в центре города. Бабушкин муж курил, сидя на скамейке у подъезда. Бабушка ушла в дом. Мама застыла.
– Домой, – она схватила меня за руку и потащила на остановку. – Не могу я, Лика, не могу…
– Ты знаешь, – заговорила мама, когда мы сели в троллейбус, – в детстве я очень боялась темноты. Хотела спать только при свете, не могла пройтись по коридору, если там было темно. Мама не понимала моих детских страхов и считала это все дуростью. Однажды она решила резко их пресечь. Заперла меня в туалете, у нас щеколда снаружи на двери была зачем-то. Выключила свет. Как я кричала, как билась в дверь! Мне было так страшно, Лика, ты не представляешь. Но мама, видимо, даже ушла из дома. Я пробыла в туалете очень долго. Помню, что легла на пол и молила Бога о смерти. А когда мама вернулась, она поила меня клюквенным морсом и кормила сушками. Потом посадила учить наизусть «Евгения Онегина». У меня все лицо зареванное, а ей будто дела нет. Лишь спать укладывая, сказала: «Что, страшно было? Ничего, зато теперь ты, дочка, ничего не боишься». И она улыбалась. Хуже всего, Лика, что искренне.
Дома мама долго сидела на кухне с чашкой чая и вспоминала, как отец сжимал ее руки, как ластился к ней, словно кот. Его смеющиеся глаза с хитринкой, внутреннюю свободу и несвободу от нее. От нас. Ночью мы спали вместе. Мама попросила обнять ее. Я дышала в ее тонкую спину. Нас было двое в этом огромном мире, а где-то за городом – прямоугольный холм чужой могилы. Того, кого я могла называть папой…
15
– Ты не знаешь, где Игорь? – спросила я одного из однокурсников Игоря, вцепившись в его куртку.
– Да к маме в Германию улетел. Пропускает пары, преподы ругаются.
– К какой маме? – я оторопела. – Он же сирота.
– Кто? – парень удивился, потом, присмотревшись, засмеялся. – А-а, так он это тебе специально сказал, чтобы понравиться. Таинственным казаться хотел.
– Как это, таинственным?
– Ну, ты что, не понимаешь? – он смутился. – Ладно, извини, мне пора.
Я спряталась на дальней парте, чтобы, если вдруг разревусь, никто не увидел моих слез. Преподаватель говорил громко, все записывали за ним, зная, что на экзамене он требовательный и дотошный и первым делом смотрит конспекты. Но я не слышала его, открыла тетрадь и смотрела в нее отсутствующим взглядом. Мне хотелось обдумать произошедшее, но я враз отупела, опустела. Впервые я увидела и почувствовала себя фарфоровой чашкой, легкой, тонкой, пустой, выпустишь из рук – разобьется.
Так не поступают, так не лгут. Зачем? Глупость какая.
Из университета домой я возвращалась пешком. Шел дождь, но это было хорошо. Капли, мокрые рукава куртки, лужи под ногами, намокающие ботинки – все это слипалось во мне, давая ощущение жизни, возможность разморозиться. Потому что я опять застыла, опять испугалась. Игорь не был любовью, но стал привязанностью, тем, кто оживил мой дом и меня в нем. Помню, как мама в ожидании звонка от Влада произнесла вслух:
– Мужчины так жестоки, а мы продолжаем верить в их исключительность. А ее нет. Но мы, вопреки всему, видим то, чего не существует. Как научиться – не видеть, не желать, не мечтать?
Я тогда замерла, в маминых словах было столько тоски.
– Но ведь у тебя есть я.
– Только ты у меня и осталась, – мама вышла из комнаты на кухню, оставив меня размышлять над ее словами.
Сейчас я шла тем же путем, пытаясь обрести мужчину, вытягивая из него тонкими нитями исключительность, которой не было, но мне очень хотелось придумать ее. «Разве это обязательно? – бормотала себе под нос. – Быть с кем-то? А как тогда? Одна?»
Одна… Ледяная метель окутала меня, словно все спрятались по домам от снежного урагана и лишь я осталась на улице. Захлопнулись двери, застыл транспорт, белое махровое полотенце упало на город, накрыв меня с головой, превратив в тонкую статую, на которую никто не обращает внимания. Колышек, человек, никто…
Покормив Блоху, я легла на диван. Мамина тень бродила по дому, отчего легкие пылинки двигались по воздуху в бесшумном танце. Я вспоминала, как мы жили с мамой в этой квартире, делали ремонт, пытались обжиться и прижиться на новом месте. Нам был чужд беспорядок и хаос, мы постоянно ругались, натыкаясь на коробки и табуретки. Трубки обоев валялись вдоль стен, инструменты, книги – все вперемешку. Мама пыталась выкроить себе место для шитья, чтобы укрыться от грязи под тихим светом абажура, перекочевавшего вместе с нами из прежней квартиры. Мы спали на полу, сделав из старых одеял матрас. Мне тогда казалось, что папина квартира никогда не станет нашим домом. Девятиэтажка с ее длинными коридорами манила обратно, ведь там было привычно все. А здесь – огромные потолки, тяжелые стены и чужой запах.
Но мы смогли приручить это пространство.
– Что со мной не так?
Игорь появился в университете через несколько недель. Он прошел по коридору мимо меня, едва взглянув. Мне осталось только упереться взглядом в его удаляющуюся фигуру, глупо полагая, что он должен обернуться. Ведь это наигранно и смешно – делать вид, что мы не знакомы. Но он был честен. Не играл. Я была. Это – прошлое. Люди умеют легко выкидывать людей. Пора и тебе научиться, девочка. Я радовалась, что это был последний год учебы.
Спустя месяц я побежала в аптеку за тестом. Две синие полоски. Взглянув на свой живот, я пыталась понять, увидеть нечто там внутри меня. Нет. Этого не может быть.
Мама покачала головой, в ужасе закатывая глаза.
– Господи, ты вообще призрак! – крикнула я в пустоту квартиры.
Перед глазами промелькнули кадры из фильмов. Героини звонили подругам, мамам, бабушкам, сообщая странную новость. Я рассказала о своей беременности лишь кошке и призраку матери. Это была моя реальность. Одинокие люди, которым некому сообщать новости, никому не интересны.
16
Мы поехали к Владу. Бабушка постоянно звонила и отчитывала маму, отчего даже я решила сбежать за город в страхе, что бабушка возникнет на пороге. Она желала знать, как продвигаются дела с оформлением наследства. Было непонятно, почему бабушка так волновалась, ведь все эти годы она не интересовалась, как мы живем. На день рождения ко мне не приезжала.
Даже в этом году, неожиданно возникнув в нашей жизни, она пренебрегла моим праздником. Мы ели с Левкой луковый пирог, мама налила нам немного вина, две чайные ложечки, вот и весь день рождения. Мне было хорошо. У меня был друг. Левка широко улыбался, стараясь меньше говорить. У него ломался голос, и это было ужасно смешно. Еще лохматый мальчишка вдруг заговорил тяжелым мужским голосищем. Он только открывал рот, а я уже заливисто хохотала.
Левка потом мне отомстил. Мы играли в прятки. Прятались в коридорах нашей многоэтажки. Нужно было найти другого за двадцать минут. В коридорах всегда стояли какие-то ящики, коляски, мешки. Я спряталась в большом сундуке на пятом этаже. В нем лежали три картошки да гнилая луковица. Сундук стоял в самом дальнем углу темного коридора, лампочки в котором были разбиты. Впрочем, в малосемейке редкий коридор был освещен нормально. Левка не должен был меня найти, пугливый заяц боялся темноты, хотя и был давно уже не пятилетний малыш. Эту его тайну я вычислила давно. Но он подобрался-таки к сундуку, закрыл его на замок и с гоготом умчался. Я была заперта и не знала, что делать. «Смерть в сундуке» – видела я заголовки газет и отчего-то счастливо улыбалась.
Левка выпустил меня только через полчаса. Я кинулась на него с кулаками. Мы, наверное, даже стали драться, но в какой-то момент что-то произошло. Левка отстранился от меня. Его глаза почернели. Казалось, он прятал внутри себя тревожную мысль, морщился, словно она причиняла ему боль, беспокойство. Я расстроилась. «Влюбился», – догадалась. Не хотелось этого. Мне нужен был друг. С любовью в этом мире происходила какая-то несуразица, мама доказывала это каждый день моей жизни.
Дом Влада по-прежнему встретил холодной отчужденностью. Уют, тщательно наведенный мамиными руками, разваливался на глазах. Шторы блекли, тающими сосульками висели нитки, словно кто-то нарочно пытался разорвать тонкий шов по краю ткани. Плед был испачкан чаем и прилипшими крошками от печенья. Зачах цветок. Дом жил своей жизнью, в которой вещи выполняли строго отведенные им функции. Но не было в них общей души, не чувствовалась аура хозяина.
Мама натыкалась на вещи, растерянно ощущая этот вакуум, который выталкивал ее прочь. Влад возился в гараже, мама готовила ужин. Я смотрела телевизор. Прозаичный вечер чужих друг другу людей. Надо было остаться дома, чтобы не видеть грустных маминых глаз. Ира, обычно колкая на замечания, в этот раз заперлась в своей комнате и не вышла даже поздороваться. Хотя себя она считала крайне воспитанной личностью.
После ужина я вышла на улицу и не слышала, как Влад сказал маме, что им пора расстаться. Не видела, как тяжело выдохнула она и уронила чашку. Как застыла посреди кухни с полотенцем в руках, глядя на Влада, не в силах даже выразить свои чувства. Не видела, как торопливо мама запихивала вещи в сумку. Как в отчаянии сорвала шторы с окон, отчего дом стал еще более голым, словно беззубый рот – некрасивым и отталкивающим. Влад сидел в прихожей на старом пуфике и молча ждал, когда мама наконец уедет.
Мама выскочила из дома, схватила меня за руку, и мы побежали на станцию. Сумка волочилась сзади, на длинном ремне, но мама не замечала, как она пылится, как падает в грязь. Я, оборачиваясь, смотрела на сумку, которая, словно щенок, бежала за нами в бурых от луж пятнах. Осознала, что так выглядит мамина боль.
Электричка везла нас домой. Вагон был пуст, лишь мужчина в сером тулупе спал на лавке, от него разило водкой и сигаретами. Мы спрятались в углу у выхода. Мама плакала, я дрожала рядом. Ее тревога и страх передавались мне. Отчего ребенок не может обособиться от матери, не вникать в ее печали, не перенимать на себя эту волну тяжелых дум? Почему не может оторваться пожелтевшим листом от чернеющей ветви и упасть на землю, чтобы родиться заново и обрести новую жизнь?
Уже стемнело, за окном мелькали черные стволы деревьев, еще без листвы. Убегали вдаль сырые поля. Тревожный пейзаж без надежды на весну, которая наступила по календарю. А в желтом окне электрички – одинокая женщина с ребенком, они застряли в этом поезде, что много лет возил их из города в поселок и обратно, но так и не открыл двери.
Я старалась молчать, мамина отчужденность была невыносима, но нарушить ее право на страдание я не могла. Только мне тогда казалось, что я ей совсем не нужна.
В понедельник маме позвонила нотариус и сказала, что теперь я владелец папиной квартиры. Вечером за ужином мама растерянно смотрела на меня, а я – на нее. Эта новость вывернула наизнанку нашу упорядоченную жизнь. В дверь позвонили. В прихожую вошла бабушка. Она улыбалась, а я в который раз отметила, что в ее присутствии становится нечем дышать. Словно она своим телом заполняет все пространство, каждый уголок, вытесняя тебя и воздух. Мама прижалась к стенке.
Бабушка, сверкнув глазами в мою сторону, лишь гордо произнесла:
– Теперь будешь мне всю жизнь благодарна! – развернулась и ушла.
Мама съездила посмотреть папину квартиру. Вернувшись, она сказала мне, что мы туда переедем жить. Продадим нашу квартиру, на вырученные деньги сделаем там ремонт и купим новую мебель.
– Новая жизнь, Лика, понимаешь?
Я не понимала. Мне было страшно что-то менять. Коридоры моего детства с сундуками и дремучими углами исчезнут навсегда. А как же Левка?
17
Врач пытливо смотрела на меня.
– Может, аборт? Одна-то ребенка не потянешь.
– Вы что, Светлана Витальевна, такое говорите! Аборт! – возмутилась медсестра. – Бог дал, значит, так нужно. Потянет, никуда не денется. А аборт сделает, и потом еще родить не сможет.
Я вышла от врача. Решила твердо: я стану мамой. Думать о трудностях не хотелось.
Сдала зимнюю сессию, впереди ждала защита дипломной работы и практика. Я записалась в детскую библиотеку, которая была недалеко от моего дома. Приходила туда раз в неделю. Тетя Таня, библиотекарь, знала моего отца, поэтому помогала мне. Я думала лишь о том, что мне надо успеть получить диплом до того, как я рожу. В университете я договорилась сдать все заранее. Конечно, мне пошли навстречу.
Я снова осталась запертой в квартире, лишь изредка наведывалась к врачу. Пробираясь как-то через сугробы в поликлинику, я с тоской смотрела на мамочек, идущих впереди под ручку с мужьями. Уже с большими животами, они медленно ползли по дорогам, словно дирижабли, рядом с ними аккуратно ступали мужчины, заботливо удерживали за локоть. Поскользнувшись, я упала.
Мама, если бы ты была жива, поддержала бы меня? Я повторяю твою историю, только ты любила папу, а я Игоря – нет. Но разве все в жизни по любви? Ведь я хотела быть нормальной, как все. Чтобы в доме был кто-то кроме меня. Кошка не считается.
Я поднялась и, тихо ступая, побрела в поликлинику.
– Как себя чувствуете?
– Нормально.
Врач беспокойно смотрела на меня.
– Все в норме. Скоро морозы, так что можете пока не приходить. Если почувствуете неладное, тогда бегите. А так жду вас через месяц.
А я бы рада прийти. «Как себя чувствуете?» – мне нравилось отвечать на этот вопрос. Пусть меня никто и не проведет под руку по тяжелым сугробам.
Игорь так и не объявился. Я долго и мучительно думала, стоит ли ему знать о ребенке. Мне казалось, что если расскажу ему эту новость, то буду напрашиваться в его жизнь, а ведь это не так. Его лицемерие навсегда отрезало нас друг от друга. Иногда я скучала по нему, с ним эти стены оживали, кошка носилась по квартире, царапая паркет. Запахи, звуки, впервые жилище пульсировало барабанным ритмом. Я не могла сама создать эту пульсацию. Очень хотела, но не знала как.
Но может, это неправильно? Однажды моя дочь или сын спросит меня: «Мама, почему отца нет рядом?» А что я сделала для этого? Я не питала иллюзий насчет Игоря, но хотела быть честной. Мама не скрывала от меня правду об отце. «Он нас бросил», – сказала она, когда мне было три года, и я поняла. Папа просто не любил меня, поэтому бросил. Соседский мальчишка выбросил с балкона котенка ради забавы. И никто его не осудил. Так бывает, это ведь жизнь, да?
Игорь снял телефонную трубку слишком быстро, я не успела подготовиться.
– Привет.
– Ну, привет, – Игорь был насторожен.
– Мне ничего не надо. Ты должен просто знать. Дальше поступай, как хочешь.
– Что знать?
– Я беременна. От тебя.
Он не отвечал. Я ждала.
– Могу дать 50 баксов на аборт, – наконец выдавил Игорь.
– Уже поздно, вообще-то.
– Так и что ты от меня хочешь?
Я задумалась. Не о ребенке или себе, а о том, что еще вчера Игорь был живой человек, который смешно шлепал босыми ногами в ванную, напевая песни Майкла Джексона, а сейчас я словно позвонила неприветливому соседу с просьбой сделать музыку тише.
– Я хочу, чтобы ты здесь и сейчас отрекся от… от ребенка и не объявился через двадцать лет со слезами на глазах, вдруг прозрев, что ты папочка. Ясно выражаюсь?
Игорь хмыкнул.
– Не объявлюсь, не надейся, – и положил трубку.
«Я же говорила, мужчины не умеют…» – мама развела руками. Она пролетела надо мной и ускользнула в проеме двери, растаяв в сумраке коридора.
Я почувствовала в животе шевеление. Замерла. Еще раз. Это было страшно. Неожиданно ты в самом деле понимаешь, что внутри выросшего живота – ребенок. Кто он? Какой он? Эти вопросы, они задаются каждый день, но вот один толчок – и ответ дан: «Я твой, мама, твой малыш».
Я решительно побежала в магазин посуды. Он находился недалеко от метро, однажды мы с мамой купили там набор керамических тарелок. Сейчас я хотела купить вазу. Пухлую, из цветного стекла, чтобы края были ребристые с легкими выпуклыми пузырьками. Так живо себе ее представила, что мысли не возникло, будто она может и не существовать в природе, не то что продаваться в магазине.
Я семенила ногами, словно смешная толстая такса. Мимо проходили люди: тонкие фужеры, граненые стаканы, глиняные горшочки и резные цветные графины. Мой малыш будет цветной вазой. Там будут живые цветы. Да, да…
И я купила эту вазу. Не удивилась даже. Знала, что она должна быть именно тем рисунком, который видела я внутри себя. Возле метро пожилая женщина продавала букет цветов.
На подоконник я поставила вазу, а в нее – цветы. Кажется, я могу оживить этот дом. Я и ребенок внутри меня – мы в этом мире теперь живые, с танцем и вихрем, с осколками стекла, о которое режешь ноги, мы люди, а не скользкие тени, рассыпанные по земле. Через них переступают, не замечая, что это не тени вовсе.
Усевшись на окно, наблюдала. Машины, троллейбусы, автобусы. Мать бежит с ребенком, он еле успевает за ней. Пожилой мужчина бредет, опираясь на трость. Навстречу компания молодых ребят, они смеются, дурачатся, прыгают друг другу на спину. Я вспомнила первые курсы, когда после занятий многие расходились по лавочкам, что стояли возле здания университета. Сколько шума и хохота исходило от девушек и парней! Частенько я стояла поодаль, наблюдая за ними, в самом искреннем желании примкнуть к ним. Стать столь же легкой и смешливой. И пусть прыщавый парнишка с длинными волосами и старой косухе щупает пальцами меня за талию. Пусть пиво бродит в желудке и рот пахнет солодом. Как хочется заливисто хохотать, запрокинув голову назад, или громко спорить, произнося сложные слова, в попытке казаться умненькой и славной девчушкой. Утром мучиться от похмелья, вставать с чужой постели и бежать на пары. Шептаться с подругой, рассказывая вчерашние непристойности, строить нереальные планы и бежать, бежать, бежать.
Я всего этого не умела. Меня выключили. Кто-то однажды нажал на кнопку, погасив свет, сломав выключатель, лишив меня права на всеобщую радость, на это умение бежать. Как ни пыталась вымучить веселье, как ни старалась примкнуть к компании, всегда чувствовала себя лишней, ощущала страх. Я им не нравлюсь. Потому что я не умею. И я сливалась с обоями, растворяясь в окружающем пространстве в невидимый цвет, нелепый рисунок на стенах, выдавая свое присутствие лишь дыханием. Но кто прислушивается к чужому дыханию?
Если бы рядом был Левка. Он бы научил меня этой легкости, решительно отругал за пессимизм и недоверие. Я достала его последнее письмо. Часто я перечитывала его. Левкин почерк. Круглые, немного сползающие друг на друга буквы, словно горошины, которым тесно в этом ряду и они норовят выпрыгнуть, напоминали мне о тепле дружеской руки. «Твой Левка», – подпись. Я очень скучала по нему.
18
Муравьи и тараканы бегали даже днем, нисколько нас не пугаясь. Квартира была большой, двухкомнатной, с высокими потолками, широкими проемами, старым скрипучим рыжим паркетом. Было тяжело дышать среди шкафов и кроватей, древних кресел и пыльных картин. Под мебелью и за ней прятались сломанные люстры, советский пылесос, книги с вырванными страницами, топор и желтые газеты. В одной из тумбочек мы нашли вязаные вещи – свитера и несколько детских пинеток.
– Как он здесь жил? – мама нерешительно замерла посреди комнаты.
– Это кошмар, мама, – я зажала нос рукой. – Невозможно дышать.
– Не волнуйся, мы все выбросим. Сделаем ремонт. Будет красиво.
Спали среди картонных коробок с нашими вещами, которые мы с мамой собирали месяц (эти коробки мы вымаливали у продавщиц в магазинах). В папином хламе, в ветхом запахе, который проникал прямо под кожу.
В школу я впервые бежала с радостью, подальше от чужого пространства.
Вечерами мы выносили хлам к мусорным бакам. До поздней ночи таскали мы всю папину жизнь, рассыпавшуюся на треснутые плафоны, незаконченные картины, застывшие тюбики с краской, застиранные куртки и штаны. Табуретки в грязных пятнах, посуду, которая пожелтела от плохо смытого чая и жирного супа. Тяжелую мебель выносили рабочие. Когда наконец квартира опустела, во мне впервые мелькнула надежда, что я смогу здесь жить. О папе напоминало лишь глубокое кресло, в нем вечерами под абажуром пряталась мама.
Только мне по-прежнему снились коридоры малосемейки, как я бегала по ним еще совсем маленькой, гоняла мяч, рисовала мелком на стенах, как выбегала во двор на горку и карусели и играла, пока мама не звала с балкона домой. Теперь наши окна выходили на проезжую часть. Детский смех сменился ровным гулом троллейбусов и автобусов, ночью мелькали огни автомобилей.
– Ну, как оно? – мы сидели с Левкой на покосившейся лавочке возле кладбищенского забора. Левка держал в руке пачку сигарет, не решаясь закурить.
– Ты ведь говорил – курение для слабаков.
– Ну, надо же попробовать. Нельзя выносить оценку тому, о чем не знаешь.
– Да что тут знать? Курение убивает лошадь. А ты не лошадь, – я потрепала его курчавые волосы. – Дай мне, – я вынула сигарету из пачки и прикурила от спички. Дым соскользнул в мои легкие, приятно пощекотав изнутри.
– Кла-ассно, – протянула я.
– Ты даже не закашлялась? – Левка выдернул у меня из рук сигарету и затянулся.
Жутко закашлялся, покраснел, сгорбившись, присел на корточки.
– Какая гадость!
– Ну вот, теперь ты вынес вполне оправданное оценочное суждение, – смеялась я.
– Ты будешь переходить в другую школу, ближе к дому?
– Нет, зачем? Осталось всего-то два года. Буду ездить на метро.
– Понятно, – Левка грустил.
– Ты чего? – я привычно толкнула его в бок.
– Мы летом переезжаем.
– Куда? – я не сразу сообразила, о чем он.
– В Израиль. Навсегда, Анжелика.
– Не-ет, ты шутишь, – я не поверила. Мой единственный друг не может меня бросить. Я знала, что Лев будет рядом со мной всегда, до самой старости. Пока одного из нас не похоронят на этом самом кладбище, где мы гоняли летом на велосипеде, а зимой играли в снежки. Тот, кто проживет чуть дольше, будет приходить на могилу, приносить цветы и тихонечко плакать, вспоминая нашу дружбу.
Левка молчал. Он закрыл глаза, пытаясь справиться с душившим его волнением. Мне еще казалось, что он шутит, как обычно, немного подтрунивает надо мной.
– Плохие шутки! – я снова его толкнула, Левка упал на землю. Он поднялся, отряхнул штаны и резко побежал.
– Ну, здрасте вам, – я в недоумении смотрела на его фигуру. – Стой, дурак!
А вечером мама спросила:
– Ты в курсе, что они уезжают, да? Представляешь, в Израиль. Там жара, хорошо…
– Мама, он мой друг.
– Да сколько у тебя еще таких друзей будет, – мама равнодушно пожала плечами. Она вертела в руках кастрюлю. – Смотри, какая кастрюля хорошая. Чистая, новая, видимо. Откуда она у отца?
Учебный год подходил к концу. Мы с Левкой делали вид, что все обычно и перемены – это вчерашний сон, который улетел в окно и не сбылся. Иногда мы так отчаянно старались не проявить навалившуюся на нас грусть, что между нами проскакивало невольное раздражение, мы начинали огрызаться. Мы не знали, как сказать друг другу «Прощай». Одно слово – и в одночасье рухнет детство. Нам уже четырнадцать лет, я украдкой покуривала, Лев говорил басом и стеснялся наметившегося темного пушка над губой. Но мы желали оставаться детьми. Друг для друга.
Ремонт наконец закончился. Это было невыносимо – жить среди коробок и дышать штукатуркой, переступать через трубы и провода, банки с краской и инструменты. Спать на грязных простынях, кипятить воду в чашке, пытаться каждый день найти чистое белье и немятые вещи. Мама постоянно повторяла под нос: «Новая жизнь, новая жизнь». А я не могла уловить вкус этой новой жизни. Мне нравилась моя старая, в которой я пряталась за плотной занавеской, где на меня смотрело чудовище с вечным вопросом: «Девочка, ты почему не спишь?» Когда я могла, как солдат, строго выполнять мамин наказ и ставить вещи на свои места, протирать пыль и играть на ковре с деревянными кубиками.
Я привыкла, что каждый вечер забегал Левка, лохматый пес с черными глазами, и утаскивал меня за руку во двор, чтобы кататься на каруселях до тошноты и нырять в подземное царство мрачного подвала. Сейчас после школы я сидела возле окна, за абажуром, на сложенном пледе, пытаясь прочесть книгу и отвлечься от новой жизни, что ворвалась в мое пространство, начисто разрушив его. Мой друг больше не вбегал неуклюже в нашу прихожую, сбивая мамины туфли. Я шикала на него, торопливо ставила обувь на место, вытирая пальцем бежевое пятнышко пыли. А Левка закатывал глаза, кричал в комнату маме «Здрасте!» и выталкивал меня за порог в длинный коридор, по которому носилось, счастливо смеясь, наше детство.
Мой друг завтра навсегда улетал в другую страну, и больше всего на свете я боялась сказать ему: «Прощай».
19
Перед школьным выпускным я получила очередное письмо от Левки. Он писал мне каждые два месяца, в подробностях рассказывая о новом мире. Иногда меня задевали его радость и восторг. Он писал, что ему нравится новая страна. Желтая пустыня, горячее солнце, яркие цвета в одежде, знойный воздух и совершенно другие люди, без спешки и нервозности в глазах, с легкой полуулыбкой на лицах. Я читала его письма, и мне казалось, что он каждой буквой вычеркивает меня из своей жизни, словно наша общая линия обрывается и уже две разные линии расползаются в стороны, как нитки на вязаном платье. Левка никогда не писал мне, что скучает. А я тосковала все эти годы.
Но это письмо было короткое. «Иду служить в армию, Лика. Представляешь, здесь даже женщины служат. Тут же война, знаешь? Но она кажется далеко, там, за горизонтом, просто я только сейчас понял, что здесь, в этой стране, которая стала моим домом, война. В каждом доме есть бомбоубежище. Однажды нам с мамой и братом пришлось прятаться, гудела сирена. Страшно? Да. Но все равно я не боюсь. Вчера набрал в руки морской воды и вспомнил, что ты никогда не видела моря. Лика, может, когда-нибудь ты его увидишь? Твой Левка».
Ответила другу я только однажды. Мама тогда не вернулась домой после работы. Я сделала уроки, почитала книгу, выпила две чашки чая, уже минуло одиннадцать часов, а ее все не было. Я встревожилась. Мамина жизнь была предсказуема в последние годы. Она, как мне казалось, ожила после разбитого романа с Владом. Благоустройство квартиры, разные заботы, какой выбрать диван, куда поставить шкаф, какую ткань для штор купить – все это маму очень забавляло, и она постоянно суетилась, находясь в некотором восторге. Мы с ней ездили по магазинам и покупали вещи. Впервые я носила не связанные мамой свитера и сшитые ею брюки да чужие вещи, отданные бедной девочке, что всегда на мне плохо сидели, а покупное, с тонким кроем и намеком на моду.
Я вместе с мамой неожиданно погрузилась в этот процесс.
Девятиэтажка навсегда осталась в прошлом. Ее образ рассыпался, когда Левка сел в самолет, который унес его через облака в центр планеты, где соленое море и желтый цвет воздуха. Поблекли кресты, холодные ступени и скрип качелей. Я заклеила воспоминания в плотный конверт ненаписанного письма и спрятала в коробку из-под обуви, где хранились елочные игрушки.
Теперь у меня была своя комната – огромная, просторная, с высоким подоконником и окном. Свой шкаф, широкая кровать, стол и стул с изогнутой спинкой. Я разбрасывала книги и альбомы для рисования по полу, повсюду валялись ручки и карандаши, просто так, без уютного стаканчика – того правильного места, как любила наказывать мама. Впервые я создавала беспорядок без страха, что мама раскричится, какая я неряха. Я вбила в дверь замок и запирала комнату, чтобы она не видела, какое удовольствие я получаю от незастеленной кровати, от джинсов, что висели на спинке стула, и от неровно лежащих книг на тумбочке.
В тот вечер я впервые слилась с домом, почувствовала, что он наконец впитал мой запах, вытолкнув прежний в форточку. Квартира была моей, с моими шагами, легким скрипом дубового паркета, эхом моего голоса. Квартира была и маминой: с неизменным порядком, линейной выдержанностью, с уютными мелочами – акварельными картинками на стенах, кружевной скатертью на кухонном столе, глиняной посудой с узорчатой росписью.
Только мамы все не было. Чтобы унять дрожь и возрастающий страх, я положила перед собой лист бумаги и стала писать Левке. Не получалось писать внятно и красиво, я спотыкалась о слова, не хватало мужества высказать ему свое чувство одиночества и утраты. Хотела, чтобы он знал, как много для меня сделал, как много значил, но он теперь далеко, дышит иным воздухом, зачем ворошить воспоминания, пытаясь вернуть его в наш двор? Я написала, что у меня теперь своя комната и что я счастлива.
Мама вернулась.
– Мама! – я бросилась в прихожую. Она прислонилась к стене и смотрела вперед скользящим рассеянным взглядом. Я тянула ее за руки, но она застыла и не замечала меня. Стягивала с нее пальто, бросила на пол шарф, но и это не вывело ее из состояния ступора. Я заплакала от ужаса.
– Мама, что с тобой?
– А? – она увидела меня, дотронулась до моей руки. Очнулась. – Ты чего вещи разбрасываешь?
Она так и не сказала мне, где была. Я гадала: может, новый роман? Снова птицей порхает под небесами в надежде обрести себя в той любви, что виделась ей в прозрачных грезах? Я бы обрадовалась, наверное. Теперь мне не будет страшно, если порог нашей квартиры переступит какой-то незнакомец. Я выросла. Мне было куда спрятаться от мужчин с тяжелыми взглядами и терпкими запахами.
Но мама не замечала этого. На нее снова навалилось одиночество. Поставив мебель на свои места, уложив в нужном порядке вещи, мама уткнулась в тупик, где была лишь неприступная стена и она. Только я двигала вперед ее жизнь, раздражая неповоротливостью и неряшливостью. Она цеплялась за мои громкие шаги, за плохо вымытые чашки, за поздний просмотр телевизора. Злилась, что я не пускала ее в свою комнату и требовала уважения к беспорядку. Тогда я хотела лишь одного: чтобы она отстала от меня, чтобы перестала кричать и дергать за крошки на столе, за пятна на посуде. Мама раздражалась из-за обуви, ее нужно было ставить носками внутрь шкафа, строго параллельно друг другу, а я просто кидала, как попало. Мы орали друг на друга почти каждый день. Я не догадывалась, что соблюдение ритуала озвучивало ее нестерпимую тишину.
20
Я курила за школой. Сдала последний экзамен.
– О, тихоня наша курит! – одноклассницы завернули за угол и заметили меня. Все эти годы без Левки я так ни с кем и не подружилась. Они были легкие, эти уверенные в себе девочки. Будучи детьми, носились в разноцветных сапожках в диком угаре по дворам. Став старше, сидели на коленях у мальчиков на лавках у подъездов. Я, бледная худая девочка в вязаных вещах, выглядела неприметной и жалкой на фоне их розовых кофточек, ярких юбочек, полной изобилия жизни, где были мама и папа, автомобили, мясо по-французски на ужин и дорогие подарки на праздники.
Сейчас, когда мне исполнилось восемнадцать, я вдруг вспомнила, отчего сторонилась их, отчаянно стеснялась поздороваться с ними, не пыталась присоединиться к всеобщей игре.
В пятом классе наша классная руководительница совершала стандартный обход своих учеников. Пришла она и к нам. Осмотрела бегло квартиру, посидела с мамой на кухне, после ушла.
– Надо же, и в холодильник заглянула, – мама, улыбаясь, вошла в комнату, взяла меня на колени и погладила по голове. – Была бы я замужем, она бы просто поздоровалась на пороге. А так, мать-одиночка, надо сунуть нос в каждый угол. Будто в этой стране проказа – быть без мужа и воспитывать ребенка.
На следующий день в школьном коридоре я встретила дочку классной руководительницы, Лену, болтавшую с одноклассницами Наташей и Полиной.
– Да ты бедная! – заметила меня Лена, показала язык и громко рассмеялась.
– У нас в холодильнике красная икра и колбаса! – громко заявила Полина.
– А у нас есть рыба, папа привозит каждый день. И икра, да! – Наташа рассмеялась.
– Ну что? – Лена толкалась с девочками у окна, высокомерно глядя на меня. – Я слышала, как мама сказала, что вы – бедняки, едите одну картошку!
Тут в коридоре появилась классная руководительница. Она строго посмотрела на дочь и оглянулась на меня, пытаясь определить мою реакцию. А я не понимала, отчего содержимое нашего холодильника стало предметом обсуждения. Ну да, мы ели картошку и макароны. На сладкое – батон, намазанный вареньем. Иногда мама покупала вареную колбасу, и это был для меня настоящий праздник. Еще я любила, как она запекала бутерброды с сыром и чесноком. Другой жизни я не знала. Слышать про рыбу и икру мне было странно. Словно кто-то рассказывал о растущих далеко у моря пальмах с их широкими листьями, над которыми кружат огромные чайки – непонятно, смутно, без вкуса на языке. Девочки еще долго шептались за моей спиной. И мне стало отчего-то мучительно стыдно и неловко.
Когда в моей жизни появился Левка, он частенько приносил мне разные вкусности – зефир в шоколаде, мармелад, палку колбасы, консервы. Передавал их маме от родителей с приветом. Однажды подарил баночку икры. Я не желала этих съедобных подарков, мне не нужна была жалость. Ела бы себе картошку хоть целый день. Какая разница?
– Пойдешь на выпускной? – Женя, угрюмая дылда, даже мне улыбнулась.
– Пойду. Буду стоять в сторонке и смотреть, как вы веселитесь. А что? – с вызовом ответила я.
– Ну, здорово! Мы тут думаем купить несколько бутылок вина, а то что – сок пить будем? Ты с нами?
– Да, – я оторопела. С чего вдруг столько внимания? Но это было неважно. Важно – я впервые буду в компании.
После вручения аттестатов все собрались в одном из классов. Родители и дети. Мама посидела час, после чего отвела меня в сторону.
– Ну что, домой? – она тянула меня за локоть к выходу.
– Нет, мам, я останусь, можно?
– Тогда чтобы в одиннадцать была дома.
– Мам, ты чего? Это же выпускной! Я до утра хочу.
– С ума сошла? Я всю ночь спать не буду, пожалей мать. Как домой доберешься, если метро закроется? Нет, в одиннадцать – домой!
– Мама, – я пыталась подобрать слова, но она развернулась и направилась резкими шагами к выходу, накидывая на плечи кофту.
– Пожалей меня! – крикнула на прощание.
Мы с одноклассницами убежали на первый этаж, где находились классы младшей школы и было тихо. Сели на подоконник и стали распивать дешевое красное вино. На часах было половина одиннадцатого. Я нервничала. Домой не хотела. Сейчас я сидела у окна и слушала смех девочек, их пошлые шутки про мальчиков, разговоры о поступлении. Как много я пропустила! Прячась ото всех в однокомнатной квартире с мамой, прячась за занавеской у шкафа, создавала свой мир. Мир битой и расколотой посуды, темных призраков и подвешенных на вешалки чудовищ. Инертная реальность, где не было звонкого девчачьего смеха, не было милой подруги, которая таскала бы моих кукол, потом косметику, признавалась бы в уколах первой любви. Моей подругой был Левка, но и он покинул меня. Были только я и мама, которая не будет спать этой ночью, потому что я не вернусь домой вовремя. Я хочу ощущать терпкость вина, нежный гул девичьих голосов, пьяное шептание и пошатывание.
Кате стало плохо, и девочки потащили ее в туалет. Со мной остались Женя и Лиза.
– Мы пьяные. Ты пьяная? – Лиза подалась вперед и заглянула в мои глаза.
– Кажется, да… – Лиза раздвоилась.
– Пошли танцевать!
Мы втроем, ступая тихо и зигзагами, побрели к актовому залу, откуда уже доносилась музыка.
– Главное – не спалиться, – хихикали. Я повторяла вслед.
К нам бежал учитель физкультуры. Мы замедлили шаг, надеясь, что он не увидит, как мы пьяны.
– Анжелика! Иди в кабинет директора. Тебе мама звонит!
Девочки засмеялись. Мне стало стыдно. Ненавидела ее в этот момент. Опять я должна бежать домой, опять я должна лишить себя общения, потому что она боится за меня.
– Мама! – я плакала в трубку. Директор стояла рядом и делала вид, что рассматривает какие-то документы.
– Я тебе что сказала? Домой! Уже двенадцатый час! Ты понимаешь, что на улице опасно? Ты там выпила, что ли? Плохо тебе? Что?
– Мама, я хочу остаться до утра. Хочу рассвет встретить. Танцевать хочу!
– Доченька, а домой как? Одна! – она, я слышала, в испуге взмахнула руками, что даже телефонная трубка ударилась о стену. – Ты хочешь, чтобы я не спала всю ночь? Хорошо. Веселись тогда. Но знай, придешь утром – матери у тебя может уже не быть!
Несколько минут я стояла в темном углу актового зала, не зная, как быть. Тревога и смятение мяли мою душу. Настроение было безнадежно испорчено. Заиграла медленная музыка. Парни стали приглашать девочек, и я залюбовалась парами, на минуту позабыв о внутреннем страхе.
– Пойдем? – не заметила, как ко мне подошел Сергей, мой одноклассник. Он протянул ко мне свою руку, а я смотрел на нее, гадая, в чем подвох. Не может приглашать меня на танец симпатичный Сергей, спортсмен, с серыми глазами и ямочками на щеках. Всегда считала его интересным, но думать об этом было бесполезно, оттого и стерла его и других одноклассников вокруг себя. Замечать их – означало увидеть разницу между нами, ощутить глазами расстояние в несколько тысяч километров, где я была одиноким крестом над обрывом, а они – шумной и пестрой толпой на праздничном карнавале.
Сергей прижал меня к себе довольно сильно. От него пахло водкой и салатом, он тяжело дышал мне в ухо, я видела капли пота на его висках. Так это было ново, так неожиданно, что тревога слетела с меня, словно простыня, плохо закрепленная на бельевой веревке. И помчалась, уносимая ветром, по рыхлой земле, то поднимаясь выше, цепляясь за ветки кустарников, то опускаясь ниже, пачкая белые свежие уголки. Я белым полотном воспарила, чтобы в итоге грязным комком прибиться у большого дерева, старого тополя или дуба…
– Что это за дерево? – я лежала с Сергеем на диване, а над нашей головой висела огромная картина в золоченой раме – старое дерево с толстыми ветвями и тонкими листьями, убегающие за ним поля, скрепленные вдали тонкой белой линией облаков.
– Да пофиг! – Сергей потянулся и выбрался из-под одеяла. На часах было десять утра. Мы не дождались рассвета. Мы пили вино и водку за школой, закусывали бутербродами. Курили. Сергей пел и кричал: «Да здравствует школа! Прощай, школа!» Потом шепнул мне, что я ему нравлюсь с седьмого класса. Сжав ладонь, потащил к себе домой. Я знала – это все ложь и водка. Но ничего в тот момент я не желала так страстно, как стать обычной девочкой, которая понимает чужие шутки с полуслова, быть там, где все тебе рады и никто не хочет задеть или задать неуместный вопрос.
– Мама! – я ощутила боль в висках, она постучала немного, затем переползла на лоб и сдавила его изо всей силы. Потемнело в глазах. Быстро одевшись, я заскочила на кухню. Набрав воды из чайника, выпила кружку целиком и выбежала из квартиры. Сергею я ничего не сказала, старалась не смотреть в его глаза. Он уже стал чужим, другим. Видела, как неловко ему. Он и сам был не против, чтобы я поскорее убралась. Тогда он позвонит другу и станет хвалиться победой. Первым сексом. Мой первый секс. Я бежала домой, быстрее к маме, попутно думая, изменилась ли я. «Мама, мама», – билось неровно сердце, разум кричал – быстрее, она там совсем с ума сходит!
21
На столе лежала записка. «Я в больнице. Сердечный приступ. Молодец, доченька. Надеюсь, ты хорошо погуляла».
Мне хотелось выпрыгнуть в окно. Я с силой распахнула его и встала на подоконник. Внизу по дороге медленно ехал троллейбус. Маленький мальчик смотрел из него в окошко, увидев меня, он помахал мне рукой. Я помахала в ответ. Жаркое лето коснулось моих ног. Я была еще в праздничном платье, дурман потихоньку испарялся, отчего сознание плавало и бурлило, тошнотой подкатывая к горлу. Зачем мне жить? Если каждый раз я должна вернуться домой в одиннадцать. Когда все они будут встречать рассветы, целоваться до синевы губ, прячась в прохладных ночах, считая звезды, я буду сидеть у маминых ног, охраняя ее покой. Если выпрыгну, то покалечусь, третий этаж, ерунда.
Я закурила сигарету.
Какая разница, умру я или нет? Все равно я не живу.
Мама вернулась вечером. Мы молча пили чай, я плакала. Она смотрела на меня, во взгляде читалась скользкая радость оттого, что я страдаю. Но, спохватившись, она неожиданно меня обняла.
– Доченька, прости, но я так волновалась. Я не спала всю ночь. Сердце болело. Ты же знаешь, что нельзя одной по ночам бродить. Столько плохих людей вокруг, понимаешь?
– Мама, прости меня, прости! – я, кажется, кричала. Мама испугалась.
– Нет, ты не думай. Про больницу я так написала, чтобы ты осознала ответственность. Ну-ну, тише, успокойся. Больше ты так не поступишь, верно? Ты пойми, если с тобой что-то случится, мне незачем жить.
И мы пили чай с шоколадным печеньем. Потом немного белого вина, мама припрятала эту бутылку, чтобы отметить окончание школы. Обсуждали поступление в университет.
Через несколько недель, когда я готовилась к вступительным экзаменам, мне неожиданно позвонила Женя.
– Ну что, одноклашка, как дела?
– Да нормально, – я была удивлена ее звонком.
– Мы тут с девчонками решили выбраться в центр города, погулять по набережной, там еще концерт будет. Ты с нами?
– Я сейчас, – я думала лишь о маме. Пустит, нет? Боже, мне восемнадцать лет, но я не могу оторваться от мамы без спроса. – Можно я тебе перезвоню?
Женя продиктовала свой номер.
– Мам, – я подошла к ней, она готовила суп. – Сегодня концерт в городе. Тут недалеко, пустишь меня?
– Толпа пьяных подростков, ну-ну, вот куда тебя опять тянет. Знаешь, что в толпу часто любят бросать пустые бутылки из-под пива? Раз – и в голову. Да, да, что ты на меня смотришь? Мне рассказывал коллега, его сын так попал в травматологию. Но если тебе охота тягаться среди дебилов и алкашей, то ради бога.
Она отвернулась. Я не знала, что делать. Подошла к маме и обняла ее тонкую спину.
– Я не поздно вернусь, хорошо?
Она не ответила. Только помешивала черпаком внутри кастрюли. Повела плечами, стряхивая меня с себя.
Я ушла к себе в комнату и стала неторопливо собираться. Перед глазами уже мелькала красочная картина, как мы с одноклассницами среди толпы возносим руки к небесам, пульсируя, движемся в безумном такте музыки. Голоса, крики, пивной хмель во рту, сверху на нас падают солнечные лучи – и все это громкие звуки молодости.
Только тяжелое чувство в груди, словно там не сердце, а булыжник, и он давит изнутри, выпирая гладкими краями, укоряет меня за бездумность, за вольность, ведь там где-то волнуется мама.
Я услышала ее стон. Она сидела за кухонным столом, глядя в окно, и плакала.
– Я так одинока, – вымолвила, увидев меня. – Никого нет. И ты убегаешь, покидаешь меня. Как же жить теперь?
Я осталась с ней. Мы пили чай в тихом молчании, лишь шум газовой конфорки слегка нарушал эту тревожную тишину.
22
Фамилия в списках. Я поступила. Широкие коридоры университета обнимали меня, принимали меня, еще месяц, и я буду бежать вдоль этих холодных стен с сумкой на плече, со стопкой толстых конспектов. Вокруг будут новые лица, и, может, теперь я обрету друзей. Ведь молодость, она для всех одинаковая, требовала безумств, любви, объятий и разговоров о будущем.
Неслась домой, чувствуя себя беговой лошадью: быстрее, еще быстрее. Ветер в гриву, скорость в мышцах, я быстрая, я смелая. Позвонила на работу маме. Ответили, что ее нет на месте, она куда-то вышла. Мне хотелось скорее ее обрадовать, не терять этот темп, охватить новообретенную жизнь и подарить ее маме. Кричать громко: «Теперь все будет хорошо? Правда, иначе и быть не должно!»
Вечером мама не вернулась как обычно. Я нервно курила, ждала ее.
На следующий день звонили с работы, спрашивали, куда она пропала. А я не знала. Через три дня в милиции приняли заявление. Тощий милиционер с красным обветренным лицом (тонкий фужер для шампанского) посмотрел на меня угрюмо, хотел что-то сказать, но сдержался. Никто не будет искать мою маму, поняла.
Я бродила по квартире, дрожали руки, дрожали ноги. Я вся была сама дрожь, и унять ее никак не получалось. Лето шумело за окном, то жарким солнцем, что острыми палящими лучами играло на листьях и лицах прохожих, то барабанящей сиреневой грозой, а я замерла в квартире в немом ожидании звука открывающейся двери. Вот она заскрипит, и тихо войдет в прихожую мама. Устало скинет туфли, отряхнет зонт от капель, улыбнется и скажет:
– Надо срочно теплого чаю.
Никто не волновался, кроме меня, нескольких маминых коллег и подруг. Мне казалось, что мама перестала общаться с подругами. После расставания с Владом она заперла свою жизнь, не только прекратив общение, но и выпустив праздное веселье воздушным шаром в облака, тихо попрощавшись. Но они были, ее подруги. Просто я не слышала их телефонных разговоров, от которых мама все больше уставала, рассеянно отмечая, что это ей уже неинтересно.
Подруги звонили несколько раз в неделю, и эти звонки немного спасали меня от одиночества, страха и невыносимой безызвестности. «На что ты живешь, Лика? Деньги есть?» – спросила как-то одна из них. Я сказала, что все хорошо, хотя стипендия уже заканчивалась. Только у меня и мысли не возникло, что мне не на что будет есть. Об этом всегда беспокоилась мама.
В шкатулке, которая стояла в шкафу за книгами русских классиков, лежали деньги. То, что мама откладывала с зарплаты, да кое-какие остатки от продажи квартиры. Мама мечтала купить старый дом за городом. Я всегда считала, что это глупость и нам никогда не накопить нужную сумму. Но мама верила. Я открыла шкатулку. Если нет денег, подумалось мне, значит, мама уехала. Это была безумная мысль, потому что мама никогда бы меня не бросила. Деньги, пара тысяч долларов, лежали на месте.
Хоть не умру с голоду. Стипендия была слишком маленькая, чтобы прокормиться.
Бабушке я позвонила сама. Она сняла трубку и строгим голосом сообщила мне, что улетает с мужем за границу.
– Спешу я. Самолет через три часа. Найдется твоя мать, не переживай. Самое главное я сделала. У тебя есть квартира. Больше не доставай. Прощайте.
Осень. Студенческая жизнь подхватила меня, но тревога не давала окунуться с головой в этот бурлящий поток, когда радостные молодые студенты комкали первые лекции, заглушая их диким хохотом, сальными шутками и постоянным движением. Никому не удавалось усидеть на месте. Словно котята, все постоянно елозили, толкались, желали запрыгнуть на парты, перескочить через ряды и нестись по длинным коридорам навстречу распахнувшей объятия новой жизни. Лишь я выбивалась из общей картины старушечьим спокойствием и плохо скрываемой печалью.
Каждый день после лекций я бежала домой, оставляя позади себя одногруппников, которые, сбиваясь в стаю, летели в небольшой сквер неподалеку от университета. В спину мне доносился звонкий смех.
– Лика! Когда уже с нами? – однажды схватила меня за руку одногруппница. Но я пожала плечами и убежала.
«Странная она какая-то», – слышала я частенько. А я боялась, что, оставшись с ними, я не увижу, как домой вернется мама. Она придет в пустую квартиру, поймет, что я пренебрегла ею, и, постояв немного на пороге, развернется, чтобы уйти навсегда.
Мне хотелось открыться им, объяснить, отчего я столь дикая. Только боялась. Эти слова: «У меня пропала мама», – они звучали так страшно, так мерзко, словно я поставлю точку в решенном деле и приму исчезновение как свершившийся факт, который нельзя будет опровергнуть надеждой.
«Мама, где же ты?» – спрашивала я пустоту. Ответа не было. В милиции пожимали плечами, отводя взгляды на старые офисные столы. Я пыталась понять, куда могла пойти мама, но дороги разбегались в разные стороны. Влад? Нет, это было давно, мама о нем никогда не вспоминала после переезда. Тогда я решила поехать на нашу старую квартиру. Вдруг мама забыла, что у нас новая жизнь, и в беспамятстве ринулась в тот дом, где мы прожили столько лет?
Все та же хмурая девятиэтажка. Во дворе крутились желтые качели с облупившейся краской. Перевернутый мусорный бак и пакеты вокруг. Я вошла в подъезд. Запахи пыли и мочи, алкоголя и краски. Шум лифта, ступени. Фрагменты жизни, этот альбом с фотовоспоминаниями внутри, в голове. Вот наша дверь. Я звоню и не понимаю, как это глупо. Просто на минуту мне показалось, что мама могла сюда прийти, вот так же поддавшись этому странному чувству, этому внезапно настигшему прошлому. Так бывает, когда ты не можешь двигаться дальше, не можешь жить, потому что застрял в альбоме с фотографиями прошлых лет. Дверь распахнулась, и на меня уставился мальчик, измазанный шоколадом.
– Сашка, кто там? – крикнула из кухни женщина и торопливо вышла в прихожую.
– Вам кого? – она держала в руке черпак. Я молчала. Мальчик и его мама смотрели на меня. А я заглянула в комнату и увидела, что обои и мебель другие. Почувствовала другие запахи. Мамы тут не было.
– Простите, я ошиблась, – я развернулась и побежала. Вниз по лестнице, вон из подъезда, вдоль дороги к метро. Слышала смех Левки за спиной, крики мамы. Детство пыталось меня догнать, схватить за воротник куртки, обхватить за шею и развернуть обратно лицом к дому, к кладбищу, к темным углам, откуда выползали черные тени пугающих меня чудовищ. Без мамы мне делать здесь нечего. Я забежала в метро, двери вагона захлопнулись.
Как-то я столкнулась с пожилой соседкой, Валентиной Николаевной.
– Что-то мамы твоей не видно давно. Как сама, учишься? Молодец. Ты посмотри, сколько я заплатила за квартиру, ужас просто! – она трясла передо мной квитанциями.
Я не слушала соседку. Впервые я поняла, что без мамы мне придется самой не только покупать продукты, но и оплачивать квартиру. А как это делать, я совершенно не знала. Попрощавшись с Валентиной Николаевной, которая только и делала, что задавала вопросы, не требуя ответов, я набрала номер маминой подруги, тети Маши. Она звонила чаще всех. Ей я доверяла, наверное, потому что она единственная, у кого я в детстве была в гостях. Тетя Маша обрадовалась, услышав мой голос.
– Нет, теть Маш, не вернулась. В милиции ничего не говорят. Уверяют, что обязательно позвонят, как только что-то прояснится. Помогите мне, пожалуйста. Я не знаю, как оплатить коммуналку.
Я расплакалась. От стыда и беспомощности.
– Завтра приеду. Все расскажу. Не плачь, деточка.
Когда закончился семестр, меня все же позвали на вечеринку. Саша, одногруппница, которая пристально всматривалась в меня все эти месяцы. Просила иногда конспекты, я давала. Часто мы курили с ней на крыльце, обсуждая обыденные мелочи. Она-то и объяснила ребятам:
– Она нормальная, правда. Но что-то ее беспокоит, я вам точно говорю. Давайте на вечеринку позовем, ну чего вы такие злые?
И позвали. Я сказала, что приду. Потому что отрешенность начинала давить на меня. Мой дом пугал, повсюду были мамины вещи, запахи и тени, в моей голове призраком звучал ее голос, и я рассеянно блуждала в этих стенах, ожидая звонка из милиции. Вещи переместились, я нарочно наводила беспорядок, надеясь вызвать мамино раздражение, заманить ее обратно, словно голодного зверя на кусок мяса.
Но нужно было как-то жить. Рассеять этот страх, что вязким плотным воздухом распространился по квартире. Будто тут жили старики, без движения, с тяжелой пылью на мебели, шуршанием газет и ощущением грусти от надвигающегося смертельного заката.
Я вспомнила, как мечтала стать студенткой, находиться среди толпы и слиться с нею, пробуя на вкус новизну этой быстротечной жизни и ее скрытых процессов. Когда ты предоставлена сама себе, независима, но в то же время подчиняешься законам университета и социума, который вместил тебя, такую странную, но обычную с виду.
Вытряхнув содержимое шкафа на пол, думала, что надеть. Это платье? Мы его с мамой купили, она мне его выбрала, черное в горошек, смеялась – свежо и молодо. А я хотела джинсы и майку с надписью на груди.
Зазвонил телефон. Аккуратный голос попросил приехать в морг на опознание.
Пока ехала в автобусе, я все думала, отчего мама была единственной, кого я никогда не представляла посудой, и сколько не силилась, она так и была – просто мама. Вокруг алюминиевые кастрюли с изогнутыми крышками – смешные люди с нарочитым высокомерием, баночки с вареньем, малиновым и черничным – два мальчугана с визгом скатились с кресел и вылетели за матерью на остановке, пухлый стакан с потемневшим краем – это мужчина в темной рубашке задыхался от жары, и капельки пота стекали под воротник. А вот еще один мужчина с бегающим взглядом, сидит напротив меня. Он – банка с ползающими внутри червями. Отвернулась. Хватит.
Я еду к маме. Знала, чувствовала.
Вернувшись домой, я долго стояла в прихожей, глядя на созданный мною беспорядок. Вспомнила вдруг, как мы прихорашивали эту квартиру, пытаясь восстановить столь любимый нами уют, когда расставлены по полкам свечи, картинки, фотографии. Как с облегчением выбрасывали пустые картонные коробки, потому что вещи наконец обретали свои места. Я прыгала тогда в кресле, надеясь сломать его пружины, потому что через пару минут его навсегда выбросят на свалку. А мы поедем в магазин покупать новое кресло. Я очень хотела, чтобы оно было вишневого цвета, а мама требовала – ярко-желтое или оранжевое с мягкими подлокотниками. И мы тогда поругались.
– Как же грязно тут, – словно услышала я мамин голос. Я бросилась убирать. Нужно было восстановить тот порядок, что был при ней. Моя комната, протестующая против маминых правил, напоминала свалку. Повсюду валялись книги и вещи, ведь я старательно создавала этот хаос. Ползая по полу на коленях, я собирала вещи, замечая пыль и соринки.
– Мама, я все уберу, обещаю, – твердила я, вытирая рукавом грязь.
Мне пытались сказать причину смерти, но я закрыла уши руками и просила замолчать. Знать этого не желала.
Из памяти стиралось то увиденное мною восковое лицо, поцелованное смертью. Я вытирала полы тряпкой, и постепенно размывались границы момента, где ее тело лежало на каталке, восстанавливались мамины черты в том живом блеске, который был всегда.
– Мамочка, видишь, будет чисто. Я все сделаю, – шептала я, тщательно вытирая каждый метр нашей большой квартиры.
23
Мы были только вдвоем: я и ребенок. Впрочем, нет. Уединение нарушала кошка, она любила взбираться на живот, класть лапы и тихо посапывать, изредка открывая один глаз. Словно говорила мне: «Я тоже имею право на твоего ребенка». Призрак мамы бродил по квартире. Она, как и прежде, поправляла слегка покосившиеся картины, ставила чашки на место, проводила пальцем по полкам, отчего заметнее становилась пыль, лежащая на границах длинной полосы. Иногда я просыпалась ночью от толчка в животе, а мама сидела рядом рассыпчатым серебристым облаком и улыбалась. Она смотрела внутрь меня, гладила взглядом, тянула руки, пытаясь прикоснуться к человеку, который бил меня маленькими ступнями, причиняя легкое беспокойство. Я клала руки на живот и говорила:
– Тише, тише…
Я старалась гулять каждый день. По нескольку часов бродила я вдоль набережной. Впервые не думая ни о чем. Нужно было беспокоиться о будущем, о деньгах, о покупке новых вещей, но я просто скользила по асфальту, вбирая в себя этот город, пытаясь поверить в то, что скоро я, кажется, стану мамой. Каково это?
Мама брела рядом и смеялась.
– О, ты поймешь, Лика! Скоро поймешь и перестанешь браниться…
– Я не бранилась, мама, зачем ты так…
– Ты поймешь, ты все поймешь, Лика… Хорошо бы, чтоб мальчик, а?
– Не знаю, мама, мне все равно, – прохожие оборачивались. Беременная девушка в нелепом цветастом сарафане, купленном в секонд-хенде, потертом и старом, бредет вдоль реки и разговаривает сама с собой. Они не видят бледный силуэт, который, не касаясь земли, летит рядом, укоризненно качая головой.
Я пыталась снять босоножки, когда зазвонил телефон. Звонок был таким громким, словно кто-то выстрелил из ружья в кисельную тишину моей квартиры, отчего в испуге я покачнулась и чуть не упала. Мне давно никто не звонил. Я даже мобильный телефон не покупала, нет на земле человека, который желал бы узнать, как мои дела. С тоской я думала о детстве. Если бы тогда были мобильные телефоны, скольких волнений можно было бы избежать. Без сложенных на груди рук и задыхающегося голоса, когда в полуобмороке мама сползала по стенке, проклиная меня за то, что вернулась в поздний час.
Телефон звонил долго. Я сняла босоножки, их кожаные шлейки впивались в кожу, оставляя розовые следы – ноги отекли. Медленно поплыла я в комнату и только решилась взять трубку, как звонки прекратились.
– Пашка? – сердце соскочило и прытким зайцем поскакало вниз по ребрам, падая прямо в кишечник. Соскучилась по нему. Я легла на диван. Блоха сидела рядом и пристально смотрела на меня. На часах было половина десятого вечера. Что-то не так, я почувствовала дискомфорт и неожиданно поняла, что обивка дивана вся мокрая.
– Мамочки! Я рожаю!
Мамин призрак выпал из-за шторы. Пыль поднялась вверх, словно фейерверк, я в испуге бросилась вызывать скорую помощь. «Уже? Уже?» – билась в голове мысль, и я пронеслась в будущее, представляя, что скоро возьму на руки своего малыша, буду пытаться продеть его ручки в маечку, буду укачивать – калейдоскопом мелькали передо мной цветные картинки.
– Хоть бы мальчонка, – вздохнула рядом мама.
В палате, кроме меня, были еще три женщины. Одна в хриплом крике металась на кровати:
– Доктор, пожалуйста, пожалуйста… – тянула руки вверх, охала, руки падали на живот, и снова безумный крик.
Другая женщина ходила от окна до двери и обратно, в период схваток слегка присаживалась и, стиснув зубы, мычала в себя. Третья забралась в душ. Она уткнулась головой в белоснежный кафель, повернувшись спиной к двери, вода хлестала по бедрам и спине.
Я вышла в коридор, не было сил и желания видеть эту боль на их лицах. Мой живот побаливал немного, думать, насколько станет хуже, не хотелось. Надо просто ходить туда-сюда, решила я.
Врач зашла в палату через час.
– Нормально все, успокойтесь! – слышала я ее резкий громкий голос.
– Доктор, не могу, пожалуйста!
– Так, дамочка, не хватайте меня за руки. Прекратите истерику, вам еще часа два минимум рожать! – она вышла из палаты.
– Ты как? – обратилась ко мне.
Я пожала плечами. Живот немного качало, но кричать пока не хотелось.
Длинный коридор, бледно-серая штукатурка стен и свет ламп. Я брела по нему, иногда изо всей силы наваливаясь одной рукой на стену, другой поддерживая живот, который от резкой боли падал вниз. Боль отступала, и я снова брела, и думалось мне, что вот так и выглядит путь после смерти. Мы просто медленными шагами ступаем в надежде выйти из этого коридора, свернуть на лестницу, что спускается вниз и заворачивает к двери. А там, за высоким проемом – улицы или, может, сад. А возможно, это тот самый больничный двор, где все мы в хлопковых штанах и легких бордовых халатах бродим среди деревянных лавок и кустарников, озираясь на высокое белое здание больницы, пытаясь разгадать, когда можно будет выписаться. И для кого-то – это рай, возможность остановиться, присесть под тенью клена, закурить, оглядываясь на соседа, раздумывая, заговорить что ли. А для иных – ад, легкий шум в ушах и дезориентация, привкус горьких таблеток на языке и ощущение, будто ты не пациент, не больной, а всего лишь мышь для экспериментов. Клетка, ток, скальпель, кусочек твердого сыра.
Врачи повезли ту женщину из душа. Они суетливо семенили ногами, толкая каталку. Вода капала на пол с ее длинных белесых волос, под бедрами – кровавое пятно. Она стонала.
– Ну, терпи уже! – врач сжала ее руку. А лицо испуганное. – Скоро, скоро!
Меня позвали в палату, и с удивлением я обнаружила, что в ней только я одна. Когда они успели? Почему я не заметила? С завистью думала об этих женщинах. Они уже лежат этажом выше и через несколько часов увидят лицо своего ребенка.
– Сердцебиение в порядке. Полежи, отдохни, через час-два и ты пойдешь.
Я схватилась за холодные поручни железной кровати. Палата была пуста, именно это было невыносимо. Лучше, когда не одна мечешься на сыром матрасе, комкая простыни, не одна стонешь в окно, в черничную ночь, подобно волчице, что изредка подает голос в черном густом лесу. Можно переглядываться и поддерживать друг друга взглядом, улыбаться сквозь слезы. Без слов, но невидимой рукой поглаживать по волосам, держись, девочка, еще немного. Это ради ребенка. А он, слышишь, не ори так, подумай, он скоро глазами на тебя так хлоп-хлоп, привет, мама. Смешной такой, сморщенный, словно апельсин. Зевнет. Ты заплачешь, я тебе говорю. Маленькие, они так смешно зевают. А потом не заметишь, а он ножками топ-топ, побежал, и ты за ним, закрывая ладонью острые углы. Видишь? Ты видишь это? Как бежит твой ребенок и с каждым днем его ступни все больше, а ты за ним, все меньше, тоньше, но невидимой нитью связаны вы…
– Вставай! Вставай, дурочка, хватит кричать! – врач схватила меня за локоть и потащила из палаты в родовый зал. От нее пахло солеными огурцами и селедкой. Другая, полная, с пышной мягкой грудью, что упиралась мне в бок, шептала тихо:
– Сейчас, маленькая, сейчас.
Они затолкнули меня на кресло. Широко растянув ноги в разные стороны, чувствуя, как еще немного, и из меня выползет на свет ребенок, я подумала лишь об одном: «Отчего так унизительно это все?» Что дает эта боль? Почему не придумал Господь другого способа появления на свет ребенка? Ты лежишь, словно тряпка, кусок мяса, с раздвинутыми ногами, тебе ножами вспарывают живот, и нет той силы, чтобы не орать раненой медведицей в сухое безжизненное пространство больницы. А между ног – акушерка, пальцами плоть раздвигает, кричит на тебя – тужься, тужься! Сосуды лопаются на лице и в глазницах. Поднимаешься на лопатках и воздух – в себя.
Оглянулась в надежде увидеть маму. Но ее здесь не было. Никогда она не любила больницы.
Кровать, стол, умывальник, стул. Одна в больничной палате. Это хорошо. За стенкой в крике разрывался ребенок. А чуть дальше – еще один. Не было ничего прекрасней этих звуков. На улице уже светлело. И вдалеке редкий прохожий шел по своим делам. Еще несколько часов, и город наполнится людьми, автомобилями, шелестом, голосами. Еще несколько минут, и мне привезут ребенка.
Стукнула дверь, и медсестра вкатила кювез. Аккуратно завернутый в белую пеленку, на меня глазел мой малыш. Он пытался издавать звуки, получалась «кря-кря»… Тихонько, опасаясь сломать хрупкое тельце, я взяла его на руки. Медсестра вышла, пообещав вернуться через двадцать минут.
Обернувшись, за окном я увидела маму. Она, прильнув лицом к стеклу, растворяясь наполовину в его прозрачном блеске, пыталась спросить у меня: «Кто?»
– Девочка, мама, девочка.
Она покачала головой. Грустно смотрела на мои руки, обнимающие тонкую фигурку, которая тихо кряхтела, смешно надувая губки. Я пыталась поймать мамин взгляд, поделиться с ней вновь обретенным чувством, но она ускользала от меня.
Я взглянула на свою девочку. Она притихла.
– Я теперь не одна, – прошептала я. Мама стукнула по стеклу. Она стала махать мне рукой и исчезать, медленно тая в воздухе, словно сигаретный дым.
Я смотрела, как последний серый завиток исчезал в воздухе. Ощущала, как бьется сердце дочки. Чувство, доселе неведомое мне, тяжестью сугроба, упавшего с крыши, придавило меня, утяжелило мои плечи, грудь. Внутри оно, громоздкое, вытеснило радость и восторг, удивление и осколки счастья, что вот она, девочка моя, обретенный друг мой, лежит у сердца моего, тихо прислушиваясь.
Солнце вышло из-за кирпичного дома и ослепило глаза. Всплыла четкая картинка, словно кадр из фильма: мама сидит у деревянной кроватки в единственной комнате нашей старой квартиры. Держит пальцами одной руки мои ножки в тех самых белых вязаных пинетках, что принес отец, и тихо поет колыбельную. Баю-бай, баю-бай. Одна во всем мире, склонившись надо мною, она вглядывается в мое лицо, в тревоге то поправляя одеяльце, то поглаживая меня по голове.
Я встрепенулась, словно птица, картинка закрылась, за окном шумел город.
Дочка лежала тихо. Спала.
Она хрупкая, нежная, такая беззащитная в этом огромном необъятном мире. Смогу ли я?
Как же страшно жить, мама, как же страшно…






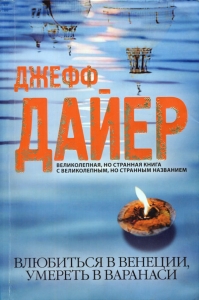





Комментарии к книге «Страшно жить, мама», Анна Златковская
Всего 0 комментариев