Ксения Коваленко Голоса
Посвящается светлому человеку
Двое молча шли сквозь сумеречный город, сцепившись холодными руками. Фонари, беспорядочно раскиданные по улице, ненароком цепляли тусклым светом края их одежды, преломляя и небрежно бросая в мутные лужи то, что позже должно было стать собственным отражением, вздрагивающим и неумело кривляющимся от каждого прикосновения холодного ветра. Девушка остановилась и начала завязывать бежевый шнурок, концы которого, намокнув в луже, почернели. Закончив, она вытерла пальцы о своё пальто:
– Удо, а если завтра мы умрём?
Удо застыл в нерешительности: какие только нелепые картины не проносились сейчас под его плотно сомкнутыми веками. Казалось даже лист, упавший с дерева, мог бы сейчас убить кого-нибудь из них, разорвав напополам рифлеными краями. И сам Удо начал падать плавно и неспешно, по спирали, всё тише и тише, словно боясь чего-то, – ненавидя свою беспомощность. Он вдруг весь как-то сжался, резко повернулся и, обхватив её лицо руками, начал что-то шептать, оставляя на щеках обрывки слов, окутанные тёплым дыханием:
– Эмми, почему ты ускользаешь от меня? Зачем ты думаешь о смерти, она здесь лишняя.
– Почему? Я не знаю почему…
Она развела его руки и, выскользнув из «плена», побежала, отбивая телом удары холодного воздуха. Споткнувшись обо что-то во тьме, Эмми упала, коснувшись ладонями асфальта. Он был тёплый и от него пахло молоком.
– Эмми, вставай.
– Не мешай, я слушаю как растёт трава.
– Ты лежишь на асфальте.
– Какой ты глупый, Удо. Она там, под всей этой твердью, под серым дерьмом, тянется к свету, к обломку луча. Её стебли опутывают меня. Я стану зелёной, мягкой, а осенью пожелтею, высохну, меня засыплет белым снегом.
– Ты знаешь… а сейчас октябрь…
– Значит пора засыпать, укрой меня. Перекатившись на газон, она впилась взглядом в мутную гладь неба, крутя пальцами левой руки половинку пуговицы на покрытом изморосью воротнике. Верхняя губа её постоянно вздрагивала, обнажая тонкую полоску зубов и выпуская на волю сидящий в её теле остаток тепла, превращающийся в прозрачный пар. Удо лёг на спину и сорвал двумя руками пожухлую траву. Он поднёс её к лицу и начал пристально вглядываться в эту некогда бывшую зелёной «кожу». От травы пахло ветхостью и старческой сыростью. Он приложил траву к асфальту, сравнивая живое и мёртвое, пока не увидел неопровержимое сходство этих двух начал. Удо отбросил стебли и посмотрел в лицо Эмми, как будто и её он хотел сравнить с травой. «Наверное, она считает меня обыкновенным дураком, глупым и бездарным. А я считаю её сумасшедшей, одуванчиком, разлетевшимся по свету. Я не в силах угнаться за ней. Ни за ней, ни за её одиночеством. Зачем я с ней»? Он закурил. «Зачем я потакаю её выдумкам, создаю с ней группу. Чёрт, – он неосторожно выпустил струю дыма Эмми в лицо. Она сморщила нос и отвернулась. Чёрт, – повторил он про себя, – я люблю её». Он смотрел на её по-кошачьи изогнутую спину, сутулые плечи, на слегка вьющиеся, вечно взъерошенные волосы, на чёрную верёвку, на которой висел амулет с каким-то тайным смыслом. «А может быть это я сошёл с ума, а Эмми нормальнее любого нормального человека, решившего в эту ночь послушать, как под асфальтом растёт трава»?
Эмми оторвала остаток пуговицы, и, прижавшись ровной переносицей к влажному плечу Удо, щелчком выбила из его пальцев сигарету:
– Почему ты молчишь? Я люблю тишину, но, когда кто-то рядом, она невыносима. Будто бы двум людям нечего сказать друг другу, или мы с тобой чужие? – она дотронулась до его тёмных, уже немного отросших за эти дни волос.
– Когда ты рядом мне хочется молчать. Так легче. А, впрочем, я не знаю. Наверное, мне нечего сказать, – и глубоко вздохнув, он полез за новой сигаретой. Пачка размокла от струйки воды, стекавшей в открытый карман его плащёвки. Он зло смял её, отшвырнув подальше.
– И всё же, не молчи… Мне нравится твой голос.
– Ты знаешь, Эмми, у меня там внутри столько слов, и нужно непременно все их тебе сказать. Здесь и сейчас. Как будто бы мне завтра на войну или на казнь. И что? Вот я скажу тебе всё это, и ты, быть может, отомрёшь на пару мгновений, начнёшь дышать по-иному. А проживут мои слова лишь миг, не более, и ты опять закроешься, спрячешься, убежишь. Уж лучше промолчать.
– Вот так вот значит: будем жить без слов. Наши тела расплескают души по земле, и они медленно поползут одна к другой, сливаясь, становясь единым целым, белым туманом. Я нервной пластинкой дрожащих рук дотронусь до тебя и растворюсь в твоей сути. Как жаль, что мы никто, и, думаю, никем не станем. Я не хочу знать, что будет с нами дальше, но чувствую, исход нам предстоит печальный.
– Как в сказке, Эмми, всё как в сказке: жила на свете девочка, которая не верила в добро…, – он начал рассказывать, на ходу выдумывая образы и линию их действий, а Эмми незаметно заснула на его плече пока он говорил в полголоса. Удо бережно стёр капельку влаги с её щеки. «Тебе нужны мои слова? – думал он. – Ты сама не знаешь что тебе нужно. А я устал, Эмми. Прости, но я устал от твоего непостоянства. Ты сама от себя устала».
Он взял её на руки и понёс домой. «Как невесома. Стоит лишь разжать пальцы – выскользнет и поплывёт по воздуху, как перо».
Удо постучал ногой в дверь. Кэт с кружкой кофе и расширенными зрачками открыла ему.
– Опять? – спросила она, кивком головы указав на Эмми.
Удо молча опустил Эмми на диван в гостиной, снял с неё сырое пальто и ботинки, бросив всё это на пол, накрыл свернувшуюся тёплым клубком Эмми колючим пледом. Отнести её наверх уже не хватало сил, руки сводила лёгкая судорога, от липкого осеннего холода знобило, из-за отсутствия сна начинала болеть голова. «Да и какая разница где предаваться безумию: выше, ниже… Всё едино».
Не раздеваясь, он прошёл мимо Кэт в кухню и, наклонившись к крану, начал пить ледяную воду жадными глотками. Когда горло совсем онемело, он вдавил мокрые ладони в лицо и, постояв так с минуту, вышел из кухни, оставляя за собой цепь грязных следов. Кэт взяла тряпку и принялась оттирать от них потрескавшийся кафельный пол.
Войдя в гостиную, Удо сел за стол и включил лампу. Рядом с ножкой стула стояла полупустая бутылка с водой, на поверхности которой плавала наполовину выкуренная сигарета. Удо брезгливо пнул её носком кеда в дальний конец комнаты. Бутылка замерла, не прокатившись и четверти задуманного им пути. «Как мне всё это надоело».
Бесшумно порывшись в ящике, он достал бумагу и ручку, положил их перед собой. За окном противным высоким голосом гудела сирена, из окон соседних домов ей вслед летела брань. Кто-то швырнул камень: послышался звон стекла, и сирена, точно в предсмертной агонии, издав два коротких писка, замолкла. Плотной непробиваемой стеной на землю обрушился дождь.
Свет лампы падал справа, разрешая тени бежать по листу. Удо на мгновение задумался: «Эмми, быть может ты даже скажешь мне спасибо». Он взял ручку и начал быстро что-то писать.
Закончив, он свернул листок вдвое и, неслышно подойдя к Эмми, аккуратно вложил его ей в руку.
– Спокойной ночи, Эмми, – он поцеловал её в горячую щёку и так же неслышно начал продвигаться к выходу. У самого порога его настиг голос:
– Прогуляться захотелось? Или свежим воздухом давно не дышал? – Кэт, скрестив руки на груди, зло смотрела на Удо.
– Я так и знала, что ты придурок. До сих пор не понимаю, почему она с тобой и почему ты в «Лестнице»?
– А тебе хотелось чтобы она была с тобой? Я знаю о твоей слабости, – и он ехидно засмеялся.
– Да уж лучше со мной. Я хотя бы не убегаю посреди ночи, оставив прощальное письмо. Могу поспорить, ты там написал: «Эмми, ты замечательная, но достойна лучшего… бла… бла… бла…». Я угадала?
– Если ты всё это знаешь, тогда почему же до сих пор не с ней? Ведь она тебе нравиться.
– Мы просто друзья, и речь сейчас не обо мне. Удо, не темни. Ты любишь её?
Он вздохнул:
– Люблю, но она как будто не со мной, а в самой себе. Я для неё чужой…
– Стань ближе.
– У тебя видно не получилось.
Кэт отвесила ему звонкую пощёчину, смахнув со стола маленькую фигурку тёмного божка:
– Когда ты уже перестанешь? Удо, ты умеешь делать больно. С ней ты такой же красноречивый?
– Тише, тише, ты её разбудишь, идём на кухню.
– Твоя забота не знает границ.
Она нарочно схватила его за ухо и потащила за собой, пригибая как можно ниже к полу. Удо насквозь прошила нечеловеческая боль, как будто тысячи маленьких иголочек кололи его изнутри. Хотелось закричать или схватить Кэт за ногу, оторвав кусок её штанов вместе с белой плотью; хотелось впиться зубами в её запястье, прогрызть до всё ещё розовой, не смотря на возраст, твёрдой кости. Но он погасил в себе все звуки и только старался не натыкаться на предметы, расставленные по комнате.
– Я тебя ненавижу! – заорал он, одной рукой захлопывая дверь в кухню, а другой держась за красное горячее ухо.
– Кофе хочешь? – невозмутимо спросила Кэт.
– Не хочу.
– Что ты решил?
Он приложил к уху кубик льда, который начал немедленно таять, исчезая на глазах.
– Я остаюсь.
– А надолго ли тебя хватит?
– А её, а нас? Кэт, осталась ещё куча местоимений, давай переберём их все.
– Ты раздражён, я понимаю. Но менять её бесполезно. Она слишком своевольна.
– И я конечно же должен растоптать себя, посвящая всю свою короткую жизнь игре в догонялки?
– Топчи, не топчи, всё равно не оценит. Вы живёте разной жизнью или просто ощущаете её по-разному.
– Я люблю её, а она меня?
– Ты спрашиваешь… По мне, так истинной любви взаимность не нужна. Или ты не благородный рыцарь?
Похоже Кэт задела его самолюбие. Удо вмиг расправил плечи, но голос его был по-прежнему вялым и неуверенным, как у троечника, который плавает в теме:
– Да, да, да, я понял. Я просто буду рядом. У тебя сигареты не будет?
– Может быть через час и не будет, а пока на вот, – кури.
– Спасибо, – Удо прикурил от плиты и о чём-то задумался.
Взяв в руки причудливо изрисованную иероглифами пепельницу, он пошёл на чердак, и, усевшись на сломанный шезлонг возле умытого дождём маленького окна, стал вдумчиво смотреть на мир, отгороженный стеклом, словно пытаясь найти за ним ответ на мучивший его вопрос. Далеко, слева от него, мерцали огни широкой автострады. «Она ведёт в другую жизнь, в лучшую, чем эта». Опять завыла сирена, и он вздрогнул, уронив пепел на колени.
Помечтав немного, он провалился в сон, но вскоре проснулся от того, что ветви деревьев, росших прямо под окном, касаясь гладкой поверхности стекла, царапали её. По стенам прыгали тени, снимая мимический опус. На миг ему стало жутко и неуютно. Перед глазами начала возникать какая-то чушь.
Удо поспешил спуститься вниз, надеясь, что Кэт всё-таки не спит, и, как бы велика не была их взаимная неприязнь, она не откажет и составит ему компанию. Но Кэт спала, обхватив одной рукой тёмного божка, которого, как подумал Удо, она отыскала. Ему показалось, что она не дышит. Его сердце начало биться сильнее. Он вошёл в гостиную.
На полу спиной к нему сидела Эмми, обхватив колени руками, точно тело её было туго перевязано прочной верёвкой.
– Мёд, – шептала она. Липкий и сладкий. Стекающий с твоих губ мёд. Хлопок. Выстрел. Хлопок. Выстрел. Розовый шёлк ладоней. Тёплая мякоть. Желание. Бесшумная звериная поступь…
Удо закричал и открыл глаза: он по-прежнему сидел в шезлонге, между его пальцев застыл истлевший бычок. Наступило утро. Он открыл настежь окно, впустив сквозь него холодный октябрьский воздух. «Просто кошмар. Уж я-то знаю, что на самом деле, Эмми, ты хуже дьявола. Он просто наивный мальчишка по сравнению с тобой».
* * *
Эмми проснулась и долго жмурилась от ярко электрического света маленькой лампочки, болтающейся на коротком пучке проводов под потолком. Было непонятно день сейчас или ночь. Удо сидел в кресле, сгорбившись и пытаясь впихнуть в себя тост с маслом, запивая его чёрным кофе, который казался ему до неприличия горьким даже после трёх ложек сахара, растворённого в нём. На его блюдце лежало тщательно изорванное в мелкие кусочки письмо, которое он вытащил из рук Эмми этой ночью, твёрдо решив остаться.
Она посмотрела на него: синяки под глазами, серая кожа… «Да, дружок, ты рано постареешь». Но вместо этого она сказала:
– У тебя глаза красные.
«А у тебя лукавые» – подумал он.
– Я не спал этой ночью.
– Знаю. Я не очень тяжёлая? – Эмми слегка покраснела.
– Я боялся, что ты улетишь.
– А куда? Куда же мне лететь?
– Да куда угодно: на север, на юг. Выберешь путь и взмоешь в небо.
– Не взмою. Я повенчана со свободой. А крылья свои я продала старьёвщику ещё до нашей первой встречи.
– А я думал любовь окрыляет.
– Окрыляет, доводит до безумия, так нежно жалит длинным языком и душит, пока не перестанешь дышать.
– Но…
– Никаких «но». Всё то, что сказано выше, лишь слова, ничего для меня не значащие. Прошу и ты не предавай им вес. Не стоит переносить все мои изречения на себя.
– Эмми, ты циник. Я когда-нибудь услышу правду из твоих уст? Или я не достоин таких привилегий?
– Не нужно читать только между строк. У тебя намечается паранойя, так что иди к психологу, могу адресок подкинуть. Не заводи меня с утра.
– Я не… Я так… – , запротестовал он, осознав, что слегка перегнул и без того уже надломанную палку. Но мысль о ночном кошмаре не давала ему покоя, и он решил развить её, ну или хотя бы попробовать задать ещё один вопрос рассердившейся на него Эмми.
– Ты любишь мёд? – осторожно спросил он, делая ударение на слове МЁД.
– Мёд?.. Нет. Он липкий и сладкий.
«А вдруг не сон?» Ноги понесли его к выходу, и он только успел бросить из-за закрывавшейся двери что придёт к обеду.
«Приду, – думал он, – если не умру от разрыва сердца. Я попал в ад. Лучше бы в этой жизни меня сделали земляным червём. Липким и сладким. Я могу прошагать километры дорог и путей, я могу упасть, заболеть, умереть; а она взмахнёт ресницами по ветру, профиль на солнце и строго по курсу к цели, – в мир, где нет слабости, в место, где пахнет дождём. Девочка-лёд. Интересно, Эмми, доживёшь ли ты до весны?»
Он забрёл в парк насквозь пропитанный ароматом опавших листьев. «Их скоро сожгут, будет красиво и тепло. Если к Эмми поднести огонь, с пальцев закапает вода».
Никто никогда не поймёт для чего мы живём. Нужно просто смириться с неразрешимостью этого вопроса и тратить время на что-нибудь иное, прекратив раз и навсегда эти бесцельные поиски.
Если тебе не дарят нежность значит кому-то она нужнее. Этот кто-то умирает сейчас без неё, а ты живёшь. И не к чему сердиться: не мы создали этот мир, мы лишь зашли в него на несколько мгновений.
Любовь… Она волшебна… Вечером Луна пожирает Солнце, утром Солнце поглощает Луну. И нам по-прежнему так же трудно выбрать между этими светилами.
Вчера убили девочку за то, что у неё иной цвет кожи и разрез глаз. Сегодня родились два сиамских близнеца, один из которых погибнет задушенный зовом собственной крови.
На этой земле было всё. Кто-то полз на коленях к людям с криками: «Не стреляйте, я свой!», – а они всадили семь пуль в одно тело, столкнув то, что осталось, в канаву. Кто-то корчился в судорогах своей последней ломки, кидаясь в грязной подворотне на стены, исцарапанные тонкими руками с сожженными внутри венами. Кто-то заболел СПИДом, переспав со шлюхой. Кто-то изнасиловал дочь. Кто-то просто умер потому что состарился и устал от этого хаоса жизни. Один стал мудрым, другой, напротив, поглупел. Один стирал с земли народы, другой выращивал цветы.
На этой земле было всё. На этой земле были все. Не было только любви и тех, кто способен впустить в себя это чувство, не погружая тонкую иглу в вену, а просто закрывая глаза рядом с человеком, которого ещё возможно просто держать за руку.
Миллиарды капель слёз станут утренним крепким кофе, а сигаретный дым – воздухом. Немое волшебство часов, что делят время на отрезки. Немного скорби и грусти. Остаток сил можно потратить на чуткий сон, совмещённый с неумелыми ласками и вынужденными актами любви.
Наши дети умрут раньше нас, седые, смотрящие себе под ноги, поэтому лучше попрощаться с ними уже сейчас, пока они существуют в сослагательном наклонении.
Если делаешь шаг навстречу кто-то уходит всё дальше от тебя. Ты можешь побежать, вдавливая тело в едва прочерченный вровень с небом ломкий горизонт, ты можешь поползти или полететь. Вот только нужен ли ты там, куда так спешишь, нужен ли ты самому светлому человеку не этой земле?..
Он ещё немного прошуршал листьями и присел на слегка сырую скамейку. Прохожих в парке не было, и это доставляло ему пускай и неожиданное, но всё же удовольствие. «Похоже, я начинаю понимать насколько притягательно одиночество. Хм… Сорокалетний человек. Пустынно. Парк. Возможность проследить за лесом, пристроившись на маленькой скамейке… Лирично, тоскливо… И вот она, – просыпающаяся к самому себе жалость».
Солнце уже не грело, а только метко пускало свои лучи, которые скользили по всему что попадалось на их пути. Небо то темнело, то прояснялось, не давая возможности ни уйти, ни остаться.
Удо заснул, слушая тихий шелест листьев, летевших в своё прощальное путешествие, делающих свои последние вдохи.
* * *
– Вы опять поссорились? – спросила Кэт сразу после того как за Удо захлопнулась дверь.
– Я его не люблю.
– Знаю, но он ждёт другого ответа.
Эмми встала и прошлась по комнате.
– Он может ждать его сколько угодно. Я не хочу связывать себя ложными словами и заведомо невыполнимыми обещаниями.
– Тогда ты на всю жизнь останешься одна.
– Как будто бы я когда-нибудь жила иначе. Пожалуй, этот разговор уже исчерпал себя.
Увидев на ковре какое-то пятно, она начала водить по нему подошвой, поднимая и опуская высокий ворс. Постояв ещё немного в тишине, Эмми заметила, что на оконных рамах уже кое-где облупилась бежевая краска, а угол отклеившихся обоев будто кланялся ей. Захотелось зажмуриться и нарисовать в воображении утопию. Хотелось, хотелось, хотелось… Чего только не захочется заполучить в этой жизни. А Эмми нужно было немного: просто полюбить по-настоящему кого-нибудь. Испугавшись своих собственных, невольно услышанных сознанием подсознательных откровений, она, вылетев пулей из забытья, спросила:
– Какой сегодня день?
– Понедельник.
– Я опять не бегала, – она печально вздохнула, уронив на пол свой вязаный свитер. – Одну пару я уже пропустила, но на две оставшиеся успею, – поэтому пока. А хотя постой, – обернулась она, – кое-какие умозаключения, – и Эмми, вскинув указательный палец вверх точно собираясь изложить теорию квантового пучка, сказала:
– Нам нужен басист. Он нам просто необходим. «Лестница» – это всё-таки группа, а не собрание вольных каменщиков. Если хотим увидеть хоть сколь-нибудь светлое будущее, следует расширить состав. У меня всё.
Кэт почесала затылок:
– Ну хорошо. Иди в институт. А пойду искать бас, если тебе этого так хочется. И вот ещё что, – она подошла чуть ближе к Эмми, чего та очень не любила, сразу выпадая из разговора и впадая в тревогу по поводу того, что кто-то посторонний вторгся в жирно очерченный белой меловой линией круг её сокровенного бытия, в которое она пускала очень немногих, а если честно, то никого кроме себя самой, – не стоит первой мириться с Удо.
– Я знаю. Он придёт сам, – Эмми отошла на пару шагов в сторону, делая вид, что её внимание привлёк проезжавший на велосипеде почтальон, который в их дом никогда не заглядывал из-за отсутствия писем к кому-либо из жильцов.
Нужно было поспешно, но прочно залатать дыру от внезапного вторжения в огороженные, но, видимо, не слишком хорошо защищённые пределы. Эмми не любила промахов и старалась их пресекать как у самой себя, так и у своего «близкого» окружения. Слишком приближаться к человеку во время разговора было для неё верхом наглости и бестактности. И если кто-то приближался к ней ближе, чем того позволял её этикет, она скрещивала руки на груди и замолкала, отстраняясь от собеседника односложными ответами.
Эмми всю сознательную жизнь (а осознание оной пришло довольно рано) считала себя способной отдавать отчёт своим поступкам. Ей казалось, что она в состоянии погасить или наоборот разжечь чувства, исходя исключительно из своего желания или нежелания делать это.
Но то что с ней творилось сейчас она отказывалась понимать. Внезапное отвращение к Удо, с недавнего времени поселившееся в ней, откровенно пугало её. Быть с ним рядом один на один стало невыносимо, но расставаться с ним не хотелось. Ей доставляло какое-то нечеловеческое удовольствие мучить его, потешаться над ним, зная, что он ни в чём не виноват. Эмми не хотелось думать о том, что любовь (если конечно она была) постоянно превращалась в песок, который разлетался в необъяснимом чужим направлении ветра, а на смену этому вечному непреходящему чувству всё же пришла банальная привычка, повседневная потребность видеть и ощущать близкого человека рядом с собой.
«Значит ты не тот, ради кого я умерщвлю свою бесценную свободу. Вот и всё». Она запрыгнула в автобус и, раскрыв толстую тетрадь, начала повторять лекцию, написанную мелким неразборчивым почерком. Какой-то парень разглядывал через плечо рябь её букв и, в конце концов, отвернулся, так ничего и не разобрав. Автобус заглох, проехав три остановки и начисто уничтожив желание Эмми попасть в институт. «Ну и чёрт с ним, – подумала она, – зайду вечером к Эккерту и всё перепишу».
От нечего делать, а главное от того, что ей не хотелось домой, Эмми побрела по незнакомым или знакомым только от части дворам. Почувствовав голод, она купила булочку и бутылку воды и, удобно устроившись на тротуаре одной из улиц, начала есть.
Рядом с ней, неуклюже переваливаясь то на одну, то на другую ногу, ходил голубь. Эмми раскрошила остатки булки и бросила маленькие белые комочки на асфальт. Голубь сделал попытку улететь, но передумал и медленно направился к еде.
Одна нога у голубя была изуродована, и вместо неё висел тонкий обрубок кости. Крыло было сломано, и он, временами припадая на больную ногу, тащил его по земле. Эмми загрустила: эта жизнь никого не щадит, если она мстит паршивому голубю, то что же тогда говорить о людях.
Внезапно раздался выстрел, который оглушил Эмми, заставив уронить бутылку с водой. Тело голубя разлетелось на куски, забрызгав Эмми кровью. Над головой кружились лёгкие серые перья.
Против воли и убеждений разума Эмми облизнула свои губы, проглотив чужую форму умершей жизни. Она опустила пальцы в лужицу крови, достав оттуда серебряную гильзу от пули навылет.
«Кто бы ты ни был, – думала она, – ты никогда не будешь прощён мной за этот промах жалости, оставивший меня в живых. Забавно. Мне так противна эта жизнь, что я завидую этому грязному, но мёртвому голубю. Надеюсь, в следующий раз ты не промажешь».
На асфальте, обмакивая пальцы в кровь, она начертила мишень, в центр которой поставила гильзу.
Поймав такси, она поехала домой, упорно делая вид, что не слышит «дурацких» вопросов водителя по поводу её вида.
Ветер уже разметал все вырванные из маленького серого тельца перья по всему городу, но в подворотне до сих пор плакал маленький мальчик, зарывавший пистолет в чёрную грязь земли. Закончив, но всё ещё всхлипывая, он тёр ручонками о штаны, пытаясь стереть с них въевшийся запах стали. Через десять лет он стал священником…
Дома было пусто: Удо спал в парке, а Кэт ушла искать бас. Эмми смыла с себя кровь и бросила одежду в стирку, а потом, утонув в большом мягком кресле, погрузилась в какую-то заумную книгу по психологии.
* * *
Наверное, тот, кто много раз зарекался не верить людям и больше не любить никого из них, рано или поздно, не выдержав тоски и одиночества, вновь захочет довериться кому-нибудь.
Бесполезно гасить чувства: если они есть избавиться от них можно только расставшись с жизнью.
А вся жизнь Кэт, как она сама думала, была большой ошибкой. Все, кто был рядом, умирали один за другим неестественной смертью, оставляя её совсем одну.
Ей не хотелось впускать в сердце чужих, но всякий раз, как только кто-то говорил ей: «Привет!», – или просто улыбался ей хотелось довериться этому человеку и никогда уже не отпускать его от себя. И она верила пока человек не «уходил».
Однажды на её глазах один из «дорогих» перерезал себе горло. Кэт полоснула ножом по венам, но её успели спасти. Год она провалялась в психиатрической клинике где её лечили от несуществующих болезней таблетками и уколами, превратив её тело в один большой синяк и воспитав в ней абсолютное равнодушие ко всему происходящему внутри неё и за пределами самой себя. Помотавшись немного по разным городам и так и не найдя хоть сколь-нибудь интересного для себя дела, она вновь решила покончить с собой.
Укрепившись в этой мысли, она всё никак не могла выбрать подходящий способ покинуть этот мир: ей хотелось остаться после смерти красивой. Но главное её желание состояло в том, чтобы её опять не откачали, вырвав из рук прелестницы с косой.
Гуляя по городу и выдумывая всё более нелепые и оттого практически невыполнимые способы, Кэт столкнулась с Эмми, которая стрельнула у неё сигарету и, пока они курили, вовлекла её в очень интересный разговор. Кэт слушала, а из её головы постепенно выветривалась необходимость умирать. Вдруг Эмми сказала:
– Слушай, у меня есть группа, зовётся «Лестница». Сейчас нас только двое: я и мой парень. Но нам нужны люди. Ты умеешь на чём-нибудь играть?
В свое время Кэт немного училась играть на гитаре, но не брала её в руки лет этак пять, поэтому она неуверенно протянула:
– Раньше играла на шестиструнке, но до электричества дело так и не дошло.
Эмми щёлкнула пальцами и повернулась вокруг себя.
– Плевать, мы начинающие. Просто скажи «да» или «нет»?
– Да, – уже не колеблясь, ответила Кэт.
– Значит теперь ты в «Лестнице». Но знай, характер у меня плохой и нестабильный, а ещё я самовлюблённая эгоистка, которая поглощает шоколад, не зная меры.
– Понятно…
– Ничего тебе не понятно. Но обратного хода нет. «Лестница»-это надолго, ну или как минимум навсегда.
Слово «навсегда» резануло Кэт по ушам: в её жизни ещё ничего и никого не было навсегда.
– Знаешь, Эмми, навсегда – это слишком неправдоподобно, но если ты обещаешь…
– Я никогда ничего не обещаю, – оборвала её Эмми, и они молча направились к дому, в котором предстояло жить Кэт.
Время шло и у Кэт появилось, а со временем отчётливо выкристаллизовалось, чувство, что Эмми самый близкий и в то же время до безумия далёкий человек когда-либо встречавшийся на её пути.
Кэт боялась верить Эмми, но в то же время не могла не верить ей. Всё в отношениях с ней было неоднозначно: иногда поверхностно, иногда чересчур глубоко. Но всё же что-то было, и нужно было держаться за это «что-то» чтобы сохранить едва теплящееся желание жить.
Удо она не любила только потому что не хотела ненавидеть, и сколько не пыталась Эмми установить между ними бесперебойную обратную связь ничего не выходило.
Оставалось только смириться с тем, что «Лестница» превратилась в маленькое гетто, в котором двое из трёх мечтают истребить друг друга.
Вдоволь побродив по прошлому, Кэт вошла в двери первого попавшегося клуба и уселась за барной стойкой. Неизвестно почему навалилась тяжёлая тоска, захотелось напиться. На минуту Кэт даже забыла для чего она сюда пришла.
Проглотив три и заказав четвёртую «Кровавую Мэри», Кэт начала разглядывать зал, пытаясь найти кого-нибудь мало-мальски похожего на басиста. Её внимание привлёк молодой парень, оравший что-то пьяным сорванным голосом.
* * *
С самого раннего детства Бесу катастрофически не везло. Когда ему был год, мать случайно забыла его в пригородном автобусе, и он три дня провёл в полиции пока она за ним не пришла. В три года, играя в песочнице, он засунул в нос маленький камушек, который врачам пришлось извлекать немедленно и без наркоза. В семь лет он начал курить, а отец, найдя в кармане его куртки пачку дешёвых сигарет, выбил ему кулаком передний, к тому времени уже коренной, зуб. В какую бы школу его не отдали, через три – четыре месяца Беса непременно отчисляли, потому что он не приходил на уроки.
В институт он решил не поступать из-за бесполезности этого предприятия. Найдя работу вышибалой в дешёвом клубе, Бес завёл себе новых друзей порвав со школьной шайкой. Он всерьёз пристрастился к алкоголю и траве, и нередко его самого приходилось «вышибать» из других клубов за драки, которые устраивал он и его «команда».
Но у него было две мечты: большая чистая любовь и место в музыкальной группе. Свою бас-гитару он случайно проиграл в карты, пока над его телом господствовал градус, а новую покупать не было смысла и денег, которые улетали на выпивку и траву.
Разглядеть большую и чистую любовь никак не удавалось пьяными, налитыми кровью глазами. Нежные ласки напрочь стирались с влажной тёплой кожи неконтролируемым животным спариванием под перепачканным столом или в каком-нибудь неосвещенном тупике. А после тяжелые вдохи, капельки испарины на широком, закрытом темной челкой лбу и сожаление о невозможном счастье. Мелкий шаг и попытка приложить к расцарапанной зоне наслаждения разорванное нижнее бельё.
Блеф. Снова блеф. Снова неспособность быть таким каким хотел, неумение, беспомощность.
После этих оргий Бес возвращался домой и всю ночь ходил по дому как призрак, или грыз подушку зубами, навзничь лёжа на животе, давая себе строгое обещание, что в следующий раз он не изнасилует очередной силуэт, поставив похоть доминантой своей сути, а прижмёт к себе и не отпустит то сердце, что теперь бьётся рядом с ним. Но плотские позывы были сильнее духовных, и все помыслы о большой и чистой любви сводились к маленькому грязному сексу.
Потерявшись во всём этом, он начал колоть кокаин, заменяя потребность в любви другим наркотиком, уничтожающим все чувства и желания, проповедующим, что есть лишь одно истинное счастье: игла и шёпот нагретого в ложке зелья.
Бесу не хотелось «пачкать» руки и раскрывать карты, поэтому приходилось колоть эту дрянь в менее заметные места. Укол за уколом он всё больше убеждался, что даже наркотик не смог погасить всеобъемлющей тоски по несуществующему человеку, но отступать было поздно: бросить иглу он уже не мог.
Иногда он сознательно уменьшал дозу или несколько дней не колол кок, перемешанный с порошком и цементной пылью. Всё тело скручивалось в жгут, кости становились тяжёлыми. Его тошнило горькой желчью, голова раздувалась как мыльный пузырь, он кусал руки до крови, и из глаз текли слёзы.
Бес надеялся, что не вынесет боли и умрёт хотя бы от разрыва сердца. Самоубийства он боялся. Уйти сам он не мог.
Вконец запутавшись, Бес порвал со своими дружками и ушёл из клуба. Он устроился работать дворником и даже начал готовиться к поступлению в институт, пытаясь убедить себя в том, что, порвав со старой жизнью, он порвёт и с кокаином, но он сам понимал, насколько беспомощны эти доводы и самоубеждения.
Он бросил работу и пропивал оставшиеся деньги в клубах, в одном из которых на него наткнулась Кэт. Бес выпил столько, что уже не мог сидеть прямо и практически лежал под столиком, крепко зажав между колен бутылку виски, которым он заливал свою тоску и злобу. Его жутко раздражала громкая музыка, которую играла стоящая на сцене группа. «Они, а не я. Не я, а они стоят там, на сцене. А я как последний бездомный пёс валяюсь здесь, в этом мусоре тысячелетий, свезенном в одну точку».
– Пошли вон! Вон, я сказал, – орал Бес заплетающимся языком. Он хотел запустить бутылкой в музыканта, но упал вместе со стулом. – Ваш басист ни черта не смыслит в музыке! Ни черта, – он начал повторять это слово полушёпотом, рассматривая ноги сидящих.
– А ты смыслишь? – Кэт непринуждённо и без приглашения опустилась за его столик. Бес отшвырнул поломанный стул и, выбрав для себя новый, громко в него опустился.
Кэт закурила, напустив на себя деловой вид: она решила поскорее закончить вербовку.
– Смыслю, – прохрипел Бес и уронил голову на столик.
Кэт схватила его за волосы и немного потрясла. Бес, точно утопающий, начал размахивать руками и мычать какие-то проклятия в её сторону. Люди, сидящие вокруг, с интересом наблюдали за их «беседой».
– Погоди спать! Если не боишься, завтра приходи по этому адресу, – она воткнула в его негнущиеся пальцы бумажку с адресом, которую он тут же смял и сунул в карман, два раза промахнувшись. Кэт продолжала:
– Нам нужен басист, значит нам нужен ты. Только приходи трезвый, иначе в доме отклеятся обои. Завтра в 9:00 по этому адресу. Понял? Повтори!
Бес промямлил что-то и взглянут туда, где должна была сидеть Кэт, но её уже не было. Он с трудом поднялся и, шатаясь, направился к выходу.
* * *
– Я нашла бас, – сказала Кэт, разогревая в СВЧ синтетическую дрянь под названием ужин.
Она не знала праздновать ли ей победу или сокрушаться над поражением, потому что Бес был похож на кого угодно, но менее всего на басиста, и было совершенно неясно держал ли он когда-нибудь в руках гитару. Но ведь она же старалась…
– Он придёт завтра (если сможет, – подумала она про себя), я сделала невозможное, поэтому не стоит меня благодарить.
– Раз не стоит, значит не буду, – сказала Эмми, не отрываясь от книги.
– Она тебя не слышит, – сказал Удо. – Она сейчас увлечена Эрихом Густавом Фрейдом. Эмми предпочитает спать в обнимку с ним, нежели со мной.
Удо виновато выдавил смешок: он уже и не помнил, когда они с Эмми последний раз спали вместе.
Эмми перевернула страницу:
– Юнг. Его зовут Карл Густав Юнг.
– Кого? – Удо неподдельно удивился.
– Того с кем я сплю. И ты знаешь, он полностью меня удовлетворяет во всех аспектах моей жизнедеятельности. А главное, с ним есть о чем поговорить.
– Зато с ним тебе есть о чём помолчать, – Кэт указала жирной вилкой с застывшим на ней коском полуфабриката на Удо.
– Помолчать я могу и одиночку, – едва слышно, но, достаточно чётко, жёстко разделяя слова, произнесла Эмми.
– Со мной даже помолчать не о чем?
– Вообще, да. Хотя кое-что у нас тобой получается очень даже неплохо.
– И что же это?
– Это наша параллельность. Ты здесь, я там, но оба на виду друг у друга, а чтобы пересечься в вожделенной бесконечности потребуется не менее вожделенная вечность.
Удо зло хрустел пальцами и напевал в уме детскую песенку. Кэт, уже почти допившая «Мартини», мыла посуду, повернувшись к ним спиной.
– Я терпеть не могу, когда ты становишься такой. Сейчас самое время завести разговор о будущем, если, конечно, там есть место для меня.
– Но… – попыталась возразить Эмми, но Удо, прервав её, продолжал:
– Вспомни, просто вспомни, как ты провела эту ночь. Прежде чем говорить о будущем, обернись на прошлое и разгляди в нем меня. Эмми, вспомни, кто я. В твоем настоящем меня уже нет, но прошлое общее, ты не сможешь вычеркнуть меня из него, я уже случился.
– Плевать на прошлое, а в мое будущее не суй нос. Если я кого-то люблю, это не значит, что я буду каждый день напоминать ему об этом. Или тебе нужно именно это?
– Ты!!! Мне нужна только ты! Вся, а не твои составляющие.
Эмми скользнула взглядом по его обезображенному гневом лицу.
– Вся? А не слишком ли это?
– Для тебя, пожалуй, слишком, – он допил мартини Кэт и замолчал.
– Я пошла спать. Спокойной ночи, Кэт.
– Ну и какой из нее психолог, – сказал Удо после того, как Эмми ушла. – Её саму лечить нужно.
– Мы все больны. Мы родились с дефектами, – Кэт бросила в ведро пустую бутылку из-под мартини. – Ты выпил последнее, теперь ты мне должен. Я сейчас не в настроении вести разговоры на философские темы. Похоже, я уже пьяна, и лучше тоже пойду спать. Good night, Удо.
Удо пытался если не угадать, то хотя бы представить, кого же нашла Кэт на роль басиста, но в голове всплывал только образ разъярённого байкера, у которого не заводится его проржавевший до последнего винтика «Харлей».
– Спокойной ночи, Кэт, – сказал он несколько брезгливо, – а куда он поставит свой «Харлей»?
– Что?
– Ничего… Мысли вслух.
* * *
Бес плёлся домой, ведя рукой по стене, осторожно ступая неуверенными ногами по земле. Проезжавшие мимо машины выхватывали его сгорбившуюся фигуру, превращая тем самым Беса в настоящего посланника тьмы, вышедшего на охоту за новыми жертвами. Временами он останавливался, оглядывая улицу, убеждался, что идет правильно, и продолжал свой путь. Не разглядев незажженный фонарь, Бес больно ударился лбом о его корпус.
По стене одного из домов черными, по-детски кривыми и непропорциональными буквами было старательно жирно выведено: «ОТЛЕЙ!». Он в голос ухмыльнулся и последовал нехитрому совету, стараясь попасть струей в центр буквы «О».
Едва он закончил чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. «Коп», – подумал Бес и схватился за карман, в котором лежал адрес и конвертик с белым порошком. Стараясь пальцами сильнее разорвать шелковую подкладку кармана, он проталкивал дозу в эту дыру пока конверт не скатился в нее, заскользив вдоль брючины вниз, и, наконец, замер там. Бес почувствовал, как все сильнее намокает спина, отпускает градус, и страх, как будто крадучись, не спеша окружает его тело толстым кольцом. Набравшись наглости, он быстро развернулся, смахнув чужую руку со своего плеча.
– Что…, – проговорил он, заикаясь и разглядывая незнакомца. Перед ним стоял человек в штатском, чуть выше него ростом, примерно на пол головы. Больше ничего рассмотреть не удалось из-за густой темноты вокруг них. – Что вам нужно? Что? Деньги?.. У меня нет денег… Нет… Обыщите… У меня ничего нет… Часов нет… Даже зубы у меня не золотые…, – Бес не переставая говорил, а незнакомец стоял тяжело и громко дыша, даже не делая никаких попыток приблизиться к пятившемуся назад Бесу.
Вдруг человек пошатнулся и, потеряв, видимо, с трудом найденный центр равновесия, упал. Он схватил Беса за ногу, пытаясь подняться. Но силы явно изменяли ему, так как каждый следующий рывок был гораздо слабее предыдущего. Бес освободился из его рук и небрежно, словно подгнившую падаль, перевернул его ногой на спину… Незнакомец держался рукой за левый бок, из которого хлестала кровь.
– Помогите, помогите мне, – шептал он, задыхаясь, захлебываясь собственными словами. – Пожалуйста, помогите. Позовите врача…, – он пытался дотянутся рукой до Беса, но тот стоял настолько далеко, что едва слышал его.
Бес дважды протер глаза: нет, все то, что происходит, вполне реально. Он, поборов отвращение и рвотные позывы, подошел ближе и, склонившись над красной раной, дотронулся до нее. На пальцах осталась кровь. Отмахиваясь руками от агонизирующего незнакомца, он старался убедить себя в том, что это «плановая», а точнее совершенно внеплановая галлюцинация.
Бес пару раз пнул еще слегка подергивающееся тело, сплюнул подле него и, тихо смеясь, зашагал домой.
* * *
Газета «Ретайп». Раздел криминальная хроника:
Сегодня в 4:00 am местным постовым, совершавшим обход района Нешби, был найден мертвый человек. На место происшествия немедленно выехала служба криминалистов. По установленным данным можем сообщить: убитый Йозеф Оуэн, двадцати семи лет, банковский служащий. Получена ножевая рана вниз живота. Потерпевший скончался через несколько часов после нанесения раны от потери крови. Так же в районе ребер обнаружено два больших синяка. Полиция может сказать с точностью, что это было убийство, расследованием которого им теперь предстоит заняться.
Бес не знал об этом, он не читал газет. В его памяти полуночный незнакомец навсегда остался лишь видением, которые нередко возникают после выкуривания пары сигарет до отказа забитых чертовой травой.
* * *
Эмми смахнула будильник, противно звеневший над ее ухом, и пустила три дротика в висящую на стене фотографию Удо. Один попал ему в ухо, два других прошили обои.
Эмми уже не злилась на Удо, она его откровенно презирала за глупые социальные игры, которые он затевал два вечера подряд.
Как ей казалось, только дурак может продолжать верить в отношения и слепо поддерживать их, даже видя, что они сошли на нет. Пожалуй, Удо и был этим дураком, которого ей хотелось поскорее добить, как надоедливого комара, если он не начнет вести себя по-иному.
Эмми прекрасно видела и чувствовала, что чем сильнее он нуждался в ней, тем безразличней она относилась к нему, на его нежности она отвечала неизменно понижающей градус холодностью.
Этим утром она дала своему непостоянному сердцу последнюю попытку опомниться от внезапной нелюбви, совершенно не подозревая, что же она будет делать если эта попытка провалится.
Ну, а пока она выходила на пробежку. Было довольно прохладно и ветрено. Редкие лужи были затянуты тонкой пленочкой льда. Зима в этом городе не будет настоящей. Будет мерзко и противно. Будет сыро и ветрено. Будет холодно и одиноко. Все будет черным. Белых зим здесь не бывает.
Эмми бежала по городу всё чаще скользя по земле на гладкой подошве своих кед. «Пора одевать зимнюю резину», – пошутила она над собой и проскользила еще два метра.
Вскоре за ней увязалась собака, на которую Эмми поначалу не обращала никакого внимания, но, когда к ней присоединилась ещё парочка псов, Эмми начала нервничать и на бегу осматривать себя, ища, – не висит ли где на ней огромный кусок сырого мяса, сподвигнувший этих бездомных бедолаг следовать за ней столько кварталов. Не обнаружив его, она резко нырнула в тупик, а собаки продолжали бежать дальше, как будто бы и не заметив ее внезапного отсутствия.
Эмми добежала до дома и, немного отдышавшись, вытащила из кустов бутылку с водой, заранее брошенную туда.
На пороге лежало что-то белое и плоское. Эмми подошла ближе. Письмо. Это было не что иное, как прямоугольный конверт с лежащим в нем письмом. «Какие доблестные у нас почтальоны, – подумала она, – разносить почту в пять утра дорогого стоит».
Она взяла конверт в руки как бы не решаясь взглянуть на него, но потом всё же прочитала имя адресата: Эмми. И больше ничего. Четыре буквы, отпечатанные на машинке.
«Хм, – подумала она снова, – наши почтальоны еще и ясновидящие: находят получателя только по имени».
Она присела на ступени и повертела конверт в руках, затем не спеша вскрыла и извлекла оттуда вчетверо сложенный лист: текст на листе был отпечатан. «Похоже на дешевый шпионский роман. Или кого-то достало, как я пою в ванной…».
Устав размышлять, Эмми принялась за чтение: «Доброго солнца тебе, родная. Кто знает, что будет завтра, какими ливнями смоет нас, где и с кем мы найдем подобие счастья. Но пока я живу, ты со мной, я не отпускаю тебя. Если с тобой что-нибудь случится, – это значит, что Бог забирает к себе сразу двоих. Твой Ангел Хр.».
Эмми почувствовала, как сквозь сердце прошла стрела, наконечник которой был раскален лавой этих отбитых на машинке слов. «Нет, это верно кто-то пошутил. А если это Удо? Но он так не напишет. Обнять, коснуться может, но написать… Нет. А если Кэт? Если опять все заново? Нет. Ей уже пришлось вставлять новый резец. К тому же она знает, что ей не на что рассчитывать. Значит кто-то посторонний, чужой. Но разве он мне теперь «чужой»? Чужой не может так тонко чувствовать меня. Если бы…, – она озлобленно тряхнула головой, – зачем я так… Так безрассудно. Ведь всего лишь пара строк… Пара строк…».
Не слезы, а какая-то влага текла по щекам, как будто смывая с них все прошлое, но в то же самое время давала смутную, призрачную, но все же надежду на что-то иное, оставляя Эмми в безграничном междумирье, гася желание остаться прежней.
«Я подожду, – решила она, вдруг осознав, что ей будет нелегко за завтраком увидеть Удо и посмотреть ему в глаза, – я подожду. Пока, в сущности, я не сделала ничего предосудительного, но ждать (а ведь с этой минуты я жду) посланий от другого, – это для меня уже измена. Возможно, Удо несет в себе иную систему ценностей, отличную от моей, и, может быть, он примет это за сущий пустяк или даже нелепый пустячок, нечаянно вторгшийся в мою жизнь, но я еще не научилась обманывать себя. К тому же у меня теперь есть веский повод обнародовать во всеуслышание мою нелюбовь к нему. Ну, а пока я подожду. Чего? Не стыдно самой перед собой ставить такой вопрос? Я подожду пока горячечный бред этого послания полностью меня оставит. Неправильно, Эмми, давай по-честному. Я подожду следующего письма. Вот так вот, Эмми, вот ты и изменила».
К завтраку Удо не спустился, потому что часом раньше поехал в институт, поборов свою лень. Эмми, взяв кофе и тосты, закрылась в своей комнате. Нужно было хотя бы попытаться составить отчет своих чувств и переживаний. В голове вертелись тексты песен, и она старательно изливала их на бумагу, забыв про остывающий завтрак.
«Опять я бегу от себя, зарываясь в работу, опять вытесняю…». Тут она почувствовала рождение новой, и, как показалось ей, довольно талантливой строчки и поспешила, схватив ручку, отобразить ее на бумаге.
Кэт сидела на кухне в полном одиночестве, ожидая Беса. Захотелось чаю. Она подошла к плите и пустила газ. «Взорвать что ли этот чертов дом вместе со всем сбродом что здесь живет… И не будет ни проблем, ни боли, а будет только огромная дыра в земле и серенькая кучка пепла». Кэт поднесла спичку: синие лепестки схватили ее за пальцы. В кухне запахло паленой плотью.
Бес опаздывал на два часа, и у нее было только два объяснения этому: либо он был настолько пьян что потерял адрес, либо просто испугался. В мыслях она осыпала его самыми нелестными эпитетами, посылала в самые непредвиденные места и желала ему самого разнообразного будущего.
А, на самом деле, Бес проспал. Едва проснувшись и взглянув на часы, он сразу же начал собираться. С брюками пришлось повозиться: на левой штанине была кровь, карман был разодран. Все в его сознании перемешалось, как будто чья-то рука перетасовала его мысли как колоду карт. В спешке он порвал штанину, пытаясь извлечь оттуда адрес и конверт с коком. Пришлось искать новые брюки. Он нашел другие, но они были мятые. Гладить было некогда, поэтому он пошел в мятых. По дороге к остановке он вспомнил что забыл выкурить косяк и, досадуя сам на себя, сел в первый подъехавший автобус. Уехав в другой конец города от того места, к которому стремился, он вышел и поймал машину, показав водителю измятый и заляпанный адрес.
Бес хотя и не носил часов (время принятия дозы он чувствовал и без них), понимал, что если его еще кто-нибудь и ждет, то этот кто-то очень на него зол. Отгоняя от себя эти скорбные мысли, он расплатился с водителем и подошел к заветной двери.
Кэт, уже потерявшая всякую надежду еще раз увидеть Беса, готовила текст оправдательной речи для Эмми и Удо. От нечего делать она решила вынести мусор, чего с ней никогда раньше не случалось. На всякий случай смерив температуру, и, убедившись в том, что она вполне нормальна, Кэт с ведром в руках направилась к двери, открыв которую, увидела переминающегося и переступающего с ноги на ногу Беса.
На двери не было звонка, и он не знал стучать ему или нет; уже пять минут он то подносил руку к дверной коробке, то снова опускал ее в карман штанов. Взглянув на Беса, Кэт едва сдержала улыбку, пытавшуюся украсить ее губы.
– Ну что, сконструировал объяснение своего опоздания или до сих пор мастеришь? Давай я приду через пять минут, и ты соврешь как-нибудь поправдоподобней чем собирался сделать это сейчас, – и она, слегка подвинув его, пошла к мусорным бакам.
– Проходи, – сказала она, вернувшись. – Да проходи же ты, садись куда хочешь.
Бес сел на диван.
– Кофе? – предложила она.
– Нет. Я с утра пил. Две чашки. С сахаром и молоком.
Кэт хмыкнула и продолжала:
– Можешь здесь курить.
«А это уже хорошо», – подумал Бес, но курить не стал. «Не могу же сейчас затянуться травой. Не могу, но хочется».
– Ну и какого чёрта ты опоздал?
– Я сел не на тот автобус.
– А зовут тебя значит Бес?
– Да.
– Меня Кэт, если помнишь. Жаль огорчать, но на Беса ты не тянешь.
– Да? – протянул он удивленно и в то же время слегка разочарованно. – А на кого я тяну?
– Пока ни на кого. Я еще не слышала, как ты играешь. Где твоя гитара?
– У меня ее нет.
– Ладно, все равно кроме тебя больше никто не явился, – соврала Кэт, – поэтому ты в «Лестнице». Гордись этим. С завтрашнего дня перебирайся сюда вместе со своим барахлом. Поиграешь пока на том старье, которое стоит у нас в подвале.
– Хорошо. Спасибо.
Беса сильно раздражал тот факт, что он всегда робел перед незнакомыми ему людьми. Но он еще с детства мечтал играть в группе, и он должен был сейчас успокоиться, взять себя в руки и быть просто Бесом, таким каким есть. Он незаметно вытер вспотевшие ладони о поверхность дивана, стараясь напустить на себя как можно больше развязности.
В гостиную, устав пить холодный кофе и грызть засохший тост, спустилась Эмми, и, не замечая чего бы то ни было на своем пути, быстро прошла на кухню.
– Стоп, красавица! – окликнула ее Кэт. – Ты просила бас? Он перед тобой.
Эмми как-то близоруко начала оглядывать комнату и наконец нашла Беса, который пытался хотя бы на грамм погасить волнение. Лицо ее стало каким-то суровым, точно вылитым из бронзы.
– Я Бес, – он подбежал к ней и оживленно протянул свою огромную ладонь.
«У Удо такие же большие руки, только пальцы чуть длинней, – подумала Эмми и небрежно сунула ему свою ладошку как всегда выпачканную чернилами.
«Что она, руки что ли не моет, – замер в нерешительности Бес, но тут же опомнился и крепко сжал ее ладонь.
– Я Бес, – повторил он, – а как зовут тебя?
– Эмми, – она совсем по-детски улыбнулась, и он от этого еще больше смутился.
В комнате повисла пауза.
– Эмми, ты куришь траву? – Бес, сам не понимая для чего он это сказал, все сильнее сжимал руку Эмми. Она ловко высвободилась и отошла на шаг:
– Я делаю очень много того, о чем потом жалею.
– А я не жалею, потому и спрашиваю. Ведь ты не будешь против, если иногда я буду здесь покуривать?
– Отнюдь… Вот только… А, хотя, неважно, – добавила она. «Может быть он? Его письма? Нет, слишком не уверен в себе, пытается быть наглым, а выглядит смешным. К тому же малость ограничен, чист лицом, глубоких интеллектуальных шрамов не обнаружено. Но обаятелен до слез. И все-таки не он. И, по-моему, уже пора перестать видеть в каждом встречном этого неуловимого ангела. Прошло всего пара часов, а я возвела в ранг святых приблизительно сорок человек, и это только те, которых мне удалось вспомнить. Нужно пойти и поработать над песнями, а не примерять нимб и крылья всей моей кафедре психологии. Хуже некуда, когда сам становишься жертвой своих же собственных догадок, предположений и выдумок. Начинаешь неукоснительно верить высосанным из пальца и притянутым за уши аргументам, удивляясь, какого черта объект «нападок» ведет себя совершенно «неподобающе», и его программа действий разительно отличается от той, которую ты уже успела ему составить. Просто вспомни Германа, а главное, хорошенько припомни почему вы с ним расстались. Перестань писать сценарий своей жизни на десять актов вперед. Просто живи Эмми, просто дыши». Эмми круто повернулась на пятках, прочеканила шаг до двери, и, прежде чем Бес успел опомниться, исчезла за ней.
Бес вспотел. «Ну конечно же, это был самый банальный из всех банальных вопросов в мире. Любой бы задал его при первой встрече: «О, Гебхард, ты куришь траву»? «Ну, конечно, Остин». И глаза у нее сразу стали недобрыми, бездушно оценивающими, как будто я вещь, ну или что она там себе напредставляла. Хотя, что я так разошелся… Я не Фрейд и копаться в ее мыслях и чувствах не собираюсь. Неумелый анализ действий оппонента до добра не доводит. Особенно таких, как я. А ее взгляд – это просто взгляд. В конце концов все мы не ангелы». Но попытка успокоить самого себя не помогла, а, наоборот, усилила тревожность.
– Я что-то не то сказал? – спросил Бес, страдальчески глядя на Кэт, попутно отметив, что этот вопрос был еще глупее предыдущего.
– Не стоит так переживать по пустякам, – сказала Кэт. Просто у Эмми очередной приступ вдохновения, – она толкнула его на диван и сунула в руки пачку сигарет. «Дорогие», – заметил Бес и нерешительно вынул одну из картонного квадратного гробика. Сигарета оказалась на редкость тяжелой, и он закашлялся, смерив Кэт удивленным и в то же самое время восхищенным взглядом. «Интересно, что она пьет».
Кэт подошла к бару и взяла оттуда бутылку, этикетку которой Бес не смог разглядеть из-за слез, проступивших на глазах. Она небрежно плеснула содержимое на два пальца в кофейную кружку с черными подтеками по гладкому ободку и бросила в нее маленький белый шарик круглой таблетки, громко и уверенно размешав все это ложкой.
– Держи, – Кэт протянула Бесу кружку и выжидательно уставилась на него, а точнее на его выразительный рот с подвижными губами, которые все еще не хотели разжиматься и впускать в себя ее целебное снадобье.
– Что это? – спросил Бес, держа кружку в вытянутой руке, точно это была граната или десятипроцентный раствор серной кислоты.
– Это успокоительное. Плюс виски. Спешу заметить, что хороший, поэтому не спеши выливать все это в раковину. Пей и приди, наконец, в себя. Взрывная смесь, но придает уверенности в себе. Иногда даже больше чем требуется.
Хотя кружка и была полна лишь на одну пятую, Бес довольно надолго растянул процесс поглощения, как будто дегустируя напиток, якобы пытаясь уловить необыкновенный букет вкуса своим разбухшим от сигареты языком.
В гостиную, не раздеваясь, вошел Удо. Судя по злой гримасе, застывшей на его пыльном лице, в институте дела обстояли хуже, чем он ожидал. Посмотрев на Беса, он расплылся в лукавой улыбке:
– Боже, мой, Кэт. Неужели ты снова развернула флюгер своих сексуальных предпочтений в другую сторону? Берегись, мальчик, – вызывающе обратился он к Бесу, растрепав его волосы холодной красной рукой, – хорошо следи за ней ночью. Она может сбежать в комнату напротив, и ты опять останешься не удел.
Кэт пропустила эту колкость мимо ушей.
– Я нашла басиста, – сказала она, посмотрев на уже совсем ничего не понимающего Беса, которому хотелось поскорее уйти домой из этого обиталища сумасшедших.
– Замечательно, – рявкнул Удо. – Я просто счастлив.
– Меня зовут Бес.
– Удо.
– Ты, что, японец?
– Немец, – бросил он уже поднимаясь в свою комнату и проклиная родителей за столь «удачно» выбранное имя, благодаря которому девяносто девять человек из ста принимают его за потомка династии Цинь, даже не смотря на его большие голубые глаза, высокий рост и совершенно неазиатскую внешность. – Меня не беспокоить. У меня много важных дел.
– Счастливого пути, – Кэт помахала ему рукой на прощанье. – Ну чего ты так на меня смотришь? – Бес даже вздрогнул от резкости ее тона. – Просто у них сегодня плохое настроение. И вообще: вот твое солнце, вот твое небо, – указала она рукой на лампочку и потолок, – бери и пользуйся. Просто не забывай, что ты в этом мире не один, – теперь она обвела рукой комнату и хлопнула Беса по плечу. Неожиданное дежавю неприятно накатило волной из отдалённых глубин памяти, заставляя оживать видения сегодняшней ночи.
– А у вас что, все по расписанию?
– Нет. Но если нечего делать, мой юный друг, то ты вполне можешь его составить и неукоснительно его же и соблюдать, строго следя за тем, чтобы и другие особи, живущие здесь, не нарушали данного священного постулата. Еще могу возложить на тебя раскладывание вещей в платяном шкафу по цветам и материалам, если ты конечно найдешь его в этом доме. Но до пришивания личных бирочек к ста сорока парам моих носок ты еще не дорос. Не занимайся ерундой, просто будь, это самое главное. Вот и вся простецкая философия. Понял?
– Не вполне, но буду всячески стараться постигнуть тайны этого жилища, – сказал Бес уже в полной мере чувствовавший на себе действие виски и успокоительного.
– И напоследок: на втором этаже траву не кури, – Эмми злится. И не сори, – она необратимый педант. А теперь иди домой и завтра я жду тебя здесь. Всего доброго. И прежде чем Бес успел опомниться она выпроводила его за дверь.
Бес шел домой, прокручивая в сотый раз в голове незнакомое ему слово «педант». К концу своего пути он укрепился в мысли что педант – это новое направление в музыке, к которому ему предстоит примкнуть не позднее завтрашнего дня. «Все же жизнь – это самая непостижимая вещь, которая могла случиться со мной за все время моего существования на этой круглой земле».
* * *
Пути Господни неисповедимы. Те, кто чертит на листах пергамента свою собственные карты просто сбивается с пути немного быстрее тех, кто имеет твердую веру и путеводную звезду на небе. Вот если и есть Бог, то он где-то очень высоко в этом небе и кажется отсюда очень маленьким и ненадежным. Но все же он, наверное, существует, не грубо опошленный церковными догмами и папскими проповедями, а совершенно независимый и неповторяющийся для каждого, кто вдруг решил протянуть ему свою неуверенно подрагивающую руку. И сколько бы впредь дорог не открывалось перед таким человеком он выберет единственно правильный путь, оставляя за собой две пары следов.
Страшно замерзнуть изнутри. Однажды проснуться и понять, что тебе никто не нужен, а главное никому не нужен ты. Слезы – это не признак жалкой слабости, слезы – это соленая памятка того, что ты еще жив и способен чувствовать. Слезы – это признак человечности, которую мы в себе старательно искореняем. Слезы – это вдох. Смерть – выдох…
Время текло, увлекая в этом потоке группу «Лестница», которая постоянно рисковала наткнуться на острые подводные камни, потонув в безызвестности или окончательно сесть на вязкую мель, поставив тем самым точку в своем неравномерном и неоднозначном развитии.
Время… Время с каждым днем сокращало их жизни на двадцать четыре часа, а жизнь Беса на целых двадцать пять, так как он свято верил в наличие этого лишнего часа, по всей видимости путая его с двадцать пятым кадром. Единственное что было намертво выгравировано на корке его головного мозга в секции со скромным названием «память» так это время и дозировка. Пренебрегая одним из этих имен нарицательных, в первом случае он рисковал вновь испытать то «волшебное» ощущение всепобеждающей ломки, коварно преследовавшей его и жестоко наказывающей за отсутствие должного внимания и трепетного отношения к самой себе; во втором случае он мог всего лишь не проснуться. Первое было страшнее.
Он очень боялся, что Эмми или еще кто-нибудь раскусят его, догадавшись о «маленькой» слабости. Тщательно исследовав свою комнату, он решил, что самым подходящим местом для хранения своих тайных удовольствий будет небольшой зазор между кроватью и стеной. Хорошо порывшись на чердаке, он нашел старую грязную мыльницу, тщательно соскреб с неё сомнительный налет и прикрутил к стене под самой сеткой своей двуспальной кровати. Даже если бы кто-нибудь и полез под кровать (ну мало ли что ему там понадобилось) мыльницу не было видно из-за вечного полумрака, неколебимо царящего в этой зоне. В мыльнице он хранил иглы от одноразовых шприцов, конвертики с коком и деньги, которые откладывал именно для этих нужд. Травкой и таблетками он нарочно сорил по всему дому, оставляя их иногда даже в туалете, полагая, что это не наведет никого на какие бы то ни было странные мысли и щекотливые вопросы. И действительно: для всех Бес был просто любителем марихуаны и ЛСД. А, впрочем, никто и не хотел задумываться над тем, чем он занимается, закрывшись на все замки в своей неубранной комнате.
Между ним и Эмми установилась невидимая, как его изощренный тайник, связь на тончайшем чувственном уровне, которого они с Удо не смогли достичь за три с лишним года существования их уже теперь не существующих для Эмми отношений. Очень часто они вдвоем сидели на крыше их дома, кутаясь в дырявые свитера и изношенные куртки, распивая на двоих прохладный вермут, оставляющий на губах липкие отпечатки своего существования.
Бес клал свою горячую голову к ней на колени и делился поистине детскими мечтами, в то время как она нежно гладила его по голове, молча пририсовывая белые крылья к его плотной спине.
– У тебя будут красивые дети, – он глубже зарылся в ее ладони.
– Ты думаешь? Я хочу мальчика. Назову его Дени, буду читать сказки и гонять с ним мяч на заднем дворе.
Хм, – он горько усмехнулся сам себе, – теперь у детей другие игры. Мой сын будет в семь лет измерять линейкой высоту вздыбленного члена, таращась на акселераток из PLAYBOY, а дочь просто закачает в себя тонну силикона и отбелит по-лошадиному выпирающие зубы, стянутые платиновыми брекетами. Возможно, она втиснет свое измученное тело в кофточку на пять размеров меньше чем одежда Дюймовочки, а по утрам я буду дико кричать от ужаса, наткнувшись на её ненакрашенный вариант, оккупировавший ванную комнату. Любимыми их книгами будут дырявые комиксы с тупыми ремарками и заляпанное жирными пятнами меню из ближайшего фаст фуда. Ну а меня они сплавят в пропахший мочой, вазелином и поташем дом престарелых. Они будут приезжать раз в два года и привозить в качестве откупа кучу разных ненужных мне более вещей, которые мне нельзя будет съесть из-за полного (или частичного, я еще не заглядывал в будущее) отсутствия зубов и совершенно незачем одевать, потому как дальше лавочки у крыльца этой богадельни нас никто не будет выпускать. Когда я умру они забудут прийти на мои похороны, но я не обижусь: мне будет уже все равно.
После этой длинной пессимистичной тирады Бес встал на ноги и прошелся по крыше.
– Значит ты не хочешь иметь детей? – Эмми была немного озадачена таким монологом. Бес всегда казался ей глупеньким и несмышленым, и сейчас она была вынуждена признать, что ошибалась на его счет.
Бес перестал мелькать перед ее глазами и присел немного подальше.
– Я не хочу, а точнее не желаю выпускать их в этот мир. В нем невозможно научиться ни хорошему, ни плохому. Там всем на все наплевать.
– Но мы с тобой живем именно в этом, а не в каком-то другом мире.
– Мы осознали, что нужно жить иначе, мы нашли в себе силы.
– А они не найдут?
– Не знаю, но…, – Бес силился, но все же не смог подобрать нужных слов. За него договорила Эмми:
– Не будем думать и решать за них, за одно это они скажут нам спасибо. К тому же я еще не вполне готова к рождению ребенка.
– Жаль…
Утром на них выпадала роса, небрежно растворяя придуманный мир до хрупкого основания для того, чтобы потом начать вымышлять заново так и не успевающий окрепнуть за ночь образ.
Удо относился к Бесу с недоверием, а Бес считал его самовлюбленным идиотом, которому наставляют рога (он был просто уверен, что у Эмми кто-то есть), а он гордо несет их сквозь толпу, насмехающуюся над ним.
Кэт получила еще одного надежного союзника в холодной войне против Удо и надеялась, а, пожалуй, даже молилась о том, что скоро он подыщет себе другую группу и будет вполне счастлив вне стен этого дома.
Время… Оно все больше отдаляло Эмми и Удо друг от друга. Каждое письмо порождало волну отчуждения и антипатии к находившемуся рядом с ней человеку.
Удо постучал, но не дождавшись приглашения войти, аккуратно заглянул в комнату. Эмми лежала на диване и курила, читая книгу. Он заметил, что увлечена она вовсе не повествованием, а какой-то распечаткой, торчавшей ровно на половину из кладезей знаний. Увидев его, она резко смяла листок, который еще секунду назад разглядывала с нескрываемым упоением, и отбросила его за спину.
– Нет, это не лирика, а помойная яма глупейших фраз! – сказала она настолько неестественно, что сама испугалась своих слов.
– Что, настолько плохо? – подыграл ей Удо, но Эмми не купилась на эту уловку, понимая, что чем быстрее она закончит еще практически не начавшийся разговор, тем лучше будет для них двоих. Она выпустила серое колечко дыма, облизав его языком.
– Ну кое-что можно поправить. Я сейчас этим займусь, а ты займись чем-нибудь другим и главное не здесь. Я не люблю, когда мне заглядывают через плечо.
– Погоди. Я хочу с тобой поговорить.
– Не стоит.
– Эмми, ты избегаешь меня.
– Вовсе нет.
– Вовсе да. Мы так часто видимся, что уже начинаю забывать твоё лицо. Это…
– Да, это мое лицо, – она протянула ему свою фотографию, – теперь ты меня не забудешь, я в этом уверена.
Оставив фотографию на диване, он молча вышел, прикрыв за собой дверь. «Значит тайны… Придется их разгадать. Ты сама вынуждаешь меня быть таким, каким я даже сам себе становлюсь противен. Да…».
* * *
Кэт присела на краешек незастеленной кровати и открыла ящик стола, достав оттуда бритвенное лезвие. Она долго любовалась им, аккуратно поворачивая пальцами, подставляя металл под лучи хитрого солнца, которые пытались коснуться ее сквозь стекло. Она провела острием по руке. Остался лишь едва заметный розовый след. «Не эстетично…».
Она еще немного подержала лезвие, нагревая его в густо исчерченных линиями ладонях, затем бросила его обратно в ящик и пошла за пластырем. Заклеив длинный порез, Кэт одела свитер, натянув рукава до самых кончиков пальцев. Посидев на подоконнике, попыталась выжать из себя рифму. Безрезультатно. Снова подошла к столу и с шумом безжалостно дернула и без того слишком легко поддающийся ящик, который вылетел из своей просторной ячейки, сорвав не рассчитанные для таких забав крепежи. Равнодушно наступая на разлетевшиеся вещи, она нагнулась и подняла с пола пластинку лезвия, разломала ее на две равные зазубренные половинки и спрятала в нагрудный карман.
В гостиной сидела только Эмми, но она увлеченно что-то писала, зачеркивала, сминала и рвала, поэтому Кэт, как бы смешно это не прозвучало, решила в целях САМОСОХРАНЕНИЯ не мешать ей.
От внезапно налетевшего сквозняка листы, лежавшие на столе, вспорхнули, как стая птиц, и закружились по комнате. Эмми вскочила со стула и начала их ловить, подпрыгивая, как перекачанный мяч.
– Прости, Эмми, на улице сильный ветер, – Бес, к большой радости Эмми, наконец закрыл входную дверь и упал на диван рядом с ней.
Поймав все листы, Эмми вновь устроилась за столом и принялась разбирать их, периодически бросая укоризненные взгляды в сторону Беса, который, не замечая этого, пытался прочитать ее записи.
– Ты мне мешаешь, – не выдержала она, сердито сверкнув глазами из-под сведенной линии сросшихся бровей. Бес издал тихий смешок.
– Ты такая хмурая.
Она рассеянно осмотрелась и вновь утонула в своих записях, кровно обидевшись на Беса и решив устроить ему зловещую вендетту, как только освободится от стопки как-то слишком быстро размножающихся листов. Кончик ее носа был вымазан чернилами. Бес улыбнулся и попробовал взять это препятствие быстрым штурмом.
– Эмми, хочешь повеселиться?
– Не преставай к ней, Бес, она пишет, – сказала Кэт в душе уже соболезнуя Бесу, так как он совершенно не догадывался какой вулкан собирался разбудить. «Обидно, мне даже нечего надеть на похороны. Зря я ему сразу не сказала, что она не терпит, когда ей мешают. А, может быть, так даже и лучше…».
– Расслабься, Кэт, к тому же я знаю как, – и он многозначительно обвел глазами комнату и вытащил из кармана косяки и целлофановый пакетик с белыми таблеткам, затем взял один косяк, протянул его сквозь пальцы левой руки и поднес к носу, вдохнув сладковатый аромат.
– Высший сорт, – сказал он, смакуя каждую букву. – А теперь предлагаю отбросить все ненужные принципы, помолиться и принести жертву Богу Удовольствия.
С этими словами он встал и, зажав косяк между зубов, поджег его, высекая огонь из металлического корпуса зажигалки.
– Ну, кто из вас что предпочитает? – он протянул Эмми две руки. Она презрительно оттолкнула ладонь, на которой лежали таблетки, и взяла тоненький косяк. Кэт предпочла и то, и другое, потому что абсолютно не понимала сути выбора между двумя гранями дозволенного.
Она была наказана первая: ее моментально, словно невидимой рукой, прижало к полу, встать с которого уже не представлялось возможным. Внизу затылка что-то отчетливо пульсировало, становясь все громче и сильней с каждым последующим ударом. Желудок словно уменьшился до размеров спичечного коробка, а сердце заполнило все свободное пространство, сокращаясь огромной прорезиненной мышцей. Вся комната окрасилась в девственно-белый цвет, и только одно заметное красное пятно издевательски назойливо маячило перед ее мгновенно уставшими от линз глазами. Присмотревшись, она обнаружила что это было ничто иное, как откормленная красная белка.
– Эмми, иди сюда, – страдальчески протянула Кэт и упала на спину, отчего красная белка переместилась на потолок и теперь совершенно по-хозяйски расхаживала по нему, царапая и слизывая побелку, громко чавкая и причмокивая. Макушка ее подвижной, точно укрепленной на шарнирах, головы с маленькими бусинками пытливых черных глаз была щедро смазана бриолином, из-за чего некогда гладкая, построенная волосок к волоску шерстка напоминала вязанку мокрого липкого хвороста, которая безобразно растрепалась, пока ее не очень аккуратно перетаскивали в другое место. Цепкие передние лапки с острыми коготками, которые при желании появлялись на свет, как лезвие складного ножа словно невидимую картотеку непрерывно перебирали отравленный едким дымом воздух. Задние же периодически поднимались к пушистому уху, в котором торчал серебряный гвоздик серьги, и нервными, отчетливо намекающими на плохую координацию, движениями почесывали крохотный орган острого слуха. На спине, чуть повыше изогнутого гибким вопросом хвоста, было выбрито USA. Кожица, оказавшаяся на месте столь безжалостно удаленной растительности, была нежно розовой. Кое-где виднелись порезы от бритвы, окруженные легким покраснением. Животное выглядело слишком вызывающе, даже для натуральной красной белки, поэтому Кэт просто показала ей уже плохо функционирующий язык и продолжала звать Эмми, которая была занята более важным делом.
Эмми и Бес пытались изобразить двух веселых опоссумов, но оба совершенно не представляли, как выглядит это животное и животное ли это вообще. Кэт не унималась, все повышая и без того уже сорванный голос:
– Ну же, Эмми, подойди. Ближе. Это очень важно. Никто не должен этого слышать кроме тебя, – Кэт была похожа на огромного жука, который упал на спину и не мог перевернуться, беспомощно, но в то же время до боли забавно дергая многочисленными ножками. Поколебавшись с минуту, Эмми нерешительно, но все же подошла, заметно хромая на правую ногу. Ей казалось, что она ветеран войны, а вместо ноги у нее деревянный протез. Потом она смекнула, что уж лучше быть пиратом, эта роль ей подходила куда больше. А потом она вспомнила голубя, но эта мысль стремительно была перекрыта какой-то иной, и Эмми была похожа на сумасшедшего жонглера, у которого каждую долю секунды в руке появляется новый шарик, немедленно исчезающий в незавершенной бесконечности. Когда она добралась до скулящей, как подстреленная волчица, Кэт, ей казалось, что она только слезла с очень быстрой карусели, просто-напросто устав от этого круговорота мыслей, которые никак не желали останавливаться. Ее начало мутить.
– Эмми, какого цвета у меня глаза?
– А никакого, – Эмми нахально улыбнулась не сколько Кэт, сколько внезапно отступившему приступу тошноты. – У тебя вообще нет глаз, ни одного, можешь проверить.
– Нет?!!! – Кэт начала нервно водить руками по лицу и, кажется, действительно ничего там не находила.
– По-моему, их унесла эта коварная белка, – и она пьяно ткнула пальцем в то место, где, по ее мнению, должна была находиться воровка.
– Красная? – заорала Кэт, тут же переместив модное животное в совершенно противоположный угол комнаты.
– Нет, как ты только могла о ней такое подумать, – Эмми обидчиво выгнула сросшиеся у самой переносицы брови и надула губы, сделав их похожими на две половинки пончика с которого уже успели слизать всю пудру. – Зеленая. Это ее лап дело, – она прищурила глаза и стала похожа на борца сумо, который запихнул себе в рот огромный пончик. – Посмотри, она стоит возле северной стены и грызет твой глаз. Она, верно, думает, что это орех, но ведь ты не будешь против, если она немного с ним поразвлекается, она же не знала, что он твой.
Бес сунул голову под диван и начал напевать какой-то, видно, только что придуманный им самим, мотив. Кэт нацепила на голову ведерко для колки льда, не найдя ничего более подходящего на роль каски, и пыталась поймать белку, чтобы отнять свой глаз и вставить в него линзу с приставшими к ней ворсинками от ковра вперемешку с волосами, упавшими со светлых голов четырех обитателей дома, случайно найденную на заваленном хламом полу. Через некоторое время, отбросив прочь силовые приемы, она решила пойти по пути «у-вэй», – то есть рассмотреть эту ужасно трудноразрешимую проблему с точки зрения дипломатии, и просто-напросто подкупить неуловимую белку бутылкой мартини. Маневр удался, правда, как выяснилось после, подкупить удалось вовсе не белку, а улыбающегося, как голливудская порнозвезда весьма низкого пошива, Беса.
Эмми случайно налетела на журнальный столик, играя в большой теннис к кем-то очень ловким и красивым, являющимся не кем иным, как своим же собственным отражением в тяжелом зеркале, небрежно упакованным в грубую деревянную раму. Столик разлетелся вдребезги, но этого никто не заметил. Тем не менее, Эмми поспешила сменить место дислокации и бесшумно ретировалась на кухню, уронив по дороге всего лишь два стула, один из которых накрыл подкупленного и ничуть об этом не жалеющего Беса.
Эмми в два весьма неудачных прыжка оказалась у холодильника. Поводив рукой по белой двери, она открыла ее и вытащила оттуда все: от плавленых сырков, после которых мутило приблизительно добрую половину дня, до замороженного мяса, которое невесть каким загадочным путем попало туда и было теперь обречено на безызвестную смерть, потому как никто в этом доме не умел приготовить даже неинтересную глазунью из двух яиц, не говоря уже о каких-то изысканных блюдах наподобие размороженного и прожаренного бифштекса. Разложив все продукты вокруг себя, она села на пол и начала любоваться своим творением. Устав заниматься этим, она поползла обратно в гостиную.
Удо вернулся из супермаркета и долго не мог понять туда ли он попал, но как только перед ним появился совершенно голый Бес, одетый в один дырявый носок, в голове у него всплыло слово: МАРИХУАНА.
Он взглянул на Эмми, которая, тупо улыбаясь, отрезала ржавыми садовыми ножницами уже второй, а потому, к сожалению, последний рукав от своего любимого свитера. Его заметно передернуло, но заметить это было некому. «Да-да, конечно. Ты опять занята не мной». Он встал за ее спиной и внимательно, но отрешенно, наблюдал за последними минутами жизни ни в чем неповинного свитера. «А с утра я буду должен принести ей кофе в постель (хотя она скорее предпочтет этому изыску три литра воды) и пачку аспирина, расставив все это на подносе с лукавым Чеширским котом, иначе она одарит меня таким взглядом, что я даже не успею отползти в надежное укрытие, не лишившись какой-либо части своего, и без того покалеченного этими позерскими взглядами, организма. Нет, уж лучше я совершу краткий экскурс по твоей комнате, особенно тщательно исследовав так называемую «помойную лирику», от которой ты млеешь, как я полагаю, уже очень долгое время. Нужно быть честной, Эмми, ведь ты очень не любишь, когда тебе лгут».
К счастью, дверь в ее комнату не была заперта, поэтому он без труда проник в запретные, исключительно для него, пределы. Он не стал притворять дверь, потому как понимал, что даже если этот святой триумвират, громящий гостиную, все же и решится забраться наверх, заподозрить какой-либо подвох или нечестность с его стороны им будет просто невозможно из-за неадекватного состояния, в котором им предстояло пребывать еще очень долгое время. Удо даже не подготовил оправдания на случай, если кто-нибудь из них все же заглянет и увидит в комнате Эмми его собственной персоной.
Не зная с чего начать, он просто открыл окно и сразу же его закрыл, так как тяжелый мокрый снег моментально засыпал широкий подоконник. Смахнув ладонью еще нерастаявшие снежинки вперемешку с холодными капельками на пол, он тяжело опустился на ее кровать. «Как противно».
Под матрасом ничего не было. «И куда же ты все спрятала? Неужели в стол? Если да, то такого банального решения я от тебя не ожидал». Он открыл верхний ящик стола. Взгляд упал на большую коленкоровую тетрадь. «Дневник», – прочитал он на первой заглавной странице. «Еще одно маленькое разочарование. Ну, я надеюсь, что хотя бы крестиком ты не вышиваешь».
Удо начал читать первую запись то собирая морщины на узком лбу, то растягивая обветренные губы в улыбке.
«День первый», – уж не задумала ли ты написать Библию, усмехнулся он. Итак.
«День первый.
Здравствуй, бумага. Совершенно не могу понять для чего я все это пишу, – просто под рукой оказалась чистая тетрадь. Я знаю, – меня ненадолго хватит: через пару дней я заброшу все это, так что не бойся, я не долго буду раздражать твою ровную поверхность звуками, превращенными изгибом руки в замысловатую вязь неразборчивого почерка».
«День второй.
Мне страшно. Я тоже имею право на страх».
«Ха-ха! Значит и ты, мое нежное дитя, сомневаешься в каждом своем шаге и измеряешь его до дюйма. Движения твоего тела и порывы твоей души никогда не пересекутся. Как тяжело разгадать тебя, ухватившись за едва заметную ниточку твоих странных мыслей».
Он поднял голову и посмотрел на плоскость потолка. Затем вновь принялся читать, едва вникая в смысл написанного.
«Криминал. Ей нужно работать в разведке. Это нечитаемо».
«День черт знает какой.
Я влипла. Полюбить того, кого не видела ни разу… Абсурд… Но тем не менее…».
Записей было немного. Понятно, что приумножалось их число лишь от случая к случаю, но для Удо и этого количества было куда более чем достаточно.
«Это кого же ты полюбила? Уж не невидимку ли»?
Внезапно он увидел целую стопку писем, которую почему-то не заметил изначально. Единственными символами, напечатанными на конверте, были четыре больших буквы, которые складывались в знакомое имя: Эмми.
«Что-то я не припомню, чтобы к нам заходил почтальон. Или он приходит только к избранным?»
Он читал и с каждой новой строчкой приходил в звериное бешенство. Последнее прочитанное письмо он смял, но сразу опомнился, – разгладил лист и сам прекрасно понимал, что это никуда не годится. Едва не выбивая клавиши из своих ячеек, он быстро набрал аналогичный текст на своем ноутбуке, распечатал, вложил в его в конверт и пошл обратно в комнату Эмми. С великим трудом заставил себя положить все это на место так же аккуратно, как оно до него лежало.
Всю ночь он не спал, ворочался и терзал одеяло, включал настольную лампу и до слепоты в глазах смотрел на ее электрическое сияние. Утром он слышал, как Эмми встала на пробежку. Ему захотелось выйти из спальни, схватить ее за руку и сказать, что больше ей ни к чему скрывать эту публицистическую связь с извращенцем графоманом.
Он проглотил слюну и налил в тонкий длинный стакан для коктейля немного воды из изящного стеклянного графина. Цедя пресную воду сквозь ровные мелкие, как у животного, зубы, он размышлял что ему делать дальше.
Рано утром он пошел в магазин и долго выбирал миниатюрные камеры наблюдения пока к нему не подошел долговязый консультант в очках с прямоугольными стеклами, отражающими свет, из-за чего было невозможно рассмотреть его глаза. Шея его (настолько тонкая, что он сам боялся повернуть ею) едва удерживала классически остриженную голову этого поставленного угождать и раздавать бесплатные советы юнца. Все его движения были ломанными. Казалось, он вовсе не намеривался их совершать, и тело само по себе решало, что ему сделать. Издалека он напоминал циркуль, шагающий от одного края листа до другого.
– Могу я вам чем-то помочь? – он сдвинул очки немного вниз по узкой переносице и с неимоверной учтивостью во взгляде посмотрел на мрачного Удо. Казалось, очки он носил исключительно для солидности.
– К моему великому сожалению, помочь вы мне ничем не можете, но вы вполне можете продать мне какую-либо из ваших, я надеюсь, хороших и достаточно эффективных камер, – Удо отвернулся от продавца и вновь погрузился в созерцание этих занимательных для него вещиц.
Юноша изящно поправил очки, держась за оправу ухоженными руками, и повернулся к Удо в пол – оборота, чтобы тот мог видеть только его профиль с надменно искривившимися губами.
– Могу я узнать для какой цели вы желаете приобрести данное оборудование? – сказал он более холодным и даже несколько официальным тоном, давая понять Удо, что ему глубоко наплевать на такого невежду как он, и ему приходится возиться с ним только из обыкновенной человеческой вежливости и высокой процентной ставки от каждой проданной им вещи.
– По-моему, вы пытаетесь узнать то, что вас совершенно не касается. Какая вам разница для чего мне нужна эта камера?
Продавец вернулся за свой прилавок, проклиная про себя этого идиота, который с самого утра в конец испортил ему настроение.
– Меня не интересует ваша личная жизнь. Мне вполне достаточно своей собственной. Зная для чего вы ее приобретаете, я могу подобрать наиболее подходящий вариант именно для ваших целей какими бы необычными они не были.
– Мне все равно, я беру вот эту. Две штуки, – он слепо ткнул пальцем в сверкающее без единого пятнышка стекло витрины, пронзительно зазвеневшее. На нем остался большой отпечаток пальца.
Продавец недовольно покосился на стекло и, небрежно упаковывая камеры и маленький экран отображения, вспоминал куда он вчера убрал тряпку и средство для мытья стекол.
Пожалуйста, – протянул он Удо его покупку, которую тот молча запихнул в рюкзак, свисающий до самых пяток. – Заходите еще…
– Непременно.
Теперь он чувствовал себя намного лучше: нужно было только дождаться пока дом останется пустым и приделать эти ЦРУшные изделия, поломавшие и оборвавшие уже не одну жизнь.
Укрепить камеру у входа не составило большого труда: он просто сунул ее в фонарик, освещающий парадную дверь, направив не моргающий глаз объектива на дорожку, протянувшуюся от деревянного порога, плавно перетекающего в ступени до асфальта, укрывшего, как серое одеяло, улицу с бесконечно снующими машинами.
Со второй камерой пришлось повозиться. Удо решил приладить ее с внешней стороны окна над самым карнизом на случай, если этот поэтичный деградант решит воспользоваться окном.
Перерыв гараж и чердак, он все же отыскал довольно длинную и довольно старую приставную лестницу. После скептического осмотра он заключил, что если не будет делать слишком резких движений, то не упадет вниз.
Аккуратно и неуверенно наступая на трещащие и слегка прогибающиеся под его весом ступени, он достиг уровня карниза. Проделав в нем две дырки, он с помощью винтов и мотка проволоки для большей надежности, пыхтя от усилий, крепил камеру и удерживал спорное равновесие, балансируя на лестнице, готовой в любую минуту развалиться напополам.
Кусок проволоки впился ему под ноготь. Удо дернулся от боли и понесся навстречу твердой, по утрам уже укрытой снегом, земле. Тряся ничего не понимающей головой, он увидел смутные очертания непонятно как здесь оказавшейся клумбы, об которую больно ушиб руку. Вновь приставив уцелевшую лестницу к стене дома, он полез завершать начатое. Над камерой он сделал некое подобие навеса, чтобы дождь и снег не повредили это чудное изобретение, которое само призвано вредить тому, за кем подсматривает своим безжизненным механизированным оком.
Провода пришлось провести очень незаметно. Закончив с установкой, он включил пульт и посмотрел на экран: все было просто идеально.
Оставалось только одно: посвящать каждую секунду своего свободного времени слежению за непрошенным гостем и надеяться, что ему повезет увидеть его на экране. Конечно же Удо не мог двадцать четыре часа смотреть в монитор экрана, но он подумал, что самым подходящим временем для этого маньяка является утро, – когда все мы еще спим, а Эмми выходит на пробежку. Поэтому утру он уделял особое внимание и ни разу не проспал. Другие отрезки времени, к сожалению, были просматриваемы не столь тщательно, но его упорству можно было позавидовать.
* * *
Как в группе появился Винт не помнил никто, в том числе и он сам. Возможно, влиться в эту четверку, превратив ее в громко звучащий квинтет, ему удалось после очередной или, как чаще бывает, внеочередной пьянки в чью-либо честь или стихийного обкуривания, опять-таки не без повода. В «Лестнице» вообще была замечательная традиция – заворачивать в фантик красивого повода неконтролируемые оргии бьющих по струнам музыкантов и всех тех, кого они сумели с собой привести в этот дом, предпочитающий снос, взамен этим «праздникам».
Возможно, что после какого-либо «повода» Винт задержался у них на пару дней, а потом и вовсе решил никуда не уходить, перетащив в гараж свои барабаны.
Две идеально отполированные палочки являлись естественным биологическим продолжением его рук, поэтому с ними он не расставался никогда. У него были длинные волосы, которые он туго перетягивал резинкой. Его опознавательным знаком была черная футболка с аббревиатурой NASA, застиранная и растянувшаяся так, что рукава, закрывавшие раньше только половину предплечий, доползли до самых локтей.
Винт почти никогда не разговаривал, предпочитая слушать свои собственные ритмы, отбиваемые в любом положении и любой обстановке.
Было раннее утро, но все сидели в столовой и завтракали: у каждого на сегодня был намечен план действий, которые не следовало оставлять на потом. Бес со скучающим видом ковырял вилкой невкусную сосиску и, отправляя в рот четвертую таблетку, которая должна была остановить его головную боль, думал о том, что кока осталось только на пару дней, и придется снова просить и умолять Братишку или Прыгуна ссудить ему пару граммов, дабы он не умер от прошедшего мимо наслаждения.
Винт отбивал свое соло сначала по крышке стола, затем задействовал тарелки, нечаянно уронив тарелку Беса на пол. Бес схватил его за горло футболки, оттянув его еще на пару сантиметров:
– Иди в подвал и шуми там! Это не студия, а сейчас не репетиция! Не терпится поиграть – опустись на пару метров вниз! – он разжал пальцы, и Винт плавно осел на стуле, невозмутимо поправляя свое одеяние.
Эмми, Кэт и Удо удивленно уставились сначала на Беса потом на Винта:
– А ты кто? Что ты тут делаешь? – спросили они хором.
Винт улыбался как человек с синдромом Дауна и молчал, а Бес вконец вышел из себя:
– Я думал это ваш, то есть наш ударник! Вы тут сами по себе, а он вообще всегда молчит, – он отбросил вилку на стол. – Как в кукольный домик попал: красиво, только мертво. Если я пропаду на время, вы и не заметите что меня с вами нет!
Бес, едва не плача, выбежал вон, а остальные, ничего не понимая, смотрели на Винта.
– Ладно, – сказала Эмми, практически не раздумывая, понимая, что он все равно останется, независимо от ее решения, – играй в нашей группе, если хочешь… А Бес какой-то нервный, вам не кажется?
Кэт пожала плечами:
– Зима скоро…
– Ну если только, – Эмми бросила пару тетрадей в рюкзак и помчалась в институт.
Винт был в группе чисто декоративной вещью вроде вазы или настенных часов с кукушкой. На большее он и не претендовал. Все что от него требовалось – это чисто отбивать ритм; вести с ним патетические беседы по ночам никто не собирался.
Подвал он покидал редко только для того, чтобы навестить туалет и принять ванну. Три раза в день Эмми приносила завтрак, обед и ужин, оставляя их возле входа, забирая потом пустые тарелки.
Каким-то образом Бес нашел с ним «общий» язык: часами многозначительно изливал душу, когда на него нападала серая бесцветная меланхолия, но все же Винт тупо молчал, не слышал ни единого слова, равнодушно пропуская все мимо ушей, занятый только полировкой своих и без того гладких, как поверхность воды, палочек.
Время… Время размывало их, удаляя все дальше друг о друга, заставляя замыкаться в себе, ожидать чего-то худшего после стольких дней аморфного бездействия, когда их чувство страха и желание сострадать притупились, как наконечники забытых на поле боя стрел.
Поступки, продиктованные отнюдь не логикой, а бессознательными импульсами, незнающими слова «нет», неминуемо приводят к результатам трагичным по своей глубокой сути, которая, к сожалению, не поддается столь желанному редактированию. Вот только что есть добро? Если любой, пусть даже самый мелкий и ничтожный бескорыстный поступок одного индивида масса отвергает, изничтожая на корню, узрев в нем жульнический подвох. Если люди не желают добра, то что же можно им преподнести взамен? Может быть только свою собственную голову на серебряном подносе, да конвульсивно дергающееся тело, лежащее у чьих-то ног. Если люди не желают добра – пускай упиваются злом. Оно все равно одержит над ними верх, равнодушно усмехнувшись на пустой, теперь уже ничейной земле, за которую проливали ненужную кровь эти двуногие мерзавцы, увешанные блестящими побрякушками, такими же фальшивыми как они сами.
Время… Время мудрей всех истин, оно бесконечно.
* * *
Удо превратился в бесполую тень Эмми, не покидавшую ее ни на минуту. Когда она бегала по утрам, он тайком бежал чуть позади, вовремя прячась, если она вдруг поворачивала голову.
Незаметно провожал ее в институт, встречал и вел домой, хороня свою собственную жизнь.
От постоянной фиксации на маленьком мерцающем мониторе красные глаза слезились.
В какой-то момент он решил, что просто надышался в тот день дыма марихуаны и эти письма ему привиделись. Удо сказал сам себе, что если в течение недели он так и не встретит этого анонима, то прекращает играть в комиссара Мегрэ и возвращается к нормальной жизни, обозначив этот порыв безумия лишь кошмарным сном.
Удо одел на голову капюшон своей толстовки и приготовился открыть дверь, чтобы оббежать полгорода и снова убедиться в том, что он полный идиот, который следит за своей девушкой и пытается поймать несуществующего человека.
Вдруг что-то словно оборвалось у него внутри: через стекло в двери он увидел стремительно приближающегося человека, воровато оглядывавшегося по сторонам. Человек достал из кармана белый конверт и положил его на ступени, придавив камнем, чтобы он не улетел, сорванный со своего места зимним ветром.
В это самое время Удо резко открыл дверь: удар пришелся прямо по голове. Незнакомец скатился со ступеней и, лежа на снегу, осторожно коснулся рассеченной брови, тут же одернув руку и скривившись от боли.
Едва он успел встать, Удо, рыча, как оборотень, накинулся на него и снова повалил на землю. Наносился удар за ударом, а незнакомец даже не пытался защититься, только поглядывал на ступени, отыскивая на них конверт.
Не ощутив никакого отпора, Удо, фыркая, поднялся на ноги:
– Она моя, понял?!
– Она решит сама, – незнакомец сплюнул кровью на снег, поводил челюстью и, убедившись, что она не сломана, приложил серую перчатку к кровоточащему рту, с силой надавив на нее, чтобы остановить кровь.
– Ничего она не решит. Ты больше сюда не придешь, – он задыхался от собственного гнева и жадно глотал снег, размазывая его по пылающим щекам. – А если придешь, я убью тебя.
– Она тебя не любит.
– А кого она любит, тебя? Ты даже не нашел в себе смелости открыто признаться ей в этом. Или боишься вежливого отказа?
– У меня на то свои причины.
– А у меня свои на то, чтобы убить тебя. Самое сокровенное должно совершаться само по себе, а не по чьей-то настырной прихоти. Никогда больше здесь не появляйся. Это мое последнее слово. Дальше будут действия.
Удо тщательно забросал натекшую кровь свежим снегом, разрыхлив его ногой, и исчез за входной дверью, зло наблюдая, как незнакомец медленно уходил вдаль, едва касаясь пальцами брови.
«Теперь ты моя, Эмми, а письма можешь сжечь».
* * *
Эмми нарочно поступила на вечернее отделение, чтобы после занятий гулять по темному городу осенью и зимой, по сумеречному – весной и летом.
Ее тянуло в незнакомые переулки, ей хотелось остаться незамеченной, плавно двигаясь по теням чужих улиц, наступая им на хвосты, дергая за нити асфальтовых языков, представляя, что это маленькие марионетки в ее руках.
Случайные прохожие, выплывавшие из тьмы, раздражали ее, заставляя испуганно нырять вправо и влево, скрываясь в подворотнях, останавливая бешенный, разрывающий грудную клетку стук сердца, пойманного врасплох в момент самой обворожительной мысли. Мысли о том, до кого невозможно дотянуться даже потоком желаний, выпущенных бездной вечно молчащего рта в одинокое облако тумана.
Страсть к подъездам и крышам, бег ожидания, сладкое замирание вдохов, – ради единого ничтожного мгновения незаметной вспышки и жалкого умирания бесподобно изогнутых каменных фонарей, потушенных чьей-то рукой.
И все это – лишь несуществующая иллюзия вечного блаженства, пока щеку не обожжет первый луч солнца, когда уже не скрыться от людей, бегущих в никуда, оставляющих путанные в спешке следы, которые придется разгадывать ночью.
Где-то там, в просторной плоскости ничего не знающего о тебе перехода из одного сна в другой, всегда оставаясь поперек этой прозрачной материи, сотканной из души и чувств, придется поставить себя выше всех прямоходящих, которым, увы, не дано летать.
И новый день колючей проволокой украсит шею, опускаясь ниже, пряча тело в кокон, заставляя потерять свой облик и поскорей, пока никто из них не заметил твоей слабости, надеть, набросить гипсовую маску, чтобы бездушно отыграть этот день на публике. А потом с нетерпением дожидаться первого отблеска звезды, чтобы снять, скинуть, раздавить несуществующую явь, которой Эмми была для всех.
Сегодня ей хотелось тепла, тянуло домой. Прессуя белый снег, усиливалась прихоть опуститься в теплую ванну, сделать глоток горячего чая и зашелестеть, едва касаясь строк глазами, только сегодня приобретенными эссе Ялома.
Она мутным, от недавно выкуренной травы, взглядом следила за направлением своего пути. Мозг заволокло пеленой равнодушия к происходящему. Так что, если бы перед Эмми вновь возникла красная белка, она просто пожала ей лапу.
До ее уха долетел плач, похожий на детский. «Этого мне только не хватало, – подумала Эмми, – посреди ночи успокаивать чужого ребенка. Хотя, быть может, у меня слуховая галлюцинация, я ведь уже порядком накурилась». Тем не менее Эмми решила заговорить:
– Здравствуйте, голоса. Скоро вы станете реальнее, чем мое отражение в зеркале.
Она прислушалась, но похоже никто и не думал ей отвечать, или этот кто-то просто не ожидал такого странного вопроса, или он просто не существовал. Эмми повторила попытку:
– Не нужно плакать, ребенок, я могу сотворить для тебя чудо, – Эмми почувствовала, что контролировать свою речь ей становится все тяжелее. Ее слова выходили кривыми и ломаными, как осколки стекол. Ей было тяжело сосредоточиться. «Я сейчас сделаю какую-нибудь глупость, если уже не сделала».
Эмми разглядела между двух фонарей скамейку, а на ней сидело, запрятав в высоко поднятый воротник шею и часть короткостриженой головы, чье-то тело.
– Я не ребенок, – пробормотало тело, всхлипывая. Вдруг оно встало со скамейки, и Эмми увидела перед собой довольно милую, но очень заплаканную девушку. Подошла к ней ближе:
– Чуда у меня с собой тоже нет, я не волшебник, я будущий психотерапевт, – сказала Эмми, переминаясь с ноги на ногу. – Правда, немного обкурившийся. Это ничего?
– Ничего. А как твое имя, психотерапевт? – подобие улыбки осветило лицо девушки. Эмми была настолько рассеяна и неустойчива, что придерживалась одной рукой за грязный фонарь, пытаясь придать глазам более серьезный вид:
– Мы тезки…
– Что? – девушке показалось, что она ослышалась.
– Мы тезки. У нас боль одна.
– Боль?
– Прости. Вырвалось, – Эмми не удержалась на ногах и сползла по фонарю на землю. Она зажала руки между колен, смотря на фонарь так, словно хотела вызвать его на дуэль.
– Так как же твое имя?
– Эмми, – сказала она, будто бы очнувшись от глубокого сна.
– Меня зовут Лин.
– Ты здесь сидишь, плачешь, – сказала Эмми каким-то грустнопечальным голосом. От марихуаны ее настроение скакало, как кардиограмма.
Минутное настроение Эмми передалось Лин, и она ответила так же обреченно:
– Да, холодно.
– Здесь даже летом холодно, – Эмми смотрела в противоположную сторону от того места где стояла Лин. Это выглядело так, будто она разговаривала с кем-то третьим, а на самом деле Эмми вела светскую беседу с пустотой, – та ей, как ни странно, отвечала.
Лин продолжала:
– Не люблю лето.
– Понятно, – равнодушию Эмми можно было ставить памятник. Она свела брови. – Пойдем.
– Куда?
– Ко мне. Поешь и переночуешь, а утром посмотрим, что делать дальше.
Эмми хотелось поскорее добраться до дома: кайф постепенно слетал с нее, уступая место пронзительно рвущейся на свет головной боли.
– Да, я…
– Да ты не в том положении, чтобы отказываться, – она наклонила голову на бок и, слегка приподняв левый угол рта, продолжала, – у тебя глаза никак у всех, никак у этого одного однородного стада, именуемого миром. Я знаю, ты думаешь, что для меня сейчас даже таракан ставится в разряд Бога. Трава плавит мозг, но то, что сейчас происходит, уже никогда не повторится, так что решайся: тебя ждет горячий чай и теплая постель, – Эмми почему-то сделала реверанс. Лин едва успела подхватить ее и уберечь от неудачного падения в грязный снег.
Они двинулись по направлению к дому. «Да, – размышляла про себя Эмми, – а ведь это забавно: я говорила с человеком тринадцать с половиной минут, и теперь она тащит меня до дома и выслушивает мои неразборчивые речи. Пора перестать курить траву. Лучше буду нюхать масло чайного дерева. От него на подвиги не тянет.
Лин всю ночь не спала, ворочаясь в постели, сминая такие гладкие ровные простыни, выданные засыпающей на ходу Эмми. Историю о том как она оказалась на улице, Лин решила сохранить в тайне и придумать что-нибудь на ходу, если вдруг спросят.
За завтраком Кэт внимательно (с интересом, далеко выходящим за рамки приличия) разглядывала гостью.
– У нее нет дома, – сказала Эмми, подавая Лин тарелку с овсяной кашей.
– Просто…
– Просто ешь и не перебивай, – все равно соврешь. Скажи, ты имеешь хотя бы косвенное отношение к музыке?
– Играю на скрипке.
Кэт поперхнулась своим кофе, состоящим на три четверти из виски. Откашлявшись, она начала выразительно посматривать на Эмми, но та и без нее знала что делать.
– Хм… Скрипка…
– Даже и не думай, Эмми, – от возмущения Бес перестал качаться на стуле и нарочно перехватил совершенно ненужный ему кленовый сироп, за которым потянулась Лин. Мы не симфонический оркестр.
– И не тупые кретины, долбящие по струнам. Нам явно не хватает нежности.
Бес закатил глаза и начал бормотать что-то непонятное.
– А со скрипкой было бы терпко, как вино, – Эмми посмотрела на Кэт, – к тому же ты тащишься от этих смычковых экзерсисов.
Кэт многозначительно кивнула и скрестила пальцы под столом. Эмми пошла в наступление, полностью игнорируя притязания Беса:
– Если хочешь, можешь остаться, но при условии, что теперь ты играешь в нашей группе.
– Я согласна, вот только очень тяжело играть на воображаемой скрипке.
– Купим. Просто скажи «да» или «нет»?
Лин посмотрела вокруг себя: никаких предметов, только чувства и ощущения, только то, что не берется выразить словами даже Бог, в которого она верила больше, чем в свою собственную жизнь. Она ждала знака, пускай и плохого, но все же. Мигающая над ее головой сорока вольтовая лампочка внезапно начала гореть мягким ровным светом.
– Да.
Бес нервно скомкал салфетку и вышел из-за стола, а Кэт схватила Лин за руку и потащила показывать ей свободную, а с этого момента уже НЕ свободную, новую комнату маленькой скрипачки.
Лампочка, обретшая вторую жизнь, внезапно разлетелась на маленькие осколки, приправив кашу Эмми крошкой битого стекла. «Скрипачка… Явно верит в Бога, потому что постоянно шевелит губами и смотрит в потолок. А он ее предаст, Бог всех предает. Все-таки жизнь – дерьмо, и гораздо приятней слушать как растет трава, чем слышать то, что говорят другие».
* * *
Эмми поскользнулась на льду и подвернула ногу. Хромая, она добралась до ближайшей лавочки. Кое-как счистила с нее снег, села и принялась растирать опухающее место.
Плотный снежок попал ей прямо в лоб и начал плавно сползать по лицу. Эмми зло посмотрела вокруг, но никого не увидела. Второй снежок разбился возле ее ног. Она фыркнула, но не спешила поднять голову. Кто-то очень теплыми руками закрыл ее глаза.
– Угадай, кто?
– Одну минуту, – она резко развернулась и пустила руку по знакомой траектории апперкота. Человек вовремя пригнулся.
– Стоп. Не нужно применять силу. Я – твой Ангел.
Эмми показалось, – что-то попало ей в глаз: что-то, что невозможно извлечь до конца, что-то мешающее смотреть на мир. Длинные ресницы слиплись, все вокруг стало ярким и влажным.
– Красиво пишешь… Зачем?
– Люблю…
– Любишь… Я часто думаю о тебе. Иногда долго не могу уснуть и вспоминаю твое лицо.
– Это невозможно, – он уже сменил позицию и теперь сидел на корточках прямо перед ней, грея в своих руках ее замерзшие. Она с интересом разглядывала свежие, не торопящиеся заживать шрамы. Догадывалась кто их ему «нарисовал».
– Почему? – Эмми даже обиделась такому «наглому» утверждению или, как она расценила позже, самоутверждению.
– Мы никогда раньше не виделись.
– А у тебя что, нет воображения?
– Ну почему же, есть конечно. Просто, – он хотел очень многое сказать, но выдавить из себя хотя бы звук для него было подвигом. – Я не хотел, чтобы мы встречались.
– Тогда зачем пришел?
– Нелепые обстоятельства. Я не хотел, чтобы все так вышло.
– Как? Это Удо так тебя разукрасил?
– Неважно. Понимаешь, я еще не готов быть с тобой вместе.
– А почему ты вдруг решил, что я хочу быть с тобой?
– Я знаю, ты хранишь все мои письма. Что ты чувствуешь, когда читаешь их?
– Запретный плод сладок.
– Мы будем вместе, просто подожди.
– До свидания, – она высвободила свои руки. – Я не чувствую ничего кроме эгоизма. Кто ты такой, чтобы из-за тебя я плюнула на прошлое?
– Неважно кто я. Я тебя люблю.
– А я люблю твои письма и оживлять их совершенно не собираюсь. Зря ты показал лицо, лучше бы писал, но теперь, пожалуй, я не смогу воспринимать твои наброски так, как воспринимала их раньше. Сказку ты разрушил, твое чудо оказалось простой банальщиной. Теперь тебе придется искать другой объект и протаптывать дорожки к его крыльцу. Может быть, там тебе повезет больше. Если хочешь, могу вернуть письма.
– Оставь себе, – он словно отрезал слова ровными лоскутами и сеял их себе под ноги. – Ты не от мира сего, ты… Я больше сюда не приду, и ты никогда меня не увидишь, но знай, – запретить мне любить тебя не может никто. Я буду любить тебя молча. Меня зовут Тео.
– Как все глупо…
– И ничего уже нельзя исправить. Но можно модифицировать реальность, она поддается правке, я проверял. Если когда-нибудь захочешь поговорить просто позвони, – он протянул бумажку со своим номером. – Наложи на ногу эластичный бинт и две недели не бегай. Наверное, все будет хорошо…
– Наверное.
Оба они вздохнули и разошлись в разные стороны, как два рукава непослушной реки. На смену этим вдохам пришли следующие; последним, как всегда, пришло утро, чтобы расставить все по своим местам.
Удо вошел в кухню и заметил, как Эмми одно за одним выбрасывает в пластмассовое ведро ненавистные письма. Для нее они потеряли весь тот шарм неизвестности, всю свою притягательность, у них оказалось простое человеческое лицо, которое, к тому же, довольно легко разбить и изуродовать собственнической эгоистичной ревностью. От нее не могло укрыться что Удо торжествует, глядя на конверты, исчезающие в пропасти мусорного ведра. Эмми давно поняла: эти письма тронули не только ее равнодушие.
– Что, улетел? Улетел, я спрашиваю, твой Ангел? – сказал Удо с издевкой. – Если он посмеет еще раз приблизиться к этому дому, я убью его. Он больной, Эмми, он мог обидеть тебя.
– Как видишь, пятнадцать минут общения с ним не нанесли мне никакого вреда.
– Такты с ним виделась?
– Да. Бровь ты рассек первоклассно. Я – не пояс чемпиона, за который нужно бороться на ринге.
– Ты говорила с этим ненормальным?
– Пожалуй, ты даже слишком нормальный, до тошноты.
– Ну, а его тебе жалко. Потому ты и уничтожаешь его письма.
– Мы перешли на новый этап общения: устный.
– Не верю.
– Тебе я теперь тоже не верю. Не смей больше копаться в моих вещах, не смей заходить в мою комнату без стука. Не смей следить за мной и сними, наконец, эту камеру, которая пищит от перепада температур и разряженного аккумулятора.
Разоблачив слабости друг друга они замолчали, не зная, что следует говорить, раскрыв все карты. Удо взял со стола бумажную салфетку и с животным остервенением начал мастерить кривого голубя оригами, которого отшвырнул в ведро к белым одиноким письмам. Он ударил кулаком по столу:
– Черт возьми, мы наказали друг друга! – он встал между Эмми и стеклом, выходящим во двор. Пальцами он нервно перебирал сигарету, из стержня которой на пол сыпался желтый дешевый табак, рассеивая кислый запах, делая пальцы Удо непонятного бежевого цвета.
– Ты жадный.
– Да, жадный, – он спрятал остатки сигареты в карман и начал отряхивать ладони. – И я не намерен делить тебя ни с кем. Знаешь, иногда мне хочется посадить тебя в клетку и не выпускать, не позволять глядеть сквозь прутья. И чтобы никто не вошел, не увидел, не дотронулся до тебя. Я бы накинул черное покрывало, повесил бы замок, понимаешь, замок на твое подлое сердце, которое может изменить, услышав чужие ритмы. Я хочу, чтобы ты перестала биться о стекло. Я мечтаю о том дне, когда тебе не захочется более летать, потому как я не в силах подняться в небо. Мы любим по-разному.
«Что касается меня, то я не люблю. Смешно любить», – размышляла Эмми, не слыша его. «И так всегда. Все мы думаем, что поступаем правильно, считаем, что нас должны жалеть, – мы столь несчастны, что достойны этой жалости. Но мы отказываемся видеть, как другие отрывают кусок сострадания от себя; отрывают, чтобы мы накинулись на него, как стая псов. Мы не хотим видеть, что они еще более несчастны. И мы всегда найдем объяснение любой своей подлости, какой бы страшной и тошнотворной она не была. О, Господи, о чем он говорит? Я все прослушала». Она опять убежала куда-то далеко-далеко по узкому извилистому коридору сознания, который ведет в темное всезнающее и всеобъемлющее бессознательное, стремящееся прорваться наружу.
Удо говорил и говорил:
– Что ты творишь, Эмми, мне страшно за тебя. Неужели и ты заражена бациллой этого сумасшествия? Слушать как растет трава, влюбляться в письма, вечно шататься по городу одной. Что это? Новая мода, эпатаж? Я обращусь в полицию, они должны защищать нас от таких как он.
– Обратись! – она сорвалась на крик, – и тебя посадят первым за весь тот склад марихуаны, который они выгребут из нашего дома.
Над ними повис плотный занавес тишины, раздражающей барабанные перепонки, отдающейся глухим звоном в абстрагировавшемся от всего теле. Каждый хотел нарушить молчание. Эмми не выдержала первой:
– Так печально… Ты веришь?.. Или, быть может, ты думаешь, что я опять играю на одном из своих многочисленных полей? Давай. Ты же хочешь сказать мне именно это.
– Да ничего я не хочу. Ты ничего вокруг себя не видишь, а коль видишь, так остальным это «что-то» совершенно недоступно. И ты злишься, когда тебя не понимают, но понять тебя не позволено никому кроме избранных (зачатых в твоем уме из заманчивой фантазии) ставших явью, да только какой-то однобокой, подвластной только тебе. Другие люди ниже. Ведь для тебя они никто, правда?
– Ты считаешь себя никем? В первый раз встречаю столь обесценившего самого себя человека.
Удо перестал понимать, что происходит.
– Сними маску, Эмми. Мне неприятен твой голос: он чужой, фальшивый, твоя личина…
– ЛИЧИНА?!
– Да, Эмми, личина, и никак не иначе. Я потерялся в галерее твоих лиц. Ты меняешь их слишком быстро, я не успеваю. Или может только со мной ты такая? Весь этот маскарад для меня?
Он уже начал чувствовать победу. Ему казалось, что вот теперь-то, когда ей некуда «бежать», когда вся правда на ладони она уступит, признается во всем, а не будет выпускать чернила, как маленький планктон.
– Эмми, я хочу знать: весь этот маскарад для меня?
– Не для тебя, а от тебя, – она начала смеяться, а он ощутил, как легкий холодок кусает спину. – От тебя, слышал? От твоих рук, глаз, слов. Иначе мне не спрятаться.
– А от крыльев, от полета? Или со своим Ангелом ты не играешь? Хотя, я не поверю в то, что ты смогла бы не играть, Эмми, не поверю.
– Ну уж тебя упрекнуть в нечестности было бы просто преступлением. Ты погано играешь, ты погано дерешься, и… И…
– Ну! Говори! Хотя бы раз выложи всю правду!
– Я жалею, что встретила тебя!
– А о нем жалеешь? – сказал он несколько тише.
– Не твое дело, – Эмми четко выговаривала каждый звук, казалось, ее рот был сделан из жести, из тонких серых звенящих листов. Вся она медленно стекленела, плавно обезображиваясь.
– Как ты можешь любить его? Как ты можешь менять меня на него?
– Менять, – шипел пластичный язык, изгибая слова, а горло тянуло их словно песню, обрывая на середине, как крыло у мухи. – Меняют вещи.
– Так нельзя! Как глупо говорить на разных языках, ведь я совсем не понимаю тебя.
– Купи словарь. Все просто, Удо, все проще, чем ты себе вообразил.
– Я не вообразил, я люблю тебя.
– А я тебя не люблю, – ее лицо перестало что-либо выражать, только губы как будто машинально уронили эту фразу. – Я не люблю тебя, и этого никогда не случится. Я не хочу взращивать в себе то, что совершенно не собирается прорастать. Достанет сил остаться, – я скажу спасибо. А если нет, – то тебя я не знала. Ты хороший, но я тебя не люблю.
– Ангел? Он виноват?
Эмми молча наливала себе кофе.
– Ангел, Эмми? Ангел? Ответь. Не мучь меня. Я имею право знать, кого полюбила моя девушка.
– Не твое дело.
– Знай, если он посмеет прийти сюда еще раз, я обрежу ему крылья.
– Я их сама обрежу. Себе, – она как-то неуверенно махнула рукой в направлении двери, тем самым прося Удо уйти.
– Эмми, все кончено?
– Разве что-либо начиналось?
– Мне уйти?
– Не смей перекладывать на меня всю ответственность за принятые тобой решения, я и сама прекрасно умею это делать. Нужно было уходить тогда, когда собирался. Той ночью, помнишь, ты вложил в мои руки письмо. Ты сам пожелал стать автором своего прощания. И ни к чему сейчас прибегать к речи. Ведь вам двоим проще общаться со мной заочно. Так что решай сам.
Он вышел из комнаты: готов был кидаться на стены, пробивать их до дыр своими кулаками, пачкать их белизну подошвами ботинок. Он вышел на улицу, сел на крыльцо и достал из кармана сигарету. Она была выпотрошена лишь на половину. «На самую лучшую».
В его голове словно мерзкая заноза нарывала фраза, брошенная Эмми: «Я не люблю тебя».
«Я нужен тебе, Эмми, ты сама это знаешь. Пусть даже и в такой извращенной форме. Ты больше не вернешься к этому разговору. Свою роль ты сегодня уже отыграла. Завтра все будет по-прежнему».
Он пошел в город за сигаретами.
Что меня тут держит? Нужно бежать от этих сумасшедших, – думал он, но тотчас перед ним выплывали желто-зеленые глаза Эмми, ее вечно сорванный голос, и он понимал, что не сможет жить без этой ненормальной девчонки.
Удо купил сигареты и пару бутылок вина. Ему хотелось напиться и уснуть, а на утро не помнить всей этой «охоты на ангелов», обидных слов и мальчишеского желания неумело убежать от проблем, создавая в процессе побега все новые и новые.
Он решил забываться на чердаке, ближе к звездам. Откупорил первую бутылку и начал медленно тянуть терпкое волшебство из горлышка, по временам прерывая этот сладостный поток глубокими затяжками.
Ему казалось что дым, смешиваясь внутри него с вином, становился багровым, тяжелым, скованным. Удо выпустил из рук бутылку, позволяя остаткам вина беспрепятственно овладеть полом. Он спал, и ему снился болгарский пенопласт, образцы которого он тайно, с риском для жизни, вывез из сверхсекретной лаборатории во имя спасения человечества.
* * *
– Лин, пойдем скорей пока мусоровоз не приехал.
– Что?
– Я случайно выкинула в ведро салфетку.
– Так…
– А там была песня Эмми, я не посмотрела. Она ее сегодня целый час искала, думает что потеряла.
– Ну, и пускай думает. Я подарю ей блокнот.
– Бесполезно. Из него она будет выдирать листы и писать рифмы, потом будет их везде раскидывать, а потом вот это копание в мусоре. Привыкай, ты в «Лестнице».
– И всегда она так? – спросила Лин скорее обреченно, чем сочувственно.
– Как с песнями, – Кэт улыбнулась. – Это ее манера, каждому свое.
– Понятно, – и чего такого в этой пресловутой Эмми, что они носятся с ней, как с писанной торбой. Все это уже начинало напоминать ей театр одного актера, а точнее актрисы. – Она просто привлекает к себе внимание, – выплюнула Лин, поджав губы.
– Остынь, не из-за этого.
– Тогда из-за чего?
– Не знаю. В чужую душу не залезешь. Не смотри на поступки, лучше смотри в глаза, они у нее зеленые. Может быть и поймешь, что к чему.
Лин задумалась:
– А ты поняла?
– Нет. У меня другие цели, – Кэт уже начинала нервничать. С чего это она вдруг так разоткровенничалась с этой девушкой. «Я знаю ее неделю. Это ничто. Но я уже не могу без нее. А она вся в себе, закрыта от внешнего мира. Хотя все мы здесь такие: молчаливые эгоисты, думающие только о себе. И весь вопрос лишь в том, кто более умело отыграет свою роль. Как мне хочется ее обнять… она ведь… Кэт, Кэт, Кэт, откуда такие мысли? Неужели все начинается заново? – Пойдем, мусор скоро заберут.
Они вышли на улицу и направились прямиком к мусорным бакам. Кэт сняла крышку с одного из них, бросила ее на асфальт и торопливо, но тем не менее тщательно, начала в нем рыться. Лин уже перестала удивляться, а только успевала отскакивать от летящего в нее прямой наводкой мусора, который Кэт, не глядя, обеими руками выкидывала из бака.
– Эй, поаккуратней нельзя? Ты меня сейчас засыплешь.
Кэт медленно обернулась, оставив в баке погруженные в него по локоть руки.
– Ты почему стоишь?
– Нет. Ты же не хочешь сказать, что я…, – она многозначительно указала глазами на бак.
– Да, да, да, именно этого я и хочу. Давай, скрипачка, покажи на что способны твои цепкие пальчики.
Лин нехотя, брезгливо, но все же открыла бак, стоящий рядом с ней, и кончиком пальцев подняла какой-то мусор, лежащий на поверхности. Она долго его разглядывала, но так и не смогла понять, что же за бесценный шедевр, прошедший сквозь века, покоится в ее ладони. Насмотревшись на него вдоволь, она отшвырнула его подальше и выудила что-то еще. Кэт, скрестив руки на груди (похоже, что ее не волновало то, что они все были в грязи), довольно улыбалась.
– Что? Что ты улыбаешься?
– Я тебя узнала. Только возлюбленная Шопена может так внимательно разглядывать мусор, а затем отбросить его с таким неповторимым изяществом.
Они обе уже час капались в баке, но салфетку так и не нашли.
– Если мы ее найдем, я ее заламинирую. Я заламинирую все ее тексты.
– Придумано неплохо, только ты знаешь, как она их пишет? – Кэт даже слегка улыбнулась.
– Как?
– На руках, на ногах, на пачках сигарет, на обоях, – все построчно. Придется заламинировать пол дома и Эмми в том числе. Ее творчество – это лабиринт, из которого даже она сама порой не в силах выйти. Лучше ройся в баке.
– Все бедные – ненормальные, – из окна, высунувшись на половину, смотрела женщина в бигудях и полосатом халате.
– Мы не бедные, – ответила Кэт озадаченно.
– Вы еще хуже. У бедных хотя бы есть цель – выбраться из того дерьма, в котором они сидят, а у вас нет цели, у вас вообще ничего нет. Ходите туда-сюда, как тени. Зачем вы здесь? Зачем вы живете? Кто вы? Вы – никто.
– Она права, – скрипачка достала из бака изорванную салфетку. – Кэт, я все поняла.
– Эмми боится смерти. Она боится, что никто никогда о ней не вспомнит. Для этого вся показуха, для того чтобы жить после смерти.
– Эмми нравится умирать, понятно? – Кэт повела ее домой.
Лин попыталась прочитать салфеточный стих, но Кэт помешала: сама не зная почему, она нежно поцеловала ее в шею. Лин промолчала: поцелуй был влажный, как утренняя роса на листьях. Ей было приятно и хотелось продолжения, но ведь это была Кэт – ДЕВУШКА!
Ее бросило в жар, потом в холод, резко закружилась голова. Она протянула ладонь к шее:
– Никогда больше так не делай, – умоляюще прошептала она. – Нельзя… Не со мной…
– Извини, – Кэт покраснела и уехала в институт на два часа раньше. Она нарезала круги возле корпуса, курила одну за одной, бросая бычки на сочный газон. «К чему юлить? Ведь ей же понравилось. Я почувствовала. Вот с Эмми получилось глупо, даже в зубы мне дала. С ней все иначе…».
* * *
Бес, вдавив голову как можно ниже в широкие плечи и жмурясь от мокрого снега, летевшего прямо в довольное лицо, торопился домой. На губах его застыла улыбка: он только что пополнил запасы кока и беленьких облаток и теперь, предусмотрительно проглотив одну из них, с гордостью вспоминал о том, как выгодно он провернул сделку, скинув целых 20$.
Кроме наркотиков он приобрел два блестящих черных кольта со сбитыми номерами и один комплект патронов.
Второй кольт был предназначен Эмми в качестве подарка на прошедшее Рождество, которое все смутно помнили из-за праздничной марихуаны. Патроны он сознательно купил только для себя, так как знал, что Эмми не составит труда всадить их в человека даже не дернув бровью; знал-не составит труда просто пойти и купить полную обойму. Но главное для него было другое: не из его рук она получит эту свинцовую смерть, аккуратно запрятанную в блестящий сердечник.
На пустой автобусной остановке Бес увидел одиноко сидящего парня, который, странно подмигнув, двинулся к нему навстречу.
– Друг, ты не знаешь, где здесь можно раздобыть пару унций удовольствия?
Бес вопросительно уставился на человека, кричащего на всю, пускай и безлюдную, улицу о том, где ему можно приобрести наркотики.
– А что, очень нужно? И не кричи, идиот, здесь повсюду копы.
– Хорошо.
– Могу продать пару косяков или таблеток. Цену назначаю я. Торг не уместен.
– Мне все равно сколько это стоит, просто продай.
Бес указал цену весьма неприличную, но парень молча заплатил и вырвал из его рук таблетки. Две он сунул в рот, а третью уронил. Она начала медленно шипеть и исчезать, пузырясь на снегу. Он подхватил белый пух ладонью и проглотил, кривясь от холода.
– Понимаешь, я плохо знаю этот район, – произнес он, немного отогрев рот. – Я сам из Кенвуда.
Бес прочистил горло:
– Мне плевать кто ты, а тем более откуда. Мне не нужна твоя биография. Мне нужны только твои деньги.
– Зря, – парень уже начал растекаться и оплывать, как глазурь под палящим солнцем. – У меня есть связи.
– Плевал я и на твои связи.
– Мой дядя держит клуб.
– А мой дядя сидит в местной каталажке. Неплохая параллель, правда?
– Правда. Я, например, могу…
– Погоди, – прервал его Бес, до которого начала доходить кое-какая зависимость. – Твой дядя владеет клубом? А там выступают группы?
– Полно, каждый день разные, – парень явно привирал и сам это понимал, но остановиться не мог.
– А твой дядя может устроить выступление для нашей группы?
– Я могу поговорить с ним на эту тему.
– Когда ты снова здесь будешь?
– Когда захочу еще немного удовольствия. Значит очень даже скоро.
– Мне не нравятся твои ответы, – он ударил его под дых, – говори конкретней.
– Через три дня, – парень согнулся пополам. Бес встряхнул его:
– На это месте в полночь. Улица Прэсскот, дай запишу, – Бес криво нацарапал адрес на его запястье. – Придешь на эту остановку. Я продам тебе крутое удовольствие. Не придешь – я сам к тебе приду. Все, ковбой, езжай в свой Кенвуд и попробуй ублажить своего дядю, иначе я в будущем ублажу тебя вот этим, – Бес достал из кармана кольт и звучно крутанул барабан, издав звонкий треск.
– У моего дяди и не такие есть, – сказал парень совершенно равнодушно.
– Как тебя зовут?
– Эрни. А тебя?
– Мое имя знать не обязательно, потому как я торгую не воздушными пирожными, а наркотой.
– Ты похож на дилетанта.
– Я похож на самого себя. Проваливай и возвращайся с кучей денег и хорошими новостями. Это в твоих интересах.
– В моих интересах случайно не рассчитать дозу и не мучиться, и более не мучить собой других, поэтому прибереги угрозы для иного случая или более восприимчивого к ним субъекта.
Он хлопнул Беса по плечу и, шатаясь, побрел прочь. Через три дня состоялась сделка: Эрни получил превосходный кокаин, а группа «Лестница» – право на аудиенцию с его дядей. У Эмми появился новенький кольт и надежда на будущее, а у Беса толстая пачка зеленых купюр, которые мелодично похрустывали при ходьбе в заднем кармане его штанов.
* * *
Дядей Эрни (мистером Ливенштейном) оказался немолодой, разжиревший от сидячего в кожаном кресле образа жизни, мужчина. На голове он носил некрасивый парик, а белки его глаз были желтыми как песок, и намекали на то, что ни одна из форм гепатита не обошла его стороной.
Он постоянно курил, отчего стены и потолок в этом несуразно обставленном помещении были такими же желтыми, как его глаза. Очки, висевшие на короткой жирной шее, Ливенштейн никогда не надевал, а лишь подносил их к глазам, наполовину скрытых веками.
На его массивном столе стояла столь же массивная пепельница в виде раскрытой пятерни, которая всегда оставалась девственно чистой, потому что пепел он ронял преимущественно вокруг нее.
– Итак, – сказал он, откашлявшись, но Эмми не дала ему продолжить:
– Все это ни к чему. Вы все равно заработаете столько, сколько решили, поэтому не стоит строить из себя бескорыстного мецената. Нам нужно выступление – это наша цель. Я пишу песни, расчетами я не занимаюсь.
– Но при такой политике вы рискуете не получить вообще ничего.
Эмми утонула в громоздком кресле и болтала недостающими до пола ногами. Ей почему-то показалось, что жена Ливенштейна была маленькой хрупкой женщиной, спящей на соседней с ним кровати, твердо решившая скрывать от детей, что их папочка полное дерьмо, пропагандирующее продажу кокаина и трахающее длинноногих, приехавших из периферии официанток в своем кабинете, увольняя их на следующее утро.
– Мы полностью принимаем ваши условия. Дайте нам выступить.
– Вы думаете вас кто-нибудь услышит? Тем кто приходит сюда нужен фон, а не надрыв и глубина. Если фон не слишком раздражает, они не реагируют на него, а если наоборот – могут и ножом пырнуть.
– Для чего вы мне все это говорите?
– Мне стало скучно… Просто подумай, куда ты лезешь и куда тянешь остальных. Я прочту молитву если через год из вас выживет хотя бы половина, если вы не подохнете в сортире от передоза или не окажетесь в психушке. Будущее гораздо страшнее настоящего. Откажись пока не поздно, выбери другой путь если не для себя, то для других. Посмотри на Эрни: он учился на врача, а потом подсел на морфий и прочие стимуляторы. Я положил его в клинику, он сбежал, врачи его нашли и заставляли пить таблетки, от которых он потерял последний разум и стал дураком. Теперь, чтобы хоть как-то продлить его слабоумное существование, отстегиваю ему на эту гадость. Он скоро умрет – наркоманы не любят жить долго, и то, что один из вас вертел перед ним пистолетом, его совершенно не испугало. Он хочет смерти, просто боится сам себе в этом признаться. То что вы делаете является искусством только для вас самих, остальным плевать на это самовыражение. Не стоит сознательно наносить себе раны.
– Я прошу разрешить нам выступить.
– Совесть я очистил. Можете выступать. Завтра в одиннадцать вечера. Вот ключи от третьей гримерки. Рассчитаемся после выступления, хотя за эту прихоть вы заплатите дороже чем я. Вести расчет деньгами гораздо дешевле, чем своей собственной жизнью. А теперь я должен переговорить еще с одним «лидером». Надеюсь, что он окажется менее упрямым, чем ты.
Это место было трудно назвать клубом, скорее просто круто украшенный (с совершенно негармонирующими друг с другом аксессуарами) сарай. Помещение было большое, усеянное разномастными представителями поколения NEXT, совершенно непонимающими, для чего они сюда пришли.
Панк с засаленным, раскрашенным во все цвета полинявшей радуги ирокезом, согнувшись, одной рукой держась за чей-то локоть, не выпуская из второй жестяную банку, блевал себе под ноги. Из банки по его ладони сочилась жидкость, упрочивая свое движение с каждым новым спазмом желудка. Его девушка, пытаясь облегчить эти нечеловеческие муки, обтирала рот грязным мятым платком, пока он, изловчившись, не отшвырнул ее подальше. Он дернулся в последний раз, испачкав рыжеватой жижей из своего нутра здоровяка с конским хвостом на могучем затылке, проходившего мимо. Здоровяк замахнулся, и панк растянулся на полу в своей же блевотине.
Парочка геев стояла за выполненной в готическом стиле колонной, скрывавшей их ласки только на половину.
Кругом все шевелилось, издавало звуки, создавало шорохи, пыталось танцевать или просто подняться с пола.
Им выпало выступать последними из трех возможных. Это было как раз то время, когда толпа уже не воспринимала ничего и никого и оставалась в клубе просто потому, что не было сил уйти на своих двоих. Так что, если бы на сцену вместо группы «Лестница» случайно вышло стадо коров с маракасами, которые просто ошиблись дверью, никто бы даже не повернул головы в их сторону.
Они отыграли свои песни, сорвали жидкие аплодисменты, которые прозвучали только для того, чтобы они поскорее ушли за кулисы.
Бес радовался, как ребенок. Винт полировал палочки. Кэт и скрипачка уселись на диван и ели холодные сэндвичи, запивая их дрянным виски, который нашелся в баре. Эмми нестерпимо хотелось помыть руки. Они были липкими и горячими. Ей уже начало казаться, что Ливенштейн был прав, но она не могла признать поражение. Группа увидела свет, пускай и в этом кишащем ублюдками притоне. С чего-то нужно начинать. Это не рай, это просто обыкновенная жизнь.
В гримерку без стука вошел весьма неприятный тип с копной окрашенных в мышиный цвет волос, небрежно разметавшихся по его плечам, накрытых твидовым пиджаком.
– Могу я увидеть менеджера? – голос его оказался густым и бархатным, явно тщательно поставленным. Невооруженным глазом было видно, что этот Нарцисс с проколотой бровью проводит у зеркала не один час своего времени.
Эмми резко шагнула вперед.
– Я вас слушаю.
Он отпустил свои глаза скользить по ее телу, оценивая молодость, а сам продолжал:
– Здесь есть более уединенное место? Мне бы хотелось обсудить с тобой серьезные вещи.
– А вы, собственно, кто? – Эмми по-бойцовски отставила опорную ногу и сунула обе руки в карманы. Незнакомец был неприятно поражен тем, что его не узнали, но вида не показал и, явно получая удовольствия от своего собственного высокого положения, важно представился:
– Ричард Морг. Директор звукозаписывающей студии «World Platinum». Это тебе о чем-нибудь говорит?
– И…, – Эмми сделала вид, что пропустила этот громкий титул, а вместе с ним и вопрос, мимо ушей.
– Я хочу… А в прочем, нет, – он прервал сам себя. – Эти вещи так не делаются. Они могут оставить нас наедине? – он указал на остальных уже изрядно подвыпивших музыкантов.
– Могут.
Выпроводив всех, Эмми закрыла дверь на ключ, бросила его на столик рядом с диваном и, прислонившись спиной к двери, скрестила на груди руки. Морг, широко расставив ноги, в начищенных до нездорового блеска ботинках развалился на диване.
– Я слушаю вас.
– Здесь есть что-нибудь выпить? – казалось, он пришел сюда именно за этим.
– Виски устроит?
– Вполне.
Пока Эмми капалась в баре, – незаметно спрятал ключи в карман брюк. Она подала ему стакан и присела на противоположный конец дивана.
– Я часто провожу время в этом клубе, – начал Морг заискивающе, – наблюдаю за разными группами. Из ваших песен получились бы неплохие хиты. Я мог бы заключить с вами контракт.
– Зачем? Вы могли бы найти кого-нибудь поизвестней.
– Мог бы, но так работать мне уже неинтересно. Хочу участвовать в становлении группы. Я могу стать вашим продюсером.
– Одни «Я». На каких условиях?
– Условия просты: вы записываете альбом на моей студии, затем концертный тур в поддержку альбома, плюс парочка интервью и публичных выступлений по радио и телевидению. Прибыль от продаж идет как 60 % на 40 % в мою пользу пока вы полностью не окупитесь, затем 80 % на 20 % в вашу пользу.
– Неплохо.
– Безусловно, но, если кое-что сделать, можно получить гораздо больше прибыли. Причем сразу.
– Это как?
– А вот так, – он подвинулся к ней ближе и, положив свою руку к ней на колено, попытался скользнуть чуть выше, до самого бедра, а вторую руку устроил на груди и слегка сжал ее. Ощутив бедра, рука стремительно рванулась вниз и уверенно раздвинула сильные ноги. Увенчал он эти выпады мокрым поцелуем в губы.
Через пару секунд оторвался от нее, оставив на губах отчетливый привкус освежителя для дыхания и паров никотина. Он вожделенно посмотрел на Эмми и снял пиджак, который мешал ему делать более глубокие движения, в котором ему было жарко. Он улыбнулся, показав кривые щербатые зубы, сверкнул толстым золотым кольцом на левом мизинце, слегка ослабил желтый, до неприличия яркий и до невозможности безвкусный, галстук, и потянул руки к ремню штанов, в которых уже наблюдалось заметное шевеление.
Создавалось впечатление, что Морг был смят как листок папиросной бумаги еще во чреве матери, а, оказавшись на поверхности, так и не смог распрямиться и разгладить все свои неровности и лишние изгибы.
Эмми пыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло: улыбка плавно соскользнула с чувственных губ, опустилась на носки ее захлебнувшихся пылью ботинок, и на ее место наползла осмысленная маска серого оскала. От Морга пахло дорогим одеколоном и сигаретами.
– «Kenzo» плюс «Parlament». Good choice.
– Что, простите, я не понял…? – несколько извиняющимся, а оттого до рвоты приторным, голосом переспросил Морг.
– Ничего. Свидание закончено.
Эмми хотела выйти, но вспомнила что заперла дверь. Даже не поворачиваясь к столику, она поняла, что ключей на нем нет.
– Не стоит уходить, – ремень был отброшен за спинку дивана. Он расстегнул ширинку, которая поддалась не сразу. Спуская до колен брюки, он стал похож на извивающегося дождевого червя. – Для полного взаимопонимания нужен более близкий контакт, – Морг попробовал встать, но разбухший член и спущенные брюки не позволяли сделать этого, предлагая избавиться от одной из двух помех. Он предпочел избавиться от брюк. Справившись с этим, начал стремительно надвигаться на Эмми.
– Еще один шаг и меня посадят, – Эмми вытащила из кармана блестящий кольт и целилась строго в горбинку, как ей показалось, все же сломанного носа. Она знала, что не имела ни одной пули, но ее это мало волновало.
Морг весь вспотел и уже не выглядел таким самоуверенным.
– Делай шаги назад, иначе к «Kenzo» и «Parlamenty» примешается запах крови, а это очень невкусная комбинация.
Он послушно отступал и даже периодически поднимал над головой холеные руки, когда Эмми делала слишком резкие выпады. Его взгляд из зазывающего модифицировался в умоляющий, что с еще большей силой воспринималось нервной системой Эмми. Будь у нее пули она бы выпустила их все, не глядя.
– Пожалуйста, опустите пистолет, – шептал он, исступленно моргая. Крылышки его ноздрей непрерывно двигались, волосы растрепались, биение сердца было видно через тонкую ткань пропитавшейся потом рубашки. Эмми довольно кивнула:
– Так значит все-таки на «вы»… Это верный ход, ВЫ не находите?
На «вы» она ударила особенно сильно, из-за чего он повалился на диван и протянул ей ключи, подрагивавшие на мокрой ладони.
– Положи где взял, – он бросил их на столик, и они тотчас оказались к руке Эмми. Давай сюда договор, мы его немного переделаем.
– Все контракты у меня в машине.
– Все патроны у меня в обойме, и ты прекрасно знаешь где они могут оказаться, – в доказательство Эмми взвела курок. – Камера все засняла. Если компромат тебя не пугает, – могу прострелить что-нибудь. А хочешь, я позову Беса, и он сделает так, что в твоих штанах станет пусто? Сейчас мы пойдем к твоей машине и заключим прекрасный контракт. На улице темно, так что некому будет разглядывать твое нижнее белье.
Вдавив холодное дуло в его затылок, Эмми повела его по длинному коридору, в конце которого ее поджидали остальные.
– Бес, объясни ему, что такое настоящая музыка, – Эмми перекинула несопротивляющегося Морга в руки Беса и подмигнула Кэт.
Бес вывел раздетого Морга на улицу и долго бил об капот его же собственной машины, пока у того вместо лица не образовалась густая однородная красная масса, застывающая на морозе. Сняв с него трусы, он толкнул бессознательное тело на снег, оторвал от машины номер и, нацарапав на обратной, немного проржавевшей, стороне маркером: «Я подонок», укрепил его в почти безжизненных руках.
Морг выжил: дворник нашел его утром, подметая стоянку. Лежа на больничной койке, он понимал, что жесткие порнофильмы и воскресный стриптиз теперь для него не существуют, а женщина в кровати становится в разряд несбыточных желаний, потому как никому в этом мире не нужен слепой импотент, пускай и до сумасшествия богатый.
Время…
* * *
Кэт не терпела недосказанности. После того поцелуя скрипачка начала избегать ее. Кэт потеряла голову, влюбилась без памяти. Лин, сама того не замечая, ждала продолжения, хотя ее религия и была против.
– Лин, я хочу извиниться.
– За что?
– Поцелуй, помнишь?
– Помню.
– Но я хочу сказать, что это не просто так.
– В этом доме вообще все сложно.
– Нет. Почему ты говоришь мне нет? Ты хочешь этого, я знаю. Почему нет?
– Бог…
– Лин, неужели какой-то Бог может встать между нами?
– Не он, а грех. Такая любовь – грех. Понимаешь?
– Не понимаю, не хочу понимать.
– Но так нельзя. Он не простит, накажет непременно. А я не хочу, чтобы наказал.
– Значит в угоду этому крылатому ты будешь всю жизнь гасить свои чувства? Твой Бог не лучше Черта! У того хотя бы все дозволено, пусть с подвохом, но дозволено. Как, скажи мне, как ты переступишь через себя?
– Раньше переступала и сейчас переступлю.
– Значит было и раньше?
– Было…
Кэт от досады закусила губу.
– Кто, кто тебе сказал, что любовь – грех? – она все сильнее прокусывала губу. «Пусть так, пусть лучше все сразу. Будет повод – будет смерть». – Убей сотни, тысячи – для меня ты безгрешна. А я уже в аду за то, что только смею смотреть на тебя.
– Кэт, ты больна.
– Да, это болезнь, это вирус. Мне от тебя не скрыться.
– Я тебя не понимаю, – Лин отсела дальше, чтобы в солнечном свете разглядеть человека, который резал ее на части своим признанием. – Ты не в себе.
Кэт одним рывком жесткой руки задернула занавески, утопив комнату во тьме.
– Не понимаешь? Тебе нужны знакомые слова? Сколько хочешь: небо, ночь, море, стены, потолок, я люблю тебя, закат, снег, – она встала и, не оборачиваясь, пошла к двери.
– Кэт.
Кэт посмотрела на узкую полоску света между дверью и стеной, а потом куда-то в угол. Почувствовала, что сейчас силы изменят ей, и она разрыдается. Затем сжала металлическую ручку.
– Кэт, я люблю тебя.
Слова вонзились в неприкрытую спину, как две предательские пули. Как ни старалась она не могла разжать онемевшие пальцы.
– Если ты из жалости, то право, не стоит, – прошептала она. – Жалость хуже одиночества.
Лин встала и негнущимися ногами дошла до дрожащей фигуры:
– Если выпадет снег – я согрею тебя; подует ветер – обниму тебя; прольется дождь – закрою тебя собой. Скажи мне, это жалось?
– Это безумие, и я за себя не отвечаю.
– За нас ответят другие.
Эмми очень опаздывала. Так сильно еще не опаздывала никогда. Она полетела в душ, но как всегда подлое вдохновение настигло ее в самый неподходящий момент.
Выскочив из душа (на ходу пытаясь одеться, съесть булочку, выпить кофе и не выпустить на ветер очередные бесценные строки), она старалась найти ручку, карандаш, маркер – что-нибудь, что способно оставлять след.
Поиски не увенчались успехом, и Эмми решила забежать к Кэт. Она была готова 10 раз опоздать на экзамен, только бы стряхнуть эти строки на бумагу.
Жуя булку и держа горячую чашку в руке, она ворвалась в к ней комнату:
– У тебя ручка есть?! Опять форс-мажор! – тут же чашка с кофе упала на пол и разлетелась вдребезги.
Кэт от неожиданности набросила одеяло на мирно спящую скрипачку, но оно было наброшено слишком небрежно, и из-под него торчали голые ноги Лин.
– Это у меня форс-мажор?! – кричала Эмми, плюясь булкой, – это у тебя форс-мажор!!!
– Эмми, Эмми, это не то что ты думаешь, просто так вышло… Я… Она… Я могу все объяснить…
– Не нужно ничего объяснять. Можно я буду свидетельницей со стороны невесты? Хотя, какой из двух?.. Это дилемма…
– Которую ты будешь решать за дверью.
– Ммм… выгоняешь… Ну я пойду.
Эмми долго хихикала за дверью. «Интересный у этой скрипачки Бог. Традиционная любовь у Него не котируется, Ему подавай однополую. Или она решила обвести его вокруг пальца? Не выйдет…».
* * *
Все изменилось. Они периодически выступали в разных сомнительных клубах, даже появились постоянные поклонники, приходившие на каждое новое выступление.
Кэт и скрипачка продолжали свой бурный роман, но Лин все чаще плакала по ночам и перестала молиться, ходить в церковь. Эмми и Удо жили на противоположных концах одной оси, Бес пил, нюхал и кололся. Винт…
Появились мысли о записи альбома и расширении концертной зоны. Все обрушилось…
Они отыграли ровно половину выступления и ушли покурить. Сцена не пустовала: в это время на ней показывали стриптиз три некрасивые мулатки, разрешающие любые вольности в свой адрес.
Бес закрылся в туалете и разорвал конвертик. «Сейчас мне будет хорошо. Сейчас…»
Пауза затянулась. Эмми нервничала – Бес куда-то исчез. Мулатки давно оттанцевали и были сняты на ночь, садясь в машины прямо голыми.
– Удо, где Бес?!
– Я не знаю, он не курил с нами.
– Долго еще делать вид, что мы настраиваем инструменты?
– Сейчас, сейчас я его найду, – он убежал вместе с гитарой, провод от которой был вставлен в усилитель и от сильного рывка вылетел из гнезда. Казалось, что кто-то огромный хлопнул толпе двумя ладонями по ушам.
Эмми посмотрела вокруг себя: Кэт, отложив гитару, глубоко безразличная ко всему происходящему, сонно зевала, изучая толпу извращенцев-зрителей. Винт поправлял бессчетное количество микрофонов, расставленных возле его барабанов. Лин пыталась делать вид, что совершенно не смотрит на Кэт, хотя безостановочно пожирала ее взглядом.
«Как мы вообще можем так жить: каждый сам по себе. Мы называем себя группой? Мы никто. Я никто. Так. Пустое место».
Она обернулась: в дальнем конце сцены стоял Удо и как-то странно на нее смотрел. Он стал ей противен до горечи, до судорог, до тошноты. Вся его вечная медлительность, нерешительность, неспособность сделать что-то самому, весь этот налет понта, который он напускал на себя всякий раз, когда брал в руки гитару. Ей захотелось ударить его по лицу так, чтобы из губ пошла кровь, так, чтобы он замолчал и больше не открывал своего рта.
– Где Бес?! – заорала она и попыталась ударить его по плечу.
Удо перехватил ее руку и притянул к себе, но Эмми начала вырываться.
– Эмми, он далеко, – Удо с трудом выдавил это из себя.
– Он должен быть здесь!
– Он очень далеко, Эмми, и ему будет трудно вернуться. Вот, – он протянул ей шприц с поломанный иглой и потрескавшийся кожаный ремень.
Эмми закрыла глаза, зажала иглу между пальцами. Острие впивалось в нежную кожу все глубже, все вернее корректируя сетку отпечатков пальцев. Ей хотелось еще сильнее, еще дальше вдавить ее, сделать частью себя, незаменимым штрихом этого жалкого образа.
В мужском туалете собралась огромная толпа, окружившая один из отсеков. Протиснувшись сквозь тела, Эмми увидела Беса. Он лежал на половину в кабинке. Одна нога его была опущена в унитаз, другая неестественно изогнулась, глаза были открыты, на губах застыла белая, как снег, пена.
Эмми села рядом и рукавом рубашки вытерла его губы, пальцами закрыла глаза. На безжизненно опущенных веках остались две красные полоски от пальцев. Она поцеловала его в щеку:
– Концерт окончен, – бросила она всем собравшимся поглазеть на мертвого наркомана.
Беса хоронили этой же ночью на заднем дворе, положив тело в большой черный мешок для мусора. Яму пришлось копать очень долго: мерзлая земля не хотела поддаваться. В темноте Кэт задела Эмми лопатой по лицу. Пошла кровь.
Лин плакала и, не умолкая, читала молитвы, от которых ее саму уже тошнило.
– Замолчи! – Эмми толкнула ее, заставив споткнуться о тело Беса. – Где был твой Бог, когда он всаживал иглу?
– Там же где и ты.
– Копай!
– Не кричи на нее, – Кэт закрыла собой скрипачку. – Мы все виноваты, Бог тут ни при чем!
– Ты теперь верующая? Свое мнение появилось? Копай! Копайте обе! Живо!
Удо и Винт опустили мешок в яму. Холодная, твердая, промерзшая насквозь земля громко ударялась где-то внизу, там, где теперь спал Бес.
В изголовье могилы воткнули вместо положенного креста обломанный кусок бетона, на котором черным маркером написали: БЕС.
Все, кроме Эмми, сидели на кухне и молчали. Просто пили крепкий кофе.
– Как его звали? – спросил Удо.
– Не знаю, – Кэт было стыдно.
– У него не было документов. О родных он никогда не говорил.
– И не скажет.
– Твою мать…
Эмми сидела на кровати, раскачиваясь туда-сюда, словно подражая длинной секундной стрелке часов, висевших перед ее глазами. Она пыталась вспомнить в какой позе лежал Бес, но память безбожно размыла весь этот вечер, превратив его в картину Моне: все краски и образы слились, наслаиваясь один на другой, смешивались всевозможными оттенками, пульсировали на изогнутой сетчатке глаза, обволакивая острый хрусталик своей необратимостью.
Ее уже почти не тошнило от запаха оставшейся, словно въевшейся в пальцы, крови. Эмми не помнила чья она: ее или Беса. Вдоль века ползла змей глубокая рана, и тонкая пленочка новой кожи, едва-едва появляющаяся, лопалась от каждого резкого движения, пронзая всплеском холода ее горячий лоб.
Одежда была перепачкана мерзлой землей, которую они с трудом извлекали на поверхность, чтобы потом засыпать ею остывшее тело. Молитва, перемешанная со слезами Лин, застряла между зубов; черствым хлебом внутрь провалился воздух.
Эмми вся была соткана из грубого полотна, которое невозможно износить, затереть, прорвать. Ей казалось, что она вечно будет сидеть на этой железной кровати между полом и потолком, которые приближаются друг к другу, сокращая линию отдаления между своими гладкими, как белый шелк, поверхностями. И если ее раздавят эти два квадрата, она все равно будет жить, даже этим бесформенным пятном, даже этим осколком иглы, застрявшим в вене онемевшего Беса.
В дверь тихо постучали, и из темноты выплыла голова Удо: вся комната наполнилась его невнятным, сбивчивым бормотанием. Эмми не могла разобрать ни слова. Весь Удо был как будто бы за ширмой, весь склеен из толстого стекла, весь усыпан упавшей с неба звездной пылью.
– Я тебя не слышу, Удо, где твой голос? Почему ты говоришь молчанием?! Разбей тишину! Включи свет! Моя голова… Она больше не может… Удо! Не молчи! Заори! Ударь! Сделай что-нибудь, Удо, стань настоящим!..
Бесцветная пелена заволокла ее глаза. «Во мне больше нет света. Ни капли. Ни грамма. Все вытекло. Все просочилось сквозь треснувшую кожу…».
Она проснулась глубокой ночью. На кровати рядом с ней лежал Удо. «С тобой все кончено». Взяв его сигареты, она вышла на воздух. Хотелось прыгнуть в чью-то иную плоть, перестать быть Эмми, перестать чувствовать вину, перестать чувствовать…
Она шла, не выбирая пути, просто вымеряла шагами пространство. Из темноты чьего-то двора возник Тео.
– Пошел к черту, – сказала Эмми, даже не взглянув на него.
– Беса нет. Я знаю…
– Оставь свое знание при себе и иди туда, куда шел.
– Я шел к тебе.
– Напрасно. Я предпочла одиночество.
– Поговори со мной. Станет легче.
– Уж не от смерти ли мне должно стать легче? Ему было 17.
– Мне 19.
– А мне 143!
– Он хотел, чтобы ему стало немного легче, но ушел по-глупому.
– Устроим конкурс на самую гениальную смерть? Я знаю, ангелы бессмертны, так что успокойся. Нам всем наплевать друг на друга, потому мы и травим сами себя. Он сдался первым.
– Ты думаешь он этого хотел?
– Мы все этого хотим, просто самому наложить на себя руки слишком страшно и противно. На счету нашего безразличия и самолюбия уже не один десяток душ. Будут еще. Мы научились красиво говорить, а вот чувствовать и сострадать, – нет. И все мы ни капли не верим тому, в чем старательно убеждаем других. Это наше кредо. В этом мире даже утрировать не получается: все настолько плохо.
– Да, вокруг так много свиней, что порой не хватает бисера.
– Тогда не будь одной из них. Перестань преследовать меня. С тобой я отвергаю даже дружбу. Ты инородное тело.
– Я пошел…
– Да, и ты не просто уйдешь, ты постараешься сделать так, чтобы я больше тебя не видела. Любовь – это помешательство. Сходи с ума один…
Мисс Спенсер выплыла из-за завесы лака для волос, внося свою скромную лепту в разрушение озонового слоя умирающей планеты. На своих толстых ногах со взбухшими венами она дошла до большого напольного зеркала и принялась укреплять на седой голове старомодную шляпку.
Она могла делать только небольшие шаги, поэтому любая цель для нее относилась к разряду трудно достигаемых. В магазин она ходила раз в месяц, закупаясь всем нужным наперед. И вот опять настал тот день, когда ей нужно было предпринимать усилия, передвигая свои колодообразные ноги в толпе вечно спешащих горожан. Вся она была похожа на улитку, случайно попавшую на мостовую.
Тео несся по городу со скоростью 180, плюя на светофоры и предостерегающие знаки. «Любовь – яд. Эмми – моя доза. Мне все равно, я добьюсь тебя. Я убью всех, но ты будешь моей».
Мисс Спенсер уже добралась до дороги, подождала пока загорится зелёный и неуверенно шагнула на белую линию. Пройдя совсем немного, она услышала шум стираемых покрышек и повернула голову в его направлении. По встречной полосе, едва удерживая виляющую из стороны в сторону машину, гнал Тео. Он успел разглядеть нечто грузное и вязкое на своем пути, но даже не попытался вывернуть руль, чтобы предотвратить неизбежное столкновение. В последний момент он все же опомнился, развернул машину и влетел в огромный фонарный столб.
Мисс Спенсер только вскрикнула, а Тео почувствовал сильный толчок. Его голова пробила лобовое стекло, осколок которого перерезал сонную артерию. Мисс Спенсер, не получившая ни одного механического повреждения, скончалась от разрыва сердца. Наверное, именно так умирают Ангелы…
Более не было смысла жить по-прежнему. «Лестница» замерла. Эмми разбила свою гитару и теперь целыми днями пропадала в институте, часто не приходила домой. Ей не хотелось идти туда где больше не было Беса, но было вечное напоминание о нем. Все отдалились друг от друга. Кто-то на время, а кто-то навсегда.
Срывать на ком-то зло, объясняя тем самым самому себе что это неправильно, но притягательно до одурения. Власть…
Эмми давно почувствовала, что с Лин что-то не так, и это «не так» не что иное, как отношения с Кэт. Эта нелепая борьба внутри между Богом и любовью.
– Сегодня воскресение, как же церковь?
Лин перестала есть. Она не знала, как соврать так, чтобы Эмми поверила. Ее не обвести вокруг пальца. «Думай, Лин. Раньше у тебя с этим проблем не было». За нее подумала Эмми:
– Ты проспала или решила отречься? Безбожие меня спасло, а вера уничтожает, я знаю. Постоянно жить в страхе что согрешишь, сходить с ума, воображая наказание, ожидая кары небесной. Тогда уж и жить не за чем. Вера должна давать силы, а она их откровенно отнимает.
Лин не выносила взгляда Эмми. Когда та говорила, ее глаза горели дьявольским огнем, казалось, что она давно уже побывала внутри тебя и все знает, лишь прикидываясь, что удивлена твоим ответом, реакцией и прочим. Она вставляла жало в самую болевую точку, выкручивала, давила, тащила клещами наружу то самое, что больше всего хотел скрыть человек, сидящий напротив, развивала самые щепетильные темы, зная, что крючок брошен, главное умело подсечь. Эмми придавала своему голосу все новые и новые интонации, добивалась отточенности движения, ломкости фраз. Она заставляла других слушать себя, пусть даже сказанное ею было ужасной истиной или глупейшей ересью.
– Я проспала, – сказала скрипачка, не отрывая глаз от тарелки с кашей.
– Ты осторожней, – рассеялась Эмми, – вдруг не простит? Или в твоем арсенале есть грешок поценней?
Лин вздрогнула. Ее вечно белые, как мрамор, щеки вспыхнули болезненным румянцем:
– Вам атеистам не понять Бога.
Эмми медленно намазывала масло на хлеб, восхищаясь блеском стального лезвия:
– Зато нам заранее отпущены все грехи. И походка у нас тверже, и плечи расправлены: крестов нет, нести нечего.
– Ты плохо понимаешь, что такое вера.
Эмми отложила бутерброд и, скрестив локти на столе, опустила голову на руки, прожигая взглядом Лин:
– А я, напротив, осознаю, что даже слишком хорошо. Ты очень встревожена. Что-то натворила? Я отпускаю этот грех.
Жало Эмми вошло глубоко. Даже глубже чем она могла себе представить, а потому продолжала давить:
– Не смотри так, как будто мечтаешь всадить этот нож мне в горло. Очередной грех. Помни – даже мысль есмь грех. Ну и чем же хорош твой Бог, ведь даже подумать ни о чем нельзя, – иначе ад.
– Нет, я не думала, – скрипачка смешалась, опрокинула тарелку с кашей на пол. Сидела и нервно крутила угол скатерти. Эмми добивала:
– А за травку он тоже наказывает. Или ты считаешь, если покуривать на чердаке он не заметит? Я думаю он уже решил, как проучить тебя. Берегись.
– Да, я согрешила. Уступила своей плоти. И Он не простит. Молитв не хватит. И нет таких молитв.
– Значит и греха такого нет.
– Есть!
– Искупишь.
– Как?
– Все в твоих руках…
* * *
Тонкая струйка крови уверенно ползла вдоль коридора, огибая неровности пола. Эмми шла по ней, отгоняя липкие мысли.
Дверь в кухню была закрыта. Матовое стекло лишь отражало свет, но этому творению была недоступна прозрачность.
Она слегка толкнула дверь и зажмурилась. Когда она вновь открыла глаза, картина была прежней: на стуле, откинувшись на его спинку, сидела Лин, уронив голову на грудь. Из живота торчал нож с черной рукояткой. На полу валялся листок бумаги, мелко исписанный. На него попало несколько капель крови, и они расплылись почерневшими за несколько часов кляксами.
Эмми подняла с пола лист и начала читать:
«Ты права Эмми, Бога нет. А что есть? Ты сама-то хоть знаешь?»
– Не знаю и знать не хочу. Возлюбленной Шопена ни к лицу улыбка смерти. Значит вот кто следующий. Ты слеп, город, потому и забираешь самых лучших.
На кухню вошел Удо и схватился за косяк.
– Эмми, что это?!
– Ты что не видишь? Это – смерть. А помнишь, ты тогда на сцене вот так вот говорил мне про Беса, – она протянула ему записку Лин. – Читай и чувствуй каждый звук, и не забудь обнять Кэт.
Эмми вошла в гостиную. Кэт пыталась написать маркером на щеке Винта какое-то слово, а он упорно этому сопротивлялся.
– Где мой кофе?
– Он на кухне. Кэт, там не только он. Пойдем, – Эмми повела Кэт на кухню, оставаясь за ее спиной, подталкивая к неизбежности, приближая немое сумасшествие. Кэт открыла дверь.
– Лин…
Кап, кап, кап… Из ржавого крана на дно прогнившей раковины капает вода. В пыльном углу задыхается сверчок. Кап, кап… Обгоревшие спички падают на пол, застывая черной коростой. Под обкусанными ногтями грязь. Умертвляющее тепло одеяла и всюду пепел, пепел, пепел, которым завтра станешь ты. Кап, кап… Эхо. Столь монотонно… Дыхание. Дыхание только одного из двух. Уходящая вдаль полоска черного платья. Твой запах. Кап, кап… Эту осень я проживу без тебя. Застыну в позе зародыша на белых простынях, целуя остывшие пальцы. Ты больше не улыбнешься. Я больше не поднесу огонек зажигалки к твоей потухшей сигарете, осветив смущенные глаза ярким пламенем. Кап, кап… Пятно, лежащее в луже крови. Мертвая кукла с прекрасным лицом, с поникшим ландышем в фарфоровых пальчиках.
– Лин!!!
Кэт трясла ее безжизненное тело, уронив его на пол, падая вслед за ней в лужу крови, наступая на внутренности, убирая темные волосы с ее лба, пытаясь оживить то, что увы, не поддавалось реанимированию. Эмми силой оттащила ее.
– Лин!!!
– Я прошу тебя, не трогай ее.
– Посмотри, что она с собой сделала!
– Кэт…
Эмми крепко держала ее, точно силками. Кэт вырывалась и царапала ей лицо, пытаясь вновь прикоснуться к той, которой больше нет. Эмми дотащила ее до комнаты и бросила на кровать.
– Успокойся. Это ее последние строчки, – Эмми протянула трясущейся Кэт записку. Кэт прочитала и медленно подняла глаза на Эмми:
– Это ты убила ее.
– Я никого не убивала, – она разбила пепельницу об стену.
– Убивала! Своей недосказанностью, своими многоточиями, пластилиновыми фразами, которые можно гнуть в разные стороны и придавать двоякий смысл, – Кэт продолжала швырять вещи. Она сорвала со стены раму с фотографией где она была вместе с Эмми, на минуту задержала на ней взгляд и, закрыв тыльной стороной ладони маленькую фигурку Эмми, со всей силы ударила рамкой об пол.
– Ей там лучше.
– Да откуда ты можешь знать! Для тебя смерть, как марихуана: неизвестность, наслаждение, страх. Ты знаешь, что когда кайф слетит, все будет по-прежнему: во рту останется только сладкий привкус и желание повторить. Так повтори, Эмми, повтори на бис или закрывшись в сортире! Плевать как! Полосни по венам ножом, прерви пульс! Не можешь? А она смогла! Ты отняла у меня все. Без нее мне не зачем жить. Я больше не хочу оставаться в этом мире. Дай мне уйти!
До сих пор Эмми была спокойна, насколько ей позволяли нервы. Она сидела в кресле, закинув ногу на ногу и вытянув руки вдоль подлокотников. Вдруг ее чувственный рот мгновенно искривился, на лбу проступили изогнутые складки, стало тяжело дышать. По горлу, цепляясь за его тонкие стенки длинными щупальцами, поднимался комок. Хотелось не плакать, а разбиваться о соль в каждом всплеске волны горячих слез:
– Прекрати бросать вещи!
– Не прекращу! Ты швыряешься людьми, я – вещами, – Кэт схватила со стола закрытую бутылку с пивом и со всей силы ударила Эмми по голове.
Когда Эмми вошла на кухню, пытаясь остановить кровь, заливавшую глаза, Удо вытирал красный пол своей футболкой, а Винт пытался уложить Лин в мешок из-под мусора, одновременно стараясь поймать скользкие внутренности.
– Где ты была? – спросил Удо, выжимая футболку в таз, стоящий возле его колен.
– Пыталась изменить будущее, – в глазах у Эмми потемнело, разбитая голова болела и кружилась.
– Поздновато, – сказал он, указывая на большой пакет, в который Винт все же упаковал Лин. – Знаешь, Эмми, похоже, что это просто невозможно.
– Время покажет.
– Эмми, у меня плохое предчувствие.
– Никогда не думала, что буду так говорить, но молись, Удо. Молись за живых пока не поздно.
– Куда ты? У тебя кровь, – он попытался ее задержать.
– Желаешь устроить еще одни похороны?
– Она ничего с собой не сделает.
– Ты ее не знаешь.
– Я и тебя не знаю, – он отпустил Эмми, и она, шатаясь, понеслась разыскивать Кэт, совершенно не веря в благоприятный исход.
Кэт бежала по улицам, падала, обдирала ладони. Вновь поднималась, налетала на людей, тыкаясь переносицей в их спины. Глазами, ничего не видящими от слез, она искала ту, которой больше нет. Она звала, разворачивала тела, вглядывалась в их лица.
– Лин, где ты? Верните мне ее! Ты – не она, – Кэт оттолкнула незнакомую девушку, – вы все… Вы просто картонная модель без сердца. И вы все верите в этого Бога, – она упала на колени посреди улицы и посмотрела в небо, – будь ты проклят!!!
Люди оборачивались, смотрели на нее, жалели, ненавидели, боялись. Никто не подошел. Пару раз ее грубо оттолкнули, ударили по лицу.
Она бежала до тех пор, пока не смогла больше сделать ни шагу. Остановилась.
Кэт сидела на асфальте с незажженной сигаретой. Она не помнила ничего, просто знала, что что-то случилось. Как она оказалась здесь ей было все равно.
Подошел пьяный парень:
– Конфетка, повеселимся?
Кэт не отвечала.
– Ты чего такая? – Кэт не двигалась и не издавала никаких звуков. – Эй, я заставлю тебя кричать от удовольствия, – он схватил ее за волосы и потащил к заброшенному дорожному переезду, густо заросшему кустами. В темноте было слышно, как два раза ударил ее по лицу.
Она очнулась в машине скорой помощи.
– Мне больно.
– Я сделаю укол, и ты уснешь, – рядом с ней сидел санитар. Форма на нем была не свежей, вся в каких-то мелких, едва заметных, пятнах, отчего они становились еще более раздражающими. Кровеносный сосуд в его левом глазу лопнул, и каждый раз, когда он на нее смотрел, Кэт хотелось плюнуть ему в лицо или наблевать на руки, которыми он поддерживал ее тело, чтобы она не упала с носилок на поворотах.
– Навсегда?..
* * *
Смерть, расставание, расстояние, психиатрия…
Белые стены, за которыми спрятали мир.
Эмми стояла и смотрела сквозь толстое стекло как Кэт, сидя за огромным столом, рисовала что-то черной краской на таком же огромном листе бумаги.
– Вы хотите пройти к ней? – спросила медсестра, подавая Эмми тарелку с протертым супом. – Это ее обед.
– Да… Да, конечно…
Эмми вошла в комнату. Никто не обратил на нее внимания. Она отодвинула лист и поставила на его место тарелку. Кэт обмакнула в нее кисточку. Пятно расплылось по поверхности.
– Кэт, здравствуй. Я принесла тебе печенье. Шоколадное, как ты любишь.
Кэт отложила кисточку.
– Скоро, Кэт, скоро ты выйдешь отсюда, я заберу тебя, я не оставлю тебя им.
– Если бы у меня были крылья, я унесла бы тебя в небо, нарисованное на стене соседнего дома. Если бы у меня были крылья… Если бы…
– Кэт, прости меня, – по щекам Эмми текли слезы, – это я убила ее. Я… Всех вас…
– Если бы у меня были крылья…
Врать не придется. Коснувшись рукой твоей шеи, Под пленкой трепещет и бьется Мое отражение. Но вожделенье прольется Сквозь цепи беспамятства, Мы сшиты накрепко одной стрелой, Красавица…THE END
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




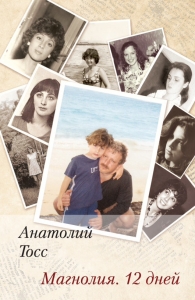


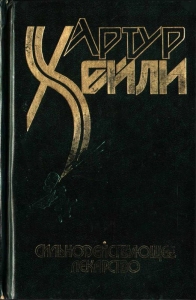

Комментарии к книге «Голоса», Ксения Константиновна Коваленко
Всего 0 комментариев