Виктор Гришин Там, где сходятся меридианы
© Виктор Гришин, 2017
© Интернациональный Союз писателей, 2017
* * *
Об авторе
Родился на Волге в городе Кинешма. Окончил Горьковское речное училище имени И.П. Кулибина, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук. Автор ряда монографий и научных статей по финансовому анализу, финансово-банковским рискам. Служил в ВМФ СССР, Работал в Заполярье. Лыжник-марафонец. Инструктор по подводному плаванию. Это все в прошлом. Сейчас на пенсии. Сосредоточился на воспитании внуков и творчестве.
Член Союза писателей России. Автор восьми книг. Печатался в журналах: «Невский альманах», «Водный транспорт», в серии мариниста А. Покровского «В море на суше и выше», в казахстанском журнале «Нива», красноярском альманахе «Новый Енисейский литератор», норвежском журнале «Соотечественник», молдавском «Наше поколение», финском «Что есть истина». Автор ряда статей по литературоведению и публицистике.
Печатался и печатаюсь в российских, международных печатных и интернет-изданиях. Финалист, лауреат, победитель ряда всероссийских и международных литературных конкурсов. Имею обширный список попадания в лонг и шорт-листы. Это меня радует. Значит, чем-то заинтересовал, следовательно, можно работать дальше.
Предисловие
…Далекие восьмидесятые. Я, молодой специалист, по распределению был направлен в Печенгский район Мурманской области. Проезжая поселок Печенга, мой попутчик кивнул в сторону мрачного деревянного сруба армейской КЭЧ:
– Это Трифонов Печенгский монастырь. Вернее, то, что от него осталось: старая церковь рождества Христова. – Место это намоленное, – добавил.
Таким сохранился до наших дней Трифонов Печенгский монастырь, основанный преподобным Трифоном в 1533 году как форпост земли русской в Лапландии, что привольно раскинулась в скандинавском и кольском Заполярье. Через пятьдесят семь лет финские шведы разорили его, злодейски погубив 116 монахов и послушников, останки которых нашли при ремонте фундамента церкви. Остаться равнодушным к такой информации было нельзя.
Шел 1982 год. Не мудрено, что информации о Трифонове Печенгском монастыре я не нашел. Помог случай. Печенгский райком партии готовился к торжественной дате освобождения Печенгской земли от немецко-фашистских захватчиков. Нужна была история района. Обойти такую реликвию, как монастырь, не могли. Работник газеты «Советская Печенга» дал мне почитать на одну ночь потрепанную книгу без обложек с вырванными страницами репринтного изготовления. Прочитав ее, я узнал о Трифонове Печенгском монастыре, его истории. Да и не только о монастыре. Узнал о местных святых: Трифоне Печенгском, Феодорите Кольском, Варлааме Керекском. Понял, что форпостом русской земли на крайнем севере стояли церковь Бориса и Глеба, часовня Святого Георгия, монастырь Трифона Печенгского. Через много лет я узнаю, что прочитал за одну ночь книгу «Валаамские старцы» Янсона М. А., изданную в Берлине в 1938 году. Автор описывал ситуацию с церквями и священнослужителями жестко, правдиво.
Летели годы. Я с трепетом подхожу к церкви Бориса и Глеба, что разместилась в анклаве один километр квадратный на территории Норвегии. Колени становятся мягкими, я присаживаюсь на ближайший камень. Вот она, церковь Бориса и Глеба, творение Трифона Печенгского, который неутомимо раздвигал присутствие православия на территории Лапландии, населенной саами.
Построена церковь преподобным Трифоном Печенгским в 1565 году на реке Паз. В реке он и крестил саамов. По-саамски река называется Бассай, что означает «святой» – в Лапландии она стала чем-то вроде Днепра для древних русичей. Освящена церковь в день памяти святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. «Крещение толпы лопарей, – пишет знаток лопарской истории Д.Н. Островский, – напомнило преподобному Трифону о крещении Руси на Днепре святым князем Владимиром и навело на мысль построить здесь для новокрещеных церковь во имя сыновей Владимира святых Бориса и Глеба, как бы вдвоем покровительствующих ему, Трифону, и сподвижнику его Феодориту»
Мало кто знает, что церковь Бориса и Глеба, помимо символа веры, оказалась ориентиром, доказавшим в 1826 году при демаркации границы исконно русскую территорию.
Церковь стояла в снегу, не было ни малейшего намека на человеческое присутствие. А его и не было. Я уже знал, что после войны, во время строительства каскада Пазских ГЭС, церковь Бориса и Глеба, крепко пострадавшую от боев в 1944 году, отремонтировали. В ней был размещен ресторан в стиле «а ля рюс» норвежских строителей. В Норвегии тогда был жесткий «сухой закон» и норвежские гидростроители оставляли в нем свои заработанные кроны. Знакомый норвежец рассказывал мне, что его, еще мальчика, папа, в дни получения зарплаты, брал с собой, чтобы было кому везти машину домой.
Время шло. Мой сопровождающий стоял рядом и деликатно покашливал. Пора уходить. Пролетело время. Не хочу говорить о лихих девяностых. Это каиново время должно исчезнуть из памяти, слишком оно кровоточит. Но было светлое пятно в жизни Кольского Заполярья.
Так в 1992 году восстановили церковь Бориса и Глеба. В 1997 году Святейший Синод утвердил Постановление о восстановлении Трифонова Печенгского монастыря. Монастырь получил вторую жизнь, но ненадолго. Восстановленная в XIX веке обитель, пережившая суровые испытания во время Великой Отечественной войны, в 2007 году сгорела дотла.
Просуществовав в очередном своем воплощении лишь 10 лет, монастырь не исчез на многие годы, как это уже было в его истории.
Монастырь было решено возродить. Не отдельную церковь, а весь комплекс. Восстановить монастырь в том виде, какой он имел в начале XX века на месте его первоначального расположения, в поселке Луостари Печенгского района Мурманской области. Единодушие власти, народа в исполнении решения было достойно всяческой похвалы. В 2010 году восстановление Трифонова Печенгского мужского монастыря, крупнейшей и самой северной православной обители на Севере, заканчивается, и он возрождается. В 2012 году братия переселилась на территорию новоотстроенного монастыря.
Повесть «Там, где сходятся меридианы» печатается в сокращенном варианте, но автор постарался отобразить обстановку, в которой возрождались после длительного небытия святыни российского заполярья. Повесть написана на основании действительных событий, герои, в большинстве своем, реальны.
Монастырь
Печенгский монастырь… Смотрю с тоской:
Какая дряхлость, обветшалость, хилость…
Восставший из немилости людской,
Ты сам собой являешь Божью милость.
Н. Колычев, «Сказание о ста шестнадцати мучениках»Серый клинок шоссе безжалостно разваливал скалистую плоть Печенгского перевала. Некогда непреступная твердыня бараньих лбов уступила человеческому натиску и нехотя освободила место для дорожного полотна. Навстречу машине летела тундра с искрученными жестокими ветрами стволами заполярных берез, которые прижимались к земле, сохраняя жизнь. Из мха выпирали гранитные клыки. Они, хищно осклабившись, дожидались своего часа, когда водитель, взяв слишком крутой вираж, окажется в их власти. Верхушка перевала попирала небо, и серые облака вольготно разлеглись на склонах. Мотор, надрывно воя, выносил транспорт на вершину, и водитель, вытирая взмокший лоб, видел красоты, открывающие с макушки легендарного горного массива. Ему открывались перспективы древней Печенгской земли: суровой, нелюдимой. Волнами, одна за другой, шли покатые сопки на воссоединение с сопками скандинавского полуострова, а те, в свою очередь, перерождались в гранитные разломы норвежских фьордов. Где-где островками обитания человека проскакивали поселки, разъезды, военные городки. Картина открывалась путешественнику довольно невзрачная: кучка замусоленных пятиэтажек, ангары для боевой техники, полуразрушенные бараки.
Затем начинался длинный спуск под названием Тещин язык. Летом он особенных проблем не составлял. Был даже приятен, так как за минуты транспорт скатывался от горной тундры в распадок с довольно богатым разнолесьем. Затем водитель выезжал на ровную дорогу, и перед ним открывалась панорама Печенги. Добавить что-то новое к описанию заполярного поселка сложно. Но изменения были. Так вокруг мрачного деревянного сруба армейской КЭЧ (квартирно-эксплуатационная часть, кто не знает) возник свежий забор, а фронтон крыши венчал небольшой крест. Это возродился Трифонов Печенгский монастырь. Вернее то, что от него осталось: старая церковь рождества Христова.
У монастыря было сложная история. Основал его Трифон Печенгский, просветитель лопарей. Сам монастырь находился в поселке Луостари. «Луостари» в переводе с финского означает «монастырь». В поселке Печенге стояла только церковь Рождества Христова. Именно этими святыми местами определялись два так называемых центра монастыря. Верхний монастырь или пустынь, где находились мощи преподобного Трифона, размещался на месте слияния рек Печенги и Манны. Это был духовный центр. Нижний монастырь с могилой 116 мучеников в устье Печенги – был центром хозяйственным.
Пламя Великой Отечественной войны спалило почти весь поселок Петсамо и с ним остатки монастырского комплекса. Погибло все, что не уничтожили в Зимнюю войну. После войны здесь расквартировали Краснознаменную мотострелковую бригаду, и все мало-мальски пригодные здания бригада прибрала под свое крыло. Здание церкви уцелело, и военные разместили в ней КЭЧ. По слухам, идущим от старожилов, церковь не претендовала на эти остатки. У нее руки не доходили до храмов и в более людных местах. А потом, на что претендовать? Древняя Печенга до войны носила непривычное для русского уха название «Петсамо», и требы в помещении еще дореволюционного храма справляла финская церковь. Она окармливала протестантскую паству. Так что армейцы, недолго думая, пристроили здание культового учреждения под свои нужды. Время было послевоенное, напряженное. До границы с Норвегией каких-то сотня километров. А Норвегия хотя и была благодарна Советской армии за освобождение заполярного порта Киркенес, но вытерла пот со лба, когда Северный флот и армия генерала Щербакова убрались оттуда. Мало этого. Слыша, как грохочут солдатские сапоги на Печенгской земле, Норвегия, от греха подальше, в 1949 году вступила в НАТО, чтобы окончательно обезопасить себя. Да и насчет паствы было сложно: пограничная зона, основной контингент – военные. Труженики поселка Никель, в подавляющем большинстве нестарые люди, были заняты восстановлением горно-металлургического комбината, и трудовые реляции для них были важнее, чем спасение души в будущем.
Прошло военное лихолетье. Пролетели шестидесятые-семидесятые. И страну залихорадило. Застоявшаяся, засидевшаяся у власти верхушка КПСС потеряла ориентацию в пространстве и времени. Будучи студентами, они пропустили лекции по истории и не читали Льва Гумилева. Он толково рассказал в своей теории о пассионарности, что нет ничего вечного в мире. Верхушка уверовала, что СССР вечен и почивала на том, что выработали предыдущие поколения. Они даже не думали, что империи могут изживать себя и разваливаться. Правда, такая империя, как Римская, существовала пару тысячелетий. Но для СССР хватило и семидесяти, ничего не значащих с позиции истории, лет. А с пришедшим новым руководством КПСС в лице Горбачева наступил последний этап существования некогда непобедимой и могущественной страны. Старцы из Политбюро быстро сдали свои позиции, гарантированные конституцией, и отошли в небытие. Они, старцы, считали, что их за такие деяния будут вечно благодарить благодарные потомки. Но не тут-то было: волки, из так называемого демократического гнезда, быстро сгребли их лопатой как некую субстанцию и выбросили туда, куда обычно выбрасывают вышеупомянутую субстанцию. На смену социалистическому строю пришел вроде бы как новый, но такой уже старый капитализм. Но это слово «отцы перестройки» умело заменили рыночной экономикой и без труда овладели страной. Пошли преобразовательные процессы, в том числе была возвышена или, как говорят, восстановлена истинная роль православной церкви. На этой волне армейское командование передало Мурманской и Мончегорской епархии, то что, что осталось от помещения церкви рождества Христова Трифонова Печенгского монастыря. Сиротствующий храм нес на себе печать полной заброшенности и холодного равнодушия. Господь уберег церковь от полного уничтожения.
Но церковь не испугалась разрухи. Возникшая на Мурманской земле в 1995 году Мурманская и Мончегорская епархия взялась за дело. На месте КЭЧ появилось подобие храма. Конечно, здание меньше всего напоминало церковь в ее общепонимаемом виде. Но «не суди, судим не будешь». И, слава Богу, на месте армейской развалины появился храм. Место было святое. Упокоены мощи 116 мучеников, находящиеся в крипте храма Рождества Христова. Сохранилась намоленность, а для церкви это самое главное. Формы – дело наживное. В мае 1995 года по благословению епископа Архангельского и Мурманского Пантелеймона началось восстановление храма Рождества Христова «Нижнего» Трифонова Печенгского монастыря. Стала возрождаться монашеская жизнь. Сбылось пророчество Преподобного Трифона: «Не оставит Господь жезла грешных на жребии Своем».
Водители тормозили у моста через быструю речку Печенгу и останавливались у новенькой часовенки. Основная часть дороги была пройдена. Можно посидеть, перевести дух. А тут часовенка, восстанавливающийся храм. Стучат топоры за забором, переговариваются трудники, снуют чернецы, послушники. Сядет водитель на лавочку и непременно подумает о добром и вечном. Уже хорошо. А если снимет шапку перед священником или приподнимется перед бабушкой, то не все потеряно на некогда Великой Руси.
Едут, едут… куда едут… – думал Данилка, глядя на вереницу автомашин, стремительно мчащихся со стороны перевала.
Грохотнув по мосту через реку Печенга, водители притормаживали возле часовни, затем гнали дальше.
– В Норвегию едут, – провожал их глазами Данилка.
Он стоял у калитки, облокотившись на черенок метлы, которой сметал мусор возле обители.
– Чудно, – размышлял мальчишка, тщательно убирая мусор, летящий с дороги. – Стоит монастырь, огородившись от мира. А мимо проносится жизнь, чужая, сверкающая никелированными деталями и хрустальными фарами машин.
Данилка боялся этой жизни, хотя она тянула его, тянула с необъяснимой силой. Так тянет к себе темный омут. Завлекает нырнуть. Хотя знаешь, что там водовороты, которые не то что человека, скотину на дно уволокут. Все знаешь, а тянет.
Данилка задумался. Он в обители давно. Почти с восстановления монастыря. Он хорошо помнил как его, затравленного голодного звереныша с улицы Зеленой, что в городе Мурманске, забрал настоятель теперешнего храма. Не мог пройти суровый инок мимо широко распахнутых глаз мальчишки, из которых синей лентой выплескивалось отчаяние. Столько боли плескалось в этих голубых озерах, что монах только глянул на подростка и коротко сказал:
– Пойдем.
И мальчишка пошел, на ходу подтягивая синтетические заношенные штаны и нелепо шлепая растоптанными, явно не по размеру, кроссовками. Монах подошел к кованой ограде Свято-Никольского кафедрального собора, открыл калитку и прошел на территорию. Данилка – за ним. Он и раньше частенько болтался здесь. Но тогда это все было по-другому. Шли тихие старушки в беленьких платочках, пристойно молились и возвращались обратно со своими аккуратными узелками. Потом здесь стали толкаться взрослые люди. У них были опущены плечи, потухшие глаза. Они шли в храм, неумело крестились. В выходные дни к церкви подьезжали появившиеся на улицах города огромные автомобили-чудовища. Джипы – узнал Данилка их название. Они были черные, с густо тонированными стеклами и ярко горевшими хрустальными фарами. Их хозяева были под стать своим машинам. Такие же массивные, подстриженные под внезапно возникшую моду-аэродром, которая обнажала чудовищную, заплывшую жиром шею и маленькие прижатые уши. Эти машины святили. Возникла такая мода: святить машины. Священники, выходили из церкви, пряча глаза, окропляли автомашины святой водой и поспешно уходили. Стоящие вокруг люди плевались и отворачивались. Хозяева этих машин, старательно распахивая рубашки, чтобы был виден огромный золотой крест, прилипший к потной волосатой груди, неумело прикладывались к руке батюшки. Затем поспешно садились в чрево своих монстров. Закрывшись прочными дверями с черными стеклами, они начинали чувствовать себя в своей тарелке. Развернувшись, на огромной скорости они мчались от церкви, словно сделали что-то постыдное. А им вслед смотрели грустными глазами святые отцы, только что совершившие таинство.
Все это не укрывалось от пытливых глаз мальчишки. Он заметил, что в их коммунальной кухне появилась бумажная иконка. На ней был изображен старик с поднятой рукой. Кто он такой и чем он славен, Данилка понять не мог. Да его это не интересовало. Их старенькие обои в коридоре и на кухне не такое видели. После того как икону разместили в углу кухни, да еще украсили бумажными цветами, тетя Тася (так звали их соседку) частенько прикрикивала на своего благоверного дядю Васю.
– Ты хоть бы, ирод проклятый, Бога побоялся!
На что дядя Вася, принявший на грудь маленькую по случаю дачки (так называли зарплату на фабрике орудий лова, где трудился дядя Вася), ответствовал:
– Тась, а я что. Ничто я супротив Бога. И он, наверное, не прочь пропустить по случаю. А, Тась! – Дядя Вася сгибался в свой немалый рост к коренастой супружнице. Она замахивалась на его полотенцем, которым вытирала посуду и кричала:
– Уйди с моих глаз долой! У-у-у! Аспид окаянный.
Дядя Вася усмехался и, ущипнув мимоходом Данилкину мать, стоявшую рядом, возле своего столика, устремлялся к выходу. Возмездие его настигало. Два влажных полотенца припечатывались к тощей спине, облаченную в выцветшую, когда-то синюю майку.
Данилка жадно поглощал горячую гречневую кашу и слушал, как за стенкой спорили:
– Всех тремя хлебами не накормишь. Не Христос! – властными нотками баритонил голос.
– А как же Бог, Отче, – спокойно, но с прерывающимися нотками молодости, вопрошал другой голос.
– Что Бог? Власть есть светская. Ее задача беспризорников спасать.
– Это же дети, Отче. Как им жить на улице, – не сдавался голос, тот, что звонче.
– И что, что дети. Куда ты их приведешь. Нет при храме богадельни, – упорствовал властный голос. Затем неожиданно:
– Впрочем, поступай, как знаешь. Едешь настоятелем в монастырь. Вот и забирай его трудником.
– Спасибо, Отче, – повеселел молодой голос.
– Спаси тебя Бог, – ответил голос старше.
Спал Данилка в комнате, которую называли кельей. Он с удовольствием вытянулся на чистой постели. Перед тем как лечь спать, он принял душ, и тело, отвыкшее от горячей воды, истомлено ныло. Когда он вернулся, то не нашел своей одежды. Его драные штаны и куртка исчезли, а на их месте лежали серые брюки и мягкая рубашка. От вида домашней одежды заныло сердце. Больше полугода болтался Данилка по знакомым. Родственников у него не было.
Он поворочался в кровати, попытался заснуть, но сон не шел. Мать. Где она сейчас? Он пытался восстановить в памяти цепочку событий, которые привели его на улицу. Перебирая разрозненные лоскутки своей короткой жизни, он уснул.
– Просыпайся, отрок, – гулко раздалось в келье.
Данилка испуганно подскочил.
«Какой ты пуганый», – подумал зашедший в келью монах, глядя на испуганно подскочившего мальчонку. Но вслух сказал:
– Не бойся, тебя здесь никто не тронет.
Монах, приглаживая густые, начинающие седеть волосы, прохаживался по келье и рассматривал Данилку. Тот быстро одевался.
– Крепко же тебе досталось, крепко, – думал он, видя волны страха в прозрачных голубых глазах мальчика. – Не бойся, – повторил он, – это голос у меня такой, командный. И улыбнулся.
Он оказался совсем не строгим, и мальчик узнал в нем того монаха, который подобрал его на улице.
– Одевайся, иди завтракать. Скоро поедем.
На немой вопрос Данилки монах пояснил:
– Поедем в новый монастырь, брат. – Потом спохватился: – Тебя звать как, отрок?
Данилка назвал себя.
– Данилка? Даниил, значит. Это хорошо. Как князя Московского. Знал такого? – почему-то обрадовался священник.
Данилка покраснел. Вопрос напомнил ему о школе. А он не был в ней давно. Его настроение не скрылось от священника.
– А меня – отец Владимир. Тоже княжеское имя. Был такой князь на Руси. Еще Русь крестил, – добавил.
Данилка слушал его и, незаметно для себя, нахохлился. Он забыл про школу, а священник помимо его воли влез к нему в подсознание и разбудил больную точку. Почему? Сто тысяч «почему» роилось в голове мальчишки. Почему школа быстро поляризовалась на бедных и богатых? Почему многих детей стали возить на машинах, а Данилка шел в школу, забыв про завтрак? Священник уловил настроение мальчишки и, хлопнув его по плечу, сказал:
– Ничего, Даниил.
Данилка вздрогнул. Никто его еще так не называл.
– Все образуется. – Помолчав, добавил совсем другим тоном: – Иди ешь, – и слегка подтолкнул мальчишку.
– Документы у тебя какие-нибудь есть? – крикнул отец Владимир вдогонку.
Данилка отрицательно покачал головой. Не было у него документов. Да и какие могли быть документы у беспризорного мальчишки с улицы Зеленой в лихие девяностые годы, когда не только дети, взрослые забывали себя.
– Забыл спросить фамилию, – вспомнил священник. Как же обращаться в милицию, чтобы ретивые стражи порядка не обвинили его во всех грехах? – Схожу в школу, – решил он.
Данилка тем временем наворачивал вкусную кашу, которую ему заботливо подкладывала повариха. Ее здесь просто звали баба Надя. Видя, как мальчишка тщательно вытирает тарелку корочкой хлеба, баба Надя отошла к печи и незаметно вытерла глаза платком. Безошибочным материнским чутьем она поняла мальчишку, как он настрадался, и не смогла сдержать слез.
«Господи! Видишь ли ты! Слышишь ли ты! Что же такое делается! – взывала она к хмурому Спасу, что размещался на кухне в красном углу. – Что делается в некогда благополучной стране! Стране счастливого детства, когда слезы ребенка рассматривались как ЧП», – думала баба Надя.
Неужто за такое будущее погиб ее отец, ушедший в народное ополчение и сложивший голову в Долине Смерти. Она, Надюшка, после семилетки ушла на рыбозавод, чтобы помочь матери поднять младших. Голодно было, но не холодно. Не было брошенных детей. Искали родственников. И не было случая, чтобы оставшиеся в живых родные не приютили сироту. А сейчас! Что случилось со страной? Что за напасть настигла ее через семьдесят лет Советской власти. Что за оборотни пришли к управлению! Много мыслей роилось у бабы Нади, много. Она, пригорюнившись, по-старинному приложив ладонь к щеке, смотрела на изголодавшего пацаненка.
– Мать-то у тебя где? – спросила она, когда Данилка умял вторую тарелку каши и сыто откинулся на спинку стула.
– Не знаю, – послышалось в ответ.
– Как не знаю, куда она делась? – не сдавалась баба Надя.
– А так, не знаю, – буднично произнес Данилка. Потом добавил: – Спилась.
Баба Надя охнула. Что угодно она могла услышать от мальчишки, но чтобы такое… Спилась женщина! Спилась мать и оставила ребенка. Такое русской женщине не могло придти в голову. Данилка тем временем шумно пил сладкий чай.
– Так дом-то у тебя есть? – обреченно спросила она.
– Не-а, – как-то просто ответил Данилка, дотягивая сладкий чай из блюдечка.
Баба Надя вздрогнула: уж очень он напомнил ей своих внучат, которые сейчас жили в средней полосе.
– Как это нет? – строго спросила баба Надя. – Ты где же раньше жил? – Не отставала она.
– Да здесь, на Зеленой, – нехотя ответил мальчишка.
Он задумался о чем-то своем и разглядывал блюдце. Баба Надя житейской мудростью поняла, что больше ни о чем его не нужно расспрашивать. Этот мальчонка с удивительно прозрачными голубыми глазами хлебнул столько, что не каждому взрослому под силу. Она вздохнула и добавила:
– Ты отцу Владимиру скажи, что заехать домой нужно. Вещички какие-никакие взять нужно.
Данилка задумчиво уставился в донышко блюдца. Какой дом?! Какие вещички?! Что он мог сказать этой заботливой старушке, что мать давно пропила все, что было в доме? Мало вещи, она пропила и комнату в коммунальной квартире. Чужие люди поменяли замок в комнате, и Данилка оказался на улице.
– Не, – сказал Данилка, выбираясь из-за стола. – Никуда я не пойду. – Потом добавил тише: – Никуда я не пойду.
Баба Надя все поняла, что творилось в душе у мальчонки.
– Ну и ладно, не хочешь – не ходи, – скороговоркой, по-стариковски, заговорила она: – Иди пока, поиграйся во дворе. Отец Владимир закончит дела, и поедете с божьей помощью.
Она быстро перекрестилась. Данилка хмуро усмехнулся.
Поиграйся! Как это давно было, когда он мог со своими сверстниками погонять мяч по улице и, услышав крик матери, что пора ужинать, крикнуть в ответ: «Иду, ма…»
Сглотнув ком в горле, он вышел из поварни и подошел к забору из кованого железа. Перед ним лежала улица Зеленая. Его улица, знакомая с детства. Он взялся за холодные прутья забора и прижался к ним лицом. Холодный металл приятно обжигал мальчишеское лицо. Он смотрел на свою улицу и понимал, что видит ее в последний раз. Не будет у него ни дома, ни улицы. Все в прошлом. Дом, улица. Да что там дом и улица! Страна, и та в прошлом. Его неожиданно отвлек собачий визг, и что-то мокрое и холодное ткнулось в руки. Данилка вздрогнул, очнулся и посмотрел вниз. Там он увидел собачьи лапы и черный мокрый нос.
– Тузик! Ты! Ах, бродяга! Не забыл друга по несчастью.
Тузик в ответ скулил и тянулся к Данилке, но фундамент стены мешал ему. Данилка просунул руки через прутья и, схватив собаку за бока, приподнял ее.
– Тузик! Тузик! – повторял он, сжимая кудлатого грязного пса.
Тот, благодарно повизгивая, вылизывал лицо мальчишки. Нужно было что-то делать. Бросить друга Данилка не мог.
– Тузик! Ко мне! – скомандовал он.
Тузик рванулся через ограду, но тут же с визгом отпрыгнул назад, наткнувшись на увесистую палку монаха, дежурившего у дверей.
– Это моя собака! – закричал Данилка, бросившись к монаху.
– Не положено в божьем храме, – строго сказал высокий монах, закрывая калитку. Тузик, словно понимая, что ему путь закрыт, сжался поодаль, подняв переднюю лапу, словно ему было холодно.
– Поговорю с отцом Владимиром, – решил Данилка и пошел в здание, где размещалась келья.
«Волга» мягко качнулась на стыке Кольского моста и взяла вправо. Мурманск посмотрел на Данилку с другой стороны залива. Данилка рассматривал город, словно видел его впервые. Он любил свой город и сейчас любовался им, привольно раскинувшимся на сопках. Данилку будоражили морские суда, стоящие на рейде и под разгрузкой. Ему нравилось наблюдать за портальными кранами, которые как журавли что-то деловито клевали в бездонных трюмах. Нравился резкий запах рыбы, идущий волнами от рыбокомбината. Это все были запахи города, его города. А сейчас он уезжал. Уезжал из своего города и не понимал, куда и насколько долго. «Волга» резво бежала по серому асфальту и резко свернула влево. Мурманск заглянул в заднее окно и пропал. По бокам потянулись нескончаемые сопки, покрытые свежей, не успевшей заматереть, зеленью.
Отец Владимир откинул голову на подголовник кресла и перебирал события дня. Все прошло удачно. Даже в милиции, куда он обратился по поводу беспризорного Данилки. Уполномоченный по детству была только рада, что Данилка пристроен хотя бы на лето. Не удалось только найти свидетельство о рождении мальчишки, но милиция выручила и дала справку.
– Ты историю Трифонова Печенгского монастыря знаешь? – не поворачиваясь спросил он парнишку.
Данилка отрицательно покачал головой. Для него вопросы религии начинались и заканчивались на улице Зеленой возле Свято-Никольской церкви. Куда он едет, Данилка не задумывался. Хуже не будет. Хуже было уже некуда.
Отец Владимир рассеянно осматривал окрестности шоссе. Северное небо, необычно голубое, стремительно надвигалось на машину и разбивалось о лобовое стекло. Белые пушистые облака островками висели в безбрежном пространстве и манили своей чистотой. Свежий ветер врывался в открытое окно и шевелил рыжеватую копну волос отца Владимира.
Заполярье. Какое емкое и значительное слово. Кажется, когда произносишь его, грудь становится шире и голос увереннее. Он любил Север, хотя сам был со средней полосы. Но не вызывала она у парня тех эмоций, которые переполняли его, когда он впервые оказался в Мурманском крае.
Лапландия – край суровый и нежный, край черной полярной ночи и белого летнего дня. Дантовым адом воспринимали ее люди пришлые, но для коренных жителей – это колыбель, мать, отчий дом, где каждая березка, каждая сосенка словно родные. Так хотелось отцу Владимиру, чтобы его не считали «варягом», то есть пришлым.
Но до этого была служба в армии, горячие точки. Потом духовная семинария. «Духовка», как нарекли свое учебное заведение семинаристы. Потом заветный Север. И вот он едет настоятелем в самый северный монастырь: Трифонов Печенгский.
– По правде сказать, монастыря там никакого еще нет, – сказал ему седовласый архиепископ, – Все в забвении и разрушении. Но главное сохранено: намоленность храма, его история. – Могилы убиенных за веру, – помолчав, добавил он.
– Даю тебе, сыне, послушание. Нелегкое послушание. Нужно восстановить сию обитель, окормить стадо заблудшее, – вздохнул архиепископ. – Первым делом начни требы справлять. Народ как стадо заблудшее в мире хаоса. Ему пища духовная нужна. Но от дел хозяйских не чурайся, – архиепископ мерно шагал по кабинету. Ты там не только наместник, ты и строитель храма.
– Верю в тебя, ты молодой, справишься, – Вспоминал Владимир напутствия архиепископа – Судьба у монастыря, прямо скажу, трагическая. Ему, если выразиться мирским языком, не везет. Да ты знаешь, наверное, что преподобный Трифон Печенгский построил православный храм и основал на реке Печенге монастырь во имя Святой Троицы для обращения местных племен в православную веру. В 1589 году шведы его разрушили. По указу царя Федора Иоанновича, монастырь для безопасности перенесли за реку Колу. Затем снова пытались возродить обитель на святой Печенгской земле. Пробовали и в 1824 году, и в 1867 – все безуспешно. Видно, не было на то Божьего благоволения. – Архиепископ заметно волновался. Видно, что тема была его. Отец Владимир сидел, впитывая слова архиепископа.
– Но 1886 год все расставил по своим местам, – продолжил архиепископ. – Прибыли соловецкие монахи во главе со строителем иеромонахом Никандром и взялись за возрождение монастыря. Затем появился достойный последователь настоятель иеромонах Ионафан. Восстанавливалась сия обитель «для противодействия пропаганде католиков, лютеран и раскольников и для распространения православия среди лопарей». Стал монастырь прирастать богатством и братией монашествующей. Но видно снова не судьба – революция.
– Вот сейчас восстанавливаем, что осталось, так новая проблема возникла. Матушка наша, игуменья, в искус впала: скрылась с доходом от гуманитарной помощи. Верни веру братии. Монастырь нужно восстановить, прежде всего, как духовный центр Кольского края. Здесь должна сформироваться утраченная школа русского монашеского старчества. Дело это очень важное, и мы видим, что оно угодно Трифону. Но восстанавливать нужно не колхоз, населенный монахами, а обитель, способную помочь русскому народу обрести полноценное духовное будущее. Вот для чего все создается! И все здесь должно быть хорошо устроено, должно ложиться на душу. Восстановление монастыря – это, прежде всего, наша решимость. Она усиливается старанием, верностью, преданностью пути, на который мы встали. Восстановление обители – шаг к разговору с Богом.
Архиепископ замолчал. Отец Владимир понял, что время его истекло, и подошел для благословления.
– Тут Господь должен сказать свое слово. Надо, чтобы он заговорил с нами. Это нам в первую очередь нужно. И мы должны быть готовы к разговору с ним, – прощаясь, сказал архиепископ.
Обычно разговорчивый водитель, чувствуя настроение молодого священника, молчал. Данилка оцепенел, глядя на дорогу. А отец Владимир, словно киносерию, прокручивал свою жизнь. Еще каких-то лет десять назад он и представить себе не мог, что поедет в самый северный монастырь настоятелем. Да что там настоятелем! Он вообще не думал, что станет священником. Рабочий поселок на Волге, средняя школа. Неудача при поступлении в институт. Армия. И началось. Затрещала по швам страна, разгул демократии и, как следствие, войны. Войны, страшные своей братоубийственностью. Еще недавно дружные республики превратились в кровных врагов и стояли на меже с оружием. Это потом их назвали «Горячими точками», а по сути это была резня, резня братоубийственная, средневековая, поощряемая «Всенародно избранными президентами». Он, простодушный лопушок, стоял в строю и ничего не понимал. Почему дяди в уродливых фуражках с двумя просветами на погонах показывают, в какую сторону ему направить автомат и, главное, приказывают стрелять в ту сторону. А там аул, дети, женщины. В чем они виноваты? Мятежники, боевики, федералы – все смешалось в его голове. Еще пацаненком он понимал, что ему необыкновенно свезло: он родился и живет в великой стране: Союзе Советских Социалистических Республик. В стране, которая несла добро всему миру и выступала защитником бедных и угнетенных. Он искренне завидовал парням в голубых беретах, которые возвращались, исполнив «Интернациональный долг». Теперь он, в камуфляжной, новой форме солдата демократической России, стоит в строю и слушает разглагольствования заместителя командира роты по воспитательной части. Эти офицеры пришли на смену традиционным замполитам. Их объединяло одно: неискренность. Как те монотонно декларировали установившиеся догматы, так и эти штампованно вещали о новой роли Российской Федерации. Глядя на их опухшие от пьянства морды и вороватые глазки как-то не особенно верилось в чистоту помыслов новых идеологов. Но они имели над ним абсолютную власть: армия служила по законам военного времени. Редел их солдатский строй. Чернобородые дядьки умели воевать. Их крики «Аллах акбар» вызывали нервную дрожь и холод в лопатках. Очень скоро мальчишки в форме поняли, что их убивают, и пощады от них ждать не приходится.
– Господи, спаси, сохрани, – вспомнились ему молитвы своего деда, старого неразговорчивого человека.
– Без бога не до порога, – любил он говорить, наблюдая за еще несмышленым внуком. Слова молитвы неожиданно выплыли из глубин его памяти.
«Господи! Спаси, сохрани…» – било в висках, когда он входил в затихший аул, и каждая клеточка его тела была в ожидании автоматной очереди.
– Слава тебе, Господи, – неожиданно прошептал он, когда отвратительно свистящие пули прошли над его каской.
Новое явление в войсках Российской Федерации: армейские священники. Они были не похожи на того добродушного священника, которого он привык видеть в их городской церкви. У этих не было длинных волос, бород веником. Это были подтянутые парни, в таком же камуфляже, как и у бойцов. Только в кармане у них был крест, и они не расставались с евангелием. Они не лезли в душу, не напоминали о долге, не требовали верой и правдой служить новой России. Они просто были рядом. Вроде как случайно, но в две лопаты окоп был выкопан гораздо быстрее. И «цинкач» (ящик с патронами), подхваченный дюжим дядей оказывался гораздо легче. Незаметно пришло общение. Хотя их «батя», командир роты, недовольно бурчал, видя как вокруг батюшки, словно ища защиты, собирались солдаты. В этом было что-то трогательное, беззащитное. Бросалось в глаза, что воюют дети. Но он был командир и выполнял приказ. Приказ, отданный безответственными политиками. Приказ, который он должен выполнить любой ценой, даже ценой жизни этих пацанов. Их уже не пробирали слова командиров и новоявленных воспитателей о служении президенту, портрет которого развесили во всех палатках. У них давно наступил идеологический вакуум в сознании. Они получали письма из поселков и деревень, в которых родители сообщали о своих плачевных делах после демократических реформ. Получали письма от демобилизованных товарищей, которых, оказывается, никто не ждал. Они никому были не нужны! Без специальности они пополняли армию безработных или шли в криминал. Их охотно брали в уголовные структуры новоявленные хозяева.
Выжить! Дожить до дембеля – вот основная цель каждого солдата. Слова «Бог», «раб Божий» тоже не звучали в коротких беседах с батюшкой, когда прикуривали от одной спички в слегка подрагивающих руках. Зазвучало: «долг», «служить Отечеству» и уж совсем непривычное – «Вера».
Пришло время ухода в запас. Стоял на распутье: куда идти после дембеля. В разоренный приватизаторами поселок? Но там встала последняя прядильно-ткацкая фабрика. Возникла мысль: а что если рвануть в иностранный легион. Среди дембелей гулял адрес телефона мобилизационного пункта. Там парней, не боявшихся крови, брали охотно. А что? Отслужить за интересы Франции положенное контрактом время и затеряться на просторах благополучной Европы.
Батюшка давно присматривался к парню с емким волжским говором. Он отличался от сослуживцев. Не смаковал выдуманные похабные истории, которыми вчерашние пацаны развлекали друг друга. Ни с кем не делился «подвигами» на гражданке. Чаще чем другие слушал священника, затем вставал и уходил. Часто был один. Незаметно налаживался контакт. Общались, разговаривали. И вот вознаграждение за долготерпение. Парень поделился с батюшкой своими проблемами. Куда идти? Бежать из страны?
– Убежать ты, конечно, можешь. Только убежишь ли от себя самого – задумчиво оборонил батюшка.
– А что делать? Куда, куда идти. Нет той страны, в которой я жил, к которой привык, – в запальчивости бросил парень.
– Слово божие нужно нести в народ, – добавил святой отец.
– Какое слово! Раб божий! Покорись, служи… – съязвил Владимир.
– Зачем? – спокойно среагировал батюшка; он словно не заметил мальчишеской колкости. – Слово о добре, справедливости.
– Где они, эти слова? В России! Кругом вранье, – горько скривился парень.
– Именно в ней, России. В поруганной, поставленной на колени, – сказал святой отец. – Ее нужно возрождать. Сейчас деньги правят Россией, но это пройдет.
– Когда! – усмехнулся Владимир.
– Это зависит от нас: тебя, меня, – ответствовал священник.
– А как? – совсем по-школьному спросил парень.
– Вот это другой вопрос, – ответил святой отец.
Они помолчали. Каждый думал о своем.
– Ты вот что, Владимир. Не торопись с решением поступить в легион. Что если тебе поступить в семинарию?
– Куда? – не поверил своим ушам Владимир.
– В семинарию, – спокойно отреагировал батюшка. – Я, что, по-твоему, родился священником? Нет, к этому прийти нужно, – задумчиво говорил священник.
Они наслаждались передышкой. Лежали на сухой жухлой траве и смотрели на небо. На чужое южное небо.
Владимир любил свое небо, русское, северное, вечно хмурое с неярким Млечным Путем. Тянется через небо дорожка и сыплет звездами, мелким-мелкими. Кажется, пыль клубится звездная. А там жизнь, другая, непохожая на нашу. А еще он любил Полярную звезду. Эту скромную едва мерцающую звезду. Она гипнотизировала его, влекла за собой. И разговоры, разговоры мальчишек, сидящих у яркого костра вечером. Откуда взялся мир? Что там, за горизонтом?! Озноб пробегает от догадок, предположений. Высказываешь их вслух. И вдруг:
– Ерунда все это, – раздается голос, – это солнечная система. Вокруг солнца – звезды – все мертвое.
– Неправда! Они все живые. Их Боженька сотворил, – противоречит детский голос.
Под общий хохот раздаются крепкие щелчки по чьей-то нестриженой голове.
– Молчи, – покровительственно басит кто-то из старших. – Поменьше с бабкой в церковь ходи.
Снова тишина. Слипаются глаза.
Здесь же, на юге, небо раскинулось вольным шатром, черным, непроницаемым. Через его прорехи светили звезды. Их было много, ярких, нахальных, как девицы на дискотеке. Были и библиотечные скромницы, с прической «конский хвост», стянутой аптекарской резинкой.
«Разные они, звезды, совсем как люди», – думал Владимир, грызя травинку.
– Ну, ты скажешь, батя, в семинарию. Я и лба-то перекрестить не умею, – Помолчав, сказал Владимир. Он облокотился на локоть и повернулся к священнику.
– Лба перекрестить не могу, – передразнил парня батюшка. – Разве во лбе дело. Вон, наши теперешние правители как лихо крестятся. – Насобачились! – вдруг резко произнес священник.
– Осенить себя крестным знамением – это не сразу дается, – добавил он, глядя на небо.
– В тебе, Володя, стержень есть. На нем в человеке Вера зиждется. Сейчас в стране времена похуже чем Смута. Старая идеология ушла, а новой – не сформировали. Батюшка вытянулся во весь рост и закинул руки за голову: – Священник службу в миру нести должен. Он, мир, разный, добрый и враждебный.
– Да я ни одной молитвы не знаю, – не сдавался Владимир.
– «Отче наш» знаешь, – больше сказал утвердительно, чем спросил священник.
– Знаю, – ответил Владимир.
Он был удивлен проницательности батюшки. Он действительно выучил «Отче наш». Так, больше из любопытства. Очень его поговорка интересовала: «Знать как «Отче наш». Вот и выучил.
– Я по губам понял, что ты шепчешь, – ответствовал священник. – Кстати, дед верующий был? – задал он неожиданный вопрос.
– Дед-то! Еще какой!
Владимир вспомнил своего деда. Цыганистого, лохматого, немногословного. Он вспомнил зимние вечера, когда после школы бежал на подворье к деду. Неторопливый ужин. Зимой день короткий, и вот синие сумерки занавесили окно в горнице. На снегу удлинились тени. В сугробах засветились желтоватые пятна. Это экономные жители зажигали свет. Дед огромными мосластыми ручищами включал лампочку. Затем опускал плафон ниже и садился за стол. Брал Библию, которая лежала на столе, прикрытая вышитой салфеткой. Терпеливо ждал, когда придут постоянные слушатели: бабушка и его тетушка. Бабушка садилась, как первоклассница, с прямой спиной, положив руки на колени. Тетушка пристраивалась ближе к свету с вышивкой. Он же забирался на печку. Огромную русскую печку, занимающую половину горницы. Лежанка была застелена овчинами. Было тепло и уютно. Дед, убедившись, что все в сборе, начинал читать. Сказать, что Владимир что-то понимал, было очень уж крепко. Скорее, он слышал фон, монотонный голос деда. И засыпал, согретый теплом, щедро излучаемым печью. Просыпался от легкого тычка: это дед претендовал на свое законное место.
Он задумался: «Боже мой! Как это давно было!» – захотелось стать маленьким и свернуться на родной печке. Но нет печки, как нет уже дедовского подворья. Да и деда нет.
– Рискни. Попробуй себя. В семинарии есть чему поучиться. Парень ты дисциплинированный, привыкнешь к укладу. Мысли в порядок приведешь. Совсем не понравится – уйдешь. Там силком ни кого не держат, – продолжал, вроде как не заметив его замешательства, священник.
Впереди показался мемориальный комплекс «Долина славы». Здесь, на берегах реки Западная Лица, Полярная Дивизия и моряки Северного флота остановили немца.
– Притормози, – обратился отец Владимир к водителю. Он вышел из машины.
– Пойдем, разомнемся, – сказал он Данилке.
Они подошли к огромному комплексу. Отец Владимир остановился и задумался. Место скорби, памяти, а все нарочито выпячено: дескать, мы вас не забываем. А мусор строительный убрать забыли. И березы вокруг вырубили. Чтобы памятник с дороги лучше смотрелся.
Он не понимал сути мемориала. Комплекс попирал хрупкую заполярную природу своей монолитностью, бездушностью. И этот танк на постаменте.
– Любим же мы бряцать оружием, – грустно подумал отец Владимир.
Даже в слепоте памятника танк был страшен. Уж кто-кто, а он знал их разрушительную силу.
«Это кладбище, могилы убитых, – думал он. – Место скорби, чтобы верующий перекрестился, атеист постоял, опустив голову. Зачем же здесь танк».
«…И эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил», – вспомнил он с детства знакомые строки.
«Видите! Мы вас не забываем!» – вопили бетонные плиты с вырубленными буквами фамилий. А помним о подвиге только в День Победы. Привезут сюда стареющих ветеранов, нальют сто грамм фронтовых и все, до следующего праздника.
Нет, не мемориал здесь нужен, а храм. Так уж издавна повелось на Руси, чтобы на месте битв церкви да часовни ставить. И место должно быть тихое, для скорби и печали.
«Храм здесь нужен, храм, – повторил он про себя. – Больше того, нужен религиозный центр. Вон, если посмотреть список. Каких только национальностей нет! А храм православный. Не сможет помолиться в память о павшем мусульманин или католик. Находят же умиротворение все в верующие в Иерусалиме. Нужно надрелигиозное, космическое. Тем более это Север, Заполярье».
Он вспомнил детство, как его обожгли такие слова как Арктида, Гиперборея. Что именно Заполярье могло быть колыбелью человечества. Не потому ли всегда его притягивала Полярная звезда, которая неярким ровным светом согревала душу. Будоражила воображение.
Кольский полуостров, древняя гиперборейская земля – это край, где прошлое встречается с будущим. Еще в конце ХIХ века великий русский мыслитель – космист Николай Федорович Федоров – предсказал северную будущность России.
«Эко как меня понесло», – усмехнулся про себя отец Владимир.
Он вспомнил про Данилку. Обернулся, но того рядом не было. Мальчишка увлеченно лазал по танку. Памятник стоял на бетонном постаменте и смотрел на мир мертвыми бойницами. Даже в таком состоянии он был страшен. «Вот пацаненок», – с усмешкой подумал священник, а вслух крикнул:
– Слезай, танкист, поехали!
Они быстро миновали пограничный пункт Титовка. Солдат, в колом сидевшей полевой форме, лениво глянул в документы и пошел, пыля нечищеными сапогами, поднимать шлагбаум.
– Ну вот, мы в Печенгском районе, – обратился отец Владимир к мальчику. – Слыхал о нем?
Данилка напрягся и что-то вспомнил из истории родного края.
– Маловато, – буднично ответствовал ему священник. – Тогда слушай, благо есть время.
Рассказчик он был великолепный, и вскоре Данилка, да и не только он, но и водитель, слушали неслыханное ранее повествование о возникновении монастыря, истории Печенгского района.
Печенгский перевал встретил их каменным плато. Кое-где топорщились березки высотою не более трех метров. Поверхность камней покрывал, местами разрываясь, ковер из лишайника, карликовых берез и прочих плохо различимых растений. Они стояли на вершине перевала, обдуваемого со всех сторон ледяным ветром, когда на десятки километров вокруг тебя не видно и намека на жилье, а только грандиозно-недосягаемые в своем неприступном величии горы, неумолимо уходящие за горизонт.
Быстро скатились к дороге и увидели новенький дощатый забор.
– Наша обитель, – прервал рассказ отец Владимир. – Трифонов Печенгский монастырь, – и добавил: – Название идет от реки Печенги, что в переводе с языка саамов означает «Сосновая река». Слышишь, как журчит, разговаривает.
Заметив недоуменный Данилкин взгляд на голые берега реки, он понял и пояснил:
– Ты не смотри, что сейчас здесь с лесом плохо. Климат изменился, да и человек поработал. Ну да ладно, потом дорасскажу. Пошли с подворьем знакомиться.
Насельники монастыря встретили Данилку ровно и доброжелательно. Работой особенно не загружали, но и прохлаждаться не давали. Работала монастырская братия много. Хозяйство досталось запущенное. Военные, с присущим им размахом, засорили не только поселок, но досталось и некогда жемчужной речке Печенге. Только быстрое течение позволяло ей как-то справляться с мусором, который валили в нее защитники Заполярья. Но берега! Хватало работы монахам, послушникам и трудникам.
Монастырский распорядок напоминал распорядок трудового лагеря, в котором был Данилка в летние каникулы. Только вместо команд – молитвы и службы. Руководил всем монастырским хозяйством старец. Он был духовник, то есть правил церковные требы, не чурался и келарства. Завхоз по-мирскому. Высокий, сухой как палка, он строго смотрел из-под седых нависших бровей. Старец не бранился, не ворчал, если видел халатно выполненную работу. Он отставлял свой посох и переделывал. От такого урока долго горели уши.
Вставали рано, служили заутреню. Затем трапеза. Звучало: «Благодарим Бога за хлеб наш насущный. За щедрые дары этого стола». Затем – работы. Данилка, в основном, шустрил с метлой и граблями. Часовня привлекала проезжий люд, посему мусора было много. Работы Данилке хватало.
– А ты убирай, мети чище. В другой раз подумают ли бросать, – наставлял келарь ворчащего Данилку.
Данилка привязался к старику. Поначалу быт и образ жизни монастыря был ему непонятен. Живут здоровые люди, добровольно принявшие обет монашества. Молятся, работают. Все это в пределах монастырских стен. Вкушают простую пищу и благодарят Бога за все. А рядом, как плугом по цветущему лугу, пропахана дорога. Она постоянно кровоточила транспортом. Это была артерия, соединяющая восток с недавно открытым западом. Раньше этой дороге были больше знакомы колеса БТР морской пехоты и мотострелков. Сейчас же по ней гнали неведомые ранее джипы, хаммеры. Они нагло попирали шоссе, пронзая его рентгеном хрустальных фар. От окружающего мира пассажиры были закрыты густыми тонированными стеклами.
– Что, сыне, справился с послушанием? – спросил старик мальчишку.
Но паренек не ответил. Его внимание было привлечено кавалькадой автомашин, спускающейся с сопки. Они сравнялись с монастырем и неожиданно резко затормозили. У первого джипа открылась дверь и вырвавшаяся развязная музыка популярной певицы Вики Цыгановой о водке и селедке осквернила просторы Печенги. Из машины выбрался коротконогий коренастый крепыш. Он был похож на свою машину. Такой же мощный, наглый в своей самоуверенности, и даже очки, закрывающие половину лица, были одного тона со стеклами машины. Раскрылась дверь другой машины, и оттуда высунулась лысая голова с остатками неопрятных седоватых волос, стянутых на затылке в жиденький пучок.
– Вован! Вы чего, в натуре! Охренели! У нас времени в обрез, конкретно! – прогорланил он сиплым голосом.
– Ладно бакланить, Димон! Девочки в церковь зайти хотят, – ответствовал ему первый, подрагивая толстыми ляжками, вроде как разминаясь. В это время из машины вышли девочки: как одна – шпилькообразные.
– Вы чего, чувихи! Нагрешили, что в церковь потянуло, – сострил лысый.
Он уже вылез из машины и стоял руки в бока, обозревая окрестности. Джинсы у него съехали под брюхо, обнажив безобразный живот, поросший седым волосом. Он был явно старший как по возрасту, так и по положению.
– Успеем, Димон! Не гони волну. Щас девочкам грехи отпустят и поедем, – Разошелся коротыш. Он расстегнул рубашку до пупа. В потную жирную грудь влип золотой крест.
Шумно переговариваясь, они прошли в калитку мимо Данилки и старика. Девицы скользнули по ним наглыми козьими глазами и, увязая в гальке высоченными каблуками, заковыляли к крыльцу. Данилка молча проводил их глазами. Они стояли возле тесовых ворот храма, сверкающих своей свежестью: высокий худой монах в клобуке, из-под которого выбивались седые волосы и малец в мирской одежде, вихрастый, с веснушками на переносице. Старый да малый, как говаривали издревле на Руси. А мимо них в волнах дорогого коньяка и косметики шла хохочущая толпа. Кодла самодовольных и удачливых, ухвативших бога за бороду. Это были пришельцы из чужого, враждебного мира.
– Каиново отродье, – чуть слышно пробормотал старик.
– Деда, почему они такие? – совсем по-мирскому, как родного деда, спросил Данилка. Он поднял голову и посмотрел вверх, на старца. У того дернулось лицо. Может от доброго слова «деда», может от увиденного.
– Молчи, отрок, молчи, – костлявая ладонь сжала плечо мальчика. – Заблудшие они. Не ведают, чего творят.
Кодла тем временем, топоча по крыльцу, ввалилась в помещение церкви. Там было тихо. Со старых иссохших стен смотрели святые. Смотрели строго, немного утомленно от своей многолетности. Молодой послушник, стоявший в иконной лавке, поднял глаза на вошедших.
– Женщинам в храме с непокрытыми головами быть не полагается, – дружелюбно, но твердо сказал служитель. Затем, оглядев, мужчин, добавил: – Да и вы бы привели свои одежды в порядок.
– Да будет тебе, братан. Девочки покаяться пришли. Правда, девочки? – балагурил крепыш.
– Остановитесь, рабы божьи, не гневите бога. Он вас не услышит, – так же твердо произнес монах.
– Погоди, брателло. Не гони волну. На вот тебе, на развитие храма, – коротыш сунул монаху зеленую бумажку за пояс рясы. Бумажка противно хрустнула.
Данилка знал этого послушника. Он еще не принял постриг, а приехал из академии на послушание. Звали его Андрей. Черный пушок бороды оттенял его бледное лицо и подчеркивал молодость. С ним было интересно разговаривать. Он переводил церковные сложности на мирской язык, и все становилось понятно. Данилка увидел, как потемнели глаза послушника, но только на мгновение. Он справился с собой и как-то буднично протянул платки девицам. Те уже не хихикали и не поднимали глаз. Столько спокойствия и уверенности в себе было в Андрее, который стоял перед жлобьем, что старик-келарь чуть слышно пробормотал:
– Молодец, сыне, молодец.
Андрей встал так, что закрыл собой вход в алтарь, да и подход к иконам тоже. Щуплая фигура послушника перекрыла собой церковь, и он не дал откормленным быкам паскудить святое место. Что-то произошло в этой кодле. Бычок застегнул рубашку, а тот, что постарше подтянул штаны. Андрей заговорил. Заговорил мирским языком об истории храма. Данилка понял, что Андрей устроил обычную экскурсию. Он не видел этих людей. Он стоял и рассказывал в пустоту. Это быстрее всего дошло до девиц. Они неловко развернулись и, забыв про покаяние в грехах, пошли к выходу. Одна что-то шепнула тому, что постарше.
– Ладно, батя, будет тебе, – перебил он священника. Но как-то буднично, без бравады.
– Девочки, ставьте свечи и поехали, – это он сказал уже девицам.
Он подошел к прилавку и положил бумажку. Она тоже была зеленая.
– Хватит? – Спросил он Андрея.
– Это храм, здесь не торгуются, – смиренно ответил тот.
Кампания вышла. Их долгим взглядом провожал Андрей. За поясом рясы у него торчала зеленая бумажка.
Данилка ждал, что сейчас разверзнутся небеса и Бог, справедливый и всевидящий, покарает богохульников. Накажет хамство, не допустит глумления над святыми. Он даже прижмурился в ожидании. Но тихо было в округе. Пела свою нескончаемую песню речка Печенга, да посвистывал ветер в ветвях ближайшей березы. Слышно было, как хлопнули дверцы, и машины, пыля на повороте, резво пошли по дороге на границу. Затих шорох дорогих шин, очнулся Данилка и в продолжение своих мыслей произнес:
– Почему он их не покарал, отче? – старец долго молчал.
Он проводил глазами этот сверкающий кортеж и нехотя сказал:
– Бог от них отвернулся, сыне. – Потом еще помолчал и добавил: – От всех отвернулся, время каиновое.
Данилка еще хотел спросить у старца, но подошел Андрей и, взглядом указав на бумажку, спросил:
– Что с ней делать? Горит сатанинским огнем.
– Ничего не делай. Положи в кружку на строительство храма, – как-то буднично произнес келарь. Потом добавил: – Сам не хочешь, вон, пусть Данилка отнесет, ему сподручнее.
– Ну-ка, отрок, вытащи эту бумажку да брось в церковную кружку, – обратился он к Данилке.
Тот вытащил у безмолвного Андрея купюру и направился к прилавку. Но старец его остановил.
– Погоди-ка. Покажи, чем это они церковь отблагодарили.
Данилка подал деньги старцу. Тот взглянул на нее. На старика глянуло гладко выбритое иноземное лицо в парике.
– Вроде как не рубли, зеленая, – прищурясь, продолжал рассматривать купюру старик.
– Доллар это, отче. Американская валюта, – пояснил Андрей.
– Доллар, – протянул изумленно старик. – Американский. А что, у нашего правителя свои деньги закончились? – спросил он Андрея.
Тот даже не понял: издевается старец или по недомыслию. Но на всякий случай пояснил, что в России все деньги в ходу.
– В ходу, говоришь, – задумчиво сказал старик. Помолчал, потом добавил: – немец, тот тоже рейхсмарки в Россию завез. Даже расплачивался ими. – Заметив недоуменный Данилкин взгляд, пояснил: – В оккупации, сыне, на захваченных землях.
Все помолчали.
– В ходу, говоришь. А наши рубли уже ничего не стоят. Да-а-а. Оказывается, и войны не нужно, чтобы страну завоевать, – рассуждал старец. – Умно! Умно, ничего не скажешь, – продолжал он бормотать. – Русскую душу за американскую валюту растлевают, – вскинул он кустистые брови на Андрея. Тот стоял, потупившись, словно был виновен в политике нового правительства и инфляции рубля. Данилка стоял и вертел в руках доллары.
У ворот остановилась серая «Волга». Это была машина настоятеля. Из нее вылез отец Владимир. Выглядел он усталым, у губ обозначилась жесткая складка. Остановившись у ворот, он перекрестился на крест и подошел к монахам. Те молча поклонились ему.
– Это что у тебя? – спросил он Данилку, теребящего злополучную бумажку.
– Да вот, Андрею дали на пожертвование. Американская валюта называется, – нехотя произнес старик.
– Это те, с кем мы сейчас встретились? – догадался отец Владимир.
– Оне, оне, – прокряхтел старец.
– Ну, у них других и нет, – почему-то весело ответил отец Владимир.
– Положи в кружку. На строительство храма пойдут, – сказал он Данилке.
– Чего пригорюнился? – повернулся настоятель к понуро стоящему Андрею.
– Противно все это, – нехотя произнес он.
– Противно? – переспросил недоуменно отец Владимир. – Противно? – уже жеще, с металлическими интонациями возвысил голос настоятель: – А ты думаешь, каково мне разговаривать с этими и им подобными. Мало разговаривать! Крестным знаменем осенять тех, кто вчера научный атеизм сдавали, а сегодня в веру ударились. Кресты понадевали. В церковь пошли. Знаешь, как их прихожане прозвали? – И, не дожидаясь ответа, произнес: – «Подсвечники»!
– А ты – противно, – уже мягче обратился он к Андрею. – Это война, Андрей. Война за души. Она потяжелее других войн будет. Правда, отче? – обратился он к безмолвному старцу. Тот грустно кивнул головой.
– Держись, Андрей, держись. Будь стоек. Такого еще на Руси не было со времен монголо-татар. Деньги эти не зря появились. Растлить, Россию нужно растлить! И это им пока удается! – повысил голос отец Владимир.
– Это тебе испытание, – обратился он к Андрею. – В академии легче. Изучай теологию, участвуй в диспутах. А здесь каждый день война. Народ не зря к вере повернулся. Пока от необходимости, а не по потребности. Но придет время, и потребность в Вере возникнет. Опомнится народ, опомнится.
– Ох, не скоро, – вздохнул старик-келарь.
– Не скоро, – согласился отец Владимир: – Народ, как овцы заблудшие, позволил отобрать у них все. Но пройдет время, и появится на Руси новый Сергий Радонежский, а с ним и Дмитрий Донской.
Отец Владимир потрепал замершего Данилку по нестриженным вихрам и обратился к старику:
– Пойдем, отче. Поговорим о делах наших строительных. Они ушли.
– Андрей, – дернул Данилка застывшего послушника за рясу. – Что такое искус?
– Искус? – переспросил Андрей. Он что-то хотел ответить, но передумал. И неожиданно предложил: – Давай на речку сбегаем. Пока время свободное есть! И, не дожидаясь ответа, побежал к реке. Данилка – за ним.
Старец
Старик-келарь не спал. Ходики отбили двенадцать часов. Он не любил полночь.
– Вот еще один день прошел. Близится смерть, близится, – бормотал он, глядя, как одна стрелка спряталась за другую.
Часы равнодушно тикали. Он не любил электронные часы за беззвучность. Ему казалось, что время подкрадывается и застает человека врасплох. Бессонные ночи без тиканья часов порождают не мысли о будущем, а воспоминания, как это бывает у старых людей. Терпел только ходики, гири которых лично подтягивал каждое утро.
– Зачем вам время, – говорил он братии, – ваше время в молитвах, а на молитву колокол соберет. Все мы держим путь в Царствие Небесное, куда попадем в положенный нам срок. Не нужно только торопиться туда, и по пути с нами случается многое. Лишь глупцы ропщут на небеса и слишком уж из-за неприятностей переживают, забывая, что избежать их просто невозможно. Бог свидетель, все эти неприятности и испытания неизбежны.
Смерти он не боялся. Боялся только пропустить появление мессии. А что он должен появиться, он не сомневался.
– Вседозволенность царит на Руси. Люди про Бога забыли и Веру утратили, – говорил старец.
Он преображался в такие минуты. Становился еще прямее. Глаза, казалось, пронзали насквозь.
Старец очень удивился бы, если бы ему сказали, что его рассуждения были в той или иной форме написаны в классических произведениях русских и европейских писателей. Удивился бы, но не особенно. Он пришел к своим мыслям через свою долгую жизнь. А это сложнее, чем раздумывать о судьбах человечества в комнате «под сводами».
Старик долго ворочался на жесткой армейской койке. Пружины противно скрипели. Бледный месяц лукаво заглядывал в окно. Переплет окна отбрасывал на старый щелястый пол косые тени. Пусто в келье. Койка да тумбочка. Армейское командование вошло в положение монастыря и оставило часть мебели и койки. Даже одеялами поделилось. В углу мерцает лампадка. Старик больше чувствует, чем видит глубокие глаза Спаса. Старец сел на кровать, растер ладонями ноющие колени. Затем накинул рясу и вышел в братнину комнату. Монахи, послушники, трудники спали как солдаты, вместе. На столе горела маленькая настольная лампа, а рядом, уткнувшись лицом в согнутый локоть, спал Данилка, бывший беспризорник, сирота, прибившийся к монастырю. Старик подошел поближе и увидел книгу.
– Эко как зачитался, младень, – подумал он. Погасил лампу.
– Ну-ка, сыне, давай спать.
Он осторожно выпростал ноги Данилки из-под стола и подтолкнул его на ближайшую койку. Данилка даже не проснулся. Старец долго всматривался в порозовевшее от сна лицо ребенка. Он вспомнил, каким его привез настоятель. Это был загнанный звереныш с колючим взглядом.
– Ох время, время, – бормотал он по-стариковски. – Господи Иисусе, видишь ли ты рабов своих неразумных, – бубнил он, – направь души заблудшие.
Он сел на лавку возле стола и задумался. Вспомнился сегодняшний случай в монастырской лавке. Подзагулявшие «новые русские» с хохотом пытались сунуть монаху за пояс рясы долларовые бумажки, чтобы он помолился за «процветание бизнеса». Для старика это было непонятно. Он помнил войну, помнил рейсхмарки. Ими немцы расплачивались в оккупированной зоне. Поморщился, вспомнив вид этих купчиков.
– Господи, порази их мечом огненным… – воскликнул он и мелко закрестился: – Свят, свят, прости меня грешного. Стар я стал. Не понимаю многого, но не могу терпеть, когда вижу, как дети страдают. Не война.
Долго сидел старик возле спящего Данилки.
Вся его жизнь была связана с Богом. Он любил Бога, верил в него. Бог отвечал ему тем же. Старец был уверен, что отмечен Богом, и благодаря любви к нему прошел войну, лагеря, послевоенное лихолетье. Посему он и избрал служение Богу смыслом своей жизни. И никогда не жалел об этом. Но пришло время, и Бог умер. Так решил старик. Потому что в последние время его молитвы не доходили до Бога. Такого не могло быть, чтобы Бог был глух к его просьбам. А сейчас он молчит и безразлично смотрит на людские мучения.
– Нет, – одернул он себя, – Бог умереть не мог. Он бессмертен. Он по-прежнему всемогущ, но он ушел от нас. Повернулся спиной к нам и ушел не в силах терпеть этот содом земной. Ушел, как смертельно уставший человек, который ничего не может сделать и покоряется обстоятельствам. У Бога много терпения. Он всегда всех призывал к долготерпению, но и у него оно, терпение, оказалось не вечным. Да если подумать, ничего вечного нет.
– Может, лучше было бы, если бы Господь покарал их мечом разящим? – думал он. – Покарал бы всех обидчиков. Но кто они, эти обидчики? Всех карать? Народ взалкал. Бог запутался, посему всех и оставил.
Старик распрямился, тенью прошел по братней комнате. Остановился возле самодельного иконостаса. Он задумался, глядя на иконы. Со стен смотрели Трифон Печенгский, Феодорит Кольский, Варлаам Керекский. Все они сурово смотрели на старца, словно вопрошали: является ли он их достойным приемником. Бережет ли он землю Северную? Он еще раз всмотрелся в суровые лики святых. Это, в основном, местные святые причислены к лику святых поместным собором. Он, когда пришел исполнять послушание в монастырь, то прочитал житие святых Кольского края. Он всю жизнь читал жития святых. Они помогали ему понимать суть происходящего.
Разные эти иконы. Разные люди их приносили. Некоторые из Мурманска приезжали. Вспомнил, как совсем недавно он подметал дорожку вокруг монастыря. У ворот остановилась машина. Из нее вышел высокий подтянутый мужчина с пакетом и быстрым шагом прошел в церковь. Явно спешил. Скоро вышел, растерянно оглянулся. Увидев старца, он подошел к нему и спросил, кому может передать иконы. На вопрос, что за иконы, сказал, что купил их на рынке. Не мог пройти мимо, видя, как иконы лежат на прилавке в куче с бытовым барахлом. Вместе с ними отдает в монастырь церковную литературу.
– Что же не читаешь? – спросил он подошедшего.
– Они – на старославянском, а я ему не обучен, – ответил мужчина.
Старец тем временем внимательно всматривался в него. Мужчина оказался не молод, как ему показалось вначале. Глаза серо-голубые, настороженные, даже когда улыбается.
«Как пружина», – подумалось старцу.
– А в церковь ходишь? – как можно мягче спросил он мужчину.
– Хожу, но с познавательной целью, – улыбнулся тот только губами.
– А что не молишься? Молитв не знаешь?
– Знаю, но не молюсь.
– Почему?
– Не готов. Слишком велика ответственность, – сказал и отдал пакет.
Старец принял его. Мужчина слегка поклонился, попрощался и быстро пошел к машине. Старец даже растерялся от такого: ничего не просил. Ни модного нынче благословения. Ничего.
– Как звать-то хоть скажи. Я помолюсь за тебя, – крикнул он вдогонку.
– Виктор, – раздалось.
– Господи! Вразуми раба божьего Виктора… – привычно закрестился старец, глядя на иконостас.
Но рука застыла на полукрестии. А чего, собственно, его вразумлять? Чтобы в церковь шел? Не пойдет. Может, пойдет, но позже, не сейчас. Церковь сейчас – мода. А на нем, кажется, и креста не было. Да такой его и не оденет. Вон, те, сегодняшние молодчики, что своим только появлением церковь испохабили, те да, в крестах. А спроси про молитвы… А этот знает.
Он вздохнул и осмотрел комнату, где спала братия, наработавшаяся за день. Послушаний много, а народу мало. И послушание на работу превышает послушание прямого назначения: служение Богу. Это беспокоило старца.
Ему эта комната со спящей братией напоминала фронтовую землянку. Только там спали солдаты, а здесь монахи. Где, какая граница пролегла между ними? И есть ли она, граница? Те и другие служат: одни Родине, Отчизне. Другие – Богу. А разве Бог отделим от Отечества? Бог – Отечество, все одно.
– Расфилософствовался, – поймал себя старик, – какой ты философ! Служишь Богу верой и правдой, и будет с тебя. Вот отец Владимир, тот боец. Он мне Пересвета напоминает. Только там, на поле Куликовом, ясно все было. А здесь что? Кто Челубей? Хотя эти, в джипах, похуже татарвы будут. Те огнем и мечом по Руси шли, а эти растлевают страну вседозволенностью. Бог не властен над вседозволенностью. Сложно покорить Челубея. Да и не покорять его нужно, а карать, карать мечом разящим. Ох, как нужны сейчас современные Пересветы.
Старец вздохнул и вышел на улицу. Ночь уступала место утру. Тихо, только шорох листьев да журчит неугомонная Печенга. Лопочет о чем-то своем, словно дитя неразумное.
– Мели-мели, балаболка, – пробубнил старик.
Река словно его поняла и зажурчала веселее.
– Я по-бе-жа-ла! Я по-бе-жа-ла! – затарахтела она, перепрыгивая с камня на камень.
– Беги, беги, – добродушно проговорил старик, – неси свои воды в Печенгскую губу, а там и в Баренцево море. Бескрайнее Мурманское море или «Море мрака», как свидетельствовали древние писания.
Девкина заводь, полуостров Рыбачий. Для старика это были святые места. Он бывал там. Не паломником, стар стал для таких походов. С помощью воинского уазика добрался он до обетованных мест и свершил земные поклоны памятникам советским воинам на полуострове Среднем, на Рыбачьем. Кому как ни ему, прошедшему войну, понять величие и подвиг этого «Гранитного линкора». Так называли в войну полуостров Рыбачий.
Старик стоял на кромке земли. Волны, урча, накатывались на скалистый берег. Здесь проходит граница России. Это – «Родимая наша земля», как поется в известной песне военных лет. Именно здесь, на самом рубеже, суровым летом 1941 года советские воины остановили продвижение фашистов, наступавших по всему фронту – от Ледовитого океана до Черного моря. Вся земля обильно полита кровью тысяч и тысяч солдат, которые точно бессознательно ощущали свою неразрывную, космическую связь с краем, где некогда зародились истоки многих российских народов и прежде всего – русского. Горные егеря дивизии «Эдельвейс» так и просидели до конца войны в гранитных блиндажах хребта Муста-Тун-тури, несмотря на неоднократные попытки прорвать линию обороны советских войск. Нога ни одного из них не ступила на полуостров Рыбачий. Может здесь и помогла Гиперборея. Встала на помощь обмороженным, голодным, но уверенным в своем святом деле людям?
– Есть ли мера скорби, – думал старец стоя на открытом берегу, где до сих пор вились остатки ржавой колючей проволоки от укреплений, – которой можно измерить всю непомерность скорбей, выпадавших русскому народу на этом пути, всю неподъемность подвига и, по сути, невыполнимость поставленной задачи!
Нужна память, память не от раза к разу, а постоянная. Чтобы это место приобрело намоленность, как намолена церковь Рождества Христова в Печенге. Нужна часовня Георгия Победоносца. Именно его, чтобы на века был понятен подвиг советского народа.
Здесь старик снова горько усмехнулся. Не любят нынешние правители слово «советский». Скрежещет оно у них горло. Всеми силами пытаются замарать это слово, пропустить советский этап в жизни народа.
– Беспамятство, беспамятство, – повторял старик, мерно шагая вокруг забора.
Затем он присел на лавочку, что возле часовни. Уперся подбородком в руки на посохе и замер.
Напротив, на холме, застыл в рывке танк Т-34. На броне следы боев. Страшен танк в своем гневе, ох страшен. Старец даже прижмурился.
Он видел стелу с искусственным вечным огнем, панораму фронтового быта, выполненную искусным художником. Вроде все сделано добротно, на века. Но забыли одно, когда ставили этот памятник защитникам Заполярья. Не было здесь в 1984 году монастыря, когда шло строительство этого комплекса. Была только КЭЧ воинской части. А там, под полом, упокоились 116 убиенных монахов. Забыли о былом устроители памятника. Так стоит ли удивляться, что клика, захватившая власть сейчас, забыла обо всем советском.
Старец вздохнул. Если бы он читал Шекспира, то бы вспомнил удобную для таких случаев фразу: прервалась цепь времен. Но он был монах, который избрал свой жизненный путь: служить Богу. И для него было непонятно, как можно было заботливо укладывать тонны бетона в комплекс Славы, совершенно забыв, что рядом, в полном забвении, под полом, лежат мощи первых защитников земли Русской. Он своим разумением понимал, что существует единая память, память всем, кто сложил свою жизнь на алтарь Отечества. Он радовался, что «никто не забыт и ничто не забыто». Хотя его ни разу никто не пригласил и не вручил благодарственное письмо или очередную юбилейную медаль за то, что он мальчишкой прошел дорогами войны полных четыре года. Он бы хотел подойти к этому комплексу и просто поклониться, перекрестить лоб, поминая усопших. Но этот танк… Он отталкивает своей агрессивностью.
Старик насмотрелся на железо во время войны. Война… Он хватил ее сполна, хотя был подростком.
– Ну, Сашка, теперь ты самый старший, – сказал ему отец на вокзале. – Береги мать и сестренок.
И обнял его. Обнял не как сына – мальчика, а как мужчину. И он стал мужчиной: изнурительная работа в колхозе, на подсобном участке, чтобы прокормить сестренок, быстро заставила повзрослеть. Еще вчера они гоняли в футбол и ходили в лес, а сейчас до черных точек в глазах работали. Затем появились почтальоны с жуткими треугольниками. Не обошел старый однорукий почтальон и их избу. Он и сейчас слышит страшный звериный крик матери, потом тишина. Помнит ее черные, когда-то голубые, глаза и хриплый шепот:
– Жить надо, Сашка, жить. Их нужно поднять, – и кивнула в угол, где сжались сестренки.
От воспоминаний у старца заволокло глаза. Вроде бы столько лет прошло. Ан нет. Память, память всегда обнажает, как нерв, картинки детства, которое закончилось.
Потом их накрыло валом отступления советских войск. Солдаты шли нестройными рядами, опустив глаза. Они как бы съеживались от взоров старух, женщин, детей. Затем настал и их черед. Эвакуация – прозвучало хлестко, как выстрел. Стронулись с места, но поздно. Буквально на следующий день по ним, беженцам, хлестанули пулеметные очереди из самолетов. Немцы летели так низко, что можно было разглядеть лица пилотов. Они смеялись и стреляли. Стреляли и смеялись. Народ в ужасе разбегался по обочинам, старался скрыться в лесу. Потом стали бомбить. Здесь он ничего не помнит. Помнит только, как его свалило плотной стеной воздуха и все. Сколько он пролежал – не ведает, но встал сам, шатаясь и ничего не понимая. Он был в полной тишине. Дорога, поле было перепахано снарядами. Он обошел все, где могли быть люди, но не нашел живых. Он понял, что остался один. Позже встретил таких же бедолаг: контуженных, оглохших.
Сначала они шли небольшой группой. Шли молча, отрешенно. Потом их с дороги согнали танки. Это были немецкие танки. Они лежали в обочине и наблюдали за этими бронтозаврами. На броне сидели солдаты, без касок. Они пели песни и смеялись. Этой ночью беженцы разошлись в разные стороны. Он был недолго один. Ему повезло: он натолкнулся на потрепанное в боях воинское подразделение. Это были солдаты с оружием. Они выбирались из окружения с полной выкладкой, неся на себе бесполезные винтовки. Он ничего им не говорил, не просил. Просто впрягся в лямку с пожилым бойцом и потащил пулемет. А вечером сползал на поле за картошкой и сидел рядом у небольшого костерка. Командир, заросший щетиной, только спросил имя и фамилию. И все. Никто не принимал его в сыны полка, да и полка не было. Был пулемет, который тащили, обливаясь потом, и бессильная злоба, что не пригодится эта чертова машина в случае необходимости по причине отсутствия патронов.
В подразделении советских войск, куда они выбрались, с ними разобрались быстро: краткая проверка и – маршевые роты. СМЕРШ особенно не злобствовал. Солдаты были нужны. А тут вышло из окружения подразделение, да еще с оружием.
– Ты куда, парень? – спросил его солдат, с которым он сроднился за эти дни.
– Не знаю, – сказал он. – Можно, я останусь? – добавил.
Командир уже знал его историю и думал недолго. Нашли заношенное обмундирование и вскоре он под руководством своего наставника заматывал обмотки. И пошли. Пошли опять на восток. Матерясь, кляня судьбу. Затем встали и стали окапываться. Вот тут-то и познакомился он с танками вплотную. Их оборону неожиданно прорвал танковый клин. Он как сейчас помнит бронированную армаду, которая смяла их укрепления и пошла дальше.
Старец еще раз посмотрел на танк на холме Славы. Он слабо увязывался со скорбью. Старец вздохнул. Снова вернулся в прошлое. Пошли бои, кровопролитные изнурительные. Он находился при санитарном взводе, и его задача была вытаскивать раненых с поля боя и помогать в полевом госпитале.
Как в песне: довелось в бою увидеть… Старец не любил бряцать железом. Служба санитаром приучила его к терпению и состраданию.
Память вскрыла еще один пласт воспоминаний. Его подразделению был дан приказ взять высоту. Это военным высокого ранга – высота, а солдатам – непонятная горушка, которую ценой собственной жизни нужно взять. Достопримечательностью этого пригорка была церковь. Самая обычная сельская церковь, которые как грибы-боровики стоят в каждом русском селе. Полевая артиллерия выбрала ее в качестве прицельного ориентира. Старец зажмурился, и в глаза полетели осколки кирпича, обнажая кирпично-красные язвы. Но церковь стояла. Лишь на единственном куполе зияли дыры от попаданий.
Утро перед атакой он запомнил. Только перестал лить дождь. Тучи клочковатые, рваные, подбитые алой выпушкой рассвета, проталкивали друг друга за горизонт. Высыхал каплей крови на самом острие креста последний отблеск зари. Потом, после боя, он слышал, как солдаты говорили об этом как о явлении.
– Странная вещь, – думал старец. – в атаку солдаты выскакивали из окопов с криком «За Родину! За Сталина!» Раненые же шептали почерневшими губами – Господи! Спаси, сохрани!
Церковь, побитая, с продырявленной снарядами крышей, приняла их в свое лоно. В ней разместили полевой госпиталь. На страдания раненых скорбно смотрели святые, запорошенные кирпичной пылью и закопченные гарью. Руководил размещением раненых священник: маленький шустрый старичок. Он раскрыл даже алтарь, сдвигал иконы, стоящие на полу, приговаривая: «Прости меня, Господи». И когда кто-то из раненых неловко пошутил насчет грехов, то он быстро ответил, что церковь отмолит. Он трудился наравне с санитарами, этот батюшка. И, странное дело, раненые после общения с ним меньше стонали, чувствовали себя умиротвореннее.
Вечером же в церкви была непривычная для полевого госпиталя тишина. Священник сидел на приступке, ведущим в алтарь, и читал Евангелие. Кто мог двигаться, подползал сам. Тяжелораненые просили приподнять их. Старик читал негромко, но не церковной скороговоркой, а четко разделяя слова. Всем все было понятно. Зашедший военврач, худой, с воспаленными глазами на небритом лице, обомлел от такой картины, но вскоре сам сел на подставленный кем-то обрубок дерева, откинулся на стену и затих.
– Верую во единого Бога-отца – вседержителя, – раздавалось под сводами побитого, но живого храма.
Молчали и слушали. Слушали пожилые санитарки, положив распухшие от соды руки на колени. Слушали молоденькие медсестры, кучкой сбившиеся возле стола с медикаментами. Слушали бойцы и раненые, и те, кого сегодня «Бог миловал». Так и пошло, ежевечерние читки в церкви. Как-то само собой священник стал учить его церковной грамоте и вскоре он стал заменять его. Ему понравилось читать евангелие: это напоминало журчание ручья, через которое проявлялся смысл сказанного.
Никто не удивился, когда подразделение построилось для дальнейшего наступления, и в строю санитарного взвода стоял батюшка. В рясе, скуфейке, в кирзовых сапогах. За плечами болтался старенький мешок. Он его явно не отягощал.
– И вы с нами, батюшка? – только и нашел, что спросить командир.
– Куда вы без меня, – последовал ответ.
И пошли версты бездорожья. Затем погнали немца с оккупированной земли. Входили в сгоревшие деревни, где их встречали старики и дети. Где были церкви, батюшка служил службу. Он просил помочь его, своего напарника. Так и закончил он, как шутил старец, заочно духовную семинарию.
Старец, как сейчас, видел огромные, бездонные глаза женщин, которые жили только одним: вырастить детей, других у них больше не будет. Во имя этого они будут впрягаться в плуги и пахать на себе землю.
Когда шла служба, в церковь набивались битком. Нужно было найти для всех слова. Он часто слышал, как священник читал не по писанию, добавлял свое. На вопрос паренька он отвечал коротко:
– Утешить их нужно, Сашка, утешить.
Иногда простое слово важнее библейской притчи.
Послушать службу шли даже солдаты, несмотря на ругань политрука. Доставалось и священнику. Но заканчивался привал в деревне, и снова версты, версты…
Погиб священник как на войне. Простой и желанной для многих солдат смертью. Ночью, когда начался обстрел позиций, в их землянку попал снаряд. Погибли все. Когда оставшиеся подошли к месту землянки, там дымилась огромная воронка. Вдруг все вздрогнули. На краю воронки ветер перелистывал листки евангелия. Грязного, обгоревшего по краям, но живого. Пожилой солдат подобрал книгу, бережно вытер ее обшлагом гимнастерки. Затем обернулся, нашел глазами его и сказал:
– Держи, парень. Теперь твой черед нести слово божье, – сказал просто, по-солдатски прямо, и у него не хватило сил произнести слова отказа. Они были неуместны. Никто в нем не сомневался: наступил его черед.
Старик глубоко вздохнул. И этот черед вылился на годы войны, а потом и на всю жизнь. Слушали его чтение так же серьезно и в землянках, и в его деревне, куда он вернулся после войны. Там по сути дела шла та же война: только без выстрелов. Те же землянки, голод. И он со своим словом божьим нес веру в жизнь женщинам, подросткам. Он был уверен, что нужно сейчас слово, нужно как никогда. Нужно всем: голодным женщинам, осунувшимся детям, ссохшимся старикам. Но не всем понравились «сектантские сходки», как назвал его чтения председатель колхоза. Расправа была короткой: срок за сектантскую деятельность, и перед ним открылась дорога на народнохозяйственные стройки. Теперь путь его лежал на Крайний Север, к ребрам Северовым. Там нужна была даровая рабочая сила, и правоохранительные органы работали на полную катушку.
Из евангелия он узнал, что на ребрах Северовых, здесь, на Севере, высвободившиеся из уз христианства «духи злобы поднебесной» творят бесчинства, обуянные злобой. На практике он познал «духов злобы поднебесной»: «вохру» с ее тычками автомата в спину, жестокую хватку конвойных овчарок. То есть сполна прочувствовал силу демона: «Ибо демонская сила всегда подразумевалась под именем Севера».
Но и там его старенькое, видавшее виды евангелие не осталось без дела. Весь барак, невзирая на убеждения и статьи уголовного кодекса слушал его, еще совсем молодого проповедника. Даже «вохра», и та не решилась лишить его старого евангелия. Так с ним всю жизнь и идет он, служит Богу. Евангелие и сейчас лежит на иконостасе.
Затекла спина. Келарь пошевелился. Ох уж эта память. Он не любил копаться в прошлом. Что толку? Только сердце рвать. Как не любил и будущее. Он знал одно, что все предстанем перед судом Божьим. А там… Там каждому воздастся. Но, видно, уж сегодня выдалась такая ночь, когда призвал его Всевышний на беседу. Не на суд, а именно на беседу. И взворошил прошлое. Старик понимал, что причиной его бессонницы послужил Данилка, пацаненок, которого привез отец Владимир. Он как увидел этого взьерошенного мальчугана, так и сердце захолонуло. Почему? Он не знает. Но вспомнилась та, зеленоглазая, рыжеволосая, которая отдала свое сердце, ему, поселившемуся в рыбацкой деревне на Белом море. Ведь у него могли бы сейчас быть такие внуки. Он всегда вздрагивал, когда мальчишка, забыв про монастырский устав, называл его «деда».
Он снова вздохнул. Сжало сердце. Снял монашеский клобук, и ветер с Печенги рванул слежавшиеся седые волосы и пустил их по ветру.
Где ты? Где ты сейчас, та звонкоголосая рыбачка, которая пренебрегла многим ухаживаниям и избрала его, молчаливого заморыша. Ох и коротки вы, северные ночи, сумерки которых заботливо укрывали влюбленных. А потом…
– Не пущу! – он вздрогнул. Сколько лет прошло, но этот крик и сейчас стоит у него в ушах.
– Не пущу! – он снова прижмурился и увидел ее, отчаянные в своей безнадежности, зеленые глаза.
Платок, сползший на плечи и давший простор копне рыжих волос, которые, почувствовав волю, распались по плечам просоленной брезентовой куртки.
– Не пущу, – молили руки, охватившие его шею.
Он, опустив глаза, видел ее ноги, напрягшиеся в последнем порыве удержать любимого. Видел громоздкие резиновые сапоги, отчаянно сломанные в подошве, чтобы быть ближе к нему, к единственному, родному. В этом порыве она вложила все: любовь, свое будущее…
…Она поняла все. Он и сейчас помнит ее: поникшую. Бессильные повисшие руки. Внезапный ветер с моря поднял гриву ее волос, разметал их по ветру. А он отталкивался веслом от каменистого дна и стремился к нему, к монастырю, который слабо просматривался в тумане.
– Будь проклят твой Бог!.. Будь проклят… – услышал он заклинание и в последний раз увидел ее. Нет, не ее. Он увидел ее глаза: зеленые, бездонные, как это северное озеро. Затем по глазам полоснуло рыжее полотно волос. Полоснуло и стихло. И только серо-голубая пустынь…
Потом был монастырь. Несколько лет он работал послушником. И постриг. Сам владыка его рукоположил. Он любил свой монастырь, северный оплот страны. Так уж издавна повелось: на юге границы охраняли казаки, а на Севере крепостями стояли монастыри. И нередко святые отцы меняли крест на меч и отражали набеги «немцев». Так на Руси звали всех непрошеных гостей.
Прошли годы. Время надежно укрывало от него воспоминания о прошлом. Постепенно ушли те видения, которые преследовали его каждую ночь, и осталось только служение Богу. Жить целомудренно, соблюдать послушание священноначалию, в постничестве пребывать – одни и те же требы для любого монастыря. Монах – как солдат: дал присягу и себе уже не принадлежит, он принадлежит Церкви.
Если Господь призвал на этот путь, то нужно терпеть послушания. Он это хорошо усвоил. Старые иноки помнили древние традиции, и в общении с ними братия монастыря могла перенимать стиль общения и жизни, внутренний облик прежних монахов. Старцы говорили, что монах должен всегда, во всех поступках действовать как монах, ходить как монах, вкушать пищу как монах, молиться как монах, даже смотреть как монах. Все эти истины он впитал в молениях и трудах. И если нет перед глазами тех, которые видели своими глазами былых подвижников и старцев, то действительно сложно на ровном месте возродить то, что было утеряно.
В Трифонов Печенгский монастырь он пришел сам. Поначалу их было всего двое. Но, гляди ж ты, расцвело подворье. Значит, будет жить храм. Только одно беспокоило его: монастырь находился на дороге, большом интенсивном шоссе. Не было той беломорской благости, так милой его сердцу. Много, ох как много соблазнов было инокам.
Старец внутренне не верил им, новому поколению, как бы выразился он по-мирскому. Он помнил, что монахи – это самые радостные и счастливые люди! Монах выполняет небольшую возложенную на него работу: молится Господу и исполняет послушание. Он не имеет больше никаких хлопот, живет той жизнью, которую избрал, и постоянно пытается выполнить завещание апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите». Но его смущало то, что монахи, да и те же послушники постоянно заняты работой. Оставили монахи молитву и стали суетливыми, как миряне. Труд необходим в монашеской жизни, но на первом месте в любой форме монашеской жизни стоит молитва. Молитва – это и дар, и подвиг. Мало кто умеет в наше время молиться.
Настоятель монастыря отец Владимир не перечил ему духовнику. Занятый своим, как он говорил, послушанием, он мало интересовался, как живут насельники монастыря, полагаясь на старца, как на духовника. Когда тот очень давил на него, то в защиту отец Владимир произносил: «Вспомним, что Христос вчера и сегодня и во веки тот же, – и добавлял: – И потому монашеская гвардия всегда та же». Сущность монашеского служения всегда остается неизменной: это служение Богу, ближним и, конечно, молитва за весь мир.
Он пошевелился, распрямляя затекшую спину. Ударил колокол к заутрене. На дворе зашевелилась братия. Начался день.
Андрей
С неба свалился вечер. Плотный темный, как занавес в театре. Все стало расплывчатым, неузнаваемым. Костер догорал. Головешки обуглились. Их словно посыпали мукой. Казалось, огонь умер. Но в доказательство своей живучести из-под чешуек пепла выскакивал кокетливый язычок пламени и схватывал забытую хворостинку. Он алчно сдирал с нее бересту, скручивал в трубочку и пожирал.
Андрей поворошил палкой пепелище. Костер, получив прилив воздуха, вспыхнул длинным пламенем и осветил край озера, где приютился Андрей. Край был черный. Он горбился, словно прибитое ветром чудище.
На сопках зашевелились осины. Они к вечеру всегда становились разговорчивее. Спорили даже с ветром. Но с ним разговор короткий: порыв, и в воздухе закружились еще не окрепшие листья, а осины стыдливо прижимали подолы.
Андрей любил костры. Он подолгу сидел возле них, прижав колени к подбородку, и неотрывно смотрел на огонь. Под его мерцающее свечение хорошо думалось.
Он сидел и вспоминал прошлую, такую далекую жизнь. Москва. Их пятиэтажный дом сталинской постройки уютно расположился на станции метро «Сокол». Своей помпезной частью дом попирал Ленинский проспект, а двором соседствовал со старым парком. Своих родителей он помнил, но без особого тепла, так как они, как говорила бабушка, не вылезали из заграницы. Они приезжали красивые, не по-советски одетые, привозили ему подарки. Он поначалу им радовался, но позже, когда стал старше, принимал их, стараясь не обидеть родителей. Ему очень хотелось сходить с отцом на лыжах, посидеть с мамой и почитать сказки, которые он очень любил. Но родителям было некогда. Потом они исчезали, и он оставался с бабушкой. Мальчик он был способный, школа его не тяготила. Даже иностранный язык в спецшколе, куда его определила бабушка, не отнимал много времени. Бабушка часто ходила в церковь. Церковь была небольшая и очень уютная. «Поговорить с духовником», – так объясняла бабушка свои заходы в храм. Но на праздничные молебны ходила. Он поначалу не понимал бабушкиной тяги к религии, но из-за нежелания обидеть ее не высказывался. Больше того, как-то зашел вместе с ней, и бабушка представила его духовнику. Им оказался пожилой, очень благообразный мужчина. Если бы не его одеяние, у Андрея сложилось бы впечатление, что он разговаривает со своим дядюшкой. Так ему было легко и просто. Узнав, что Андрей играет на фортепиано, священник очень оживился, и они распели какую-то ноту. Это была церковная музыка, и Андрей никогда не думал, что она может увлечь. Он стал петь в церковном хоре. Тихий и задумчивый от природы, он не тяготел к играм сверстников. Да и юные жители их элитного дома редко появлялись во дворе. Их ждали специальные и музыкальные школы, спортивные секции. Священник не проводил никакой работы по привлечению его в лоно церкви. Но не отказывал, когда мальчик просил разъяснить непонятный текст песнопения. Так и пришло понимание церковных книг, а с ним и служб. Как-то само собой он перекрестился. Это для него стало потребностью, как выпить воды, когда хочется пить. Он уверовал в Бога. Это было не бездумное отстаивание служб. Каждая служба доходила до него, пронизывала всю его сущность. К нему пришла Вера.
В Московский государственный институт иностранных языков он поступил легко. Учился с удовольствием. К этому времени его знания в теологии были обширны и он был даже представлен в Московской епархии. Там заинтересовались молодым студентом института имени Мориса Тореза и привлекли его к работе с заграничными церквями, где сохранились русские приходы.
Кризис наступил внезапно. Внешне незаметный аккуратный студент третьего курса переводческого факультета отказался сдавать научный атеизм по религиозным убеждениям. Это был взрыв в идеологическом центре. Скорый на руку деканат поторопился отчислить студента. Но за него вступилась московская епархия. Дело приняло окраску нарушения конституционных прав, и партийные органы института быстро сообразили, что к чему. Итогом всей этой истории было собеседование по научному атеизму и переход на вечернее отделение.
Андрей стал работать в отделе внешних сношений Московской епархии и ускоренно заканчивал Загорскую семинарию. Позже наступил черед академии. Он изучал теологию, уставы зарубежных церквей. Увлекся иконописным делом. Он сравнивал иконопись с античной историей.
Андрей часто вспоминал, как его пригласил в свою мастерскую ортодокс-иконописец. Он зашел в комнату, переделанную под часовню, и обомлел. Такого он никогда не видел. Это была белая комната, стены которой плавно переходили в сводчатый потолок. Пол был сделан из черного камня. Посредине стояло несколько икон, больших, выполненных мастерски в золотисто охровых тонах. Чувствовалась преемственность владимиро-суздальской иконописной школы. Посередине, между иконами, стояла кованая из черного металла калитка с золотой инкрустацией входа господня в Иерусалим. На задней стене – фрески двенадцати апостолов. Чугунная люстра и такой же подсвечник. Андрей понял, что здесь живет Бог.
Он давно задумывался об устаревших традициях оформления церкви. Это самоварное золото, купеческие завитушки, рюшечки… Все отдавало плохим оперным театром и безвкусицей. Простор нужен, свет. Тогда будет являться Бог.
Многое в православии заставляло задумываться Андрея. Почему нельзя вести церковные службы на светском, то есть современном русском языке? Почему не перейти на новый календарь? Не отмечать единое рождество Христово?
– Ортодокс, ты, Андрей, – как-то заявил ему священник-духовник.
Он долго слушал исповедь Андрея, сопел, мял бороду в кулаке. Наконец не выдержал:
– Запомни! Новоделы приходят и уходят, а православие стоит незыблимо. А все потому, что дисциплина в церкви как в крепостном праве. Много было таких мыслителей, но церковь не могла терпеть их ересь. Посему и на Соловки их ссылала и в казематах гноила.
– Как же католики, батюшка, – не выдержал Андрей и прервал духовника.
– Эко ты как сказал, – нахмурился священник, – это уже ересь.
– Но Бог един, батюшка. Просто люди идут к нему разными путями, – добавил Андрей.
Священник нахмурился:
– Послушай, сыне, это уже не любопытство. Это сумятица у тебя в голове. Как же ты с такой кашей в голове паству окармливать будешь? Как станешь нести слово Божье?
Андрей молчал. Что он мог сказать старому духовнику. Тот знал его с детства. Определил в семинарию, рекомендовал в академию. И вот на тебе: доучился отрок.
Сентябрь дал о себе знать пастельным великолепием красок. Забагрянели сопки, засинели озера. В них смотрелись белоснежные хлопья облаков. Воздух стал прозрачным.
Старик-келарь, опираясь на посох, смотрел на угасающую красоту выцветшими глазами и повторял:
– Благодать-то какая кругом! Слава тебе, Господи!
Андрей поднял глаза от костра. Вслушался. Тишина облепила его. Вязко, плотно. Как бывает только на Севере. Не слышно было даже звона мошки, этого исчадия Заполярья. Андрей подбросил несколько березовых коряг. Взметнулась седая пыль, и дремавшее под сизой коростой пламя вырвалось и сладострастно облизало коренья. Свернулась от последней боли береста и вспыхнула. Мгновение – и только черная короста на некогда белом стволе. Пламя сверкнуло глазами и стало алчно пожирать плоть.
– Все бренно, – невесело усмехнулся Андрей.
Снова взъерошилась память. Снова выплыл разговор с настоятелем. Вроде ничего не изменилось: все та же ровность, доброжелательность. Но что-то ушло. Появилась настороженность у старика, что вновь выскажет Андрей что-то богопротивное. Где тот отрок, что смотрел на учителя ясными глазами, ловил каждое, его, пастыря, слово? Андрей чувствовал, что внутри старика зреет протест по высказанному, но не пришло время высказаться. Но оно придет, непременно придет. Не сможет учитель оставить своего ученика с сомнениями один на один. Он был прав. Дождался-таки.
– Андрей, – как-то после заутрени обратился к нему духовник. – Знаю, что готовишься ты к постригу, чтобы чин ангельский принять и по лестнице архипастырской двигаться. Похвально. Но вот что я тебе скажу. Погоди с постригом. Успеешь еще карьеру богословскую свершить. В монашество рукоположиться. На севере монастырь восстанавливается. Трифонов Печенгский. Поезжай туда послушником. Послужи Богу на ребрах Северовых. Человечество оттуда взошло. Поклонись могилам павших, убиенных невинно. Место там намоленное. Тебе на пользу будет.
Андрей вздрогнул. Чем-то ветхозаветным повяло от речей священника: Печенга, Трифонов монастырь, ребра Северовы. Но не сильно удивился. Время такое пошло, бездуховное. Власти заметались, природа пустоты не терпит. Нужно было брешь в идеологии заполнять. Как сказал Вольтер: «Если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать». Вот и кинулись в религию. Погнали клубы, больницы из культовых зданий и стали их передавать церкви. Не зря священник обратился к нему, ох не зря. Нужны Сергии Радонежские стране, нужны.
– Хорошо, отче, – неожиданно быстро согласился Андрей и склонил голову.
Батюшка осенил его крестным знаменем.
Его решение вызвало негативную реакцию в отделе внешних сношений московской епархии, где служил Андрей. После пострига ему открывалась карьера, о которой можно только мечтать молодому богослову. А он в Трифонову Печенгскую пустошь! Андрей, вспомнив, невесело усмехнулся. И вот он здесь. На Севере дальнем…
Рядом полуостров Рыбачий. Старец в прошлом году сказывал, что ездил туда, поклонился всем, кто нашел успокоение в гранитных камнях Муста-Тун-тури. Не пропустили немца русские люди. Хотя как русские, советские больше. Каких только национальностей не было, а все полегли за интересы земли Русской. Память нужна, увековечить подвиг их нужно. По сути, они те же иноки печенгские, что под алтарем лежат.
Нужна единая память, без штампов и идеологии. Что-то должно быть над религией, общенациональное, космическое. Андрей вспомнил богословские диспуты, вспомнил многоликость Бога, но его единую суть.
– Андрей, – раздался звонкий мальчишеский голос.
– Нашел, – улыбнулся Андрей и крикнул в темноту: – Я здесь!
Прижился мальчишка в монастыре.
Бог! Бог! Если ты есть, почему не прекратишь смуту на Руси, которая породила беспризорщину.
Он еще в Москве нагляделся на последствия так называемой демократии: нищенство в метро. Голодные пенсионеры, обездоленные дети. И это после реформ!
Сверху, осыпая камни, слетел Данилка.
– Вот ты где. А я тебя ищу, – быстро проговорил он.
Уселся на корягу, вытащил из-за пазухи ломоть хлеба, разломил его и половину протянул Андрею. Они нанизали хлеб на прутики и стали ждать, когда пламя поджарит на кусках золотистые корочки. Молчали.
– Как в школе? – так, чтобы поддержать разговор, спросил Андрей.
– Нормально, – отмахнулся от вопроса Данилка.
По берегу поплыл вкусный хлебный запах. Кусочки зарумянились, и друзья с хрустом упитывали хлебную благодать.
– Андрей? – неожиданно спросил Данилка. – Ты норвежский язык знаешь?
– Нет, – удивленно ответил Андрей. – Зачем тебе?
Он посмотрел на Данилку. Мальчишка сидел в темноте. Только глаза его светились тревожным влажным блеском.
– А в Норвегии был? – проигнорировал вопрос мальчишка.
– Нет, не был, – вздохнул послушник.
– Жаль, – неожиданно вынес вердикт Данилка.
Андрей извиняюще развел руки.
– Зачем тебе норвежский?
– Сегодня в школе делегация была, норвежская, – пояснил Данилка. – Из коммуны… коммуны… Вот ведь, забыл! – воскликнул он.
– Сьер-Варангер, – подсказал Андрей.
– Точно! – воскликнул Данилка.
Снова замолчали. Хлеб был доеден, Данилка веткой ворошил чешуйки пепла в костре.
– Андрей? – вновь спросил он. – Почему мы свой социализм разрушили, а норвежцы его строят?
Вот тут-то Андрей и замер: «Устами младенца глаголет истина», – подумалось ему. Плохи у нынешней власти дела, если после реформаторства даже дети видят, что сделали со страной.
– С чего ты взял? – как-то искусственно переспросил Андрей.
– Учителя между собой разговаривали, – пояснил Данилка. – Еще они говорили, что норвежцы нефть свою продают и на счета будущих поколений откладывают, а у нас новые русские всю страну разворовали.
Андрея поразило, как спокойно говорит мальчишка о таких пороках как воровство. Он не возмущается, а говорит как о норме.
Гулко ударил колокол. Его эхо растелилось над озером, расшиблось о гранит берегов и вернулось обратно, изрядно притихшим.
– Э, брат, да мы на вечерню опаздываем. Вот нам от духовника нагорит! – воскликнул Андрей.
Большому колоколу вторили малые. Их брызги тонули, падая в воду. Друзья подхватились и побежали на подворье.
В церкви собрались присутствующие в обители. Их было мало. Они стояли небольшой группой и молились. Андрей присоединился к молящимся. Данилка занял свое привычное место и слушал. Слушал молитвы, которые неслись от амвона, и думал, думал.
От него не требовалось молитв и присутствия на службе. Он стоял и вслушивался в церковную скороговорку, до него стал доходить смысл сказанного.
Вечерняя молитва закончилась. Братия разошлась, а Данилка, покрутив головой, увидел Андрея, который сидел на сложенных бревнах и разговаривал с послушниками. Они приехали недавно из Троице-Сергиевой лавры. Это были учащиеся семинарии, у них было послушание в Трифонов Печенгский монастырь. Семинаристы изучали житие кольских святых и развитие христианства на Кольском полуострове. Что-то вроде дипломной работы, как сказал Андрей. Он подошел поближе к разговаривающим и услышал:
– Не пойму я, брате, как такие душегубы могли стать святыми, – говорил высокий худой юноша с прямыми светлыми волосами.
– Покаялся и пришел к Богу, – спорил с ним второй, с небольшой редкой бородкой. Он был степеннее своего товарища, молчаливей.
– Не забывайте, что они канонизированы только на местном Соборе. Это местные святые, – подал голос Андрей. – Потом, может ли канонизация быть символом святости? – вдруг оборонил Андрей. – Может, это акт политический?
Семинаристы непонимающе посмотрели на него.
– Годы должны пройти, годы, – сказал Андрей. – Только когда сохранятся в памяти людской навечно их деяния, только тогда можно вершить Собор и причислять их к лику святых.
– Это ты про царскую семью намекаешь? – недоверчиво спросил высокий.
– Да разве только о ней вещаю, – отмахнулся Андрей. – В системе дело, в действии. – Кстати, а в чем святость царской семьи? – неожиданно вопросил он спорящего. – Что за терновый венец они приняли? Разве император встал за землю русскую, разве он за нее мучения принял? – загорячился он. – Государь, а престол бросил. В такое время! Это же как мать, которая бросила своего ребенка, достойна осуждения, а мы его в – святые!
Семинаристы потрясенно молчали и тихонько разошлись. Андрей, подпер голову ладонями, задумчиво уставился в одну точку.
«Опять не то сказал. Напугались семинаристы. В их глазах это же ересь. Не то! Не то. По-другому нужно говорить. Убеждать нужно», – думал он.
– У каждого свое предназначение, – повторил Андрей слова, вспоминая разговор с деканом академии. – У тебя дар слова. Ты утешить можешь.
«Значит, не могу», – думал Андрей.
Но почему нужно соглашаться со всеми? Даже с церковными догматами. В постоянном благоговении верующий жить не может.
– А ведь ты, Андрей, в бога не веришь, – скорбно сказал духовник. Андрея передернуло от таких слов.
«Я не то что не верю, – подумал Андрей. – А если его просто нет!» Его сорвало с бревен, и он быстро прошел в храм. Он опустился на колени и стал шептать слова молитвы.
– Грешен, грешен, господи, – шептал он.
Его черная мягка бородка становилась влажной от непроизвольно текущих слез.
– Грешен я, грешен, – повторял.
Спас скорбно смотрел на него и, казалось, вразумлял.
«Кто их взвесит, грехи наши. На каком безмене? Искус тебя охватил, раб божий. Чем ближе к богу, тем больше искушение…»
– Накажи меня господи, верни в лоно свое, стадо твое, – молил Андрей.
«Ладно, – сказал Господь, но больше так не делай. Помни – гордыня все-таки грех».
Данилка
Пролетело короткое полярное лето с его белыми ночами. Данилку неожиданно отправили в школу. Пацаненок привык к вольной жизни и не сразу сообразил, чего от него хотят. Старец развернул пакет и показал синюю форму.
– Ну-ка примерь.
– Зачем, отче, – опешил Данилка.
– Как это зачем? А школу в рванье пойдешь? Чай не бурсак, – отрезал келарь.
– В какую еще школу? – до Данилки стал доходить смысл происходящего.
– В какую-какую! В поселковую. Ты что, решил неучем прожить? – прикрикнул старик.
Так и начались для Данилки школьные будни. Учился он жадно, и скоро догнал своих сверстников. В школе к нему приклеилась кличка «Монах». Но Данилка быстро определился с обидчиками. Опыта уличных боев ему было не занимать. Очень скоро рафинированные мальчики поняли, что не только один на один, но и группой им не совладать. Данилка дрался зло. Он дрался не в банальной мальчишеской драке «до первой крови». Данилка вкладывал в силу кулака всю свою злость за нанесенные жизнью обиды. Он умел бить больно. Противники в страхе разбегались. Итогом был поход в кабинет к директору и обещание поладить с классом. Класс молча терпел его. Но Данилке было неинтересно со своими сверстниками. Обмениваться входящими в обиход видеокассетами его не интересовало. Глазеть на ларьки с различными заморскими «жвачками» было без надобности. Закончив занятия, он спешил домой. Так он называл подворье и включался в работу. Куда он себе позволял заходить, так это в библиотеку. Читал жадно, без системы. Но вскоре определились пристрастия: история. История всего: культуры, религии, географических открытий. В голове возникала каша. Вот тут-то и пригодился Данилке Андрей. Он обстоятельно и толково отвечал на его бесчисленные «Почему?». Доставалось и отцу Владимиру. Устав от мирских забот и трений с цивильными властями, он с удовольствием беседовал с любознательным пареньком. Особенно много он рассказывал ему об истории Кольского края, которой сам увлекся. Данилка и слыхом не слыхивал о Трифоне Печенгском, Варлааме Керекском, Феодорите Кольском. Много нового узнавал Данилка через житие святых, но не нравилось ему, в силу мальчишеского нигилизма, что все сводилось к Богу.
– Ты бы хоть лоб перекрестил, нехристь, – легонько шлепал мальчишку по лбу духовник.
– Зачем? – искренне удивлялся паренек.
Хотя он уже не удивлялся, когда монахи перед едой читали молитву, а один из иноков или послушников во время еды читал выдержки из Евангелия. Особенно его удивляло, что человек «раб Божий».
– Почему? – недоумевал мальчишка.
Он читал историю древнего Рима, «Спартака». И снова вопросы. Почему он «раб Божий». Вон, у Горького по литературе: «Человек – это звучит гордо». «Я – человек!» – кричал Маугли.
Что мог объяснить старик-келарь любознательному пацану? Ровным счетом ничего.
– Ты кулаки не больно распускай, – ворчал старец, когда приходили известия об уличных «подвигах» мальчишки.
– Они же первые начали, – защищался Данилка.
– Ты терпи. Христос терпел… – начинал старец.
– Ага, и нам велел, – перебивал его малец.
– Ты не перебивай, неслух, – негодовал келарь.
– Отче, ну не пойму я заповедь Христову, что когда тебя бьют в левую щеку, нужно подставлять правую, – не унимался Данилка.
На помощь старцу приходил богослов Андрей, но и его теория непротивления злу не нравилась Данилке. Привыкший кулаками защищать себя, он не принимал их учение.
Данилка не понимал, как можно не сопротивляться злу. После того как он прочитал «Житие Трифона Печенгского» и причину гибели монастыря от шведских финнов под предводительством Весайнена, то был возмущен последователем Трифона, который запретил монахам принять честный бой с нападавшими и обязал их молиться. Он вновь перечитывал страницы, где остерботтенские «немцы» напали на монастырь. Данилка ясно представлял ворвавшихся на подворье. Один из монастырских богатырей, инок Амвросий, обращается к игумену: «Благослови, отче, воополчиться на брань, дать бой супостату». Но старец был тверд в своих убеждениях: «Нет, братия моя, это свершилась воля Божия, о ней предрекал нам преподобный отец наш Трифон, и нельзя тому противиться. Молитесь, братия, готовьтесь принять венец мученический». И стал на колени пред Царскими вратами. За ним, верная обету послушания, опустилась на колени вся братия. А двери уже трещали под топорами нападавших.
Старец как мог объяснял мальцу силу убеждения, силу послушания.
– Ну и что? – смотрел на старца голубыми глазами мальчишка. – Все одно, не пойму, почему они не защищались.
Что мог сказать старец пареньку, не воспринимающему готовности страдать?
В этом году зима долго не могла придти на Кольскую землю. Черная занавесь полярной ночи спустилась с неба на смену белым призрачным полярным ночам. Старуха с клюкой и седыми волосами накрыла своим черным колпаком пространство от Полярного круга до самого Северного полюса. Стало темно как под старым бабушкиным одеялом. Потом в колпаке образовались прорехи, и через них на землю глянули холодные звезды. Снега не было.
Серым ноябрьским днем ветер принес с Баренцева моря снежную крупу и сыпанул ею по неприкрытой земле. Крупа, подпрыгивая по замерзшим колдобинам, собиралась во впадинах и смотрелась серыми неприглядными лишаями.
Старик-келарь бродил как неприкаянный вокруг построек и все охал. Многое не нравилось в образе жизни монастыря старому монаху. Вроде бы и служили Богу, но все службы отдавали новым модным словом: «бизнес». В монастыре появился телевизор, подарок бизнесмена, который просил замолить его грехи. Телевизор по всем каналам нес полную чепуху. Современные идеологи облизывали новую власть, которая наслаждалась жизнью. Народ беднел. Не стало зазорным копаться в мусорных баках. Старик несколько раз подходил к настоятелю с предложением открыть столовую для бедных, но отец Владимир отнекивался, ссылаясь на отсутствие денег. Спонсоров, тоже новое слово, на такое благое дело не находилось.
Однажды стих ветер. Он перестал ожесточенно трепать березы и ивы. Со стороны Лиинахамари поползла туча, напоминающая стельную корову. Она проползла по небосклону и затянула его серой мутью. Полежала немного, разложив огромный живот по сопкам, и открыла свои закрома. Пошел снег. Ровный, сильный. Он не падал за землю, а планируя и выделывая замысловатые па, мягко, аккуратно, словно извиняясь за долгое отсутствие, ложился на нее. Скоро забубенные головушки берез и осин покрылись искрящимися шапками. Те не верили своему счастью и боялись шевельнуться. Снег зарядил не на час или два. Он будет идти долго, и все живое покроется теплым снежным покрывалом. Монахи выходили на улицу, снимали скуфейки и долго так стояли, задрав бороды. Снег шел. Он падал на волосы и бороды братии и превращал их в сказочных дедов морозов. Он нес очищение и чистоту в помыслах, в жизни. Монахи размашисто крестились и шли по своим делам, подметая подолами ряс свежий снег.
Данилке нравилось ездить на требы. Транспорт был самый разный: от «Волги» настоятеля, до уазиков военных. Он садился к окну и внимательно рассматривал пролетающие картины. Они были разные по цвету и содержанию. Данилка с горечью пропускал сожженные обочины поселка Никеля. Обожженные газом деревья в немом отчаянии, как руки, раскинули ветви. Метель, выбеливая мертвые деревья, делала их еще страшнее. Миновав Никель с его лунным пейзажем, они выезжали на дорогу, которая приведет их в другой поселок горняков, Приречный. Иногда они обгоняли рыбаков, что шли на лесные реки промышлять семгу. Если был улов, то они бескорыстно и щедро делились рыбой с монахами, отказываясь от денег. Те осеняли их крестным знаменем. Миновав городскую черту, машина вырывалась на просторы тундры. Все было интересно мальчишке. Вон проторили тропу легкие лопарские санки – кережи. Это проехал лопарь. «Мало их осталось», – сожалел Данилка. Ему нравились эти приветливые маленькие люди. Хотя они были обрусевшие, но сохранили свою природную доброту и наивность. Плывут навстречу машине волнистые сугробы и засыпи. В них с ветвей падали куропатки и прятались в пушистый снег, под ледяную крышу. Здесь важно вереницей ходили лоси. В голове всплывали небылицы, байки. Кто-то вспомнил, что в таких местах медведица свистит разбойничьим свистом, заложив в пасть мохнатые лапы. В машине смеялись, а полярная ночь прилипала к стеклам плоским лицом и силилась рассмотреть салон машины.
Данилка, покачиваясь на первом сидении, весь был во власти грез и фантазий. В эту сторону он еще не ездил. Ее называли заполярной Швейцарией. Здесь рукой подать до Норвегии и Финляндии.
Зима сковала болота, выровняла неровности тундры. Лес превратился в сказку. Иней искрился под лунным светом и, казалось, что он, Данилка, и его спутники одни-одинешеньки на земле. Вот выйдет сейчас из-за валежины нечто огромное и лохматое и проревет: «Кто нарушил покой в моем царстве!»
Путников благословил кто-то сверху. Окропил острым звенящим инеем. Природа за какие-то несколько десятков километров резко изменилась. Слева и справа тянулся рослый здоровый лес, так разительно отличающийся от никельских окраин. Он неожиданно прерывался пустошами, которые летом разольются озерами небесной синевы.
Солнце вставало из-за зубчатой лесистой щетины, опускало первые лучи в свинцовую гладь озера. Между озерами и петлями извилистой бурливой речки Колосйоки стояла плотная темно-зеленая щетка густого хвойного леса. Лес стоял здесь нетронутый, с гладкими голыми стволами. Своими суковатыми руками, поднятыми высоко вверх, они обнимали облака. На пилигримов сверху смотрели чьи-то глубокие синие глаза, прикрытые белой повязкой облаков. Они пристально вглядывались вниз в просветы крон. Братия физически чувствовала на себе этот небесный взгляд и спешила осенить себя крестным знаменем. Не хотелось думать, что скоро приедут. Появятся скучные пятиэтажки поселка, и закончится сказка. Будет новоявленный храм из очередного переделанного здания. Проведут службу, окропляя привычную паству: старушечек, немногочисленных мужчин с опущенными, словно от тяжелой ноши, плечами.
Его стало занимать: почему люди идут в церковь, когда им плохо. Он насмотрелся еще на улице Зеленой, когда шли службы, церковь была переполнена старыми людьми, женщинами в старушечьих платках, небритыми мужчинами в заношенных одеждах. Они молились, но внутренне не становились чище, свободнее. Попробуй их задень! Сразу нарвешься на злой тычок. «Где же у них благость и любовь к ближнему», – как любит говорить монастырский духовник. Словно вторя его мыслям, двое, монах и послушник, тихо беседовали на заднем сидении. Данилка уловил, что они говорили о подвижничестве. От их разговора повеяло историей. Данилка обратился в слух. Говорил послушник, тот самый, который спорил с Андреем. Данилка побаивался его. Очень уж он был категоричен. Но старец к нему относился уважительно: говорил, что в нем есть стержень
Пожилой монах согласно кивал головой. Он прибыл совсем недавно в монастырь откуда-то с Беломорья, и Данилка плохо знал его. Он уловил продолжение разговора.
– Где ты видишь привольную Русь, брат? – невесело отозвался собеседник. – Ты посмотри, куда мы едем. В поселке еще недавно кипела жизнь. Да, люди не ходили в церковь, но они были людьми, они уважали себя. А сейчас что. Сердце рвется видеть такую паству. Разве голодному нищему человеку можно достучаться до сердца.
– Вот в этом и есть наша миссия, брат. Именно в этом, как ты верно заметил, – загорячился молодой послушник. – Если раньше православными были страна, власть, народ, образование и культура, то миссионерство было этакой экзотикой. А сегодня это основной хлеб для миссионера. Не надо ползти в горы, плыть за моря и океаны. Сегодня миссия должна осуществляться здесь, в своем доме, семье, самом себе.
Послушник замолчал, собираясь с мыслями, и готовый возразить собеседнику. Но тот молчал, задумчиво покачивая головой. Послушник продолжил:
– Идет духовная война. Страшная война. А на войне как на войне – воюют, а не уговаривают противника сложить оружие. Тем более если никакого желания к перемирию он не проявляет. Да еще, пользуясь нашим миролюбием, продолжает глумиться над Божьими заповедями и духовно уничтожать людей.
Данилка замер. Он всегда помнил как старец, когда ему было плохо, поминал Сергия Радонежского, Пересвета. Бранил Батыя. Сравнивал с ним, кто ему не нравился. «Хуже татарвы», – говорил он с болью.
– Я когда учился, верил в силу красивой проповеди, говорил с миром на его языке. Но такая миссия почти никого не приводит в храм. А вот когда идет обличение – это пробивает стену равнодушия современного человека. Но это будет жесткая, даже фанатичная проповедь. Тогда люди начинают задумываться, и многие из них, не сразу, но через какое-то время приходят в Церковь, – разволновался молодой человек.
Щеки его раскраснелись, глаза сияли внутренним светом. Чувствовалось, то, о чем он сейчас говорил, идет у него от души. Он много думал над этим.
– Все ты говоришь правильно, брат, – заговорил пожилой монах. – Но ты забываешь, что монахи-колонисты выступали в роли не только вестников Евангелия, но они были и носителями цивилизации. Их скиты увеличивались до размеров монастырей, вокруг вырастали города. Да возьми хоть соседа нашего норвежского, город Киркенес. Вокруг церкви вырос город. Они учили людей не только Евангелию, но и основам гражданского права, тому, что значит быть гражданином. А кто мы сейчас? Едем святить очередной магазин, – невесело усмехнулся он и замолчал.
– Согласен с тобой, согласен! – воскликнул послушник. – Но и методы церкви тоже не стоят на месте. Признано необходимым модернизировать методы миссионерской деятельности. Малоэффективно, оказывается, использование литературы, например, по методике преподавания «Закона Божия», созданного в дореволюционную эпоху. По своему характеру эта литература и программы были рассчитаны на уже воцерковленных взрослых и детей, ходящих с детства в храм. Сама социально-общественная жизнь дореволюционной России способствовала этому.
– Нам нужно помнить, что наша миссия сейчас обращена не к туземцам, не к язычникам, ничего не знающим о Христе, а к христианам, забывшим о своей клятве при Крещении – соединяться с Богом в православной вере. Вхождение в Церковь не только сообщает человеку дар Божественной благодати, но и накладывает на него определенные обязанности. Неисполнение этих обязанностей равносильно духовному самоубийству. Об этом непреложной истине, мы и должны свидетельствовать людям.
«Вот что значит такое миссия, – думал Данилка. – Нести в массы, не только слово Божье. Нужны знания, чтобы убедить прихожанина. Убедить, чтобы он стал добрее. Кого убедить? Вот этих жлобов, которые стали хозяевами жизни? Чтобы они делились с ближним? Что-то не то». Кто же тогда эта братия, с которой он делит хлеб и живет под одной крышей? Какое их предназначение, если говорят и переживают об одном, а сами делают другое. Он беспокойно заерзал на сидении.
Вскоре под монотонный разговор своих спутников задумался о событиях осени. Андрей брал Данилку с собой на исследование местности вокруг военных поселков Корзуново и Луостари. Эти поселки танкистов и морских летчиков выросли после войны на территории монастыря. Ему очень хотелось найти следы монастыря. Но все было тщетно. Ничего не напоминало о том, что здесь была монастырская пустынь. Да что там пустынь. Не было лопарских селений. Ушли из этих мест лопари сразу же после Зимней войны, а которые остались, то успели уйти в Финляндию или в Норвегию в 1944 году. Только гора Спасительная, где находил свое убежище от разгневанных лопарских шаманов-кебунов преподобный Трифон, угрюмо нависала над Печенгским шоссе.
Друзья не унывали. Следующим объектом их исследования было западное побережье реки Печенга. Андрей хотел убедиться в целостности старых церквей, на описания которых он наткнулся в материалах, которыми снабдил его перед отъездом духовник.
Одной из них была старая Свято-Трифоновская церковь. Эта небольшая церковь была построена в 1808 году местными рыбаками на месте древнего Свято-Троицкого монастыря у могилы 116 мучеников. Она получила название «Старая рыбацкая церковь».
Еще в 1900 году ее перенесли в рыбацкую колонию Баркино и освятили в честь Архангела Михаила. Она дожила до нынешних дней, но как… Андрей и Данилка стояли перед ветхим заброшенным зданием, меньше всего напоминавшим храм. Они не знали, что остатки церкви будут уничтожены в 1998 году решением командования Печенгского гарнизона. Разобранную на бревна церковь сожгут. Сожгут при возмущении местного населения и полном молчании наместника монастыря. Чем не шаманство лопарских кебунов! И это все произойдет не во времена коммунистической идеологии, когда церковь даже заикнуться не могла о возврате зданий. Нет. Это произошло, когда бурными темпами развивался Трифонов Печенгский монастырь, и местные власти вкупе с командованием всячески старались показать свою лояльность к возрождению церквей.
Затем друзья наткнулись на старое пожарное депо. Трудно было догадаться, что это бывшее культовое учреждение, построенное в 1912 году. Андрей не смог сразу понять, что это церковь апостола Андрея Первозванного и святителя Николая Чудотворца. Они стояли у старого обветшавшего здания, и в свисте ветра ему слышался стон колоколов, которые некогда собирали рыбаков на благовест. Он явно ощущал, как рыбаки, занятые тяжелой работой по постановке яруса, поднимали головы, вслушивались и осеняли себя крестным знамением.
Андрей с горечью ходил вокруг церкви, превращенной в пожарную часть, и не мог понять действий епархии, которая терпела подобное святотатство. Он вспоминал, что важное место в деятельности монастыря занимало восстановление, поддержание имеющихся церквей, часовен и строительство новых, необходимых для осуществления главной цели монастырской жизни – спасения братии, молитве за весь род человеческий. Казалось бы, что в годы перестройки, когда возрождалось духовное начало, когда создалась Мурманская и Мончегорская епархия, ни одно бывшее церковное здание не должно быть брошено или угнетено не присущими ей функциями. Верующие Кольского полуострова, не избалованные православными святынями, поклонялись любым намоленным местам, связанным с воскрешением духовности. А наяву на глазах у епархии и местных органов власти доживали свой век в забвении не только церкви, исчезали с лица земли исторические здания.
Снова в душе Андрея колыхнулось чувство сомнения в искренности современного христианства. Не слишком ли увлекается нынешнее духовенство укреплением своих позиций у современной власти? Пройти мимо кричащих, молящих о помощи церковных зданий было невыносимо.
Данилка с непониманием смотрел на друга, который на глазах чернел лицом. Он был еще слишком мал, чтобы понять сомнения, одолевающие Андрея. А тот сел на выброшенный морем позвонок касатки и замолчал, глядя на туман, клубящийся над бухтой «Девкина заводь». Не напоминает ли эта история нашу многострадальную историю современности? Развалился Советский Союз. Рвался как живая плоть, кровоточа, рвались связи экономические, исторические. И самое главное, людские. В мгновение ока тысячи людей оказались за границей России. И новоявленное российское правительство палец о палец не ударило, чтобы вернуть единокровных братьев на свою историческую родину. Чем не брошенные лопари – саами, которых приручил преподобный Трифон Печенгский!
– Что, устал? – окликнул его водитель. – Потерпи, за поворотом Приречный.
Судьба Веры – судьба государства
Полярная ночь, навалившаяся на Кольскую землю, убавила нагрузку на насельников монастыря. Уехали трудники, обещавшиеся приехать на следующий год. Покинули стройку и шабашники, выполнив все подряды. Старик-келарь хоть и поворчал для приличия о дороговизне работ, но был доволен качеством выполненного. На подворье остались только монахи и послушники. Неожиданно у всех появилось свободное время. Андрей просиживал в своей келье и разбирал бумаги, которыми его нагрузил духовник. Он перебирал материалы и вспоминал последнюю беседу перед отъездом.
– Я почему тебя отправил туда, в Кольский край, Андрей, – духовник внимательно посмотрел на послушника. – Сейчас самое время посмотреть назад и задуматься о крушениях таких обителей как эта. Причины здесь не материальные, а духовные. Да-да, именно духовные. Причина этой беды как проказа тянется из глубины веков и разразилась в начале века. Как угодно ее называй: революцией или переворотом, дело не в этом.
– Ты думаешь, мир освободился от этого, избрав путь демократии? Ошибаешься, мой друг, ошибаешься, – духовник встал из-за стола и заходил по комнате. Худшее еще впереди. Ты ж богослов, теолог с академическим образованием. Вспомни Византию. Это вознесся второй Рим. Казалось, что Византия учла все ошибки первого Рима. И развивалась основательно, на тысячелетия. Тем более что была высочайшая духовность, православная вера.
Наставник повернулся к иконам и широко перекрестился. Он постоял у окна, собираясь с мыслями.
– Не мне тебе говорить, что мир развивается по спирали. Несмотря на предупреждения таких духовных светил как Багрянородный, тогдашние правители уверовали в свою безнаказанность, исключительность. Пошли перекосы в экономике, увеличение податей. Да что это! Пошатнулись православные основы духовности! А где слабая духовность там проблемы с внешним миром начинаются. Вся пакость, ересь людская лезет. А рядом Оттоманская империя. Ислам, он агрессивный, своего не упустит. Да и католические миссионеры не дремали. Так что выводов, сделанных из ошибок Рима, хватило ненадолго. А где хорошо живут, там начинается пьянство, злоупотребление властью. Кому же не хочется жить лучше. – Духовник остановился возле стола, сделал глоток чая.
– Ты знаешь, Андрей, что мне нравится в лютеранской церкви? Да не удивляйся. Именно в протестантизме. Самоограничение и самодостаточность. Слушай.
Наставник надел очки, взял книгу со стеллажа и раскрыл ее на закладке:
– «Спасибо за все, что у меня есть, и хорошо, что я никогда не думал, чтобы иметь больше» – так говорят норвежцы. Вот это чувство меры, благодарность за достаточное. Эти слова определяют достоинство норвежца, уравновешивает его психологический склад, гармонизует личность. Ну как? Смотри далее.
Духовник берет листы бумаги и начинает читать:
– «В Византии становится модным получать образование в Италии, Британии, Франции. Власть перестает оказывать поддержку науке, образованию, медицинские услуги становятся не по карману населению. Реформы саботируются чудовищным бюрократическим аппаратом, развивается демографический кризис, идет то, что сегодня у нас называют «вывозом капитала за рубеж». В Византии укрепляется фискальный, карательный аппарат, одновременно слабеют, разрушаются ее армия и флот. Военная реформа с треском проваливается, «профессиональная» армия из наемников-иноверцев оказывается абсолютно небоеспособной» – тебе это ничего не напоминает?
Наставник строго посмотрел из-под очков.
– Про коммунистов я не говорю. Что страна развалилась – это глупость почтенных старцев со значками «Пятьдесят лет в партии» на лацкане. А современные функционеры, в отличие от стариков, не выезжающих дальше Завидово, посмотрели, как живут их коллеги на Западе. Вот отсюда и пошла коррозия! Коррозия умов. И умов не только политических деятелей, а и населения тоже. Кризис вызревает в головах. Народ забыл, что изучал на лекциях политэкономии и решил, что новая фаза даст импульс развитию страны. Народ забыл, что не заходят два раза в одну и ту же реку. Он решил, что те блага, которые он получал от государства, будут вечно, и на этом экономическом фундаменте они дружненько войдут в светлое будущее, и каждый будет собственником. Глу-пос-ти!
– «…В итоге великая империя распадается на осколки, часть которых «уходит» в Европу, часть поглощается Турцией, но ни в одном из них не возродилось былого могущества Византии, воспоминания о котором тщательно вытравливаются из летописей», – духовник умолк, положил бумаги на стол и сел в кресло. Какое-то время молчали.
– Так что это, отче? Удел всех империй? Или результат изначальной порочности человеческой натуры вообще? – тихо спросил Андрей.
– В духовности вся проблема, друже, в духовности, – поднял на Андрея усталые глаза наставник. Дело в том, что мир одолел духовность. Казалось бы, ладно. Произошла социальная революция. Вступили на демократический путь развития. – Здесь наставник вытащил носовой платок, шумно высморкался и продолжил: – Как на любом переломе, миру сатана заботливо подсовывает лидеров различного толка. России как всегда не повезло: ограниченный президент и бесовщина вокруг него. От них темно на Руси. Темно и холодно. А луча светлого нет, и пока он не проявляется. И будь уверен, Андрей, – здесь духовник строго посмотрел на воспитанника, – будь уверен, – повторил он, – будет крах у России, будет. Та бесовщина, которая овладела властью, еще дел наделает. Народ вздрогнет, но дальше этого дело не пойдет. Народ у нас раб.
– Смотри, сколько лет новой власти, которую так с восторгом принял народ? Нет и десяти! А сколько пороков получили вместе с пресловутой демократией, Византии потребовались столетия, чтобы наработать их. Это и коррупция, криминализация общества. Один термин только чего значит: олигархи! – здесь наставник остановился.
– Люди, вставшие у власти, должны отвечать за общество, жить его проблемами. А что получилось? Откуда все эти чубайсы и абрамовичи? Они морально не готовы стать элитой общества, как тут как-то высказался президент, – духовник невесело усмехнулся.
– Люди опомнятся, – продолжал наставник, – поймут, что случилось, но новая власть умна: она себя уже обезопасила законами, в которых четко прописаны основные постулаты их безопасности. «Всенародный Президент», понимая мощь и силу КПСС, поторопился ее объявить вне закона, тем самым показав, кто он на самом деле. А его конституция. Не читал?
– Нет, – растерянно ответил Андрей.
Он слышал по радио о новом документе страны, но прочитать, как то не удосужился. Но священник почему-то развеселился:
– Не огорчайся. Я тоже не читал. Никто не читал. О ней только говорили, что идет всенародное обсуждение. Но никто ее в глаза не видел.
– А как же вера, отче? Православие, – тихо спросил Андрей. – Вон как новая власть активно пошла в церковь.
– Это ты про подсвечники говоришь? – оживился священник. – Насмотрелся я на них в церкви, насмотрелся.
Он снова замолчал, и Андрей, помолчав, спросил:
– Скажи, отче, сейчас церковь в почете у государства. Может она стать цементирующей силой общества?
Священник долго молчал. Потом снова встал, подошел к стеллажу и взял папку.
– Я, Андрей, выполняя твою просьбу в поиске материалов по истории православия, натолкнулся на интересные моменты. Вот смотри: «Настало время задуматься о глубоких духовных причинах сокрушительной катастрофы, которая постигла Трифонов Печенгский монастырь. А это была богатейшая обитель на крайнем русском Севере. Причина та же, что и рухнула держава Российская – Царство Православное». И причина здесь одна, мы ее проговорили: мир одолел! Увлеклись деятели духовные хозяйствами церковными и монастырскими. А церковь должна заниматься своим прямым делом: молиться и окармливать стадо свое, то есть верующих.
– Как народу обрести храмы? – Священник остановился посредине комнаты.
Он помолчал, потом произнес:
– Это хорошо, что ты задумываешься над этим. Хорошо. История человечества по нашим церковным канонам продолжается до тех пор, пока звучит молитва Веры Христовой. Когда наступает утрата пониманий этой истины, то все наши церкви перестают быть местом для молитвенных подвигов, не служат Господу, а становятся, как я тебе уже сказал, «религиозно-промышленной колонией». Да чего далеко ходить, – священник оживился. – Ты бассейн помнишь? Да-да, на том месте, где стоял храм Христа спасителя. Так вот, нет бассейна! Засыпали его. Нынешний городской голова, мэром его теперь кличут, решил восстановить взорванный храм. Ты можешь это представить? Я – нет. – Священник вновь заходил по комнате. – Да может ты и слышал его фамилию. Лужков. Всплыл на демократической волне. Разбогател на приватизации и решил наследить в истории. Это что, Вера? Кому нужен этот храм, когда прервалась цепь времен. Часовня в память о разрушенном храме нужна, но восстанавливать храм… В лучшем случае это будет музей, в худшем – место для отправления амбиций нынешней власти. Я бы его понял, если бы он от щедрот своих часть средств отнял и на строительство вложил. Вот в папке почитаешь, как кольский купец Роман Шабунин в 1808 году поставил Троицкую часовню взамен пришедшей в негодность над могилой убиенных монахов. Никто его не понуждал.
Старик продолжал:
– Нужен ли такой вселенский масштаб духовного наследия? Не напоминает ли он коммунистические призывы «догнать и перегнать»? Большевики тоже хотели даровать человечеству «рай на земле». Все несчастья, как ты знаешь, происходят от благих намерений.
– Сложные задачи стоят перед церковью, архисложные. Это не храм построить. Нужно людей к церкви повернуть. Вот в чем есть сейчас основная задача. Мы имеем дело с неподготовленной паствой. У нее нет тяги к православию. Люди без православного окормления могут попасть под влияние любой церкви. – Духовник замолчал и внимательно посмотрел на Андрея. – Что мы сейчас имеем? Паству, которая хуже чем язычники. Это образованные, воспитанные на циничном безграмотном атеизме люди. Если бы в советских вузах атеизм нормально преподавали! – воскликнул духовник. – Тогда бы хоть вопросы возникли.
Андрей вздохнул, сложил пачку бумаги, исписанной мелким почерком. Ныла спина. Давно уже ночь занавесила окно, спала наработавшаяся за день братия. Он потер уставшие глаза. В который раз он вспомнил укоризненные слова своего духовника: «А ведь ты в Бога не веришь».
– Бог, Бог, если ты есть помоги разобраться в этом хаосе. Наставь нынешнее руководство страны на истинный путь. – С этими словами он распрямился и размашисто перекрестился в сторону темного иконостаса, слабо освещаемого лампадой.
Форпост православия
Настоятеля монастыря отца Владимира Данилка видел редко. Он почти не правил требы в монастыре, перепоручив всю ответственность за духовную жизнь старцу.
– Погряз в миру, – ворчал тот.
Отец Владимир ездил по району, проводил службы. Население района потянулось к религии. Администрация шла навстречу своему населению и отдавала под церкви разные помещения, вплоть до магазинов.
На смену советским органам власти пришли неслыханные ранее названия: «глава администрации», «мэр» города. Им нужно было зарабатывать доверие народа. Они неумело крестились, подходили за благословлением.
Эта тема была предметом богословских споров в монастыре. Не знали святые отцы, как реагировать на просьбу освятить магазины, машины. Отец Владимир понимал искусственность создавшейся ситуации: это было не что иное, как мода. Но форма должна перейти в качество. Он был уверен в этом. Спорили много, но вердикт был один: «Святить».
Данилка с отвращением наблюдал, как новые хозяева жизни приезжали, чтобы освятить своих любимцев: черных хромированных чудовищ с мертвыми тонированными стеклами. Он насмотрелся на это действо еще в Мурманске. Святые отцы скороговоркой читали молитву, брызгали имущество новых русских и торопились уйти. Старушки, присутствующие на таких мероприятиях, осуждающе качали головами и прижимали краешки головных платков к сухим выцветшим губам.
– Отмолим, – говорил отец Владимир. – Деньги пойдут на обитель. Строить нужно, храм возводить. Где деньги взять? – отвечал он на вопросы особенно ретивых.
– Ох, младень, – шептал старец, – увлекаешься ты мирским делом, ох, увлекаешься. Трифон-то Печенгский уж на что устроитель был земель лопских, и то предупреждал: «Не любите мира и яже в мире – окаянен мир сей…» Мирские попечения захватили братию, забыли они слова Господа: «Дома Отца Моего не делайте домом торговли».
Отец Владимир вышел из здания администрации раньше обговоренного срока. Машины, как и следовало ожидать, не оказалось, что его нимало не смутило. Перед ним раскинулся поселок Никель, поселок горняков и металлургов. Некогда жемчужина Кольского Заполярья выглядела как кадр из фильма «Через тернии к звездам». Поселок явно агонизировал. Гвардейский проспект имел вид далеко не гвардейский: облупившиеся фасады домов, побитые шиферные крыши. Вспоминая историю поселка, отец Владимир стал ходить вокруг стелы, стоявшей посередине площади. Затем остановился и, заложив руки за спину, стал ее рассматривать. Это была высокая гранитная стела с выбитым текстом о вечности и незыблимости Печенгской земли.
– Интересуетесь, святой отец? – раздалось за спиной.
Владимир вздрогнул от неожиданности и обернулся. Перед ним стоял пожилой человек в синем форменном диагоналевом пиджаке. Застиранный воротник зеленой рубашки военного образца стягивал морщинистую шею. Синие брюки заношены, но тщательно выглажены. Все кричало о бедности, но бедности достойной, не доходящей до попрошайничества.
«Вот оно, достояние перестройки, – подумал отец Владимир. – Пенсионер, которого обобрало государство, спалило сбережения в сбербанке и не дало возможности уехать доживать свои дни в среднюю полосу».
Он видел много таких стариков в церкви, но те были другие. Они искали защиты у Бога, у него, священника, как посредника. «Этот ни искать защиты, ни просить не будет», – подумалось отцу Владимиру. Незнакомец тем временем спокойно смотрел на него голубыми выцветшими глазами из-под нависших кустистых бровей.
– Интересный памятник? – переспросил он.
– Да, – ответил священник. – Это откуда же вырезали такую стелу и как привезли?
– Из Германии, – усмехнулся мужчина, – на судне, потом на машине к Генеральской сопке. Слыхали про такую?
– Гора Спасительная? – переспросил отец Владимир.
– Молодец, святой отец, знаешь старинные названия, – одобрительно заметил человек. – У нас она больше как Генеральская сопка зовется.
– Зовите меня отцом Владимиром, так проще, да и правильнее, – попросил священник.
– Да как Вам удобнее, – ответствовал пожилой человек. – Мы ведь вашей церковной практике не обучены. А я – Александр Семенович.
– Вот и познакомились, – улыбнулся отец Владимир.
– Александр Семенович, можно про памятник подробнее? – полюбопытствовал священник.
– Так памятник хотели поставить на сопке, да власти запретили, – откликнулся собеседник.
– Как это? – удивился отец Владимир.
– На этой сопке КП был немецкий, с генералом ихним, – продолжил мужчина. Так вот, генерала там убило, и вдова его хотела ему поставить памятник. Но его ставить запретили. Не везти же его обратно. Вдова уехала, а стелу превратили в монумент. Да ты приезжий, наверное, не местный? – как-то запросто спросил мужчина. – Наш край историей богат. Древний край, российский. Ты, наверное, всех церквей-то и не знаешь? В Луостари церковь была. Звалась… вот ведь запамятовал… Да как же… – мужчина потер лоб.
– Сретения господня, – подсказал Владимир.
– Точно, – обрадовался старик, – именно она. Я ее до войны помнил. Она у финнов была, а потом, когда мы наступали, спалили ее, не уберегли. Да как убережешь. Такие бои здесь шли… – Мужчина задумался. Потом добавил: – В Борисоглебске тоже много попалили, когда наступали. Бывал в Бориглебске? – спросил пытливо.
– Бывал, – подтвердил Владимир. Ему начинал нравиться, этот уверенный в себе человек.
– Наверное, не знаешь, что когда каскад Пазских ГЭС строили, так там кабак сделали для норвежцев. Валюта была нужна. Посему и церковь подремонтировали. А вот в Баркино, посмотри, отче, посмотри. Две церкви на ладан дышат. Войну пережили, а сейчас разваливаются. В одной пожарники прижились, другая едва теплится.
Спокойствие, которым веяло от собеседника, странным образом влияло на отца Владимира. Ему хотелось поговорить с этим человеком. В церкви он его не видел. Вроде из неверующих, а церкви жалеет. Чтобы поддержать разговор, священник поинтересовался, как долго живет он в Никеле.
– В Никеле-то? – переспросил мужчина. – Да почитай с 1937 года, как служить призвали в погранвойска. – Я-то самарский, – добавил он.
Потом, помолчав, задумчиво сказал:
– Только было срочную дослужил, ан – финская, а там и Отечественная подоспела.
– И все здесь живете? – спросил отец Владимир.
– Да, – словоохотливо отозвался мужчина. – Всю войну здесь. Сначала на Рыбачьем стояли, потом немца погнали в Норвегию. Металлургов в 1944 году демобилизовали из армии комбинат восстанавливать, а мы дальше пошли. Да вы бы, отец Владимир, пришли к нам на собрание, когда мы, ветераны, собираемся. Мы бы уж вам всю правду-матку в глаза высказали.
– Что у вас наболело? – спросил, внутренне напрягаясь, отец Владимир.
– Что наболело, спрашиваете? Скажу, коли послушаешь. Только я смотрю, вы не больно народ слушаете. Больше по администрациям ходите, – мужчина заметно заволновался, но продолжил: – Вот сейчас принято коммунистов ругать. На всех углах их хают. А вот это кто построил? – мужчина показал рукой на комбинат. – Он в руинах лежал. Я помню 1944 год. Тогда и коммунисты, и беспартийные все в одной цепочке на развалах работали.
– Ты-то молодой, этого не знаешь. Бедно жили, но радостно. Стариков обездоленных не было, детям слезы утирали. А сейчас что? Кто эту мерзость узаконил? – мужчина показал рукой на вывеску: «Администрация Печенгского района».
– Милицией от народа отгородились. В райком можно было в любое время зайти. Эх, да что говорить! Потеряли страну.
– Эти демократы ворвались в страну, как бандиты врываются в дом. А мы оказались плохими хозяевами: стоим и молчим. И сейчас не лучше. Чиновники обнаглели, ворье кругом, а мы послушной толпой в церковь идем, – мужчина остановился и посмотрел на Владимира. – Простите отец Владимир, ежели что не так сказал.
– Ничего, – кивнул головой отец Владимир.
– Это же как нужно потерять веру в себя, чтобы перестать сопротивляться! – продолжал собеседник. – Мы проходим мимо нищих, которые роются в баках, дети бегают беспризорными, – горячился мужчина. – А вы церкви открываете. И где? В магазине! Вы столовую для бедных откройте. Мы в войну, когда в Киркенес вошли, сами голодными оставались, а детишек норвежских кормили. Я после войны в милиции работал, так у нас ни одного беспризорника не было. Кого в семьи забирали. Нет родных – в детдом. Но обездоленных – не было.
Отец Владимир понял, кого напоминал ему этот мужчина: духовника, монастырского старца. Такой же прямой, бескомпромиссный. Только один служил Богу, а другой – народу.
– Ну ладно, заговорил я вас, отец Владимир, – спохватился собеседник. – Извините, если что не так. Наболело, вот и высказался.
– Ничего, все правильно, – неожиданно для себя произнес отец Владимир. И уж совсем неожиданно добавил: – Заходите в храм.
Мужчина остановился, подумал и с раздумьем ответил:
– Нет, не приду. – Потом добавил: – Не готов я, отец Владимир, не готов. Ты уж вон этих обслуживай. Они рвутся свою принадлежность церкви доказать.
В это время из администрации вальяжно вышла чиновничья братия. Мужчина совсем уже по-свойски добавил:
– Ну, прощевай, покуда. А со зданиями в Баркино посмотри. Ведь раскатают военные все по бревнышку.
Отец Владимир долго смотрел ему вслед и с грустью понимал, что этот еще крепкий мужчина не придет в храм. Он ничего не станет просить у Бога. Он все сделает сам.
Мысли роились. Перед ним мелькали лица административных чиновников. Чванливые, самодовольные, «ухватившие бога за бороду». В церковь приходили другие: подавленные, с опущенными плечами, ищущими забвения. Этим было без разницы, где размещены церкви, даже если храм размещен в бывшем вино-водочном магазине. Неумело крестились и шли дальше, кто куда: кто копаться в мусорных баках, кто воровать еще не украденное, чтобы вечером поперхнуться стаканом паленой водки и закусить куском дрянной колбасы.
«Этот не придет, – с необъяснимой тоской думал о своем отец Владимир вечером, когда утих монастырь, ушли дневные хлопоты, и можно было посидеть в своей келье, собраться с мыслями. – Ему не нужна церковь. Такой человек быстрее вспомнит, что булыжник – оружие пролетариата, но не покорится. Не покорится бритоголовым браткам, правящим бал в стране, не покорится паханам, занявшим места в администрациях. Не покорится никому, но, что самое обидное, не пойдет с церковью».
«Каким путем должен сегодня идти человек, каким путем должна сегодня идти Россия? Есть только один путь – путь с Богом. Если мы пойдем по этому пути, то никакие опасности ни в общественной, ни в государственной жизни не поколеблют нашего духа. Никакие скорби не надломят нас и не омрачат нашу жизнь. Потому что с нами Бог. Нет никакой силы, которая могла бы преодолеть силу Божию и которая могла бы разрушить нашу жизнь. Это, может быть, самый важный вывод, который следует сделать из всей истории Церкви, из истории рода человеческого, но, может быть, особенным образом из истории нашего Отечества», – думал настоятель Трифонова Печенгского монастыря. Но какой путь должна выбрать Россия, он не знал. Много, много еще в России таких Александров Семеновичей, которые до сих пор носят партийный билет несуществующей КПСС и упрямо верят, что закончится беспредел, устроенный новоявленными демократами. Но вести этих «старообрядцев» некому. Перевелись на Руси попы Аввакумы.
Отец Владимир сел за стол, обхватил голову. Александр Семенович не выходил из головы. Его потряс этот человек. Вот именно в таких людях нуждается церковь. Тут же иронично усмехнулся, вспомнив, как он ему ответил: «Ты, святой отец, вон, этих окормляй», – показывая на вышедших из администрации чиновников. И, словно в издевку над ними, блеснул купол маленькой церквушки, переделанной из магазина «Культтовары».
– Светские здания занимаем, а свои, исконные, намоленные – бросаем, – вспомнил он просьбу никельчанина позаботиться о брошенных церквях на побережье.
Перед ним, словно в калейдоскопе, возникла череда картин поездки в Норвегию. Он был приглашен местной общиной скольт-саамов, которые упорно называли себя православными. Там он мог поклониться часовне святого Георгия в небольшом городке Нейден. Посетил церковь Бориса и Глеба, что оказалась в анклаве на территории северной соседки.
– Другая вера, а поди ж ты, как норвежцы бережно относятся к историческому наследию, – горько усмехнулся он.
Он вспомнил как на берегу реки Пасвик увидел нечто такое, отчего его сердце захолонуло. Избушка, но не лопарская вежа. На коньке крест, не католический, православный. Видение дрожало в мареве брызг, но было уже ясно, что это часовня. Отец Владимир быстро сбежал с моста и припустил рысцой, не подобающей его чину. Мало этого, он прихватил полу рясы, чтобы не мешала. Слегка запыхавшись, он встал напротив часовенки. Сколько раз представлял ее в своем воображении. Часовня святого Георгия. Подобно русскому богатырю стояла она на форпосте православной веры. Как русский Ванька-встанька подвергалась гонениям, но выстояла. Завтра он будет вести здесь службу. Кто придет? Сколько православных осталось в районе Нейдена? Часовня оказалась отрезанной от основных сил православия. Трифонов Печенгский монастырь в России, церковь Бориса и Глеба хоть и рядом, но отделена границей. Вот и теплится огонек православия в этой часовенке, а мимо несется чужая, непонятная русскому сердцу жизнь.
Утром местный чиновник администрации Финмарка открыл замок, и отец Владимир зашел в часовню. Трудно сказать, построил ли нейденскую часовню сам преподобный Трифон, «лопарский апостол», или кто-то из его сподвижников. Возможно, она была сооружена много позже, а народная молва связала ее появление с окруженной легендами личностью. Но как бы то ни было, часовня, освященная когда-то во имя Георгия-Победоносца, сохранилась. Похожая на сказочную избушку с православным крестом над входом. Часовня, в которую отец Владимир зашел, пригнувшись через низкую дверь, поразила своими маленькими размерами: в ней едва можно было стоять во весь рост. Одна из внутренних стен – алтарная – покрыта грубоватыми и потемневшими от времени росписями. Повсюду по стенам развешаны маленькие иконки. При слабом свете, проникающем через единственное окно, трудно теперь определить, что на них изображено. Когда-то здесь, над многочисленными свечами, стоящими перед алтарем, размахивал кадилом священник, а прихожане опускались на колени на крошечном полу и на траве перед открытой дверью. Часовня, даже если все истории, связанные с ней, всего лишь легенды – памятник уникальный. Это ценят норвежцы, некогда рьяные лютеране, а сегодня, похоже, безразличные к любому Богу.
Отец Владимир стоял на мосту, соединяющем Россию и небольшой ее плацдарм на левом норвежском берегу реки Паз. Территория была совсем невелика – в квадратную версту. Это, собственно, была вся территория России, которая осталась после проведения границы 1826 года. Его взору открылся крутой склон фьорда, где все открыто и видно, как на макете: там из перелеска поднимается маковка церкви, над ней – желто-черное здание норвежской заставы. По другую сторону от храма – чистенький домик, тоже норвежский. Церковь вдвинута наподобие редута в норвежскую территорию. Она стояла здесь, когда граница еще вовсе не была обозначена, но играла именно роль форпоста – зримого знака православного присутствия. По-саамски река называется Бассай, что означает «святой». В Лапландии она стала чем-то вроде Днепра для древних русичей. Именно здесь произошло одновременное крещение лопарей с женами и детьми.
Перед глазами священника мелькали картины прошлого, ушедшего навечно и безвозвратно, как впрочем, и территории Невдемского погоста, оставшегося на территории Норвегии. Он хорошо запомнил описание старой церкви, срубленной еще Преподобным Трифоном в далеком 1565 году, когда он крестил пазрецких лопарей: «В нескольких шагах от новой церкви Бориса и Глеба прячется в зелени новый домик. Это чехол на старинной дорогой вещи; внутри этого домика заключается церковь, построенная преподобным Трифоном, первым просветителем лопарей, пришедшим на Мурман во времена Ивана Грозного. Притвор церкви напоминает избу: по стенам лавки, в окне тусклая слюда, и только ряд икон, висящих над другою, влево от входа, дверью, как будто указывает еще на истинный характер здания… Сама церковь маленькая и узкая. Старинный иконостас, деревянные подсвечники. И висящие (в таком же тесном алтаре) кадило и облачения Трифона представляют дорогую находку для археолога». Так писал в 1880 году коллежский секретарь Д. Островский. Но нет сейчас ни шкатулки, ни ее содержимого: древнего строения церкви Преподобного Трифона. Здание старинной Борисоглебской церкви сгорело в ходе боевых действий в октябре 1944 года, когда дивизия генерала Худалова штурмовала укрепления 20-й лапландской армии вермахта в районе Киркенеса. Война опалила и новую, построенную по инициативе Великого князя Алексея Александровича в 1871 году, но пощадила, оставив обугленный остов. Внешний антураж церкви придали после войны, когда сделали из нее ресторан. Реставрация 1992 года вернула церкви ее первоначальный облик. Намоленность никуда не пропала, она только затаилась в храме, который был превращен в вертеп. Все в прошлом. Теперь этот уникальный памятник старины принадлежит его приходу. Но кто может придти в храм, если чиновники в зеленых фуражках разрешают службу два раза в год? Он оглянулся на российский берег, безлюдный угрюмый. Только огоньки поселка энергетиков Борисоглебска излучали тепло. Он поднялся и заходил по маленькой келье. По стенам металась его огромная тень, а из угла на него с укоризной смотрел изможденный лик Спаса.
Возвращение
Пролетели декабрь и январь с хлопотами в монастырской жизни. Религиозные праздники шли один за другим, и работы хватало. Незаметно пролетели школьные каникулы. Началась третья четверть, самая длинная и тяжелая. В школе постоянно горел свет. В окна через стекло мерцала тусклая, неуходящая с небосклона луна. Робко проявлялся нарождающийся день. Словно нищий у порога он долго топтался, прежде чем зайти. Свет был серым как оберточная бумага.
Зима не торопилась сдавать свои позиции, да и весна была еще слишком слаба, чтобы заявить о себе. Не могла она еще спорить с хозяйкой тундры, которая носилась на своем помеле и давала по ушам каждому зазевавшемуся. Ей вторило небо, затягивалось серой марью, не желая никого видеть. Затем, чисто из вредности, пригорошнями раскидывало жесткую снежную крупу, похожую на горох. А сама полярная вьюга прижималась к окнам морщинистым лицом с крючковатым носом и в бессильной ярости царапала стекла.
В один из таких пасмурных неприглядных дней у монастырских ворот остановился желтый милицейский уазик. Из него резво выкатилась энергичная дама. Она потопталась, словно ожидая кого-то. Этот «Кто-то» был поселковый милиционер. Он спешил, скользя на колдобинах. Они явно договорились о встрече. Увидев стража порядка, дамочка приободрилась. Она вытащила из машины портфельчик и сразу почувствовала себя уютнее. С портфельчиком чиновница была при исполнении. Она в сопровождении стража порядка зашла в церковь и заявила о себе.
– Мне нужен руководитель этого культового учреждения. – Для пущей значимости чиновница сдвинула нарисованные брови.
– Чем могу служить? – раздался спокойный уверенный голос.
Старик-келарь сверху вниз смотрел на приземистую служительницу органов и на не отличавшегося экстерьером милиционера.
– У вас живет подросток Даниил Калашников? – задала вопрос тетя.
– Да, у нас, – спокойно произнес келарь.
– Я из органов опеки и у меня предписание забрать мальчика в детское учреждение, – надувшись, важно произнесла тетка.
– Он живет в монастыре на незаконных основаниях, – подал голос страж порядка.
– Как на незаконных? Настоятель монастыря отец Владимир решил все вопросы с милицией, – отреагировал старец.
– Нет, не решил, – отчеканила чиновница. – Монастырь – не место для ребенка.
– А где же его место? – тихо спросил старец.
– Я обязана препроводить его в детский дом, – заявила тетка. Старец не поверил своим ушам:
– Куда, куда? – почти свистящим шепотом переспросил он.
– В детский дом, батя, в детский дом, – усмехнулся мент.
Последнее, что увидел Данилка из окошка милицейского уазика, это был старик-келарь. Он стоял высокий, сухой, прямой как палка и смотрел на уходящую машину.
В интернате Данилка жить не хотел. Перерос он это инфантильное общество, которое бездумно смотрело телевизор по вечерам и радовалось дешевой жвачке. Он верил отцу Владимиру, Андрею и не допускал мысли, что они его забудут. Они действительно его не забыли, и Данилкина судьба решалась у главы администрации района. Но все было против Данилки. Вердикт опеки был прост: ребенок – сирота и должен до совершеннолетия жить в детском доме. Отец Владимир был в отчаянии. У него было ощущение предательства перед ребенком. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – набатом било у него в голове.
Данилка тем временем решил действовать сам. Ему нужно было убежать в Печенгу, а там… – «Там все образуется», – считал мальчишка. Случай представился. Его в группе мальчишек отправили помочь кочегару котельной. Этого было достаточно, чтобы в корпус он не вернулся. На подворье через бабу Надю он нашел водителя машины, который приезжал в монастырь. Тот понял мальчишку, и они стали думать, как проехать без документов контрольно – пропускной пункт в Печенге. Выручила шоферская солидарность: кто-то из знакомых водителей ехал в Никель с грузом. Ехал через финскую дорогу. Пункт пограничников был полуофициальный, и кроме путевки они ничего не смотрели. Нужно ли говорить, что с утра Данилка сидел в кабине и рассказывал водителю свою судьбу. Тот только мотал головой и материл власть. Перед пунктом Данилка перебрался в фуру. Водитель привычно запломбировал нарушенную пломбу, и вскоре Данилка вновь сидел с водителем и жевал приготовленные бабой Надей бутерброды.
– И что ты собираешься делать, парень? – спросил водитель. – Тебя уже хватились, ищут.
– Не знаю, – честно ответил Данилка, – но в интернат я не вернусь.
Он верил отцу Владимиру и знал, что тот отправки в интернат не допустит. Он был прав. В это время отец Владимир продумывал в администрации сложную схему оставления мальчика в монастыре через опекунство.
– Удачи тебе, дружище, – напутствовал его водитель, высаживая Данилку на обочине в Никеле. – Доберешься?
– Доберусь, дядя, – бодро ответил Данилка.
Первый же армейский УА З подобрал мальчишку. Вот и развилка. Машина повернула на Лиинахамари, а Данилка пошел по хрустящей от легкого мороза дороге к монастырю. Смеркалось. Воздух становился синим, прозрачным. «Синий день», – вспомнил Данилка лопарское название сумерек. Мороз легонько прихватывал уши.
Вдруг раздался удар колокола. Он загудел. Вначале неохотно, словно только что поднял голову с подушки. Затем разохотился и пошел гудеть по настоящему, с удовольствием. Монахи и прихожане собирались на вечерню. Данилка ускорил шаги. Он шел к себе домой.
Печальный итог
Монастырь сгорел. Сгорел через десять лет после очередного возрождения. Хотели отремонтировать, но вместо этого уничтожили.
Пламя поднималось свечой на десятки метров. Монастырь сгорел дотла. Построенный в 1533 году, монастырь являлся оплотом православной веры на крайнем Севере. Не осталось монастырей на ребрах Северовых. У всех неблагополучная судьба. Не могут они утвердиться в Лапландии. Может, еще в силе Колдовское Лукоморье – древняя вотчина князя тьмы? Может, оно никуда не уходило? Ждало, чтобы выплеснуться из-под снегов вековых, льда стылого.
Может, нужно признать, что на духовном уровне Богом было попущено силам тьмы породить нечто разрушительное, питающееся людскими пороками и страстями, своевольными желаниями и гордым самомнением.
Может, развал великой страны спровоцировал порабощение людей именно этим духом, и Господь указывал это как на великую опасность. Нельзя вещать со средств массовой информации о свободе человека, но ввергнуть его в нищету и прозябание. Прозябание не только физическое – духовное.
Князь тьмы кровоточащим сгустком проявил себя в середине XVI века как разрушитель монастырей и жив до сих пор. Обнажается некий тайный механизм противодействия сил «Князя бесовского» монастырской жизни на крайнем севере, когда хозяйственная и политическая жизнь захватывает церковь. Вот тут-то высвободившиеся из уз христианства «духи злобы поднебесной» и творят свое черное дело на ребрах Северовых.
Увлечение церкви связями с властью, которая далека от стремления следовать истинным человеческим ценностям, тоже ее не красит. Да что там ценностям? Власть накормить сирых и убогих не хочет. Хапает последнее, недоприватизированное, а успокоения ищет у церкви. Грех сливаться земной властью церкви, грех.
В 1998 году командование гарнизона поселка Лоустари ломает Трифоновскую церковь, что в Баркино. Причем сломали под самым носом у настоятеля Трифонова Печенгского монастыря. И кем? Военным командованием Печенгского гарнизона. Уверен, что командир части не раз стоял подсвечником в Трифонове Печенгском монастыре, а может даже и рядом с властью светской. Смотрит зияющими окнами на залив древняя церковь, из которой ушло пожарное депо.
Настало время задуматься о глубоких духовных причинах столь сокрушительной катастрофы, постигшей эту богатейшую и обширнейшую обитель на крайнем севере на самом пике ее материального процветания. Причина этой беды та же, из-за чего рухнула в начале прошедшего века Держава Российская – Царство Православное.
Причина известна – мир одолел.
На этой земле находится могила преподобного Трифона Печенгского. Кроме того, там похоронены мученики Иона и Герман, первыми пострадавшие от меча разбойников при разорении монастыря в XVI веке. Весьма символично, что первоначальное уединенное намоленное место оказалось без надобности для количества людей, приходящих в монастырь для спасения души. Истинные ревнители православия скорбели о духовном сиротстве края и молили Господа исполнить предсмертное пророчество Печенгского старца и «не оставить жезла грешных на жребии Своем и таки обновить обитель».
Сгоревший монастырь – это не просто пожар. Это символ несвоевременности возрождения. Не было на это Божьего благоволения. Еще не время. И катастрофа не в сгоревшем здании. Причина этой беды все та же, из-за чего рухнула в начале прошлого века Держава Российская – царство Православное. Причина известная – мир одолел.
Господь отвернулся. Он не может карать. Он может только устать и отвернуться. Он так и сделал со словами: «Будут еще храмы…»






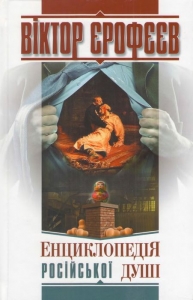
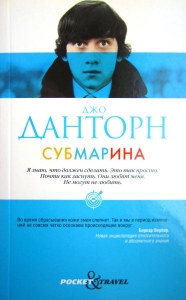


Комментарии к книге «Там, где сходятся меридианы», Виктор Васильевич Гришин
Всего 0 комментариев