Михаил Тарковский ЖИЗНЬ И КНИГА
Как дальше сложилась жизнь людей, о которых писал? Несет ли писатель ответственность за дальнейшую судьбу своих героев? Не оказывает ли «участие» в рассказе влияния на нее? Все эти вопросы задавал я сам себе, проглядывая свежеизданную книгу своей прозы.
В рассказе «Вековечно» два героя — оба охотники, один молодой, другой старый. Граница их охотничьих участков — по реке. Собака молодого вытащила норку из капкана старого, парень хочет отдать добычу, но никак не может встретиться с дедом: тот уходит ранним утром в другой конец участка, и, как выясняется позже, оттуда его забирает вертолет. В деревне деда хватает инфаркт, и он оказывается в районной больнице, но все-таки выкарабкивается и прилетает в поселок, где его и навещает парень, который извелся до полусмерти от мысли, что дед считает его вором. Парень пытается извиниться, что-то лепечет про кобеля, а дед, для которого эта норка — далекий и уже ничего не значащий эпизод, легко отпускает парню грех. Потом дед выздоравливает, привозит из города новую жену — прежняя умерла, пролежав разбитая параличом десять лет. Но вскоре деда бьет второй инфаркт, и, вернувшись из больницы, он собирается уезжать с женой в город, но накануне отъезда умирает.
В этой истории нет ничего придуманного, эпизод с норкой произошел со мной, а парень и дед — мои односельчане и друзья, но если в рассказе их связывает недоразумение на промысле, то в жизни — гораздо большее: это были отец и сын. Дядя Петя и Витя Поповы.
Дядя Петя был живым и деятельным человеком, боровшимся за жизнь до последней минуты, и до последней минуты в бедовой его голове не укладывалось, что придется умирать. И именно из-за необыкновенной бодрости, жизнелюбия так поразила всех нас его смерть. Но настоящей трагедией был уход из жизни Вити, последовавший через три года после смерти отца. Казалось, со смертью родителя беда стала стремительно сужать круги над Виктором, и гибель его была воспринята потрясенными бахтинцами не иначе, как Судьба.
Необыкновенно добрый и живой, Витя Попов был душой нашей охотничьей компании, сложившейся еще в советские промхозные времена. Да и в деревне уважали его все поголовно — за доброжелательность, отзывчивость, ответственность и трудолюбие.
К нему часто заходили за советом, он сидел с папиросой на табурете, подсунув под себя согнутую в колене ногу. Прежде чем закурить, долго и порывисто ерзал на табурете, рукой подтягивал ступню, заводил как можно дальше ногу. По этому поводу его тесть Саша Устинов говорил, подмигивая остальным:
— И че гнездится? Че гнездится?
Вошедший начинал рассказывать про лису, разорившую «вкрах» капканья, а Витя сидел с отсутствующим видом, глядя в угол, дымя папиросой, сидел долго, пока рассказчик не умолкал, а потом неожиданно задавал точнейший вопрос, и сразу становилось ясно, с каким вниманием он слушал.
Была в Вите врожденная вера в человека. Когда я, переехав в Бахту, пошел в охотники, он отнесся ко мне с необыкновенной заочной добротой и доверием, и во многом именно благодаря ему с первых дней пребывания в этой деревне я почувствовал такую поддержку, что дальше лишь стремился к тому, чтобы быть ее достойным.
Гости к Вите приходили все время, особая же соседская дружба связывала его с одним мужичком, Серегой С. Потом, правда, на этого Серегу, которого в деревне не любили («мутный мужичок») пало серьезное подозрение — у Витьки пропал из сарая лодочный мотор. Это из тех случаев, когда всем ясно, кто взял, но прямых улик нет и вор нагло ходит по селу, здороваясь и лыбясь, и, хоть всех это бесит, сделать ничего нельзя. После пропажи мотора Серега попытался завалиться к Вите в гости, но тот его выгнал — и из дому, и из своей жизни. Будучи добрым, даже мягкотелым человеком, Виктор, когда его допекали, умел проявить железную твердость.
Повторяю: Витю отличала исключительная доброта. По сравнению с прочими охотниками он был и не таким прагматичным, и не таким суровым. От него, и от его жизни веяло чем-то теплым, веселым, счастливым. Он не противопоставлял тайгу семье, охотился неподалеку от деревни — все у него было под боком, вообще все было. И жил, где родился, и родители жили рядом, и семья с ним была, и жена любимая. И вдруг все стало рушиться.
Витину мать, тетю Феню, разбил паралич, и она пролежала пластом лет десять, пока наконец не стала потихоньку расхаживаться — помню ее, стоящую с палочкой у забора своего дома, бледную, залежавшуюся и, казалось, всей душой впитывавшую забытый вольный запах. Она умерла, так и не надышавшись. Вскоре умер и отец, дядя Петя. Умер накануне отъезда, и наши бабы говорили: «Феня не пустила». За год Витя похоронил и мать, и отца.
Поздней осенью я забрасывал Витю на охоту. Довез до места, где река замерзла, с разгону залез лодкой на лед, и она стояла косо, задеря нос, корма выдавалась в Бахту, собирая свежий ледок, и в кристальной воде неподвижно синел сапог мотора. Выпивать мы начали еще в пути, а теперь кончали остатки. Бакланили разогретые водкой, дорогой, с нажаренными ледяным ветром рожами, обсуждали что-то текучее, интересное: работу мотора, ледовую обстановку, — и вдруг Витя, помолчав, спросил про моих родных — живы ли? Отвернулся, вытер рукавом глаза. И добавил трезвым и спокойным голосом:
— Ты не смотри на слезы эти — это не водка говорит. Просто тяжело за один год обоих родителей потерять.
Витина жена Татьяна работала учительницей, и было у них трое ребятишек. Таня была симпатичной, норовистой и самоуверенной женщиной, но жили они бурно и дружно, потому что Витя ее по-настоящему любил и семья для него значила все. Охотники даже подсмеивались: мол, не настоящий уже промысловик, все норовит из тайги в деревню удрать. Вернувшись из тайги, сидел, облепленный ребятишками, светясь от счастья. Бывало, ссорились с Татьяной — в основном на почве ее ревности к друзьям-охотникам, но все равно — семья была, и с большой буквы семья.
Когда стала разваливаться система пушного промысла и охотники из зажиточных превратились в полунищих, Татьяна начала пилить Витю, что он мало зарабатывает, и подбивать уехать куда-нибудь поближе к цивилизации: дескать, Бахта — дыра, и детей здесь не выучишь. Витя и слушать не хотел — рыбак и охотник, вне этой жизни он себя не мыслил.
Весной Татьяна поехала в Красноярск на курсы повышения квалификации. Позже выяснилось, что она ехала не квалификацию повышать, а искать новое жилье и работу. Найдя, она сообщила об этом Вите, приехала, забрала детей и попрощалась:
— Адрес знаешь, захочешь — приезжай.
Осенью Витя много пил и по пьянке застудил седалищный нерв — стали болеть ноги. Заехал в тайгу, и там его скрутило так, что он еле дотащился до избушки, где лежал несколько дней, пока его не вывезли на снегоходе два брата-охотника, случайно оказавшиеся рядом, — завозили в соседнюю избушку отца-пенсионера. Ползимы Виктор пролежал в туруханской больнице. Сезон пропал. Летом ездил к Татьяне. Мучился, не знал, как жить. Решил, что будет охотиться в Бахте и ездить к семье за тысячу верст.
Прошлой зимой выбрался под Новый год из тайги. Поехал во вторник, чтобы в четверг на почтовом вертолете лететь — так скучал по семье. Стоял мороз, и мужики по рации уговаривали переждать денек — «оттеплит, потом все вместе и выедем». Но он торопился. Выезжал на «буране» с санями, привязав к ним еще и нарточку. Реку завалило пухляком, да еще вода страшенная под снегом, и пришлось бросить нарточку, потом сани, а потом напротив деревни и «буран» и прийти домой пешком.
В среду у Вити собрались гости, все приличные мужики с женами, разошлись часу во втором, посидели хорошо, особо и не напились, долго прощались, толклись под морозными звездами на крыльце. Настроение испортил пьяный сосед Серега, полез к Вите: «Я к тебе в гости пришел». Витя прогнал его взашей.
В три часа ночи Витин дом горел костром. Хоть и мороз был градусов в сорок пять, жар не подпускал и метров на десять. Когда развалили стены, искали на койке — там было пусто, а потом близкий Витин товарищ, Василий, во время пожара находившийся в состоянии какого-то горестного азарта, нашарил у койки на полу черную груду:
— Одеяло вроде… Кочергой копнул — белое, вата, что ли…
Потом не нашли на месте карабин, потом оказалось, что «мутный» сосед Серега странно себя вел (часа в три постучался к председателю с криком: «Витька горит!»). Пропали еще соболя, лежавшие в мешке в сенях — в сени вломились, когда те еще только занимались пламенем.
После долго обсуждали случившееся, особенно не давала покоя тяжелая Витина дорога и брошенные по очереди нарта, сани и «буран».
— Будто держало его что-то! — с силой сказал Василий. И повторил: — Грю, прям будто что-то держало!
Я частенько вспоминаю эти слова: «будто держало его» — тогда они казались расхожими, а позже думалось: и впрямь не пускала, упругой силой держала Витю за сердце чистая таежная жизнь, а он все не слушал ее, продирался сквозь тугой морозный воздух, бросая по пути лишнее…
Дядя Петя умер перед самым отъездом, его «Феня не пустила». Витя тоже накануне отъезда погиб, и тоже будто не пускало его: то ли тетя Феня, то ли дядя Петя, то ли вся жизнь прежняя. Можно еще долго рассуждать, аллегории подводить… Можно писателя приплести (дескать, перевязал судьбы героев рассказом), придать литературе роль загадочно-важную, влезть со своим рассказишком в провидцы ли, в какие другие задельщики судеб. Все можно. Только перед Витей стыдно и перед жизнью, которая в сто раз изобретательней и горше любой литературы.
Летом пьяный Серега открыл пальбу из Витиного карабина. Три дня его ловили в лесу у деревни, но так и не поймали, потом сдался сам. Расследование долго и вяло вели, присудили небольшой срок условно — за неимением улик, хотя всем было ясно, кто убил и поджег.
Татьяна договорилась со знакомым капитаном баржи, чтоб тот причалил в Бахте, а нас, Витиных друзей, телеграммой попросила загрузить остатки вещей — мотоцикл, моторы, прочее барахло, которого набралось три тракторных тележки.
Когда грузили, матрос поинтересовался:
— Что, уезжает кто?
А Василий ответил просто, с какой-то горькой далью в голосе:
— Уже уехал.
ПАШИН ДОМ
Всю жизнь мучусь: всё мне писательство грешным кажется занятием, бездельем даже. Мужики вон все вокруг делом заняты, кто сено возит, кто на рыбалке сопли морозит, один я по избе в чистой рубахе хожу да всякие истории сочиняю, и все больше за чужой счет. Человек целую жизнь прожил, ты за месяц или за год про него повесть написал, а читатель за час прочитал. Не размен ли?
Взялся я свои рассказы перечитывать и о людях, о каких писал, думать. И думы вышли невеселые по большей части: Петрович, Паша, Дед, Иван Лямич — все умерли уже. Выходит, плохой я писатель, раз о ком ни напишу — то помирает человек. Что ж за глаз такой, рука такая дурная? Такого и подпускать-то к чистой бумаге нельзя.
Долго думал, а потом понял: неправильно я говорю. Просто об этих людях перво-наперво и хотелось писать. Что-то общее, бедовое было в них, пьяницы ли они были горькие или просто бессребреники, но добрые, с открытыми душами люди (не зря их и тянуло друг к другу), и человечина, не работа, в жизни их больше всего интересовала. Никаких у них не было планов на будущее, на хозяйство крепкое, а прожить хотелось — с людьми. И за жизнь свою трястись не умели. А Паша все говорил: «Кому положено сгореть, тот не утонет» и «Напиши, Михайло, что-нибудь про нас».
В рассказе «Петрович» я рассказывал об этом человеке, но позволю себе еще раз повториться. Я тогда только приехал на экспедиционном катере из Верхнеимбатска и сидел на угоре на лавочке. В Бахте, да и вообще на Енисее я никого не знал. Неподалеку молодой мужик громким густым голосом рассказывал двум приятелям о концерте в клубе. Упоминались баян, рубаха с петухами и песня «Усидишь ли дома в восемнадцать лет», вместо которой были спеты куплеты про какого-то деда Трофима. Приятели хохотали. Он закончил рассказ словами: «Вот такая рубрика вышла» и, проходя мимо меня, сказал: «А ты че сидишь? Пойдем с нами обедать». У Павлика были голубые глаза навыкате, темные длинные брови, кольцо волос на затылке. После бани он походил на селезня в весеннем пере. В детстве его ударил конь копытом в лицо и на всю жизнь сплющил нос.
Павлик обладал исключительным даром гостеприимства. Приглашал он к себе так убедительно и так выкатывал глаза, что отказываться не приходилось. «Мужики, пойдем ко мне. Кто? Ирина? О-о-о… Сядь — «неудобно», че попало собират. Старуха у меня золото». Или: «Завтра у Ирины день рожденья. О-о-о, что ты, парень, — настоящие сибирские шаньги. Парень, я крупно обижусь…» Павлик был душой деревни, не любить его было невозможно. Работал он бакенщиком.
Мне надо было уехать. Павлик провожал меня на теплоход, и я хорошо помню последнюю ночь, проведенную с Ириной и Павликом. Дети спали. Маленькая лампочка от батареи «бакен» освещала беленые стены. Павлик с Ириной, тихие, сидели на лавке, на табуретке стояла гармошка.
— Ирина, достань-ка нам что-нибудь.
Ирина достала из буфета бутылку водки, три стопки, слазила за рыбой. Павлик налил, сказал:
— Так-так… Попрешь, значит. Ладно — давай. Чтоб все, как говорится…
Посидели, Павлик взял гармошку, спел «Надену валенки, снежком побелены», еще что-то. Выпили, добавили, потом Павлик подсел ко мне, обнял и сказал:
— Не могу, Михайло, привык я к тебе.
В деревне Пашу любили: за доброту, приветливость, за незлобивость. Еще Паша очень гордился тайгой, Енисеем, даже как бы представлял здешние места перед приезжими. В лето, когда он умер, его сына посадили за драку, через месяц после похорон. Ирина, Пашина жена, едва выдержав двойной удар, осталась без мужиков одна с хозяйством и внуками. Потом сельсовет построил ей новый дом, а старый, где так долго и счастливо жили они с Пашей, так и стоит над Енисеем, постепенно оседая и разваливаясь. Окна заколочены, кто-то доски отодрал — там зияет пустота, сруб оседает — мертвый дом. Должен придти, освободиться Серега и разобрать его, распилить на дрова — что можно, что нельзя, — скинут под угор, весной водой унесет.
Однажды в Красноярске один известный критик случайно привел меня к известному художнику. Художник когда-то был в тех краях, у него оказались три эскиза Бахты — на всех на них был почему-то Пашин дом, еще крепкий, ухоженный. Я выпросил рисунки, привез в Бахту и один из них отдал Ирине. Она долго смотрела на него, удивлялась, мол, ну да, точно он… вот лодка Пашина, вот лавочка, а потом сказала про дом:
— Нынче Серега вернется, разбирать его будем.
И, пристраивая рисунок за стекло серванта, добавила:
— Спасибо. Теперь хоть память останется.
ПЕТРОВИЧ И ДЕД
Мой первый рассказ «Петрович» про мужика, разругавшегося с бабой, все продавшего и уехавшего из Сибири на родину на запад. Потаскавшись по чужой жизни, от которой давно отвык, он вернулся на Север первым же теплоходом.
Перед тем как осесть в Бахте, Петрович работал трактористом по экспедициям. У людей после таких скитаний обостренное чувство мужицкой чести, справедливости, они никогда не пьют на халяву, всегда четкие на отдачу взятого в долг, разбираются в деревенских делах лучше коренных и будто договаривают об этой жизни нечто недоговоренное, что витает в воздухе и что все хотят услышать. То ли они, будучи приезжими, стараются быть еще кореннее, местнее местных, то ли, чувствуя на себе печать своего неисправимого одиночества, бичевства, пытаются выгородиться, оправдаться перед крепкими хозяйственными мужиками. А вообще они пьющие, компанейские и с бабами их жизнь не складывается.
Про Петровича я написал под впечатлением его таинственно-веселой рожи на палубе теплохода, к которому я подъехал на лодке. Радостно было видеть этого вернувшегося человека, гордо было за Север, который так просто не отпускает, и хорошо было потом в деревне слышать решительные слова Петровича про планы стройки нового дома, где он собирался жить один, решив не возвращаться к бабе. Нравилось, что не жалеет он ни о проданном барахле, ни о пропавших северных. Написав, я спросил Петровича, как назвать рассказ, менять ли имя или нет.
Петрович щедро махнул рукой:
— А-а! Оставляй как есть!
Рассказ вышел в «Юности». Я принес его Петровичу и спросил через пару дней:
— Ну че, прочитал?
— Но!
— Ну и как?
— Нормально, — сказал Петрович.
На самом деле, был недоволен, кому-то говорил, что Мишка фигню про него написал. Да и не скажешь иначе, когда про тебя пишут, что ты «все меньше работаешь и все больше пьешь».
Петрович, с которым в рассказе я расстался на оптимистической ноте его возвращения в родной поселок с планами строительства нового дома, действительно заказал лес у трактористов. С деляны ему привезли кропотливо отобранный кедрач. «Петрович строиться собрался», — с уважением говорили в деревне, ходили к нему советоваться в строительных делах — нравились его прямая повадка, рассудительность.
Потом умер Паша, близкий друг Петровича, и Петрович крепко запил. Шло время, стройка не двигалась, лежал лес на площадке. Петрович так и не сумел взяться за дело. Увидел я его после запоя и с трудом узнал — осунувшееся лицо, мелких морщин прибавилось, потухшие глаза и седая щетина, придавшая ему особенно забулдыжный и непривычный вид, потому что брился он раньше аккуратнейшим образом. В конце зимы Петрович запил совсем, одновременно вылез застарелый туберкулез, и пьянка с болезнью сплелись в одну тягучую гибель. Умер он в Бору в больнице.
Был у нас в деревне еще некто Дед. Пожилой мужик, тоже бичеватый, тоже натаскавшийся по экспедициям, тоже одинокий. Отличали его напускная бестолковость, страсть к плетению небылиц и любовь к собиранию всяческого бросового барахла и запчастей, из которых он все время что-то пытался собирать. Дед плел ерунду, смешил окружающих и, чуя эффект, начинал подыгрывать, мюнхаузничать, доводя нас до истерики. При этом, как у всякого настоящего бичугана, были у него своя честь (тоже не пил на халяву), свое понимание жизни, своя правда и своя доброта. Не написать про него нельзя было. Рассказ получился и смешной, и грустный. Было и грустно за Деда, что одинокий он, что живет, как бич, в крошечной хибарке, а с другой стороны — и гордо, потому что живет, как может, ни от кого не зависит да еще и чинит всей деревне телевизоры и «дружбы».
Потом Дед «заболел горлом» и поехал лечиться в Красноярск, а на самом деле еле добрался до Бора, а потом махнул рукой и вернулся в деревню, где вскоре и умер. Перед смертью зашли к нему товарищи проведать.
Он сказал что-то вроде:
— Посидите, ребята, тоскливо че-то.
И ребята почувствовали, что худо дело, потому что никогда Дед не жаловался и не просил ни внимания, ни заботы. Умер он через несколько часов, задохнувшись, — у него была опухоль в горле.
Похожи судьбы и Петровича, и Деда. Тысячи таких на Руси, и сколько не говорят про них «образованные люди», дескать, «нет культуры отношения к своему здоровью», приходит на ум другое: что есть зато в этих людях и смелость жизни, и небоязнь смерти. Неловко, стыдно такому привлекать внимание к своему здоровью, суетиться, паниковать. Можно видеть в этом «темноту», а можно — и высшую гордость, способность принять судьбу, какая она есть. Такие и на войне так же гибли: в огонь лезли, отдавали жизнь за других. И, видно, не судить их надо, а учиться у них главному — умению себя не жалеть.
ОТЦЫ И ДЕТИ
Был у нас в Бахте один крепкий мужик и охотник. Он много повидал на своем веку и много сил отдал, чтобы обосноваться в Бахте. Отстроился, оборудовал охотничий участок, пробил долгосрочную аренду. Много чего сделал, даже в депутатах побывал. Сын его Петька капитальности отцовской не унаследовал, был не то что шалопаем, но более склонным к разовым усилиям, чем к постоянной лямке. С отцом они постоянно конфликтовали. Стареющий отец надеялся, что постепенно груз забот перейдет на плечи сына, а тот оказывался ненадежным и все чаще подумывал свинтить в город к «легкой жизни». Это и было главной болью отца: все, чего он добился, оказывалось ненужным сыну. «Смысл жизни теряется», — с горечью говорил Дмитрич. Подбавляла масла и жена, безумно любящая сына и во всем обвиняющая отца.
Об этом повесть «Стройка бани». Сын в ней осуществляет свою мечту — уезжает в город, а отец умирает от сердечного приступа в свежеотстроенной бане. Показывал написанное обоим — понравилось: «за то, что все из жизни». Потом я уезжал в Москву, и до меня дошло ошеломляющее известие: отец, нарушив все мои литературные замыслы, уехал сдавать пушнину в Красноярск и исчез там, прислав в Бахту письмо, чтобы его не искали.
Он начал новую жизнь в городе, а сын остался в Бахте, остепенился, заматерел и стал как раз таким, каким и мечтал его видеть отец, — хозяином и пахарем. Если бы я прочитал это в книге, то сказал бы, что такого не бывает.
НОВЫЙ ДОМ ТЕТИ ШУРЫ
Тетя Шура Денисенко, урожденная Хохлова. Первый ее муж погиб на войне. Дочка умерла. Деревню Мирное разорили во времена укрупнения: хотели целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился, и все разъехались кто куда. Тетя Шура вопреки всему осталась. Второго мужа на ее глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса. Она еще говорила: «Максим Палыч, давай обождем, вишь, какая туча заходит!» Тот не захотел ждать, норовистый был мужик, хваткий и своенравный. Как сказал — так и будет… Лодка была деревянная, а мотор железный, он-то молнию и «натянул». Максим Палыча убило сразу, а тетю Шуру откачали. По случайности люди рядом оказались.
В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, летом стала приезжать зоологическая экспедиция. Поселился постоянный сотрудник с семьей, тетя Шура уже зимовала не одна.
Все большое и опасное эта маленькая безбровая старушка с птичьим лицом называла «оказией». Плотоматка (буксир с плотом) прошла близко — «самолов» бы не зацепила. «Сто ты, такая оказия!», «Щуки в сеть залезли — такие оказии! А сетка тонкая, как лебезиночка, — всю изнахратили». Рыбачила она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «самолов не ложила», а ставила только сеть под коргой, которую каждое утро проверяла на гребях… Туда пробиралась не спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах. О рыбалке у нее были свои, особые представления. Кто-то спросил ее, как правильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила: «Делай полегче, а потом в веревку песочек набьется — и в аккурат будет». В рыбаках тетя Шура ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Ленька никудысный, не сиверный»).
Зимой тетя Шура настораживала отцовский путик (дорогу с ловушками) и ходила в тайгу с рюкзаком и ружьем проверять капканы, с посохом в руке, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых бродешках, в теплых штанах, фуфайке и огромных рукавицах.
С приезжими у тети Шуры установились свои отношения. Студентки посещали «колоритную» старушку, угощавшую их «вареньями и оладьями», дивились ее жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье в Ялуторовск, а зимой слали посылки и открытки. Тетю Шуру это очень трогало, она отвечала: «Сизу пису одна как палец», — и посылала кедровые орешки в мешочке, копченую стерлядку или баночку варенья. Девушки обращались к ней за советами в щекотливых делах. Тетя Шура учила: «Своим умом зыви. Музык, он — улична собака».
Бодрая и неунывающая, она словно показывала всему белому свету, как можно выстоять. Енисей она чувствовала хребтом. Каждому явлению, времени года, птице, предмету умела она придать смысл, озаряла своим пониманием, любовью. Речь ее была живейшим творчеством, говорила она настолько необычно, что ее цитировали и, конечно, передразнивали многие бахтинские балагуры. Была и по-своему склочная, себя в обиду не давала и, кого не любила, на крик и на «матки» взять могла с пол-оборота.
Поселили в заброшенном поселке егеря Петю — молодого парня, он обжился, привез из Казахстана мать. Жили они у тети Шуры, так уж сложилось, не помню почему. Петя был помешан на рыбалке и охоте. Тетя Шура ему помогала — и советом, и делом. Сложились странные отношения, подробностей не знаю, влюбилась ли бабка, прикипела, но голову совсем потеряла и, когда ухаживал Петя за студенткой-практиканткой, бегала с безумными глазами, следила за ними, костерила разлучницу… Потом Петя уехал в Бахту работать охотником. Когда он там женился, тетя Шура подложила им в дровенник полено с порохом. Взялась Петина жена растоплять печку — печку и разворотило.
У Пети вышла неприятность с напарником: тот обвинял его в краже белок, скорее всего желая выжить с участка. Вскоре Петя развелся с женой и уехал в Тюменскую область, где стал крепко попивать. Спустя годы он приехал повидать тетю Шуру. Я тоже заехал в Мирное. Седой постаревший Петя сидел, поглядывая на початую бутылку.
— Как, Петро, дела?
— Лучше всех. — Петя взялся за стакан. Рука его дрожала, и видно было, что дела никудышные.
В рассказе «Ледоход» главным событием был переезд тети Шуры в новый дом. Старый приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тонущий корабль, и жить в нем становилось опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить новый дом за счет экспедиции, с условием, что он перейдет в собственность станции, а тетя Шура просто будет жить в нем до конца своих дней. Тетя Шура долго думала, решала, сомневалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было некуда. Дом строили на месте старого разобранного.
Тетя Шура заботилась об одном: чтобы все в новом доме было, как в старом. Чтоб перегородка на том же месте и чтоб русская печка такая же. Когда все было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки с листьями: «Гля-ка, как я окошки украсила». Потом она расставила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены все то, что висело на стенах прежнего дома: ковер с оленями, календари, плакаты, фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и, когда я приехал проведать тетю Шуру, было полное ощущение, что это ее старый дом, — так сумела она перенести сюда прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Максим Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же свисал с полки кошачий хвост.
Стройка нового дома и переезд в него были важным этапом ее жизни, вернее, той ее части, которой мы стали свидетели. Больше всего бабке хотелось спокойно дожить, и новый дом был для нее и опорой, и радостью, и продолжением старого, построенного еще отцом. Дом олицетворял ее мужество, ее выбор остаться в родной деревне невзирая ни на что. «Я здесь родилась, я здесь и лежать буду». Возрожденный, ее дом стоял как живой памятник ее несгибаемого характера.
Но, как ни приятно было закончить рассказ на прочной ноте и оставить счастливую тетю Шуру в ее новом старом жилище, жизнь неслась и ломила свою линию, плюя на все законы литературы. Как-то летом ребята с обстановочного катера (катер, занимающийся судовой обстановкой — бакенами и створами) попросились помыться в тети Шуриной бане, стоявшей под одной крышей с избой. В четыре утра егерь Володя, ночевавший в соседнем доме, вышел на улицу. Ночь была белая, солнце светило вовсю, и вовсю пылала тети Шурина баня. Дом тоже горел, хотя к нему еще можно было подойти. Володя затарабанил в дверь, в окно, тетя Шура долго просыпалась, не могла понять, чего от нее хотят, не верила, что горит. («Удди, парень, че попало собирашь!»). Потом выскочила с чемоданом, куда еле успела покидать самое необходимое. Дом сгорел дотла, сгорели кошки, петух… С тетей Шурой случился гипертонический криз, ее увезли санзаданьем в Бор, где она месяц пролежала в больнице. Вернулась домой странная, «с головой не то у нее», — все говорили. Жила в том самом домишке, где ночевал егерь Вовка.
Когда я зашел к ней, она с ходу закричала что-то вроде:
— Разорили!
Была она похудевшая, осунувшаяся, с лихорадочно горящими глазами. Показала, что привезла с собой из Бора, — чайник, ведро, посуду, одежду, все то, что собрали ей всей больницей. Из Бахты тоже привозили — кто что может. Она причитала: «Добрые люди не дадут пропасть!» Требовала, чтоб катерские ответили за пожар, купили лес, стройматериал. Те во главе с капитаном отстранялись:
— Ничего не знаем, ни при чем мы.
Так и жила бабка в чужой старой избенке, вела вязкие переговоры с районным начальством о строительстве. Болела давлением все сильней и сильней, потом добавился рак — лежала в районе, откуда ее как безнадежную сбагрили домой, где она вскоре умерла.
СЕРАЯ ЮБКА
1
Читая старые книги, наталкиваешься на горькое сожаление писателей по уходящему времени, уходящей России, уходящим старинным и прекрасным людям, носителям некоей тайны, по которой мы и сами с детства тоскуем и пытаемся передать эту тоску по Родине детям. И теперь, когда в очередной раз уходят целые поколения и от боли за будущее опускаются руки, снова и снова говорю себе: ничего, образуется все, если столько раз уходила Россия и до сих пор не ушла — значит, и в этот раз не уйдет совсем и прорастет, проклюнется свежими побегами на закате нашей жизни.
В детстве странные отношения были у меня со взрослыми. Когда приходили в дом интересные люди, все хотелось побыть с ними, прикоснуться к их одежде, послушать их разговоры. При этом сам я и стеснялся, и боялся быть навязчивым и страшно хотел внимания, и, чувствуя, что и нескладен, и глуп, ничего не мог с собой поделать. Жили мы вдвоем с бабушкой, и, когда к ней кто-то приходил, я выползал, улыбаясь, из своей комнаты, говорил глупости, а взрослый улыбался снисходительно и частенько меня разочаровывал какой-нибудь банальностью или мелкой воспитательной уловкой. Помню, кто-то однажды сказал мне что-то вроде: «У тебя, Миша, сейчас самое счастливое время». А я подумал: что же здесь счастливого? Я еще маленький, не могу кататься на большом велосипеде, и все у меня не получается, и остается только с завистью глядеть на старших парней, которые носятся на мотоциклах (расстегнутая рубаха, раздутая за спиной парусом) и курят папиросы, а я все не могу поймать рыбину и по-настоящему страдаю от этой детской физической неготовости к интереснейшим взрослым занятиям. До сих пор помню это ощущение неуправляемости, когда я делаю шаг, а нога моя вдруг помимо моей воли совершает произвольное издевательское движение в сторону и по весь сандалий впарывается в зеленую коровью плюху с желтой дождевой жижицей в середке. А навстречу идет кто-то взрослый, все видит, я это чувствую, и рожа моя почему-то разъезжается в дурацкую улыбку. На дворе только что прошел дождь, и запах развороченной коровьей плюхи невообразимо острый, и все зеленое, мокрое, и на голых икрах тоже следы этой зелени.
Спросил я как-то одного взрослого, почему сосед Сашка похож на отца — такой же толстый, — и взослый сказал, что, мол, действительно так в жизни бывает: когда люди долго живут вместе, то и становятся похожими друг на друга, вот смотри, и мать у них тоже толстая, и собака тоже, и чуть ли не кошка… А я слушал его, скучнел от стыда и разочарования и чувствовал, что меня глупо и коварно водят за нос.
Только бабушка никогда не вела со мной лицемерных разговоров, как «с ребенком», лишь с некоторой заминкой, будто собравшись с силами, отвечала прямо на вопрос, как рождаются дети или еще что-нибудь подобное. Однажды я долго повторял про себя новое, свежеузнанное ругательство, подозревая о его значении, но не имея полной уверенности, и потом, не выдержав, спросил у бабушки, что оно значит. Она перевела мне его с какой-то убийственной простотой и больше не добавила ни слова, и это было хуже, чем любой воспитательный нудеж.
Однажды она рассказала, как на рынке предупредила женщину о том, что вор лезет к ней в сумочку, и тот, надвинув кепку на глаза, долго ходил за бабушкой по рынку вдоль крашеных дощатых рядов, цедя сквозь зубы: «Женщина в синей шапке сказала, что я лезу. Женщина в синей шапке сказала, что я лезу». А бабушке жутковато было от такого преследования, и об этом страхе она не постеснялась мне рассказать.
В какие бы истории я не попадал, она так оборачивала дело, что из всего этого запоминал я на всю жизнь не ее укоряющие слова, а собственный жгучий стыд. Каждую неделю в деревню приезжала керосинная машина и все шли к ней с бидонами. Машина (это был ГАЗ-51 с бочкой) очень мне нравилась своими патрубками, шлангом, запахом керосина, ее приезд был праздником, которого я начинал ждать за несколько дней. Вот стоим мы с бидоном среди толпы, и вдруг меня хватает шофер и, посадив куда-то в поднебесье на бочку, дает в руки пистолет, велит держать в бочке, а сам заскакивает в кабину и запускает двигатель. Сильнее всего на меня подействовало это захлопывание дверцы, такое дорожное, отрезающее меня от водителя, меня четырехлетнего, беспомощного, сидящего на верхотуре с этим непонятным пистолетом, на глазах толпы, которая продолжала стоять молча, а значит, была заодно с водителем… Я представил, как помчит меня эта рокочущая машина, эта бочка, на которой я еле сижу, помчит вдаль от бабушки над полями, над лесами, и я заорал. Водитель выскочил, смеясь, снял меня, и тут же понял я, что никуда он ехать не собирался, а только включил насос, и стало стыдно за свой испуг и за эту навсегда потерянную возможность участвовать в засасывании керосина, так стыдно, что запомнил я на всю жизнь и эту машину, и бабушкино молчание, и ее сухую руку на плече.
В Москве с дворником дядей Васей у меня была старая вражда. Как-то раз я настроил из снега гаражей, а он их, убирая снег, разорил. Злился я страшно, бегал, кричал: «Васька! Гад!» А однажды подарили мне ботинки на рифленой подошве. И вот весна, воскресенье, надеваю я эти черные блестящие ботинки и выхожу на двор ждать бабушку, куда-то мы должны идти. Этим же утром дядя Вася забрал цементом большой кусок разбитого асфальта у двери, я немедленно исследил его своими великолепными подошвами и, поняв, что натворил, отбежал подальше и там прогуливался с фальшиво-независимым видом. Вскоре вышла бабушка и сказала, кажется, что-то очень короткое, вроде: «Что уши-то прижал?» А сама еле скрывала в глазах огонек ребячьей солидарности со мной.
Еще бабушка рассказывала про одного поэта, который все как-то ходил-бродил, мечтал о кораблях, морях-океанах и дальних странах, а потом его взяли да и расстреляли. И прочитала начало стихотворения Гумилева «Капитаны». Еще восхищал ее лермонтовский «Воздушный корабль». Причем помню, что привлекало ее даже не содержание, а вся эта сильная и таинственная морская обстановка, не зря обожала она всякие географические карты, все покупала их мне, даже принесла однажды атлас флагов, и только потом, когда она умерла, понял я, какое значение книжный мир кораблей и дальних странствий имел для романтической души этой чудной и одинокой женщины, ни разу в жизни не видевшей моря.
Бабушка всю жизнь прожила одна, после развода с дедом так и не выйдя замуж. Однажды я спросил у нее, почему они развелись с дедушкой. Она сказала что-то вроде, что любил он ее сначала, а потом перестал, полюбил другую женщину.
Однажды весной мы были с бабушкой в Ново-Иерусалиме. Не забуду того утра, синей дали, солнца, талого снега со следами полозьев, и запаха конского навоза, и того, как воробьи клевали навоз, и как было радостно за этот навоз, что ничего не пропадает, что он такой чистый, вкусный и что светится в нем золотистый овес. Не забуду этого синего воздуха, этого чувства дали жизни, этого полного надежды утра, когда казалось, что утро то — только узкая щелка в мощно и прекрасно открывающейся двери, что дальше все только и будет плыть в синем воздухе, под чириканье воробьев, под блеск луж, под песню жаворонка в небе… Как, куда все ушло, растряслось, растерялось? И почему только в конце жизни выясняется, что если что и осталось главного в тебе — это забытая ширь детства, это весеннее утро с бабушкой в маленьком русском городе?
2
Часто вспоминаю ушедшего уже человека, почти мне родственника, отца моего друга и напарника Анатолия — Юрия Александровича Блюме.
Ах, Москва, Москва, Москва, Москва, Много ты нам горя принесла! На пеньки нас становили, раздевали и лупили, Ах, зачем нас мама родила? Семь километров Секир-Гора, Многих там зарытые тела. Буйный ветер там гуляет, мама родная не знает, Где сынок, зарытый навсегда!На мотив «Гоп со смыком» пел, подвыпив, Юрий Александрович… Пел слабым, но выразительным голосом, старомодно, с неким беспомощным надрывом, перевывом, время от времени переходя на речитатив. Родом он был из-под Рязани, и весь его образ уходит куда-то в историю, к его предкам голландского происхождения — железнодорожным и лесным инженерам — светлая голова вынесла их из самых глубин русской жизни, и будто из этих глубин глядят они на нас с желтых фотографий: один к одному крупные, с огромными бородами, с выражением небывалого и сдержанного достоинства на красивых и открытых лицах.
Всю взрослую жизнь провел Юрий Александрович на Таймыре, куда попал незадолго до войны и не по своей воле. Был в свое время план снабжения строящегося Норильска не по железной дороге от Дудинки, а через море по реке Пясине, так вот Юрий Александрович руководил экспедицией, разрабатывавшей фарватер этого водного пути. Стал он начальником не сразу, была в нем крепкая флотская жилка, не зря поступал в мореходное училище и после написал учебник по судовождению и навигации — сшитый из многих тетрадок, исписанный карандашом и изобилующий ссылками и комментариями.
На истертой обложке было написано: «Навигация или кораблеплаванье паласское и меркатерское со многих русских книг». Составил моторист-штурман Юрий Александрович Блюме, который был послан в 1937 г. в «ученье», и помогала ему в этой работе Валерия Сергеевна Щербакова. Заглавие заимствовано из рукописи по навигации, составленной в 1721 году штурманом Зиминым И.Д. и помогавшим ему купеческим приказчиком Шамординым И.И. Переделано мною применительно к себе». Первую страницу предварял листок, на нем было написано:
8 апреля 1918
Я видал бирюзовую гладь Дарданелл И сапфирные волны в пассатах. Я видал, как кровавым рубином горел Океан при полярных закатах. Я видал изумрудный Калькутский лиман, И агат черной бездны у Горна, И опаловый полупрозрачный туман Над лиловым заливом Ливорно. Я видал океан, истомленный жарой, Весь охваченный сонною негой, И видал его хмурым пустынной порой, Засыпаемый хлопьями снега. Я видал его в страшные бури и штиль, Днем и ночью, зимою и летом, Нас связали с ним сказки исплавленных миль, Океан меня сделал поэтом. И покуда живу, и покуда дышу, Океанский простор не забуду. Его шум, его запах я в сердце ношу, Он со мною везде и повсюду.Говорил Юрий Александрович настоящим русским языком, был несмотря на возраст сухим, очень аккуратным, подтянутым, так я себе представлял старых капитанов — седые, коротко подстриженные волосы, угольно черные брови и синие глаза. Эта флотская жилка сохранилась в нем на всю жизнь, до последних лет, когда жил он уже в средней полосе: лодка у него всегда была выкрашена, вымыта, внутри царил идеальный порядок, не то что у нас на Енисее, где в лодках постоянная рабочая грязь, песок, обязательно какой-нибудь ельчик присох и бензином воняет.
Подвыпив, Юрий Александрович запевал какие-то несусветные морские песни, в которых обязательно фигурировали капитаны, штурманы и девушки из портовых кабаков с английскими именами. Была песня про серую юбку, точнее, про капитана, его черную трубку и женщину в серой юбке, кончавшаяся тем, что в капитанской каюте все лежит на стуле капитанская черная трубка и в предутреннем свете дрожит чуть помятая серая юбка. Когда Анатолий был маленький, Юрий Александрович целомудренно обрывал песню перед этим местом. Помню отдельные строки этих песен: «Аргентинская ночь хороша, Аргентинские девы так юны», или «Любовался красавицей Кло штурман Пегги с фрегат «Аргентина», или «Штурман Пегги суров как всегда и любовь отдает только морю». Когда, по его мнению, он уже достаточно занимал времени у присутствующих, он допевал последний куплет и говорил твердое и громкое: «Всё!»
О тюрьме, о том, как он после нее попал на Таймыр, Юрий Александрович почти не рассказывал, зато рассказывал уже про сам Таймыр, про работу и природу. Про разномастный лагерный народ, про то, у кого он чему научился, в частности, лесному делу, и о том, что две самые распространенные национальные фамилии в той части Таймыра были Лаптуков и Ямкин, и что в пургу «в иголочное ушко» за ночь может надуть полный балок снега. Не любил выступлений по радио людей сидевших и никогда ни о чем не жалел. Здоровье у него было крепкое, благодаря этому он, видать, и выжил, только не осталось зубов и спина отваливалась и еще ни к черту не годились нервы. Ходил он, чуть наклонившись, заложив согнутую руку за пояс, будто подправляя поясницу.
Несмотря на совершенно разные судьбы, что-то неуловимо роднит и бабушку, и Юрия Александровича. Никогда они не жаловались на свою жизнь, относились к своей доле, как к единственному и неповторимому достоянию и не опускались до разговоров, что было бы, если бы в какой-то момент жизни всё сложилось бы по-другому.
…Все говорят, что надо нам в чем-то каяться, оправдываться, и никому не приходит в голову другое: а кто-нибудь хоть раз сказал русскому человеку: «Самый добрый ты, самый терпеливый и совестливый, трудолюбивый и жалостливый, самый лучший на свете»?.. Хотя это, пожалуй, нам, живым да нынешним, нужно, а те, прежние, это и так знали.
БАПТИСТ
Вернувшийся из районной больницы сосед рассказал много интересного. Например, что в район прилетели не то шведы, не то еще какие-то северные иностранцы («хрен их разберет») и стали «блатовать в баптизм или во чё там еще» — тоже «хрен их разберет». Сосед закурил. Говорил он в своей манере, путано, и все словечками. Главное, что я понял про «шведов», что они денежные («денег море») и что полем своей деятельности избрали больницу. Тактика следующая: сначала охмуряют наиболее подверженного всяким влияниям, какую-нибудь больную, потерянную женщину, а потом она уже сама действует, создает некое общество единомышленников, религиозную ячейку. Логика тоже простейшая: пошел к нам, молился с нами — вот и выздоровел, поправился. Поскольку в больнице чаще поправляются, то успех обеспечен самой жизнью.
Соседа тоже пытались приобщить, Библию дарили, звали на собрания, но он сторонился. Потом в столовой фотографировались общиной, звали остальных, соседа. Понятно, что фотография для отчета, а других звали для массовости, чтобы показать работу, а то денег не дадут. «Как глупо все это, как примитивно, — думалось, — и как действует на наших чудаков, которые всегда найдутся, и какое слабое имеет отношение к Богу!»
Неделю спустя ко мне зашел тоже прилетевший из больницы наш деревенский парень, Гена. Здоровый, рослый, крепкий, он все же лежал в больнице, болел «головой». В поселке про него говорили: «Пил бы больше — вообще бы голова отвалилась». Ко мне Гена заходил редко, обычно просить на опохмелку.
По стуку в дверь я знаю, кто идет. Стучали не так, как стучат мои друзья, и я заранее недоумевал: кого еще несет? Вошел Генка. Сейчас спросит: «Нет ли чего? Башка трещи». Или попросит: «полтинник заимообразно — на той неделе верну». Ясно, что не вернет, и придется либо дать, либо что-нибудь придумать, чтобы отказать, что довольно противно.
— Здорово, — сказал Генка, сняв шапку, и без проволочек продолжил: — Минька, помнишь, у тебя год назад порох, дробь и сапоги пропали? Это я украл. Ты извини меня.
И рассказал, как в больнице ему помогла новая вера выздороветь: «Помирал натурально, а тут как чудом выздоровел — и поверил». Братья по вере сказали, что делать дальше, что надо обойти всех, кого когда-то обидел, повиниться.
— Вот обежал уже полдеревни, список у меня, ты последний остался, — облегченно улыбался Генка. — Ладно, пошел я. Давай.
Дверь захлопнулась. Я ошарашено сидел, переваривая произошедшее. Вспоминал свое первое облегчение, что Генка пришел не на водку клянчить; свое удивление, свою даже радость за чужое раскаяние, ведь хорошо, когда человек так придет и честно покается. Хотя осадок нелепости все же был. Потом зашел к соседу.
— У тебя Генка был?
— Был. А у тебя?
— И у меня был. Дробь, порох, сапоги…
— Понял. А у меня двадцатка бензина. Из лодки слили прошлой осенью. Ты че сказал-то ему?
— Да ничего не сказал, простил.
— А я сказал: бензин вернешь — прощу.
Посидели, покачали головами.
Генка действительно тогда обошел со своим списком полдеревни, а вечером его облаял мой кобель, и соседи доложили, что он погрозился пристрелить его. Что еще? Пить он вроде не пьет, голова у него не болит, бензин соседу не вернул. И еще кличка у него новая в деревне: «Баптист».
СЕВЕР
Катю я не видел уже лет пять, а в позапрошлом году забирал девятилетнего Гришу на пол-лета к себе. В Красноярске его передали мне Катины знакомые. Из Черемшанки летели на обшарпанном АН-24 «Абакан — Хатанга» с замызганными чехлами кресел. Был сверлящий рев двигателей, и дрожь салона, по которому пассажиры, давно знающие друг друга, вольно, как по автобусу, ходили от кресла к креслу. Вскоре после взлета справа по борту в дымчато-синем тумане забрезжило матовым металлом неподвижное тело Енисея. Небольшая коренастая женщина, диспетчер отдела перевозок, по нашему разговору с Гришей догадавшись, что у нас в обрез денег, и было выписав квитанцию для камеры хранения, всплеснув руками, почти крикнула: «Ой! У вас денег нет? Да что же это я делаю?! Ложите так». — И порвала квитанцию.
Через несколько часов полетели дальше, и снова замаячило справа полотно Енисея, но вскоре его закрыли плотные перистые облака. Когда снижались, они стремительно неслись мимо и их твердые клочья свирепо били по вздрагивающим, покрытым испариной, крыльям. Потом в просвете белых туч неожиданно близко показался черный кедрач хребта, отчетливо просматривавшийся до каждого дерева из-за того, что везде плотно лежал снег. Потом открылась и круто оборвалась волнистая таежная даль и понесся стальной Енисей с игрушечной рябью и редкими ярко-белыми льдинами, а когда сели на полосу, все стало сразу плоским и привычным и только необычайно резкими казались студеный воздух и полная тишина вокруг.
На берегу лежал лед, а вода подходила под самые избы. На второй день я увез под угор лодку, мотор, и мы с Гришей поехали по черемшу. Долго неслись вдоль берега, отгороженного от воды высоким пластом грязного льда, вдоль чахлого, навсегда перекошенного ветрами ельника, со стволами, до желтого мяса избитыми льдом, пока не пристали у крутого берега. Здесь на еловом бугре тянула свои стрелки нежная свеже-зеленая черемша, и сюда мы ездили с Катей за черемшей каждую весну.
Серое небо, убогая и прекрасная красота весенней тайги, продрогший Гриша, до беспомощности ошалевший от дороги и непривычной безлюдности, и этот бугор с неподвижными стрелками черемши, совершенно не изменившийся с тех пор, как мы с Катей бродили здесь столько лет назад, все это застало врасплох.
Я вспомнил Катю, какая она оказалась легкая, удобная, когда однажды белой июльской ночью снял ее с носа лодки и унес на песчаный берег. Никого не было вокруг на десятки верст, и неожиданно маленькой, беспомощной казалась ее стройная обнаженная фигура рядом с огромной рекой и небом. И все отвлекала, тянула на себя эта даль — длинное перистое облако, бесконечный волнистый хребет с неряшливым лиственничником, а я целовал ее мокрое, стянутое мурашками тело, и над нами дышала на сотни голосов даль — то плеском воды, то резко-скрипучим криком крачек, у которых где-то рядом было гнездо и которые все пикировали на нас, даже когда мы неподвижно лежали на песке, а на той стороне из Черемшаной речки выползала меловая лента тумана.
«Вот ведь как бывает. Казалось, отошло, отболело — и вдруг эта черемша, и промерзший Гриша у костерка, и снова так наваливается пережитое, что никакого сладу с ним нет», — думал я, снова сидя в лодке и глядя на белеющий впереди огромный, слитый с небом плес, в котором зубчато плавились искаженные расстоянием мысы. И как с новой силой завораживает и приковывает эта даль, и вот уже наполняет тебя, как реку, по края, и бьет льдом, сдирая с прошлого мертвую шкуру, и мчит, срезая повороты, унося из сердца хлам, а потом еще долго падает и падает светлеющей водой, пока однажды студеным утром не войдет усталая память в берега и не выбросит промытая душа новые нежно-зеленые стрелки…
Через три дня мы поехали в тайгу на мой охотничий участок, и было студеное дыхание льда по берегам Кяхты, сумасшедшее течение, напряженное колыхание затопленных кустов и кислый запах бензина, пропитавший лодку. Чем дальше отъезжали от Енисея, тем выше и круче становились берега, и завитая в водовороты вода на широченной серебряной реке казалась выпуклой и подступала к самой тайге. Как хотелось, чтобы Гриша захлебнулся от восторга, крикнул: «Папа! Не могу — здорово!». Но Гриша только молчал, а часов через восемь начал спрашивать, скоро ли избушка. И вспоминался Серегин сын Степка, с которым я все хотел сдружить Гришу. Крепкий, багровый от загара, с белыми выгоревшими бровями, Степка вставал в семь часов, таскал за отцом канистры, без конца проверял закидушки и был спокоен и по-взрослому уверен в каждом своем движении. Бледный, худой Гриша продирал глаза к одиннадцати и долго приходил в чувство, уставившись в телевизор и скандаля по пустякам, а к вечеру дурацки возбуждался, болтал, бегал и, ложась в кровать, долго не мог уснуть. Я сделал Грише закидушку, и Степка показательно зашвырнул ее в Енисей на всю длину, не забыв поспорить с ковырявшим мотор мужиком: «Налим ерша любит, тот ему морду колет, а он злится!» На Гришин вопрос, что это там возле берега бурлит, он небрежно бросил: «А-а, булыган мырит».
Мы поставили сети, а в курьях под крутыми кирпично-красными осыпями, от которых и вода казалась малиново-красной, кидали спиннинги, и Гриша в промежутках между распутыванием «бород» вытащил около десятка крупных щучар, я несколько щук и небольшого тайменя. В одном месте было особенно много пены, и в ней, выставив дымчатые спины с плавниками, стояли огромные сиги и с каким-то почти комическим азартом кидались на блесну. На следующий день мы снова рыбачили, а ночью Гриша лег спать и затосковал. Стояла белая ночь, неподвижный голубой свет падал в избушку через квадратное, затянутое полиэтиленом окно. Гриша ворочался, кряхтел и никак не мог заснуть. Я посоветовал ему представить реку, как «тянешь рыбину, потом другую, потом третью…», а Гриша вдруг с каким-то жалким раздражением выпалил, что никак не может этого представить, потому что представляет дачу, своих друзей, бабушку и вдруг завыл в голос, что хочет обратно, в город, а потом вдруг спросил: «Папа, а когда я вернусь, клубника еще будет на даче?» Я сказал, что да, конечно, будет, и Гриша успокоенно заснул, а утром снова таскал щук и стрелял по банкам из тозовки.
В поселке нас ждала телеграмма. Катя просила привезти Гришу к такому-то числу в Шушенское, там намечалось какое-то совещание.
Теплоход, на который мы сели, все шел и шел вверх, Енисей становился уже, все больше было поселков по берегам, и все менее дикими становились берега и все темнее ночи, и я будто задыхался от этой темноты — так давила она после бессонного северного простора. Подошли к Казачинским порогам, где неделю назад трехпалубный «Матросов» погнул винты. В самом верху слева маячила, спускаясь на тросу, громада туера. Вскоре туер был внизу, теплоход подработал к нему вплотную, и с квадратной кормы подали толстенный, в руку, трос с петлей на конце, которую зацепили за гак теплохода. Тогда мощно заработали двигатели на туере, выбросив черную сгоревшую солярку, натянулся трос, и с дрожью повело теплоход, потянуло послушно, как лодку, сначала чуть вбок, а потом прямо. Вокруг кипела вода, пенилась, валя через камни, и все шел впереди туер, работая всеми четырьмя винтами и подтягивая лебедкой трос, уходивший с его носа в Енисей и заделанный выше порога за мертвяк. На носу теплохода тесной толпой стояли пассажиры, глядя на трос и на белесую бурлящую воду, прижималась к плечу маленькая эвенкийка, и мы все ползли вверх, а рядом белая вода с грохотом обтекала невидимый камень, и Гриша сказал: «Булыган мырит!» А я ничего не ответил, только пережил некое острое и молниеносное ощущение — сродни тому, что испытываешь при властном рывке лески после череды долгих и напрасных забросов. Выше верхнего слива туер сбавил ход, голос капитана сочно резанул над ухом: «Отдать буксир»! Матрос торопливо расшплинтовал гак, и огромная стальная петля, соскользнув с бака, упала в воду. На туере заработала лебедка. Обходя туер, теплоход отрывисто гуднул, с туера будто эхом, только на другой ноте так же отрывисто ответили, и мимо проплыла ослепительная и почти сказочная фигура капитана-наставника Казачинского порога — седой, как лунь, с белоснежной бородой, в белом кителе и фуражке, он неподвижно стоял на мостике с выражением какого-то векового покоя на крупном лице.
Из Красноярска мы ехали через Дивногорск по горной дороге, автобус медленно поворачивал по петле серпантина мимо длинного аварийного съезда, забитого в конце старыми покрышками, а когда переезжали сжатый хребтами Енисей у плотины, нашла туча и еле угадывались в белесом дождевом мраке силуэты гор. Потом неслись по сопкам, и обступала нас богатейшая южная тайга с травой и дудкой в рост человека и огромными, будто по отвесу выставленными и стройными, как свечи, пихтами. А потом спустились в котловину, и пошли хакасские степи, и проносились покосившиеся могильники, пологая сопка, косо опоясанная розоватой жилой, набранной из бесчисленных кирпичиков, отара и силуэт пастуха на коне. Под вечер были Абакан, Минусинск и наконец Шушенск и за ним мощные, еле видные силуэты Саян на горизонте.
Мы ждали Катю в гостинице, а она все не ехала, и никто ничего не знал ни про нее, ни про совещание, и стояла невыносимая жара, и было обидно за Гришу, который проделал такой путь и так ждал этого дня. По аккуратному Шушенску бродили в шортах покрытые оливковым загаром люди, покупали пиво в ларьках, прятались от солнца под тополями и акациями. Мы купались в карьере, и время тянулось медленно и туго, и Гриша вел себя молодцом, и на третий день я как обычно купил себе пива, а Грише воду, и мы рассеянно шли по асфальтированной дорожке под акациями, а навстречу бежала и плакала толстая женщина, бежала, растопырив руки, к Грише, который, не успев крикнуть: «Мама», уже целовал ее искаженное радостью лицо. В тот же вечер Катя с Гришей уехали в аэропорт. Перед этим были какие-то люди, беготня и валяние в номере на диване, когда Гриша, привалившись ко мне, вдруг замер и неожиданно захлюпал носом. И чернела кромешная южная ночь, простроченная трелями сверчков, и я стоял возле блестящего черного автомобиля, куда в красном отсвете габаритных огней торопливо грузилась до неузнаваемости чужая Катя и где отрешенно сидел Гриша в обнимку со своим рюкзачком.
ОТЕЦ СТЕФАНИЙ
Глашка — невзрачная, худая девица, которую никто особо и не видел в деревне, потому что она почти не вылезала из дому. Внезапно Глашка сорвалась в город, долго не появлялась, а приехав, вела себя так, будто была по меньшей мере генеральным директором модельного агентства. Сменившая всё, вплоть до имени — звали ее теперь Кристиной, — она пробиралась по раскисшему поселку, по-птичьи прыгая по разбитой тракторами осенней дороге, — в черной шляпе с большими полями, в каких-то черно-тюлевых юбках и кительке, в туфлях на каблуках, тощая, с закрашенным, как известкой, лицом, с выпукло лежащей на губах помадой и тушью, лежащей на ресницах крупной крошкой.
Частенько вслед за ней прыгал еще один гость поселка — отец Стефаний, католический священник, приехавший откуда-то с Запада, чуть ли не из Польши, и все собиравшийся построить в Бахте католический храм. Благообразный, с белой квадратной бородкой и сумкой через плечо, с обезьяньей ловкостью преодолевал он серию луж и, подбираясь к последней, самой большой и непреодолимой, вопрошал с сильным акцентом: «Где перейти это болето?» И бежал в клуб на проповедь, созывая ребятишек: «Будем играть валибол, ляпта». Он все собирался строить церковь, но никто из нормальных людей, кроме самых отборных бухарей, готовых на любые работы ради выпивки, не отзывался на его призыв, и даже местные литовцы скептически относились к идее разводить здесь католицизм. В результате водился он с самыми бичами и опойками, и главная дружба завязалась у него с некими Вежливыми, семейной парой, прозванной так за привычку несусветно ругаться. Дошло до того, что Вежливые решили под его руководством венчаться. Храм строить не получалось, старичок под часовню нашел какую-то халупу и раз ночью провалился рядом с ней в старый погреб, откуда его вытащил возвращавшийся с гулянки сосед.
В городе я разговорился в газете, где печатались отрывки из мой прозы. Рассказал об идиотской ситуации, когда в деревне нет ни храма, ни священника, а приезжает и занимается миссионерской деятельностью совершенно посторонний человек — будто у нас своей церкви нету («нашел тоже Африку»). В газете откликнулись, сказали:
— Вот и разберитесь, проведите для нас журналистское расследование.
Приехал, хотел по горячим следам написать, но все загородили хозяйственные дела. А потом и пыл прошел.
Вскоре отца Стефания зверски убили недалеко от Ярцева в какой-то избушке. Убил то ли бич, то ли бывший зэк, которого тот опекал (у Стефания была миссия работать с заключенными). Подопечный долго пытал отца Стефания, думая найти много денег.
«Вот тебе и журналистское расследование», — сказал, качая головой, Толя, мой давний напарник по охоте.
ТУРИСТЫ
1
В каюте, кроме меня, ехали норильчане-отпускники, пара лет пятидесяти и странная пожилая женщина, обликом не то травница, не то богомолка. Загорелая, худенькая, похожая на девочку, с тонкими косичками, с какими-то тряпичными в них ленточками и большими серыми глазами. На фоне загара особенно выделялись седина, глаза, выцветшая одежда. У нее были черные матерчатые перчатки, такие же штаны, поверх них простецкое платье, на голове чепчик, вроде платочка, завязанного по углам. На коленях она держала маленькую некрасивую собачку.
Норильчане всю дорогу ссорились. Жена демонстративно не разговаривала с мужем, а он уходил в машину, «мазду-фамилию», стоящую на верхней палубе, и пил там в одиночестве. Возвращался раздраженный, багровый, с седыми лохмами над ушами, и всякий раз на него визгливо взлаивала собачка, которую еще долго пыталась утихомирить хозяйка. Было жарко.
В Лесосибирске все трое высадились, но едва я с облегчением растянулся на диване, в дверь постучали и проводница привела нового пассажира. Вошел коренастый малый лет сорока.
— Да лежи! — с каким-то естественным и беззлобным раздражением сказал он, ставя портфель и скидывая рюкзачок.
Лицо круглое, лоб в складках, складка на переносице, нависающий темно-русый с проседью ежик, глаза карие, живые, требовательные.
На его диване валялся мой пакет, я предупредительно потянулся к нему, он бросил: «Да ладно!» И мне стало вдруг необыкновенно легко с ним.
Я истомился по пиву, неуместному в катавасии с норильчанами и собачкой, и принес из буфета пару бутылок. За открывалкой надо было лезть в рундук, вставать не хотелось, вдобавок не хотелось выглядеть перед новым попутчиком безруким, и я приложился было открыть одну бутылку о другую.
— Обожди, открывашка же есть. — Мой сосед полез в портфель, перетянутый ремешком. И снова усталая и раздраженная интонация — казалось, его постоянно заставляют срезать какие-то лишние углы. Развязывал цепко и умело сильными, чуть подрагивающими пальцами. Ногти короткие и широкие почти до уродства. На левой руке между большим и указательным пальцами по всей кисти белый выпуклый шрам, рука будто проварена сваркой.
Звали его Сергеем. От пива он отказался отрывисто и не допуская препираний, что не помешало нам разговориться, напротив, ему, казалось, это давало особую и дорого стоющую свободу. Обычно после нескольких фраз ясно, кто перед тобой: рыбак, тракторист, охотник или просто кормилец в семье, работающий в кочегарке. С ним оказалось сложнее, все он знал, все было ему родным и само собой разумеющимся, но понятия: «работа, природа, женщина, семья» — сами по себе для него ничего не значили, значило умение сплавить их так, чтобы все засияло. При этом был у него широкий охват, он вольно обращался с профессиями, городами, и шло это от какой-то врожденной и самостоятельной силы, а не от личного опыта и не от книг, которые он читал и о которых судил, как о чем-то подсобном, кстати, хоть и резко, но почти всегда справедливо. И он совсем не походил на тех полуобразованных, что, хватанув вершков, потеряли почву и сидят всем чужие — режут по дереву или занимаются фотографией. Нет. У Сереги было и достоинство человека, осознающего свое место в жизни, и какой-то резкий, до дна проламывающий взгляд.
Он открыл вторую бутылку и снова отказался:
— Я-то в сухом доке. А до этого-то крепко закладывал, был дело.
— Понятно. И как бросил?
Сергей улегся на верхней полке, повозился сильным телом, примяв, облежав матрас. На реке раздался гудок, Серега глянул в окно:
— Танкер «Ленанефть», две тыщи полста пятая. У меня на ней третий штурман кент.
За окном плыл берег с избенкой на краю ельника, на реке рядом с бакеном висела на самолове казанка, мужик, свесившись, перебирался по хребтине, женщина в платке упиралась веслом.
— Вишь как: и бабу на рыбалку таскает… — Сергей еще повозился на своем матрасе. — А ты из Бахты, значит? — Спросил меня: мол, а не такой-то будешь?
— Он самый и есть.
— Я-ясно, — протянул он, потягиваясь и удовлетворенно улыбаясь. — Ну вот, слушай — история тебе для рассказа.
2
— Я сам ачинский, — начал Сергей. — Мать с отцом — крестьяне. Учился в Новобирске на инженера-транспортника, распределили в Красноярский край, в туруханскую экспедицию, трактора, вездеходы, машины — вся эта беда, что по профилям лазит… Да только, сам знаешь, одно дело — лекции, другое — Туруханск. Подбаза еще у нас была на Дьявольской по Сухой Тунгуске. У нас там механика вездеходом задавило… Лет восемь я там отработал, потом экспедицию закрыли, охотился, Хагды-Хихо, гора Летний Камень, знаешь, наверно. Женился, потом развелся. Потом плоты гонял. Деньги были у меня, я не то что их любил — точнее сказать: не считать любил. Потом все мне надоело, захотелось дело какое-то завернуть интересное, в вершине Курейки озеро одно взял как в аренду, решил рыбачить там, договорился с заводом одним в Новосибирске рыбу им поставлять, хотел все по-человечески: я рыбачу — они платят, прилетают — денег море у них, а они то не летят, то не платят, в общем, как-то все не по-моему выходило. И, в общем, кризис у меня в жизни настал. Ушла яркость восприятия красоты, что ли, молодая. А тут я в Питере был, там у меня однокашник, туристов предложил привезти на Енисей. Немцев. Деньги неплохие. Я готовиться заранее начал, лодкой-деревяшкой занимался, палаткой, печку варить пришлось. Маршрут продумывал. А у них цель: смотреть дикую природу и фотографировать сибирских птиц, они большие любители этого дела.
Как увидел я их на пароходе, так и обомлел. Стоит Володька на палубе, а рядом… Можешь представить себе две двухсотлитровые бочки с бензином? Вот это они. Два толстых, пожилых немца. Хорст и Гисперт. Хорст — директор университета и богач, а Гисперт — попроще, из мелкого бизнеса, доделывает и перепродает какие-то болгарские матрешки, и любитель синиц, разводит их в неволе, причем один только вид там какой-то. Хорст — брюнет, невозмутимый, как булыган. Гисперт — увалень, выпивает пива бог весть сколько, каждый день, очень удивился, когда узнал, что пиво — только на теплоходе.
Сначала мы на Енисее побыли несколько дней, они там сибирского дрозда гнезда искали и фотографировали. Палатки-скрадки специальные, техники немерено (в основном, правда у Хорста), телеобъектив навороченный, у него вообще все лучше и дороже было, чем у Гисперта. И он этого Гисперта — так, терпел, он для него как бич был, сам-то он — ого-го, директор университета и вообще белая кость, а тот — лавочник. Я все просил Володю какую-нибудь частушку ихнюю узнать и перевести. Гисперт спел что-то, Володя заржал.
— Совсем неприличная, про фрау Марту, что-то вроде: «У фрау Марты красные трусы».
Тут Хорст тащится с фотоаппаратами. Я бормочу: «Фрау Марта, фрау Марта!» — а Володя на меня шипит: ты что, при нем нельзя такое!
В июне у нас, сам знаешь как, то снежок пробросит, то выяснит с севером и стоит с неделю, то дождь. Комар только к июлю вылезет. А тут небывалая жара стоит, как комар повылез, а они в этой пойме — тоска. Мазей почти не взяли, Вовка этот им твердил еще из Питера: берите мазь, берите мазь, а они смеялись, мол, хватит нам надоедать со своими комарами. С москитусами.
И тут-то их москитус и подскутал. Ну мы на Енисее закончили и поехали по речке на озеро — на каменном берегу и похолодней, и посуше, и ветерок берет. Я так и думал, сейчас они попривыкнут в пойме-то, а на речке полегче будет, да еще жара все равно кончится, так что хорошо все будет. Едем день, ночуем. У Хорста полог — человек на десять, прямоугольный, отличный, с запасом, крепкий, из дели мельчайшей — мокрец не пролезет. А у Гисперта — какая-то фата от невесты, ей-Богу. Абажур какой-то. Знаешь, как кулек — конусом, за тонкий конец подвешивается. Обруч в нем какой-то, как у вентеря. А главное, дель крупнющая и до того хлипкая, что чуть зацепил — дырка. В общем, он, бедолага, в него залезет, намотает его на себя, ворочается, а он же толстенный, неуклюжий, с одного бока порвет, с другого — все открыто. Э-т-то — ка-ра-ул. Мы там угорали с Володей. При этом Хорст храпит в три дырки. А мы подтыкаем этого Хорста, дырки зашиваем, от смеха воем. Вовка с ним переговаривается и мне переводит, мол, тот вспоминает свою Матильду, мы — лежим, и смех и грех.
Вроде заснули все. Утром просыпаются. Хорст в порядке. Гисперт измятый, видно, все равно не спал, но бодрится, правда. Завтракаем, едем. А река с каждым поворотом только краше, скалы, камни, вода — кристальнейшая, че я тебе объясняю! Едем, обдувает нас, хорошо. Привожу их в отличное место, две пары щек, а в середине скальное озеро, и плитняк на берегу ровнейший. Становимся, я вытаскиваю на спиннинг таймешонка, нахожу гнездо куличка одного, тут еще сапсан летает, скалы в помете, точно, значит, и сапсанье гнездо есть. В общем, настроение отличное, и главное, погода устанавливается, северок задул, небо ясное. Фотографируемся, жарим таймешонка, выпиваем — красота. Ходят, правда, оба в накомарниках. Гисперт тоже довольный — беды своей не чует. А тем временем ночь наступает. Ложимся спать. Небо чистое — палатку даже не ставим. Снова вчерашний расклад: Хорст в своем пологе храпака дает, а Гисперт стонет, ворочается и Матильду вспоминает. Мы опять всех комаров у него в пологе ликвидировали, дырки зашиваем новые, полог подтыкаем под него. А он дергается, катается — беда. Затих вроде часам к двум. Мы тоже — спать.
Утром просыпаюсь от какого-то гвалта подозрительного. Хорст храпит, а Гисперт что-то такое лопочет Володе, да так напористо, даже странно. Короче, — выразительно сказал Сергей, — выясняется, что экспедиция прекращается.
Гисперт кричит:
— Из-за москитусов я не могу ни отдыхать, ни наблюдать птиц, ни пить, ни есть, ни все остальное. Если вы не хотите меня втроем грузить ногами вперед на теплоход, то возвращаемся!
Мы к Хорсту, он пожимает плечами. Мы:
— Пусти его в свой полог, там на взвод места.
А тот — ни в какую, мол, это мое «индивидуальное пространство» — не пущу, лучше обратно поедем, раз так. И всё! Прокатились до Большого порога и уехали назад. Шивера там одна поганая есть — я их там заставлял пешком обходить, не дай Бог фотоаппараты утопят, у них два чемодана техники было. А там метров триста идти, каменюги, и по ним шкандыбать им со своими кофрами. Выгружаю их, слышу — Володька хохочет. Что такое? Оказывается, Гисперт ворчать вздумал.
Володя говорит:
— Гисперт, не ворчи, а то Серега нас в пороге утопит.
А тот отвечает:
— Хорошо бы, но только ведь, пока тонуть будем, они еще успеют попить нашей крови!
А тут самая погода установилась, комара того гляди придавит, обидно до соплей. И места самые начались, и птицы. Деньги, правда, заплатили за столько дней, сколько были. Потом они по Енисею на теплоходе поехали — отпуск-то пропадает. Напились перед этим с ними до изумления. Тут как раз двадцать второе июня, мужики наши с ними пришли разбираться. Спирту принесли, рыбы. Спрашивали, что они про войну думают. Володька сначала испугался, а потом понял, что нечего бояться. А по телевизору реклама шла: какая-то невеста в фате, а фата точь-в-точь, как Гиспертов полог, он в него пальцем тычет, хохочет. Что мне понравилось? с чувством юмора у них все в порядке. Так ничего и не вышло у меня из этой затеи. Ладно, надо пожевать чо-то. — Сергей полез в рюкзак, достал рыбину, хлеб, заварку.
Поели. Помолчали.
— Индивидуальное пространство… — пробормотал, укладываясь, Серега. — Ты можешь представить, мы с тобой где-нибудь… не знаю… в Амазонии, едем по речке, ты писатель, я работяга. И вот, что ни поворот — все места интересней, а у меня вдруг полог… не знаю… сгорел, порвался — ты что меня к себе под полог не пустишь?
За окном синий хребет сходил точеным мысом к серебряной воде. Белела огромная река, втекая у горизонта в бездонное северное небо. Серега кивнул на фарватер: «Вот это я понимаю — пространство!» И еще что-то хотел сказать, но вдруг замер и засопел — легко и ровно.
ЖАРКОЕ СИБИРСКОЕ ЛЕТО
Что ни говори — коротко северное лето. Весь июнь ходишь в шапке, июль пронесется — и снова холод, ветер, волна на реке и та же шапка на голове. В июне еще весна, еще падает вода, обнажая кусты, слоисто-полосатые от того, что каждый ее уровень оставляет свою полоску ила. Еще вчера всю ночь дул северный ветер, грохотал шершавой волной трехкилометровый Енисей и горело кристальной рыжиной прозрачное северное небо, а сегодня сменился ветер и зажарило нестерпимо солнце, задрожал воздух над раскаленными камнями и настало — вдруг — лето. На следующий день уже под сорок жары. Что поделаешь, климат континентальный, не знает погода меры — холод так холод, жара так жара. Загудели, заныли комары, за один день вылетели и не дают жизни ни людям, ни собакам, ни скотине. В поселке еще хорошо, сдувает их ветерком, а в тайге никуда не денешься, только и спасаешься дымокуром и марлевым пологом, без которого не заснешь в это время. Натянул полог, залез в него на спальник, а вокруг вой, видно, как облепили комары ткань, как суют между ниток свои хоботки и как покачиваются вокруг призрачные очертания тайги. Комар жары не любит: ночью ему холодновато, днем жарко, и свирепствует он дважды в сутки — утром и вечером. Приезжему человеку с непривычки тяжело, сидит он, бедный, хлопает себя по шее, мажется без конца комариной мазью и переживает, а местный спокоен, знает, что ничего в этом страшного нет, и комар будто чует это и не особо трогает его. Хотя бывало так: навалится где-нибудь на заливном лугу, на покосе, что и местный достанет из кармана пузырек с мазью и намажет не спеша руки, шею, лицо. Раньше никакой химии не было, единственное средство от комаров — деготь с рыбьим жиром. Однажды, разбирая старый дом, я нашел в земле ржавое ружье, чудом уцелевшую деревянную ложку и толстый, зеленого стекла пузырек с дегтем. Кто его готовил, почему так и не использовал? Разве теперь узнаешь?
Намаешься на покосе, сто потов с тебя сойдет, смешавшись с комариной мазью, с копотью от дымокура, но зато какое наслаждение выйти к Енисею, скинув одежду на песчаный берег, зайти в воду, чувствуя, как схватывает лодыжки ледяными кольцами, броситься в нее, наплаваться, потом одеться, отмахиваясь от комаров, и, отпихнув лодку, завести мотор и понестись по Енисею, подставляя нажаренное за день лицо ветру.
Приедешь в деревню — все вокруг горячее: горячие камни, жидкий гудрон на днище перевернутой деревянной лодки, горячие доски крыльца, горячие бочки с бензином, горячая канистра, которую приходится открывать осторожно, иначе брызнет в лицо распертый жарой бензин. Бочку откроешь — парит, испаряется бензин из горловины, дрожит в нем далекий берег, будто плавится. На коньке дома сидит, тяжко дыша, сорока с открытым клювом. Зайдешь в избу — прохлада, в подполье холодное молоко в банке, брусничный морс — что еще надо?
Летом жизнь перемещается в ночь, благо ночи на севере белые. Днем спишь, ночью по холодку работаешь. Одежду носишь легкую, плотную, манжеты на рукавах и ворот должны плотно облегать тело, чтобы не пролезли кровососы, которых, чем дальше лето, тем больше. Пауты или слепни, мухи-златоглазки, мокрец, мошка, комары — все это вместе называется «гнус». Самая неприятная его составляющая — мошка, она пролезает под одежду, даже под часы и выгрызает куски кожи, тело зудит и чешется, некоторые люди распухают. Особенно любит гнус вылезти после дождичка, когда ни ветерка и висит везде влажный, теплый туман. Бывает такая погода: натянет южным ветром хмарь, солнце шпарит сквозь облака, и под ними, как в парнике, такая духота и тяжесть стоит, что никакое купание не помогает.
В тайге тяжело, но жизнь так устроена, что в это время там и особо делать нечего, в это время местным жителям, а это в основном рыбаки-охотники, в деревне дел хватает. Хотя бывало ездили мы с напарником к себе на охотничий участок и летом. Пилили дрова и рыбачили. Тоже жарко было, тоже больше ночью работали, а днем спали. Проснешься ближе к вечеру, все еще жарит солнце, запалишь костерок и еще долго не можешь придти в себя после тяжкого дневного сна, все пьешь чай с малосольным ленком и глядишь на пламя костра, почти не видное в ярких лучах солнца. На обратном пути сплавлялись, рыбачили на спиннинг, купались, ныряя с лодки. Помню грохот порогов, голубую прозрачнейшую воду, каменистое дно, каменную плиту с трещинами на дне и ярким обломком березы и тайменей, которые в это время года стоят под холодными ручьями и ключами — в холодной воде больше кислорода. Увидел ручей, подъехал, кинул спиннинг — кто-нибудь обязательно возьмет. Странно думать, что через три-четыре месяца здесь будет сверкать зимнее солнце на стекле торосов, клубиться пар над черной полыньей и на прибитом у избушки термометре столбик красной жидкости подползет к сорока градусам. Поднимешься в тайгу на берег, по склону распадка растут огромные розоватые цветы — пеоны (или Марьин корень), рядом с ними мохнатые колокольчики сон-травы и рыжий с темным крапом цветок даурской лилии. А на стволе кедра затеска, это путик — дорога с капканами и кулемками, — пройдет совсем немного времени и будешь проходить этот занесенный снегом распадок на камусных лыжах, поскрипывая сыромятными креплениями-юксами, косясь на серебряное зимнее солнце и вспоминая пеоны и сон-траву. И будет казаться, что все это было давным-давно и вовсе не здесь, а в какой-то далекой и южной стране.
Стоит жара неделю, стоит две, уже невозможно от хмари и духоты, ходят кругами тучки, вечерами вдали грохочет, зарницы полыхают, а все нет и нет дождя, охают бабки, поливают свои огороды и все кряхтят: " От бы дожжа». А «дожжа» все нет и нет, но в один прекрасный день после обеда натянет с юго-запада мрачной сини, налетит вдруг шквал, взбив почерневшую воду, вырастут неизвестно откуда высокие и тонкие, как лезвия, волны, завернутся трубочками, и глядишь, летит по Енисею лодка с рыбаками, а за ней в полуверсте несется молочно-белая стена дождя, вот она ближе и ближе, вот хлопнула от ветра дверь, и вот уже все бело вокруг, и грохочет дождь по крыше, и мокро блестит пустая лавочка, и соседка ставит бельевой бак под осиновый желоб, и старый серый кобель, раздувая ноздри, внюхивается в свежий влажный воздух — дождались.
Эти летние грозы — главная причина лесных пожаров. Бывает, на твоих глазах ударит молния в тайгу, и вот вдруг закурился, поднялся белый язычок дыма, а под ним засветился рыжий глазок пламени. Если не потушить вовремя очаг пожара — разрастется он на многие километры, пойдет пластать пламя по кедрачам и ельникам, по старым гарям и склонам хребтов, где, бывает, даже возникает что-то вроде тяги, когда пламя с гулом проносится снизу вверх по сухим еловым ветками, и деревья напоминают огромные факелы. Иной раз горит где-то далеко за сотни верст, а ветер оттуда, и вот уже затянуло все сизым маревом, пахнет гарью и еле проглядывает сквозь серую пелену красный ободок солнца. Стояла у нас рыбная снасть, и из-за дыма не было видно мет, по которым ее искать посреди реки, и пришлось поставить специальный буек из пенопласта и от него бороздить реку кошкой. А сети надо летом проверять часто, потому что вода теплая и рыба быстро портится. А хранят ее в ледниках — глубоких погребах, куда еще весной набивают лед.
Хорошо после трудовой покосной недели попариться в бане. Мой друг и товарищ Геннадий, лучший охотник района, всё, за что ни берется, делает прекрасно, будь то стройка, охота, рыбалка. Но печку в бане он перекладывает чуть ли не каждый год, добиваясь качества пара, который его никогда не устраивает.
Гена стоит у печки. У него белое-белое тело, но кисти рук и лицо бронзовые, это называется — северный загар. Натянешь на уши старую фетровую шляпу и залезешь на полок. На руке рукавица-верхонка, чтобы не сжечь руку о горячий воздух, когда будешь хлестаться. Гена берет в ковшик горячей воды и со словами «Ну, держись!» открывает дверцу каменки да поддает на раскаленные камни. Плещет раз, два, три, пока не говоришь: «Хорош!» Щиплет уши, и сразу начинаешь хрипло говорить. Хлещешься заранее распаренным в тазу березовым веником, гонишь кровь по телу, пока хватает сил держать жар, а потом вылетаешь на улицу, окатываешься водой из бочки и сидишь на крыльце, поглядывая на свои плечи в красных рубцах, на коленку с березовым листком, и стучит кровь в висках, и зудит тело, и чувствуешь, что выходит с потом вся дрянь — и из души, и из тела. Еще хорошо париться весной, когда вода подступает чуть ли не к самой бане, и можно, напарившись, окунуться прямо в студеный Енисей и потом, сидя на крылечке, чувствовать, как горят пятки от ледяной воды и расползается по телу ощущение долгожданной расслабляющей свободы. После бани наутро странно возвращаться к обычным делам, браться за копченый мотор, заправлять бензин.
Но время не ждет, у Гены полно забот, многое надо успеть за короткое лето — ведь зима длинная, снег лежит с октября по конец мая, надо наловить лесу и напилить дров, чтоб просохли к зиме, поставить сено для коров, чтоб молоко, масло, сметана и домашний сыр были, наловить рыбы, перекрыть двор, срубить новую стайку, отремонтировать снегоход — и еще целый список неотложных дел, так что вся эта жара никого особо не радует и воспринимается как помеха в работе.
Но вот постояла она две недели, полили дожди и уже август начался, а значит, почти что осень. А ждешь ее давно, еще в июле, когда светло-лиловой ночью несешься в лодке по зеркальному Енисею и вдруг, устав от грохота и заглушив мотор, слушаешь тихие голоса лета: плеск воды о борт, шум далекого ручья, крик чайки, — глядишь на длинный волнистый берег, сходящий на север тонким мысом в розоватое небо. Идет время, громоздятся друг на друга дела, все собой заслоняя, а потом в один прекрасный вечер, возвращаясь с рыбалки, встретишь самоходочку с ярко-белым огнем на фоне пылающего неба, и сразу потемнеет высокий яр, замигает оживший бакен и потянет вдруг осенью. С каждым днем темнее ночи, ярче и неповторимей закаты, непостижимей небо, выложенное розовыми, как лососевая мякоть, облаками, а потом наступит ночь, через далекое отверстие в туче светит невидимая луна, и на Енисее под этим местом в версте от берега лежит огромный мерцающий круг. С утра еле различаются лодки на берегу, но вскоре туман рассеивается и открывается даль, по-осеннему отчетливая и тихая, словно за ночь растворилась перепонка между небом и землей и пролились вниз с неба покой и тишина. Тихо на свете. Шурша галькой, осторожно спихивает лодку сосед, дядя Гриша, неподвижно стоит на угоре старуха с биноклем, и протяжно кричит из поднебесья отставшая ржанка — северный кулик.
СТОЯЧИЙ ВАЛ
Весной на берегу реки сидел я, глядя на выгибающуюся мощными валами воду под порогом. По камням бегал щенок и все пытался лаять на воду, носился по берегу, высоко и по-козлиному подпрыгивая. Глядя на него, я вспоминал своих прежних щенков и узнавал их в этом новом, отмечая что-то до смешного общее — в движениях, ухватках, в том, как, завидя какую-нибудь букашку, смешно поворачивают голову набок, как хитрят или как бегут бочком, чтобы передние и задние лапы не тыкались друг в друга, а вставали вразбежку.
И точно так же и дети… И женщины — тоже так одинаково привязываются и слова одинаковые говорят… Да что далеко ходить — и мы, мужики, такие же одинаковые, и в чем-то тоже до смеха. Да и всё на Земле живущее не по одному ли подобию сделано?
Я слушал громовой гул порога и глядел на упругий стоячий вал, по которому неслись палки, куски коры, бесчисленные частички воды и пены. «Эта река, эта весна, — думал я, — как это каждый год будоражит! Все такое же, как и двадцать, и тридцать, и тысячу лет назад, и так же хочется во всем участвовать, не отставать, а ведь глазом не успеешь моргнуть, как и жизнь кончится. Остепенись, взгляни со стороны, впору ли с нашим человечьим веком тягаться с этой вечной мощью! Еще десятка два таких весен, и будешь слезящимися глазами глядеть и на эту воду, и на молодых, опьяненных ею мужиков, и говорить словами моей старухи-соседки: «Здоровье кончатся, старость подстигат»».
Потом вспоминал себя маленького. Как бывало в детстве в пылу, в игре, затаившись где-нибудь за снежной крепостью, с потной, жаркой головой и горящим лицом, и вдруг замираешь, отрешившись от всего и спрашивая в неистовой тишине: где я, кто я, почему я — это я? Почему родился на этой планете, на этом материке, в России, в этом городе, деревне, на этой улице? И что там, вдали? За той луной, за теми звездами? Еще звезды? А за ними что?
Потом, у взрослого, совсем другие заботы пошли: оброс, как корой, опытом, мужской жизнью. Живем, считаем себя сильными, умелыми, в тысячи подробностей вникаем, думаем, что глубь жизни постигаем, а все те же вопросы живы. Душа под коркой, а ее сердцевина, ядрышко прозрачное — живо и так же бьется, только слышим мы его редковато. А хочется крикнуть самому себе: «Как же так? Ты человек. Живое существо, да еще с сознанием. Сидишь по горло в жизни, забыв свой первый вопрос: кто ты? Где ты? Почему ты — это ты? Что за звездами? И как погрязшему в жизни стряхнуть с себя ее наваждение, как проснуться? Или только умереть-проснуться можно, а если так — вдруг проснусь и не почувствую на себе твоего, милая, взгляда… И живу себе дальше, и собираюсь написать повесть про пьянство и женщину, а почему я — я и что за звездами, так и не знаю.
И все думалось: зачем жить, за что держаться?.. Писать? А если не пишется? Это только кажется, что ты сам что-то изобретаешь, придумываешь. Ведь что такое — вдохновение? Это когда тебя небо настраивает под себя, играет на тебе, а потом бросает и к другому идет, если ты лучше не стал, не оправдал доверия жизнью, поступками. А ты остаешься один со своими мертвыми знаниями об анатомии произведения и ничего не можешь без этого ветра, без ощущения, что ты никто — труба, в которой гудит небо.
А зато как удивительно было находить в книгах-воспоминаниях описания твоих собственных детских ощущений! И сначала было досадно, мол, считал чем-то сокровенно своим, думал: я первый, а потом, наоборот, хорошо, тепло, щедро стало — от того, что не один я такой.
Почему только тогда себя по-настоящему, на месте чувствуешь, когда в деле твоем что-то общее, вечное брезжит, когда есть ощущение протянутых из прошлого в будущее рук — сам ли этими руками что-то делаешь, над неразрешимым вопросом ли бьешься или слова любви говоришь?..
А порог шумел, и думалось: вот столько воды проносится, а изгиб вала стоит в веках, прекрасный и упругий, и, подрагивая, держит форму — не так ли и мы живем ради поддержания завещанного нам? И представлялось, как давным-давно сидел здесь кто-то, любуясь порогом и размышляя о краткости существования, и грохотал перед ним во всю мощь стоячий вал жизни.
МОЛИТВА ПАНТЕЛЕЙМОНА
Для человека, всю жизнь жившего так, будто впереди лет сто бодрого и деятельного существования, длительная болезнь — всегда испытание и наука. Случилось мне вдруг заболеть, да так, что порой казалось — жизнь на волоске, а происходило это все в тайге, в начале охотничьего сезона, осенью.
Я лежал на нарах с горящей грудью, щупая пульс и глядя в стену. На желтом протесанном бревне темнела со времен стройки елочка сапожного следа. С тоской я вспоминал свой тогдашний рабочий запой: как валял лес, таскал бревна, который раз дивясь своей силе и выносливости и даже с каким-то наслаждением слушая, как похрустывает под здоровенным кедровым баланом косточка на плече. Да и на охоте, особенно осенью, как любил я выламываться до последней степени усталости и, засыпая в тепле избушки под журчание приемника, знать, что именно такие отчаянные деньки и запоминаются на всю жизнь.
От подобных мыслей еще сильнее давило в груди, что-то там колотилось обезумевшим поршнем, стоял туман в глазах, и снова давила неизвестность — что же со мной происходит, временное ли это или нет, и что же делать? Я лежал в ожидании нового приступа и в потоке несущихся воспоминаний искал что-то ясное и прочное, за что можно уцепиться.
Я вспомнил Николаича, мужика, у которого стоял искусственный клапан на сердце. Раз тот поехал по сено, но ударил мороз, и он не смог завести свой тоже еле живой «буран» и пришел пешком, а потом мы с ним ездили за «бураном». Был мороз, и тянул хиус, и на покосе стоял заиндевелый старенький красный «буран», и следы на истоптанном снегу, и круглый отпечаток паяльной лампы, и копоть, и сгоревшая спичка были особенно неподвижны и покрыты мельчайшей голубой пылью. Я раскочегарил паялку до реактивного рева, до прозрачной газовой сини из побелевшего сопла и долго грел черную от копоти ребристую рубашку цилиндра, стараясь не жечь и без того оплавленные провода. Помнил я медленные движения Николаича, как тот тяжело дышал, время от времени морщился и потирал левую половину груди; синяки под его усталыми, глазами и красные веки, и спокойную и твердую руку с выпуклыми жилами и татуировкой «Саша», не спеша прилаживающуюся к пластиковому огрызку стартерной ручки. Потом затарахтел «буран», сначала на одном цилиндре, потом на обоих, и клубилось вязкое белое облако выхлопа, и часть его гнутыми волокнами утекала под капот в вентилятор, и я заткнул вентилятор тряпкой, чтоб сорокаградусный воздух не охлаждал и без того холодные цилиндры. Потом мы накидали сено на сани, и, когда увязывали воз, я, не рассчитав силы, слишком сильно потянул веревку и сломал промерзший, нетолстый, с экономией сил сделанный Николаичем бастрик, и измученный напряжением вечного нездоровья, тот вспылил, сказал в сердцах: «Да что за наказание такое!» И, хотя это относилось скорее не ко мне, а ко всей жизни, было смертельно досадно за свою неосторожность. Я быстро вырубил новый бастрик, мы увязали воз и поехали. Как назло, напротив Самсонихи у меня вдруг перехватило топливо, а Николаич, шедший передом, ничего не видел из-за воза и вскоре скрылся за мысом, а потом, отцепив сани, вернулся и терпеливо ждал, пока я ставлю насос и разбираю карбюратор. Привычно стыли мокрые от бензина пальцы, кусалось железо, и я, чувствуя, с каким напряжением дается Николаичу и это возвращение, и ожидание, старался делать все быстро и был до тошноты зол на себя — и за бастрик, и за карбюратор, и чувствовал себя ничтожным по сравнению с этим мужественным и терпеливым человеком. (Потом сидели у Николаича за бутылочкой и он рассказывал про мужика в больнице, который лежал не первый месяц готовый к операции сердца, и все, как он выражался, «ждал мотоциклиста», и представлял этого мотоциклиста, молодого, бесшабашного и не подозревающего о том, что его ждет.)
Еще я вспоминал, как заезжали в тайгу после Нового года. Все охотились по одной реке и до первого участка ехали на снегоходах вместе, грелись по дороге в избушках водкой и жаром раскаленных печек, снова мчались в белой пыли и рокоте двигателей дальше с мыса на мыс по убитому ветрами снегу, кроша его в мелкую голубую плитку. А потом остановились и, пока курили и разговаривали, я, отойдя, с любовью и гордостью глядел на стремительные очертания капотов, на галдящую гурьбу товарищей, на напарника, по-хозяйски остукивающего бурановский бок ногой в самошитом заиндевелом бродне, напоминающем налимью голову. «Все тогда было за нас: и погода, и дорога, и выпитая водка… — думал я. — А теперь, когда прихворал, когда не могу подняться с нар в ста верстах от Енисея, когда вокруг невозможно прекрасная тайга, а над ней небо, и в нем кого-то уносит к дому еле слышный большой самолет, — что же я все жалею, все завидую самому себе тогдашнему, здоровому и беззаботному? Разве уже не чувствую — вот-вот одолею себя, взлечу над своей хворью, охвачу душой чужую радость, ведь знаю, мчится жизнь дальше, и, когда умру, будет так же нестись кто-то в снежной пыли по мохнатому от инея льду забереги, пробуя стынущим пальцем рычажок газа — нельзя ли еще быстрее…
Когда отлегло после таблетки, я вышел из избушки. Медленно и спокойно плыли по серебряной реке первые плитки шуги, шуршащим хрусталем выползая на камни, белели чуть припорошенные берега, над ними тонкой штриховкой ветвей серела тайга, и надо всем этим нежным металлом в вышине меж облаков светился неожиданной и пронзительной синью кусок неба с рассыпающимся следом самолета.
В особенно тяжкий вечер я, снова и снова перелистывая молитвослов, вдруг в конце нашел то, что искал, и то, что почему-то не мог найти в течение предыдущих двух недель. Это была молитва святому великомученику и целителю Пантелеймону.
«О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущего. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея и исцели меня…»
Страница кончалась, нужно было перелистнуть страницу, чтобы продолжить молитву, но это уже не имело значения — прочитанное и пережитое так ясно и глубоко действовало, что я, потрясенный… На фоне того физического страдания это был какой-то отчаянный порыв души, в нем слились и раскаяние за все, что натворил в жизни, и истовая надежда на спасение своей жизни, причем сбывающаяся, потому что я весь покрылся потом и почувствовал, как действительно полегчало, начало отпускать, и казалось — действительно эта искреннейшая молитва была такой силы, что услышал ее Бог и послал облегчение.
И вскоре как-то отлегло, потом прилетел вертолет, меня отвезли в Туруханск в больницу, а через полтора месяца я уже снова заходил в тайгу. Помню, как, сдерживая дрожь в ногах, стоял на заснеженной косе у края леса с собаками на веревке. Вертолет, хлопая лопастями, вскоре показался из-за лиственниц. Уже трепетали кусты, перехватывало дыхание от снежного ветра и рвались на веревке собаки, и во мне тоже все рвалось и трепетало, вилось жгучей каруселью, в которой будто сложилось святое облегчение всех тех, кого когда-то так же вызволяли из беды, все передряги этих двух недель и животный страх навсегда потерять тайгу.
Долго переживал я эту историю и даже гордился пережитым, казалось; и был потрясен, и размышлял, и вспоминал эту свою ничтожность и беспомощность перед огромными расстояниями и отказавшим телом, и страх смерти, и этот трепет души перед лицом вечности, который даже не согласился бы теперь променять на телесное благополучие в ту трудную пору, но потом как-то все постепенно сгладилось и, если не забылось, то будто окаменело в памяти.
Хотя бывает среди сна или ранним утром, когда бесконечно далеки дневные заботы и душа еще не стряхнула потустороннего своего оцепенения — праха ли сновидений, какого ли другого отсвета, — вдруг с какой-то чрезмерной отчетливостью увидишь и ощутишь всем своим существом одно-единственное чувство: ничего нет, кроме смерти, впереди! Потом, когда через минуту зашевелится жизнь (ставить чайник надо, цепи точить) и вернет всё на свои места, то далеким и странным покажется это справедливое, но такое теперь однобокое ощущение.
А как казалось тогда, далекой осенью: вот выберусь, оклемаюсь — буду другим, вдумчивым, внимательным, гордыню смирю и перед близкими и дальними в грехах покаюсь. Но — нет. Как кусок коры в весенней реке, было застыл в затишке, зацепился за берег, оглянулся вокруг — и снова понесся вместе с жизнью, и то в одну сторону швырнет, то в другую, а года все идут, и нет покоя ни душе, ни телу, и бывает, в тяжкий миг вспомнишь ту осень, но уже теперь не с гордостью, а с сожалением и стыдом вспомнишь: ведь у молитвы Пантелеймона еще и вторая часть была: «… да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божию, возмогу провести в покаянии и угождению Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего…»
Вот она-то почему-то и забывается.
О СВОЕМ
Я пишу о том, что люблю: о Сибири, об охотниках и рыбаках, но для меня это не экзотика, а жизнь. Нельзя сказать, что я «таежный» писатель, меня интересует прежде всего человек. Я пишу не только о Сибири — обо всей бескрайней промороженной стране — от среднерусской провинции до Дальнего Востока, о ее жителях, для которых родина — не отдельный город, а именно вся эта огромная земля.
Я хотел рассказать, почему я люблю енисейскую жизнь, о ее непередаваемой красоте, о людях, живущих на фоне этой красоты, об их трудной, потной жизни и о космической мощи небес над ними. О том, что нигде так не зависишь от погоды: летом — покос, осенью — будут ли дожди, прибудет ли вода, можно ли будет проехать на лодке по каменистым участкам речки, уж про зиму и говорить нечего — мороз или тепло, задует дорогу или нет, короче говоря, чего ждать, как планировать. Поэтому голова енисейского жителя всегда задрана — к небу.
Еще хотел сказать о том, что все это происходит в отсутствие зрителей, и это создает особое бескорыстие охотничьего бытия. О том, что жизнь среди сибирской природы накладывает неизгладимый отпечаток на человека, делает его лучше, делает счастливым, потому что он видит результат своего труда: добытую рыбу, напиленные дрова, срубленную избушку.
Жизнь, которой живут некоторые из этих людей, полна осмысленного труда, полна традиции. Когда живешь среди солнца, снега, струганого дерева, когда каждый день из-под твоих рук выходят замечательные предметы быта и выживания, проверенные столетиями, когда жизнь подчинена тому распорядку, который предлагает природа, — тогда есть и ощущение смысла, и тот самый покой, и правота на душе, которая и не снилась горожанину. А при этом дорушивается вся та поддержка, которая была при советской власти: люди, приехавшие на Север, брошены на произвол судьбы, об этом не раз говорено, — все это создает небывалый контраст между потрясающей природой и людской неустроенностью. Причем либеральная интеллигенция обычно все это воспринимает так: мол, а что вы хотите, это все советская власть нагородила, она и виновата. И даже рада (интеллигенция), что в списке ее (власти) ошибок пополнение, но не понимает, что людям-то от этого не легче и их судьбы — не отвлеченность для кухонного разговора, а совершенная конкретность, требующая выхода, а не поиска причин.
Родина моих героев — деревни, поселки, городки России. Они переезжают с места на место, из Астрахани в Хабаровск, и для них этот переезд понятнее, чем переезд в Москву. Их жизнь происходит в огромном и знакомом пространстве русской провинции, несется мимо Москвы и Питера, они гораздо легче на подъем, и это пространство им подвластней, чем любому москвичу, на всю жизнь привязанному к столице узами, по сути, его и обкрадывающими, лишающими свободы. А причины привязанности к столичным городам в комфортности жизни и в ощущении, что это самое комфортное место в стране, хотя дальше, конечно, можно только за границу свалить.
Думалось, что с концом социализма страна вернется к прежнему, дореволюционному варианту, когда не зазорно было жить в провинции, когда провинциальные университеты котировались не меньше столичных. Но оказалось, что сейчас еще сильнее приток людей в Москву, где почти всё — деньги. Опять всё не так.
Настоящая русская жизнь происходит именно за границами столиц. Получается парадокс: все средства массовой информации в Москве, и из Москвы на всю страну идет информация о том, как горстке людей из Москвы видится жизнь страны.
В моем понимании литература — это не приключения, уводящие в сторону, а некий обобщенный, в художественную форму облеченный опыт, речь о том главном, что с нами происходит, ведь мы не всегда участвуем в чем-то остросюжетном, чаще другое: жизненные узлы, повороты, мотивы, желание перемен, тоска по новому, по прошлому, по любви, любовь, конечно же, а главное — невозможность разделить себя между просторами жизни и то, что снять противоречия можно только смирением и ширью души. Техническими способами нельзя одолеть жизнь, ее ломовую мощь, можно только духовно.
Ненормально то, что деревенская жизнь считается экзотикой для горожан, для Москвы, живущей на манер западного мегаполиса. Ненормально, что литературная публика (не беру патриотические круги, они, увы, в меньшинстве) пользуется словом «деревенщики», узким, локальным. Когда несешь в журнал вещь, где действие происходит в деревне, говорят: мол, ну это «деревенская литература», мол, читали уже, это было. Что за бред? А если так говорить: «Ну это городская литература, это было уже, не стану читать?» Пока есть деревня, будет и литература, пока есть явление, будет его отражение. Толстой что — деревенщик? Бунин? Есть русская литература, она — деревенская, потому что деревня — соль России. Именно оттуда, а не из города идет все свежее, живое, именно там сейчас еще живет и дышит то, что питает литературу, — русский язык. В городе сейчас главное — деньги, а в деревне до сих пор — нет, хоть и нехватка денег превращает жизнь многих в трагедию. Но все-таки именно в деревне всё происходит так, как должно быть: поработал — получил кусок хлеба, мяса, рыбы. Сам получил. Независимо от дефолтов, курсов. И есть чувство правоты. Почему, когда едешь из деревни в город, чувствуешь себя предателем, а когда наоборот — вырвавшимся на свободу?
В ОГНЕ
Последнее время частенько даю интервью, и, кроме вопросов о моем творчестве, обязательно возникает вопрос об известном кинорежиссере Андрее Тарковском, который приходится мне родным дядькой. Вопрос стал настолько дежурным, что я решил раз и навсегда разобраться с этим, тем более встречами со знаменитым родственником, по крайней мере в зрелом возрасте, похвастаться не могу.
В детстве жил я с бабушкой, Марией Ивановной Вишняковой, матерью режиссера, она постоянно о нем говорила, особенно о тех временах, когда он был ребенком. Имя его было рядом со мной, в отличие от самого дяди, который жил отдельно, был предельно загружен делами, а после и вовсе оказался за границей. Последний факт все мы порой старались объяснить, валя на его последнюю жену, дескать, ее была затея, но боюсь: просто хотелось, чтобы не сам уехал, а у бабы на поводу пошел.
Бабушка рассказывала о своей жизни, своем детстве, о детстве своих детей, и мне казалось всё это безнадежно далеким — каким-то временем с другой планеты, и только потом я понял, что прошлое — всегда словно вчера. Она все время вспоминала Андрея. По ее словам, дядя был очень способным, например, необыкновенно музыкальным: классическую мелодию точнейшим образом насвистывал, услышав один раз краем уха. Бабушка наша была старой закваски и считала, что детей надо обязательно водить в консерваторию. Меня это тоже коснулось. Помню первое посещение этого заведения. Играли самую знаменитую симфонию Моцарта, и, хотя, конечно, я запомнил ее на всю жизнь, каждый раз при ее звуках вспоминая бабушку, но тогда сидел с трудом, изо всех сил пытаясь уследить за мелодией, но чуть что — забываясь и думая о постороннем, так что запомнил тот первый поход в консерваторию как величайшее испытание. Андрей же, по рассказам бабушки, с первых нот весь вытянулся вперед, превратившись в огромное и чуткое ухо, все забыл, просидел так до конца и вышел потрясенный. Еще у него в мальчишестве был очень хороший голос, ему даже пророчили карьеру, которую, по словам бабушки, сгубила незадачливая преподавательница, заставившая его в период, когда ломался голос, петь на каком-то конкурсе. Голос он сорвал.
Дядя в юности много писал маслом. Жили мы в доме, где и он жил до женитьбы, и я разбирал его краски, этюды, казавшиеся чем-то загадочным и непостижимым. Я тоже попытался что-то помалевать — вышла ерунда.
Дядя был в юности боевым парнем, дрался, была у него какая-то девушка и какие-то враги, с которыми он воевал. До сих пор лежит свинчатка, которую он таскал в ту пору в кармане — окуглый брусок свинца, помещающийся в ладони. У меня когда-то была мысль пустить ее на грузила, но я вовремя сдержался. Была шапка-ушанка, коричневая, с рыжей овчиной, со скроеным из долек-треугольников куполом. Носил я ее много зим с гордостью. Так же, как и зеленый дядин свитер.
Нравился мне «дядя Андрей» чрезвычайно. Даже в имени звучала какая-то тайна, и в нем была какая-то притягательная сила, что-то необыкновенное, помимо режиссерства, которое только тогда зарождалось и меня слабо волновало. Помню, едва не переживал, что его сын Арсений имеет на него больше прав, чем я, и чувствал себя эдаким бедным родственником, племянником из «Обыкновенной истории». Нравилось, как дядя двигался, как ходил по комнате, что-то рассказывая и жесткулируя, говоря резким, почти театральным голосом. Плохо выговаривал букву «л», у него выходило какое-то «уэ», и была в подмогу задействована одна щека, точнее, угол рта, который он оттягивал и отпускал, так что получалось некое хлопающее движение. Тон его разговора был авторитетный, говорил он громко, эффектно, будто перед аудиторией. По любому поводу имел свое необычное мнение, и в тоне его всегда звучал определенный холодок, который мне особенно нравился. Внешние черты дяди я потом углядывал в других людях и невольно наблюдал за ними, относясь к ним с особенным чувством. Лицо у него было резкое, будто выточенное из какого-то крепкого и сухого дерева. Был невысокого роста, ходил размашисто, выбрасывая ноги носками врозь; садясь в кресло, одну ногу закидывал на колено другой, так что голень оказывалась параллельно полу, и держал ее за ступню. В его позах всегда была какая-то вольность, желание предельно разметаться локтями, коленями, раскрепоститься, будто все время ему было тесно или его что-то давило, может быть, даже сама земная атмосфера. Носил он усы. И всегда прическу. Стригся длинно, длинный чуб, прядь налезала на глаза, он ее время от времени откидывал. Сам я при дяде деревенел, глупел, когда он приходил, вытаскивал какое-нибудь лесное снаряжение, говорил глупости, краснел, и мне казалось, он видит меня насквозь.
Неделеко от Игнатьева, где снималось «Зеркало», на станции Полушкино была карстовая пещера, куда мы поехали с моими товарищами, увлекавшимися спелеологией. Дело было классе в девятом. После пещеры мы пошли гулять по окрестностям и зашли к месту съемок. К тому самому хутору, где теперь стоял макет дома, давно уже не существующего. Там колготились киношники, горели остветительные приборы и бегал разъяренный дядюшка, которому всё не нравилось. Он кричал на какую-то женщину. Он удивился, увидев меня, мы с ним поздоровались за руку. Я был в чем-то рваном выцветше-зеленом и с топориком за поясом.
Дело было осенью, а летом мы жили с бабушкой у берегов Волги в Ярославской области. Там было множество черных гадюк по низинам и сосновые боры с белыми грибами. Вдруг к нам приехал гонец от дяди из Игнатьева. Для съемок «Зеркала» ему понадобилась бабушка. Меня не с кем было оставить, и бабушка взяла меня с собой. Поселили нас в той же, с детства знакомой деревне Игнатьево. Дядя был все такой же модный, так же откидывал челку, закидывал ногу на ногу, я запомнил его светло-зеленые вельветовые штаны в крупную выпуклую полоску.
Мне когда-то купили куртку. Обычная молодежная синтетическая куртка, какая-то коричневая, на молнии и с блестящими пуговицами. Потом, когда куртка подызносилась, сделалась мягкой и тусклой от стирок, ее стала иногда носить бабушка. Было странно, казалось, какая-то сдача позиций есть в том, что русская женщина из той, прежней жизни носит современную синтетичскую куртку. Есть что-то грустное, когда от нищеты пожилые русские женщины носят такую одежду. В этой же куртке дядя и снял бабушку в «Зеркале», в ней она идет по полю, держа за руки «своих» детей. Когда я смотрел фильм, то про себя гордился, что моя куртка попала в кино, что я тоже тайно участвую. И еще мне казалось — и во время съемок, и позже, когда смотрел фильм, — что зря он это сделал, привлек бабушку в свой душераздирающий фильм, что это жестоко, несдержанно, что бабушке играть себя, идти по гречишному полю (которое специально для фильма засеяли) со «своими» детьми и не замечать, как разрывается сердце от тоски по прошлому, по всему тому клубку, в который увязано и материнство, и юность, и ушедший муж, и просто пронесшаяся жизнь, и еще и сын режиссер с измученной совестью, — что это все невозможно, недопустимо, невыносимо. А теперь кажется, что имено так и надо жить, срезая все углы и условности, проламываясь к правде и прощению сквозь стыд и слезы, рука об руку со своими близкими.
Из его высказываний помню несколько, и то я думаю, что говорил он больше для эффекта — чтобы поразить, чтобы все увидели его самостоятельность, хотя я могу и ошибаться. Помнится, кто-то, кажется, бабушка упомянула Цветаеву, и дядя сказал своим протяжным резким голосом и с улыбочкой: «Н-да, претенциозная была дамочка!» А потом был разговор про Маяковского, и он очень сердился и говорил, что предательства не прощают, имея в виду предательство себя в плане наступания на горло собственной песне.
Вообще в детстве мы виделись довольно часто. Потом реже. Первая встреча в более или менее зрелом возрасте произошла, когда умерла бабушка. Мы сидели на кухне, мама плакала, а дядя сказал, что «это себя жалко». Потом встретились году в восьмидесятом у него на дне рождения. Больше я его не видел.
Тот день рождения я хорошо помню. Дядя был очень приветлив, весел и разговорчив, мне даже показалось, что он проявляет ко мне какие-то зачатки интереса. Мы вошли в прихожую, тут же стояла собака, большой кобель, забыл масть, и его сын от второго брака Андрей. Я, все продолжая «удивлять» дядю своей независимостью, таежностью (у меня было уже пять сибирских экспедиций — в Туву, в Бодайбо и на Енисей), спросил небрежно, мол, кобеля-то вязали уже? Сын Андрей выпросительно посмотрел на Андрея: мол, что это значит? Тот объяснил, тоже с улыбочкой, мол, собаки тоже, как дяди и тети, женятся и так далее. И добавил, что эта собака вообще-то спокойно относится к женщинам — «как настоящий мужчина». Потом мы прошли в комнату и он угощал нас арманьяком, который ему, кажется, кто-то где-то подарил, арманьяк показался мне божественно вкусным. Потом подвалили еще гости, ему передали завернутую в бумагу бутылку, и он возмутился: вот люди — что за мода с бутылками на день рождения приходить. Мол, у доброго хозяина все и так приготовлено. Потом все сели за стол, и я удивился, что они с женой говорят друг другу «вы». «Вы, Андрей Арсенич», «Вы, Лариса Павловна». Тост был, помню, сначала за него, потом за нее, «за ее трудную роль».
Еще один день рождения происходил, когда он находился уже за границей. Я тогда впервые увидел видеомагнитофон. Мы смотрели «Ностальгию». В гостях был певец Градский. Мама потом сказала что-то вроде: «Где-то я этого мужика уже видела». Градский тоже смотрел фильм и даже сказал по поводу одного места, что оно «очень важное». Потом звонили дяде за границу или он сюда звонил, и всех по очереди звали поговорить. Меня тоже позвали. Я не знал, о чем говорить, стеснялся, но был очень рад. Спросил, кажется:
— Дядя Андрей, ну как ты?
Он поинтересовался, чем я занимаюсь.
— Ты все ездишь в экспедиции?
— Я живу на Енисее.
— Это очень хорошо, — сказал дядя. — Там надо жить.
Когда говорили, что дядя серьезно болен, я не верил и не хотел верить, думал, что сгущают, драматизируют. Зимой перед Новым годом, когда я выехал с промысла в Бахту, ко мне (я жил тогда в старой промхозной конторе) зашел мой, ныне покойный, друг Павел Хохлов, бакенщик и охотник, и протянул телеграмму, сказав торопливо и потупясь: «На, Михайло, вот… тут… тебе». Я прочитал, что умер дядя.
Был дядя Андрей и на Енисее. Бабушка его отправила туда после школы, потому что он «попал в дурную компанию». По бабушкиным же словам, он вернулся оттуда с накаченным торсом (шурфы бил) и «нажранной комарами мордой». Всю эту историю она рассказывала, сопровождая комментариями, вроде: «подрастешь, поедешь в экспедицию» или «подрастешь — спальный мешок у тебя будет» и так далее. С дядиных слов она рассказывала о Енисее. О мухе в куске янтаря, которую дядя там нашел, и мне до сих пор непонятно, откуда на Енисее янтарь, скорее всего это был просто кусок смолы. О «страшных штормах» на Енисее, причина которых в очень крутых берегах: волна, отходя от одного берега, ударяется в другой, набирает силу, бьется в другой и так гуляет туда-сюда, вырастая до огромных размеров и топя все подряд (сама о том не зная, бабушка изобрела вечный двигатель). И вот в эту волну якобы попала баржа, которую пер буксир и на которой находилось экспедиционное барахло, и дядя, и всё, включая муху в смоле, утонуло. (На самом деле волна на Енисее просто от ветра, особенно от северного — «севера»: он дует снизу, разгоняясь на многокилометровых плесах и, действительно, не на всякой лодке можно его одолеть). Слова «Курейка», «Игарка» звучали как заклинания, как призраки далекого и чудного мира, представляю, что они значили для бабушки, никогда так и не повидавшей Енисея. В общем-то выходит — если б не бабушка, Енисея в моей жизни не было бы, а значит, и меня бы не было. Я читал про Енисей. А потом, в девятом классе, был в противочумной экспедиции в Сибири, в Саянах, Туве. Там меня поразили елки и пихты своей точеной остроконечностью, и, вернувшись, я потребовал фотографии Андрея на Курейке — проверить, такие же ли там елки. Елки там, слава Богу, были такие.
Однажды, я был классе в шестом, мы сидели в лесу у костра, в котором дымно горели прошлогодние березовые листья, и Андрей, сморщив еще молодое лицо, так что пролегли морщины, знакомые по его поздним фотографиям, сказал: " Так ведь все сгорит». Как-то горько, с силой сказал и с беспомощностью перед этим огнем. Мне тогда показалось это высказывание какой-то слабостью, паникерством или просто претенциозным, а теперь думается, что не было здесь никакой игры, а просто говорил он, как чувствовал, как жил. Еще думаю о его фильмах, что в каждом из них, кроме, пожалуй, «Сталкера», есть огонь: горят русские города и храмы в «Рублеве», горит сарай в «Зеркале», горит костер в «Солярисе», горит Крис, отправив Харри прочь со станции, горит книга стихов в «Ностальгии», и там же — человек обливает себя бензином и сгорает, и горит дом героя его последнего фильма. И всегда сгорает самое дорогое. Так что, может быть, он и прав был? И, действительно, всё сгорит?





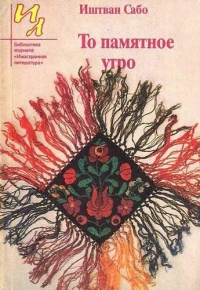


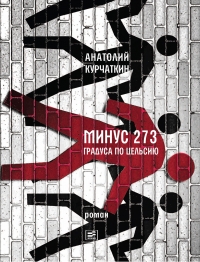




Комментарии к книге «Жизнь и книга (СИ)», Михаил Александрович Тарковский
Всего 0 комментариев