Михаил Тарковский КОНДРОМО
1
Осенняя промозглось огромной Катанги, бесконечная возня у длинной деревянной лодки, гулкий перестук канистр, таскание мешков и ящиков с продуктами в избушку, косы из огромных, похожих на ядра камней и каменные берега, кое-где лишь покрытые то полегшей, то вовсе желтой, жухлой, избитой дождями, прохваченной первыми морозцами травой, и все равно пахнущей невыразимо пряно и горько. Собаки давно выскочили из лодки и, вовсю нашарившись по траве, лесу и кустам, вернулись и с вежливой верностью лезут в колени, руки, а ты сидишь возле лодки на корточках и отсыпаешь в мешок крупу, и серый кобель сдержанно лизнул тебя в нос и глаза, и от его головы так пахнуло горькой травяной пряностью, что не удерживаешься и сам приобнимаешь его за шею, представив, как лазил он по берегу, шурша и раздвигая траву мордой и напитываясь ею на долгую зиму.
За ночь вставший плес, где темно-синий лед покрыт снежной крошкой и неподвижность кажется запредельной, словно тоже исчисляется градусами, и, перейдя ноль, еще долго погружается сквозь слои покоя и доходит до предела, кладущего грань меж замершим и мертвым. И взгляд, привыкший к берегам, к постоянному скольжению воды вдоль них, вдруг наталкиваясь на эту неподвижность, сбит с ног неожиданной остановкой, хотя, если очень долго глядеть, то покажется, что река все-таки движется мимо берегов, и вспомнятся другие осени и другие повороты, встающие с железным грохотом и скрежетом, особенно грозным ночью, когда волнообразный наплыв то накипает глухим содрогающим рокотом, то рассыпается шелестом взлетающих птиц, хлестом о воду стеклянных крыльев.
А начиналось все со сборов в деревне, и почему-то главным вместилищем этих сборов был запах пекарни, где охотники заказывали хлеб на промысел, — сырой запах печки, теста, закваски и самого хлеба, еще влажного и обжигающе горячего, который пекариха в верхонках быстро достает из печи по четыре штуки и кидает на обитый железом стол. Ты укладываешь его в мешок, а пекариха — молодая совсем баба, с которой все охотники обязательно и довольно грубо заигрывают, говорит: «Не помни», а ты отвечаешь: «Тебя или хлеб?», а потом вытаскиваешь на улицу и ставишь мешок в коляску мотоцикла, и чей-то мальчишка тащит под мышками два обжигающих кирпича, а на дворе уже холодно, дует с Енисея пронизывающий ветер, и мальчишка греется этим хлебом и не в силах удержаться отламывает кусок хрусткой корки и пихает в рот.
Некоторые охотники брали вместо хлеба сухари и муку, из которой стряпали сами. Виктор брал и хлеб, и муку с дрожжами, и на базовой избушке ставил закваску, месил тесто, выкатывал кругляши и, протопив полубочку, разгребал в ней по сторонам угли, налитые трепетным пламенем, а если осветить их пылающей берестой, тут же гаснущие и похожие на белые комья ягеля. Ставил на золу сковородку с тестом, а потом заглядывал в печку, и видел в красном полумраке неровно вспухающий гриб, и, дождавшись, когда он зарумянится, вынимал, и в конце концов набиралось с полстола пышных румяных караваев, единственным недостатком которых была их чрезмерная вкусность — шли они в два раза быстрее хлеба, давно усохшего и вымерзшего.
Печки со временем вело листвяжным и кедровым жаром, и у каждой на неровной плоскотине было свое место для чайника, и в какой-нибудь одной избушке он особенно тихо, по-партизански закипал, и Виктор глядел на него недоуменно, а потом, открыв крышку, обнаруживал, что тот давно уже буркотит серебряными пузырями. Он заваривал в оббитом фарфоровом чайнике и пил чай с теплым, свежим хлебом, по которому масло, топясь и впитываясь, расходилось желтой лужицей.
Бывает, человек из кожи вон лезет, рвет хрип, увязая в рутине, и кажется, все это лишь затянувшееся начало, а где-то там есть нечто прекрасное и недостижимое, вроде неизвестных краев или несравненного дела, что-то, о чем будешь всегда жалеть и от чего настоящее досадно тускнеет. У Виктора же это настоящее и было самым главным и желанным, и не тускнело, а лишь наливалось новой яркостью, будто с него каждый год снимали по туманной папиросной пленке. Оно могло только меркнуть от его усталости, когда в сумерках, объятый зимним тракторным упорством, он подходил на лыжах к печурке, присаживался на одно колено, и вдруг из ничего завязывалась медленная и тупая возня с капканом, которому никак не удавалось отрегулировать сторожок, и, неудобно сползая, перекатывалась по спине тозовка, рукавицы падали в снег, и казалось, что все это уже было и он не ошибался. За полночь в избушке, когда в кутухах на улице спали накормленные собаки и в золотом ламповом свете, белея сырым тестом мездры, тянули шассья лап плоские фюзеляжи соболей на пялках, снова разъяснивало в голове и озарялся весь раскинувшийся по берегам, хребтам и тундрам наконец настороженный участок, к неусыпной работе которого даже в самом глубоком сне не перестаешь прислушиваться. Утром покачивался в такт шагу заснеженный кедрач, и так ждался висящий в капкане соболь, что взгляд готов был сорваться на любую приманку, на заснеженную вертикаль обугленного пня, и, промахнувшись, пристыженно возвращался на присаду терпенья, уложив крылья, чтобы время спустя вновь повторить ошибку. И когда ценой невиданных ухищрений, самых заповедных и жалящих воспоминаний удавалось отвлечь себя от этого ожидания, вдруг за комковато белой лиственью открывался капкан на елке с висящим соболем, поражающим девственной нетронутостью ворса: глубокий орех с седой искрой, с закатной прожелтью горла и мохнатыми головешками лап.
И дело было не в соболе, не в ягоде и орехе, не в рыбе и не в мясе, а в чем-то другом, в какой-то существующей за гранью всего этого «сверхдобыче», которая определялась правотой всякого шага, не знающего сожаления о потерянном времени и силах, когда великий лад с окружающим возможен только за счет полного отказа от себя и подчинения исконному и вечному, о котором напоминает каждый удар топора и каждый всполох солнца в зеленых просветах ледяных полей.
И это великое и исконное нельзя было назвать иначе, чем Образ, и он мог дробиться десятки раз, оживая то в образе пустынника, то первопроходца и постоянно существуя в образе промышленника, для которого участок из куска тайги давно превращен в скрипучий деревянный механизм, где все — лабаза, кулёмки, избушки, лодки, лыжи, лопатки, челаки настойчиво требовали лишь одного — рук.
Руки у Вити были и знали и ледяную нежность железа в мороз, и посвист ветра в стекленеющей сети, и тисочный прикус капканных дуг, а суставы на толстых пальцах были, как сучки, в складках и с глазками, и казалось, именно через эти глазки и виделось пространство, и даже время, как ток, текло через руки, не заходя в голову, и поглядывал Витя не на календарик часов, а на лиловую мету кровоподтека, ползущую куском жизни в оконце ногтя. Но, даже прозрев руками и увидя наконец единственно-совершенную форму топорища, он все равно не мог сделать двух топорищ совсем одинаковыми, потому что где-то был сучок, где-то жилка и везде — живая природа дерева, которое все по-ребячьи извивалось и кожилилось. Топорище срасталось с топором и напитывалось срубленными избушками, ночами в тайге у костра, кулёмками, жердушками, разрубленным мясом, колотыми дровами и льдом, становилось темным, затертым, восковым, насыщаясь настоем работы до самой сердцевины, и делаясь бесценным, и называясь уже вместе с лезвием Топором с большой буквы, и потеря его тоже была Потерей.
Юксы камусных лыж — сыромятные сбруи для толстых, набитых теплом кожаных бродней, — тоже жили и все скрипели, особенно на морозе, хрустя попадающим туда снежком, и болтовня правой и левой ноги порой надоедала, а при скрадывании сохатого была и вовсе недопустима, и тогда приходилось сажать юксы вместе с ногами в специальные прибиваемые к лыжам мешки.
Береста при нагреве скручивалась и ее надо было успеть надеть на тетиву сети, превратив в наплава, промокшие лыжи вело винтом, если их не взять в жомы, черемуха не желала гнуться без влаги и пара, и вся эта теплая братия никак не могла наиграться в огонь и воду, в тепло и холод и то мякла, то завивалась, то прямилась, то каменела, и надо было то вовремя остановить, то поторопить, помочь этому детскому саду, в котором все выкаблучивалось и кобенилось, как ребенок, норовящий подрыгать ногой или поковырять в носу, вместо того чтобы спать или читать.
Весной по насту Витя валил осину на ветку — тонкостенную долбленую лодку. Отпиливал кряж, шкурил и затесывал ему носы, как чижику, и он лежал колонной из белого сливочного масла на ослепительном снегу, полосатый от теней. Вез, еле взвалив на бурановские сани, и желтела на снегу возле дома тяжеленная труба, набитая плотной древесиной, которую надо было вычерпать, как яйцо, для чего требовались три тесла — одно прямое и два боковых, правое и левое. Тесла изготавливались из топоров, тоже оживающих и шалящих в горне красным, как таймений хвост, лезвием, которое надо было вовремя обездвижить в ледяном масле.
Осина лежала вытянутой в струну свиньей, и только ровнейшие грани оттянутых до бритвенной остроты носов напоминали о ее мореходном назначении. Наконец в эти мерзлые сливки начинала въедаться ложка тесла, прорубая узкую, кулака в два, канаву по всей длине и заглубляясь изнутри в бока, пока не получалась трубка, с которой дальше происходило нечто вовсе невообразимое. Не дожидаясь, пока борта опасно истончаться, заготовку начинали неглубоко, но нещадно дырявить снаружи коловоротом, охватывая поясами дырочек, как подводную лодку рядами заклепок. Потом готовили пятники — стволики кедровых веточек, задавая им длину толщиной будущего борта, и загоняли в дырки, искупав в краске, чтоб, наткнувшись на нее изнутри теслом, вовремя остановиться.
Длинной непроливашкой лежала бокастая труба с прорезью сверху и была необыкновенно новой, желтой, а вокруг электрическим безумьем, заевшей вспышкой сварки полыхал снег, не дозволяя смотреть без очков, и сияло солнце, и светилась изнутри налитая солнцем древесина, вся в плавных вмятинах, в сливочных следах ложки, в мелкой продолговатой волне, играющей на просвет гребнями и впадинами. Труба, как кусок бересты, изо всех сил старалась свернуться, и если б не носы, давно бы так и сделала, и теперь требовалось невозможное — развернуть, распластать, раскрыть ее, как мерзлую надрезанную рыбину, не порвав у хвоста и головы, для чего, как для огромной ухи, разводили костер и начинали варить эту уху в самой рыбине, как в длинном и непомерном котле. Заливали по края горячей водой и грели над костром, и борта постепенно становились мягкими, и их разворачивали дальше и дальше, распирая порками, и разведенная ветка все больше напоминала распоротое и распятое веретено и все меньше ее породившую, неподъемную и монолитную колоду.
Ветка спокойно тащилась за носовую связку или взлетала на плечи, но требовала умения, особенно при стрельбе или вылезании, и неслась, не оставляя следа острой задранной кормой, утиным задком, повиливающим при каждом ударе весла. И если раз хорошо гребануть — казалось, так и будешь скользить по затопленному лесу, по бездонному зеркалу, по ломаным окнам из пихтовых стволов, сквозистым переплетам веток и вовек не остановишься. С годами она чернела снаружи от смолы и седела изнутри, впитывая серебро неба и рыбьих тел, пепел утиного пера и пороховой дым из дробовика хозяина, крепко сидящего на пятках с прямой, как в седле, спиной.
Техника была таким же близким предметом, хотя и пожестче, похолодней материалом, но так же приходилось с ним нянчиться, менять и кормить солидолом подшипники, счищать нагар, и, при взгляде на опаленные поршни и зеркальные шейки валов нет-нет да и казалось, что мотор только прикидывается, что состоит из этого колкого металла, а главное скрывает, и, когда он оживал после подтяжки вала и вез за тридевять верст по вздувшейся реке, Витя относился к случившемуся как к фокусу и при всем уважении к его свирепому реву всегда подозревал тут какие-то свои ожесточенные и угрюмые интересы. Но когда с пулеметным треском работала пила без глушителя и виднелась в выхлопном оконце суетливая лихорадка поршня, кого-то бешено атакующего в норе головки, где в неистовой судороге билось туманно-красное зарево, то семь кубов каменных листвяжных дров, которые ухитрялось поставить под шумок этой свары, казались веским поводом для уважения к этому одушевленному и озверевшему от работы существу.
Ближе к весне после охоты Витя помогал своему другу Геннадию возить сено, убираться в стайке, и они стояли среди пахучей трухи, солнца и мороза, пропахшие бурановским выхлопом, с кирпичными от ветра рожами и, развязывая воз, цеплялись к веселой и деловитой девке, с хрустом семенящей мимо, и Витя думал о том, как к лицу молодому парню эти вилы, и суконные портки, и чистая мякоть зеленого навоза, по которому крепко ступаешь броднями, и перспектива вечернего похода в клуб. Гена метал в сеннике, а Витя подавал с воза и знал, что корова — следующий и неминуемый этап его жизни и дело только в хозяйке.
Уходя, он прихватывал охапку сена для собак, пихал в будки, и собаки со смешным и особенным оживлением возились в этом сене, долго утаптывали его, вертясь волчком, а после лежали в нем довольно и важно — как в гнезде, а вылезая, пахли по-осеннему — чисто, нежно и пряно.
Наступила весна, и после мучительного и долгого опухания и вздутия Енисей прорвало ледоходом, и он, как огромный товарняк с шипом и лязгом тронулся с нескольких попыток, ужасающих по затратам воды, льда и берегового материала, и неделю тянулся, набирая ход, подгоняемый двумя дополнительными составами Ангары и Подкаменной Тунгуски, и открылась наконец зеркальная и свободная гладь с редкими лебедями льдин, где Витя ловил лес, ставил сети и вдыхал будоражащие запахи: бескрайнего оттаивающего простора и оживающей тальниковой горечи. Сиги пахли свежими огурцами, заходясь в сети частым и хлестким трепетом, и пока он выпутывал, издали еле слышно нарастал, катился по гулким далям монотонный топоток дизеля, и, когда Витя переезжал через Енисей, встретил рыжебородого кержака на огромной деревянной лодке. На корме под синей тракторной кабиной тарахтел дизель, рядом покорно и неподвижно стояла пестрая, черно-белая корова, а в кособокой рубке топилась печка, и на звук Витиного мотора из нее показалась бабья голова в белом платке.
2
Появление в поселке Настасьи с самого начала было окутано тайной, хотя известно, что в истоке их с Витей отношений лежал некий роман в Дальнем, где стояла экспедиция и где Настя проработала несколько сезонов, будучи студенткой педагогического института. Витя с товарищами частенько наведывался туда на праздники, и, по рассказам, катал Настю на лодке, и даже поймал на ее глазах несколько устрашающих щучар, выламывая тройники из их деревянных пастей пассатижами. Потом оказалось, что Настя ведет переговоры со школой о своем распределении и что при всем встречном желании школы места нет, но в конце зимы открылась неожиданно вакансия учителя биологии и директор таинственно пригласил Виктора и спросил, не знает ли он случайно адреса той самой осенней студентки, на что скрытный Витя выпучил глаза и сказал, что знать не знает, но поискать может.
Весной он снял ее с парохода, и снятие это носило столь яркие и характерные черты, что не описать его нельзя. Витя рыбачил на Катанге и собирался заранее выехать к пароходу, но у него сломался мотор, который он погрузил в лодку, и, сплавляясь по обвальному весеннему течению, крутил болты, с досадой поглядывая на часы. Оторвавшись от разобранного редуктора и разогнув затекшую шею, он увидел медведя, копающего корешки на пабереге, и не иначе того самого, который разорял его избушки и не давал проходу. Очень медленно и тихо он поднял карабин и добыл его, а поскольку времени обдирать и разделывать не было, завалил медведишку на нос «прогресса», собрал редуктор и поехал в деревню, где поспел к пароходу как раз в момент, когда тот, сделав оборот, вставал на рейде.
Когда мужик безо всяких медведей выезжает к пароходу, то весело балагуривший пять минут назад на берегу, по мере приближения к судну он начинает непоправимо деревенеть, деревенеет рука, сжимающая румпель, деревенеет косой разворот плеч, но особенно меняется лицо, в непосредственной близости борта приобретающее запредельную, орлиную невозмутимость. С палуб смотрят спортивно одетые молодые люди, сногсшибательные девушки, а у кормового трапа бедняга встречаемый, по-городскому бледный и прибитый дорогой, в радостном отчаянье ищет ответного взгляда, а взгляда нет, и нет даже лица, есть лишь кусок прибрежного камня, угловатого кремнюгана, избитого льдами и выражающего крайнюю форму самоустранения и растворения в окружающей чехарде волн, реве мотора и всем заплечном многоверстье. Можно представить, какую мезозойскую окаменелось являло обветренное лицо Вити, когда он поднесся к пароходу с кровавым медведем на баке.
Свадьбу сыграли быстро. В совет ввалились в окружении костюмированных бородачей и их нарядных жен. Рядом с Виктором стоял Геннадий в пиджаке, с лохматой бородой и красной лентой через грудь, все топтались неуклюжей перевалочкой, теряя равновесие в тесных и непривычных туфлях, а Витя напряженно блестел глазами и держал за руку порывисто вздыхающую Настю. Внутреннее развитие их дружбы, дальнейшая семейная подноготная столь тщательно охранялись Виктором от посторонних глаз, что исключает какое-либо вторжение и позволяет сосредоточиться на главной теме повествования — отношениях героя с пространством, вскоре обогатившимся новым звуком — протяжным мычанием коровы по кличке Черемуха.
После свадьбы Витина жизнь изменилась коренным образом. Нельзя сказать, что он не любил порядок, он его любил и даже иногда наводил, но уже через несколько часов в опустевшее и голое помещение вдруг прорывался десять на двенадцать ключик, выложенный из кармана, потом топор, который следовало наточить, а потом шло в наступление все остальное, завершаясь прорывом какого-нибудь забастовавшего мотора, резко и холодно пахнущего выхлопом, который тут же обращался в груду запчастей и лежал во всей роскоши трудового и приработанного металла, в масляно-лиловом отливе шестерен и угольных осыпях копоти, и к этому примешивались стружки от будущих лыж, тут же висел самолов, сети в стадии посадки и валялись берестяные поплавки — строить отдельную мастерскую времени не хватало, да и нравилось, просыпаясь в полутьме, видеть эти, ждущие рук, предметы.
Когда пришел с охоты, своего дома не узнал. Печка была густо выбелена с синькой, откуда-то взялся сервант с зеркалом и рюмками, на полу лежал ковер, кухня стерильно белела эмалью, везде висели глаженые полотенца, стол пустынно поблескивал новой клеенкой, а на ровно застеленной кровати пузатилась аккуратная рыжая кошара. Сидел обалдевший и осоловелый с дороги, пока на стол выползали дымящиеся пельмени, матовая, морозно дымящая брусника не блюдце, соленая черемша, а следом и бамкнулась запотевшая, скромно булькнувшая бутылка.
Раньше мужики заходили законно и бесцеремонно с водкой и закуской — безбабное место сбора автоматически считалось общественной собственнностью, а его простой преступлением. Если у кого-то в отпуск уезжала баба, заранее предупреждали: «Моя скоро уедет — готовьтесь». Когда же баба появлялась, мужиками овладевала такая же повальная тактичность на грани бойкота, если и приходили, то с десятью стуками, мялись, вызывали в сени и всячески показывали, что не намерены нарушать счастья, и невероятно жеманничали, кроме Геннадия, чьи посещения носили характер проверки и были обратной стороной той же товарищеской заботы. Заваливал он с демонстративным и решительным стуком и крепко сидел, рубя правду напропалую, и уходил тоже настолько решительно, что Настя однажды спросила: «Может, он на что-то обиделся?» — на что Витя только хрюкнул.
Бывало, задерживался у мужиков на гулянке, и Настя относилась к этому без осуждения, и сама участвовала в бабьих посиделках, затеянных в подражание и некоторую пику мужикам, куда ее забрала Брониха, плотная молодая баба с лучистыми глазами и очень сильным голосом. Вернулась Настя необыкновенно веселая, с какой-то несусветной частушкой на устах, что-то городила, щебетала, хохотала, а потом прилегла на кровать и мгновенно заснула, пробормотав: «Ну ты мне сделаешь полочки? Е-е-пэ-рэ-сэ-тэ!» Наутро Витя сам подоил и убрался в стайке и долго отпаивал Настю крепким и сладким чаем.
Мишку рожала в районе, откуда их троих привезли на вертолете. С именем вышла история: Виктор, в один голос одобряемый мужиками, хотел назвать Ермаком, но Настина мать взмолилась, писала, что Ермак — это не имя, а производная от Еремея кличка, что «всю жизнь человеку загубите», и, чтобы избавить Настю от лишней нервотрепки, назвал Михаилом в честь ее деда.
Мишка спал в кроватке, а Настя лежала рядом, полногрудая, как молоком полная радостью, светящаяся даже в темноте и такая странно-обостренная, что казалось, вот-вот заплачет. И в том, как она вскакивала на Мишкин истошный скрип, в этой звериной готовности он узнавал и вспоминал то, что видел у кошек, собак, коров, то, что всегда так поражало его в Ветке, когда она выбегала из кутуха, откуда доносилось нутряное, густое с провизгом, ворчанье, и, оправившись, возвращалась с близоруко-внимательными глазами, устремленными, нацеленными на ворчащую тьму кутуха, с ушами, питающимися этим ворчаньем, то остро стоящими, то вдруг обессиленно приопущеными в знак светлой покорности доле и священной глухоты к остальному миру, и, когда в этот теплый, как печь, кутух ее втягивало могучей тягой материнства, он взрывался ответным ликующим воркотком и успокаиваясь, еще долго всхлипывал и вздрагивал, как потихающий Енисей.
3
Уходя на охоту, Виктор оставлял Насте огромный дровенник наколотых дров, сенник сена, воду ей привозили, постоянно прибегала Брониха с какой-нибудь новой моделью рыбника, да еще соседи таскали то омулей, то налимов.
Об одном из соседей по кличке Леший следует сказать особо. Был он рыбаком, но не в книжном понятии — эдаким задумчивым отшельником с вечно развешенным неводом и неуклюжим баркасом, и не в исконно енисейском — в духе стариков, зиму промышляющих налимов удочками и с лета неизменно тугунящих прямо под угором среди лодок, которые неспеша обходят с неводной веревкой в руке, раскатав сапоги. Год для них — чередование разных рыбалок, и каждая рыба, будь то стерлядка, тугун, нельма или селедка, за которую они и зовутся сельдюками, перевязана с воспоминаниями детства, перепета словечками, освящена крепкой привязью к Батюшке-Анисею, его непередаваемой металлической правде, в которой серебро селедки перемешано с оловом неба и ртутью водной глади и овеяно великим покоем и детской простотой. Не похож был Леший и на обычных мужиков-самоловщиков, как по расписанию ездящих на ловушки, чтоб висеть там скопом и в случае опасности скопом и удирать, и так же по расписанию выезжающих на пароход продавать рыбу. Леший тоже продавал, причем по каким-то своим темным каналам, но главной в его рыбалке была не выручка, а какая-то тоже своя сверхдобыча, состоявшая в бесконечной деловой насыщенности времени, в азарте ради азарта. Остановка для таких людей смерти подобна, они рушатся в работу, словно обманывая себя, их трудовая одержимость сродни запою, и Леший тоже не мог остановиться и несколько раз по весне вываливал на край деревни подтухшие фляги селедки, которую не сумел ни съесть, ни продать.
Рыбалки знал досконально, все было отработано до мелочей, которых, как в любом деле, тем больше, чем глубже вникаешь, но вывешивание грузов для самоловов и верховых плавешек, палая или прибылая вода — все было в прошлом, и его профессионализм шел в направлении экономии времени, автоматической стремительности действий и точнейшего отклика на любой полезный вздох Енисея. При всем азарте был в нем и свой холод, будто набранный от бесконечного количества холодных рыбьих тел, кишок и икр, прошедших через его руки, небольшие, белые и словно пропитанные сырой стужей придонных бездн, где во тьме шарят бронированными рылами огромные осетры и склизкие налимы пожирают все подряд, не брезгуя утопленником, которого Леший раз поймал на самолов, брезгливо сдернув с крючка.
Особенно активизировался он в распутицу, весной и поздней осенью: весной, по льду, едва уходил Енисей, — чтобы успеть на первую стерлядку, и осенью, по шуге — на последнего омуля. Уже все вывозили лодки, а он рвался, будто его тянуло, и особенно поражало это в октябре, в мороз, когда на своей черной стремительной «обушке» какой-то редкой пробной модификации с особенно острыми, летящими обводами с железным грохотом ломился и метался меж зеленых льдин и растворялся за столбами пара, как в преисподней. И была особая странная прыть в этих его ледовых вылазках, он пропадал неизвестно где по полнедели, тонул сам, топил моторы, упускал лодку с оторвавшимся притором и всегда выбирался все в том же непобедимом азарте. Гонка кончалась кратким запоем, из которого он выходил, не болея, — здоровым и сыто успокоенным.
Вваливался с рыбой, бутильком спирта, кривой улыбкой и шалым взглядом, начинал сразу что-то долго и подробно рассказывать, причем каждая подробность дробилась до бесконечности и рассказ обретал угрожающую протяженность. Улыбочка была на лице, и когда здоровался, и когда прощался, и всегда не касалась глаз. Глаза непроницаемо отливали стеклом, плоским, оконным, и временами казалось, что из этих окон кто-то выглядывает, особенно когда лицо смеялось и выглядывающий хотел узнать, верят ли.
Была у Лешего привычка спрашивать очевидные вещи, тоже будто проверяя.
— Настя, где Витек?
— Под угором.
— Но-но. А я и смотрю, что под угором.
Одно время Леший очень искал Витиной дружбы, бывало, то один, то с женой заходил по-соседски, заваривал общие дела, и даже стиральная машинка у них была сборная — их бак и Витин мотор. Был дружелюбен, щедр, но вдруг машинка исчезла, а потом и Витин «вихрь» из сараюшки, и по тому, как Леший прибежал с утра с просьбой похмелить, по особой врачебной внимательности, с которой проверял, подозревают его или нет, по совпадению дат пропаж и его пьянок было ясно, кто вор. Чудил он лишь по пьяни, по трезвости решимости не хватало, и он лишь намечал добычу, а уж добывал в мутной водице запоя. Сам все время навязывал свои вещи, то ли пытая, то ли усыпляя бдительность. Мотор он скорей всего сплавил на сторону или разобрал.
Всплыли еще подробности, и, когда Леший снова приперся в дрезину пьяный, Витя выкинул его с крыльца, несмотря на слезливые крики и попытки обратного прорыва. Леший впал в бегучий истерический запой, бегал кругами по деревне, отвергнутый и жалкий, получил кличку Шатун, и чем сильнее его гнали, тем сильнее лез, не понимая, что необязательно застать за воровством, чтобы в нем уличить, и недоумевая, как небольшая рокировка материальных ценностей смогла нарушить уютную соседскую дружбу.
Через дом от Лешего жил Геннадий. Был он лет на десять старше Виктора и с трудолюбием совсем иного толка, чем Лешевское, казалось ли оно светлей, осознанней, или сам обладатель слишком внушал симпатию, чтоб его с кем-то сравнивать, но жил он плотно, трудно и набрав такой трудовой разгон, что уж не сойти на ходу и на полдороге, и почему-то чем глубже погружался в работу, тем больше интересовали его люди и их судьбы.
В лице его была тонкая и крепкая порода, что-то старинное, то ли разбойничье, то ли казацкое. Чем-то он напоминал старика из «Страшной мести»: резной нос с горбинкой, глубокий посад глаз, грозные брови, впалые синеватые виски и руки — несмотря на постоянную работу — небольшие и сухие. Во всем облике его, в том, как заправлял рубаху, как мотал портянку, в движениях, сильных и одновременно тягуче-плавных, была та русская ладность, которую так тонко чувствовали старинные писатели. Однажды он откуда-то вытащил и проносил весь покос кепку — допотопную, из очень плотного, наподобие парусины, бело-розового материала, и в тон к ней вдруг появились аккуратные кожаные сапоги и портки — серые в черную полоску. По ухватке, по строю мысли, по отношению к хозяйству, деньгам и семье с охотницким форсом соседствовали у Геннадия крепкая жила — от купцов ли, кулаков, от богатых хозяев, — своя скупая рациональная сила, своя философия и свое раздражение к глупому миру.
Но самое удивительное, что родился он в Боготоле, потом жил в Удмуртии, где отец работал на заводе, а потом до отъезда в тайгу в Красноярске. И если все его крестьянство было изначально врожденным, доставшимся памятью крови от прадедов, сохраненное, накопленное, дождавшееся часу и только позже осознанное через людей, книги, песни, то откуда взялся переданный с такой сословной точностью дух прижимистого и сильного хозяина? Виктор еще давно заметил, как вроде бы книжное, целиком принадлежащее классике, оказывется лишь подмеченым, краем зацепленым писателем и живет само, объемно и вольно, несмотря ни на какие исторические перипетии. Был у них мужичок, Женька, когда-то после измены жены севший в «одной курточке» на пароход в Казани и уехавший навсегда. Прошедший полный круг экспедиций, запоев и зароков, он повесился под Новый год в своей избенке — на крюке, ввинченном в потолок. Задолго до роковой ночи он приговаривал: «А крючочек-то у меня давно привинченный» — совершенно в тоне Достоевского, которого не читал.
Промысел, плотницкое дело, собак — все Геннадий знал досконально, но заниматься чем-либо с ним вместе было невозможно, он все время подглядывал, придирался и ворчал, а в острой ситуации грубо орал, а потом, у избушки, гулко отшмякивая от чурки полено за поленом, напевал дрожащим баском что-то несусветно-воровское или кабацкое. Книги любил, вроде «Амур-батюшки» или «Угрюм-реки». Считал, что на его участке все самое лучшее — самые темные соболя, самые крупные ленки, самые жирные сохатые и олени, самая богатая ягода, и всегда находился в двойственно-комичном положении и попадал впросак: с одной стороны, не мог удержаться и не похвастать размерами рыбины, а с другой — страшно опасался нашествия товарищей на рыбалку или по ягоду. К Витиному отъезду на Кондромо отнесся с одобрением и хорошей завистью, сказал даже, мол, младшего сына определю на учебу и тоже в тайге отстроюсь.
Вставал ни свет ни заря и к еще не женатому Виктору припирался в шесть часов за угольником, возмущенно рыкнув: «Ты чо, спишь, что ли?» Казалось со стороны, что он почти не отдыхает, но на самом деле ему просто нравилось утро, а после обеда он пристраивался на диван, в чем ни разу не был уличен, потому что, заслышав стук, всегда заблаговременно вскакивал. Любили этого редкого человека за его прямоту, честность и то отношение ко всему, чем занимался, которое нельзя назвать иначе, чем высоким.
4
Виктор всегда осуществлял свои плодящиеся, как матрешки, мечты, сначала приехав на Енисей в экспедицию, потом став охотником и разбив свою жизнь на поселковую енисейскую и катангскую таежную половины и наконец заведя семью и хозяйство и означив последний пункт жизненного строительства. Но он не был бы Витей, если бы, едва уйдя на охоту, не ощутил бы признаки нового душевного неудобства.
Он вспомнил прошлогодние разговоры с Настей по выходе из тайги, когда ее слова о быстро пролетевшем времени поначалу успокоили, почти оправдав разлуку, а потом навели на размышления. Однажды он попал в больницу и заметил, что, несмотря на невыносимую нудность распорядка, время на удивление быстро катится, обманутое одинаковостью дней, совершенно пустых событиями и сливающихся в одну тусклую картину. На охоте каждый день длился непомерно и к вечеру настолько переполнялся содержанием, что утро казалось бездонно удаленным переходом в другую избушку, небесным переворотом, полностью изменившим цветовую обстановку, и погоней за соболем, ослепительно бесконечной и длившейся всего двадцать минут. Он представлял ночной поселок, вой ветра, мрачный провал Енисея, полный ледового грохота, и свое отсутствие, сливающееся для Насти в один монотонный день, занятый растопкой печки, уборкой в стайке, кормлением Мишки, возней с бельем, водой и дровами. И все его таежное существование показалось предательством, а внутренний лад охотника кощунственной прихотью, и хотелось растянуть, раскинуть этот лад над своими близкими, простереть и на них мощь небес, свет бескрайних пространств и очищающий жар одиночества.
Не беря староверов, для которых жизнь в тайге с семьей привычное состояние, подобная мечта посещала каждого настоящего охотника, но мало кому удавалось ее воплотить. Кому-то не хватало решимости, а годы шли, и вскоре становилось поздно: кого-то удерживали жены, кто-то сам недостаточно хотел. Витя ходил вокруг этой затеи давно и с нарастающим упорством терзал охотоведа, невыского рыжего мужика со звучной фамилией Окоемов, жившего в соседнем поселке на главной усадьбе госпромхоза.
Огромная Катанга впадала в Енисей с правого горного берега, на ней не было ни одного поселка, лишь на трехсотом километре у острова Кондромо стояла подбаза Илимпейской экспедиции, давно собиравшейся уходить. Именно это место и предложил Вите Окоемов.
Подбаза принадлежала сейсмикам, бившим по тайге профиля и зимой пускавшим по ним трактора со специальной установкой для направленных взрывов, результаты которых фиксировались с разных точек, и по характеру прохождения волн делались выводы о геологических структурах и залегании полезных ископаемых в тунгусской синеклизе. С Золотоверхом, начальником сейсмиков, у Окоемова были свои отношения, они куда-то летали, крутили дела, а осенью забрасывали на экспедиционном вертолете охотников. Вообще в пору расцвета экспедиции дело с летными часами в ней обстояло восхитительно, деньги выделялись громадные, и вся жизнь района кипела на них, «освояя средства2», чтоб их не урезали на следующий год. Поэтому, если надо было привезти пуговицу от порток старшего бурового мастера Колбасенко, заводили МИ-восьмой и везли пуговицу, снижаясь и зависая над речками, где сквозь неистовый ветровой накат лопастей отлично просматривались торпеды стоящих на мелководье тайменей, на которых, подсев на косу, и отводили душу.
Кондромо имело исключительно выгодное расположение: устье Нимы, небольшой речки, с покосами прямо возле дома, переход сохатых и огромное количество экспедиционного барахла — емкость с соляркой, запас масла, сломанный вездеход, сломанный трактор, доски, листовое железо, колонковые трубы, пара брусовых бараков, рубленый дом с кирпичными печками и двухцилиндровый дизель-генератор ЧА-2, так называемый «чапик». Когда Витя увидел столько добра, руки у него затряслись, а Окоемов сказал: «Пока рот закрой, а что не заберут — останется, потом разберетесь, здесь половина списано».
Забрасывали Витю в начале лета, в два приема. Сначала увезли с семьей, скотиной и частью груза, а через неделю приперли остальное, причем несмотря на то, что все было приготовлено Виктором и лежало на тракторных санях, умудрились загрузить не ту лодку, забыть половину отобранной на сады картошки и чуть не потерять убежавшего в гости Золотоверха, которого в конце концов привезли к вертолету в коляске мотоцикла с отдельно болтающейся головой и литром самогона, немедленно допитого по дороге с Окоемовым, так что по прилету и от краснорожего и необыкновенно деловитого Окоемова, и от раскладного Золотоверха толку не было, и весь вертолет Виктор разгрузил вместе с бичом Пронькой.
Этот напоминающий Ноздрева, черный, вихрастый, с коростой в ушах, Пронька поначалу насторожил Митю своей заискивающей повадкой, но впоследствии оказался человеком добрым и надежным. Он охранял трактора, маясь от безделья, и вдвоем с Витей они быстро отремонтировали барак под стайку, посадили картошку и перебрали коробку у вездехода.
Потом прилетело еще пять человек: Петрович, или Стас Китастый, прямой, уважаемый и очень порядочный мужик с Волги, из-под Камышина, которого Витя знал еще по поселку, где он одно время жил. Никарагуа — страшный шалапут, небольшой, упругий, как пузырь, энергичный и задиристый. Пожилой взрывник по кличке Копченый с широкой опаленной мордой и крючком хрящика вместо носа. Ми-Четыре, молодой громадный мужик, бритый наголо, с очень покатым лбом, круглой головой и безумными бледно-серыми глазами. Покать лба у него была необыкновенная, место крепления бровей являло острейшую грань наподобие бульдозерного ножа, и казалось, такой головой можно валить деревья. Прозвище его происходило от привычки в рассказе рубить руками над головой, как лопастями. Завершал компанию сварной, невзрачный паренек по кличке Тунеядец, или Туник, на редкость работящий и безобидный и вечно теряющий носки, которые Ми-Четыре прятал и вдобавок приколачивал к полу его калоши, так что, когда тот в них влезал, с первым же порывом ноги падал с бессильными матюгами.
Прилетели они абсолютно пьяные, весь следующий день допивали, с жаром обсуждая питье во время сборов и пьянку необычайного размаха, разразившуюся уже на площадке. Ее главным действующим лицом был некий Остохондроз, устроивший всем какую-то настолько несусветную «подлянку», что имя это произносилось с оттенком осточертенья, как Осто- или даже Настохондроз. Копченый, сочно картавя, рассказывал, как Ми-Четыре попросился порулить в вертолете, Ми-восьмом, что вызвало у маленького Мишки приступ такого смеха, что его хватило на всю зиму. Когда Ми-Четвертому разрешили, он перед броском в кресло сделал торжествующее движение руками, что-то наподобие победного жеста спортсмена — схватился за воображаемые тракторные рычаги и воздел кулаки к небу. Посидев в кресле и осторожно подержавшись за «швабру», он вылез довольный и подарил командиру будильник.
Самое страшное началось на второй день, когда все прикончили, включая аптечки и Настин запас лосьонов и одеколона. Больше всех страдал Ми-Четыре, чуть не выпивший йод, и то и дело срывающийся на судорожные поиски в ящиках и помойках. В бараке в злом упоении восседал на раскладушке Никарагуа, бледный Стас качал головой, Туник искал носки, а Копченый пытался кидать спиннинг, но сделал бороду и потный вернулся в барак. Тут откуда ни возьмись свалилась выборная «восьмерка» с главным инженером экспедиции и районным помощником в костюме, привезшими урну для голосования — какие-то у них в поселке заварились довыборы. Урну почему-то не выносили, уговаривая голосовать в вертолете, но никто не двигался с места. Стас что-то втолковывал инженеру на ухо, тот кивал на помощника, помощник, привыкший, что ему везде самому наливают, орал и играл желваками, пока вдруг Никарагуа не рявкнул: «Никуда мы не пойдем! Валите отсюда на х…!» Инженер застыл, театрально разведя руки и поглядывая то на помощника, то на Никарагуа, а кончилось тем, что оба сели в вертолет и ни с чем улетели.
Все эти Никарагуа, Ми-Четвертые и им подобные пахали как проклятые всю зиму в тайге, а летом их вывозили месяца на два в поселок, где они, получив деньги, пили до упора, пока их снова не забирали. Можно было зайти в любой экспедиционный барак, и сидящая вокруг ящика со спиртом братия загребала тебя размашистым гребком руки и подвигала единственный стакан с примечанием, что здесь не красны девицы собрались, так что лей сам, братка, как тебе надо и как ты любишь.
Стас вовсю занимался своим трактором, висящей на талях серо-лиловой «соткой», под которой лежало такое количество гигантских, каких-то доисторических частей, крестовин и раковин, что было непонятно, как их поднимать, не то что ставить на места. Витя, питавший особое пристрастие к дизелям, помогал и обсуждал очередную мечту — большую деревянную лодку с дизелем, в то время как Никарагуа с Мишкой занимались квадратным желтым «сто тридцатым». Мишка целыми днями торчал среди валов и коробок, подавая болты и гровера. Комары его не жрали. Здорово помог Туник, переделав с Витей все сварные работы и обложив его печками, якорями и прорвой других приспособлений. Витя дооборудовал ненужный балок и договорился, что когда ребята пойдут, то подцепят его и бросят на профиле.
Несмотря на развороченный берег, на ручей, разъедающий взвоз, на всю загаженность улитой солярой и заваленной ржавым металлом земли, Вите страшно нравился этот летний дух раскаленного чугуна, перегретого масла, жирных солярных паров и всего того, что источает подобная затрапезная помойка и чего нельзя назвать иначе, чем запахом тлена и забвенья, рано или поздно ждущего такие подбазы, которые сразу же после их закрытия поглощаются тайгой и лет через двадцать ничто уже не напоминает о них, кроме молодого березника, если, конечно, венец творения не находит под ними чего-нибудь лакомого.
Осенью, разметав винтами зарод сена, прилетел топотряд с двадцатилитровой канистрой спирта, и, когда она опустела, снова бегал Ми-Четыре в поисках «лекарства», снова свирепел Никарагуа и метал спиннинг потный Копченый, а потом топотрядовцы выгнали откуда-то из тайги вездеход, семьдесят первый газон, поставили на него палатку и уехали рубить профиль куда-то на северо-восток к Дигалям на Нижнюю Тунгуску.
Уже лежал снег, уже началась охота, а по базе бродили с железяками какие-то новые неизвестные личности, и несмотря на дружбу и помощь осточертела вся эта шобла хуже любых комаров, и последней каплей стал беззубый дед с пегой бородой, наивно выкативший синие глаза:
— А ничо, если мы здесь капканчики пдабдосим?
И наконец день этот настал. Стояли морозы градусов под тридцать, и все было хрустально-голубым, и тайга, и остров, и берега, и новое полотно Катанги со стеклянными торосами и ворсисто-синими гладухами, и кружевной ледок в распадках, осыпающийся с сухим шелестом в пустоту, под которой в далекой колодезной глубине билась в камнях серебряная жилка ручья.
Трактора уже несколько дней молотили на холостых, и висел ровный согласный свисто-рокот, от которого тряслись стены, передаваясь по земле, как по глухой и твердой подушке, и сыпался куржак с заиндевелых лиственниц. В то утро техника уже стояла ревущей колонной, долго выруливая и разворачиваясь, и во время этих маневров отдельно от рева двигателей лилась морозная песня гусениц, катков и ленивцев, острая и сухая мелодия, состоящая из свиста, скрипа, кляньканья и колокольного перезвона ледяного металла. В то утро все, включая Настю, столпились у Стасовой «сотки», где возбужденные мужики, стыдясь прощания, весь его жар перевели на Мишку, который все эти дни не отходил от тракторов несмотря на на хиус, тянущий с Нимы.
— Ну давай, Михайло! Держи кардан!
— Маме будешь помогать? Ты мужик?
— Музик.
— Ну так вот.
Каждый, кроме временно остающегося Проньки, садился на корточки и протягивал руку, а Ми-Четвертый сгреб Мишку своими лопастями, а когда поставил на место, вдруг захлопал глазами, отвернулся и, сняв с руки, протянул часы, а через полгода Ми-Четвертого насмерть придавило сорвавшимся с талей ГТТ.
Возясь с кулемкой на путике, Витя слышал в морозном воздухе самолетный рев удаляющихся тракторов, грохот Стасовой «сотки» и пение турбонадувных «сто-тридцатых». К вечеру они перевалили сопку, и с утра на Кондромо стояла полная тишина — свист сидящего в версте рябчика резал воздух у самого уха.
Ночью за тракторами убежал Кучум, не выдержав разлуки с гонными сучками, пришлось догонять караван на «буране», с матюгами ловить обезумевшего кобеля, успевшего до крови подраться со Стасовым Серым, и волочь ловеласа назад, причем бежать он не хотел, с сиденья вырывался, и Виктор привязал его на веревку, оглядываясь, тянул малой скоростью, и раз, зазевавшись, едва не удушил.
Охота шла полным ходом, и, пробежавшись за несколько дней по избушкам, Витя возвращался на Кондромо, уже ставшее столицей, домом, и, скатываясь с увала на стрелку Катанги и Нимы, видел стерильную поляну с серыми постройками, вездеходом, струйкой дыма над баней и отчетливо тарахтящим дизелем. Огромная река белела крошевом торосов, заморенным кедрачиком чернел остров, и над ним вздымалась белоснежная гора с длинной волнистой вершиной и великолепным изгибом склона, серповидным и будто выбранным огромным и острым теслом. По склону до половины лепилась таежка, а верх был меловым с аскетической чернью камней и скал.
В сентябре до снега россыпи на вершине, шершаво-серые вблизи, сквозь синюю дымку казались глубоко-фиолетовыми, но обычно гора была затянута тучами и виднелись лишь высокие берега реки, желтая рябь которых все больше принимала седой, светящийся оттенок, и тайга казалась свирепо опаленной — не то надвигающейся стужей, не то сухим туманом и белесой напылью туч.
Виктор скатывался с хребтика, скрипя юксами и чувствуя игру широких и мохнатых лыж, гибко проседающих под тяжестью поняги, в которой что-то топорщилось, торчала мерзлая соболиная лапа с когтями и густой черной подошвой и рыжее крыло копалухи. Навстречу бежал Мишка, отбиваясь от собак и бросив веревочку с деревянным вездеходом работы Ми-Четвертого. Витя втыкал с снег лопатку-посох, брал сына на руки и прижимал к похудевшему бородатому лицу, ко льдышке усов, а Мишка говорил: «Ты лыбой пахнешь», потому что был отец прокопчен костром и пропитан дегтярным чадом бересты, которой выкуривал из корней соболя.
Виктор подскрипывал к дому, снимал тозовку, понягу, отряхивал закуржавленный до пятнистой перламутровости азям, вынимал ноги из юкс и, постучав друг о друга лыжи мягкими камусами, втыкал в снег. Визжали и вились собаки, кидаясь то на Мишку, то на Витю, причем Кучум орал и скакал со всей мужицкой дурью, а Дымка загибалась по-лисьи и, подхалимски валясь на спину, заходилась в рыбьем терпете. В облаке пара из двери выбегала Настя и, растопырив белые от теста руки, прижималась, тыкалась лицом.
— Сразу есть будешь, или в баню сначала?
Оба были другие, потемневшие и похудевшие, лица их будто сжались, подвялились, где припав к костям, где налившись рельефно, крепко и смугло.
Витя проходил через сени и оглядывал штабеля ленков и налимов, которых всегда, поймав, замораживал, окунув в воду, обваливал в снегу, и они лежали в ледяном чехле и не быгали. Рядом с рыбой стояли туясья с брусникой и клюквой, лежал желтоватый круг молока, на вешалах висели копалухи и косачи, а с дров свешивались похожие на башмаки щучьи головы. Когда рубил собакам на варево щуку на крупные косые куски, каменный кругляш внутренностей выпадал с костяным звуком, а мясо было на срезе белым, как мрамор, а на сломе — шершаво волокнистое, как грубая бумага. Полумерзлая таймешатина в глубине разреза была арбузно-малиновой и зернистой.
Распаренный Витя в чистой рубахе сидел за столом, говоря что-нибудь вроде:
— М-м-м, мать, хле-еб сегодня!
— Да? — отвечала Настя. — Я маленько по-другому закваску сделала…
— Ты как делаешь? — спрашивал Витя, и она объясняла, а он пристально слушал и кивал: — Но-но, правильно. Ну давай, мама! — и поднимал кружку кисло-сладкой, шипучей браги и чокался с Настей, и, привстав, целовал ее в губы, а другой рукой теребил Мишкину макушку. А выпив, закусывал пельменями и продолжал: — Эта дорога, ну я тебе говорил, край тундры, дает хорошо, я ее продлю. Ну иди, иди ко мне, Мишастый, маме помогаешь? По-мо-га-ешь? А снег ешь?
А Настя отвечала:
— Помогает, только не слушается. Да, вот что, Витя, мыши меня заели наглухо. Кричи Окоемову, пускай нам кота присылают. Когда они летать-то будут?
Витя выпивал еще кружку и неторопливо включал рацию.
— Шестнадцатый! Шестнадцатый — Кондромо! Мужики, помолчите маленько! Шестнадцатый Кондромо!
— Земляк-Шестнадцать, тебя Кондромо вызывает!
— Да! На связи, Кондромо! Как дела у вас?
— Нормально! Михалыч, ты меня хорошо понимаешь? Ты, это, когда облет будет, пришли кота мне, понял, да?
— Не понял, забили! Повтори!
— Кота! Ко-та! Кошака!
— Ково! Ишака?
— Да! Да! — заорал главный острослов с позывным Ветвистый. — Имя2 двух скотин мало! Ишака просят!
— Ну все, подцепились, — покачал головой Витя. — Шестнадцатый! Кота! Кота, японский бог! Кузьма! Ольга! Татьяна! Андрей! Котяру! Понял? Котофея! И спирта бутылку! Ветвистый, продублируй!
— Ну понял, понял, Кондромо, — улыбающимся голосом ответил Окоемов. — Тебе какой масти-то?
Тут началось:
— Бурмалинова с продристью!
— Серого в яблоках!
— В грушах, Девятый! В грушах!
— Баргузу! Первый цвет!
— Кондромо, валерьянку готовь!
— Не присылай, Шнадцатый! Он его сразу на пялку, как соболя!
— Околебали с этим Кондромо, — встряла чья-то рация со сбитым тембром, так что голос был смешно басистым и сипло-дрожащим, — мы месяц без сахара сидим, медведь разорил, а имя котов возят!
— Михалыч, жирного не отправляй, съедят!
Виктор попробывал сменить тему:
— Земляк-Шестнадцать — Кондромо!
— Отвечаю, Кондромо!
— У вас чо там творится? Самолеты уже садятся на лыжах?
— На коньках, Кондромо! — орал Ветвистый — Ты лучше скажи, какой породы киссинжера везти?
— Сибирского!
— На хрен сибирского, он всю накроху сожрет и в деревню свинтит!
— А по дороге путики мои обчистит!
— Кондромо! Бери африканского, лысого! У него блох меньше!
— Брось, Пятый! Блохи — тоже мясо!
— От черти, — сияя глазами, проворчал Витя, выключил рацию, а когда включил через час, из нее доносился чей-то обстоятельный голос:
— Они его, интересно, как попрут, на подвеске? Ведь раскачает — бросать придется!
— На подвеске, Островная! — вопил сиплый. — На подвеске бащще! В салоне-то порвет всех! Это ж зверь!
— Баще, если бы вы все помолчали, — сказал Витя, выключая рацию. — Представляешь, что будет, когда они повезут!
Кота привезли пуржистым вечером, вертолет, сияя огнями, долго заходил на посадку и, сидя, колыхался и грохотал лопастями, пока шел моментальный обмен мешками — Витя сунул свой с пушниной, а ему сунули другой, мягко шевелящийся с твердым булькающим привеском, и проорали на ухо: «Барсик!»
Выскочив из мешка, Барсик забился под кровать.
Потом заваливал лыбящийся Пронька.
— Ну как, охотник?
Выслушав рассказ о «задавной кедровке», лезущей в капканья, и о происках росомахи, которая собрала с путика соболей и не в силах сожрать понарыла захоронок, которые Витя вытропил и рассекретил, Пронька рассказывал о своих успехах — Витя разрешил ему насторожить дорожку на той стороне Катанги — и еще потом долго сидел, взявшись за шапку, и Витя, чувствуя, как неохота ему идти в свой балок, говорил: «Ну давай, Иваныч, еще по кружке», и Пронька выпивал, совсем расслаблялся и рассказывал анекдот, начинавшийся словами: «Чешет заяц по лесу», или какую-нибудь зонскую историю с моралью:
— С Валькой еду на Ачинск в поезде, ага, курить выходим с ней в тамбур, т-та, ёлонье — гаманок лежит! Валька кидь его в карман. Но. Все, покурили. Сидим. Тут идет мужик, расстроенный такой мужик идет, в костюме весь: «Гаманок никто не видел?» Валюха моя: «Ну нет, не видели никакого гаманка!» «От, — думаю, — курвы клок!» «Дай сюда быстро! — говорю. — Вот, возьмите. Ваше, может?» «Как не мое! — мужик аж глазам не верит: — Мое, конечно!» «Как же, — говорю вы так опрочапились?» «Да вот так и опрочапился, да только не в том дело, а пойдемте-ка со мной в ресторан, я хоть отблагодарю вас». А мы не жрамши, не пимши, на билеты последнее истратили. А мужик, знаешь, кто оказался? — Пронька сияет: — Директор Филимоновского комбината! Х-хе! Ни хрена себе! Короче, наелись, напились, как бобики, курить дал, говорит: «Вот те адрес, Прохор Иваныч, — так и сказал: Прохор Иваныч, — вот те адрес. Если чо надо — пиши, не стесняйся!»
Пронька долго качал головой и, сокрушаясь, сколько возможностей упускается из-за людской дурости, обобщал:
— Вот ведь воровитость до чего доводит!
Сел он за два страшных убийства, хотя, по словам Стаса, из-за какой-то заварухи с дракой и ворованными ондатрами. На зоне славился печником.
— Короче, месяц остается. Все — через месяц освобождаюсь. А у нас начальник был. Тевосян. Армянин. Он дачу строил, я ему, короче, камин ложил. Камин, между прочим, исключительный. Исключительный камин. Ага. А он мне верил, ключ от дачи давал — только работай! Нормальный вообще-то мужик был. Хоть и подлец. Ну все, на день работы остается, пришел, покурил, ага… А в буфете бутылка стоит. Коньяк. Пять звездочек. А я не пил. Даже в мыслях забыл. Да и не тянуло. А тут как укололо: дай стопочку шоркну. Одну токо стопочку. Шоркнул я ее… Хорошо. Думаю, чо уж там, давай по второй. Короче, всю уговорил, и тут меня как по башке — до того убежать захотелось, я и убежал. Через два дня поймали, три года добавили. — Пронька качал головой и повторял: — А всего-то месяц оставался…
Вите гораздо больше нравились рассказы Проньки про работу. Например, как они красили какому-то начальнику машину, «Победу», закатили ее в цех, отдраили шкуркой до серебряного блеска и перед покраской раскалили «докр-р-расна», и она светилась, как рубин. По тому, как сопровождал Пронька свой фантастический рассказ мощным движением сжатой в кулак руки, по торжествующему блеску его глаз становилось ясно, что была покрашена отлично эта то серебряная, то рубиновая машина, и поражало, что этот потерянный человек вместо злобы носит в душе лишь драгоценности.
Так же, как восхищали «гидравлические пресса и молота» и прочие могучие приспособления, так же убивало Проньку безделье, и он все время искал занятия и однажды сшил Насте и Мишке бродни с войлочными подошвами. Виктор вошел, когда он натягивал вывернутый замшевой изнанкой передок на круглый нос колодки. Колодка была свежей, со смолистым рисунком — наслоением каких-то красноватых мысов. Пронька, выпятив нижнюю губу и кряхтя, тянул кожу пассатижами, обворачивая вокруг крепкого лба колодки. Кожа белела и морщилась от напряжения, и он шаг за шагом прихватывал ее за край гвоздиками, протыкал шилом и сшивал с подметкой через рант толстой ниткой, а потом пробовал шов большим пальцем, ноготь которого походил на раздавленного жука и был рассечен на несколько надкрылий.
Для Насти у Проньки были свои дамские, приправленные романтизмом, истории, например, как он однажды улетел из зоны, приделав к «дружбе» деревянный пропеллер. Мишка после долгих и скрипучих раздумий поинтересовался, где он взял «автомат пелекоса», на что Пронька сказал, что никакого Пелекоса не знает, а вот из «Калашникова» поливали так, что едва «лопастя унес». Мишка как-то не очень представлял себе самодельный вертолет, и Пронька для доходчивости провел параллель с персонажем одной затасканной детской сказочки, но Мишку это не убедило.
Еще дуя в штаны, Мишка разбирал с закрытыми глазами тозовку, у него был свой верстачок, с карликовыми, но настоящими тисочками, с маленькой ножовкой, молотком и отвертками, да и игрушек хватало, и, если он подбирался к приемнику, папа говорил: «Иди вон трактор разбирай». Сказочки его особо не трогали, любимой книжкой был «Нос», и, когда Виктор читал вслух, всегда просил повторить место, где нос не хочет вставать на место и майор Ковалев восклицает: «Ну же! Полезай, дурак!»
Капризничал Мишка в двух случаях: если не давали жрать снег и когда отбирали фонарик, которым он играл с Барсиком, оказавшимся, кстати, редкостным дармоедом, за все время поймавшим двух мышей и то случайно. Целыми днями он валялся на табуретке рядом с плитой, раскаленный и непристойно раскоряченный, или на кровати, изредка сныривая с нее, чтобы подкрепиться Настиными разносолами, после которых вопрос о мышах отпадал сам собой. Добравшись до фонарика, Мишка включал его, лез на кровать и начинал на одеяле перед котовой мордой чертить лучом круги, на что кот живо реагировал, еще раз доказывая свою дармоедскую сущность и хорошо отличая забаву от дела. Мишка крутил лучом, кот, дурея, носился кругами, пока его не подводили к краю кровати и он не падал на пол, как пьяный. Каждая батарейка была на учете, и фонарь тут же отбирали, и тогда открывался рев, от которого Барсик уносился пулей, потому что взбешенный Мишка был страшен и лупил его нещадно прикладом от игрушечной тозовки. Орал Мишка как резаный, и чем больше увещевала его Настя, тем больше синел, рычал и заходился, так задерживая дыханье, что казалось, вот-вот задохнется. Витя некоторое время ждал, а потом уводил его в мастерскую, сходу заводя какой-нибудь отвлеченный разговор о том, что, мол, зря все-таки ты, Миха, не сделал для этого трактора фаркоп, а Мишка еще продолжал вопить, но уже хитро подглядывал сквозь слезы, а через минуту серьезно и обстоятельно объяснял, что фаркоп давно сделан, но сломался.
В сильные морозы Витя старался быть дома. «Что же они тебя давят-то так? — говорил он Насте. — Ну жмет, подумаешь, в Антарктиде вон сидят мужики — и то ничего. У нас хоть лес рядом». Еще с вечера сползал теплый кожух с неба, и оно становилось таким нагим, что, казалось, к утру космос вытянет с земли все живое. Яркие, мигающие на разные лады, то желтые, то белые, то зеленые, то электрически искрящие красным и синим звезды шевелились, притухали и вспыхивали так отчетливо и близко, будто перед лицом кто-то менял разноцветные стеклянные пластинки.
С утром воздух был хоть лопатой отваливай. Пар врывался в избу, прокатываясь по полу седыми ядрами. Это новое крепкое вещество было повсюду, то гудя у лица белой трубой, то трепеща молочными лоскутами. Все время возле рта шла какая-то клубящаяся борьба, что-то не то добывали из кристаллического воздуха, вырывая и завоевывая в нем какие-то новые объемы, с шелестом осыпающиеся, не то хватко заворачивали в очень хрусткую бумагу, а оно топырилось и рвалось вон. Ночью пар у лица был еще плотней и застил небо темной птицей. Мишка, похожий на кулек с завязанным ртом, потолкавшись на улице, возвращался домой, собаки дымно курились носами и ртами, а Дымка, вылезая из кутуха с серебряным, как у росомахи, надбровьем, крутилась на одном месте на трех лапах с ужасающе бездомным видом. Запахи, настоенные на спиртовой морозной основе, врезались и ворочались в ноздрях ледяным лезвием, вкус дыма множился и наваливался тысячью оттенков — запахами жилья, костра, ночных городов и вокзального бездомья.
Когда поворачивало на тепло, постепенно, через сорок, тридцать пять, тридцать градусов, серело небо, трезво приближались берега, мутно глядело солнце, и все лишалось четкости, делалось мягким, катким, будто оплавленным и смазанным теплым салом, податливым, как тело после крепкого жара. Тайга с каменно-белыми шапками валежин и кочек, бурановские дороги в кирпичато-четкой выштамповке гусениц, на века вырубленные широченные ступенчатые лыжни с отпечатками межкамусных швов и ямками от юкс, похожими на оттиски фасолин, теперь вот-вот должны были уйти под косой нависающий снег, покрыться как талым мороженым своим округлым повторением.
В конце января, когда несмотря на неумолимые морозы растущий день сочился во все щели неба, забрали Проньку, и Витя с Настей и Мишкой наконец остались по-настоящему одни.
Когда Виктор бывал дома, быка и корову всегда водил поить сам. К синему окну, сквозь которое виднелось цветное дно в камнях и где все струилась, заворачивалась вода, такая плотная, что, казалось, ее можно вырезать и она будет лежать на снегу вздрагивающим дымчатым пластом, утеряв все свое многоцветье. Рядом в закуреине он прорубал дырку и подергивал в ней блесной, пока не пронзала руку бьющаяся тяжесть и не вырывался из цепкого речного геля темно-лиловый хариус. Остывая, он извивался на снегу, питая его алой кровью, и распускал спинной плавник, тропически аквамариновый и пятнистый.
Не меньшей ценностью, чем кусок мяса или круг молока, казалось ведро воды, почерпнутое из пролубки, жидкий драгоценный минерал, голубоватая плоть, которую Витя поднимал, ощущая живой вес, и переливал плоской струей в бочку с боковой дырой, и она гуляла по темной глубине, как рыба, в то время как синеватая вода в пролубке ходила вверх-вниз прозрачным поршнем.
Соседка баба Гутя рассказывала, как в любой мороз водили колхозных коров поить на Енисей к длинной огороженной жердями и вехами проруби, и тут же сбивалась на рассказ, как вешили дорогу для конной почты и передом шел с возом вех глухонемой Степан. Енисей встал недавно, пар из полыней застилал дорогу, и Степан не услыхал, как «занюхтил» конь, почуяв воду, и тут «под ним все пошло», он соскочил, а конь с возом так и ушел под лед, а им всем «поднесли штрафу». Тетя Гутя работала скотницей, ходила за тридцатью коровами, и все у нее сияло чистотой, коровы в стайках и телята в загончиках, и даже были специальные родильни, а полы в стайках «золтые были — нозыками скребли», — говорила тетя Гутя и плакала, вспоминая, как все разорили одним скребком пера, закрыв две трети станков и силком согнав людей с родных мест. Она не помнила ни трудодней, ни страха, ни бедности, помнила только, как мычали чистые телята в загончиках и сливки в полных флягах на веслах вывозили к пароходам.
«С утра сена давали… А сено-то какое-было — зеле-еное, не то что сейчас, — говорила тетя Гутя, — и на Енисей. В любой мороз. Приучили, что они уже сами идут, попьют — и в стайки, а там тепло — сто тты! Ой, Господиии!» И Витю восхищало, что не воду везут к коровам, а коров ведут к воде, и что мороз, и что, если корове дать в стайке теплые ополоски, она не станет пить и потерпит, пока поведут. И он тоже с утра давал сена и, подождав, пока ободняет, вел к проруби и смотрел, как медленно опускают бык с коровой заиндевелые морды к струящемуся окну, втягивают ледяную воду, и слышал, как она, поднимаясь по пищеводам, омывает чистое и горячее нутро.
В небе по бокам от низкого солнца стояли в мороз два мерцающих золотой пылью радужных столба. Осенью, когда налегало тяжкое сизое небо, скрывая горы и верхи листвягов, оставалось лишь черное зеркало реки, обрамленное двумя ярко-белыми мысами. Все было серым, свинцовым, глухим, и тучи стояли так низко, что брали на себя снежный отсвет мысов, и он, отражаясь в воде и небе, восставал двумя молочными лучами, напоминая не то своих зимних радужных собратьев, не то чьи-то колоссальные ноги.
Особенно восхищал Витю бык, длинный, угольный с белым, весь состоявший из черных треугольников и углов, неторопливо ходящих друг о друга. Задние ноги в атласно черных чулках он переносил с царственным потягом, идя всегда медленно и очень плавно, хотя при всем величии была и в нем, и в Черемухе обезоруживающая беспомощность, куда-то они норовили провалиться, влезть, а по осени убредали в тайгу по профилю, и их проходилось искать, каждый раз молясь, чтоб не задрал медведь. Вернувшись, они с той же медленной и плавной тягой перетекали в стайку, подбирая хрустящие клочья сена.
Зимой в стайке стоял теплый парной дух, мехами ходили бока, и утробное сопенье было настолько густым и гулким, что, казалось, само пространство дышит влажными бездонными глубинами. Потолок, провод от лампочки, окно, — все было в крупном звездчатом куржаке. После сорока пяти зарастала отдушина и застывал под ногами навоз, который Витя выгребал и оттаскивал в кучу на санях-корыте, а весной развозил на «буране» на огород и в теплицу.
Виктор любил тихо войти и смотреть, как Настя доит, всякий раз дивясь, давно ли он видел это впервые. Бабушка делала что-то странное под коровьим брюхом, там царило бойкое упругое оживление, что-то ерзало с жующим, скользко-резиновым звуком, что-то пилили мокрой и мягкой пилой, и ко дну ведра тянулись звонкие живучие струны, и бабушка перебирала их с необыкновенным оживленьем, и они сыто меняли тон, пока в ведре подымалось, как на дрожжах, белое облако пены.
К битью скота Виктор относился, как к мужской обязанности, огораживая Настю, которая переживала и, как всякая хозяйка, если корова была стельная, с горестной бабьей солидарностью спрашивала про теленка: мол, какой, большой ли?.. Витя с детства знал эти окатанные красные камни с прожилками, казавшиеся окаменевшим мясом, и помнил странно поразившую его когда-то станцию метро в большом городе, казавшуюся вырубленной в гигантской мясной туше, ее зеркально отшлифованные поверхности и белые жировые разводы, неприлично усиливающие сходство. Теперь сходство было обратным, на вспоротой шее каменела мышца, проступая подсыхающим срезом волокон, и, отсвечивая, как тусклый минерал, краской застывала на шкуре кровь, и это геологическое превращение поражало и напоминало остановку реки.
И когда в капкане оказывался живой соболь, и он с горечью приступал к тому, что обязан сделать каждый охотник, и, поймав зверька, перехватывался по длинному телу, ловя убегающее трепещущее сердце, чтобы с силой сдавить и прекратить мучение живого существа, и рука гонялась за этим сердцем по соболю, как по тайге, то в его собственном сердце стоял сумрак, лишь позже переходящий в ощущение знания, тяжесть которого наполняла всякий шаг. Обдирая зверька, разделывая сохатого или тайменя, ежедневно имея дело с ярким и чистым нутром рыбы, птицы, зверя и зная его до последней жилки, он не удивлялся общности телесного устройства всего живого, а лишь видел в ней напоминание о собственной бренности. И вину, знакомую всякому думающему добытчику и имеющую великий смысл, ибо человек обязан знать, кто его кормит и одевает, за чей счет живет, какой ценой оплачена его жизнь, и каждым движением быть этой цены достойным.
Когда хоронили тетю Гутю, копали могилу по талой еще осенней земле и руководил один пропащий и пьющий мужичок, из тех, кого почему-то всегда зовут бить скотину и копать могилы, и они, год за годом похоронив полсела стариков, вдруг незаметно вырастают до тихой и простой незаменимости. Тетю Гутю положили рядом с ее мужем, он умер зимой, и на пихте над его могилой висела связка ржавых цепей, которыми пилили промороженную землю. Висели, то ли как знак трудовой жизни — работал он вальщиком, то ли как дальний путевой комплект, вроде седла и лука. Рядом теснились могилы в убогом разнообразии памятников и крестов, и надо многими висели, позвякивая на ветерке, такие же гирлянды цепей, и по ним можно было узнать, кто умер зимой. А Витя представлял собственную могилу, над которой на густой пихте тоже висели бы цепи, да еще какой-нибудь драный бурановский ремень, да стартер от мотора, и это казалось лучшим памятником.
5
У острова шумел небольшой порог, осенью ярко белели снежные шапки его камней, а их подводное подножье облеплял мягкий зеленый лед, и сжатая им голубовато-дымчатая вода казалась необыкновенно жилистой, имея на фоне льда сине-зеленый, арктически спокойный оттенок. Камни постепенно зарастали, образуя плотину, подпруживая плес и меняя архитектуру порога, по бледно-зеленым уступам которого вода струилась причудливыми потоками.
Ниже тоже был порог потрясающей красоты и мощи, начинавшийся с бесконечных каменистых корг, скалистых гряд, то отлитых из сплошных базальтовых масс и похожих на странные причалы, то громоздящихся гигантскими каменными развалами. Дальше, если подыматься вверх, шли высокие, покрытые ягелем берега в остроконечных елочках и свечеобразных кедрах, спадали лиловые россыпи курумов, и река, расширяясь, текла через бесконечные гряды, переваливаясь меж камней тугими оковалками стекла. И, едва вдали показывалась синяя двугорбая гора, накипание каменных гряд достигало предела, и правую половину русла перегораживала будто труба, и через нее валила ровная и широкая лента кипящей воды, а потом река резко брала влево, и Виктор упирался в скалу, которой заканчивался длинный каньон, полный огромных каменюг и тяжелых пластов воды, размашисто ходящих по руслу. Проезжая по этим вздыбленным массам, он достигал верхнего слива, где Катанга была зажата двумя слоново-серыми скалами, полого сходящими к воде и образующими грандиозный мол, перегораживающий реку и лишь в правой ее части оставляющий брешь для треугольного слива. В середине мол вздымался скальным островом, а слева прогибался, и вода хлестала с него широким водопадом.
С крутых берегов падали в Катангу ветвистыми россыпями ручьи, свисали неестественно белой ячеей, начисто лишенной какого-либо движения воды, и лишь объятые частой и необыкновенно согласной конвульсией. И вместе с этими ручьями, большими и малыми реками Катанга жила одним огромным струящимся телом, единой жилой расплавленного минерала, тугой, блестящей, тягуче охлестывающей каждый камень, чудно отыгрывающей то синью галечника, то красно-белым крошевом донной плитки. Виктор ехал по кипящей Ниме, и она так одушевленно бугрилась, что казалось, из ее недр восстает бесчисленное воинство, светясь сквозь синее стекло ржавыми шлемами и мокро чернея у берегов, где сушили корни кряжистые короткие лиственницы и свисали глянцевитые брусничники. Он сидел за румпелем и сжимающей его рукой продолжался через мотор к гибким кедровым бортам, тянулся ими, сходясь в десяти метрах впереди у торчащего бруса носовила, и каким-то почти чресельным чутьем ощущал всю тяжесть лодки и всю трепетность ее бритвенного скольжения и, питая ее струей, слал дальше и дальше, то беря подъем лобовым напором, то зависая над стеклянными безднами и наслаждаясь отчетливой работой мотора на малых, то резко осаживая, чтобы подняло корму и догнавшей волной перебросило через перекат.
Солнечной осенью, когда по речной сини полыхало щедрое золото лиственей, все зависело от того, под каким углом смотреть на воду. Если Витя нависал, то ничего не видел, кроме камней, если чуть поднимал взгляд, по их рыжине шла, колыхаясь, синь не сплошь, а наплывами, переливами ходящей ходуном глади, а если пускал по этому лаку лиственничное золото, то рисковал и вовсе спятить — особенно у берега под красными ярами, где каменистое дно обливала кирпичная крошка и сквозь неровную глянцевитую пленку было видно, как по красному дну тянет кто-то бесконечную светящуюся сеть.
А бывало, за бугристой спиной плеса, за миражно вздрагивающим перегибом воды вдруг вздымалось что-то такими страшными ослепительно белыми взмахами, что чудилось, в мреющей дали тонет ангел, причем особенно странен и трагичен был самый первый, одиночный взмах оплавленного крыла, вскоре начинающий повторяться с нарастающей очередностью и по мере приближения лодки превращающийся в стоячую волну порога.


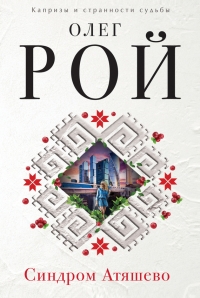
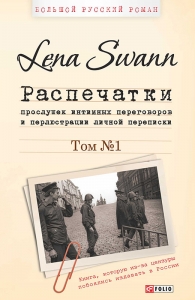


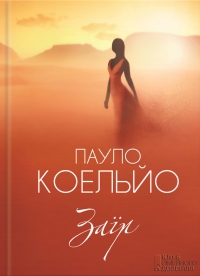

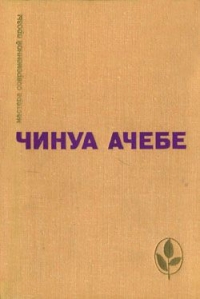

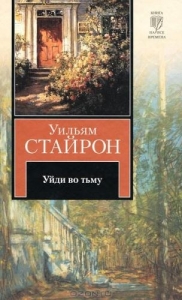
Комментарии к книге «Кондромо (СИ)», Михаил Александрович Тарковский
Всего 0 комментариев