Игорь Тарасевич Неистощимая
Неистощимая
…после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь;
после землетрясения огонь, но не в огне Господь;
после огня веяние тихого ветра, и там Господь.
(3 Цар. 19:11–12).Взрыв поднял облако пыли – красной, словно почва вся состояла из железоносной руды; можно было бы хоть еще одну новую Магнитку основать здесь. Но у людей, молча наблюдающих, как пыль сносится ветром в сторону города, мыслей о новом насилии над истерзанной землей не возникло сейчас – ни у губернатора, неостановимо и злобно, словно бы умалишенный, жующего жвачку на заднем сидении своей «Aуди» и сверкающего безумными глазами через полуоткрытое стекло, ни у женщины, что молча сидела рядом с ним, ни у новых губеровских охранников, которые на несколько мгновений вдруг перестали бессмысленно обшаривать взглядом округу, ни у солдат второй линии оцепления, тоже глядящих на взрыв, ни у таких же солдат далеко, за четыре километра отсюда, что стояли на первой линии в полной экипировке – с автоматами и пластиковыми щитами, в касках и бронежилетах, ни у жителей за пестрыми красно-белыми ленточками ограждений – те совсем далеко-далеко сгрудились в многотысячную толпу с ведрами, канистрами, баллонами из-под воды в безнадежно опущенных руках. Люди уже ни на что не надеялись, просто они не могли так-то вот повернуться и уйти прочь.
Сначала в быстро наступающей тьме блеснул белый огонь. Потом полыхнуло красным и на земле, и на небе – огненный сполох отразили облака и отправили Бог знает куда от этого места прочь. И только потом прозвучал и самый гром, и на фоне темного бездонного пространства встало ясно различимое атомное облако пыли. Людям красный ком издалека виделся совсем крохотным, словно бы мгновенно нанесенным на черно-фиолетовое полотно небес неровным пятнышком гуашевой охры. Взрыв, значит, поднял тысячеметровое облако красной пыли, земля вздрогнула под ногами и колесами машин.
Новый, тоже только что назначенный водитель повернулся от руля к губернатору и, неотрывно глядя ему в глаза, чтобы не увидеть, будто бы с начальником не все в порядке, мрачно констатировал:
– Капец, Иван Сергеевич.
– Капец, – сказал Ивану Сергеевичу его внутренний голос.
– Капец, – согласился тот, выплюнул жвачку.
– Разрешите снимать оцепление, господин губернатор? – полковник внутренних войск в черном мундире, еще один полковник – этот был в полевой форме пестрой зеленой расцветки, и майор, командир саперного батальона, тоже в «полевке», козыряя, возникли возле открытого окна машины, стараясь, как и водитель, не замечать, что губернатор развалился сейчас на сиденьи совершенно голый, в чем мать родила, и что рядом с губернатором сидит неизвестная молодая баба – правда, тому полковнику, что был в полевой форме, барышня была прекрасно известна, но он предпочел ее сейчас не узнать – молодая, значит, баба, эта была одетой, в джинсиках и простенькой маечке. Ни в глаза губернатору, ни на сексaпильную тетку полковники с майором, не сговариваясь, решили не смотреть и обращались непосредственно к сверкающей губернаторской лысине.
– Все урыли под ноль, блин? Гарантируете, блин? Все ровно, как, блин, простыня на кровати?
Облаченный в черное полковник тут посмотрел на сапера, второй полковник – на первого полковника, а губернатор вдруг защелкал зубами, как будто собирался сейчас укусить кого-нибудь из этих троих, потому что внутренний голос сказал ему:
– Ну, простыня на кровати тоже, блин, не всегда ровная бывает, сам, что ли, не знаешь?! После нормального, блин, траха, какая тебе, на хрен, ровная простыня?
– Все, блин, урыли? – вновь со сдержанным бешенством спросил губернатор, игнорируя комментарий внутреннего голоса.
– Так точно. – Майор оказался мужественным человеком и не только не отступил от окошка «Aуди», но и не выказал никаких эмоций.
– Оцепление, блин, ни хрена не снимать еще две недели. Пусть люди тут не копаются, блин, как навозные жуки… А саперов можешь уводить, на хрен они тут теперь, блин. – Губернатор, а фамилию он носил, дорогие мои, такую – Голубович, губернатор, значит, откинулся на сидении, расставил ноги, словно бы в шезлонге на нудистском пляже своей молодости пребывал сейчас. Козырнувшие еще раз офицеры уже шли от него прочь, отдавая приказы в рифленые микрофоны раций.
– Полный, блин, капец… – задумчиво произнес губернатор, словно бы сам себе в отсутствие присяжных вынося вердикт.
Шофер теперь молчал, сожалея о своей несдержанности – его ведь предупреждали, что босс, в каком бы он ни был виде, не одобряет несанкционированных замечаний и обращений к своей персоне, однако губернатор сейчас молчал с таким же отрешенным, как у своего шофера, остановившимся лицом, как будто прислушивался к самому себе. Так оно и было, кстати сказать, – Голубович желал услышать сейчас свой внутренний голос, но внутренний голос именно сейчас более не произносил ни слова. Губернатор повернулся к сидящей рядом женщине – та неслышно плакала, не вытирая слез, вернее – по ее неподвижному лицу сами собою струились потоки воды, как нескончаемый дождь, и стекали на светлую маечку, делая ее мокрой и темной.
– Домой, – наконец бросил губернатор. Плачущая женщина протянула Голубовичу открытую пачку «Кэмэла», губер вытянул сигарету, прикурил от автомобильного прикуривателя. Женщина тоже закурила, затянулась, со щелчком вставила прикуриватель в светящийся паз.
Бронированный голубовичевский автомобиль развернулся на узкой полоске шоссе и помчался к дому – вслед за уже оседающей пылью, за ним полетел джип охраны.
…А только что – еще, кажется, вчера, да еще чуть ли не сегодня, еще чуть ли не час назад к областной администрации подкатил светло-розовый, как ночная сорочка, «Xаммер» с московскими номерами. Такой омерзительный цвет любят городские тетки, их розовые кофточки с люрексом то и дело попадаются навстречу в Глухово-Колпакове, куда ни пойди, но от авто московского, а тем паче английского, настоящего заморского гостя нельзя было ожидать столь похабного колера. Эта спорная мысль, словно бы предостережение того самого внутреннего голоса, чуткого к неписанным чиновничьим правилам, на мгновение пронеслась у Голубовича в голове, но сам по себе «Xаммер», разумеется, выглядывал вполне авторитетно, и губернатор, широко улыбаясь, сделал несколько шагов вниз по ступенькам навстречу уже открывшейся розовой дверце.
– Вэлкам, вэлкам ту ауэр рашен Глухово-Колпаков, мистер Маккорнейл! – выговорил заранее приготовленную фразу.
Мистер Маккорнейл оказался лысым полноватым господином с седой гривой за ушами, в коричневом твидовом пиджаке в клетку, мятых штанах и накрученном вокруг шеи шелковом платочке. Гость, ворочая челюстью и крутя рукою с огромной золотой «гайкой», произнес очень длинную английскую фразу. Подскочила переводчица, Голубович мельком, в автоматическом режиме успел взглянуть на ее сиськи в вырезе блузки и на то едва выпуклое место, где у нее сходились штанины внапряг обтягивающих джинсов.
– Не бреет, блин, – быстро сказал внутренний голос.
Подскочила, значит, переводчица:
– Приветствую вас, господин губернатор, – щурясь, словно Бог знает какое солнце било ей в глаза, перевела эту заковыристую английскую фразу. Тут же она сунулась внутрь «Xаммера», показывая Голубовичу замечательную поджарую попку: – Hey, Рat, come out[1].
Маккорнейл тоже повернулся, чтобы подать руку совершенно, лет семнадцати, желторотой девчонке; та неуверенно вылезла из машины и неподвижно встала на асфальте, будто бы не умела ходить. Девчонка, в отличие от переводчицы, была плоская, как доска.
– This is missis MacCorneyl[2], – представил девчонку англичанин.
– Оп-па, – сказал Голубовичу внутренний голос. – Блин-ин…
– Жена, – так же щурясь, произнесла переводчица.
– Вэлкам, вэлкам, миссис Маккорнейл!
Неделю назад Голубовичу позвонил такой Толя Никитин – свой доверенный человек в Москве и сказал, что вот тут в Совфеде и Госдуме крутится какой-то странный лох из Лондона – потом оказалось, что из Глазго, но не суть – главное, все равно англичанин, – и что означенный лох с какой-то дикой радости желает именно сейчас вложить деньги в Россию и именно в Глухово-Колпаковскую область, потому что его не то бабушка, не то прабабушка происходит из Глухово-Колпакова – не то со Старой Дворянской улицы, теперь называющейся улицей Трефильева, именем комиссара бравшего город в Гражданскую полка, не то с Новой Дворянской, бывшей в свое время и проспектом Сталина, и проспектом Ленина, а теперь называющейся Каштановым бульваром; каштаны на нем Голубовичу еще только предстояло посадить. Звонящий договорился с Голубовичем о своем откате со всего, что всадит в город и в область Маккорнейл – охранить того от мигом налетевших московских благодетелей и советчиков как потратить деньги, стоило труда и большого труда, это Голубович, разумеется, прекрасно понимал. Следовало еще договориться с московским куратором области, чтобы тот не взял англичанина четко под себя, но это уж Никитин из Москвы не мог, губернатору предстояло самому решать вопрос с куратором; меньше тридцати процентов тот никак не взял бы, сколько самому Голубовичу оставалось? – мизер.
К удивлению Голубовича, Никитин, кряхтя, тоже вылез из «Xаммера» – приехал пасти клиента. Будто бы он, Голубович, заныкает никитинское бабло! Вслед за Никитиным из «Xаммера» – сколько их там? – выпрыгнул крепкий молодой мужик в сером костюме, профессию которого можно было не спрашивать – спецслужбы, как ни подбирают себе сотрудников с ничего не выражающими лицами, а все они именно поэтому и узнаваемы с первого взгляда. Значит, Маккорнейла не просто пасут, что было бы совершенно естественно и понятно, а пасут явно, демонстративно. Это был сигнал Голубовичу – не парься, не твоего ранга халява.
– Ну, – сказал внутренний голос, – это, блин, еще будем посмотреть.
– Денис, – как равному, сунул мужик руку главе области, не считая нужным ни что-либо объяснять, ни предъявлять какую-либо ксиву; понимал: все и так ясно. Мужичок, значит, был не обтертый или, скажем, неправильно обтертый на службе, иначе так-то вот запросто с губером области он не стал бы обращаться, соблюл бы политес. Это успокаивало – прислали дурака, значит, не все так плохо.
Из подъехавшего следом мерседесовского микроавтобуса вылезли трое заграничного вида джентльменов – это были маккорнейловы инженеры.
Испытывая неожиданное, но вполне понятное раздражение и посматривая на продолжающую щуриться переводчицу Хелен – та успела сама представиться, – испытывая, значит, раздражение, Голубович повел толпу приехавших обедать в таверну «Капитан Флинт» на берегу реки. По дороге ему позвонили и доложили, что в микроавтобусе находится передвижная лаборатория – неизвестные приборы, компьютеры, металлические щупы; единственное, что там наскоро смогла идентифицировать голубовичевская служба безопасности – колесную микробуровую установку Graffer. Буровая установка и вообще все привезенное англичанином железо Голубовичу чрезвычайно не понравилось. С идеей вложить в его область инвестиции буровая установка никак не вязалась.
– Че он привез аппаратуру? У него разрешение, блин, есть на бурение? – щерясь в обращенной к Маккорнейлу улыбке, спросил Голубович у Никитина, не поворачивая головы. – Так не договаривались. Че он тут хочет искать? И на хрен ты сам тут нарисовался? Бабло все равно ведь через твой банк пойдет, каждую транзакцию сможешь посмотреть, ты че? Дуй, блин, обратно в свое министерство… А стукачок московский на хрен мне тут? У меня их у самого хоть жопой ешь.
– Не ссы, Ванечка, все заломаем. А разрешение есть. – Никитин хмыкнул. – Он в полном праве тут хоть туннель до Лондона… – Никитин явно подыскивал матерный эквивалент слова «прорыть», но явно же не нашел, потому что простое слово «прохреначить» почему-то не пришло ему в голову, вот он и сказал все-таки: – Прорыть.
Потом догадался и добавил правильное: – Прохреначить.
Никитин отошел от Голубовича и начал показывать англичанам на противоположный берег – там стоял строевой сосновый лес, действительно редкой красоты. Никитин, словно вундеркинд, без передыху сыпал по-английски, и Голубович со все усиливающимся раздражением подозвал идущего сзади секретаря и спросил, где ж наконец, где этот наш собственный, собственный переводчик с английского, почему его, старого козла, нету. Сам Голубович улавливал только отдельные слова – «ферст», например. «Питер зе ферст, Питер зе ферст», – повторял Никитин, это Голубович понимал; «шипс» – еще звучало. А что отвечал Маккорнейл, разобрать уже совершенно было нельзя – из его челюсти слова выходили в виде однообразного невнятного потока, словно бы тот, от души общаясь, одновременно жевал вату. Хелен, по-прежнему щурясь, посматривала на Голубовича. Где наш переводчик?
– Приступ радикулита у него, Иван Сергеевич. Оказывается, он дома лежит, на бюллетне. А вторая переводчица в отпуске. Та на пляже лежит.
– Уволить, на хрен, обоих, – продолжая улыбаться гостям, распорядился Голубович. – И пусть дальше, блин, лежат. Хоть вместе, хоть по отдельности. Чтоб мне через пять минут, блин, был свой переводчик. Эта шлюха неточно, блин, переводит.
…Сегодня Голубович должен был во второй половине дня встречаться с населением.
В районе Волочаевской улицы собирались закрывать старое кладбище. Еще месяц назад несколько могил официально перенесли, остальные предполагалось сравнять с землей, устроить тут Голубович хотел парк ветеранов; как еще ветераны стали бы гулять по аллеям бывшего кладбища и о чем бы при этом размышляли, неизвестно, но доклад о предполагаемом разбитии парка наверх уже ушел, соответствующим образом оказались выделенными и бюджетные средства. Голубовичу виделся здесь не то аналог шереметьевского плезира в московском Останкино, не то питерского Летнего сада, не то подмосковного Архангельского – с античными скульптурами и измысленными витыми беседками, водопадами и фонтанами, а также аттракционами, колесом обозрения, первым в области, и американскими горками. Нигде, кроме Питера, Москвы и Нижнего Новгорода, такого не было, и Голубович решил отличиться – он ведь был романтик, Голубович-то. Внутренний голос вякал, правда, что отличаться – вообще ни по какому поводу – никакому чиновнику не следует, а следует просто слизнуть отпущенные средства и откатить, сколько положено, наверх, но Ванек не послушал. И напрасно, дорогие мои, напрасно.
О ландшафтно-архитектурных планах отца области население было поставлено в известность, и тут же все нужные ему, населению, камни с могил унесло; впрочем, могилы разорять начали еще лет двадцать пять назад – когда Голубович по распределению приехал в город после окончания Коммунального института, он тогда – по первой в Глухово-Колпакове должности в коммунхозе – разбирался с утащенными с кладбища плитами и – не разобрался, да и милиция похитителей не нашла. На излете советской власти в Глухово-Колпакове жрать было решительно нечего, и молодой Голубович принародно пошутил, что, дескать, могильные плиты люди просто съели за неимением съестного в магазинах. Такую вот тонкую шутку выразил. С этого и началась общественно-политическая карьера Голубовича, а губернатором он был уже двадцать первый год подряд – при всех президентах.
А теперь вот народ сдуру поднялся против сноса кладбища, экологи протестовали – в Глухово-Колпакове, сами собой, словно плесень на осенней ботве, завелись свои экологи, вернее – один эколог, врач детской поликлиники по фамилии Дынин. Так вот Дынин заявил, что разорение кладбища вызовет в области эпидемию. Как, скажи, ящерный скотомогильник какой Голубович собирался вскрывать. А краевед Коровин, учитель из школы № 5, утверждал, что кладбище на Волочаевской является памятником архитектуры, должно быть занесено в Фонд всемирного наследия ЮНЕСКО[3] и даже отправил в оную ЮНЕСКО заказное письмо. ЮНЕСКО не обременила себя ответом Коровину, но жители нескольких улиц, которые пятьдесят лет уже, по сути, имели под боком тихий парк, где утром мамаши гуляли с колясками, а вечером и ночью молодежь вершила свои невинные шабаши с питием пива и траханьем на могильных камнях, – жители возмутились. День и ночь сверкающий огнями и гремящий областной Диснейленд под окнами местным тут не был нужен; кроме того, за вход в Диснейленд наверняка пришлось бы платить. Так что нынче перед прибытием стройтехники у кладбища собирался митинг. Мало чего боящийся, а менее всего – жителей, Голубович еще загодя решил присутствовать на митинге в месте потери своей политической невинности, но оставить приехавших сейчас не мог – гостей надо было сразу правильно окучить.
– Император Петр Алексеевич действительно хотел именно тут русский флот возрождать, но выбрал все-таки Воронеж. Это он напрасно, Питер-то ферст. Мы к обeим столицам ближе. И тоже не лыком шиты. – Голубович мутно посмотрел на переводчицу. – Вы сможете адекватно перевести наше русское выражение «не лыком шиты», мисс Хелен?
– Я все могу, – щурясь, сказала переводчица. – Все.
Она выдала короткую английскую фразу, Голубович опять разобрал только «Питер зе ферст». Маккорнейл засмеялся.
Губернатор обернулся, чтобы бешеными отыскать глазами Максима-секретаря, но тот уже подбегал сам: – Есть переводчик, Иван Сергеевич. Идет!
От быстро обшмонавшей его охраны к столу, за который уже усаживались губернатор и гости и возле которого выстроились четверо официантов и владелец таверны, – к столу действительно шел молодой мужчина в джинсовой курточке.
Пока начали с закуски – подали зеленый салат и крабов, Голубович рассказывал о замечательных перспективах Глухово-Колпакова и Глухово-Колпаковской области, где на каждом квадратном сантиметре земли есть место для благодатных, сулящих головокружительную выгоду инвестиций; мужчина в курточке, чуть запинаясь, переводил. Перешли к горячему, это были заранее заказанные аппаратом Голубовича пельмени и голубцы – рашен экзотикс.
– Козлы, блин, – сказал внутренний голос, – ничего оригинальнее пельменей не смогли, блин, придумать. – Козлы, блин, траханные.
Принесли красное.
– Мистер Маккорнейл, – транслировала щурящаяся шлюха, – желал бы сопроводить губернатора по всем его сегодняшним поездкам, чтобы легче себе представить жизнь прекрасного русского города.
– Скажи ему, – Голубович откашлялся, – скажи ему, что я сейчас на кладбище еду. Там ничего интересного нет. – Голубович на мгновение перелетел в собственную юность, посмотрел на себя тамошнего – худого, патлатого; нынче-то лысина голубовичевская поблескивала, как медный, под золото, поднос – ну, про наличие у губернатора лысины мы уже поставили вас в известность, дорогие мои. Иван Сергеевич улыбнулся во всю челюсть – Глухово-Колпаков прекрасно знал его «гагаринскую» улыбку, раздвигающую губернаторские щеки, словно бы у мультяшного барбоса из «Бременских музыкантов», собственные зубы у Голубовича и под пятьдесят лет совершенно замечательно сохранились. – Ничего нету… Только кресты да памятники…
Лишь только Хелен перевела, юная жена англичанина, доселе сидевшая неподвижно, энергично затрясла головой и сделала несколько движений пальцами – это явно была азбука глухонемых. Хелен ответила несколькими фразами, Маккорнейл утвердительно закивал.
– Немая, – сказала переводчица. – Все слышит, но не говорит… Супруги Маккорнейл желали бы как можно скорее ехать на кладбище. Как можно скорее!
– Скажи ему, – Голубович потянул к себе пельмешек, обмакнул в сметану, – скажи ему, что в России… – тщательно начал жевать, – в России на кладбище не любят торопиться…
Чтобы не встречаться сейчас с собравшимися у ворот, кортеж губернатора подъехал к кладбищу со стороны промзоны, от химзавода; отомкнули калиточку. От калитки в глубь кладбища и дальше – изнутри к центральным воротам – сейчас же побежали двое предусмотрительно выставленных народных дозорных, вопя:
– Здесь! Здесь! Голубой отсюда входит! Голубой! Голубой здесь входит!
Мы можем констатировать, дорогие мои, что Голубовича, как это ни печально, в области звали Голубым – ну, что поделать, фамилия. Сути дела прозвище никак не соответствовало, все знали, что губернатор тот еще ходок по теткам.
За дозорными погнались двое из охраны и один полицейский. Голубовичу в тот миг почему-то стало вдруг на все насрать. Внутренний голос тоже ему говорил:
– Насрать.
Вместо того, чтобы подготовить путем площадку – точку, куда десантируется, словно в далекой юности – а Голубович срочную служил в десантуре, демобилизовался сержантом, сорок восемь прыжков – это вам не хрен собачий, – вместо того, значит, чтобы подготовить точку, куда прибывает глава города с почетными гостями, эти козлы устраивают тут шоу. Не предусмотрели. А народ, народ – он предусмотрел.
Никитин хмуро захихикал на бегущих дозорных, Хелен что-то сказала Маккорнейлу, прозвучало «дэмокреси», Маккорнейл захихикал тоже. Только молчаливая Пэт вдруг двинулась вперед, странно переставляя ноги, будто бы человекообразный японский робот. Она шла, явно зная, куда идет или же просто по наитию выбирая маршрут среди могил, поворачивая на дорожках, засыпанных листьями, драными бумажками, битыми бутылками, мутными использованными презервативами, кучками говна и сухими веточками, – поворачивая, значит, на дорожках, будто бы ведомая навигатором, установленным в ее тощей попе. Голубович в ответ на вопросительные взгляды челяди сделал рукою равнодушный охранительный жест. Вместе с молодой Маккорнейл, по параллельным проходам, тут же пошли двое из полиции; остальные побежали вперед, выстраивая цепочку перед тоже бегущими от входа на кладбище людьми; за теми, переглядываясь и явно не зная, как им сейчас поступить, бежали еще несколько стражей порядка – видимо, прежде стоявшие там, у центральных ворот. Дэмокреси, демокреси!
– Через жопу все, блин, делают, козлы, – сказал внутренний голос.
Голубович в ответ только бровями повел. Эта мимика его, неправильно понятая – кто ж тогда знал, что губернатор находится в постоянном диалоге с самим собою? – мимика не осталась без внимания, и сзади через плечо зашептал начальник его службы безопасности: – Это Суворов должен был загодя оцепление выставить, босс… Полководец ментовский, блин… – человек по фамилии Суворов был начальником областной полиции. – Я ж ему звонил еще двадцать минут назад. – Голубович только, полуобернувшись, молча посмотрел, и охранник запнулся. – Ща все разрулим, момент! Момент, босс!
Тем временем Пэт остановилась возле одной из могил в глубине кладбища.
Когда-то высокая, а сейчас давно ушедшая в землю оградка стала от ржавчины совсем под цвет рыжей, красной, такой же ржавой Глухово-Колпаковской земли. На тяжелом параллелепипеде надмогильного памятника, когда-то, видимо, ослепительно белом, а сейчас темно-сером от времени, покрытом трещинами и черной паутиной, лежала на боку, вывернувшись в эротической позе, голая грудастая деваха. Одну руку она положила под голову, отчего пудовые ее мраморные груди выперло в небо, а второй рукой деваха тщетно прикрывала межножие – тщетно, потому что и там, где покоилась тонкая резная кисть с длинными пальцами пианистки, и на заду ее, и на животе, и, разумеется, на сиськах, – всюду деваху покрывали разнообразные, но не поражающие большой фантазией надписи, словно бы посмертные тату, зовущие ее из небытия и неподвижности в сегодняшний день, полный сокровенной, но горячей, обжигающей жизни. Пэт уставилась на могилу, как не видящий ничего перед собой лунатик. Англичанин тоже подошел и обнял жену за плечи.
Все еще с предупреждающей рукой, придерживая свиту, Голубович приблизился, ожидая увидеть, может быть, надпись «Маккорнейл». Но на памятнике было вырезано «Княжна Катерина Борисовна Кушакова-Телепневская. 1851–1869. Тебе суждена жизнь вечная и вечная моя любовь».
Тут, в Глухово-Колпакове, все называлось двойными именами, кстати сказать. Даже река Нянга в одних картах и путеводителях так и называлась – Нянга, в других картах и путеводителях – Чермяная Нянга, а в третьих путеводителях – Лосиная Нянга; лосей в районе, действительно, и нынче, несмотря на тучи браконьеров, оставалось до хрена; с удивлением Голубович увидел на последней, изданной только что карте новую контаминацию в названии реки – Лосиная Чермянка. Создатели словаря поддались общему областному бзику. А бывший со всероссийской известностью монастырь на Кутьиной горе в Большой Советской энциклопедии назывался Высокоборисовским Богоявленским женским монастырем, но жители упорно называли его Кутьим, и в подарочном альбоме «Древний и молодой Глухово-Колпаков», выпущеннoм радением самого Голубовича, монастырь – уже бывший, давно уже закрытый – обозвали Кутье-Высокоборисовским; Голубович даже хотел было уволить, на хрен, редакторшу, настолько у него тогда вдруг настроение испортилось.
Обычно вовсе не привередливый в еде, губернатор тогда отказался вдруг съесть обед, принесенный официантом сразу после того, как секретарь Максим подал на утверждение дурацкий подарочный альбом с дурацким названием. Да-с, мои дорогие, отказался съесть обед: и то ему показалось невкусным, и это, то недосоленным, это переперченным… А перечислением блюд мы вас не станем утомлять, дорогие мои, мы же ж к вам хорошо относимся, мы бережем ваши драгоценные нервы…
– Отравить, блин, хотят, суки? – предположил внутренний голос. И распорядился: – Подать сюда, на хрен, директора производства, блин! Кто там за губернаторское, блин, отвечает питание, твою мать?
– Кто отвечает, на хрен, за питание? – Голубович, совсем придя в негодные кондиции, отшвырнул альбом и сбросил было со стола и обед, но вдруг засомневался, удастся ли потом этим козлам быстро и чисто вымыть паркет и ковры. Паркет и ковры у себя в кабинете Ванечка наш очень любил, и обед не сбросил. – А ну-ка, блин, его сюда, блин!
– Вот это правильно, – лапидарно резюмировал внутренний голос.
Вошла стройная темно-русая тетка лет тридцати, в белом халате, как у врача, и в почти такой же не поварской, а скорее действительно докторской шапочке. Халат глухо закрывал горло и опускался ниже колен, но опытному взгляду не составило труда определить: сиськи третий номер, не рожала, попка максимум сорок четыре.
Сразу поведаем вам, дорогие мои – это был самый любимый Голубовичем женский тип, довольно-таки, признаемся, редкий для начальницы каких бы то ни было поваров и поварих, поварихи обычно несколько полноваты; самый, значит, любимый Голубовичем женский тип: большие, но не огромные сиськи, маленькая твердая попка, в самую-самую меру выступающий живот и темно-русые волосы. Причем более темные, чем укладка, брови непреложно свидетельствовали, что растительность у тетки на лобке темнее, чем на макушке, и, что главное, темперамент у нее в полном порядке, каковое обстоятельство Голубович особенно всегда приветствовал.
– У вас замечания, Иван Сергеевич? – совершенно по-деловому, без малейших страха и лести, сухим голосом спросила вошедшая, и Голубович, не имеющий тогда постоянной любовницы, улыбаясь, ответил:
– Ни единого замечания. Все прекрасно. Как тебя зовут?
– Ирина.
Завпитанием долго сопротивлялась, когда губернатор вдруг вышел из-за стола и на нее набросился, кусалась, звала на помощь – никто из приемной за закрытыми двойными дверями, разумеется, на помощь не явился – но потом оказалась, действительно, очень… ну, ооочень… В тетках Голубович редко ошибался.
Сисястая начальница поваров, кстати еще вам сказать, дорогие мои, носила фамилию Иванова-Петрова. Голубович долго хохотал, впервые услышав столь экзотическое для России сочетание, и сразу же сказал Ирине, что ей не хватает только называться еще и Сидоровой, но та, прищурившись – ну, чисто так же, как сейчас щурилась переводчица Хелен, ответила, что с детства слышит эту сильно креативную шуточку, каждый раз от души над нею смеется, а фамилию родительскую менять не собирается ни в сторону увеличения длины, ни в сторону уменьшения; и Голубович тут смеяться-то перестал, потому что сам с детства чуть не каждый день дрался из-за фамилии – с тех пор, как ему объяснили, что означает слово «голубой». А в десантуре с его фамилией будущему губернатору вообще поначалу пришлось крайне тяжело, но об этом как-нибудь потом, если останется время. Да вообще мы не об этом, дорогие мои. Это в сторону, да, в сторону.
Вернемся в сегодняшний день.
Так, значит, имя Кушаковой-Телепневской никак не удивило сейчас Голубовича, тем более, что имя это каждому, почитай, жителю Глухово-Колпаковской области, и, конечно, Голубовичу как губернатору прекрасно было известно – князьям Кушаковым-Телепневским во время оно принадлежала, по сути, вся Глухово-Колпаковская губерния. Князь Борис Глебович был губернским предводителем дворянства, кстати вам тут сказать, дорогие мои. А вот о могиле княжны, явно дочери основателя монастыря и всеобщего, судя по легендам о нем, окрестного благодетеля князя Кушакова-Телепневского, – о могиле Голубович не помнил. Ну, мало ли, всего не упомнишь, столько лет прошло. Ему сейчас показалось, будто могилы княжны не было тут прежде, во времена его юности. Не было! Не-бы-ло!
– Бллли-иин, – сказал внутренний голос.
Люди за полицейской шеренгой выкрикивали какую-то хрень и даже подняли на простыне криво написанный лозунг «Сохраним историческое кладбище». Голубович обернулся в тревожном поиске папарацци – профессиональные парарацци блистательно, слава Богу, отсутствовали, и частично взявший себя в руки Голубович собрался было сказать внутреннему голосу, чтобы тот на минуту заткнулся. Напрасно собрался, потому что на самом деле ребят с фотоаппаратами в толпе было не счесть, многие начали фотографировать еще мобильниками и смартфонами – уже через минуту, но тогда, через минуту, Голубович уже широко позировал фотографирующей общественности, потому что Маккорнейл обернулся к нему, веско произнес английскую фразу, и подкатившая Хелен перевела:
– Пэт Маккорнейл является прямым потомком князей Кушаковых-Телепневских.
– Ка-пец, – сказал Голубовичу внутренний голос.
Голубович и сам, без подсказочек, мгновенно прозрел будущее, как пророк, а что? – губернатору приходится, да, приходится, то и дело приходится становиться пророком, иначе не усидишь в кресле и пары дней; да, так, значит, дорогие мои, тут же пророк стал Голубович и прозрел всю напрасную тряхомудию, которую обязательно развернет приехавший англичанин со своей девчонкой-княжной – пустую, пустую тряхомудию, но наверняка заберущую у него, Голубовича, массу времени и еще мульён напрасно сожженных нервных клеточек. Не так и много их осталось, не так и много! Голубович, будучи очень умным и опытным человеком и, как вы уже поняли, дорогие мои, держа внутренний свой голос за верного товарища и друга, мгновенно прозрел будущее. Но, к сожалению, не полностью и не до конца. Единственное, что он понял совершенно точно и бесповоротно, так это одно: денег не будет. Лажа! Лажа!
– Честное слово, Ваня, я ничего не знал. Ну, ей-Богу! – сказал за спиной Никитин. – Я так понял, что сам мужик потомок белоэмигрантов, только и всего. Ну, гадом буду, честное благородное слово! Ну, блин, век воли не видать! Ей-Богу, блин! Ну, блин, ей-Богу!
– Давай, – буркнул внутренний голос, – давай, блин, пошел, чё стоишь, как памятник Ленину?
– Дорогие друзья! – вдохновенно произнес Голубович, поворачиваясь к народу. – С тобой потом, блин, перетрем, старый мудак, – это он в сторону тихонько сказал Никитину. – Дорогие друзья! – Голубович, распахивая руки, двинулся навстречу людям. – Я рад вам сообщить, что в областной администрации принято решение, отменяющее снос исторического кладбища. Кладбище будет очищено под наблюдением общественности и сохранено. – Народ восторженно зашумел. – Снять оцепление! – отнесся губернатор к охранителям. – Что вы, в самом деле! Нет, не было и никогда не будет никаких преград между мною и народом! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Я с вами!
I
Сейчас на Кате была маленькая черная шляпка с черной вуалеткою, закрывающей глаза. Синие ее глаза. Если бы Катя сняла шляпку, глаза стали бы видны и обожгли бы темным светом. Так: синяя «амазонка»[4] с золотыми и серебряными пуговицами, шляпка, которую, на самом-то деле, невозможно было бы снять, потому что она была приколота к волосам, а в руке Катя держала стек. Когда б не отсутствие лошади, можно было бы решить, что мадмуазель вот-вот собирается ехать верхом. Огненно-рыжие Катины волосы, не скрываемые шляпкою, горели на солнце.
– Vous voyez, monsieur, je suis une fille simple…[5] – это ему за то, что начал вдруг на улице громко называть ее княжной. Все princesse да princesse. А он, Красин, ее начал титуловать, потому что она вдруг перекинулась парой слов с двумя незнакомыми ей молодыми людьми в студенческих сюртучках. Те тоже словно бы прохаживались по Невскому и даже, переговоривши с Катею, решили, судя по всему, прохаживаться далее вместе с нею, но, разок встретившись со взглядом молчащего Красина, тут же раскланялись и проследовали вперед. Простая девушка?
– Il est un point discutable[6], – отвечал Красин.
– Regardez de plus près[7], – как всегда, издевалась.
А то он не смотрел. А то он смотрел невнимательно. Возможно ли только взглядом почувствовать гладкость белой, с чуть розоватым налетом, двигающейся при дыхании ее кожи? Вкус ее чуть припухлых, еще, кажется, детских губ? У Красина на шее дернулся кадык; выставил вперед бородку, сглатывая слюну, словно привязанный шнауцер при виде сучки. Сюда бы к ней кавалера в придворном бальном костюме – во фраке и в кюлотах в обтяжку, со шпагою с золотым эфесом, как бы случайно выглядывающим из-под распахнутой полы кафтана – шпага бы сама, как живая, хлопала по голенищам, а треуголку – на отлете, словно кречета на стальной перчатке, на отлете треуголку.
Красин поперхал горлом, будто бы приуготовлялся петь сейчас. Был в cером сюртуке, вряд ли уместном на этакой жаре, и в новых серых полосатых брюках со штрипками, – те жали в паху, – обузил портной. Красин выглядывал бы записным щеголем сейчас, если бы не его полное внутренней силы лицо атлета. Со своей короткой норвежской бороденкой – без усов – Красин точь-в-точь походил на моряка-китобоя. Хотя мы можем сейчас, словно бы от его имени, признаться, дорогие мои, в одной из крайне малочисленных Красинских слабостей – в море его, как многих сильных людей, укачивало даже на небольшой волне, и Красин, обладая столь флибустьерской внешностью, моря вообще не любил, даже вида моря не переносил. Да-с. Но это в сторону, дорогие мои, в сторону.
Вернемся на Невский.
Сейчас на Невском Красин, опомнившись, сорвал с себя котелок, выставил его на отлете, словно ту самую треуголку, выставил, значит, на отлете котелок; трость прижал к карману – чистая выходила шпага у бедра, так что когда Катя протянула руку для поцелуя, – солнечный блеснул браслет, – когда протянула руку, Красин не смог попервоначалу подхватить эту руку и поцеловать – нечем было, руки-то оказались заняты, только губы были свободны. Он сунулся несколько вперед и произвел губами поцелуйный звук – помимо себя, непроизвольно, – будто пуская шагом лошадь. Катя захохотала. Красин выронил и котелок, и трость, прямо на мостовую бухнулся на оба колена, схватил руку ее и поцеловал. И вновь поцеловал. И вновь, в третий раз, поцеловал.
– Assez, c’est assez. Drop[8].
Он поднялся, ничуть не смущенный, потому что сам, дурачась, шута представлял из себя, раз-раз – двумя взмахами почистил колени, поднял котелок, отряхнул и надел, поднял и трость; смотрел теперь чуть прищурясь, насмешливо, словно бы невесть что понимал про стоящую пред ним женщину или как будто видел ее голою сейчас.
– Погоды какие замечательные изволят стоять, благорасполагают к общению, Катерина Борисовна, – щерясь, произнес Красин. – Однако ваше постоянное желание общаться с незнакомыми людьми опасно в нашем богоспасаемом Отечестве. – Интимно наклонился к ее уху, ухо ее заполнило весь взгляд Красина, земля и небо – все, все было только ее нежное, мраморно-белое ухо с упадавшими на него рыжими прядями. Интимно наклонился:
– В России, ежли дама вступает с доброю улыбкой в беседу с незнакомым мужчиной, тот немедля полагает, что дама эта доступна. И немедленно мужчина превращается в кабана, да-с, Катерина Борисовна. В кабана! То есть, в дикую свинью! – Приосанился: – Но я избавлю вас от любого дикого животного, ваше сиятельство! – продолжал дурачиться, ничего не мог с собою поделать. Это так он защищался от Кати, Красин, – первый и последний раз в жизни Красин полюбил.
– Assez, – повторила она так же насмешливо. – C’en est trop. Au contraire, si vous venez de me suivre…[9]
Красин оглянулся вслед за ее взглядом – себе за спину.
Посередине Невского двигалась толпа человек не менее пятисот в мундирчиках Артиллерийской академии; над головами юнкеров-артиллеристов среди бесчисленных красных полотнищ колыхались портреты Гаврилыча, что оказывалось не совсем удобным – мелькнула тут же у Красина мысль; не совсем удобно встречать манифестацией одного человека с портретами другого в руках, тем более, что и Николай Гаврилович, и Александр Иванович наверняка теперь станут претендовать на одну и ту же роль в событиях; но что же портреты Александра Ивановича? Без них все выглядело прямо как намек, да-с, намек!
Вдоль проспекта, по обеим сторонам колонны, один за другим, словно гуси, шли жандармы; никто на них не обращал ни малейшего внимания, а те ни во что не вмешивались и даже не говорили между собой, только скрежетали ножнами по мостовой. В арке дома, мимо которого сейчас проходили Катя и Красин, стояла открытая коляска, в которой, то и дело снимая блестящую на солнце каску и вытирая платочком пот с лысины, сидел носатый жандармский полковник с палашом, поставленным между голенищ. На шее у полковника висел багровый аннинский крестик[10], а на палаше болтался георгиевский темляк[11] – полковник, по всей видимости, не век служил в жандармском управлении. За коляскою в три шеренги, но по стойке «вольно» располагалась жандармская рота. Красин отметил помимо себя, что и в следующей арке тоже находилась рота жандармов, а за нею, он успел увидеть, стоял казачий эскадрон; командир, войсковой старшина,[12] сидел на огромном вороном, аж с отливом в синеву коне, уперев правую руку в бок, левой перебирал поводья. Государство, выходит дело, подготовилось к встрече тоже, как и тысячи восторженных адептов Движения.
Многолетний издатель газеты «Набат», зовущей к установлению в России выборного правительства и демократической конституции, Александр Иванович Херман нынче по Высочайшему разрешению прибывал в Санкт-Петербург из лондонской эмиграции. К тому же самому – к установлению демократической конституции – неустанно призывал в самой России Николай Гаврилович Темнишанский, только что по Высочайшему же повелению освобожденный от дальнейшего отбывания каторги и вот только что – кажется, несколько дней назад – прибывший из Александровского завода Нерчинского округа[13]. Многие объясняли столь странные решения Государя душевной его болезнью. Но освободивши крестьян, следовало дать народу Конституцию, это как бы предполагалось само собою. Да-с! Само собою! И поручить создание нового Правительства… Ну, разве что, дорогие мои, душевной болезнью можно было, значит, покамест объяснить…
– Бред, – тихонько сказал Красин, словно бы комментируя события, а на самом деле думая всего лишь о портретах. Николай Гаврилович – великий человек, но встречаем-то нынче Александра Ивановича. – Бред, – повторил, оглядываясь в переулок.
Вчера, несмотря на все усилия различных партий, так и не договорились о распределении возникающих мест, разве что единогласно отдали только один портфель – комиссара по внутренним делам, будущей новой полиции и тайным гражданским пересыльщикам в зарубежных государствах, враждебных России. А военные пересыльщики, кстати тут сказать, отходили бы к будущему комиссариату по военным делам; Красин же не верил в полезность и даже в само существование каких бы то ни было тайных пересыльщиков, но Бог с ними, он вчера проголосовал за портфель первого комиссара Движения – комиссаром по внутренним делам будущей России стал Евгений Васильевич Полубояров, старший врач Санкт-Петербургского дома умалишенных, врач – штатский человек, надворный советник, это, стало быть, если переводить на военные кондиции, подполковник. Ну, Красин, значит, проголосовал. Почему врач не может заведовать полицией и тайными или даже явными пересыльщиками? Да Бога ради. Про Полубоярова он знал только, что тот – Катин земляк, что у него дача где-то неподалеку от Катиной усадьбы, возле небольшого городка Глухово-Колпакова, а это, по мнению Красина, характеризовало господина Полубоярова исключительно с положительной стороны. А об персоне Председателя Кабинета Комиссаров не договорились – Александр Иванович то будет или же Николай Гаврилович. А может, страшно молвить, и вообще иное некоторое, не столь широко известное обществу и Движению лицо.
Красин усмехнулся, глядя на воодушевленных будущих артиллеристов. Получалось, будто бы скоро обретя новое начальство и зная о направлении оного начальства мыслей, юнкера единодушно выступили встречать приезжающего, чтобы сразу показать тому заведомо подчиненное его положение на Родине. Так, воля ваша, выходила одна только подлость. Следовало, возможно, разъяснить молодым людям положение вещей и уж, во всяком случае, потребовать – временно, конечно, – сложения портретов Николая Гавриловича, уместных только на собраниях в поддержку самого Николая Гавриловича, а вовсе не Александра Ивановича. Однако, с другой стороны, артиллеристы могли, разумеется, вполне искренне следовать собственному душевному порыву и уж точно – не входить в отношения между лидерами Движения. Кроме того, возможно, портретов Александра Ивановича еще просто не успели изготовить – не такое уж простое дело полуметровые отпечатать портреты, да еще в необходимом количестве.
Красин, не зная, надо ли тут что-то предпринять, пожал плечами и остановился.
– Eh bien, qu’allez-vous? Vous n’avez pas de fichier ma main?[14] – спросила, теперь довольно раздраженно.
– Виноват-с!
Красин даже каблуками щелкнул, выкатывая руку крюком. Они двинулись было параллельно толпе в сторону вокзала, когда вдруг перед ними, бегом пересекши улицу, оказался сам Сельдереев – в полковничьем мундире с аксельбантами и орденами, но почему-то без головного убора. Сельдереев был в приподнятом настроении, улыбка распирала ему щеки, борода его, которую можно было бы ожидать сугубо расчесанною и подровненною сейчас, торчала во все стороны, как и волосы на непокрытой его голове; в этаком виде профессор математики Сельдереев и в аудитории не мог бы показаться у себя в училище, не то что на столь выходящем из ряда вон событии, как сегодня. Но Сельдереев, обычно сдержанный, решительно не в себе находился сейчас. Не совсем понятным было, почему он идет в колонне артиллеристов, когда он уже год как перешел наставником-наблюдателем в Константиновское училище.
– Здравствуйте, Иван Сергеевич! Радость-то какая… – он возбужденно сунул Красину ладонь дощечкою. – Вы с нами?.. Как раз осталось два места на гостевой трибуне!.. Мадмуазель, – отнесся он к Кате, – простите, не имею чести быть знакомым… Так что? – Сельдереев, оглядываясь на толпу юнкеров, в нетерпении начал перебирать на месте ногами, как застоявшаяся лошадь. – Оставить вам оба места, Иван Сергеевич? Радость-то, говорю…
Тут он несколько опомнился и, перестав топтаться, выпрямился.
– Позвольте рекомендоваться: профессор полковник Сельдереев, – отнесся он к Кате. – Участник Движения. Член Главбюро… Э-э… Действительный член с правом голоса!
– Княжна Кушакова-Телепневская, – протянула руку для поцелуя в длинной, до локтя, белой перчатке; Сельдереев, в наклоне обнажив плешь на макушке, приложился к руке.
– Ваше сиятельство…
Красин с ухмылкой наблюдал, как представители радикально противоположных взглядов на события в единое мгновенье слились при этаком знакомстве.
– Петр Сельдереевич – будущий член Кабинета, Катерина Борисовна, – с улыбкою сказал Красин. – Да-с! Так что, сами понимаете-с. Соответственно-с.
– Полно, полно… – Сельдереев изобразил смущение, но видно было, что ему приятно. – Между своими без чинов, знаете ли, – добавил он, будто бы не он сам только что отрекомендовался по полной форме и с романовскими – как ни крути, а с романовскими! – «Владимирами» третьей и четвертой степени[15] вышел встречать Александра Ивановича. – Так что? Пойдемте? Два как раз места, говорю вам, неожиданно очистились на гостевой трибуне.
– Нет-с. Благодарствуйте. Мы желаем с людьми. В гуще народной.
– А-а… Похвально… – тень мгновенно облетела радостное лицо полковника и тут же растаяла в бороде и в складках воспаленной кожи под очками. – Как угодно. А я побегу. Прощайте! До послезавтра! – это он прокричал уже действительно на бегу, оборачиваясь к Красину.
Послезавтра Красин должен был присутствовать на заседании Главбюро. Он и присутствовал – меньше, чем через сорок восемь часов. Но за это время столько событий произошло, что оставалось только удивляться, как действительно Красин всюду поспел. Наш-то пострел, а? Мы можем сказать, дорогие мои, что послезавтра на заседании уже был какой-то другой, новый Красин. Но по порядку.
Красин и Катя вновь медленно двинулись по тротуару параллельно колонне, чтобы пропустить ее и пристроиться, как и собирались, в хвосте. Со стороны они походили на фланирующую по Невскому парочку – в другое время, в отсутствие событий. Вдоль мостовой, разумеется, стояла масса всякого народа, на них с Катею мало кто обращал внимание, все смотрели на мальчишек-артиллеристов с портретами Гаврилыча. Однако и прогуливающихся пар, да иных еще и с детьми, было тут множество; вот здесь-то Катя и Красин время от времени раскланивались со знакомыми – если, конечно, те отрывали взгляды от происходящего, чтобы увидеть Красина и Катю.
– А вы тоже действительный… член… с голосом? – это она спросила по-русски; русское слово «член» прозвучало весьма смачно в ее устах. Член с голосом.
– Нет-с! Не сподобил Господь. Я только товарищ члена. Но голос у меня голосующий. Да-с! Голосующий голос.
Красин меленько засмеялся, как китаец в прачечной: – Хи-хи-хи-хи-хи.
– Venez[16]. Товарищ члена.
Она улыбалась – конечно, конечно, она улыбалась кривоватенькой своей улыбочкой, тоже – как китаянка, превративши глаза свои в щелочки; Красин не по-своему засмеялся-то сейчас, обычно он просто хохотал от души, а она, улыбаясь, всегда выглядывала чистою китаянкой – с высокими и широкими своими скулами, – всегда она, щурясь в улыбке, заставляла отстраненно гадать, какая дикая кровь когда-то была добавлена к голубой крови князей Кушаковых-Телепневских, откуда среди гладких голов цвета дымчатого цветочного меда, откуда взялась эта рыжая, как медная проволока, кудрявая голова – кудри-то Kатины уж не от китайца, а прямо от проезжего, прости Господи, молодца. Какая-то Катина бабка или прабабка была лиха – как и сама Катя; Катя была лиха.
– Вот, упустила новый член – из-за вас между прочим, – произнесла – опять по-русски.
Красин на это сказал:
– Хм.
Без улыбки сказал; ему не нравилось, когда Катя слишком уж начинала показывать лихость.
– Nous sommes ce que, et aller à pied à la station de chemin de fer.[17] – героическая сказала Катя.
– М-да-с… До Выборгской стороны… Тут недалеко, ваше сиятельство.
– Еt le train ne peut pas être en ville à face avec l’équipage?[18] – это она продолжала дразнить Красина. Меж тем Красин прекрасно знал, что переездов в черте города устроено недостаточно, всего десять штук, и крайне неприятных случаев с гибелью людей уже случилось довольное число. Железнодорожный путь финны, строившие дорогу, сделали вровень с городскими улицами, чего допускать было нельзя. Ну, что взять с темной чухны, Бог ты мой! Еще до начала событий Красин вместе с несколькими инженерами подали в канцелярию губернатора записку об поднятии переездов над железной дорогою, но никакого ответа так никто и не получил.
– Нет-с, – сухо ответил, – столкновение никак невозможно. Машина при движении подает гудки, слышимые всем населением за несколько верст.
И без улыбки вспомнил сейчас, как первый раз увидел Катю – прошлым августом, стало быть, почти год тому назад. Сейчас только начинался август.
Катя подъехала на вечной помещицкой бричке – сама правила – а Красин аккурат поднимался по насыпи с берега Нянги, только что проверив начальную кладку первой опоры – камни тесали плохо, подгонка встык оказывалась из рук вон, Красин даже ударил только что одного из молодых каменотесов, тот отлетел на несколько шагов и упал, опершись на локти, выплюнул зуб, с ненавистью посмотрел на Красина. А тот сразу же сам устыдился и своей ярости, и своего мерзкого поступка – мужик ведь не смог бы ответить тем же, то есть – по всему вероятию, не смог бы ответить тем же, и получалось, что он, Иван Красин, сейчас ударил заведомо более слабого, чем он; а мужик-то не виноват, что он мужик, мужик вправе искать свою мужицкую выгоду – работать спустя рукава, мужику, значит, никогда не объяснял никто, что эдак-то нельзя, стыдно, а Бога мужики эти не боятся. Красин сейчас вот – еще до наступления собственных рефлексий – прежде, чем ударить мужика, саданул ногой в деревянное кружало, которое тоже не ахти как стесали плотники – вертикаль должным образом не выдерживалась – без отвеса видно было и на глаз; из-за неровного кружала будущую балку и за нею опору вообще могло повести в сторону; Красин что есть силы стукнул ногой в кружало, хорошо, был в кованых с широким рантом сапогах, а то суставы-то на большом пальце разбил бы как пить дать; он поднимался по насыпи в совершенно растрепанных чувствах, посасывал руку – кровь шла, содрал кожу об проволочную щетину мужика; шляпу сдвинул на затылок. Никогда еще порученное Красину строительство не шло настолько плохо, дорогие мои. Тогда он не понимал, почему. Потом только понял – то был знак Свыше. Да-с. От Бога знак.
– Dites-moi, monsieur ingénieur, quand la construction d’un pont?[19] – спросила Катя, держа возжи.
– Je ne sais pas, – Красин попервоначалу и не поглядел на нее и ссаженные суставы на руке не выпустил из чмокающих губ, – pour le dîner ne sera pas la fin[20]. Да-с. К тому же мост будет железнодорожный, и вы вряд ли сможете проехать по нем на бричке.
– Quelle honte! J’allais à dîner de l’autre côté[21]! – последнюю фразу она произнесла как бы себе под нос, но так, чтобы Красин услышал.
И тут он впервые по-настоящему увидел ее. Та захохотала. Мгновение показывала ему китайскую свою улыбку, которая, улыбка, и на Красина, как на всех мужчин, произвела обычное свое действие; захохотала – Красин в единый миг стал бледен, смахнул шляпу с головы, как сейчас – котелок. Катя тогда показала уже полную улыбку и захохотала в полную уже силу. А теперь она в толпе крепко держалась за руку Красина; Красин сильно чувствовал ее прикосновение, несмотря на, почитай, двухаршинную[22] по ширине «амазонку», чувствовал, кажется, всю Катю, всю ее – маленькое твердое плечико вверху, а снизу, через платье и все нижние юбки – такое же твердое бедро, а над бедром – твердый же Kатин бок; впрочем, это наверняка были металлические вставки и кринолины[23] в «амазонке», в такой толпе немудрено было и пораниться собственным платьем; однако Красин чувствовал Катину ногу, прижатую сейчас к его ноге. Если б она повернулась чуть более к нему, он бы почувствовал сейчас и ее груди, груди! Катины груди, плечи, бедра и ноги хотели бы прижимать к себе, Красин не сомневался, сотни мужчин, а прижимал ли их к себе кто-то по-настоящему, а не эдак-то, как он, Красин? Но сейчас Красину было все равно, он словно бы обладал Катею сейчас – совершенно забылся Красин.
Меж тем они подошли уже к жандармскому оцеплению. Стражи порядка стояли двойной шеренгою – впрочем, довольно редкою, так что публика свободно проходила между синими мундирами и палашами, столь мирно висящими в ножнах у поясов.
– Ваше сиятельство! – вдруг послышалось рядом. Катя и Красин обернулись. К ним подбегал молодой жандармский поручик. – Не узнаeте, ваше сиятельство? – Поручик отдал честь, щелкнув каблуками, – шпоры глухо звякнули: – клац! клац! – Тут же он махом снял с себя каску с кокардою, выплеснув из-под каски короткую светлую челочку. – Лисицын! Павел Лисицын! Ваш батюшка, царствие ему небесное, меня устроил в Корпус! Уж почти три года тому – прямо пред тем, как преставиться! – Лисицын быстро перекрестился. – Не помните меня?.. А я у вас в имении… бывал еще юношей. А вы были совсем маленькой девочкой! – Он восхищенно смотрел на Катю. – А вот вас поистине не узнать, Боже мой! А я узнал! Катя! Катерина Борисовна! Какая вы стали!
Катя, улыбнувшись, и жандарму тоже протянула руку для поцелуя, и жандарм тут же, как давеча Сельдереев, приложился к ней с видимым наслаждением.
– Мой друг инженер Красин, – представила, значит.
Аттестация «мой друг» не прозвучала сейчас двусмысленно, вернее – в том именно смысле, в котором и следовало бы ее воспринимать, и поручик перевел глаза, сразу ставшие жесткими, на Красина, вновь щелкнул каблуками с так же зазвеневшими шпорами, таким же махом надел каску, козырнул и твердо, очень твердо пожал Красину руку.
– Поручик Лисицын. – И сразу же добавил с остановившимся лицом. – Позвольте вас на секунду в сторонку. Можно? Извините, ваше сиятельство… – он отвел Красина на два шага и быстро огляделся. – Почтительно рекомендую… Катерину Борисовну отсюда увесть поскорее прочь. Это между нами. Я вам ничего не говорил.
Красинская физиономия тоже стала каменною.
– А что так? Вы уж говорите все, поручик.
– Честь имею! – тот еще раз щелкнул каблуками, взял пред Катею под козырек, причем глаза его в этот миг вновь обрели выражение восторга – прежде, чем вновь стать жесткими и сразу же вновь равнодушными; отдал, значит, Кате честь, опять каблуками щелкнул, повернулся и отошел к строю.
– Очень, очень интересно, – Красин теперь тоже начал крутить головой. – Пойдемте. Вон туда. Вон туда, с краешку встанем.
– Qu’at-il dit? Mystère?[24]
– Il a conseillé que vous preniez soin, Katerina Borisovna. Je chérirai.[25]
– Je ne doute pas.[26]
Перед новеньким двухэтажным зданием вокзала, только что – в прошлом году – выстроенным на Симбирской улице, в такой же двухэтажный рост помещался ризолит, увенчанный покатою зеленой крышей, а перед ним – еще более вынесенное вперед крыльцо под таким же зеленым железом на металлических стойках – под ним, в теньке, расположились на скамеечке приближенные дамы, числом… две, три… целых пять, значит, дам: прибывшая с Херманом мадам Облакова-Окуркова – жена прибывшего же с Херманом поэта Окуркова, рядом с той сидела Ольга Платоновна Темнишанская – жена Николая Гавриловича, а остальных Красин не знал. Дальше, ниже, в сторону Невы, за восточным крылом здания, стояли такие же новенькие товарные пакгаузы и речной грузовой дебаркадер, пути подходили к самой воде; у пакгаузов виднелись скучающие по случаю временного прекращения работы ломовики. А за ломовиками – Красин аж хмыкнул – все казалось синим не из-за цвета воды, а из-за жандармских мундиров. Оттуда, из-за заборов и с набережной, пройти было бы невозможно, поэтому толпа, обтекая ризолит и само здание, шла и шла с улицы, с обеих сторон, и Красин, очнувшись, вновь начал вертеть головой туда-сюда, интуитивно намечая пути отступления – мало ли что может произойти в толпе-то; трость почти вертикально держал под мышкой. Встреча, разумеется, была официально разрешена, об ней за две недели писали все петербургские газеты, так зачем такие маневры тут? Впрочем, охранять там, где собирается большое число народу – как раз обязанность охранителей, не правда ли?
– Pourquoi tant de la police?[27] – конечно, не преминула спросить Катя.
– Чтобы уберечь ваше сиятельство, – по-русски отвечал Красин.
Катя не успела вставить ответную шпильку, потому что Александр Иванович уже утвердился на небольшой деревянной трибуне, специально построенной к встрече, Красину пришлось сделать над собою усилие, чтобы заставить себя слушать приуготовляющегося выступать.
Николай Гаврилович стоял перед трибуною в первом ряду лицом к площади, словно бы не замечая собственных многочисленных портретов – будто бы штук двадцать увеличивающих зеркал расположились прямо напротив него; зато Ольга Платоновна со своей скамеечки, улыбаясь, разглядывала один портрет за другим, словно они чем-то отличались друг от друга – совершенно одинаковые выставились портреты.
На трибуну, вслед за Херманом, полезли Окурков, Сельдереев, Полубояров и еще несколько человек, известных Красину. Красин вдруг почувствовал безотчетное раздражение, словно бы он сам, он, Иван Красин, совершал сейчас нечто неправильное или даже, тем более, неправомерное – такое вот чувство навеял на Красина солнечный августовский день, только что начавшийся.
Часть Симбирской улицы перед новым вокзалом, еще в прошлом году очищенная от малоценных строений, превратилась в небольшую площадь. Извозчики с площади все были убраны сейчас. Напротив трибуны, на которой стоял Александр Иванович со свитой, так же специально сооружена была более длинная и высокая, в два этажа, вторая трибуна, забитая до отказа людьми – о каких двух очистившихся местах говорил Сельдереев, Бог весть: на второй трибуне сейчас не поместился более бы и ребенок, не говоря уж о Красине – как-никак двух аршин и десяти вершков ростом[28] – и Кате в ее «амазонке» с тюрнюром[29]. Впрочем, и здесь, в толпе, Катя платье, конечно, давно помяла, что уж тут.
А Красин и в самом деле стал не в себе – то ли из-за тесного Катиного соседства, то ли из-за странного чувства стыда, вдруг возникшего в нем – стал, значит, не в себе, и помстилось ему, будто на обеих трибунах поместились люди без глаз, на месте глаз у них оказывалась совершенно гладкая, словно за заднице, поверность кожи. Все они – с носами и ртами, в сюртуках и жилетах, с торчащими накрахмаленными углами воротничков – штатские, а военные – с посверкивающими эполетами и лучиками орденов – все вдруг безглазо уставились друг на друга, не замечая своего уродства и, видимо, не чувствуя какого-либо неудобства.
– Ils ne voient pas,[30] – ошеломленно пробормотал Красин. – Ce store… Ils ne vois rien…[31]
Он потряс головой, стараясь избавиться от наваждения. Катя ничего не услышала, вся устремленная вперед – туда, к Херману; ждала, слушала, что поведает сейчас лондонский сиделец.
– Господа! – громко сказал Александр Иванович, прокашлявшись.
Господа зашумели.
– Друзья! – тут же поправился тот. Как все успешные политики, Александр Иванович обладал отличной реакцией. – Друзья! Товарищи по борьбе с деспотизмом!
Все бешено зааплодировали, даже Катя пару раз хлопнула перчаткой о перчатку – Катя, разумеется, была воспитанная барышня.
– Гос… Друзья! В этот знаменательный час… – Херман набрал воздуху в легкие и вытянул правую руку вверх и вперед, словно бы желал обозначить местоположение знаменательного часа в пространстве. – В этот знаменательный час я хочу сказать главное: у русского народа есть права на будущее! Все права на будущее!
Бешено зааплодировали. Площадь просто-таки содрогнулась от оваций.
– Прошлое русского народа темно, его настоящее ужасно, но русский народ жив, здоров и даже не стар! Напротив того, он, русский народ, очень молод!
– Comme bien! Cela est vrai, n’est-ce pas?[32] – Катя обернулась к Красину.
– Рeuple russe ne crois pas que dans sa forme actuelle, Katerina Borisovna. Donner à Dieu de croire en l’avenir, – сказал на это Красин. – Je vous tiendrai au coude, ne vous dérange pas? Foule.[33]
Она кивнула, больше уже не отрывая взгляда от Хермана. Красин тут же вцепился в Катин локоть, как клещ. А Херман, Бог весть как, Херман словно бы услышал Красина и продолжал:
– Русский народ не верит в свое настоящее положение! Нет в России человека, который не желал бы изменить свое настоящее положение! Русский народ имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор! Я говорю о будущем времени, гос… друзья мои, но будущее уже пришло! Будущее мы сами создаем сегодня! И мы создадим его!
Новые овации потрясли площадь. Николай Гаврилович вместе со всеми аплодировал, поблескивая пенсне.
Александр Иванович воздел руки, как бы приостанавливая незаслуженные овации; площадь стихла, он продолжал.
– Самый трудный для русского народа период подходит к концу. Народ ожидает страшная борьба, но народ готов к ней! Готов к жертвам! Безгласная народная Россия, безгласная глубинная Россия поднимает голову! И взгляд ее измученных глаз станет беспощаден! Гроза приближается! Что гроза, друзья мои! Буря! Приближается буря! Очищающая буря!
Херман вновь воздел – теперь обе руки – долу, и словно бы в ответ на заклинания седобородого колдуна в небе над площадью в гигантскую воронку собрались сизые, ежесекундно темнеющие тучи и закрутились в ней.
– Аааааааааааа! – ответила площадь.
– Каков молодец, – несколько удивленно сказал Красин; на резко очерченном, медальном лице Красина появилась недоверчивая и кривая, словно бы у Кати, улыбочка. – Да он тучи может вызывать. – Красин привычно огладил бородку. – Его бы прошлым летом сюда, когда во всей губернии стояла засуха. Да-с. Понапрасну богатырская силушка пропадает.
– Vous êtes toujours avec ses blagues![34] – Катя, несмотря на высказанное недовольство, интуитивно прижалась к Красину, потому что р-раз – дунул ветер по площади! Полетели шляпы и шляпки. Красин и не думал отпускать Катину руку, а плохо зашпиленную шляпку ее поймал другой рукой, выронив трость; тут же трость поднял, умудрившись сохранить и котелок на собственной голове.
Первые тяжелые капли дождя упали на толпу.
– Не извольте беспокоиться, Катерина Борисовна, – прежним своим ерническим тоном произнес Красин. – Я не позволю вам улететь. Да-с. Не позволю. Во всяком случае, не позволю улететь без меня. – Капли продолжали падать, и Красин быстро заговорил по-другому и – по-французски, чтобы быстрее послушалась Катя, и – тихонько, чтобы не разобрали стоявшие рядом: – Là-bas… Il faut aller vite! Dépêchez-vous![35]
Катя быстро взглянула на Красина, и они начали протискиваться сквозь толпу.
– Час пробил, господа! – закричал тут Херман громовым голосом, перекрывая крики толпы, шум от движения тысяч ног, короткие недалекие свистки паровых машин, перекрывая сам ветер, уже вовсю свистящий над головами. – Сейчас или никогда! To be or not to be![36]
Тропический ливень обрушился на людей сверху, как каменная плита. Предусмотрительный Красин уже стоял под каким-то крохотным фронтончиком на другой стороне улицы возле запертой железной двери. Вообще-то в толпе прижиматься к стенам нельзя – сомнут. Но перед этой дверью оказались еще и некое подобие портика и оградка; все это напоминало вход в склеп. И небольшой, в два десятка дюймов, каменный выступ надежно прикрыл Красина с Катей от бегущей толпы. Красин закрывал собой и прижимал к двери Катю, которая, надо тут признать, дорогие мои, ничуть не испугалась. Ничуть, значит, не оказалась Катя напуганной дьявольскими действиями прибывшего мессии.
– C’est génial! Il est un magicien! Il a déclenché une tempête![37] – Катя говорила в спину Красину, и злобно щерящийся Красин, то и дело отпихивая от себя людские руки и плечи, не понял великого смысла своей и Катиной прозорливости, не понял и согласился: – Да-с! Несомненно! – И добавил: – Сейчас все разбегутся, и дождь тут же закончится, уверяю вас. Волшебство немедля заканчивается в отсутствие зрителей.
– Comment savez-vous? Vous êtes un magicien, lui aussi?[38] – хихикала Катя, не огорчившаяся даже потерею стека.
– А как же-с! Будьте благонадежны! Волшебники мы! – отвечал Красин.
Оба они, несмотря на прикрывающий их фронтончик, уже промокли до костей.
– Кру-угооом! – раздалась минутой раньше далекая команда, – Бе-егоом!… – А из-за пакгаузов, словно бы отраженное, послышалось: – Ррысьюююю… Марш!
Жандармов и казаков в секунду не стало возле площади.
Посреди же площади вдруг оказался Полубояров верхом на вороной кобыле. Во фраке, но без слетевшего давно котелка, с развевающимися по ветру волосами и вылезшими из-под брюк белыми штрипками подштаников он казался сбежавшим из своего желтого дома пациентом. С огромной черной бороды Полубоярова потоком хлестала вода. Полубояров указывал рукою вперед, словно бы Суворов во время сражения, и кричал – слышно не было ни единого слова. Кобыла вдруг подбросила обе задние ноги, словно брыкающийся осел, копыта ударили в спину женщине, та неслышно в шуме ливня вскрикнула, взмахнула руками и упала ничком. Полубояров, ничего не замечая, крутился на лошади; женщину за ноги потащили прочь, насквозь мокрое платье тут же оказалось у нее на голове, обнажив нижние юбки и панталоны, тут же и панталоны полопались, стали видны ослепительно белые, словно бы фосфоресцирующие в опустившейся тьме толстые голые ляжки. Троекратно блеснула молния, то делая совершенно черной, то мгновенно озаряя зеленою вспышкой площадь с бегущими людьми, то вновь делая черным все вокруг, то вновь озаряя сатанинским огнем.
– Траххх! – страшно ударил гром. – Траххх! Траххх!
Юнкера бежали, прикрываясь портретами Темнишанского. А как же-с на поле боя? – позвольте нам спросить, дорогие мои, – при настоящих ударах артиллерии? Тоже побегут? Но это так, кстати, это в сторону. Тем более, что дамы на мостовой, поднимая мокрые юбки, визжали, перекрывая грозу и все ее громовые удары – дамы, брошенные кавалерами своими, не знали, куда бежать, но побежали и они – туда, куда указывал комиссарским перстом Полубояров. Единственно мужественный, собственною своею персоной Николай Гаврилович Темнишанский, как скала, недвижимо стоял посреди хаоса, устроенного политическим конкурентом и безостановочно протирал, и протирал, и протирал пенсне носовым платком.
Поверх голов Красин прекрасно видел, как прямо по людям к трибуне подкатила черная карета с четверкой вороных – откуда у них у всех именно вороные? – еще успел подумать Красин; лошади трясли ушами под ливнем. Это уж, воля ваша, выходило совсем как совершенно дурацкое какое представление. Он что, Херман, знал, что будет ливень? Специально подобрали дьявольских таких лошадей? Чудо! Чудо Господне явил нам Александр Иванович Херман. Раздавленные ползли в сторону от кареты, под ноги бегущим.
Херман вместе с Окурковым и мадам Облаковой-Окурковой, с Ольгой Платоновной, а также с каким-то молодым человеком в нахлобученном котелке – с котелка потоками лила вода молодому человеку прямо за шиворот, тот не обращал ни малейшего внимания на этакое небольшое обстоятельство – все они, значит, мгновенно попрыгали внутрь кареты, как сказочные оловянные солдатики в коробку, следом, уже на ходу, на подножку вскочил еще один молодой человек, тоже в котелке, кучер хлестнул по лошадям, те с места взяли галопом, и карета покатила с площади прочь; в последний раз мелькнули притороченные сзади в неимоверном количестве чемоданы, и вмиг карета исчезла, словно бы фантом. За каретою, смешно подбрасывая толстую задницу в седле, проскакал Полубояров и тоже исчез. И ни одного человека из встречающих более не осталось на площади, только несколько корчившихся под ливнем еще живых раздавленных, несколько неподвижных тел да всеми забытый Темнишанский, лидер Движения. Одиноко стоя словно бы в центре еще не созданного мироздания, Николай Гаврилович непоколебимо продолжал протирать пенсне.
Молния прошила небо. Трахххх! – ударило с верхотуры. – Траххх! Темнишанский в этот миг собрался надеть пенсне, но выронил его и затоптался на месте, тыча руками в воздух – без очков он ничего не видел; встал на колени, бесполезно нашаривая невидимые стеклышки в потоках воды; струи, кипя, обтекали его ноги, словно опоры моста. Красин было дернулся туда, к пустой трибуне, но он не мог оставить Катю. Слава Богу, тут подбежали чуть не десяток человек – один безуспешно боролся на ветру с зонтом, наконец, бросил зонт в сторону, – подбежали, значит, раненых подхватили и понесли, а Гаврилыча бегом повели прочь. Слава Богу! Слава Богу! И тут же в единый миг небо вычистилось, ни облачка не осталось на нем, и мгновенно вновь оказалось над головой прекрасное летнее утро. Правильно Красин-то предсказал.
– Je dois changer immédiatement. Emmenez-moi.[39] – как ни в чем ни бывало, распорядилась Катя. Словно бы Красин, значит, не понимал, что Кате немедленно нужно домой и словно бы не собирался ее провожать!
Увы. Увы! Катиному платью пришлось высохнуть на ней самой, без стирки и утюга. Так вот сложился этот непростой день, дорогие мои. Любимая синяя Катина «амазонка», всего лишь второй раз надетая ею сегодня, более никогда в жизни, кроме нынешнего дня, не послужила ей, и мы можем признаться, что сама судьба замечательного платья, платья чистого шелка, платья с золотыми и серебряными вставками, с оборками, отворотами, с чудовищного размера тюрнюром, платья с перламутровыми, серебряными и золотыми пуговицами – судьба синего платья станет известна только лет через сто пятьдесят… Когда ни самой Кати, ни Красина, ни волшебника Хермана, ни героического Темнишанского – никого, кто случился сегодня на площади Финляндского вокзала, не останется на свете. Ну, чуть меньше – через сто сорок лет… Подождем? Это совсем скоро, госпо… Это совсем скоро, дорогие мои. Сто сорок лет – совсем немного, уверяю вас. И Катя словно бы оживет для нас тогда, как только мы узнаем о судьбе синей «амазонки». Но это не сейчас. Не сейчас.
А за полчаса до страшного ливня Александра Ивановича вынесли из вагона на руках. Он держал, не снявши перчаток, цилиндр и трость и слегка размахивал ими, будто бы дирижировал встречающими. Сильно состарился за годы своего отсутствия в России Александр Иванович Херман, но выглядывал бодрым и веселым и непрерывно улыбался в бороду; а что ж тут сейчас – плакать ему, что ли? Был во фраке с малиновым жилетом и поблескивающим бархатным пластроном к жилету в тон, с жемчужною булавкой. Да-с, вынесли, значит, Александра Ивановича из вагона. Но прежде подкатили к тамбуру ковровую дорожку – не попали к поручням-то, вернее – машина не попала так, чтобы, вставши, к раскатанной дорожке аккурат бы угадать с тамбуром вагона, в котором ожидался Александр Иванович. Проехал вагон саженей пять мимо. Бросились – которые переносить дорожку, не скатывая другой раз, а прямо-таки таща конец жестко вытканной красной ленты вслед за двигающимся еще поездом, которые же – скатывать, чтобы раскатать вновь к нужному-то месту дебаркадера; столкнулись лбами, телами, руками.
– Господа! Господа!… – Господа нынче в Москве, милостиcдарь! А тут товарищи! – Да что ж это!.. Это! – Руками-то!.. – Господа! – Nettoyez vos mains! – Faut d’abord rouler, puis les déployer![40] – Идиот! – Что-с? Как вы изволили? – Cochon! De porcs cochon![41] – Да заносите, заносите, Господи, Боже мой! Останавливается ведь! – Господа! Господа! Товарищи! – Да заносите ж! – Подлец! Vous n’êtes pas digne de participer à la Go![42] – Ты руки убери свои! Гусь! – Как вы изволили? – Я изволил сказать, что ты гусь. Гусак! Гоголевский гусак! – А вы подлец, милостидарь! Мерзавец! – Да заносите, Господи!
Наконец победили те, которые желали тянуть ковер, не сворачивая; потащили к вагону.
– Друзья! Ммать вашу! Уйдите же с дорожки! Дайте перенести! Неужели непонятно?!
Хермана, значит, вынесли на руках и потащили к выходу, в начало перрона. За Херманом, никем уже не замеченные, самостоятельно вышли поэт Окурков в сером дорожном плаще и таком же сером цилиндре, как у Хермана, и, добавим тут, в точно такой же седой словно бы присыпанной перцем бороде, как у него, как будто они с Херманом были однояйцoвые близнецы; вышли, значит, Окурков и мадам Облакова-Окуркова, которая, как было известно общественности, жила на самом деле не с мужем, а с Херманом – тоже в сером же дорожном плаще и маленькой шляпке на затылке, подколотой чуть не аршинной золотою шпилькою; мадам встала в вагонной двери и вздернула носик – где встречающие? Нет. Нету!
Окурков помог жене спуститься по железным ступенькам на низкий дебаркадер; они мгновение постояли возле вагона, ожидая хотя бы толику приветствий, но вся публика уже двинулась от вагона прочь – на площадь, где сейчас должно было состояться – и состоялось! – историческое рукопожатие Александра Ивановича и Николая Гавриловича.
– Приехатт, коспота короший! – сверху, из тамбура, сказал странным супругам финн-проводник, выпячивая живот; его силуэт в форменном картузе казался одним темным пятном – тут, в тамбуре, лишенном жгущего снаружи солнца, повисла тьма, словно в пещере. По договору с Великим Княжеством Финляндским дорога Княжеству Финляндскому и принадлежала, и на дороге работали одни только финны. – Припытт изфолитт! – проводник единым махом снял с головы форменный картуз и важно поклонился, насколько ему позволяло брюхо. – Припытт! Фсе! Фсе! Конец тфишення! Конец, – удовлетворенно повторил проводник, это слово он почему-то выговаривал совершенно чисто. – Припытт!
Окурковы переглянулись, поэт отвернул плащ, затем так же отвернул полу фрака под плащом, сунул палец в жилетный карман и вытащил монету. Это оказался серебряный английский фунт – прямо скажем, дорогие мои, – неимоверные деньги в тогдашней России. Проводник, не успевши распрямиться, немедля застыл в поклоне, словно надгробное изваяние. Окурков повертел монету в пальцах, пожал плечами и бросил серебряный кругляш вверх, в тамбур, словно бы на кон ставил судьбу – орел или решка. Проводник с мгновенной ловкостью, коей от человека с такой комплекцией ожидать было никак нельзя, цепким обезьяньим движением поймал монету на лету, и тут же монета исчезла у него из рук, пропала. Так что судьбу поэта определить с помощью монеты не удалось; да что там – у всех поэтов вечно одна и та же судьба: суета и томление духа. Потому и мы с вами скажем сейчас: «Все, господа!» – скажем, значит, и мы с вами. – «Все! Приехали! При-е-ха-ли! Конец!»
Окурковы отправились следом за всеми на площадь. Шли они не торопясь, постоянно оглядываясь на четверых носильщиков, тащивших чемоданы, не торопясь, значит, шли, а то бы они успели увидеть, как поставленный по его решительному требованию на землю Александр Иванович сам опустился на колени и благоговейно поцеловал вокзальную питерскую брусчатку. Тут давно уже начавшиеся на площади аплодисменты усилились многократно.
– Que fait-il? Que fait-il maintenant?[43] – спрашивала Катя у Красина, вытягивая шею. – Allez, dites-moi ce qu’il fait? Je ne vois pas d’ici![44]
– Землю целует родную, – совершенно без ёрничества ответил Красин. – И тут же впал в прежний свой тон: – Землю целует сквозь гранитный камень. Да-с! Экий горячий поцелуй – прожигает камень насквозь, словно гаубичный снаряд.
– Fi, – сказала на это Катя, с деланною жеманностью оглядываясь на Красина. – Fi! Fi! Fi!
Красин засмеялся – своим собственным смехом, смехом сильного, большого, красивого, успешного и уверенного в себе тридцатишестилетнего человека. Засмеялся хорошим добрым смехом счастливого человека, потому что любящий человек всегда счастлив. Всегда.
А потом, значит, потом начался ливень, как мы уже рассказывали. А потом вновь засияло солнце.
1
Цветков первый раз вышел на работу первого сентября.
С утра он почувствовал в себе то успокаивающее и бодрящее чувство готовности к работе, радости от того, что работа сегодня, наконец, предстояла ему – радости, которой он не испытывал уже много месяцев, по которой соскучился и без которой он много месяцев просыпался, не зная, что ему сегодня с собою делать. Лёжачи в утренней постели, он и не торопился подниматься, хотя подняться, разумеется, надо было хотя бы для того, чтобы пойти пописать. Обычно он и вставал лишь зайти в туалет – канализация еще работала, а потом вновь укладывался, включал телевизор, хотя оставшийся единственным телеканал и то, что по нему показывали, вызывали только чувство омерзения – и под бормотание телевизионной панели вновь погружался в дрему. Потом со стонами все-таки поднимался, потому что следовало обязательно пройти в разливочный пункт, отстоять очередь и получить свои сто грамм, которые государство выдавало каждому своему гражданину с четырнадцатилетнего возраста, вне зависимости от пола. Ну, это как бы само собою, это Цветков не считал выходом из дому.
А нынче он вскочил огурцом, да-с, огурцом вскочил и даже некие физзарядочные движения произвел руками и головою, чего он не делал тоже уже несколько месяцев. Совсем было распустил себя Цветков. Последним индикатором распущенности служила незастеленная кровать – это уж полная была сдача позиций, потому что ежли мужик, кстати вам сказать, дорогие мои, ежели мужик, оставшись в одиночестве, не может с утра убрать белье в ящик, это выходит не мужик, а полное безвольное и депрессивное ничтожество. Цветков так и понимал про себя, что он полностью потерял всякое уважение к себе, когда подписал ту, ту предложенную ему для подписания бумагу и, более того, зачитал только что подписанный текст перед телекамерой – как ему сказали, в прямом эфире. Перед зачтением текста перед Цветковым ниоткуда, словно бы из воздуха, появился белый халат, и немедленно был халат этот на Цветкова надет поверх комбинезона и застегнут под горло – выступая, Цветков постоянно ворочал головой, словно удушаемый. Он и был удушаемый, если честно-то сказать. А что, спросим мы, надо было дать себя удушить? Признаться, сейчас у нас нет ответа на этот вопрос, но, возможно, он появится впоследствии. Возможно. Мы подождем, не правда ли?
После того, как на телекамере погас красный огонечек, свидетельствующий о том, что камера работает, чьи-то сильные руки приподняли Цветкова над стулом, содрали с него халат, – халат немедленно испарился за спиной Цветкова точно так же, как пять минут назад возник из воздуха, – Цветкова, значит, приподняли и даже слегка подтолкнули в спину.
– Идите.
Потерявший в тот миг всякое соображение Цветков кротко спросил:
– Куда?
Просто он в тот миг полагал, что теперь каждый свой шаг он будет согласовывать с поступающими указаниями. Вот и спросил в автоматическом режиме. В ответ раздался дружный добродушный смех. Нет, Цветкову не сказали, куда идти, чего можно было бы вполне ожидать, поэтому он, переставляя несгибающиеся ноги, словно описавшийся, пошел к выходу. Он и был описавшийся, скажем мы – только что был удушаемый, а, прочитавши текст под телекамеру, стал еще и описавшийся. Обоссавшийся.
Вернувшись домой, Цветков обнаружил, что от него ушла Настя. Настя оставила на кухонном столе записку, Цветков ее прочитал и на всякий случай тут же положил неровно оторванный кусочек бумаги в рот, прожевал и съел. И даже подошел к раковине, налил себе из-под крана воды в свою чашку – вода в кране сегодня как раз была – и запил бумажный комок, стоящий в горле. Можно было бы запить Hастину записку водкой, и именно сейчас Косте как раз надо было бы выпить, но их общую ежедневную двухсотграммовую дозу Цветковы неизменно выливали в раковину, и сейчас водки никакой в распоряжении брошенного мужа не оказалось. И слава Богу, скажем мы с вами, дорогие мои. К лучшему.
Поскольку записку Цветков съел, мы определенно не можем сообщить, что в ней было, какие такие слова, объяснения или обвинения. Ну, разве два-три слова возможно упомянуть – «слабак» и «предатель». И еще «ненавижу». Еще в записке было обещание неких безумных антиправительственных действий, так что оставлять такую явную улику против Насти Цветков никакой не имел возможности.
Съевши записку, Цветков плюхнулся на пластмассовый стул в кухне. Остекленевший взгляд Цветкова упал на валяющийся на полу обтрепанный и обтертый, чуть не ветхозаветного возраста буклет «Западно-европейская живопись». Это был любимый буклет Настиной юности, видимо, она в спешке его выронила и не заметила, что выронила, а то бы непременно взяла бы с собою, не оставила б Цветкову. Буклет оказался раскрытым точно посередине, по скрепке – на репродукции с фрески Джотто «Бегство в Египет».
Цветков, разумеется, знал эту фреску.
Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь Иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого, родившегося в эту ночь. Потому Святое Семейство по дороге, указанной Божьим Ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет, в теплый и спокойный Египет. Бежало Святое Семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с Младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на Жену с Ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множествoм людей, но Ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал Ангел дорогу – туда, вперед, в благословенный Египет. Младенец вернется, Он придет, чтобы спасти всех нас, но Самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалось на лике Марии, а тревога – на лице Иосифа, вот почему суровый лик Младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвенье, где нет спасения – никому.
Никому.
Сейчас Цветков так понял, что Бог его оставляет, что Бога увозят от него, Цветкова, что он теперь обречен жить не только без Насти, но и без Бога, без будущего.
Стеклянные глаза Цветкова погасли. Цветков распахнул окно – жили они с Настею на восьмом этаже, вполне достаточно для ожидаемого завершения полета – распахнул окно, но тут на него сзади буквально набросилась, вставши на задние лапы, обхватив передними, обхватив, словно бы обнимающий другого человека человек, – набросилась, обхватила и уцепилась зубами за воротник его собака Фрося. Так что Фрося тогда спасла Цветкову жизнь – временно, конечно, сами понимаете, потому что как возможно раз и навсегда спасти кому-нибудь жизнь? Но зачем теперь была нужна жизнь Цветкову?
А «Бегство в Египет» Цветков вырезал из буклета, аккуратно свернул старенькую репродукцию вчетверо и положил в карман штанов, словно бы не давая Марии с Иосифом увозить Сына из жизни Цветкова. Как там Господу нашему вместе со всем Святым Семейством, да еще с летучим Ангелом, с попутчиками, с ослом, с горами и кедровыми деревьями, не дающими тени – как там им всем в кармане Kостиных штанов – легко ли оказалось обустроиться, поистине Бог весть, а мы пока не знаем, дорогие мои. Надеемся, все Они еще выкажут к Цветкову Константину Константиновичу свое отношение.
Зато теперь Косте казалось, что он все-таки не совсем один.
Если бы не утренняя эрекция – совершенно сейчас напрасная, скажем мы, потому что вставлять Цветкову было почти некуда, если бы, значит, не утренняя эрекция, Цветков бы полагал, что он и не живет вовсе. Но сны, сны… Детские эротические сны… Настя-то оставалась теперь только во сне, так что, значит, утренняя эрекция у просыпавшегося от тяжелых снов Цветкова была ломовой.
Цветков никогда никому так и не расскажет, а мы можем сообщить, дорогие мои, что снился Цветкову чаще всего один и тот же сон – будто бы он с Фросей, а Фрося, увы, к нынешнему дню, в котором мы с вами пребываем вместе с Цветковым, к первому сентября Фрося уже месяц, как умерла; ну, о смерти Фроси как-нибудь потом, если придется случай рассказать, – да-с, один и тот же, значит, сон: будто бы он с Фросей на поводке идет к дому и видит, как Настя голая выходит на балкон и машет рукой, и зовет их, Цветкова и Фросю, и манит, зовет к себе – совершенно явственно видел это Цветков, уверяю вас. Видел-то совершенно явственно, каждый кудрявый волосок на заросшем черными джунглями Hастином лобке видел совершенно явственно, но никак почему-то не мог к Насте приблизиться. И тут же весь в слезах просыпался. Такое вот бесплатное кино Цветков – в разных, конечно, вариациях – смотрел практически ежедневно. И просыпался, значит, в слезах и с рукою, а то и с обеими – с обеими руками на детородном своем органе. Ну, что ж тут, правда так правда, из песни слова не выкинешь. Вы понимаете меня, дорогие мои?
Смерть Фроси Цветкова окончательно подкосила. Цветков завернул Фросю в простыню и отнес на край бульвара Юных Храпуновцев, куда с другой стороны выходило окончание Большой Мормышевской улицы – на край бывшего бульвара, потому что сейчас весь бульвар занимала муниципальная помойка. Цветков, с него сталось бы, Цветков мумифицировал бы Фросю и мумию хранил бы дома, но доступа к каким бы то ни было препаратам он уже был лишен, так что приходилось хоронить. Ночью Цветков зарыл Фросю на краю помойки, а уже через несколько дней могилу накрыло разрастающейся вонючей дрянью – помойка, разумеется, продолжала расширяться по всем законам МХПР – Мормышево-Храпуновской партии России. Большая Мормышевская улица, таким образом, являлась воплощенным принципом современного бытования населения.
Да, так смерть Фроси Цветкова окончательно, значит, подкосила, Цветков начал было уже разговаривать с предметами – например, с вилкой:
– А не воткнуть ли мне тебя, дорогая, себе в шею?
Поскольку вилка отвечала несколько неопределенно или же не отвечала вовсе, Цветков так и не успел прекратить, наконец, свои сновидения. Тут и наступило наше первое сентября – день выхода на работу. Накануне Цветкову позвонили оттуда… представляете себе? оттуда! Из мормышевского горкома! Да-с, позвонили, значит, оттуда и мягким женским голосом предложили немедленно же, сегодня, явиться в Семнадцатую Инспекцию Чистого Города для оформления трудоустройства, а первого сентября сего же года выйти на работу.
Из звонка этого Цветков мгновенно заключил, что его еще один раз хотят показать по телевизору, тут же вобрал в себя побольше воздуха, чтобы закричать, сказать им, высказать, выкрикнуть, что более никогда, никогда, слышите, более никогда ничего такого он не сделает, никогда, нет! Но набравши воздуха в грудь, он только произнес: – Слушаюсь.
Там, не попрощавшись и ничего более не добавляя, положили трубку.
Прежде Цветкову убирать постель тем более было необходимо, потому что рядом с Цветковым, когда еще была жива, прямо на белье располагалась, свободно раскидывалась Фрося; Цветков регулярно смахивал с постели собачьи волосы, но вместо того, чтобы спихивать Фросю и приводить ложе свое в порядок, принялся спать в одежде – в кальсонах, носках и теплой майке, хотя прежде всю жизнь спал голым. Совсем, говорю, потерял человеческий облик Цветков. Впрочем, Фрося была чистоплотной барышней, и хотя Цветков уже давно и лапы ей перестал вытирать после гуляния, он, окончивший Московский Серафимовский медицинский институт, полагал, что никакой заразы Фрося принести не может, тем более, что теперь он, Цветков, лежит на белье в трусах да еще и в кальсонах поверх трусов. А вшей у Фроси, как и у самого Цветкова, вшей и у Фроси, и у Цветкова не было. Это мы свидетельствуем совершенно определенно, хотя, конечно, трудно поверить, что у Фроси с Цветковым как раз в той ситуации, в которой они оба оказались, не было вшей. Но вот не было! Не было! Можно бы сделать тут вывод, что благодаря прежней деятельности Цветкова вши просто Цветкова боялись, как и цветковской собаки боялись тоже – мало ли. Цветков знал точно, что вши – народ понимающий. Но на самом деле Цветков пользовался неким волшебным противовшивым элексиром, о чем речь впереди. Не торопите нас. Сейчас мы только скажем, дорогие мои, что вши собачьи и вши человеческие – вши совершенно разные, так что человек, вопреки распространенному мнению, набраться вшей от собаки в приниципе не может. А человеческие вши бывают трех разных видов – принципиально разных. Но об этом потом.
А единственную за все время после Насти женщину – шестидесятилетнюю дворничиху Люсю – настоящее имя Люси нам неизвестно, да и не можем мы запоминать все таджикские или узбекские имена, называлась она Люсею – Люсю Цветков уложил на то же самое собачье белье, и вряд ли та, ложась в постель к Цветкову, могла предположить, что только что тут лежала эта хорошо знакомая ей поджарая коричневая дворняжка – единственная собака, оставшаяся в доме, дворняжка, глядящая в упор невинными черными глазами и уморительно делающая брови домиком. Люся даже не попросила, чтобы собака вышла вон, только засмеялась добродушным азиатским смешком и сказала:
– Смо-отрит… А?
– Давай, давай, – приказал Цветков Фросе, – марш отсюда. Место! Кому сказал?
Цветков иногда, не часто, пару раз в месяц, спускал в Люсю – когда та могла явиться, не вызвав подозрения мужа и детей, спускал, представляя, что кончает в надувную резиновую женщину. А Фрося же вздыхала и, понурив голову, выходила прочь, с таким же вздохом ложилась в коридоре на подстилку – от Фроси Цветков уже давно, при Насте еще, научился непременно вздыхать, ложась или вставая. Эта старческая привычка тридцатишестилетнего человека, эта привычка, мы сообщаем, чрезвычайно раздражала Настю. И сама Фрося раздражала Настю: Константин Цветков женился на девушке, не любящей животных – можете вы представить такой реприманд неожиданный, дорогие мои? Мы – нет, не представляем, но ведь случилось – действительно женился. А теперь Настя исправила недоразумение и ушла от Кости с его ненаглядной Фросею.
Уход жены Константин Константинович Цветков пережил чрезвычайно тяжело. Да, собственно говоря, и не пережил до сих пор, нет, нет… Не пережил… Время от времени спускал в дворничиху, а чаще всего – прямо скажем – каждый день, Цветков занимался онанизмом, подставляя в нужный момент под фаллос салфетку. Это была и зарядка, и разрядка одновременно.
Нынче же Цветков, кроме имитации зарядки, свершил еще одно действо над собою – то, которое свершал он чрезвычайно, ну, чрезвычайно в последнее время редко – побрился.
Цветков, значит, зашел в ванную, повертел в руках тюбик с пастой для бритья – засохшая сине-зеленая масса не желала вылезать; тогда Цветков со всей дури с двух сторон ударил по тюбику кулаками – задубевшая пробка вылетела из горлышка тюбика, как пуля из ствола и вмазала в зеркало; зеркало треснуло. Суеверный, как совсем немногие из врачей, врачи обычно народ циничный, суеверный Цветков ахнул.
– Дурак, – не обинуясь, сказал Цветков своему отражению в треснувшем зеркале. Треснувшее зеркало – это было серьезно. Из него на Цветкова смотрел худенький человечек с конопатой очкастой рожей в недельной темно-рыжей, почитай что – красной с небольшими седыми вкраплениями щетине, с вытянутым острым, почти как у Буратино, носом; усы под носом совсем были красными у Цветкова, просто-таки как галстук помощника мормыша – Цветков, как и все дети в России, в школе был помощником мормыша и носил, разумеется, как все помощники, красный помощнический галстук; в помощниках хээмпээр состояли, значит, все дети в России с восьми до четырнадцати лет. А потом начиналась сложная многоступенчатая процедура приема в саму ХМПР. Цветкова в партию-то не приняли в свое время, так что с того? многих не принимали; в России это ничему особенно не мешало – ну, до определенного уровня карьеры. Цветков даже магистерскую диссертацию защитил по своим площицам, то есть, говоря простым языком, по лобковым вшам. Цветков был «вшивым» специалистом, – так его называла Настя. Очень хорошим специалистом, добавим мы тут, даже – уж скажем правду: лучшим в России.
Да, так, значит, очкастая небритая рожа с различными отливами красного цвета, рожа, перечеркнутая шрамами на зеркале, смотрела на Цветкова. Над рожею торчали в разные стороны морковного цвета патлы.
Седина в бороде Цветкову не понравилась – это появилось только что, недавно, как он проглядел? А он и не глядел вовсе, Бог знает, сколько дней Цветков не глядел на себя в зеркало.
Потрогав осторожным пальцем в нескольких местах зеркало – не осыплется ли, Цветков намазался обычным мылом и побрился, усы подстриг. Потом, подумавши, наголо побрил голову. Красновая, словно бы у аллергика в период острого криза, кожа такого цвета являлась для Цветкова естественной, он весь был такой. В школе Цветкова звали вовсе не Цветком, как вы, дорогие мои, могли бы предположить, а Цветным. Рискуя окончательно вызвать ваше неудовольствие бывшей гражданкой Цветковой Анастасией Викторовной, мы можем сообщить, что, кроме «вшивого специалиста», та называла мужа еще и «краснозадым» – ласково так называла, обычно в процессе выполнения интимных супружеских обязанностей. Ну, тут мы могли бы сказать, что против фактов не попрешь и что факт – на лице, если бы оный факт не наблюдался, кроме лица, непосредственно и на заднице. Красной была задница у Цветкова, с настоящим красным отблеском, словно у павиана. Но и лицо, значит, тоже, и все тело, в том числе и детородный орган – все было красным.
Некоторые ученые утверждают, что все рыжие люди, а тем более – такие уникумы, как Цветков, происходят непосредственно от пришельцев, что, дескать, генетически рыжие еще дальше от белой расы, чем, скажем, негры, и Цветков, будучи врачом и биологом, эту версию, разумеется, успел проверить и не нашел в своем геноме ничего особо выдающегося, чем научно опроверг предположение о своем дальнем родстве с пришельцами. А мы с вами, дорогие мои, в полном своем праве тут заключить, что – ну, все бывает.
Вот, например, крокодилы. Скажите правду, дорогие мои, – вы знаете, что генетически крокодилы гораздо ближе к птицам, чем к ящерицам? Трудно было бы предположить, не так ли? Но это чистая правда. Медицинский факт. Поэтому хрен его, Цветкова, знает, может, действительно, и от пришельцев он произошел. Ну, и хватит о цвете Цветкова, достаточно пока.
Да-с, так утром первого сентября Цветков почему-то ожидал увидеть толпы детей пусть и не с традиционными и обязательными красными гвоздиками – цветов в России давно уже нигде не продавали, – ожидал увидеть перевязанных мормышевскими галстуками детей, идущих в школу, но в первом холодном воздухе было пустынно, и тут он со смешком осознал, что – шесть часов утра, школьники спят, как и их родители, и только он, Цветков, рабочий человек, первым осенним днем уже поднялся, потому что ему надо трудиться, на работу ему надо идти, а настоящая работа начинается в восемь утра – еще раньше каких бы то ни было уроков, и чтобы поспеть к восьми, Цветкову надо было выйти из дому в шесть и через всю Москву ехать на трех автобусах с пересадками – на 71-м, 18-м и 32-м. Метро-то давно, уже несколько лет, как не работало.
Рассветало еще рано, но осень нынче обещала быть холодною, ветерок погуливал знобящий и сырой, Цветков, стоя в сравнительно небольшой утренней очереди в разливочную, ежился в старом кожане. Лиственницы возле дома ощутимо уже начинали желтеть, пока еще не роняя иголок, а желтые листья тополей уже шуршали под ногами, словно бы не сентябрь начинался сегодня, а самый что ни на есть октябрь или даже ноябрь.
Получив ежедневный штамп в свою учетную выпивную книжку и выпив свои сто грамм, налитые ему из мерного стаканчика, прямо у раздаточной стойки, Цветков достал пачку сигарет, раскупорил ее и закурил первую сигарету. Сегодня надо было и выпить, как все правильные граждане, и закурить. Не курил он и не выпивал норму, признаться, уже несколько лет, не закурил вновь и не запил даже после ухода Насти и очень гордился собою за это свидетельство остатков характера, хотя он просто не вспомнил, когда ушла Настя, про сигареты и водку, но нынче, выходя на работу, не закурить и не выпить было невозможно, потому что некурящий работяга, от которого бы не пахло, как положено, водкою и табаком, вполне справедливо Цветков полагал, осложнил бы свое положение в трудовом коллективе, и Цветков теперь оправдывал развязывание с куревом и приемом нормы столь благородною причиной. На самом же деле дырявые цветковские нервы не выдерживали нового и последнего стресса – выхода на работу; организм требовал любого, какого ни есть, наркотика.
Новое начальство сидело за столом в кепке и в ватнике, открывающeм жилистую голую шею. Цветков, всегда раздражающийся, когда видел людей, не снимающих в помещении и за столом головных уборов, тут же отметил это. Наверное, нечто неприятное отобразилось у него на лице, потому что начальство уставилось на Цветкова тоже с явным раздражением. В комнату постоянно входили и выходили из нее люди.
– Цветков, – сказал Цветков от двери. – Цветков. Вы вчера меня на работу приняли.
– А! Да, блин! Уже мозги, на хрен, затрахали, блин, с утра. Пошли, блин.
Начальник поднялся, сунул Цветкову руку, вышел в коридор и провел Цветкова в большую комнату без дверей. Там стояли однообразные железные шкафчики, на каждом болтался маленький навесной замочек. В комнате нестерпимо воняло, словно бы каждый замочек источал удушающий запах грязного пота.
– Вот, блин, понял? Твой, блин, – начальник указал на открытый шкафчик, на котором вовсе не было никакого замка. – Замок сам, блин, купишь, если похочешь в одёже жить, блин. А у меня ни хрена нет денег вам, блин, каждый день замки новые покупать. Понял? Сегодня же, блин, купи, а то все вычистят, на хрен, под ноль, блин. Но денег не оставляй все равно, блин, даже под замком, блин, понял? И ключей и документов, блин. Понял?
Цветков кивнул.
– Давай.
Цветков вытащил из шкафчика рыжий комбинезон с надписью «17-я ИЧГ» по спине и грязные резиновые сапоги. Комбинезон тоже оказался не очень-то чистым, но Цветков понимал, куда он явился со своим трудовым энтузиазмом – чай, не в операционную и не в лабораторию. Главное, комбинезон, разумеется, оказался ему более чем велик. Сапоги свободно болтались на ногах. Цветков затянул на себе потуже серый от грязи, бывший когда-то белым брезентовый пояс.
Через минуту начальник, то и дело, как и все люди в городе, почесываясь, подвел Цветкова к такому же рыжему, как комбинезон, десятиметровому трехосному мусоровозу, смонтированному на ветхозаветном камазовском шасси. Машина ли была под стать Цветкову, он ли удивительным образом подошел машине по цвету – чего не знаем, того не ведаем. Все тут было одинаково рыжим и еще – одинаково грязным, холодным и чужим – все, несмотря на сходный колер, все не пускало к себе Цветкова, но Цветков не дал себе изжить радостное чувство предстоящего трудового дня.
Начальник полез куда-то внутрь ватника и вытащил из себя огромную, как астраханский кукан, связку ключей, выбрал нужные два, отсоединил и протянул Цветкову. Это были ключ зажигания и ключ от двери машины
– Давай, блин. Наряд и путевой лист вон, – он показал, обернувшись, пальцем, – знаешь? У Ксюхи, блин, возьмешь наряд. Давай, блин… Да… – тут начальник что-то явно вспомнил и отдал указание: – Ксюху не трахать! И вообще до неe не касаться! Понял?
Цветков поспешно кивнул. Начальник, не снисходя до объяснений, с чего бы это вдруг Цветкову нельзя даже касаться пока еще неизвестной ему Ксюхи, прокашлялся и закричал:
– Чижик! Тррраханнный в рррот! Чижик, блин!
Тут же, взявшись как из-под земли, перед Цветковым оказался спокойноглазый мужик лет тридцати пяти, оказался, значит, мужик в черной бейсболке со сломанным козырьком, тоже в ватнике на голую грудь.
– К нему в пару, блин. Понял? Напарник, блин. Чижиков называется, блин.
– Константин, – Цветков протянул руку, – Цветков. Очень приятно.
Чижиков почесался, и почему-то ничего не сказал, и странно смотрел на Цветкова, потом все-таки протянул грязную, с черными ногтями руку; при рукопожатии рука Чижика оказалась словно бы стальная.
– А ты, блин, выходит, Цветок, блин, – заулыбался новый Цветковский начальник, оттопыривая щеточку коротких, подбритых от носа усов; такие усики носят все турки. – Будет у тебя, блин, погоняло такое – Цветок, блин.
– А у вас, блин, какое, блин, погоняло, блин? – спросил Цветков, ощущая действие выпитой на голодный желудок нормы.
Начальник не удивился и вроде бы не выказал вообще никаких чувств при сем демарше. Ну, разве что в этот раз более яростно почесался под ватником.
– Я Гасанов, блин, понял? И все зовут меня, блин, Газ, понял? Газ! Я, блин, в Москве родился. Я первую русскую, блин, телку в арбатском, блин, подъезде трахнул. Мне было одиннадцать лет, блин, и ей, блин, одиннадцать. Понял? Я, блин, больше русский, чем все вы, суки черножопые. Понял? – тут начальник начал потихоньку стервенеть. – Вот посмотри, блин, на него, – Газ ткнул толстым пальцем в Чижикова. – Он, блин, грязный, черный, весь во вшах, он никогда не моется ни хрена. Он срать, блин, сходит, так даже не подмывается. Только разве что пальцем, блин, вытрется. Он норму, блин, свою не потребляет ни хрена, и думает, что я, блин, не знаю. Какой это, на хрен, русский, ежели он, блин, ни хрена не пьет? Он черножопый, блин! Черножопый! Правда, блин, Чижик?
– Правда, – спокойно сказал Чижиков и почесался несколько раз за ухом, словно собака. Цветков вспомнил Фросю, хотя Фрося, говорим мы еще раз, если когда и чесалась, так только потому, что линяла через меру, у нее просто лезла шерсть – несмотря на все профессиональные усилия Цветкова; но что можно сделать без препаратов, дорогие мои? Ничего. Цветков, значит, вспомнил Фросю и вздохнул.
– Вот, – удовлетворенно кивнул Газ. – А наука что нам, блин, говорит? Почему государство, блин, каждому, блин, норму разливает, на хрен? Почему государство, блин, заботится? Потому что тех, блин, кто регулярно пьет, меньше, на хрен, вши дотрахивают, понял?.. Наука, блин! Наука! Понял?
– Понял, – улыбнулся Цветков. Газ сейчас повторил распространенную среди народа глупость. На самом деле – уж Цветков-то знал – на самом деле площицам[45] все равно, по трезвому человеку они ползут или по пьяному. Вот от радиации водка помогает, это да. Ну и, разумеется, при малярии лучше быть пьяным, чем трезвым. Но сыпной тиф, который разносят вши – уже не лобковые, а так называемые платяные – сыпной тиф, значит, не малярия, тут государство совершенно напросно озаботилось.
– А ты, блин, Цветочек, сука, хрен ли ты, блин, зубы мне показываешь, блин? – Гасанов вдруг приблизил лицо к лицу Цветкова и по-волчьи ощерился, сам показывая золотые зубы; в лицо Цветкову понесло табаком, водкой и еще каким-то омерзительным тлетворным запахом – то ли перебродившим желудочным соком, то ли трупной гнилью, Бог знает чем еще. – Ты, блин, станешь залупаться, так я, блин, тебя, блин, на полигоне зарою, на хрен. Живым еще, блин. Понял? Несмотря на то, что ты блатной, блин. Зарою, на хрен, и драной письки делов. Говно вопрос. Понял, блин?
– Понял, – отстранился Цветков.
– Вот, – так же удовлетворенно вновь кивнул Гасанов, принимая прежний облик – деловитый и торопящийся. – Вот, блин. Да и что, блин, сто грамм для нас, русских, блин? Хрен дробленый! – Он вновь засмеялся; выражения снисходительной доброты и ярости сменялись в Газе мгновенно. – Хренотень! Так что ты, блин, Цветочек, не гони, на хрен, и все будет путем. Все путем, а пиписька рулем! Скоро ты, блин, тоже станешь черножопым, блин, как вот он.
– Я не стану, – сказал Цветков в спину повернувшемуся и уже сделавшему первый шаг Газу. Газ обернулся, смерил Цветкова взглядом, ничего не сказал и пошел себе. – Эй! – тут же закричал он в сторону заруливающего на парковку ржавого мусоровоза. – Эй! – Далее последовала короткая возбужденная фраза на турецком, которую мы воспроизвести не в состоянии. Что-то вроде «Nerede? Uçüncü sektör için gel![46]». Шофер так же горячо отвечал Газу из-за руля, мы уж не станем, дорогие мои, вас утомлять этим совершенно для вас никчемным разговором хозяев города.
– Дурак ты, Цветочек, – спокойно сказал Чижик, всё почесываясь. – Он тебя в натуре зароет… На раз… Сигаретка есть?
– Есть. – Цветков протянул было открытую пачку Чижику, но взглянув на его черные пальцы, сам вытащил сигарету и подал. – Пожалуйста.
– А че выеживаешься? – так же спокойно спросил Чижик, закурив. – И сигареты у тебя выежистые. Пацаны все курят «Старший помощник» или «Мормыши», а ты вон «Храпуновские полусигары». Крутой, да? Крутой? Усы отрастил… Крутой?
– Крутой, крутой.
– Или, может, ты турок? – продолжал расспрашивать Чижик.
Надо вам сказать, дорогие мои, что растительность на лицах совершенно властями не поощрялась, хотя прямого запрета на усы и бороды не было. Но неофициально разрешалось носить усы только туркам в силу их традиций, а бороды – не разрешалось никому. Да Цветков и не собирался фрондировать красными своими зарослями, они появились сами собой.
– Не-а… – скромно сказал Цветков. – Просто крутой… А вы правда норму не выпиваете?
Чижик засмеялся, не выпуская цветковской сигаретки, одной рукою сгреб Цветкова за ворот и поднял над землей; Цветков заболтал ногами в воздухе, словно повешенный. Это напомнило ему, как с него сдергивали халат в студии телевидения – тоже на короткое мгновение тогда его подняли над землею. Напомнило, значит, ему, и Цветков в единый миг понял, что последует за вознесением его очередным – несчастье, беда, горе и стыд. Словом, ужас какой-никакой, а непременно вновь случится с ним, хотя он так про себя понимал, что весь возможный ужас уже случился, уже произошел в его жизни.
– Ты кем был раньше? Ну, раньше, до того, как сюда попал, чем занимался, Цветочек? – держа Цветкова на весу, так же спокойно спросил Чижик.
– Вирусологом, – немного подумав, честно сказал Цветков. – Занимался вирусными болезнями насекомых.
– О как, – кажется, какое-то пока непонятное нам знание мелькнуло в глазах Чижика, Чижик опустил Цветкова на землю, и тот поправил ворот и рефлекторно отряхнулся – точно так, как, бывало, отряхивалась Фрося, только что Фросины уши при этом производили совершенно уникальный для живого существа звук – такой звук издает запускаемый пропеллер поршневого самолета, а вот Цветковские уши были в движениях своих бесшумны, это мы можем засвидетельствовать совершенно определенно, дорогие мои. – О как, – повторил Чижик. – Лечил маленьких таких, таких вот маленьких насекомых? – Чижик сложил пальцы, словно бы показывая раздавленную вошь. – Да ты просто доктор Айболит, пацан.
– Айболит насекомых не лечил. – Цветков вдруг почувствовал, что ему наплевать на новое только что испытанное унижение, плевать, да-с. Он тоже достал из пачки сигаретку и закурил. – Айболит обезьян лечил. В Африке. А я насекомых, – тут Цветков помимо себя нервно захихикал, посасывая сигарету, – я насекомых убивал, друг мой. Тысячами… – он вновь хихикнул. – Миллионами… Именно поэтому никаких насекомых в России больше не осталось. Нет насекомых! Вообще! Нету! Нету! Нет никаких насекомых! – Цветков удовлетворенно выпустил струйку дыма из-под усов. – В России! А то, что ты постоянно чешешься, друг мой, это иллюзия. Не верь.
Чижик, мгновение помолчав, ничего на цветковские глупости не ответил, а только ткнул пальцем в мусоровоз: – Иди, садись. Киллер, блин, хренов. Я путевой лист сам возьму у Ксюхи, – он было зашагал в сторону конторы, но тут же вернулся. – Да, вот что, парень, – Ксюху…
– Знаю, знаю, – Цветков вновь нервно захихикал. – Ксюху не трахать. Я не буду.
Сорвавшись ногой с рифленой металлической подножки, он со второго раза на нее встал, забрался в кабину и сел на постеленный поверх сидения почему-то новый армейского образца ватник. Прямо напротив него оказалось изображение истребителя – Цветков не разбирался в деталях – МИГа или СУ, но это явно был истребитель, идущий на взлет на грязном стекле мусоровоза. Вместе с Цветковым на истребитель со стекла смотрела стоящая раком голая девица, основательные груди ее свисали вниз, промежность была чистейше выбрита, а губы вокруг вагины – приоткрыты и, казалось, светили нежно-розовым светом, как светила и шоколадная дырочка ануса. Цветков, чего делать было, конечно, совершенно нельзя, рефлекторно протянул руку и попытался фотографию девицы отодрать – тщетно, слава Богу – и девица, и истребитель приклеены к стеклу были намертво, так-то запросто заменить их на репродукцию Джотто не удалось бы. Тут Чижик вскочил с другой стороны кабины за руль.
– Это что за истребитель? – спросил Цветков, желая установить правильные отношения с напарником, – немецкий или американский?
Чижик быстро взглянул на Цветкова.
– Это штурмовик. Русский. Видишь – звезды. А эта сучка – американка Келли Хендерсон. Знаешь?
– Не-а, – сказал Цветков, на мгновение забыв о дипломатии и пролетарской общности интересов.
Чижик на это ничего не ответил, и мусоровоз с Цветковым и Чижиком, тяжко давя колесами песок, выехал со двора Семнадцатой Инспекции в город.
Неистощимая
Голубович жил в бывшей усадьбе князей Кушаковых-Телепневских. Когда-то, во время оно, от центрального дома отходили две дурацкие колонные галереи, словно бы в Гостином дворе в городе, но с течением лет от обеих галерей не осталось – не сказать, чтоб никакого следа – не осталось ничего, кроме кирпичных фундаментов, да и те народец основательно повыламывал. Усадьба не раз и не два за свою жизнь горела. Но горела, да не сгорела. А Голубович, севши в губернаторское кресло и утвердившись в усадьбе, повелел самые следы фундаментов расчистить и учинить на их месте посыпанные кирпичной же крошкою дорожки для его, Голубовича, променаду и плезиру, потому что Голубович, как и король, гулял в любую погоду, а по мокрой земле ходить совсем не любил. Брезглив был наш Иван Сергеич, брезглив, каковое свойство особенно проявилось на закате его жизни, о чем мы, дорогие мои, в свое время незамедлительно и упомянем. Не сомневайтесь.
Да-с, так повелел, значит, проложить дорожки, и бегал по ним каждое утро, вызывая глухое и от невозможности высказать его все накапливающееся раздражение охраны, не всегда могущей поспевать за борзым охраняемым объектом. Тогда добрый Голубович вынес вердикт – нет необходимости бегать каждый день за боссом, если сугубо охранять разом всю территорию губернаторской резиденции. Вот тогда к забору губернаторскому даже и приблизиться стало невозможно, не то, что, скажем, дотронуться до него или же, паче чаяния, форсировать оную двухметровую глухую загородку – чуть приближался кто, конный или пеший, или хоть шалая кошка, чуя запахи иваново-петровской кухни, приседающей побежкой пересекала невидимую граничную черту, – тут же раздавался сигнал. Вот какие строгости завел у себя Голубович. А вы как думали, дорогие мои?
Голубович, значит, проснулся, пошарил рукою по кровати возле себя и, нащупав женское тело, еще сонный повернул его к себе попою, вставил – сначала не разобрал даже, в какую дырку вошло, потом понял по упругому сопротивлению сфинктера – употребил случившуюся рядом тетку, та не двигалась, – этого Голубович не любил, не любил, когда тетки лежат молча и неподвижно, ночью-то она честно подмахивала и стонала; и правильно – если живая тетка не участвует в процессе, она ничем не отличается от резиновой куклы из секс-шопа. Да, так Голубович употребил, значит, лежащую рядом, потом со чпоком, словно пробку вытаскивал из бутылки, выпростался, поднялся и прошел в туалет.
Что-то хмуро проснулся нынче Голубович. Однако же прекрасно сознавая, что хорошее рабочее настроение возможно и необходимо обрести, наш Сергеич мгновенно оказался в кроссовках, спортивных трусах и в красной майке с чудовищными узорами в виде извращенных огурцов и с надписью «Russia» на ней – из олимпийского комплекта, спустился вниз – спальня помещалась на втором этаже – и побежал. Побежал. Незримо присутствующая охрана неотступно следила за боссом.
Мы, конечно, можем вам сказать, что губернатор даже и не знал, что за женщина сегодня спала с ним рядом, что, дескать, он никогда не входил в такие мелочи и трахал все, что движется, но это было бы враньем, дорогие мои. Кроме того, это пошло. Ну, совершенно пошло. Голубович доступных теток и тем более теток по вызову в жизни не трахал, ну, разве что в молодости, так оно дело молодое, не в счет. Мы можем засвидетельствовать, что Голубович спознавался только с порядочными, замужних дающих теток не выносил и презирал и опускался до таких в редчайших случаях. Да-с! Только порядочных! Да-с! Ну, а что он вышел на пробежку, не посмотрев на неподвижно лежащую со все еще выставленной попой женщину, так это в сторону, дорогие мои. Голубович искренне любил всех своих подружек. Только так, можем мы тут добавить, только так и возможно сохранить хоть какой-то к теткам интерес. Романтиком был Иван Сергеевич, вновь напоминаем мы, романтиком!
Вернувшись, Голубович шумно прошел в ванную и встал под душ. Настроение уже было замечательным. Голубович вытерся и натянул на себя халат с кистями.
– Привет! – доброжелательно сказал Голубович лежащей. – Хорошо зажгли вчера, а? Щас тебя отвезут. Давай, подымайся… Вставай, подымайся, рабочий народ, – процитировал губернатор революционную песню прошлого века.
– Ну, я тебе не рабочий народ, – вольнодумно ответила женщина, ничуть не обинуясь пред хозяином всего Глухово-Колпакова. Она только повернулась на кровати и совсем уже сбросила с себя одеяло. Голубович с удовольствием смотрел на голенькую переводчицу, на маленькие ее острые сисечки и рыжие волосы на лобке. Такие проволочные джунгли уж нынче редко встретишь у продвинутых-то девиц, все бреются или, как минимум, стригутся. А та, потянувшись, все-таки поднялась с кровати, в утренних золотых лучах посверкивая бликами на тоненьком глянцевом тельце. – Что? – еще спросила она. – Нравлюсь, начальник?
– А як же ж!
И тут же внутренний голос почему-то сказал Голубовичу: – Сука! Сууука! – И вновь четко посоветовал: – Урой ее, суку! Урой, на хрен!
Голубович пожал плечами, ничего внутреннему голосу не ответив. Послушаться совета ему пришлось несколько позже. Вернее, урывание, а еще вернее – зарывание Хелен произошло само собою, помимо воли губернатора. А сейчас он ничего, значит, не ответил, но настроение вновь испортилось.
Начальник нажал кнопку на селекторе и велел подавать завтрак в спальню. Вошла Марина, горничная, с подносом. Голубович, еще не садясь к столу, налил себе в серебряный шкалик водки, опрокинул и заел икоркою, поддев ее пальцем из вазочки – обсосал палец.
– Давай… Закусим… – сказал сухо. – И поедешь, у меня нынче делов до хрена. – Он вздохнул: – Вагон и маленькая тележка… Делов… Ду ю сыыы? – добавил образованный губернатор, почти исчерпав этим вопросом английский свой словарный запас. – Скажи там – машину через двадцать минут для девушки, – отнесся он к горничной на родном языке. Марина заученно произнесла «слушаюсь, босс» и вышла.
Сегодня Голубовичу из делов предстояло следующее: первое, это решить вопрос с новой дорогой от Глухово-Колпакова через расположенный рядом с бывшим монастырем изрезанный оврагами холм, за сходство очертаний вторую сотню лет называемый в народе «Борисовой писькой» – с новой дорогой в соседнюю область.
Все дорожные работы в области вот уже больше десяти лет выполняла фирма под названием VIMO, с которой Голубович исправно получал свои откаты. VIMO, можем мы вам тут сообщить, дорогие мои, чтобы вы не ломали голову, расшифровывая таинственную аббревиатуру или подыскивая ей какой-никакой общемировой эквивалент, VIMO расшифровывалось просто – Виталий Мормышкин. Означенный Мормышкин, владелец и гендиректор, считался своим человеком и исправно каждый год ремонтировал и даже иногда прокладывал новые глухово-колпаковские пути сообщения, которые тут же начинал ремонтировать тоже. Все бы хорошо, продолжаем мы информировать вас, и губерния незамедлительно заключила бы новый с Мормышкиным договор, но некий Шурик Аверьянов, имеющий в кругах погоняло Аверьян, крупнейший в Глухово-Колпаковских местах латифундист, вдруг заявил на дорогу свои права.
Сейчас Голубовичу надо было думать, как ему перетереть про дорогу с Шуриком. Это первое. Допустить падение своего влияния на областные события Голубович никак, сами понимаете, не мог. Что же касается Мормышкина, то Иван Сергеевич недавно передал ему весь компклекс областных очистных сооружений вместе с вывозом и переработкой мусора – доходнейшее дело. Правда, предстояло оттеснить от вывоза мусора прежних владельцев, но с ними VIMO разобралось бы самостоятельно. Зато владение мусором теперь практически уравновесило Мормышкина с Аверьяном и поставило опытного Голубовича, как всегда, над схваткой. Ну, и хватит пока об этом, дорогие мои.
Второе – завтра предстоял под телекамеры электронный брифинг с Москвой. К завтрашнему надо было подготовиться, то есть – чтобы областное чиновничество подготовило Голубовичу под руку справки решительно обо всем, обо всех последних глухово-колпаковских достижениях в деле модернизации и капиталистического строительства, причем представить оные достижения необходимо было с умом – вроде бы они есть, а вроде бы и нет: излишние областные успехи, как вы сами понимаете, дорогие мои, наверху не поощрялись.
И третье – совсем коротко, чтобы более вас не утомлять – третье, это сегодня после брифинга к Голубовичу должна была прийти журналистка из московского журнала, некая Маргарита Ящикова. Голубовичу показали ее портрет на глянцевой журнальной полосе. Глянцевая журналистка очень ему понравилась с виду. Поэтому Голубович готовился давать интервью, но только так, чтобы и журналистка ему дала – собирался наш Голубович в процессе интервью трахнуть работницу – чуть мы не написали «работницу пера» – работницу ноутбука, потому что давно он не трахал журналисток. Да-с! Давненько! В постоянных тетках у Ванечки нашего числилась сейчас та самая Иванова-Петрова, и ооочень неглупая и в постели замечательная оказалась баба, но постоянные-то не в счет! Да-с! Не в счет! Ведь наш Сергеич был не только романтиком, как мы уже сообщали вам, но еще и гурманом, вот что! Да-с! Гурманом! К предстоящему послеинформационному сексу губернатор относился, как и ко всем остальным делам, вполне серьезно, потому что, еще сообщаем вам, был он не только романтик, не только гурман, но был еще и очень, очень серьезный человек. Так он о самом себе полагал, ну, и мы с вами, дорогие мои, тоже станем так же вот полагать о Голубовиче.
И, конечно же, теперь неотступно следовало – это в четвертых – следить за дорогими гостями из Глазго. Голубовичу уж доложили, что из Глазго гости, а не из Лондона.
Перечислив прекрасные эти планы Ивана Сергеевича на нынешний день, мы сразу вам можем сообщить, что совершенно всё из запланированного выполнить Сергеичу не удалось. Хотя некоторые пункты блистательно оказались претворенными в жизнь сами собою. Или полупретворенными. Или недопретворенными. Это уж как кому свезло.
– Ты вот что, Алена, – сказал Голубович, садясь к поставленному на кровать подносу и вновь все доброжелательней и доброжелательней поглядывая на переводчицу. Хелен присела рядышком, видимо, она совершенно свободно чувствовала себя без одежды. – Ты вот что… – тут он прервался, потому что внутренний голос просто завопил у него под макушкой: – Суууукааа! Сука она! Молчи, козел! Молчи! – и Голубович, раздраженный поучениями внутри самого себя и столь неправильным к себе обращением, вдруг неожиданно заорал в воздух, сжимая кулаки: – Сам молчи! Молчи, блин! Молчи!
Голубович перевел дыхание, несколько раз сильно выдохнул, словно бы на тренировке в спортзале, и тут же вошел в разумение, вернулся. Эдак-то – наяву и вслух – с собою прежде он никогда не разговаривал.
– Слушаю, – как ни в чем ни бывало произнесла Хелен, словно бы готовилась переводить сейчас.
… Вчера вечером Голубович, получающий в режиме мониторинга информацию обо всех действиях приехавших гостей и узнавший, что гости в полном составе сидят в «Глухом колпаке» – подвальчике на улице Тухачевского, в самом крутом городском кабаке, туда же и заглянул – на огонек, типа. Как бы на огонек. Да, на огонек типа заглянул как бы. Гостеприимный хозяин. Заглянул. Да-с! Типа гостеприимный. Как бы. Блин! Блин! Блин!
Днем, по докладам, англичане гуляли по окрестностям и ездили к монастырю. Ну, о монастыре потом, дорогие мои. Потом… Ездили, значит, к монастырю, стояли на Борисовой письке, разглядывая монастырскую стену и церковные маковки за ней, причем, по докладам, сопровождающий гостей учитель Коровин – тот переводчик в джинсовой курточке – что-то явно про историческое название гостям рассказывал, топал в землю ножкою как раз на месте вагины, и гости много смеялись. От сопровождающего работника администрации Маккорнейл решительно отказался, как Голубович ни настаивал, а сотрудник Денис, по всей видимости, пока ни во что не вмешивался. Вот почему, выслушав рассказ про историческое название местности, маккорнейловы инженеры выкатили из микроавтобуса небольшую бурильную установку – правильно Голубовичу доложили, бурильная это оказалась установка Graffer, – укрепили ее на выносных разворачивающихся, словно бы у автокрана, опорах, залили в бак соляру и с воем и скрежетом вонзили прямо в вагину стальной, сверкающий на солнце бур. Голубович в это время аккурат сидел за столом, подписывая накопившиеся за пару недель бумаги, так «паркер» – настоящий тысячедолларовый английский «паркер» с настоящим золотым пером – «паркер», значит, сам по себе дрогнул в руке губернатора, выдал кривую загогулину вместо четкой, известной всему городу росписи, и перо погнулось. Разумеется, Голубович тут же выматерился, но мать «паркера» решительно тут была не при чем, это сама русская земля в тот миг вздрогнула – вздрогнула, когда ей в самое сокровенное место воткнули бездушный, режущий фаллоимитатор. И гости, и переводчица Хелен, и местный переводческий кадр Коровин, и двое полицейских в сопровождающей машине – от полицейских Маккорнейл не смог отказаться, – и Денис, и наблюдающие за столь необычным около монастыря скоплением людей и машин лица – все, которые случились рядом – все, сколько их ни было рядом и в отдалении, вся область, вся Россия вздрогнула в тот миг, дорогие мои.
Кто-то поднес к губам рацию и произнес в нее только одно слово:
– Бурят.
Услышавший эти слова в московском своем кабинете человек тут же встал и из своего кабинета вышел.
Вы будете смеяться, дорогие мои, но то же самое слово в единый миг произнесли еще несколько человек, и услышали эти слова еще несколько – разных! – человек в Глухово-Колпакове и вне его, аж, как мы вам уже соощили, дорогие мои, аж в самой Москве.
– Бурят…
– Бурят, товарищ первый!
– Бурят!
Поэтому секретарь Максим, подававший бумаги Голубовичу, послушавши краткое сообщение, доложил:
– Бурят, Иван Сергеевич.
Вот Голубович и явился разбираться в «Глухой колпак». Охрана пошла по столикам, и сторонних посетителей в «Колпаке» тут же не стало. Голубовичу немедля принесли графинчик белой, и темного пива «Крушовице» в литровой кружке, и настоящих охотничьих колбасок – простые вкусы губернатора прекрасно были известны каждому в области ресторатору.
Англичанин произнес длинную фразу, подкатившаяся Хелен собралась было переводить, но Голубович указал перстом на учителя: – Вы.
Коровин покрылся краской.
– Недопонял, Иван Сергеевич… К цыганам, говорит, хочу ехать…
– Блин-иин! – сказал Голубовичу внутренний голос. – Блин-иин!
Словно бы на зов идя, ничуть не обидевшаяся Хелен придвинулась и быстро перевела:
– Господин Маккорнейл желает послушать цыганский хор, который, как он слышал, есть в каждом русском городе.
– Бллин! – тихонько сказал теперь и сам Голубович. И обернулся: – Из театра артистов сюда, живо! Гитару!
Тут мы должны обогатить вас следующими знаниями, дорогие мои. Во-первых, в Глухово-Колпакове существовал театр, самый настоящий, Театр драмы и комедии им. А. В. Луначарского, с главрежем, окончившим РАТИ-ГИТИС и актерами – те, правда, не все были отягощены высшим специальным образованием – всего числом восемнадцать человек, но им, как и главрежу, романтик – вы помните? – романтик и гурман Голубович платил неплохую по глухово-колпаковским меркам зарплату и время от времени ездил в театр, словно бы товарищ Сталин во МХАТ или Сергей Мироныч Киров в Мариинку, причем, в отличие от Кирова, никого в театре Голубович не трахнул – некого там было, даже обе травести не вызывали никаких эротических чувств, так что любовь нашего Ваньки к местной Мельпомене оставалась совершенно чистою, как и у Вождя народов. А во-вторых, наш Сергеич довольно-таки прилично играл на гитаре и пел. Истинно талантливый человек во всем талантлив, дело известное.
Из воздуха явилась гитара.
Голубович вытянул стопарь, отхлебнул пивасика, проглотил колбаску, утерся, прокашлялся и в полной уже тишине вдарил по струнам.
Когда я пьян, а пьян всегда я,
Ничто меня не укротит, —
откровенно сообщал Голубович, с гитарою в руках всегда забывавший и о правилах – писанных и неписанных – российского чиновничества, и об соответствии репертуара времени и месту. Ну, романтик! Романтик! Мы же вам говорили.
Фуражка теплая на вате, —
– пел глава областной администрации, —
Фуражка теее-еплая на вате, —
и проигрыш давал на рокочущих струнах: – Там-там-там-там!…
Чтоб не прозя-абла галл-лaва!
Не сделавши перерыва и бурные сорвав аплодисменты, только что охрана, привычная ко всему и работу свою выполняющая, не аплодировала, – не сделавши, значит, перерыва, Голубович затянул:
«Сияла ночь… Луной был полон сад… Лежали…»
Помещик и ярый крепостник Шеншин, более известный как трепетный русский поэт Афанасий Фет, наверное, в гробу перевернулся, видя из своих райских кущей сию картину, окормляемую его бессмертными строками.
И мгновенно все напились. Ну, мгновенно. Кроме, разумеется, тех товарищей, которым напиваться нельзя было по службе. Губернатор не успел лично выяснить, за каким, собственно, хреном приехавшие бурят землю на подведомственной ему территории. Говорим же – мгновенно все напились. Трезвыми оставались только ни разу не пригубившая Пэт и переводчик Коровин. С безучастным видом Пэт сидела за столом и глядела в пространство, словно бы ее не касалось все и вся, что шумело и мельтешило вокруг. И Коровин, тоже оказавшись вовсе не пьющим и – мало того – вегетарианцем, тихонько что-то говорил юной миссис Маккорнейл, и та, не меняя отрешенного выражения лица и позы, кивала ему.
– Зачем бурили? Спроси ее, – все еще держа гитару, тщетно требовал от Коровина Голубович. – Бллин! Че они тут ищут?.. Спрашивай, спрашивай, – настаивал губернатор, словно бы соответствующие службы ничем не занимались в его области и не могли в самом скором времени представить должные расследование и доклад. Но важные дела наш Ванечка всегда решал сам. А это, дорогие мои, как вы наверняка знаете, признак не самого лучшего управленца. Но уж из песни слова не выкинешь, что есть, то есть, а мы врать не станем. Да мы и никогда не врём. – Давай, спрашивай! Ну, спрашивай!
– Немая же, Иван Сергеевич, – отвечал Коровин, помимо себя принимая такое же отрешенное выражение лица, что было надето на Пэт. – Немая.
– Бллин!
Голубович сделал попытку прислушаться к внутреннему голосу, но поскольку сам был уже в изрядном подпитии, услышать его оказался в тот миг не в состоянии. Возможно, именно поэтому, не получая должных к обстоятельствам советов, он выбрался из-за стола и, покачиваясь, направился к туалету, в котором только что скрылась Хелен. Та обернулась от раковины на распахиваемую дверь, увидела в двери Голубовича с гитарой в руках и за ним, словно материлизовавшуюся тень, одного из голубовических бездельников – охрана прилежно выполняла свои обязанности, хоть ты что. А вдруг приезжая рыжая тетка осуществит нападение? Да запросто!
Мгновение переводчица и губернатор глядели друг другу в глаза, и тут же Хелен, сощурившись, четко произнесла:
– Не здесь.
На выходе из «Колпака» Голубович и Хелен встретили пару привезенных по высочайшему распоряжению актеров, тут наш Сергеич и вручил актеру-мужчине гитару. Напрасно! Никто из актеров, как тут же выяснилось, не играл на гитаре! Этого наш губернатор-меценат прежде и предположить не мог. Дикость, позвольте вам заметить, дорогие мои, если актеры, а тем более – провинциального театра, не в состоянии сбацать на шестиструнке хоть какую простенькую мелодию. Дикость!
Голубович и Хелен уже стояли в обнимку.
– А че можете-то? – доброжелательно спросил губернатор. Добрый он был, еще раз мы напоминаем вам, дорогие мои. Добрый.
– Мы приготовили сцену из «Грозы», Иван Сергеевич, – доложили актеры. – Это когда Катерина бросается в Волгу.
Тут актеры почему-то посмотрели на стоящих за Голубовичем и Хелен двоих каменномордых охранников, словно бы помимо себя надеясь, что губернаторская охрана в последний момент спасет несчастную Катерину. – Тщетно! – можем мы вам сказать. – Тщетно! Никакая охрана никого спасти не может по определению, что и подтвердили последующие события нашей правдивой истории. Но по порядку.
– Хрен с вами… Давай… Катерину… в Волгу, – махнул рукой Голубович. И добавил стоящему тут же секретарю: – Меня до утра… не беспокоить… Давай, проследи тут… чтоб все было тип-топ… – Тут как раз внутренний голос начал вякать, губернатор и не разобрал, что и о чем, поэтому приказал ему очень строго: – А ты молчи, блин! Молчать, ссука!
Секретарь только заученно произнес:
– Слушаюсь, босс…
– Ты откуда с ними, Аленка? Из какой конторы? Из Конторы? – теперь, утром, спросил доброжелательный утренний Голубович, борясь с перепадами настроения.
Хелен засмеялась, щурясь, и вновь Голубовича начала неприятно заводить ее улыбка.
– Это контора тебе платит? Или наше посольство? Агентство переводчиков? Кто?
– Контора платит… И посольство… И наше посольство, и их посольство… И агентство… Все платят, – бесстрашно ответила тетка, кусая подогретый тост. – И давно… И всегда…
Голубович зашел в гардеробную комнату, вытащил из вчерашнего пиджака бумажник, а из бумажника пятьсот гринов, пересчитал бумажки.
– Не давай, каз-зел! – закричал внутренний голос.
– Щас, блин, – ответил губернатор. И отнесся к Хелен: – Подробный мне напишешь отчет, поняла? Щас прямо… И будешь каждый день писать, что они говорят… Что они делают, мне и без тебя доложат, а вот что они там перетирают меж собой… Поняла? На-ко вот.
Переводчица спокойно взяла зеленые, и тут же совершенно непостижимым образом пять стодолларовых бумажек на глазах исчезли, словно бы растворились в воздухе, хотя единственное место, куда совершенно голая могла положить их – отверстия между ног, но Голубович дал бы любой орган на отсечение, что туда она деньги не вставляла. Вот ведь, а? Признаться, и мы не знаем, куда Хелен заныкала лавэ. Ну, чего не знаем, того не ведаем.
– Че они тут ищут, а? За каким хреном они приехали? – нервно спросил Голубович. И поскольку тетка по-прежнему, улыбаясь, жевала тост и прихлебывала из чашечки кофе, вдруг неожиданно заорал: – Что они ищут?! Что они ищут?!
– Не ори на меня… – раскрепощенно ответила Хелен. – Не знаю я, что ищут. Мне не говорят. Узнаю – скажу… – И вновь сощурилась. – Пятьсот в день, хозяин… А за секс я с тебя не спрашиваю… Секс бесплатно.
– Суууука! – вновь завопил внутренний голос. – Урой ее! Урой!
Теперь Голубович только головой покрутил.
Тут мы должны сделать некое преуведомление, чтобы заранее вас поставить в известность, дорогие мои. Мы же не детектив тут вам сооружаем, чтобы вы голову себе ломали, а честно излагаем события.
Так вот, в тот вечер еще произошло некое сближение.
Когда, значит, Голубович и Хелен покинули «Глухой колпак», и когда Маккорнейл уже лежал головой на столе, пуская изо рта тонкую струйку слюны и невнятное бормотание – то уж, воля ваша, оказывался не английский, а Бог знает какой язык, разве что папуасский, Коровин даже и не пытался понимать и переводить, да и не для кого было. Никитин, сам, кстати, свободно, куда лучше Коровина, говорящий по-английски, отбыл обратно в Москву еще в середине дня, голубовичевский секретарь Максим и сотрудник Денис спокойно сидели на противоположном конце стола, потягивали коньячок, профессионально не пьянея и тихонько переговариваясь меж собою, отлично, видимо, понимая друг друга – ну, свои же люди, – мальчики же из охраны все уехали вслед за Голубовичем и Хелен, трое маккорнейловых инженеров давно уже отвезены были в гостиницу, куда на стоянку отогнан был и микроавтобус их со всею аппаратурой – перед «Колпаком» оставались только розовый «Xаммер» и голубой секретарский «Hиcсан», одинаково серые в мрачном свете фонаря, даже полицейская «десятка» отсутствовала, потому что копы, утомившись охранять гостей, давно отбыли восвояси; у дверей «Колпака» курил только одинокий бровастый кавказец в черном комбинезоне – охранник заведения – когда, значит, произошли эти только что честно описанные нами события, к Денису и секретарю подошел в полупоклоне хозяин «Колпака» Бухути:
– Жэлаэтэ эщще, Максым Мыхайловыч, да-а?
– Еще нам вот с Денисом горячего, – распорядился секретарь, – и грамм двести еще. И хорош.
– Сдэлаэм.
Так Коровин, значит, никому уже ничего не переводил, а только спросил у Пэт:
– And how often is he that drunk?[47]
На что Пэт сначала отрицательно, а потом утвердительно покачала головой, скроив милую печальную рожицу, поэтому мы не можем вам сейчас точно сказать, часто ли напивался Маккорнейл. Неизвестно. Известно только, что Пэт поднялась и, провожаемая взглядами Дениса и секретаря, неопределенной своей походкою направилась в туалет и, побуждаемый неким неосознанным чувством, ужасно уставший от целого дня и половины ночи непривычной работы учитель Коровин, на которого даже Денис не обратил в тот миг никакого внимания, Коровин, значит, безотчетно, точно так же, как Голубович за Хелен, прошел следом за Пэт и встал у закрытой туалетной комнаты – вот то, что дверь можно распахнуть, ему, в отличие от Голубовича, даже в голову не пришло. Тут его кто-то сзади жестко взял за предплечье, Коровин обернулся – за ним стоял Бухути.
– Там, – пальцем показал улыбающийся хозяин ресторана в глубь своего заведения, – там, налэво, второй двэрь.
Послушный учитель прошел по коридору, повернул и заглянул во вторую дверь. За нею оказалась маленькая комнатка с широкой кроватью, тумбочкой и белым кафельным санузлом – тут же, при комнате, только что отделенным от самой комнаты полупрозрачной пластмассовой занавескою, да-с, с санузлом – стульчаком и душевой кабинкой.
– Бэлье чистый, – сказал за спиною Коровина ресторатор.
Коровин ничего не ответил, Бухути более ничего не сказал, и нам, повторяем, неизвестно, как и что произошло в «Глухом колпаке» далее, мы можем поведать вам только о некоем, значится, произошедшем сближении в ту ночь, уж совсем под утро, перед тем, когда «Xаммер» с так и не проснувшимся английским гостем и светящей распахнутыми глазами Пэт, когда, значит, «Xаммер», ведомый специально вызванным трезвым водителем вслед за машиной секретаря Максима Михайловича отбыл от ресторана. Кстати мы тут вам можем сообщить, дорогие мои, что на заднем сидении секретарского «Hисcана» почему-то сидела актриса театра им. А. В. Луначарского, а сотрудник Денис – рядом с Максимом. А вскоре и Голубович проснулся у себя в резиденции, и, как мы уже вам сообщали, употребил меркантильную переводчицу в анус. Ну, дурацкое дело нехитрое.
Ко времени отъезда четы Mаккорнейлов большинство актеров – кроме уехавшей с Максимом актрисы, разумеется, тоже давно уже отсутствовали в «Глухом колпаке», незадолго перед отъездом действительно представив из Островского.
– Мне только проститься с ним, а там… а там хоть умирать, – нервно говорила, изображая Катерину, актриса лет сорока в коротком платьице, открывающем толстые ляжки. – Не помню, все забыла. Ночи, ночи мне тяжелы! – актриса взяла себя за прическу, не поясняя, о чем это она вдруг забыла, словно склеротичка, и почему вдруг ей тяжелы ночи, когда прекрасно артистам было известно – ночные голубовичевские вызовы всегда отлично и исправно оплачивались областным министерством культуры, а чаще всего самим губернатором. – Зачем они так смотрят на меня? – спросила депрессивная тетка, как будто действительно адресуясь к смотрящим на нее в ту минуту. – Отчего не убивают? – добавила она, словно прозревая скорое будущее. – Батюшки, скучно мне, скучно! – Вот здесь актриса изложила полную правду.
И тут же премьер глухово-колпаковского театра, блондинистый с плоским ликом парень лет тридцати, не могущий даже сыграть на гитаре, а не то, чтобы составить счастье любящей женщины, парень, значит, не входя в причины скуки глухoво-колпаковской Катерины, сообщил ей:
– Еду! Лошади уж готовы!
Катерина ахнула, а парень гордо выложил прямо несчастной в лицо:
– Я вольная птица!
Вот это были важные слова, и безотчетно все присутствующие, кроме спящего Маккорнейла, все, значит, присутствующие почему-то переглянулись меж собою – никто из них вольною птицей себя никак, честно вам, дорогие мои, сообщаем, никто, себя вольной птицею даже и в глубине души не мог считать, и завистливая мысль отобразилась на лицах в полусвете самого дорогого в Глухово-Колпакове кабака.
Ну-с, Катерина исправно бросилась в Волгу, сделав шаг в сторону стола и даже севши за него как раз напротив блюда с осетриной, и тут же машинально взяла лежащую в блюде двузубую вилку, и начала осетрину прямо из блюда доедать. А премьер, в слезах попрощавшись с Катериной, почтительно принял от секретаря конверт и спросил деловито:
– Домой нас отвезут, Максим Михайлович?
– Вон к ним садитесь в автобус, – указал секретарь на инженеров. – До гостиницы довезут, а оттуда уж вы сами.
И некий голос, нам с вами уже известный, голос, днем сообщавший невидимому своему собеседнику, что бурят, тут же произнес – причем где оный человек, обладатель голоса, находился в то мгновенье, мы знать не знаем – голос тихонько произнес:
– Инженеры отбывают… И артисты отбывают… А одна осталась – сидит, с губеровским секретарем пьет.
А полчаса назад тот же голос докладывал:
– Губернатор переводчицу повез… Охрана с ним… Англичане остаются пока…
Вы будете смеяться, дорогие мои, но мы можем совершенно точно вам сообщить, что в то же мгновенье еще один голос, вещающий в другую рацию, почти теми же словами доложил уже своему собеседнику:
– Инженеры уезжают… Упились вусмерть, козлы английские… Еле стоят… И артисты с ними садятся в ихний микроавтобус… Одна тетка остается пока…
А за полчаса до этого второй голос сообщал:
– Голубой вывел переводчицу… Сажает к себе в «Aуди»… Трахать повез… Все не натрахается, старая козлина…
И еще один совершенно сухой голос подвел итог всем докладам:
– Остались Маккорнейл с женой, секретарь, сопровождающий и переводчик. И актриса с ними сидит. Пьет на халяву.
Поскольку теперь сей голос не добавлял обращенное к слушающему «товарищ первый», мы с вами можем предположить, дорогие мои, что оный товарищ первый давно уже спал и видел сны, а на связи в сей миг находился не первый, а второй, а, может быть, даже третий или какой-нибудь восьмой или девятый, и голос мог позволить себе небольшие вольности в докладе.
Мы не станем вас утомлять сходными докладами таинственных и почему-то столь многочисленных в окрестностях города и в самом городе Глухово-Колпакове голосов, тем более что все они постоянно сообщают одну и ту же информацию – информацию, прекрасно нам с вами известную. Тут мы кстати можем заключить, что все подобные таинственные голоса, где бы они ни находились, всегда сообщают только то, что всем известно, и, значит, даром стараются. Но, возможно, мы ошибаемся, потому что не менее, а даже более таинственные, чем оные голоса, далекие их собеседники, как раз и заинтересованы в получении общеизвестной информации, а неизвестную и, тем более, тревожную получать вовсе не желают. Ну, чего не знаем, того не ведаем, а врать не станем. Да-с, не станем. Мы никогда не врем.
Так, значит, скудно, по диетологической науке, но с водочкою позавтракавши после траха, пробежки и душа, губернатор выехал на основную в области трассу – трассу Глухово-Колпаков – Светлозыбальск. Светлозыбальск – это был второй в области сравнительно большой город, а по сути, разросшийся поселок городского типа при нескольких давно умерших заводиках и при станции, на которой теперь не останавливались скорые поезда. Раньше – когда-то – Светлозыбальск назывался Царево-Борисово, потом Сталинское. Ну, не суть. Светлозыбальск, так Светлозыбальск. Можем вам поведать, дорогие мои, что странное наименование города образовалось от названий двух соседних озер – Светлое и Зыбкое. А ушлое глухово-колпаковское население, разумеется, говоря о городе, букву «ы» в гордом его имени заменяло на целые две буквы – «а» и «е». Это измененное название в бытовании народа долго боролось с другим – заменой «з» и «ы» на одно только «е»; боролось и победило… Ну, тут уж мы, опять-таки, ни сном, ни духом… Выехал, значит, наш любимый на трассу.
Забитая стрелка напротив монастыря оказывалась точно над местом вчерашнего бурения, на холме, выпирающем, словно бы живот над лобком. Место это называлось у глухово-колпаковцев пупком. Слева возвышалась монастырская стена, а справа начинались поля зерноводческого товарищества «Борисовское», ослепительно желтеющие под солнцем – желтая с характерным серым отливом рожь сейчас предстала совершенно золотою, по золоту ходили летучие облачные блики; казалось, это они, а не ветер пригибают тяжкие колосья к земле, и под бликами рожь едва заметно наклонялась, и, пуская по себе волну, как полосу морского прибоя вдоль золотого песка, трепетала – да, словно бы живот лежащей навзничь возбужденной женщины с глубоким, будто бы морская пещера, пупком. У отвлекшегося Голубовича даже некоторая эрекция возникла, как у едущего на мягком сиденье молодого пацана. Ну, мы ж вам говорили – молод душою и телом был наш Ванек. Да-с! Молод!
Явиться на стрелку раньше Шурика было бы западло.
– Не гони, блин, – распорядился Голубович. – На пупке стоять ровно в десять семнадцать, не раньше.
Стрелка была забита на четверть одиннадцатого.
– Слушаюсь, босс.
Шофер сбавил скорость, теперь ехали вообще километров пятьдесят в час. Но разве вокруг Глухово-Колпакова в охотку покатаешься? Где тут кататься? Чай, не Сибирью руководил Голубович, а всего лишь небольшой, да что там – крохотною областью в европейской части России. И прибыл губернаторский кортеж на пустынный пупок раньше Аверьяна.
Сергеич наш, медленно наливаясь гневом, несколько минут жевал антиникотиновую жвачку на заднем сидении «Aуди» – нынче даже аж губернаторы не на «Mерседесах» раскатывают, а на «Aуди», таково непреложное указание Центра к губернаторской скромности и достаточности; прежде бы Голубович курил бы, привычно стряхивая пепел в открытое окно – так вот он прежде обычно и покуривал, не пользовался пепельницей в машине, но сходное указание, вернее – настоятельный совет ко всему высшему и невысшему чиновничеству завязывать с курением Голубовичем был воспринят незамедлительно по получении как императив – место дорого. Вот он и жевал, словно кролик.
В это время оставленная в обманчивом одиночестве переводчица Хелен, в три дыры оприходованная Голубовичем – вчера вечером, дважды ночью и, как мы уже сообщали с допустимыми тут подробностями, утром – Хелен, напившись совершенно немеряно кофию, ничуть не думая хоть что-нибудь на себя набросить, встала с кровати и подошла к стене, рассматривая висящую на этой стене настоящую фреску, каких на Руси не писали сотни лет, то есть – картину, написанную по сырой штукатурке. Мы можем вам сказать, дорогие мои, что разглядываемая сейчас Хелен фреска – копия, что сама оригинальная фреска, написана была лет восемьсот назад, а вот копии – копии, висящей на стене, стукнуло к тому мгновенью, что рассматривала ее Хелен, лет примерно сто пятьдесят. И еще мы вам тут скажем, дорогие мои. Скажем. Вот: Хелен, представьте себе, четко знала не только имя автора фрески – Джотто его звали, Джотто! – но и по ряду причин почувствовала сейчас собственную свою связь и с фреской, и с копией ее, и даже с домом, в который ее привезли как шлюху и употребили как шлюху и как шлюхе заплатили – не так и много, кстати сказать, – пятьсот баксов; элитные шлюхи берут куда больше за ночь, можем мы вам еще тут сказать, дорогие мои. Да-с! Поболее они берут!
В замечательную попку Хелен сейчас устремлены были сразу несколько пар глаз, а Хелен, прищурившись, рассматривала копию джоттовского «Бегства в Египет», изображающую, как только что рожденного Господа нашего увозят из Вифлеема. Хелен смотрела на фреску, и, возможно, ей казалось, будто бы Господа увозят сейчас из этих мест – из самого Глухово-Колпакова увозят нашего Бога. Бог нас оставляет.
Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь Иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого, родившегося в эту ночь. Потому Святое Семейство по дороге, указанной Божьим Ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет, в теплый и спокойный Египет. Бежало Святое Семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с Младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на Жену с Ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множествoм людей, но Ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал Ангел дорогу – туда, вперед, туда, в благословенный Египет. Потом Младенец вернется, Он придет, чтобы спасти всех нас, но Самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображались на лике Марии, а тревога – на лице Иосифа, вот почему суровый лик Младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвенье, где нет спасения – никому.
Никому.
Вошел один из голубовичевских охранников и, на всякий случай отворачиваясь от голой тетки – мало ли, может, она у босса останется на пару недель, такие случаи редко, но бывали, и тогда не то, что что-нибудь такое – нет, нет, нет, а даже и смотреть на теток, гостящих в усадьбе более двух дней, возбранялось – вошедший, значит, доложил:
– Машина внизу.
И нечто необычное вдруг заставило охранника посмотреть очередной привезенной девке, оттраханной боссом, в глаза. Хелен повернулась; все лицо ее сейчас было залито слезами.
Тут же она натянула на себя знакомый нам с вами прищур, улыбнулась, словно бы удостоверяя, что действительно видит пред собою человека и слышит, что он сейчас произнес – «машина внизу», улыбнулась, значит, и спокойно проследовала в ванную комнату. Зазвенела сначала мощная струя об днище унитаза, а потом зашелестел, словно бы внезапный летний дождь, душ.
Потом, конечно, тетку отвезли в гостиницу к ее англичанам, ясен пень, но вся обслуга ждала, пока та в охотку вымоется, а потом нагло затребует еще кофе и че-нить укусить из мяса, кроме тостов, и съест принесенные тут же и мясо по-французски с картофелем по-домашнему, и бастурму на шпажках с чесноком и помидорами, и целую нарезку красновато-серой влажной буженины граммов в триста, не меньше. Ей-Богу. Где все это в тощей Хелен поместилось – загадка.
Ну-с, тут мы с вами Хелен нашу покамест оставляем уплетающей голубовичевскую бюджетную буженину и возвращаемся к самому Голубовичу, потому что прошло уже десять минут стояния его на пустой трассе. Мимо проносились редкие авто, то интуитивно сбавляя скорость возле губернатора, то, наоборот, прибавляя, стараясь поскорее проехать мимо припарковавшихся на обочине двух дорогих машин, не желая быть ничему свидетелем или, не дай Бог, еще и потерпевшим. Шурик все не ехал. Это был вызов. Из раздавшегося под пупком тарахтения взобрался на горку грязный колесный трактор, волоча за собою такой же грязный, распространяющий вонь прицеп с жидким навозом; тракторист на ходу взглянул на Голубовича налитыми кровью глазами и выплюнул прямо ему под окно горящий чинарик.
– Ну, харэ, блин, – сказал внутренний голос. – Харэ. Затрахаешься ждать-то.
– Ну, харэ, – послушно сказал и Голубович. Он выплюнул на дорогу жвачку, как только что сделал тракторист с чинариком. – Харэ, – распорядился было. – В офис.
И тут Голубовичу позвонили. Не знаем точно, был ли то доверенный секретарь Максим, был ли то отсутствующий ночью, а сейчас прорезавшийся, не менее доверенный голос из эфира, был ли то кто-то еще, нам до поры совсем уж неизвестный, но только вот Голубович послушал его и изменился в лице.
II
Безумие. Точнее не скажешь – безумие. Безумий было целых два: первое, что Красин отпустил Катю одну; ну, не совсем одну – с кучером, тот ждал возле Красинской квартиры на Мойке, заехав с экипажем в переулок и стоя там у железной оградки. Усесться самому в коляску и поднять верх кучер не решился, залезать под днище было бы рискованно – лошади могли понести, поэтому кучер в теплом по летнему-то времени кафтане и клеенчатой шляпе стоически промок до нитки – ну, как и все в городе; увидев приближающихся Красина и Катю, облегченно начал разбирать вожжи, шагом выехал навстречу, копыта заклацали по камням; от мокрого мужицкого кафтана нещадно воняло, Катя захихикала и зажала нос пальчиками. Кучер поклонился Красину, снял папаху пред хозяйкою, Красин и в лицо-то мужику не посмотрел; ничто не предвещало катастрофы.
Сами Красин и Катя тоже были мокры, хоть отжимай их над корытом. Зайти к Красину и обсушиться Катя решительно отказалась – ее ждала подруга, тут, рядом, в двух шагах, на Литейном. Там и печка, и одежда, и все-все-все. Надо было полным быть идиотом, чтобы в разгар событий отпустить Катю одну, тем более – в этаком виде. Но – долг. Обязанности. Noblesse oblige[48]. Всю жизнь, и в России, и не в России, Красин прежде всего помнил о долге своем, о данном слове – к своему же несчастью или к счастью, Бог весть. Катя же теперь немедля отправлялась к подруге и собиралась остаться у нее ночевать – в нескольких кварталах всего, рядом! Что тут с-Дону-с-моря беспокоиться, с какой дикой радости? Рядом! Может, иначе Красин Катю бы и не отпустил. Но отпустил-таки. Да-с, это было первое безумие – отпустил и не сопроводил – время выходило. А второе безумие – что именно обязанности свои, несмотря на события, Красин собрался сейчас как раз исполнять, то есть – сдерживать данное им слово. Потому что в руки ему временно попали чужие деньги. Большие деньги. Сейчас, сейчас мы вам о них расскажем, а пока – о прощании с Катею и езде Красина в Глухово-Колпаков.
Любой бы в его положении нынешнем просто исчез бы из Санкт-Петербурга навсегда – разумеется, вместе с Катею; Красину это в его глупую голову даже не пришло. Даже не пришло ему в голову, что мог бы сейчас он существеннейшим образом помочь Движению; нет, и это, значит, не пришло в голову, ну, не пришло и не пришло.
Красин подержался несколько времени за белую Kатину перчатку, сильно чувствуя под тонкой лайкой такие же тоненькие пальцы – Катя протянула руку, уже сидя в коляске.
– Adieu, mon ami.[49]
– Pas pour longtemps, hein?[50] – кто бы подсказал дураку, чтo он делает. Никого умного рядом не оказалось. – Vous savez, dans lequel je me trouve… J’ai presque tout l’argent pour terminer la construction. Des événements. Tout le[51]… – он уж хотел назвать ужасную эту цифру, но не назвал, а только безумно, тоже совершенно безумно произнес по-русски: – Ассигнациями сотенными… – И опять не посмотрел на кучера, не увидел, как кучерскую спину в мокром кафтане невидимо облетела судорога.
– Très belle[52]. – И она вряд ли понимала, какие слова произносит Красин.
Уставший от событий сегодняшнего дня Красин ничего на это не ответил, только улыбнулся и рукою, пока коляска не повернула за угол, махал в ответ обернувшейся и машущей ему Кате; взошел к себе на квартиру, чтобы забрать сумку с деньгами; надобно было незамедлительно отвезти, ночью спрятать, как и было договорено ранее; с чужими деньгами, как известно, порядочному человеку невместно и нервно.
Красин быстро скинул все мокрое, насухо вытерся, переменил белье и сапоги, хотел было надеть форму, но, подумавши, надел бриджи и черный дорожный сюртук. Чаю наскоро выпил с пустым хлебом. Нахлобучил тесный финский картуз, сдавливающий виски.
Тут же смрад и грохот наполнили квартиру, пол задрожал – по Мойке шел паровой катер. Красин со стаканом в руке, отхлебывая чай, подошел к окну. Вибрация от прохода катера шла такая, что почти пустой уже стакан дребезжал в подстаканнике, стекла дрожали в рамах. Красин покачал головой – навал волны на набережную, передающийся на сваи под домами, делал невозможным эксплуатацию паровых катеров в городе – Красин еще месяц назад собирался делать доклад на Городском совете, если бы не события. Да-с! Если бы не события. Из трубы катера валили сносимые ветром густые клубы сажи. На белом борту суриком выведено было «СВЯТЫЯ ЕКАТЕРIНА».
Красин хмынул, увидев надпись, быстро сделал последний глоток из стакана, поставил его на стол и прошел к себе в спальню. Там стояла высокая железная кровать, красного дерева шкаф и печка с голубыми изразцами. Еще у Красина в спальне висела во всю стену коричневая гамбургская шпалера с раскидистыми вытканными цветами на ней – идентификацию оных растений Красин, будучи не слишком силен в знаниях флоры, произвести не смог; сразу же, как сюда вселился, мысленно цветы нашел похожими на огромных клопов – четыре штуки на шпалере. Сейчас Красин аккуратно отогнул одного клопа, чуть подернул всю шпалеру сначала вниз, а потом вверх – обнажилась стальная дверца сейфа. Красин провернул ключ, достал из сейфа черную кожаную сумку, сунулся было посмотреть еще бумаги, что лежали в сейфе, но только махнул рукой и, кроме сумки, вытащил и положил в карман бриджей тоненькую пачечку ассигнаций – это были собственные Красина деньги, немного, рублей триста; еще в Санкт-Петербургском филиале Лионского кредита – это известнейший, всемирный банк такой, называется так – Лионский кредит, в банке у Красина содержались деньги и акции – ну, тамошняя сумма нам неизвестна, как-никак банковская тайна; но тоже немного, примерно только можем сказать, дорогие мои: меньше пятисот рублей – все его накопления к тому дню. Однако, вновь подумавши, Красин, повинуясь неведомой какой-то и как потом выяснилось, обманной интуиции, собственные деньги из кармана вытащил и вновь положил в сейф.
Названые средства кому-нибудь могли бы показаться значительными, и весьма, но мы, значит, напоминаем, что Иван Сергеевич Красин был инженер-путеец и мостовик высшей квалификации и высшего авторитета среди коллег, с отличием окончил в Париже Высшую школу мостов и дорог, в Санкт-Петербурге и в Санкт-Петербургской губернии уже построил как руководитель строительства четыре отличных железнодорожных моста и в Глухово-Колпаковской губернии строил пятый свой мост, и там же, в самом Глухово-Колпакове, построил железнодорожую станцию и вокзал вместе с паровозным депо и всеми необходимыми для станции зданиями. Именно в Глухово-Колпакове, можем мы вам тут сказать, по ихним железнодорожным расчетам полагался разъезд с запасными путями – основной-то ход, то есть, основная колея, ведущая на Питер, была тогда однопутною.
Получал Красин у хозяина своего Визе десять тысяч пятьсот рублей в год на ассигнации. Но как-то Красин проживал эти деньги, не пил, не играл, упаси Господь – презирал карточных игроков и вообще все игры, кроме лапты; деньги должны доставаться трудом, трудом, а не беспечной Фортуною – правильно был воспитан Красин. А вот на женщин много тратил Красин – это да, не в веселых домах, разумеется, хотя по молодости – в студенческие годы еще во Франции – и там бывал и, слава Тебе, без медицинских каких последствий; не в веселых, значит, домах. Однако ж порядочные женщины на содержании куда более забирают средств, нежели чем женщины доступные, дело известное. А Красин был щедр на подарки – и колечки, и шубы, и камешки, и в любимую Францию не раз возил дам, дамы смотрели на Версальский дворец, и в Италию, дамы смотрели на Колизей, да-с. Последнюю даму Красин собирался свезти в Австрию, дама посмотрела бы на Шенбруннский замок. Но встретил Катю. Катя ни одного самого скромного подарка пока еще не пожелала принять от Красина. Только цветы. И недоступна оказалась Катя для Красина. А имелась такая весьма похвальная у Красина привычка – свозивши даму за границу, он с дамою неизменно расставался и при расставании оплачивал даме целый год содержания и наема квартиры. Так что последняя дама не только не увидела Шербрунн, но еще и лишилась из-за Кати крыши над головой. Красин в спешке сунул ей сто рублей на прощанье – прямо одной сотенной бумажкою! Даже не в конверте! В тот вечер в оперу они с Катею отправлялись! В Мариинку! Спешил Красин и совершенно забыл об установленных для себя приличиях порядочного человека! И та дама, издав некий возмущенный писк, деньги тут же взяла, как самая обычная шлюха! А Красин тут же раскланялся и шмыгнул скорее за порог. Вот ведь, а? Это Красин-то наш, а? Ужас.
Своих лошадей Красин не держал – хлопотно. Сейчас лошадь взял на конюшне у Бежанидзе, там полный наблюдался порядок, хотя сам Бежанидзе в конюшне отсутствовал. Ну, как известно, у хорошего хозяина всегда порядок даже в отсутствии самого хозяина, только бесполезный дурак день и ночь сам наблюдает за делом. Конюх-грузин вывел Красину гнедого, словно бы у романовских кавалергардов, жеребца. Красин еще и успел подумать, что, собственно, полностью при этаком коняшке годится в кавалергарды, не менее, чем Катин знаменитый дед князь Глеб Николаевич – ростом Красин более чем вышел, происхождением тоже – в кавалергарды записывали, как правило, провинциальное дворянство, потому что провинциалы сугубо дорожили возможностью служить непосредственно государю в самой столице империи; да-с, теперь бы Красину еще кирасу, глухо, как медный таз, звенящую при ударе, и такой же дурацки звенящий шлем. И, конечно, палаш. Палаш.
Красин уже с седла бросил гривенник конюху, тот молча – коленкоровый звук издавал только хрустящий его новый кожаный фартук, – тот молча поднял монету с утрамбованного копытами мокрого песка и гордо поклонился. Красин на поклон горца усмехнулся, финский свой картуз надвинул поглубже, на самые височные кости, и с притороченной сумой, словно бы какой переселенец северо-американский, а вовсе не как государев кирасир, наметом поскакал на восток – туда, откуда завтра должно было встать для них с Катею золотое, слепящее солнце.
По совершенно пустым дорогам скакал сейчас Красин. Тракт шел через пару десятков, поди, деревень, и несколько раз под копыта коню вылетали из-под ворот собаки, но люди словно бы отсутствовали либо прятались – видел такую странность Красин, не видел, а если и видел, то делал ли свои выводы – Бог весть. Нам неизвестно. Красин представлял себе, как Катя снимает с себя платье и белье, как вытирает полотенцем груди, как рука ее, держащая полотенце, спускается ниже, на живот, как наклоняется голая Катя… Предстоит ли увидеть ему все это наяву, в жизни, а не в мечтах – вот что занимало Красина куда более картин по сторонам дороги. Отстраненно глядя поверх ритмично движущейся лошадиной головы, Красин все добавлял шенкелей.
Если б инженер Красин Иван Сергеевич, товарищ члена Движения с голосующим голосом, дал бы себе труд посмотреть сейчас на небо, что – смотреть на небо – должен делать время от времени и как можно чаще любой пока что живой человек, если б, дорогие мои, он, Красин, посмотрел бы сейчас на небо, то увидел бы над собой черную тучу, стягивающуюся в воронку, которая впервые появилась в городе Санкт-Петербурге над площадью Финляндского вокзала несколько часов назад – тучу, сопровождающую Красина на всем пути от Питера до берега Нянги, тучу, в любую минуту готовую пролиться новым ливнем – новым черным ливнем, теперь уже смывающим в Лету всё и вся и – теперь уже навсегда.
Но Красин ни разу так и не посмотрел на небо. Надо было не только исполнить ему задуманное и обещанное, проверить ход дел на мосту, но и вернуться не позже завтрашнего вечера в Питер на заседание Главбюро Движения. Время выходило.
В конторе строительства, в десятницкой да и на всем стройдворе никого не оказалось. Ни души. Даже собаки – три кудлатых пса, что жили при конторе – отсутствовали. Добрался Красин часа за четыре хорошего галопа, гнедой уже хрипел, ронял из пасти густую пену, был в мыле. Красин соскочил с седла, похлопал коня по загривку. Тот сразу же подошел к железной бадье, в которой приготовляли раствор и жадно начал пить, поднимая со дна бадьи осевший, но не схватившийся цемент, вода вмиг стала мутною. Однако пить коню сразу после долгой скачки никак нельзя, и Красин тут же вновь поймал повод и привязал гнедого к коновязи.
Отвлекся же Красин лишь на миг от коня, потому что, воля ваша, странно выглядело сейчас его строительство. Красин с недоумением оглядывал непривычно молчащее свое хозяйство. У домика десятника третьего дня, когда Красин уезжал, свалили мешки с овсом для лошадей – не успели перенести к совершенно сейчас пустому под навесом сараю, Красин сунулся было и туда, и сюда – мешки пропали. Исчезоша. И десятника Елисеева в домике – Красин быстро заглянул в дверь – и десятника не было. Пожав плечами, Красин захватил из-под навеса сколько мог сена – небольшие кучки его валялись там на земле, бросил коню. Тот, переступая на дрожащих ногах, тотчас же начал есть, потом шумно лег, мокрый живот его ходил ходуном. Красин отряхнул себя от сухих травинок, обошел стройдвор – пусто.
Глухово-Колпаковская губерния славилась на всю Россию чрезвычайно, особенно для Северо-Запада, чрезвычайно урожайной землею, настоящим красноземом. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы предположить во всем Глухово-Колпакове необычайные, фантастические залежи меди, железа, алюминия или еще какого металла – редкого, господа, какого-нибудь редкого и совершенно бесполезного. Вольфрама, например. Или ванадия. Ну, кроме дорогущих и только что появившихся лампочек накаливания, куда столько нужно этого дурацкого вольфрама? Но никаких меди, железа, а тем более вольфрама и алюминия в Глухово-Колпакове никак не находилось. Тогда все единогласно решили, что – алмазы. Алмазы! Кимберлитовые трубки искали везде, в иных местах раскопанная свободная, да и несвободная земля стала напоминать северокавказские, воля ваша, изрезанные выветриванием горы – а все нет алмазов! Нету! Никто не предположил, что это человеческая кровь выступает из пор земли, прошлая и будущая неистощимая кровь; копать постепенно перестали, а как только перестали копать, земля сама по себе побурела и местами даже выглядывала как обычная красная глина, хоть кирпичи из нее пеки. Однако же кирпичи, известное дело, лепят именно из глины, а не из краснозема, невесть каким Божиим промыслом составляющего основу не какой-нибудь субтропической, а северной нашей Глухово-Колпаковской почвы. Так что и кирпичей не так, чтобы много давала Глухово-Колпаковская земля. Земля, дорогие мои, в конце концов потемнела, побурела, но сейчас на стройдворе показалась Красину необычайно яркой. Брошенные без лошадей грабарки – оглобли втыкались в огненно-красную землю, валяющиеся тут и там тачки, почему-то развороченные и явно сильно уменьшившиеся в размерах, прямо сказать, почти отсутствующие штабеля досок – остался только горбыль – и тяжко безмолвная, как египетская пирамида – Красин бывал в Египте, видывал пирамиды-то – тяжко безмолвная гора уже вытесанных под нужный размер камней на почти что алом песке привели вдруг Красина в бешенство. И не мудрено. Что за бездельники! Красин постепенно начал закипать, еще не осознавая, что случилось. Не понимал происходящего Красин. Не понимал. Как и еще тысячи людей в Питере из его служилого сословия – высшего служилого сословия. Несколько тысяч не понимающих более чем достаточно, чтобы выпустить на свободу дикого грязного кабана. Одной тысячи, да что – полусотни хватит за глаза и за уши. Многих-то дураков не надо тут, как и в любом деле. Иногда и одного дурака вполне достаточно.
Конь попытался встать, но вновь шумно выдохнул и, подламывая ноги, вновь повалился на сено. Красин подошел, попытался вытащить из-под коня сумку – тщетно. Гнедой должен был просто отдохнуть, он не умирал – Красин, как и любой мужчина его возраста, не будучи сугубым лошадником, настолько-то понимал в лошадях – замучил Красин коня, но не убил, нет – тот продолжал шумно дышать животом. И сам Красин за четыре часа скачки останавливался только на десять минут – выпил две рюмки водки в придорожном трактире и закусил рыбцом, пока водили коня, и тут Красин тоже совершенно внимания не обратил на странные взгляды сидельца, на недвижно стоящих вдоль стен половых с салфетками через руку – недвижно, ибо посетители в кабаке отсутствовали. Отсутствовали посетители в кабаке! В трактире отсутствовали посетители! Да-с, Красин, значит, сильно стал несвеж, потерял, что случалось с ним в последние дни и часы то и дело, сам Красин потерял и соображение, и внимание, и постоянную сторожкость свою, рассудок потерял. Безумие, уж говорили мы вам, одно слово – безумие.
Сейчас Красин разогнулся от коня, не услышав движения за спиной. Обессиленный мозг вдруг развернул перед глазами нечто увиденное только что, но незамеченное, неосознанное. Красин шумно выдохнул – не хуже коня, быстро пошел назад к десятницкой, чистить начал было на ходу бриджи от земли и бросил это занятие, потому что и бриджи, и сапоги – все оказалось, конечно, в грязи снизу доверху, в красной, ярко-кирпичной земле, как в крови. Нечто увиденное вело, Красин вновь распахнул дверь в десятницкую и пригляделся теперь внимательно.
За конторкой – он сразу-то, заглядывая, не заметил, надо было хоть пару шагов сделать внутрь десятницкой, чтобы зайти за конторку, сейчас Красин и зашел, – на полу за конторкой ничком лежал десятник Елисеев; под головой десятника растеклось густое красное пятно, похожее на разлитое малиновое варенье. Красин подскочил, пачкаясь в варенье, поднял лежащего, повернул к себе страшным, в кровоподтеках, с обвисшими мокрыми усами и окровавленным ртом, повернул к себе мертвым лицом.
– Андрей Яковлевич! Андрей Яковлевич!
Гнедой тонко заржал снаружи, десятник ничего не ответил, а под ухо Красину уперлось холодное дуло.
– Этта, – произнес сзади мерзкий голос, – ага.
Еще несколько голосов в охотку заржали рядом – не хуже жеребца, разве что не чисто и тенорово, а хриплыми басами.
Красин медленно повернул голову и посмотрел себе за спину. И тут, надо признаться, прозрел, тут сразу, значит, сразу и до конца жизни прозрел, и перестал быть ничего не понимающим прекраснодушным человеком Красин, всю тщету преступного их Движения прозрел, и речь Хермана на вокзале, и выступление Темнишанского на заседании позавчера, и до конца жизни с той минуты прозревал и неба содроганье, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье – землю и небо – все отныне прозревал Красин, как пророк поэта Александра Пушкина – этого поэта читал Красин в юности, будучи еще учеником гимназии, читал и запомнил стишки, хотя вскорости перешел в реальное училище, где поэтом Пушкиным, да и всеми остальными поэтами умненьких детишек не мучили так-то уж сильно… Да-с… Но не поздно ли только прозрел он, вот что, не поздно ли? Ведь не шестикрылый Серафим коснулся Красина перстами, легкими, как сон, нет, грязный мужик коснулся его грязным – все у них всегда от рождения грязное – не Божий ангел, а мужик в рогожке коснулся Красина грязным дулом берданки. Но все равно – Красин с той минуты стал пророк. Пророк.
– Хрен вислявый, – сказал мужик, упиравшийся берданкою в затылок Красину. – Щас мы те, барин, хрен-то оторвем, мать ттвою. Ась? И яи-ицааа… Согла-асный, барин? Ась?
Еще двое или трое – точно не понять было – двое или трое вновь заржали, как кони.
– Хрен оторвем, а потом… этта… всего, ммать ттвою, раскатаем, на хрен. Ась? На стропи-илах, ммать твою, раската-аем, на хрен.
Опять заржали.
Это был тот плотник, которого летом ударил Красин – совсем молодой парень, ровесник, по всей видимости, Кати. Или, может, даже чуть помладше – восемнадцати или семнадцати лет. Красин вычистившейся памятью даже вспомнил сейчас его имя, прозрел имя его – Фома Борисов. Фома происходил из бывших телепневских крестьян, из принадлежавшей в недалекие времена Кушаковым-Телепневским деревни, это был, получается, бывший Катин крепостной, он каждый день уходил домой ночевать в Кутье-Борисово – деревню, что стояла под горой, меж усадьбой и монастырем. Вся деревня, Красин знал, продолжала оставаться на оброке у Кати.
– Самою телу, ммать ттвою, в воду, на хрен, поброса-аим, барин, – вдохновенно продолжал Фома. – Тута который голавль, он, ммать ттвою, жи-иирный станет… Щу-ука которая… Плотвица тож… А голову… этта… Голову, ммать ттвою, здеся выстави-им, ммать ттвою. На шесту. Ворон, ммать ттвою, пугать… Ась? А которую доску тую всю, который кирпич, который камень – все подерба-ааани-иим, – он аж поцелуйный звук издал от удовольствия, – подербаним, на хрен, барин. Ась? Согла-асный? Грабарки, ммать ттвою, справные… Согласный, ммать ттвою, барин?.. Лошадей-от уж свели, на хрен! Ты же ж не доглядаешь, барин, ни хрена!
Красин не отвечал. Возчиков они нанимали без своего тягла, а плотников – только что со своими топорами. Это называлось – со своим инструментом. Лошади, как и эти несчастные грабарки, как и вся стройка, принадлежали Альфреду Визе, красинскому работодателю.
– Кончай его, на хрен, Фомка, хрен ли ты базлаишь с ним, ммать ттвою, – произнес молодой уверенный басок. – Вот базлает и базлает, базлает и базлает, на хрен.
– Цыц! – бешено закричал Фома и сильнее надавил дулом под ухо Красину. – Никшни! Я, ммать ттвою, еще не наигрался, ммать ттвою. Оооо! – он, не отрывая дула от Красинского затылка, заглянул ему в низ живота. – Не ссышь еще, ммать ттвою, барин? Этта… Че ж ты не ссышь-то, на хрен? Ась?
– Не хочу, – спокойно сказал Красин, и мужики все враз замолчали, настолько разительно выказалась пропасть между ними и Красиным, лишь только порядочный человек произнес всего два слова – это мужики почувствовали звериным своим чутьем, которого Красин прежде начисто был лишен, иначе не оказался бы сейчас под дулом. На несколько мгновений повисла пауза.
– Вставай, – так же коротко приказал Фома. – Медленно только. Дернешься – башку разнесу, помни, – это он произнес чистым хорошим голосом, без мата и аськанья; Красин медленно встал и повернулся. Фома переступил ему за спину и по-прежнему держал дуло под красинским ухом.
Между ними и распахнутой дверью в десятницкую, сквозь которую виделись пустой стройдвор и все еще лежащий возле коновязи гнедой, между, значит, словно бы приклеенными друг к другу Красиным и Борисовым и распахнутой дверью стояли трое – двоих Красин не знал, ожидал увидеть своих, нанятых мужиков, но это были незнакомые деревенские ребята, – а в третьем Красин тут же узнал Катиного кучера все в том же, теперь распахнутом, кафтане – даже, говорю, не посмотрел ему в лицо утром, а тут мгновенно узнал и задохнулся тревогой. Катя! Катя! Катя!
– Где… Катерина Борисовна? – спросил у кучера как мог спокойнее.
Кучер издевательски захохотал. Красин тогда стал еще и не только пророк, Красин тогда стал еще и как стальная пружина внутри себя. Как стальная пружина.
– Где… Катерина… Борисовна? – медленнее повторил.
– Где деньги, барин? – вместо ответа спросил кучер. – Ты нам вертай деньги народные, а мы те Катерину Борисовну возвернем.
Оба парня опять засмеялись; Фома только сопел за спиной.
– Там, – помимо себя, словно Катя, прищуриваясь, головой показал Красин, – у седла сумка.
Кучер одним привычным движением сбросил кафтан и вслед за обоими парнями выскочил наружу, Фома подпихнул Красина в спину, и за этими тремя, медленно переступая и не отсоединяясь друг от дружки, Красин с Фомою вышли из десятницкой. Конь все лежал боком на сумке; кучер, чмокая, тянул коня за узду, тот не желал подниматься; кучер с размаху ударил гнедого сапогом в живот, конь громко ёкнул животом, но не поднялся.
– А ну-к, ммать ттвою, барин, подыми, ммать ттвою, коня свово, – вновь прежим тоном сказал Фома, – ведь пристрелим его, ммать ттвою, на хрен. Ни хрена не жалкуешь животную? Ась?
– Иди сюда, – сказал гнедому Красин. Тот, всхрапнув, поднялся и медленно, покачивая головою, подошел, сунул мокрые теплые губы в руку Красина, ожидая угощения – сахара, моркови или яблока; балованный конь оказался у Бежанидзе в конюшне. Оба парня и кучер уже бросились к сумке, блеснули ножи, из взрезанной черной кожи посыпались пачки ассигнаций. Кучер сгреб деньги в охапку и прижал к груди, счастливо обернулся к Красину:
– Этт я беру чё мне князья должные! Должные они мне за всю жисть мою, барин! Еще старый князь… – кучер вдруг погрозил небу кулаком. – Уу! Борис Глебыч, коз-зел вонлявый! С того света со мною расплатисси!
Парни быстро взглянули за спину Красина, и, видимо, Фома кивнул им или еще какой подал знак, потому что оба они с двух сторон одновременно всадили в кучера ножи – один в живот, а другой, как раз слева, – в грудь. Изо рта кучера хлестнула кровь. Он не успел еще упасть, а Фома, выглянувший из-за Красина, – насладиться зрелищем убийства, как Красин резко выбил за собою берданочье дуло, раздался выстрел – Фома не шутил с обещаниями своими, заряд ушел в небо. И тут же Красин выхватил выстрелившее оружие, хотел ударить прикладом Фоме в лицо, но не получилось у Красина, не вышло, не успел перевернуть берданку – он же как-никак был инженер-путеец, Красин-то, инженер-путеец был он, мостовик, а не офицер и тем более не солдат, натасканный на ружейные приемы в рукопашном бою – не успел перевернуть бердан; удар пришелся дулом прямо в рот мужику – кроша последние недовыбитые давешним летним красинским ударом зубы, горячее после выстрела дуло прошло в рот, далее в горло и, с таким же костяным треском, ломая шейные позвонки и разрывая артерии, вышло из-под грязных желтых косм под затылком – Красин, значит, дорогие мои, солдатом-то никогда не был, только вот гирями баловался в юности, это да, это было.
Фома с глухим звуком упал плашмя, но прежде Красин выдернул из него окровавленное ружье, в доли секунды повернулся, словно бы в лапту играл сейчас и биту держал в руках, все произошло в одно мгновенье. Тут мертвый кучер, тоже, наконец, упал, вздымая красную пыль. Из Фомы и кучера потоками шла кровь, заливая сапоги троих мужчин, пока еще остававшихся в живых; после секундного замешательства оба парня с ножами бросились на Красина, одного он еще на расстоянии так же проткнул, словно бы штыком – в живот вошло дуло, парень начал кататься по земле, задевая обоих убитых и добавляя к их крови свою кровь, так он потом и катался, перекатывался с боку на бок с берданкою в животе и кричал – одного парня, значит, Красин проткнул на расстоянии и оставил ружье в нем, а летящую в него руку с ножом второго парня перехватил, ударил того локтем под вздох, левой рукою выхватил падающий нож, перекинул его в правую и всадил нападавшему в грудь, нож пробил дерюжку, что была на парне и вошел по рукоятку. Парень с всхлипываниями похватал воздух открытым ртом и рухнул на мертвого Борисова, успев запачкать Красину кровью весь левый бок.
Красин в одиночку не только на кабана ходил не раз, – и на медведя, и на волка, – мог обращаться с ножом, умел. Земля под ногами Красина вся стала не просто красной, а багряной, да он сам с ног до головы стал измазанным, словно мясник какой. Как бы оправдывая фамилию, совершенно красным стал Красин. Гнедой фыркнул и отскочил от него – кони не любят запаха крови и не любят мертвых тел.
Да, так мы о деньгах-то еще не рассказали вам.
Деньги Красину третьего дня передал как раз сам Альфред Визе, председатель правления компании «Визе, Шуккерт и Хеншель», компании, взявшей в губернском правлении подряд на строительство однопутного железнодорожного мостового перехода – эдак вот простой мост называется на ихнем инженерном языке – на строительство, значит, перехода через реку Нянгу в Глухово-Колпаковской губернии; деньги передал председатель правления компании, нанявшей инженера Ивана Сергеевича Красина руководить строительством.
Прекрасно знакомого Красину молодого человека – секретаря Визе – в приемной не оказалось, зато тут, в приемной, ошивалась одна из наглоглазых стенографисток, которых Визе сменял чаще Красина – примерно раз в полгода. Все в компании «Визе, Шуккерт и Хеншель» их за глаза так и называли: альфредками или визитками – наглоглазая содержанка смерила Красина взглядом с ног до головы, словно бы классный портной или же опытный гробовщик, на глазок определяющий кондиции клиента; а тут бабочка словно бы на глазок определяла вес Красина и возможные размеры его детородного органа; ноздри дамы затрепетали; Красин в ответ выстрелил в дуру дуплетом – с обоих своих темно-серых глаз убойным взглядом; та тут же несколько повела из стороны в стороны задом, будто бы вмиг подмокла от красинского взгляда или просто обоссалась.
– Альфред Карлович просил меня немедленно зайти, – Красин, удовлетворенно огладив бородку, протянул, словно бы пропуск, альфредке записку, что час назад принес ему мальчишка-посыльный.
– Господин Визе ожидают вас, – та, вылупляясь еще больше, сделала жест в сторону дверей. Красин, мысленно улыбаясь, еще раз жестко выстрелил взглядом, от чего бабочка неслышно втянула воздух губками и, оставаясь стоять на месте, сиськами под белой блузочкой чуть двинулась вперед – «а!а!» – и вновь втянула в себя воздух – Красин, значит, выстрелил и вошел. Красин любил пошутить.
Бегающий по кабинету Визе бросился к Красину с протянутыми руками и, подбежав, обнял за пояс – он и был Красину почти что по пояс. Черные прядки волос по обеим сторонам его блестящей лысины торчали, словно вороньи крылья.
– Наконец-то, батюшка, Иван Сергеевич! Что ж вы с Мойки добирались сюда целый час?! Или уже народ на улицах? Да? Уже народ? – беспокойно спрашивал Визе. – На-род? – повторил он это удивительное для него слово и пенсне смахнул с себя. – На… рооод… Так что там, на улице? – не дожидаясь ответа, быстро указал Красину на кожаные кресла, и коробку с сигарами поднес, и машинку резательную.
Красин утвердился в креслах и закурил, со вкусом выпустил изо рта голубое, прекрасный распространяющее аромат колечко.
– Народ гуляет, Альфред Карлович, нынче суббота, – кротко ответил Красин. – Имеет право. – Усмехнулся и бородку свою выставленную взял в кулак, что всегда у него служило признаком скрытой насмешки: – А послезавтра, вы же знаете, из Лондона через Гельсингфорс прибывает Александр Иванович Херман. Готовится встреча. А Николай Гаврилович прибыл уже. Еще с пятнадцатого числа здесь, в столице.
– Этот… Темнишанский?
– Да-с.
– Да-да-да-да-да… – Визе вновь забегал вдоль своего письменного стола – туда и обратно. – Да-да-да-да-да…
Красин молчал.
– И дернул меня черт ввязаться в это строительство, – вдруг непоследовательно заговорил Визе. – Я, знаете ли, Иван Сергеевич, прежде занимался исключительно производством конфект… Это меня Генка Шуккерт… То есть, что я… Генрих Густавович… втравил… А на Васильевском-то острове тишина… Дом у меня там, – принялся вдруг изъясняться немец, – дети… Тишина…
– Если вы изволите беспокоиться по поводу новых швеллеровых балок, Альфред Карлович, – начал Красин, – так я еще вчера заказал на заводе у Захарова. Коли проектировщик посчитал проезжую часть под прежнюю, до пятьдесят шестого года нормативом, нагрузку на ось, такого проектировщика, извините, Альфред Карлович, надо гнать в шею… В шею! – начал несколько заводиться Красин. – Хорошо, я посмотрел в расчет… На дворе тысяча восемьсот шестьдесят девятый год! – веско сообщил Красин хозяину, чтобы тот, наконец, узнал, в котором он пребывает времени от Рождества Христова. – Кроме того, нагрузка на ось в будущем непременно станет увеличиваться бешеными темпами, Россия станет индустриальной державою, – безумно, как Дельфийская пифия, добавил Красин, еще не будучи провидцем, еще пророком не ставши; Красин просто был отменным инженером, патриотом и прогрессистом – так вот тогда называли ничего, кроме собственного дела, не соображающих молодцов, поддерживающих Движение; прогрессистом, значит, был инженер Иван Сергеевич Красин. – Так что, по-моему, Альфред Карлович, если хотите знать, весь мостовой переход следует рассчитывать сызнова. Да-с! Для нового времени! Да-с! У Захарова восемнадцатым номером швеллера при протяжке на заводе дают усадку в пересчете на погонный дюйм…
– О чем вы говорите, Господи, Иван Сергеевич! – завопил Визе и ручками всплеснул. – Послезавтра прибывает этот дьявол! Не понимаю! Не-по-ни-ма-ю! Я родился в России, вы знаете, Иван Сергеевич, и отец мой, и дед родились в Санкт-Петербурге… Я русский человек! – взвизгнул немец. – Но не понимаю! Не-по-ни-ма-ю! Нет, бежать, бежать, бежать! Бежать в Москву! За границу! В Германию!
– Да полно вам, – сказал на это Красин.
– Ну, вот что. – Визе вдруг успокоился, зашел за стол и уселся на свое место – над лакированной поверхностью стола начала качаться его голова, словно воздушный шарик на ниточке. – Вот что. Я вас знаю, Иван Сергеевич.
Красин, чуть привстав, поклонился: – Да и я вас знаю, Альфред Карлович.
– Очень хорошо. – Визе коротко сверкнул в улыбке золотыми зубами, побарабанил пальцами по ручке кресла, в котором сидел, и, видимо, окончательно решился. – Вот что, Иван Сергеевич… – Он быстро вскочил, на цыпочках подбежал к дверям в приемную, через которые недавно прошел Красин, и рывком их распахнул. – Пусто, – с некоторым разочарованием сообщил Визе, обернувшись. – Не подслушивает, стерва… Она как только вас видит, тут же идет в дамскую комнату. Э-эээ… Не выдерживает… Да! Надо опять менять на новую, – со вздохом заключил Визе, словно бы речь шла, например, о шляпе, – поизносилась девка…
Красин промолчал. Визе закрыл двери на ключ и вновь уселся.
– Знаючи вас, Иван Сергеевич, и всемерно испытывая доверие к чести, имею покорнейше просить о серьезнейшем одолжении. – Он вновь прислушался. – Вроде тихо…
– Да Бога ради, что хотите, – Красин и предположить не мог, о чем пойдет речь.
Визе повернулся на стуле, открыл стоящий за его спиною сейф, вытащил из него уже знакомую нам сумку, нажал на замочки и распахнул сумку перед Красиным, как фокусник на сцене. В разверстом темном зеве не заячьи уши появились – блеснули перехваченные крест-на-крест банковскими ярлыками пачки ассигнаций.
– Можете не пересчитывать. Три миллиона.
– Однако! – только и произнес пораженный Красин.
Вот кто был провидцем и пророком, так это русский в третьем поколении немец Альфред Визе, пророком был, хотя только что заявил, что, дескать, не понимает, не-по-ни-ма-ет. Все Визе понимал распрекрасно. Он после разговора с Красиным еще появится, к сожалению, в нашем правдивом повествовании. Но еще до исчезновения своего из нашего романа, из столицы империи, из жизни самой успел он оставить в ней немыслимое, невиданное для европейского человека количество незаконных потомков, просто не поддающихся исчислению в простых числах аристотелевой математики, тут требуется интегральное исчисление. Вот, может быть, с потомками Визе нам еще придется встретиться, кто знает? Тогда мало никому не покажется, уверяем вас. Но, повторим, – кто знает? Может, кому-то покажется и мало. Некоторым всего мало, сколько ни подай.
– Я не могу никому довериться, – сухо произнес в тысяча восемьсот шестьдесят девятом году немец. – А спрятать мне негде, – он тревожно оглянулся на занавешенное окно, – негде. Следят. И здесь ненадежно. Банки закроются завтра же.
– Однако! – еще раз сказал Красин.
– Завтра же, – упрямо повторил немчик. – Завтра же все закроются. Возможно, навсегда. Только, может быть, в Германии… Я уеду, только заберу дочерей… Возьмите. Только вам доверяю. Даже расписки, – он впервые с начала разговора усмехнулся, показывая вставные золотые зубы, – даже расписки никакой не возьму. Вы возвращаетесь на строительство – возьмите с собою. Спрячьте там. Где можно спрятать, чтобы надежно хранилось и легко взять потом? Где? – Поскольку Красин молчал, Визе добавил: – Спасите меня, Иван Сергеевич. Спасите моих детей.
Так вот немец развел Красина, можно было бы сказать – дешево развел, когда б не величина самой суммы.
– В опоре моста, – подумав, сказал Красин. – Я оставлю в левой береговой опоре в сторону течения, наверху, возле опорного катка. Заложу камнем с двойной перевязкой. Легко будет первый камень выбить, а из-под второго сумку вытащить, как из ящика. А знак… Знак…
– Никаких знаков! – немец выставил растопыренную ладонь. – Не надо никаких знаков. Я найду… В левой береговой опоре в сторону течения, – повторил он для себя, запоминая. – В левой береговой опоре возле опорного катка…
Расписку Красин все ж таки, разумеется, написал, денег не пересчитывая – сказал, что не примет поручение без расписки, не может он иначе, и Визе наскоро сунул трехмиллионный клочок бумаги в жилетный кармашек – туда, где у всех нормальных людей помещались золотые часы на золотой цепочке…
А сейчас Красин, не обращая никакого внимания на раненого, принялся собирать деньги с земли; собравши, поднял сумку и тут же бросил – сумка в двух местах оказалось располосована от угла до угла. Красин снял с себя вымазанный сюртук, завязал рукава узлом, сложил в сюртук одну за другой, сдувая с них землю, все пачки – пачки, оказавшиеся в крови, Красин не смог бы очистить сейчас, – сложил, значит, и продернул полы под узел – получилось, кажется, прочно. Гнедой вновь коротко заржал невдалеке, но Красин, говорю, вновь плохо соображал сейчас, а убивши двоих человек за одну минуту, совсем, значит, уже не соображал ничего и ничего не слышал. Пророк-то он стал, вдруг понявши все и вся в Движении, частью которого он был, в Движении все понял, прозрел, а так, чтобы слышать происходящее за собственной спиною – нет, такого никакие пророки не могли никогда. Да и парень с берданом в животе продолжал беспрерывно орать, заглушая все вокруг:
– Аааа! Ааааа! Боноооо!
Да, и финский картуз, утром крепко-накрепко надвинутый на голову, до сих пор, представьте себе, не слетел и давил Красину на стучащие виски. Не слышал.
Вздохнувши и покрутив головой, Красин поднялся с земли, собираясь подозвать коня, обернулся, и тут прямо в ружейное дуло уперся его взгляд. Тут, получается, скрывался еще один, пятый человек. Этот пятый – потом уже быстро осмотрел его Красин, этот был не в набросанной на рубаху дерюжке, не в разбитых опорках, не грязный и нечесаный, как все мужики. С подстриженной рыжеватой бородкой, аккуратненький, в коричневой клетчатой визитке[53], зеленой тирольской шляпе и черных бриджах, заправленных в сапоги – таких же бриджах, как у Красина, этот выглядывал бы приличным господинчиком, если бы не звериный виделся из-за винтовочного затвора клык в оскаленном рту. Да-с, этот держал в руках не бердан, а ружье системы Венцеля с откидывающимся вперед и вверх затвором – Красин, как каждый охотник, разбирался в оружии – на него, Красина, смотрело дуло ружья, принятого на вооружение русской армией, ружья, которому, он знал, соответствующим приказом установлено было новое официальное название – «винтовка» – винтовка оттого, что винтовая нарезка шла внутри ствола, закручивая и точнее выбрасывая пулю. Как винтовка оказалась в руках этого пятого, Красин не успел подумать тогда. Они оба – и Красин, и человек в визитке, – оба вдруг усмехнулись совершенно одинаковыми кривыми ухмылками, будто бы зеркало изображали друг для друга; Красин дернуться бы не успел – держащий его на мушке уже, не тратя слов, собрался было потянуть за спусковой крючок, сейчас прогремел бы выстрел.
– Сидор! – раздался звонкий женский голос. Катин голос!
Тому бы сначала выстрелить, а потом бы обернуться на зов, Сидору этому. Убил бы Красина, а потом бы обернулся. Но Катин голос и на этого человека произвел магическое действие. Сидор, шевеля усами и щерясь, чуть – только чуть-чуть – скосил взгляд, продолжая выцеливать Красина.
Поодаль стояла Катя. Катя! Катя! Катя! Поодаль, значит, стояла Катя в разорванной, совершенно испорченной, уже лишенной тюрнюра, мятой и грязной утреннеей синей «амазонке», Катя, простоволосая и растрепанная, с искаженным лицом.
– Возьми меня, Сидор! – выкрикнула Катя; тут рот ее совершенно уже искривился, словно бы у ведьмы какой, прости Господи, тут и голос у нее сорвался. – Сейчас возьми, – проговорила уже тихо. – Ты же всегда хотел, я знаю, – это уже прохрипела, схватившись измызганной перчаткою за горло.
Сидор – видимо, помимо себя, – Сидор полуобернулся, и тут Красин прыгнул – так, бывалоча, на волка он прыгал с седла.
Если б какой сугубый регистратор, измерявший расстояние, каковое мог человек с места преодолеть одним прыжком – если б, дорогие мои, спортивный регистратор какой из Англии, откуда ж еще, только в Англии исключительно развит спорт, не в России же, откуда еще регистратору взяться, любой порядочный англичанин, известное дело, – спортсмен; да-с, сугубый спортивный регистратор в тот миг определил бы рекорд Российской империи, да что там! и всемирный определил бы рекорд по прыжкам с места в длину – Красин прыгнул; они с Сидором, поднимая облака багровой пыли, несколько мгновений еще катались по кровавой земле рядом с точно так же катавшимся по земле парнем с берданом в животе. Несколько мгновений, значит, они катались; картуз только здесь с Красина слетел. Ну-с, тут никаких вариантов не могло и возникнуть, тем более что Красин первым же вместе с прыжком ударом сломал Сидору и нос, и верхнюю челюсть, ручонка у Красина была дай Бог всякому; через несколько мгновений Красин Сидора задушил. Это был третий, а на самом деле четвертый человек, убитый Красиным за десять минут, потому что парень с берданом в животе умер почти тотчас, через несколько мгновений. А Красин стал совсем как огородное пугало – весь в крови и в песке, одного чистого пятнышка не осталось на нем.
Катя закатила глаза и упала навзничь. Это было как во сне. Красин бросился к ней. Катя лежала белая, как сметана, но веки подняла, смотрела неподвижными синими своими глазами.
– Катя! Катя! – заорал Красин с такой силой, словно бы желая пробудить мертвую.
– Je n’ai pas de cheval quatre heures[54], – с таким же неподвижным лицом сказала Катя. – Рouliche pauvres… Fell il… Est mort…[55]
– Ввы… Вввы, – срываясь и заикаясь, выговорил Красин; хотел сказать по-французски, но и французский, и русский забыл сейчас.
– Ааааааа! – продолжал кричать парень, катаясь по земле с берданкой в животе. – Боноооо!.. Бооо-ноооо!.. Жоо-пааа! – еще кричал он, словно действительно в анус ему воткнул Красин полый железный штырь. – Жоооопааа!… Боооноооо!…
Красин и не обернулся, чтобы хоть сухим взглядом посмотреть. За его спиною парень взялся окровавленными руками за бердан, на мгновение замолчал и разом вырвал дуло из себя; берданка со стуком упала, из разверстой раны выперло вместе с кишками кровь, парень в последний раз крикнул и затих, раскинув руки.
– Comment êtes-vous arrivé ici? – наконец спросил Красин, все не отрывая от нее взгляда. Катя не ответила и закрыла глаза. – Vous avez sauvé ma vie[56], – добавил.
Тень прежней Катиной улыбки появилась на измученном ее лице.
– Et vous savez ce que cela signifie? Maintenant, vous êtes mon… mon…[57]
– О, Господи, – только и сказал Красин.
… Когда Красин возле парадного крыльца снимал бесчувственную Катю с коня, первым вышел встречать хозяйку Катин английский сеттер Чарлей. Тот выскочил было на крыльцо, но остановился, на ходу упершись передними лапами в верхнюю ступеньку лестницы. К нервному коню, окровавленному Красину и такой же окровавленной хозяйке Чарлей, подумавши, решил на всякий случай не приближаться. Пес еще немного подумал и залаял на Красина.
– Cher Charlie, – Катя оправила на себе платье. – Laissez aller, – это она сказала Красину. – Laissez-les, je vais moi-même[58]. – Катя, осторожно ставя ноги в кожаных туфлях, двинулась по лестнице вверх. И туфли, и, конечно, платье – все на Кате было в крови и грязи, словно бы она свиней резала. Понятное дело: пока Красин вез Катю, посадив ее на шею коню и прижимая к себе, причем между собою и Катею придерживал он бесформенный окровавленный комок – черный сюртук, в который уложил деньги, придерживал, значит, сюртук, всю об него вымазал Катю, да еще из самой Кати вместе с влагалищным секретом продолжала от езды верхом сочиться кровь и нескончаемая красинская сперма – да-с, так оно и было, случилось по дороге. Наконец случилось!
Когда Красин, не оглядываясь на учиненную им на стройдворе бойню, бодренько сел в седло и, нагнувшись, подхватил Катю, посадил перед собою, она обняла его за шею, дрожала вся, бедная. Красин через плечо повесил винтовку, так вот и ехали на небольших рысях, пока у Красина перед глазами вдруг не поплыли синие и зеленые круги. Он последним осмысленным движением натянул повод, сполз с седла. Такого позора в жизни еще не переживал Красин.
– Извините, – пробормотал он, не видя ничего перед собой. Ноги не держали Красина, сел на траву – оказались они с Катею на опушке березняка, что начинался сразу под монастырской горою и заканчивался аж у реки, версты за четыре. – Извините, мне плохо.
Ужас произошедшего настиг его. И тут же, будто бы некий сигнал – не к службе, не к началу ежедневного вечернего богослужения, что неукоснительно начиналось в монастыре в шесть часов пополудни, не для тридцати или сорока монашек, живущих за стенами на горе, – сигнал для Кати и Красина подал басовый монастырский колокол: – Буммм!.. Ему ответили сейчас же теноровые колокола: – Дим-дили-дили, дим-дили-дили, дим-дили-дили… – И баритоны подхватили: – Ти-ти-там-там, ти-ти-там-там… И вновь ударил бас по всей округе: – Буммм!…
Монастырь стоял на самой верхотуре, всю не такую-то уж большую Глухово-Колпаковскую губернию можно было бы увидеть с колокольни монастыря – если б у монашек имелся какой-никакой телескоп или хотя бы морская подзорная труба, но откуда подзорная труба в сугубо сухопутном Глухово-Колпакове, имеющем в себе разве что мелководную Нянгу, в которой, впрочем, водились и окуньки, и лещики, и налим выходил из заводей, и помянутый только что убитым Фомою голавль, и остромордая щука вылетала из засады на плотву и ершей и тут же сама попадалась на блесну. Да-с, на самой, говорим мы, верхотуре стоял монастырь, на большем из двух сдвоенных холмов, а рядом, внутри второго холма, образуя с ним изрезанную складками ложбину, красная глухово-колпаковская земля выперла из себя еще один холм – чуть меньше высотою. Понятно, что состоящая из продольных оврагов ложбина иначе, как Борисовой пиською, называться во всей округе не могла. Над нею сиял купол монастырского храма и, словно доминанта округи, возвышалась колокольня, купол которой тоже сиял на заходящем солнце. Если б Красин не разлегся сейчас, как дурак, на траве, не разлегся бы, раскинув руки, если бы, значит, не разлегся Красин хотя в минутной, но постыдной слабости своей, если б Катя, страстная и нежная Катя не спрыгнула бы с коня, не встала бы перед Красиным на колени – да-с, они бы, возможно, заметили – показалось бы им, как под куполом колокольни сверкнул слепящий даже и на солнце огненный дьявольский глаз – окуляр; показалось бы им так.
Березовая молодая листва чуть шелестела под ветром. Вся округа от опушки леса виделась широко, ясно, не хуже, чем с обоих холмов, черная туча, с утра шедшая за Красиным, исчезла – может статься, что от близости монастыря, Бог весть. Вдоль леса кривая тянулась колея, разъезженная телегами, по этой дороге и ехали только что Красин с Катею; тянулась, значит, колея, но по-прежнему ни единого человека сейчас не было нигде в Божьем мире, никто не проходил и не проезжал не только что мимо – нигде, нигде, сегодня Красин не встречал на пути своем людей; монашки неслышимо и невидимо для посторонних глаз двигались у себя за стеною, купола недвижно летели сквозь синеву над собою, и там, далеко, версты за четыре, где заканчивались княжеские взошедшие зеленя, за монастырем, там лес заворачивал, темнея из-за расстояния и из-за начинающих встречаться посреди березняка сосен. Там вот, кстати сказать, белые грибы и подберезовики – в том месте, где заворачивал лес, – там белые и подберезовики водились – хоть косой коси, честное слово! А тут, в ближнем лесу – маслят жило видимо-невидимо, чуть шагнешь от опушки в лес. Но это в сторону, да, в сторону.
Так спрыгнула, значит, Катя с коня, встала на колени перед Красиным..
– Бумм!.. – ударил в ее жизнь колокол. – Бумм!.. Дим-дили-дили, дим-дили-дили, дим-дили-дили… И баритоны: – Ти-ти-там-там, ти-ти-там-там… И вновь: – Буммм!…
Это было самое настоящее венчание, мои дорогие. Да, это было венчание. Свадьба.
– Mon brave, – говорила она, стоя на коленях и лаская Красина, – mon plus braves et les plus fidèles, – говорила Катя, целуя окровавленного убийцу, – je me félicite, mon bien-aimé, mon mari,[59] – так говорила Катя ему, обессиленному и, кажется, не слышащему ничего. И ожил Красин, надо тут заметить, мгновенно. В секунды Красин вернулся в рассудок и сознание и вернулся в оное сознание слишком, по всей вероятности, быстро – ну, так же быстро случилось и новое выпадение из рассудка, быстро и вернулся, и тут же быстро выпал, значит, Красин из рассудка вновь. Потому что он одним движением задрал на Кате платье, нижние юбки, тут же панталоны сдернул и нежно, но вполне непреклонно положил Катю на спину. Катя ахнула и обхватила Красина обеими руками, прижала к себе; жесткие ребра синей «амазонки» уперлись Красину в грудь. – Да, да, – по-русски выдохнула Катя в ухо Красину; уж в такие мгновения французская речь отступала. Красин еще успел заметить, как огромный ком рыжих волос на Катином лобке трепещет под ветром, словно бы выгоревшая трава, и какая нежная, узенькая, тугая складка идет у нее меж ног, среди зарослей этой рыжей травы – складка, никогда еще не впускавшая в себя мужчину.
Конь, стоя над Красиным и Катей, тихонько пофыркивал в такт с громко стонущей Катей. Через две минуты Катя задрожала и укусила Красина, чтобы сдержать крик; а что Красину был теперь укус-то, он и не заметил его. А Катин крик вырвался все-таки, вырвался, значит, Катин крик и полетел вдоль леса, отразился от холмов и взмыл в голубое небо, никем не услышанный – кроме Бога и божьих птиц, думали так оба: никем не услышанный, так вот думали они. И еще три раза так же далеко – к венчающему их друг для друга Богу – посылала крик Катя. Бог наверняка услышал этот призыв к Нему, потому что, конечно, не насилие, а незнаемое доселе обоими небесное соединение не только тел, но душ в то время снизошло на обоих. Оба поняли, что они соединились, полностью в едину плоть до конца жизни соединились с родным человеком. Так вот бывает – поверите ли, дорогие мои? – под звон монастырских колоколов, практически на небесах, значит, практически на небесах, а не на кровавой земле, говорим мы вам, чтобы несколько оправдать, – хотя он не нуждается ни в каком оправдании, – но чтобы несколько оправдать Красина – практически на небесах все произошло. Ну, ей-Богу.
Потом потрясенный и счастливый Красин на коленях просил прощения, а смеющаяся и плачущая, счастливая Катя обнимала и целовала его. Таковой оказалась их первая ночь, вернее – первый их день, первая их супружеская связь – не на шелковых простынях в тиши парижской какой спальни во время свадебного путешествия, не после ванны с ароматическими китайскими маслами, а на опушке березовой рощи, в крови и красном песке, почти что над теплыми еще трупами, накануне всего, что еще ждало обоих впереди.
… Фамильный дом Кушаковых-Телепневских представлял собою двойную колоннаду полукругом, где в летнее время князь Борис Глебыч в одиночку делал плезир с домашним мороженым и коньяком, и два павильона, в которых по обе стороны упиралась колоннада – один павильон, левый, ежли смотреть от парадного крыльца, именовался музыкальным, а другой, правый, – рисовальным; да-с, дом представлял собою, значит, две колоннады с двумя павильонами по краям и самим главным трехэтажным корпусом посреди коллонад – с террасой, вынесенным греческим портиком и изукрашенным барельефами фронтоном над ним – и колонны, и портик, и фронтон – все было, ну, чисто как у какого Агамемнона, греческого царя, ну, честное слово, ничуть не хуже, и ничуть не хуже, чем у государя Императора Александра Павловича в Царском селе, где нес свою службу Катин дед, кавалергард. Посреди колонн располагался, значит, фасад, а само здание уходило перпендикулярно от колоннады внутрь, в сад, чего у Александра Павловича не было заведено, тут уж буйствовало творчество телепневского архитектора.
Красин с Катею шагом подъехали к крыльцу, и радостный пес, Катин любимец, как мы уж вам рассказывали, выбежал навстречу хозяйке. Больше никаких собак в усадьбе уже не было – после смерти отца Катя раздала по соседям всю отцовскую свору, больше тридцати борзых и легавых. Не маленьких денег, кстати тут сказать, стоили все эти собаки, но Катя отдала их так, даром, потому что доброй девочкой была наша Катя.
– Oui, cher Charlie, je vais maintenant que monter à cheval. Simon m’a déposé à Saint-Pétersbourg au milieu de la rue et s’en est allé, voici comment! Simon est allé aux femmes, et je suis allé aux paysans![60] – Катя легко, как ни в чем не бывало, легко захохотала, и Красин понял, что он, Красин, счастлив сейчас! Счастлив! И все будет хорошо! У них с Катей непременно будет ребенок! Сын! Все будет хорошо!
Чарлей на тираду Кати ничего не ответил, повернулся и побежал, клацая когтями по камню, в дом. Уже в коридоре им встретилась Стеша – рябая Катина горничная. Красин знал ее и знал, что Стеша все просилась по делам своим домой, в деревню – мать, дескать, у нее больна, помирает, а Катя ее все не отпускала, и Красин знал, почему Катя все никак не отправляет Стешу домой – та говорила по-французски, с детства жила при господах, выучилась, и Кате сподручнее было эдак-то распоряжаться. Признаться, не сильно правильно обстояло дело со стороны Кати – не отпускать Стешу к умирающей матери, но как раз накануне, Красин знал, Катя ее собиралась отпустить и даже отправить. Красину было все равно, а мы вам можем сообщить, дорогие мои, что по фамилии Стеша звалась – вы подумали уж, что Борисова? нет, по фамилии Стеша звалась так – Храпунова.
– Bain. Et puis juste rentrer à la maison, Stesha. Au contraire, rentrer à la maison[61]. – Это Катя произнесла несколько как-то странно и с каменным каким-то лицом. Но Красин уж не обратил внимания на Катины интонации, теперь он сторожко вертел головой туда-сюда, словно бы фарфоровый болванчик – в доме, казалось, никого не было, кроме Стеши и Чарлея, никого; Красин уж теперь понимал – кажущаяся пустота скрывает нечто, на опушке лишь потерял он рассудок; винтовку сейчас держал наготове, в каждом сапоге у него лежал окровавленный мужицкий нож.
Стеша была рябой круглолицей бабой. Она казалась бы довольно справной, если бы, конечно, не отвислые некрасивые груди, такой же висящий живот и уже все оплывшее, как это часто начинается с крестьянскими девками еще с юности, тело – вне зависимости от того, рожала она или нет.
– Что, в доме больше никого? – отрывисто спросил Красин у Стеши. Та быстро взглянула, но отвернулась сразу же – не так-то легко было сейчас глядеть в сверлящие глаза Красина.
– Никого, барин. Побегли все в деревню. – Признаться, и горничная, словно бы ее хозяйка, говорила как-то странно, а уж это Красин отметил сразу. – Отвести коня? – еще спросила Стеша, потупляясь под взглядом Красина.
– Salle de bain! Monsieur me dirige cheval.[62]
– Écouter.[63]
Обе прошли в дом, Красин, все вертя головой и прижимая к себе сюртук с деньгами, действительно повел было измученного гнедого в сторону конюшни, но тут же, на счастье свое, вернулся и привязал уздечку прямо к балясине на террасе. И расседлывать не стал.
– Извини, брат, – сказал коню. Похлопал того по мокрой шее. Конь все фыркал; кони, еще раз напоминаем мы вам, не любят запаха крови, не любят. Сам же гнедой один издавал запаха на целый эскадрон, и от Красина пахло совсем невыносимо; признаться, от Красина просто воняло сейчас.
Красин взял сюртук в левую руку, прихватил, сколько мог, ее поудобнее, правой потянул с плеча винтовку и пошел с пальцем на спусковом крючке вдоль дома слева.
Слева от дома тянулся яблоневый сад, первая нежно-зеленая падалица уже похрустывала под сапогами. Красин прошел, крадучись, саженей двадцать и остановился, прислушиваясь. Ему показалось, что он слышит, как в ванной льется вода – как из ведра наливают в поблескивающую ванну дышащую горячим паром воду. Катя, значит, сейчас пробует воду голой ногой. Красин встряхнул головой и вновь прислушался.
Тихий летний вечер лежал возле усадьбы; уже удлинились тени; ветерок совсем стих. С третьего этажа в открытое окно падали характерные звуки выдвигаемых и задвигаемых ящиков комода – Стеша собирала для Кати белье и полотенца, Катины жилые комнаты и Катина ванная комната с небольшой печью как раз на третьем этаже и располагались. А природа и все, что виделось вокруг, – сад, трава, земля, небо – они никак не звучали сейчас. Из-за угла выскочил Чарлей, осмотрел напряженного Красина, фыркнул на него и побежал, смешно подбрасывая задние лапы, обратно за дом. Красин, безотчетно копируя Чарлея, тоже фыркнул по-собачьи, повернул вслед за псом назад, вновь миновал крыльцо и двинулся вокруг дома с правой стороны. Тут начинались хозяйственные постройки – чуть поодаль, а еще дальше шли дровяные и сенные сараи, потом каретная, а сразу за углом стояла конюшня, в распахнутые ворота виделись темные на контрасте с двором, залитым вечерним солнцем денники. Никого. Никого.
– Mon cher, – услышал Красин над головой Катин голос. Красин обернулся. Катя, голая, стояла в окне и манила его к себе рукой. Ее груди торчали вверх, соски, даже и на взгляд тверже камня, горели огнем. – Mon cher. Ne venir… Tu… – счастливо и освобождено засмеялась, и Красин вновь перестал быть пророком – на время, потом–то он опять вернулся в правильное состояние. – Je suis tellement heureux de toi dire «tu». Viens ici. La deuxième fois, cette horreur ne se reproduise pas…[64]
Так Катя второй раз за день спасла Красину жизнь.
Через минуту, да менее чем через минуту оба стояли друг перед другом нагие. Красин словно бы с винтовкою наперевес между ног – а винтовку-то бросил в соседней с ванной комнате на полу, – словно, говорю, с винтовкой, розовым напряженным жерлом точно смотрящим Кате в живот, да и выше, в груди, а Катя с чистым банным полотенцем в руках, которое она тут же бросила на край ванны, чтобы Красин мог ее всю рассмотреть без какой помехи; на Кате оставался только маленький золотой крестик в ложбинке меж грудей и на правой руке – почему-то не снятый – торопилась – золотой же браслет с поднимающей головку синеглазой змейкой; Катя такими же горящими синими глазами рассматривала Красина тоже, постепенно покрываясь краской – со щек краска пятнами поползла на шею, на груди и живот, но Катя не защищалась от взгляда руками, словно стыдливая боттичеллиева Венера, нет, нету! Катя, не хохочущая, как обычно, а тихонько смеющаяся Катя вся была открыта своему мужчине, вся, целиком.
Они не успели сделать и шага друг к другу – за окном как-то нехорошо, дурным звуком, страшно взвизгнул, закричал, словно человек, Чарлей; выражение счастья в миг исчезло с лица Красина. Красин шагнул к окну, у которого только что стояла, призывая его, Катя.
Чарлей лежал возле ворот конюшни со вспоротым животом, вместе с ударами еще бьющегося сердца из собачьего живота толчками шла кровь. Мгновение висела тишина, а потом из-за ворот выглянула мужицкая морда в шерстяном вaляном колпаке – Красин тут же встал за портьеру – выглянула мужицкая морда и мужик повел в поводу коня – призового княжеского серого в яблоках рысака Гамильтона, копыта глухо стучали, странно было бы мужикам полагать, что стук копыт не услышат в доме. Следом мужики повели одну за другой всех лошадей. Катя уже стояла за спиной Красина и тоже глядела вниз, на них обоих ступор нашел на пару минут. Из-за угла выехал еще один мужик, этот – на бежанидзевском гнедом; Красину на мгновение помстилось, что верхами сидел задушенный им сегодня Сидор – в той же визитке, в той же тирольской шляпе и в той же аккуратной рыжей бороденке; тут Катя тихонько вскрикнула, зажала рот рукою, но поздно было – мужик поднял голову вверх, их с Красиным глаза встретились; это действительно был мертвый Сидор, только уже не с вывернутой шеей, не с разбитыми и окровавленными ртом и носом, а с чистым волчьим оскалом под рыжими усами. Мертвец поднял обрез бердана и выстрелил, Красин отшатнулся, отжимая голую Катю голой спиною в сторону; пуля со чпоком – чпокк! – вошла в оконный переплет.
– Suivez-moi![65]
Катя схватила Красина за руку и потащила за собой.
– Подожди! Деньги!
Красин выбежал в соседнюю комнату, затем в следующую, затем еще в следующую – в Катину спальню, одним махом, словно Одиссей – Пенелопову из цельного куска дерева лежанку, одним, значит, махом придвинул огромную железную кровать к дверям; он успел захватить и брошенную винтовку, и бриджи свои, и грязный, уже в высохших кровавых разводах бесформенный черный ком – сюртук с деньгами.
– Où sont vos bijoux? Bijoux! Robe![66]– крикнул Кате.
– Dieu les bénisse! Dépêchez![67]
Она, выставляя голую попку, с натугой потянула забранную вишневым шпоном стенку, и та вдруг со скрипом поехала в сторону, обнажив маленькую дверцу в стене.
– Voisi![68]
Они, согнувшись – Катя пополам, а Красин встав на четвереньки, влезли в дверь, Красин задвинул за собою потайную раму и дверь закрыл на тяжелую ржавую задвижку. И тут же мерзавцы, топоча не хуже лошадей, ворвались в комнату, в которой только что стояли у окна Красин с Катей. Но Красин с Катей уже босиком бежали по скользкой и смрадной винтовой лестнице вниз – в полной темноте, перед непривычными ко тьме глазами ходили темные пятна; чудо, что не споткнулись и не сломали на лестнице-то себе ни ног, ни шеи. Тут было совершенно темно, глаз коли, только в одном месте из стены бил наполненный шевелящейся пылью луч света, и Красин, невольно остановившись, приник к отверстию.
Светлый луч исходил из кабинета самого покойного князя Бориса Глебовича, Катиного отца. Нам с вами никак было бы не видно со стороны лестницы, но мы можем сказать, что глаз Красина глядел аккурат из кабаньего глаза, куда вставлен был окуляр – из висящей на темной деревянной стене кабаньей головы – прямо напротив камина, холодного сейчас и лишенного каминного экрана – по летней поре и отсутствию – теперь до Cтрашного суда – отсутствию хозяина. В кабинете царил полумрак, но на два кожаных кресла рядом с камином вдруг упали колышущиеся световые блики, потому что под взглядом Красина, словно под взглядом василиска, сам по себе в пустом камине вспыхнул огонь, затрещали дрова, пуская по сворачивающейся от подступающего пламени березовой коре медленную предсмертную слезу. Свет потек вверх, и над камином Красин увидел высветившуюся и тоже полную гуляющих световых пятен картину. Он узнал – Джотто, это была копия фрески великого итальянца Джотто, фреска называлась «Бегство в Египет». Красину отсюда видно не было, он не понял, что картина – самая настоящая фреска, написанная по сырой штукатурке.
Красин только успел подумать, что, вот, на картине изображено, как недавно рожденного Господа нашего увозят из Вифлеема, а на самом деле Господа увозили из самой усадьбы Кушаковых-Телепневских, из всего Глухово-Колпакова. Не очень-то религиозный и совершенно, как вы уже поняли, дорогие мои, совершенно бесстрашный Красин вдруг покрылся холодной испариной: Бога нашего навсегда увозили из этих мест, Бог нас оставлял.
Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых есмь будущий царь Иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого, родившегося в эту ночь. Потому Святое Семейство по дороге, указанной Божьим Ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет, в теплый и спокойный Египет. Покорный ослик вез на себе Марию с Младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на жену с ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеству людей, но Ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что – им одним, так заключил сейчас Красин по движению крылатой его, Ангела, руки, которой именно Марии, именно Марии показывал Ангел дорогу – туда, вперед, туда, в благословенный Египет. Крутые горы вставали на пути, редкие кедры на склонах не давали ни тени, ни отдохновения, но все, все непреложно говорило о том, что идти – необходимо, необходимо преодолевать горы, шаг за шагом оставлять за спиною дорогу, чтобы обрести не жизнь, но покой и, может быть, счастье. Счастье в далеком, совершенно неизвестном, чужом и, возможно, враждебном Египте. Но потом, после краткого счастья, Младенец вернется, Он придет, чтобы спасти всех нас, но Самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалось на лике Марии, а тревога – на лице Иосифа, вот почему суровый лик Младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвенье, где нет спасения – никому.
– Quoi d’autre? Venez vite![69]
– La Fuite en Egypte, – невидимо в темноте улыбаясь, ответил Красин. – Nous n’avons pas assez de enfant.[70]
– Pour toi sera à l’avenir un enfant, mоn chère. Venez![71]
– Nous serons sauvés[72], – уже без улыбки сказал совершенно спокойный Красин, словно бы споря с предвидевшим будущее художником. Джотто знал, что впереди – распятие и страсти, нет, не страсти одной предсмертной недели Христа, но неизбывные страсти всего мира, а Красин знал, что впереди жизнь и радость.
– Viens avec moi. Seulement avec prudence. Les murs peuvent s’écrouler.[73]
Лестница закончилась, Катя и Красин оказались внутри самого настоящего подземного хода. Стены поддерживались – Красин уже ощупывал стены – сырыми и, если бы сейчас в руках у Красина оказался бы факел, стало бы возможным разглядеть – черными, давно сгнившими бревнами и заправленными за них такими же сгнившими досками. Но и так, без факела, было ясно, что стены могут посыпаться в любую секунду. Под босыми ногами хлюпала ледяная жижа – в совершенной тьме.
– N’ayez pas peur seulement, – зашептал полностью уже офранцузившийся от всех событий сегодняшнего дня Красин. – Il pourrait y avoir des rats et des chauves-souris. Ils ne mordent pas, – добавил он явную ложь. – Perme-moi aller de l’avant.[74]
Впереди раздался тихий Катин смешок: – Хи-хи-хи… Не ври, – временно перешла Катя на родной язык словно бы в ответ на красинский французский. – Еще как кусаются. Меня в детстве знаешь, как один раз укусили!.. Alle pour moi… C’est au cours de bureau de mon père et de mon père chambre… Sauf moi, personne ne sait, personne ne…[75]
Красин с Катею не видели, да и, разумеется, не могли видеть, а мы с вами, словно бы продолжая подглядывать в потайной глазок князя Бориса Глебовича, мы можем увидеть, как в княжеский кабинет, не спеша, зашел толстый исправник, мы даже фамилию его можем вам сообщить – Морозов, а по имени Николай Петрович, исправник, значит, зашел в кабинет, за ним в дверь ломанулись было мужики, но им Морозов с грубым возгласом «Куда? Куда?» непреложный сделал знак рукою – подите, мол. И мужики – такая, значит, странность, но что было, то уж было, врать мы не станем никак, – мужики молча повернулись да вышли вон. Николай Петрович закрыл за ними двери, даже ключ с узорною выделанной головкой в замке повернул, потом прошелся по кабинету, трогая пухлыми в белых перчатках пальцами разные предметы на столе – пресс-папье, металлические перья в хрустальном стакане, бумаги, чернильницу, мраморный бюстик Вольтера и отлитое в серебре изображение сеттера, сам стол трогая, словно бы ощупывал при покупке лошадь, потом так же ощупал кресла, в горящий уставился камин, о чем-то напряженно и тяжело думая, потом так же уставился на копию Джотто, кряхтя, потянулся и попытался снять фреску со стены – разумеется, не вышло! Тогда исправник стащил с себя портупею с палашом и жандармскую шапку, украшенную огромной двуглавою медною птицей, с грохотом бросил их, не глядя, на пол и, вновь потянувшись, постукал костяшками пальцев по изображению. Потом вернулся к столу, вынул из коробки «гавану», откусил кончик, выплюнул его пред собою и, рассыпая вокруг искры, чиркнул фосфорной спичкою, закурил, спичку загасил, аккуратно положил ее в чистейшую пепельницу на столе и плюхнулся не в скрипнувшие, а просто-таки вскрикнувшие от неожиданности кресла, вытянул вперед толстые ноги в начищенных, посылающих от огня черные отблески сапогах.
В эту же минуту Катя и Красин на четвереньках вылезли из заросшей густым чапыжником дыры посреди леса – опять оба с ног до головы в земле и грязи, вылезли и уселись под первым же деревом. Летний вечер, склоняясь к ночи, ласково дунул на их обнаженные тела, дунул еще раз, посильнее, и тут же раздалось несколько глухих ударов – по траве покатились яблоки. Красин поднял голову и засмеялся – они сидели под дикой яблоней, тоже, как и яблони в саду у Кати, уже давшей первые плоды.
– Мы с тобою Адам и Ева, милая. Под древом познания добра и зла. – Он обнял Катю, захватил в ладонь ее измазанные кровавой землею груди, и Катя в ответ обняла Красина, маленькие свои ладошки положила на волосатые Красинские яйца.
– Et où le Serpent?[76]
– Хватит с нас на сегодня змиев. Мы все уже познали сами. Мы начнем новую жизнь без них.
Надо было, разумеется, немедля бежать, спасаться, искать одежды, крова и пристанища, но Красин и Катя долго любили друг друга – здесь мы можем употребить именно это выражение, мои дорогие, – Красин и Катя долго любили друг друга, а потом еще раз долго любили друг друга, а потом еще раз долго любили друг друга, а потом сидели в обнимку почти не двигаясь, и больше даже не целовались, больше ни о чем не говорили, пока окончательно не наступили сумерки, и ветерок, словно бы ночной бриз, не принес благодатный летний озноб.
2
Всюду вокруг, сколько хватал глаз, расстилался серо-сизый, стелящийся по поверхности – не земли, нет, по поверхности полигона стелющийся, – дымок. Кое-где он казался почти незаметным, кое-где, наоборот, клубился сильнее, становясь плотным, темнея до настоящего цвета голубиного крыла; воздух над полигоном слоился и, сворачиваясь в струи, уходил вверх, поднимаясь по одному ему известной спирали; так над аэродромом поднимается по строгой глиссаде тяжелый самолет – не вертикально вверх, как, чуть разбежавшись, взмывает наглый истребитель, а по строгой системе, придуманной для солидной, основательной машины. Стелился и поднимался дым над полигоном. Пахло гарью.
И так же далеко, покуда, значит, хватал глаз, по краям полигона за горизонт уходила высокая на столбах сетка с крученой колючкой по верхам, сходящаяся с двух сторон на бетонке – перед будкой КПП и двойным двуцветным – красным с белым – шлагбаумом.
– На, – Чижик сунул вложенные в файлик бумаги Цветкову, – сунь в ящик под окошком.
Цветков безропотно вылез, вновь оскользнувшись на высокой подножке мусоровоза, и действительно подал подписанный Газом наряд в узкий ящичек под окошком КПП. Шлагбаум, словно бы только и дожидаясь, когда притеплившийся за дорогу Цветков покинет кабину, с электрическим гудением пополз вверх; тут же мусоровоз, не дожидаясь Цветкова, прошел под шлагбаумом и двинулся, переваливаясь, по наезженной меж гор мусора колее. Цветков даже не крикнул ничего – а мог бы крикнуть, например, «Эй! Эй!» или даже, будь он тогда другим человеком – таким, каким стал вскорости – «Стой, блин, козел!», Цветков ничего не крикнул, а неспешно потрусил за мусоровозом, словно бы он утреннюю пробежку совершал в сей момент, дыша замечательным озоном на полигоне ТБО – твердых бытовых отходов. Так, напитываясь диоксином – диоксином, потому что везде, куда ни посмотри, сочился из мусора, как мы уже сказали, тонкий фиолетовый дымок, так вот прорысил, значит, Цветков, метров, почитай, восемьсот, пока мусоровоз, наконец, не остановился.
Вокруг возвышались источающие, кроме дымка, еще и, разумеется, смрад источающие терриконы мусора, кое-где средь них виделись дорожки, тропки, сразу же исчезающие за темными поворотами, а кое-где – темные же норы, занавешенные тряпьем или заставленные грязной фанерой; на одной из нор даже висела дверь на петлях, а на двери было написано ржавою краскою: «Пошол в пеську». Ну, вы понимаете, дорогие мои, на самом деле там было изображено почти такое же, сходное слово, и с точно такой же ошибкой. Цветков вчуже удивился орфографической несостоятельности местных обитателей, хотя удивляться, собственно, нечему было – практически точно такие же горы мусора много лет лежали по всему городу, и при каждом случае неграмотность выказывало большинство горожан – тем более, когда им приходилось изображать на бумаге или еще каком носителе слова куда сложнее, чем «писька» – простое, в общем, слово и, кстати сказать, упомянутое – в настоящем своем звучании, которое мы сейчас не можем воспроизвести – упомянутое в своем «Словаре» Далем Владимиром Ивановичем, если вы такого знаете. Да не суть важно, знаете ли вы Владимира Ивановича Даля или нет.
Мы не можем тут, кстати, не заметить, дорогие мои, что за простотою формы почти всегда скрывается сложность содержания; конечно же, не мы первые подмечаем сей феномен бытия; так, простое слово «писька» – в настоящем, повторяем, своем звучании – обозначает нечто, что, по нашему разумению, является венцом творения Божия на Земле. Так что, опять-таки по нашему разумению, человек, не умеющий правильно написать слово «писька», не в состоянии понять и принять всей восхитительной и восторженной грандиозности понятия – мы не можем тут сказать «предмета» или, упаси Бог, «субстанции», нет – понятия, выраженного словом «писька», следовательно, неграмотный человек не в состоянии осознать, что женская писька является, значит, венцом творения Божия и, следовательно, неграмотный не в состоянии понять прекрасность Божия бытия. А, следовательно, неграмотный, написав «песька», во-первых, оскорбил самого Господа нашего, во-вторых, оскорбил всякую женщину – любую, ибо любая женщина есть трепетная носительница письки, а в-третьих и в-главных, будучи не в состоянии осмыслить масштаб упомянутого понятия и горнюю его высоту, не может считаться существом, созданным по образу Божьему и подобию Его. То есть, резюмируем: человек, не могущий написать правильно слово «писька», человеком не является по истинной ангельской сути своей.
А на полигоне обитали как раз вовсе не ангелы.
Тут мы могли бы, на несколько минут забыв про Цветкова, который уже догнал остановившийся мусоровоз и вслед за Чижиком, сделавшим равнодушный, но приманивающий жест, спустился в одну из нор возле колеи, мы могли бы, повторяем, могли бы развить наше мнение и далее – например, сказав, что всех неграмотных, оскорбляющих Господа, следовало бы наказывать еще в этой, земной жизни и в самой земной жизни в чем-либо отказать им, так что мы могли бы подняться – или опуститься, это как кому угодно – до таких Геркулесовых столпов, что призвали бы просто-напросто уничтожать неграмотных, чего, разумеется, у нас и в мыслях нет. Нет, нет, и никогда не было. Но мы, действительно, сильно не любим неграмотных и не любим, когда с одною и тою же характерной ошибкой пишут слово… Ну, и когда все остальные слова русского языка пишут с ошибками, мы также не любим. Сильно не любим. И еще особенно мы не любим всех – прямо скажем, дорогие мои, мы их просто-тки ненавидим, уж извините – ненавидим всех, употребляющих глагол «озвучить» не в приложении к тонировке[77] отснятого киноматериала. Но это так, в сторону. В сторону.
Да-с, пробежался, значит, Цветков и, еще не отдышавшись, спустился в темноте по выложенным битым кирпичом ступенькам в нору. Запахло горячим воздухом, словно в сауне.
В теплых лучах красного ночника двигались тени – один из находящихся в норе людей что-то делал, поскрежещивая железными звуками, в углу. Там, в углу, посылая такие же багровые полосы света и распространяя жар, пылала жаровня, дым слабо тянулся, словно бы в чуме, в далекую, светящую блеклым маячком, дыру наверху. Посреди норы стоял круглый стол, и вокруг, словно бы в покер собираясь играть, сидели, затемненные в полусвете, четверо – двое мужчин и две женщины. Но карт не было на столе – там возвышалась темная бутылка, в каких во времена детства Цветкова продавали портвейн, тогда в магазинах еще был портвейн и тогда еще были магазины, можете себе представить? Возвышалась, значит, бутылка; рядом отсвечивали кровавым цветом стаканы, и в развернутой, тоже казавшейся сейчас красной фольге лежал нарезанный хлеб. Люди завтракали или, может быть, обедали – Бог весть, какие у них тут порядки и распорядки.
Чижик сбросил с себя ватник и положил его к стене, оставшись с голым торсом, тоже присел к столу на свободный табурет, взялся за сломанный козырек и повернул бейсболку козырьком назад, вместо того, помимо себя отметил Цветков, вместо того, чтобы снять головной убор, коли уж ты вошел в какое-никакое помещение и сел за стол. Глупые мысли приходили в глупую голову Цветкова. Тем более в минуту, когда голова-то его просто загудела от увиденного, да вот поди ж ты – успел подумать и о чижиковой бейсболке.
Ну, тут мы, конечно, некоторое время можем поводить вас вокруг да около, о том рассказать и о сем, чтобы вы смогли поверить в необычайное стечение обстоятельств, каковое стечение, то есть, будет вам предоставлено совершенно незамедлительно. Потому что поверить трудно в то, что случается исключительно в романах. Ну-с, а вы как раз роман и читаете, дорогие мои, позвольте напомнить вам. Так что кругами ходить сейчас не приходится. Скажем сразу – хотя одна из женщин, чуть только Цветков спустился в нору, сразу же отвернулась или именно потому, что сразу она отвернулась, Цветков немедленно узнал и поворот головы, и манеру движений, и темный абрис ее фигуры на фоне красного ночника, – хотя, значит, одна из женщин тут же отвернулась, Цветков немедленно ее, конечно, узнал и немедленно, конечно, подумал, что помстилось ему, помержилось, как говорили сто пятьдесят лет назад. Но нет, не помержилось.
Это была Настя.
– Что встал, Цветочек, заходи, не стесняйся, – с усмешкой сказал Чижик, почесываясь. – Садись вот на топчанок… У стола тебе, видишь, пока места нет. Будешь?
– Буду. – Цветков сел к стенке прямо за Настиной спиною. Настя не повернулась, только подставила руку под голову, и на руке ее золотой браслет сверкнул диким в этой грязной норе светом; слепая змеиная голова на браслете уставилась в глаза Цветкову.
Один из мужчин, тоже характерно почесываясь под ватником, налил в стакан светлой жидкости и подал Цветкову.
– Представляю нового напарника… Между прочим, Настена, твой однофамилец – тоже Цветков… – Чижик почесался и потянулся за хлебом; он при знакомстве с Цветковым отметил для себя, конечно, его фамилию, такую же, как фамилия Насти, но поскольку Настя тут, в норе, особо ничего про бывшего мужа не рассказывала, Чижик нужных выводов своевременно не сделал. Ну, никак это, прямо скажем, на дальнейшие события не повлияло, никак.
Сейчас Настя ничего не ответила; мужчина, сидящий у бутылки, налил и Чижику.
– Какое звание ему присвоить, не знаю… Мой член экипажа должен быть званием не меньше капитана или хотя бы старшего лейтенанта, но этот козлик наверняка офицером не аттестован… Присваиваю ему звание младшего сержанта… Ну, младшой, Цветочек, с почином на новом месте с хорошими людьми. Это у нас Настена, так и зовем Настеною, – Чижик показал на Настю, – это Света, – показал он на вторую женщину, – это Семен, это Тимур, потому что хромой, вот и зовем Тимуром, а там, – он ткнул за спину большим пальцем, – Паша Ситало, дежурный сегодня. Можешь его звать апостол Павел… Я тоже апостол… Петр… Давай! – Чижик протянул стакан, чтобы чокнуться.
Цветков уже успел маленько взять себя в руки.
– Я доктор биологических наук, магистр медицины, профессор, подполковник медицинской службы, – насколько мог спокойно произнес он. – И представление давно ушло на полковника, наверняка уже подписали. – Цветков чокнулся своим стаканом со стаканом в замершей руке Чижика и опрокинул в себя чистую воду – в стакане, можем мы совершенно точно засвидетельствовать, находилась именно вода, причем очень плохо отфильтрованная, но что уж требовать тонкой очистки от людей, сидящих в норе. Цветков, значит, опрокинул в себя пойло подземных жителей и выдохнул, сведя губы в трубочку, словно бы мерзкого самогона хлебнул, тут же содрогнулся, вновь выдохнул тонкую струйку гнойного воздуха в голую шею бывшей жены; положил ножку на ножку. – Так что, – заключил разом согревшийся, словно бы действительно самогону он выдул сейчас, – так что, – заключил Цветков, – называйте меня просто, друзья мои: господин полковник.
Повисла тишина, нарушаемая только шипением жаровни. В этой тишине дежурящий Апостол Павел, словно бы ничего до сей минуты не слыша, произнес:
– Готово.
Он повернулся от огня, через грязное полотенце держа на вытянутых руках противень с лежащими на нем кусками мяса.
– Приятный был котик. И зажарился отлично.
Вот тут деланное спокойствие и слетело с Цветкова; изнутри ударило его сначала почему-то в промежность, потом под черепом изнутри в виски, и только потом уже в желудок; Цветкова вывернуло прямо под ноги. С утра он ничего не ел, так что под ногами у него оказалась только пустая желчь, распространившая немедленно отвратительный запах гнилой воды, перебивающий даже запах грязи и тления, исходящий от людей, – желчь, приправленная желудочным соком и кровью. Поэтому запах, влетевший в ноздри всех сидящих возле очага, мы словами описать не беремся, несмотря на определенную, как вы сами можете видеть, стилевую нашу изощренность и грандиозное, признаться, наше самомнение по поводу собственного умения передавать что-либо словами. Не беремся, нет.
Потом, во благовременье, когда именем Константина Цветкова назовут один из новых городских проспектов, научно-исследовательский институт вирусологии, бывший Серафимовский мединститут, когда его имя присвоят самой престижной международной премии по биологии, а также еще многим улицам, поселкам, институтам, премиям и стипендиям, потом никто и не вспомнит первый миг появления Константина Константиновича Цветкова среди товарищей, а вот сами товарищи чрезвычайно сильно сей миг почувствовали, особенно чувством, извините за тавтологию, чувством обоняния. Мы – впрочем, как и всегда – мы избавим вас от возгласов и комментариев, раздавшихся в норе, дорогие мои.
Извергнувшись, значит, себе под ноги, Цветков несколько мгновений тыкал руками в смрадную тьму вокруг, словно вдруг ослепший – да он и действительно не видел ничего тогда, и рухнул бы прямо в свою блевотину, если б Чижик, вновь схватив его за шиворот, не вытащил Цветкова – не сказать, что на свежий воздух, но наверх, наружу. Цветков молча разевал замурзанный рот, как рыба на песке. Настя вышла следом, встала рядом, скрестив руки на груди – неким таким молчаливым символом укоризны. В руках у Чижика невесть как тут же оказался ватник, давеча положенный им у стены; Чижик укрыл им Настю; та поправила полы, и на руке гражданки Цветковой вновь тускло блеснул золотой браслет.
Ну-с, тут мы оказываемся в необходимости сделать некоторые пояснения.
Когда Чижик начал жить с Настей – да, да, увы, так дела и обстояли ко времени описываемых нами событий, как ни прискорбно это для Константина Константиновича Цветкова, коего сопереживателем мы от всей души являемся, сочувствуем мы ему, дорогие мои, – да, так когда, значит, Чижик начал жить с Настей, он, как и каждый настоящий мужик, озаботился подарком для возлюбленной, подарком дорогим, символизирующим бы их с Настею соединение, и символизирующим бы достойно, весьма достойно. Чижик помнил еще, что был он русским офицером, летчиком – до повсеместного введения Инспекций Чистого Города. Магазинов, как таковых, к тому времени, когда Настя ушла от Цветкова и стала жить с Чижиком, магазинов в городе уже не оставалось, в Пункте Распределения, к которому был приписан Чижиков, ни о каких подарках можно было бы и не заговаривать. В расстройстве некотором Чижик пребывал, и тут-то к нему и подошел Лектор – главный на полигоне металлист.
На любом полигоне ТБО – твердых бытовых отходов – неизбывно существует, чтоб вы знали, иерархия, в коей «металлисты» – разбирающие отбросы первыми, и забирающие все – вы понимаете значение этого слова? – забирающие все металлы из отбросов, металлы и камешки, металлы и цифровые платы, содержащие те же металлы, да-с, а Лектор был прежде, можем вам сообщить, Лектор действительно был когда-то лектором ХМОСОЗ – Храпуново-Мормышевского общества содействия знаниям, теперь тоже закрытого. Так вот Лектор подошел, значит, к Чижику с рукою в кармане ватника, словно бы там у него скрывался маленький дамский «браунинг». Лектор чуть высунул руку из кармана и вместо тусклого блеска белого бельгийского металла, вместо изделия льежских оружейников из ладони бывшего работника просвещения высунула слепую голову, словно бы новороженный птенец, безглазая золотая змейка.
Мы не знаем, как Чижик расчелся с Лектором, у Чижика, как мы совсем скоро с вами обнаружим, оказались весьма обширные связи и знакомства в самых неожиданных сферах, и в оных сферах Чижик имел куда больший вес, чем мог бы иметь простой водитель мусоровоза и бывший майор военно-воздушных сил, бывший пилот двухместного реактивного самолета, называемого по авиационной классификации так – фронтовой штурмовик.
Да, так вышли все трое, значит, на поверхность. Настя ежилась в чижиковом ватнике, черная ее челочка скрывала блеск глаз.
– Не приживешься ты тут, Цветочек, – сказал Чижик, теперь, наконец-то, понявший, кем друг другу приходятся Цветков и Настя. – Завтра же мы Газу скажем, что разлетаемся с тобой… – он собирался сказать – Цветочек, но вдруг помимо себя произнес: – Господин полковник… Рoспуск! – еще помимо себя сказал Чижик и хмыкнул. – Рoспуск! Понял?
«Роспуск», дорогие мои, означает команду, выполняемую группой самолетов, когда идущие единым строем машины вдруг разлетаются каждая в свою сторону веером.
Цветков, разумеется, не знал, что такое роспуск да и находился сейчас в состоянии полного одурения, поэтому, с трудом ворочая шершавым языком, высказал самое сокровенное – спросил у Насти:
– Девочка, ты вернешься ко мне?
Повисла пауза.
Настя шагнула вперед и встала перед Чижиком, то ли его загораживая от Цветкова, то ли Цветкова от Чижика.
– Я за тебя вышла, потому что ты не спрашивал, чем я занимаюсь и целыми днями пропадал в своей вшивой лаборатории, – бесстыдно сообщила Настя Цветкову. – И я собаку твою сама выводила, между прочим! Я всегда… То есть, еще тогда… Словом, у нас с Петей уже тогда… Мне нужно было прикрытие… Но живем мы с Петечкой только полгода, с тех пор, как ты выступил по тэвэ… А я-то, дура! – Настя всплеснула руками. – Дура! Я тебе не изменяла! Я-то надеялась, что ты сможешь быть нам полезным! Себе полезным! Стране! Вот дура! Ну, дура! А ты на тэвэ… На телевидении…
– На тэвэ… – бесчувственно повторил Цветков, стараясь не упасть.
Мы вам еще не сказали, дорогие мои, о чем тогда говорил Цветков на телевидении. Так вот о чем. Цветков, перед телекамерой стреляя в разные стороны глазами, представленный миллионам телезрителей по полной форме – Константин Константинович Цветков, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института эпидемиологии – Цветков, значит, авторитетно заверил всю страну, так вот представленный сугубым вшивым специалистом, что вши по всей стране целиком и полностью и совершенно блистательно отсутствуют, и все благодаря неустанной заботе Центральной Инспекции и Центрального Комитета Храпуново-Мормышевской партии России. Так-то вот.
– Я… – залепетал потрясенный Цветков, – я… Мне сказали… Сказали – возобновим работу… Я думал, в институте… Возоб… новлю… Мой препарат… Довести препарат… Спасти людей от тифа… Ты же знаешь… Дело не только в площицах… Это лобковые вши так называются, – отнесся он к молчащему Чижику. – Они безвредны, собственно, только что кусаются… А вот платяные вши… – вновь он повернулся с сожителю жены, – переносчики… Называются платяные… Живут в вещах… В платьях… – Чижик молчал. – Я думал, в институте, – совсем уже сник Цветков, – а меня вот сюда… Сюда… А ты… Ты, значит… Ты всегда… Ты никогда…
– Да, – сухо произнесла Настя. – Я никогда.
– Сейчас тут ни у кого платьев-то путевых нет, – сухо произнес Чижик чистую правду, никак, впрочем, не идущую, как всегда всякая правда, никак не идущую к делу.
И опять мы, дорогие мои, вынуждены сделать отступление. И не о моральном облике гражданки Цветковой пойдет речь.
Дело в том, что наш Цветков, как вы уже поняли, в своем институте боролся со вшами отнюдь не прожаркой. Это в российской армии и на российских зонах, да и во всей России со вшами борются, прожаривая одежду – и, как вы понимаете, совершенно тщетно. Ну, совершенно тщетно. А Цветков наш Костя изобретал различные биологические препараты – такие, что, будучи употребленными, например, методом капельного распыления над скоплением людей, риккетсий, то есть вшей и схожих паразитов, риккетсии – это по-научному, уж извините нас – риккетсий, значит, на людях целиком и полностью уничтожают, а вот для самих людей, животных и, скажем, для воды и пищи совершенно оказываются безвредны! Препараты оные профессор Цветков много лет, значит, изобретал с разною степенью эффективности, но его самого как настоящего ученого эффективность эта не устраивала – или вши дохли не очень дружно, или вместе со вшами дохли те, кто сдохнуть никак не должны были – например, мыши. Мышей Цветков очень жалел. Но мало того. Случалось, дохли и люди.
В частности, в результате опытного применения варианта препарата Ц-14-а3, мгновенно, на глазах Цветкова, умер неплотно надевший маску сотрудник его лаборатории Дима Никишин – молодой мужик, только на четыре года моложе самого Цветкова. Дима вдруг глубоко, утробно вобрал в себя воздух, за доли секунды стал сначала желтым с лица, словно китаец, потом вдруг совершенно красным, краснее самого Цветкова, потом фиолетовым, как баклажан – все произошло, повторяем, за доли секунды, и, выронив из рук стеклянную кювету от спектрофотометра, с которой они с Цветковым собрались было работать, рухнул на пол, изрыгая из мертвого уже рта черную пену. И немедленно Ц-14-а3 у Цветкова забрали в другую лабораторию того же института, потому что выяснилось, что Ц-14-а3 разом отключает у человека печень, мало того, воздействует на печень так, что печень мгновенно начинает выбрасывать в кровь чудовищной силы яд. Вот они, биологические-то методы борьбы с насекомыми! А Цветков, еле оправившись от случившегося, маниакально взялся за новый препарат – Ц-14-а4.
Костя, разумеется, понял свою ошибку и выделил штамм вируса, приведший к смерти, доложить же об этом не успел. Нам сей штамм неизвестен. Мы, конечно, могли бы сказать, что не сообщаем потому, что не желаем делать наше правдивое повествование пособием для террористов, хотя террористы прекрасно обходятся, к сожалению, и без наших пособий. Но вот просто не знаем досконально, а то мы бы таинственно надували бы щеки, дорогие мои. Это уж всенепременно.
– Я, – повторил сейчас Цветков, постепенно приходя в себя, – я должен, ты понимаешь? Я должен спасти людей. Все остальное неважно. Я должен довести препарат… Ну, выступил и выступил…
– А что, институт не работает? – вдруг спросил из-за Hастиной спины Чижик. Чижик, видимо, решил вообще не обсуждать некоторую возникшую сложность в отношениях их троих между собою, да, возможно, сложность виделась сейчас только Цветкову, а Настя с Чижиком никакой сложности вообще не видели тут. При слове «институт» Настя повернулась к Чижику, они с ним мгновенно взглянули в глаза друг другу и что-то про себя поняли безо всяких слов. Настя глубже запахнулась в ватник, и золотая безглазая змейка уползла под грязный простроченный обрез рукава.
– Не-а… Не работает… – Цветков уже приходил в себя. – Одна только лаборатория работает – профессора Купреянова… А вы, ребята, напрасно водку не пьете… От тифа она, конечно… Но, некоторым образом… Все же… Выпивать надо… Вот сейчас есть у вас?.. Я тифа не боюсь, но выпить мне надо! – Цветков уже пришел в себя. – Есть?
– Купреянова – это та лаборатория, куда ты передал препарат… – быстро проговорила Настя. – Ну, после того ужасного случая… Купреянова лаборатория – та, которая занимается…
– Ага… – бездумно ответил Цветков. – Занимается… Понятно, чем они там занимаются… Биологическим оружием… А мы все только отмечаться ходим в институт раз в месяц… Ну, и треть прежней зарплаты дают…
И тут же Настя и Чижик вновь быстро переглянулись. И тут же Чижик своими глазами летчика что-то увидел вдали, за терриконами тлеющего мусора, и быстро взял Цветкова под локоток стальною рукой и вновь было повел вниз, в нору, но поздно было, поздно. К Цветкову, Насте и Чижику уже подходил Лектор.
Ровно через неделю, восьмого сентября, когда Цветков отправился к последнему в своей жизни опытному испытанию, Чижик Лектора убил. Да, дорогие мои, вы можете подумать, что убийство Чижик совершил, будучи не в состоянии расплатиться за Hастин браслет, так вот полагать – несомненное ваше право, но мы совершенно определенно можем сообщить, что деньги и до первого еще сентября, и через неделю, восьмого, деньги у Чижика были. Но Лектор, как и тогда, первого, восьмого тоже подошел к чижиковой норе – выказать свою власть над свалкой, просто, знаете ли, побазарить. И что вышло? Никогда вот даром базарить не нужно, дорогие мои, до хорошего это не доводит.
– О, как, Чижик, ты надраил свою тачку, Бог ты мой, – через неделю, значит, восьмого, насмешливо сказал подошедший Лектор. На толстой его физиономии изобразилась гримаса.
Мусоровоз чижиковский, действительно, сиял чистотой – накануне его мыли всем кагалом, даже Ксюха пришла помогать. Ну, о Ксюхе потом, в самом скором времени. – Мне сказали, с шампунем вчера тачку-то мыл, а? Зачем? Бабы все ваши не пожалели шампунь заныканный… Я знаю тебя, Чижик, ты понапрасну ничего не делаешь… Ась? – Лектор деланно приложил руку к уху.
Чижик с Цветковым уже сидели в кабине.
– Брось, Лектор, не гони, – руки Чижика, с неимоверной силою держащие баранку, побелели от напряжения. – Помыли и помыли, делов-то куча. Ты ж знаешь – раз в месяц положено мыть. По Уставу.
– Ага… Лектор неторопливо обошел огромную машину. – Ага… Положено… Только никто не моет никогда. И ты, Чижик, прежде никогда не мыл. Че ж теперь-то? А?.. И тут – гля: ржавь закрашена… Ага-а…
– Это я настоял, блин, чтоб помыли, блин, на хрен, – на беду Лектора сказал за неделю совершенно освоившийся на свалке Цветков. – Я, блин, бывший медик, привык, блин, все мыть, на хрен… С детства, блин, – несколько нелогично добавил Цветков, и торопливо поправился: – С детства, блин, родители научили. Тоже, блин, медики были, на хрен. Вот я, блин, и настоял. Как напарник, понял? Напарник, блин, напарник, на хрен!
Чижик молчал.
– Ага-а… – повторил Лектор. И тут он обратил горнее свое внимание на Цветкова. – А ты тоже… Оба побритые… Оба чи-истые… У тебя ж были усы, полковник… Опять, что ли, свадьба намечается? – вновь с насмешкою спросил Лектор. – Так я не против… Плодитесь и размножайтесь. Сбор только мормышевый вовремя уплачивайте…
Какую свадьбу имел в виду Лектор, мы вам, дорогие мои, в скором времени непременно расскажем, а пока вернемся в тот самый день.
Лектор подошел к правой, цветковской дверце и вдруг неожиданным рывком открыл ее настежь. Лектор был, можем мы вам сказать, человеком очень неглупым, смелым, решительным и жестким, иначе он не занял бы на свалке Семнадцатой Инспекции того положения, которое занимал. Да, так, значит, Лектор одним махом открыл правую цветковскую дверцу и сразу же увидел в ногах у Цветкова продолговатый полистироловый пакет – такой, в которых когда-то висели в платяных шкафах мужские костюмы. Тут же Лектор цапнул пакет, а Цветков наш, запросто прибавляющий теперь «блин» к каждому второму своему слову, только ушами хлопнул. Лектор левой рукой цапнул, значит, пакет, а правой рукой одним движением вытащил из кармана выкидной нож, выщелкнул лезвие и резанул по пакету. Вывалились, как кишки из разрезанного живота, два чистейших, с иглы, комбинезона. Лектор один комбинезон бросил на землю, а второй развернул. Прямо в небо уставилась надпись на спине комбинезона – «Первая Инспекция Чистого Города». Первая Инспекция обслуживала только центральный партийный аппарат, в чижиковом невесть какого срока «КAMA3е», в машине Семнадцатой Инспекции, такие комбинезоны никак, воля ваша, оказаться не могли. Судорога понимания облетела морду Лектора, и тут же чудо произошло на глазах у Цветкова – туловище и руки Чижика неимоверно удлинились – чтоб не соврать, а мы никогда не врем, дорогие мои, чтоб, значит, не соврать, раза, так, примерно, в три удлинились руки у Чижика, и он, не вставая от руля, точно таким же движением, каким Лектор цапнул пакет, цапнул самого Лектора, мгновенно втащил его, бьющего ногами, в кабину, Чижиковы руки-плети тут же обвились вокруг Лекторовой шеи, раздался хруст позвонков, и Лектор обмяк, лежа на Цветкове и свесивши безвольные теперь ноги из открытой дверцы «КAMA3a».
– Блллин! – сказал Цветков.
– Тихо!
Мгновение они сидели неподвижно. Лектор обычно никогда не ходил по свалке один, но нынче почему-то явился один на свою беду. Вокруг стояла тишина, если не считать обычных отдаленных звуков начавшегося дня. Наши двое еще мгновение сидели, не двигаясь. Потом Чижик отодвинул от себя голову Лектора со свесившейся, открывающей зачесанную лысину седоватой прядочкой, выпрыгнул наружу, быстро огляделся. Нет, действительно никого не оказалось рядом, чудеса способствовали всему, что происходило с Цветковым и вокруг Цветкова на свалке. Мусор тяжело лежал вокруг так же мертво и безмолвно, как Лектор. Чижик вытащил Лектора из кабины и наскоро прикопал, вернее – присыпал его тут же, на краю колеи, отряхнул руки. Весь террикон необработанных отходов даже не двинулся, приняв в себя тело своего хозяина, только несколько струек мусора стекли с него вниз, словно снег с невысокой горы, который не вызывает лавину, а только что перемещается под дуновением колкого зимнего ветерка.
– Не найдут? – зачем-то спросил Цветков.
– Скоро это будет ни хрена не важно, Цветочек… Сам знаешь… Руки только теперь помыть… Но тут по дороге есть колонка. Работает еще. – Чижик обежал кабину, поднял оба комбинезона и быстро их осмотрел. – Ништяк! Чистые! – Чижик на всякий случай пошваркал по комбинезонам тыльной стороной ладони. – Спасибо, антициклон стоит – сухо! Сухо! Едем!..
А первого, значит, первого сентября живой еще Лектор подошел, посматривая маленькими внимательными глазками на всю троицу – Чижика, Цветкова и Настю. Позади Лектора безмолвно стояли двое тусклоглазых качков.
– Спознались? – спросил он, ухмыляясь. Никто не ответил. – Вижу, спознались. Познакомились, то есть. – Опять все промолчали. – Ты вот что, Цветков, – обратился тогда Лектор непосредственно к Цветкову, – ты уважай меня. Это понятно? Я тут… Вот он, – Лектор ткнул пальцем в Чижика, – все тебе объяснит, блин. – Так что будешь уважать… А не то я тебя тут живым зарою, – повторил Лектор утреннее обещание Газа. Видимо, такая египетская казнь и на самом деле частенько применялась на свалке. – Хе-хе-хе… – засмеялся Лектор дробным стариковским смешком, придерживая расползающиеся полы ватника. – Живым зарою, блин… – повторил он вполне добродушно.
– Как все у вас, блин, стандартно, блин. Никакой, блин, фантазии, – сказал Цветков, продолжая делать уверенные шаги по пути освоения нового для себя человеческого сообщества. – Зарою, зарою… Блин! Чуть что, блин, – зарою, на хрен.
Вот тут оба качка за спиною Лектора вдруг заулыбались – что было, то было, из песни слова не выкинешь – заулыбались, отчего их солдатские лица дебилов стали еще страшнее. А физиономия Лектора, наоборот, окаменела, потом толстая верхняя губа его полезла вверх, открывая желтые грязные клыки, словно бы у старого волка.
– Ты вот что, Цветков, – вновь сказал он. – Я здесь официально за тобою присматриваю. Это понятно? Как мама и папа. И докладывать буду, как ты и что. Регулярно. Такое мне пришло указание. Это понятно? – обернулся он к Чижику.
– А то, – спокойно произнес Чижик.
– Ну, так, – Лектор сплюнул в сторону, слюнка вылетела коричневая, с кровью, явно указывая на парадонтоз. – Значит, не забывайтесь, блин, ребятки… А знаю, что все вы норму свою не выпиваете и копите. И знаю, где храните. – Чижик молчал. Лектор насладился мгновенным замешательством Чижика и вновь отнесся к Цветкову. – А звать как будем? Цветок? Хе-хе-хе… – Лектор вновь дробно засмеялся. – Пидорасная кликуха!
– Полковник, – так же спокойно произнес Чижик. – Он полковник по запасу. Медицинской службы.
Лектор быстро взглянул Цветкову в лицо и вновь сплюнул, теперь под ноги Цветкову. Цветков немедленно же сплюнул под ноги Лектору. Костя наш Цветков, чтоб вы знали, дорогие мои, Цветков был ершистый малый-то, да-с, ершистый, на самом-то деле. Это комплексы его вырывались наружу, прямо скажем, комплексы маленького человека в очках, да еще красного с лица, даже не как индеец, а просто как сушеный помидор. Если, конечно, бывают на свете сушеные помидоры. Ну, об этом вам мы уже говорили.
– Ага, – произнес Лектор, – так, значит? Ну, хорошо… Это ошибка моя была – вам послабление давать… Как кому послабление даешь – сразу из этого полный капец выходит, – пророчески добавил Лектор. – Ну, хорошо, хорошо… – теперь в голосе прозвучала угроза. – Хорошо…
Оба улыбчивых качка перестали улыбаться и так же вдруг, без всякой команды, напряглись.
– Ясен пень, блин, хорошо, блин, – неожиданно для себя самого сказал Цветков.
– И это ошибка, что населению разрешили не сразу у раздачи выпивать, а к себе уносить… Послабление… Ну, это уж я не здесь скажу.
Лектор повернулся и пошел прочь, оглянулся пару раз на молчащую троицу, словно боялся удара в спину. Охранники, разумеется, пошли за ним и тоже почему-то все время огладывались.
– Не отвяжется теперь, – сказала Настя Чижику, не то Лектора имея в виду, не то Цветкова, сказала, будто бы сам Цветков тут и не стоял вовсе. – Не отвяжется. Наверное, действительно надо ему, – указала она на Цветкова, все-таки признавая факт его присутствия, – надо куда-нибудь еще… – Настя так знакомо для Цветкова тряхнула челочкой. – Найти работу…
Цветков хотел было на это сказать, что его сюда вот, именно сюда направили высшие силы, те силы, какие женским голосом звонят по телефону, но с железной мужской настойчивостью указывают и достигают своего, и что, возможно, именно сюда его послали оные силы, чтобы был он рядом с законною женой, потому что силы всегда знают, где кто находится и кто чем в каждый миг занимается. Во всяком случае, высшие силы – у нас сложилось такое об них мнение, дорогие мои, – высшие силы всегда отлично знают, кто с кем и как спит. Высшим силам это, по всему вероятию, чрезвычайно интересно.
Да, так Цветков, значит, хотел было все это сказать, но вовремя сообразил, что упоминание высших сил, ненавистных Насте, и указание на его, Цветкова, даже призрачную с ними связь только Настю еще более от Цветкова отвратят, хотя уж куда более отвращать после того телевизионного выступления. Ничего не сказал Цветков. А мы с вами можем заключить, дорогие мои, что не всегда силы настолько непоколебимы и всемогущи, как докажут последующие события в жизни и смерти Константина Цветкова. Не всегда. Нет, не всегда.
– Скажи Ваську, пусть с ним поменяется, – продолжала Настя уничтожать Цветкова и вдруг снизошла до пояснений: – Васёк второй пилот в другом экипаже… – это она сказала уже бывшему мужу и даже руку положила Цветкову на рукав комбинезона, отчего Цветкова тут же передернуло. – Васек хороший парень… Студентом был…
– Ну, и что, что поменяется? – с усмешкой отвечал Чижик. – На наш же полигон будут завозить… Какая разница? Он же все равно станет приходить… – Чижик вновь, уже в третий раз за день, сгреб Цветкова за грудки и приподнял над землей. – Будешь ведь все равно приходить, а, полковник?
– Так точно, буду! – отрапортовал висящий в воздухе муж. – Всенепременно! Не извольте сомневаться!
Несколько мгновений бывший летчик смотрел в глаза Цветкову. Жесткий прищур, словно бы в угластый четырехугольник компьютерного прицела смотрел сейчас Чижик, словно палец в противоперегрузочной перчатке держал он сейчас на тангетке ракетного пускателя, словно бы какая вражья военная база или там круглые, как таблетки, нефтяные танки противника мелькали сейчас под крылом его штурмовика, – жесткий прищур обозначился на чижиковом лице, полном силы и ясного расчета, но еще и полном тревоги, на лице, покрытом черными полосами грязи, словно бы не у летчика, а у диверсанта-пластуна, лежащего под корягой с обмотанным камуфляжными бинтами снайперским винтом. Чижик сдвинул брови, разглядывая Цветкова, но вдруг брови его полезли вверх, а лицо изнутри само просветлело – Чижик вдруг удивился собственным мыслям.
– Ну, добро, Цветочек, – вроде бы тоже угрожающе, но на самом деле доброжелательно произнес он.
Вы можете подумать, что Чижикова доброжелательность была обычной доброжелательностью любовника к мужу женщины, с которой он, любовник, сейчас живет. Можете так подумать и будете неправы. Да-с! Неправы!
Потому что у Чижика в голове созрел замечательный план. Который, правда, по мере его осуществления оказался несколько скорректированным, и, собственно, совершенно напрасным, но тут уж Чижик не виноват. Мы вам обо всем в подробностях расскажем, не сомневайтесь.
А пока совершенно точно можем сообщить, дорогие мои, что да, в норе действительно категорически и принципиально не пили, но потихоньку копили волшебный напиток – исключительно для того, чтобы осуществлять свои планы – кому выдать шкалик, кому предложить вырученные продажею деньги… Всё можно было достать за деньги и водку – впрочем, как и всегда. Полицейскую форму, например… Оружие, например… Мало ли… Мало ли что понадобится… Ведь многие действительно полагали, что сто грамм – слишком небольшая доза для взрослого человека, и в низах уже назревал протест.
Тем временем вся троица спустилась в нору, и Косте за снятою со стены вытертой шпалерой явлен стал огромный, в человеческий рост, тускло-серебристый бак. Плохо видящий, как любой вошедший в темноту со света, Цветков немедленно ударил в него лбом, и вместе со звуком удара тут же раздался булькающий звук струи.
– На… Выпей…
Костя на ощупь поискал руку со стаканом, осторожно, обеими руками перенял из этой руки стакан и опрокинул дешевую водку в истерзанное свое горло.
И вот теперь нам самое время рассказать о Ксюхе.
Неистощимая
Далекой-далекой зимой Голубович, запахивая короткий черный тулупчик, осторожно потянул на себя деревянную калитку. Та висела на разошедшихся в стороны гнилых столбах, наброшенная на верхушку столбика проволочка давно заржавела.
– Можно?!
Никто не отвечал.
– Можно войти?! – еще раз прокричал Голубович.
В тишине раздались шуршание и хруст, Голубович быстро оглянулся. Тощая черная кошка слетела с крыши сарайчика и запрыгала по нетронутому снегу, словно рысь в тайге – прямо поперек заметенной тропинки, по которой Голубовичу сейчас предстояло пройти к крыльцу. Голубович выматерился и тут же, еще раз опасливо оглянувшись, перекрестился. Шли восьмидесятые годы прошлого века, Голубовича креститься-то еще не научили тогда, и до губернаторского его, Голубовича, стояния в церкви по каждому православному празднику со свечкою в руке еще далековато было.
Кошка на мгновение остановилась, в упор посмотрела распахнутыми сумасшедшими глазами, издала резкий горловой крик и тут же скрылась за домом.
– Бллин! – вновь сказал Голубович и тут же, вновь испугавшись, что матерится в таком неподходящем для матерщины месте, вновь оглянулся и вновь неумело перекрестился. Если в доме кто-то был, он не мог не услышать, как Голубович подъехал – шум, производимый голубовичевским «Запорожцем», мог бы посоперничать с шумом, производимым тяжелым «Боингом», идущим на взлет. Голубович машину бросил на недалеком проселке, потому что подъехать к самому дому, разумеется, оказалось невозможно – столько снегу намело, но и от проселка звук двигателя не могли не услышать. Найти нужный дом оказалось пара пустяков – как ему и рассказывали, на участке стоял огромный, словно бы из пушкинского Лукоморья, раскидистый дуб, видимый отовсюду окрест. Дубу было, мельком и отстраненно определил Голубович, лет четыреста, не меньше, а то и пятьсот-шестьсот. Собственно, сам дом и стоял под дубом. Странно, что кошка спрыгнула с сарая, а не с дуба, на котором, согласно классику, ей надлежало находиться. Дуб у Лукоморья – почти единственное, что помнил Голубович из школьного курса литературы. Там, правда, был, кажется, кот, а не кошка.
Голубович еще маленько подумал и на всякий случай перекрестил дом, калитку, а заодно и дуб. Вот до чего уже дошло, дорогие мои. И тут же, словно бы отвечая на Сотворение Креста, за зеркалящим окном мелькнула тень. Ободренный Голубович прошел к дому, нарочито громко топая, очистил от снега ботинки на крыльце и постучал в дверь. И тут же дверь широко открылась, как будто обитатель давно уже стоял за нею, ожидая стука.
Голубович от неожиданности ахнул и отступил назад.
Не отпуская изнутри ручку, перед ним стояла в изящном изгибе статная и очень миловидная беловолосая женщина лет тридцати пяти самое большое – в шелковом багровом платье с немыслимым декольте. Она нагнулась, значит, вперед, чтобы держать дверную ручку, и от этой вынужденной позы груди ее почти вывалились из платья, во всяком случае, багровые соски оказались видны. В ушах женщины висели золотые массивные серьги в виде крестов, массивные же золотые кольца с разноцветными камнями сверкали на пальцах и неожиданно тонкая – тоже золотая с крестом – цепочка лежала на шее.
– Э… э… эээ, – произнес Голубович.
– Слушаю вас, – чуть кривя накрашенные в цвет сосков и платья губы, сказала женщина, словно бы секретарша неведомого босса очередному посетителю. Она тряхнула головой, и светлые волосы, только что забранные сзади в пучок, рассыпались по плечам.
Тут мы, нарисовав столь ужасную апокалиптическую картину, должны сделать отступление. Дело в том, дорогие мои, что Голубович по самой сугубой, самой тайной наводке, под самым большим секретом получил вчера, накануне описываемого нами сейчас визита, адрес ведьмы. Да-с, дорогие мои, более ни на кого не мог рассчитывать тогда Голубович. Беда у него была, с которой бы не справились ни врачи, ни милиция, а психотерапевтов тогда в России, почитай, и в заводе не было. Причем, передавая адрес, ему пятьдесят раз сказали – сказала Алевтина Филипповна, хозяйка дома, в котором Голубович снимал тогда комнату, а к Алевтине Филипповне адрес пришел от подруги подруги подруги родственницы когда-то обратившейся к ведьме и получившей от нее помощь женщины – пятьдесят, значит, раз ему сказали, что ведьма никого вообще-то не принимает, разговоров про себя не любит, может его, Голубовича, просто не впустить, а может, например, превратить его в жабу или даже во что похуже, если Голубович вдруг сильно ей не глянется. И пятьдесят, наверное, раз Голубовичу сказали, чтобы он хоть под каким гипнозом, хоть при потере сознания, хоть вообще без мозгов оставшись, ни в коем случае не выдавал имя женщины, сообщившей адрес.
– Да чё! – безнадежно махнула рукой Алевтина. – Куды ж! Она ж все равно в догад войдет! Сразу жа! Куды ж! Но ты не открывайся все равно! Ладноть? Обещалки?
И Голубович, как вы сами понимаете, дорогие мои, Голубович думал после всех предостережений, что увидит носатую старуху в зипуне. Никак не ожидал Голубович очередного предательства от жизни.
– Яяяаа, – заблажил, заикаясь, молодой Голубович, еще не ставши Голубовичем, которого мы с вами уже хорошо знаем, дорогие мои, еще не ставши Голубовичем в расцвете лет, сил, карьеры и наглости, – к ввва-ам… это… ва-ам.. ам… ам… Посс-советтт.. оваться…
– Заходите, – просто сказала женщина, отодвигаясь и давая дорогу. Голубович не увидел, как, закрывая дверь, она быстрым взглядом профессионального спецназовца осмотрела округу – внешне мертвую деревеньку, занесенную снегом, переходящие один в другой продутые снеговые же поля за околицей – поля с редкими кучками серых берез в оврагах, тоже заваленных снегом.
Мела поземка.
В горнице у ведьмы рядом с теплой печкою горел еще и камин. В те времена о каминах знали разве что из переводных романов, хотя, разумеется, то, что камин – именно камин, а не что-то иное, Голубович, в те времена еще не прочитавший ни одного переводного романа, да и, по правде сказать, и непереводного ни одного не прочитавший, даже в школе, и, что уж скрывать, до той поры, в которой мы с вами уже пребывали, дорогие мои, до поры, в которую к губернаторскому крыльцу подкатил омерзительно розовый «Xаммер», – Голубович, ни одного романа не прочитавший, – то, что камин именно камин понял, значит, на раз. Да! На раз! Умный он был, наш Ванек! Да-с! Умный!
Ведьма села за темного дерева стол посреди горницы и зажгла зажигалкою две свечи в медных шандалах. Больше на столе ничего не было.
– Присаживайтесь.
Голубович бросил тулуп к печке и осторожно сел на краешек стула с противоположной стороны стола. Несколько мгновений оба молчали. Голубович взгляда не мог отвести от не черных, нет! от ослепительно синих глаз обладательницы русской печи и французского камина. И вот тут-то и произошло в первый раз! Тут вот, дорогие мои, и случилось! Тут, в тот самый момент, впервые в голове у Голубовича, аккурат под темечком, впервые прорезался внутренний голос! Лицо у Голубовича никак не изменилось, потому что он уже было взял себя в руки – к сожалению, только минут на пять, но выдержку-то наш Иван Сергеевич имел отменную с юности, лицо, говорю, не изменилось, но могло бы и дрогнуть в ту минуту, потому что внутренний голос довольно отчетливо, а Голубовичу даже показалось, что и довольно громко под самой черепушкой произнес:
– Прикольная телка. Сиськи-то какие! А жопа-то, жопа! Трахни ее.
И тут же огонь обеих свечей сам по себе полыхнул, от свечей полетели искры, словно бы от дуги электросварки, а каминный огонь бешено запылал, как в печи крематория. Голубовича прошиб холодный пот. Кровавые губы женщины дрогнули в кривой улыбке, и она произнесла – кажется, и не злобно вовсе, и даже не обиженно, а даже, кажется, печально:
– Мне это запрещено с людьми.
– Во как! – саркастически откомментировал внутренний голос. – А с кем можно? Неужто уж…
– Что?! Что?! – спросил растерявшийся Голубович тонким голоском то ли у нее, то у самого себя.
– Нельзя… – та все улыбалась. – Ни с кем… Только с одним человеком в жизни. Не с вами…
Она держалась так просто и доброжелательно, что страх вдруг отпустил Голубовича. Огни свечей перестали пускать искры и успокоились; чуть потрескивая, утишился камин. И Голубович такую вдруг почувствовал добрую силу, идущую от ведьмы, что слезы потоком полились у него из глаз, словно бы пред милой матерью своей оказался он сейчас маленьким несчастным мальчишкой. Не так-то и часто плакал во взрослой жизни наш Иван Сергеевич, можно сказать – вообще никогда не плакал, а тут он сидел, выпрямившись на стуле, не отрывая по-прежнему взгляда от синих ведьминых глаз, и не плакал, нет, просто, значит, беспрерывно слезы у него лились, беспрерывно лились у него слезы. Ведьма ничего не говорила, только смотрела на Голубовича.
– Дайте мне руку, – наконец, произнесла она. Голубович тут же протянул через стол руку. И холодными, совершенно ледяными в кольцах пальцами взяла ведьма теплую руку молодого Ивана нашего Сергеича, с последней своей надеждой пришедшего к ней.
– Никого не было до сих пор, – так вот сказала она. Может быть, эта фраза покажется вам не совсем понятной, дорогие мои, но Голубович-то понял ее замечательно.
И теперь мы вынуждены открыть вам еще одну, очередную страшную тайну. Да-с! Тайну! Но настолько эта тайна тайная и страшная, что мы должны собраться с силами, чтобы просто произнести то, что собираемся сейчас произнести.
Ну, значит, так… Так вот… Так вот, значит, дело тогда обстояло, мои дорогие…
Голубович, достигши своего возраста, а стукнуло ему ко дню описываемого нами исторического визита уже двадцать шесть или даже двадцать семь лет, Голубович сохранял – можете себе представить? – сохранял девственность.
Причем ни внешностью, ни силой Бог нашего Ваньку не обидел. И размеры его детородного органа, кстати тут сказать, если и не поражали воображение, то оказывались более чем хороши, да-с, в полном порядке орган сей у Голубовича находился и аж с восьми лет до тогдашних двадцати семи – и далее, можем мы вас заверить, до самой смерти Голубовича исправно по утрам восставал со стальною крепостью. До самого последнего его дня. Услышавши как-то – еще в детстве – выражение «хоть полотенце вешай», двенадцатилетний Голубович действительно взял на утренней кухне вафельное белое полотенце и повесил себе на пенис – висело! Банное полотенце он вешать себе не пробовал, врать не будем, и так уж – кухня-то была в голубовичевском детстве коммунальная, а вы думали? – и так уж вышедшая из своей комнаты одна из соседок, увидев стоящего посреди общей, значит, кухни Ваньку со спущенными на ноги трусами и с ее кухонным полотенцем, висящим на елде, соседка дикий подняла скандал, и потом Ваньке всю его жизнь в родительской квартире тот случай вспоминали.
Но не выходило у него с тетками. Ну, не выходило. Беда.
Мы можем, разумеется, точный вам сообщить размер и в спокойном, и в возбужденном состоянии, потому что, ясен пень, Голубович, как все мальчишки, осуществлял соответствующие промеры, и не раз. Но приведение здесь точного размера Ванькинова пениса сделает, нам кажется, это наше правдивое и весьма сдержанное, даже скромное повествование слишком натуралистичным. А мы натуралистичности очень хотели бы избежать. Натуралистичность – не наш метод, дорогие мои. Нет, нет, и нет!
Хотя точные размеры нам доподлинно известны.
Как известны и решительно все случаи, когда молодой Голубович собрался было какую-нибудь девчонку употребить, а ему не обломилось. Про случаи со зрелым Голубовичем мы про полную осведомленность сказать никак не можем, потому что в зрелом своем возрасте наш любимый герой употребил теток немерянное количество, тут мы даже приблизительно и число не сможем назвать. Да, а случаи с молодым Голубовичем нам известны досконально, но мы их описывать не станем. Достаточно сказать, что перед самым уходом в армию юный Голубович, осатаневший от ежедневного сдрачивания, отправился в публичный дом, а публичные дома в то время в Ростовской области, как и во всей России, как и во всем Советском нашем Союзе существовали только подпольные – как, впрочем, и сейчас. Но сейчас все-таки с этим полегче, дорогие мои. Ну, вы и сами наверняка знаете.
А тогда через несколько минут после появления юного Ваньки в подпольном борделе туда нагрянула милиция, всех свинтили, Голубович и штанов снять не успел. Первый это был и единственный его привод. Который, несмотря на все опасения, не помешал несчастному девственнику отправиться служить в славные воздушно-десантные войска, куда он был приписан и где признаваться в собственной половой неискушенности никак было нельзя; Голубович и травил вместе со всеми разные истории. Беда, дорогие мои. Беда.
– Никого не было, – повторила тогда ведьма, перестав уже улыбаться. – Никого… И очень хотите…
– Ясен пень, хочу! – довольно грубо сказал внутренний голос. – А че я тогда явился-то! – Внутренний голос чуть было не прибавил какое-нибудь распространенное ругательство, но сдержался. Огонь в камине предостерегающе полыхнул и вновь стих.
– Да… Да… – просветленно отвечал зареванный Голубович. – Не могу больше так…
– Дайте мне какую-нибудь вашу вещь, – попросила ведьма.
Голубович заполошно захлопал себя по карманам. Никакой вещи, которую он бы мог сейчас отдать, у него с собою, кажись, не было. Шарфов он тогда не носил, а то отдал бы шарф, что ли, сейчас. Шапку? Что?
– Пуловер отдай, – теперь сказал внутренний голос, – на хрен тебе голубой пуловер, как, скажи, у пидараса. Ты ж не пидарас.
Голубович действительно сидел в голубом тонкой машинной вязки пуловере, потому что в те времена особо привередничать в магазинах не приходилось, вот он и взял, что подошло по размеру.
– Нет, – сказала ведьма, чуть наклоняясь вперед, отчего груди ее, плеснув под платьем, вновь выкатились перед взглядом Голубовича. – Вот там, – она показала тонким наманикюренным пальцем, – вместе с ключами… что там у вас? Металлическое… Круглое с перекладинами… Надо то, что любите.
Голубович вытащил связочку – ключ зажигания, ключ от дверей шикарного авто и он же ключ от багажника и в пятак диаметром стальной брелок в виде трехугольной мерседесовской звездочки в круге; брелоком Голубович очень гордился.
– Не отдавай! – закричал внутренний голос.
Ведьма улыбнулась.
– Ага, мать твою, щас, – ответил Голубович внутреннему голосу, впервые в жизни своей вступая с ним в диалог и не замечая, что матерится. Он снял с колечка брелок и протянул на открытой ладони: – Вот.
Та взяла брелок; тут же свечи и камин вновь полыхнули, в камине аж загудело, словно в домне, над головою Ваньки потянуло ветром, как будто в избе сильнейший сквозняк установился сейчас. Под гуд камина и треск обеих свечей красотка, вновь перестав улыбаться и опустив голову, забормотала что-то себе под нос, лицо ее исказилось. Голубович, честно вам доложим, дорогие мои, Голубович чуть не обмочился со страху. В армии, в десанте, когда первый раз прыгал, ни капельки не выдавил, а тут, значит, чуть не обмочился.
Ветер провыл, и тут же все стихло. Ведьма вновь смотрела, не отрываясь, ему в глаза.
– О, Господи, – сказал не то внутренний голос, не то сам Голубович, он и не разобрал тогда.
– Просто так не разрешают, – жестко сказала ведьма. – Каждая женщина станет твоя, и любить ты станешь каждую, но по-настоящему любить, как один раз в жизни любят, тебе нельзя. Нельзя! Согласен? Нельзя любить! Детей нельзя! Нельзя детей!.. А иначе не разрешают… Согласен? Это вот отдашь. Согласен?.. А если полюбишь, только смерть любимой тебя спасет… Согласен?
– Согласен! – закричал внутренний голос.
– Мы согласны, – прошептал бедный наш Ванек, дрожа всем телом. – Да… То есть… Я согласен… А почему? – вдруг еще спросил он и вновь замер, осознав неуместность и ненужность этого да и вообще какого бы то ни было вопроса.
– Потому что в любви надо жертвовать, а настоящей жертвой может стать только любимый человек.
– Не понял, на хрен, – недоуменно сказал внутренний голос.
– Мы… я… не понял… – прошептал Голубович.
Ведьма улыбнулась, щурясь; от глаз ее по молодым щекам побежали лучики морщинок и вдруг это ее молодое приветливое лицо оказалось действительно старым, искаженным, ухоженная золотая прядь упала ей на полный морщинами лоб, прядь, ставшая вмиг всклокоченной и белой пополам с рыжими прядями, как грива каурой лошади, глаза превратились в щелочки, словно у китаянки.
– Не понял, потому что ты еще не наш. Не Глухово-Колпаковский. Поэтому и детей нельзя. Нам не надо чужих детей. К нам вернется Свой, – еще непонятно добавила старуха. – Наш Мальчик… – словно бы с прописной буквы произнесла она слова «Свой» и «Мальчик». – Согласен? – со старческим смешком повторила она. – Хе-хе-хе-хе…
И тут Голубович сознание потерял. Ну, отрубился, прямо вам можем сказать, в первый, но не в последний раз в жизни отрубился Голубович. Было такое с ним еще один или пару раз, о которых мы вам своевременно и поведаем, дорогие мои. А тогда даже в десантуре, при первом своем прыжке, чуть в штаны не навалив от страха, Голубович сознание не терял и мог бы, скажем, и самостоятельно кольцо выдернуть – ну, кольцо десантного парашюта, чтоб вы знали, представляет собою изогнутую ручку такую вот двухопорную, словно бы на боках сковороды, но не суть – так, значит, кольцо мог бы выдернуть или вести при подлете к земле упреждающий огонь из автомата, хотя при первом прыжке салабонов бросают с вытяжным парашютом, и дергать за кольцо, прямо скажем, нет никакой необходимости – вытяжной парашют крепится фалом за штангу в самолете и при прыжке вытягивает парашют основной, так что можно просто висеть на лямках, как труп, и потом хлопаться об землю, как куль с мукой, что Голубович и сделал за несколько, значит, лет до окончания института, распределения в Глухово-Колпаков и до визита, о котором мы сейчас рассказываем, дорогие мои.
А теперь он потерял сознание.
Что далее происходило с Голубовичем, мы не знаем. Ну, не знаем. А чего не знаем, того не ведаем.
Знаем только, что очнулся Голубович сидящим в своем желтом «Запорожце», совершенно занесенном снегом, сидящим, значит, в тулупчике своем черном, с шапкой на лбу и с руками на руле. Голубович полез в карман штанов и обнаружил в нем оба ключа от машины без брелока, а в другом кармане – нетронутую пачку денег, тех, что перед визитом он собрал по всем сусекам и даже взаймы взял некоторую сумму. Находясь словно бы в похмелье, Ванек наш в автоматическом режиме завел агрегат и, не разбирая дороги – да из-за снегопада все равно ничего увидеть перед собою стало невозможно, – не разбирая дороги, двинулся вперед, постепенно, очень медленно приходя в себе. Чудо, что «запор» не закопался в снегу. Ну, чудо… Только подъехав к Aлевтининому дому, Голубович немного оклемался, но, как мы немедля и увидим, в полное сознание все же не вошел.
Первой женщиной Ивана Сергеевича Голубовича оказалась довольно симпатичная племянница хозяйки, московская студентка, неожиданно для самой себя прибывшая в деревню к тетушке на зимние каникулы – так вот сложилось, что поехать ей тогда оказалось некуда. Божий это промысел был, несомненно. Божий промысел.
Хлопнув во дворе дома дверцею своего авто и даже забыв оное авто запереть на ключик, что, кстати вам тут сказать, дорогие мои, было бы совершенно бессмысленно, потому что все советские авто открывались безо всякого ключика простой женской булавкой в умелых руках, да-с, хлопнув, значит, дверцей, а потом и дверью дома, Голубович, не чуя под собою ног, ввалился к себе в комнату, бросил тулуп свой и шапку на пол и отправился на кухню, возжелавши немедля выпить воды. И то сказать, чувствовал себя Голубович словно бы утром после хорошей вчерашней попойки. На теплой протопленной кухне сидела за столом незнакомая беленькая девчушка в джинсах и маечке, сказавшая Голубовичу:
– Здравствуйте.
Не отвечая, Голубович схватил с плиты холодный чайник и через носик выхлестал всю в чайнике воду, делая огромные лошадиные глотки. Потом обернулся на девушку, чувствуя, что не только штаны, а все его тело, да что! аж мозги его распирает некая чрезвычайно требовательная и настоятельная сила. Глаза у девушки расширились, но только она даже ахнуть не успела, вот, дорогие мои, как быстро все произошло. В следующее мгновение Голубович уже неостановимо изливался внутри нее, нагнутой и распластанной на столе. Кончив, Голубович подтянул штаны, мельком посмотрел на голую женскую попу, – а изнасилованная, все еще раскинув руки, молча лежала животом на столешнице, – ничего не сказал, подтянул брюки и отправился к себе в комнату. Как-то вот первый правильный секс не доставил ему истинного наслаждения, мои дорогие, ну, не доставил. У себя в комнате Ванек наш прилежно засупонился, вытащил припасенную бутылку армянского коньяка, хлеб и сыр, налил себе шкалик и выдул его, словно шкалик водки. Вы не поверите, дорогие мои, но в те времена у Голубовича и коньячных рюмок не было даже в заводе, можете вы себе такое представить? Да-с! И коньяк Голубович правильно пить не умел тогда. Во как! Выпивши одну, Голубович тут же вытянул вторую и по-волчьи, боковым резцом, куснул сыр. Не так он все это представлял, не так! Коньяк был припасен именно на этот случай, Голубович собирался и мечтал, мечтал! мечтал однажды путем потрахаться и выпить потом коньячку с нею, неизвестной пока ему женщиной, но не так! Не так! Все не так! Голубович-то наш, мы вам об этом, помнится, уже сообщали, Голубович-то наш был эстет! Тогда, в восьмидесятые годы прошлого века, он еще не понимал, что он эстет, но уже им являлся! Да-с!
Ну-с, чтобы вас успокоить, сразу мы вам скажем, что стресс у Голубовича совершенно не успел развиться. Совершенно. И на нары за содеянное – а полагалось бы! мы вот, кстати вам тут сказать, дорогие мои, совершенно не признаем сексуального насилия и насилия вообще – на нары наш Ванька не сел. Третий шкалик Голубович выпить не успел. Дверь в его комнату отворилась, и беленькая эта девочка совершенно голой вошла к Голубовичу. Мохнатое золотое межножие и внутренние поверхности ее ляжек блестели от пролитой и вылившейся влаги, грудки торчали, сверкающие соски казались каменными.
Вы когда-нибудь занимались сексом на панцирной кровати с шишечками? Именно на такой спал Голубович в своей первой съемной комнате в Глухово-Колпакове. Мы вот на двух-трех таких кроватях занимались… нет, сейчас вспоминается, что, пожалуй, и на трех-четырех… или пяти-шести… вот ведь память… да-с, занимались, и можем вам авторитетно доложить: единственное, что тут является на подмогу, – шишечки. За них можно хоть уцепиться руками, качка-то на панцирной, да еще, если честно вам сказать, еще и продавленной кровати совершенно штормовая, как на морском корабле в непогоду. На корабле в непогоду мы тоже, кстати тут сказать, занимались, это тоже занятие не из простых, задуманное только для настоящих мужчин, не боящихся трудностей, но эти воспоминания сейчас в сторону, да-с. В сторону. Сейчас мы только можем засвидетельствовать, что молодой Иван Сергеевич Голубович в течение последующих пяти – да, дорогие мои! – пяти безотдыхных часов полное получил удовлетворение и, если честно, существенно увеличил багаж своих знаний о жизни. Несмотря на штормовую погоду на панцирной кровати. «Камасутра» тогда ходила только подпольно по рукам, и за ее чтение вполне можно было схлопотать реальный срок, Голубович о глупейшей этой «Камасутре» слыхом не слыхивал и тем более тогда не знал, что «Камасутра» оная – глупейшая, но беленькая девочка Тоня, будучи московской студенткой и живши в известнейшем среди тогдашних пикаперов общежитии на ул. Шверника, сама оказалась в юном своем возрасте ходячей энциклопедией. Просто энциклопедистом она оказалась. Как Дидро.
Признаться вам, мои дорогие, наши собственные воспоминания об улице Шверника настолько до сих пор горячи, что мы с трудом сдерживаемся сейчас, чтобы не увести наше скромное повествование далеко в сторону. Но, может быть, в другой раз. Потом. Если мы запямятуем, вы нам напомните, не так ли? Потом.
Вечером Голубович и Тоня вместе с голубовичевской хозяйкой, а звали хозяйку, как мы вам уже сообщали, Алевтина Филипповна – все вместе сидели за тем же столом под желтым абажуром и пили чай с оладьями. Коньяк Голубович и Тоня допили еще днем в кровати в процессе освоения Голубовичем техники секса, а что там Тоня показывала в свой бенефис, мы не станем вам тут говорить, дорогие мои… Ужас! Ужас!.. У-жос! То есть… Что это мы? Прекрасно! Прекрасно! Восхитительно! Так что сейчас перед Голубовичем, кроме горки оладьев, стояли бутылка водки нарвской выделки – называлась провинциальная водка тогда, если кто помнит, «коленвал», потому что буквы в слове «водка» на этикетке по непонятной прихоти безвестного дизайнера скакали вверх и вниз, действительно напоминая коленвал, а стоила та водка повсеместно уже не два восемьдесят семь, а всего лишь два шестьдесят две – всё послабление выходило для простого народа… Правда, вскорости означенная водка вдруг стала стоить не два, а три шестьдесят две. Извивы тогдашней экономики были неисповедимы, как, впрочем, и доднесь… А «столичная» продавалась попервоначалу за три аж двенадцать, это во благовременье цены на нее подняли… Да, так на столе стояли, значится, водка, оладьи и квашеная капуста в миске. Выпивая, Голубович и Тоня руками доставали из миски капустные пряди и отправляли их в рот. Добрая Алевтина Филипповна благосклонно отнеслась к произошедшему между постояльцем и племянницей, потому что племянницу надо было выдать замуж – срочно! замуж срочно! – а постояльца, хорошего такого человека, необходимо было женить; устройство судьбы холостых молодых людей – это, как вы и сами знаете, дорогие мои, любимое занятие всех домохозяек на Святой Руси – да и по всему Божьему миру – от веку. А тут вот так удачно все склалось – Тонечка и Ванечка сразу понравились друг другу.
Кстати вам тут сказать, дорогие мои, таких людей, как благословенная девочка Тоня и поистине сумасшедший Голубович брак ни от чего не оберегает и не избавляет, пусть они стали бы, по замечательному выражению теток из советских ЗАГСов, стали бы брачующимися, толку-то. Черного кобеля, как известно, не отмоешь добела.
– И деток сразу жа заводите, миленькие, – наставительно говорила Алевтина, наливая на шипящую сковороду жидкое тесто и утирая пот со лба грязным передником, – тут жа место вона какое, какое место, это… Зна-атное место… Знаа-атное… Де-етное место, миленькие… Ты как, Ванечка, насчет деток? Не против деток завести? – отнеслась она к Голубовичу.
Беленькая девочка Тоня сыто и расслабленно улыбалась; на мгновенье тень облетела ее милое личико вместе с мыслью, что завтра и писечка, и анус у нее обязательно будут болеть после нынешней безумной скачки, что завтра она на попку-то толком не сможет сесть, но вновь беленькие ее бровки расправились, на розовых щечках вновь заиграла двусмысленная улыбка – стоило того, стоило! А Голубович наш пребывал в состоянии неземного счастья и неземного же изнеможения, парадоксально принявшего форму удивительной легкости во всем теле. Голубович тоже на миг помрачнел, вспомнивши о данном утром обещании не иметь детей, но тут же и на его лик снизошла счастливая и сытая улыбка – стоило того, стоило!
– А не хрен ли с ними, с детьми? – спросил внутренний голос.
Оба они – и Голубович, и Тоня – захихикали, услышав Aлевтинин вопрос про деток.
– Сразу жа… Обещалки?
– Не обещай, тут, на хрен, дело серьезное, – доверительно сказал вдруг разговорившийся внутренний голос, пять часов молчавший и только мотавший на ус. Правда, точно мы не знаем, существовал ли ус у внутреннего голоса Ивана Сергеевича, но нам почему-то кажется, что существовал.
– А почему место детное? – спросил Голубович, ничего не сообщая о невозможности своей иметь детей. Кстати тут вам сказать, дорогие мои, беленькая, застенчивая с виду девочка Тоня тоже не могла иметь детей, даже если б и захотела – после неудачно сделанного еще в школе аборта, о чем Алевтина не знала. – Почему детное? Извините, я тут человек новый…
– А как жа ж! – Алевтина Филипповна с удовольствием присела за стол, вытерла руки об свой фартук, налила себе рюмочку, опрокинула и зажевала олашкой. Тут черты ее выразили вдруг недоумение. – Соды, че ль, переложила я?..
– Вкусно очень, тетя Аля! – заверила Тоня. – Только для талии вредно. – Она засмеялась нежным колокольчиковым смехом, плотно огладила себя по бокам и Голубович с удивлением почувствовал, что утомленные было его причиндалы вновь готовы восстать.
– Хватит на сегодня, яйца отвалятся, – сказал внутренний голос.
– Норма-ально, – громко произнес Голубович.
– Не… Это… Сыпанyла я чёй-то… Да! Дык место, грю, детное! Ванечка! Щас вот сказку скажу… Здеся цельная легенда про наши-то места… Да-ааа… Как вот еще цельную сотню, а может, и две сотни годков тому жила-поживала в Кутье-Борисове пригожая девушка Ксения… Вот быдто Тонечка наша… Пригожая да скромная… И блюла себя аж до цельных семнадцати лет… – начала Алевтина Филипповна, будто народная сказительница.
Бессыдная Тоня вновь захихикала.
– Да-аа… И, слышь ты, сам князь Борис Глебыч… Слыхал?
Голубович кивнул. О князе Борисе Глебовиче Кушакове-Телепневском в Глухово-Колпакове не услышать было мудрено, даже если ты только что на станции с поезда сошел, а Голубович работал тут уже четвертый месяц.
– Да-аа… – Алевтина Филипповна подперла щеку ладошкой. И тут же тьма вокруг стола сгустилась, тьму эту прорезал уже не свет абажура, но луч прожектора, словно бы упадающий на дощатые театральные подмостки луч. – Да-аа… И ехатши верхи мимо Кутье-Борисова сам собою князь Борис Глебыч встренул ту Ксению пригожую с полными ведрами, что шедши от колодца… С полными-то ведрами…
В световом луче возникла девушка в кубовом[78] северном сарафане, в белом платке и со светлой косою, брошенной вперед на грудь. Коромысло тяжко лежало у нее на пряменьких плечах, но явно ее не тяготило. И сразу же в круге света оказалась симпатичная лошадиная морда, а за нею гнедая лошадиная шея с пышною гривой.
Тут мы желаем вам сообщить, дорогие мои, что князь Борис Глебыч ездил на жеребце так называемой соболиной масти. Ну, буквально два слова по этому поводу, иначе никак мы не можем.
Значит, разновидностей гнедой породы несть числа, самая красивая, на наш взгляд – темная караковая. Отец князя Бориса Глебовича, князь Глеб Николаевич Кушаков-Телепневский, отставной кавалергардовский полковник, во время службы езживал, разумеется, на чистой гнедой – коричневой с черной гривой, как и по Уставу тогда полагалось в императорском конвое, а выйдя в отставку, большею частью ездил в рессорной коляске с запряжкою серым орловским рысаком. Мы говорим тут – ездил, имея, разумеется, в виду, что старый князь сидел в коляске на подушках, опираючись на черного дерева трость с золотою ручкой, вместе с ним в коляске сидел лакей, держащий на коленях несессер с яблоневой настойкою и мелко нарезанным балыком, а правил-то, конечно, кучер; старый князь Глеб Николаевич из-за прострела – а так тогда назывался радикулит, – из-за прострела уже не мог садиться в седло.
А вот князь Борис Глебыч ездил, значит, в одиночестве верхом. Честно вам признаемся, дорогие мои, что все окружающие люди Бориса Глебовича вообще-то сильно раздражали. Даже прислуга, которую молодой князь за людей не считал, но с присутствием которой вынужден был мириться. А любил Борис Глебович Кушаков-Телепневский за свою жизнь только двух людей. Двух женщин. Но тут мы поневоле, мои дорогие, вторгаемся совершенно в иные части нашего правдивого повествования. Всё своим чередом. Поэтому сейчас, заключая вынужденное наше отступление, мы лишь сообщим, что соболиная масть лошадей представляет собою разновидность шампанской масти на основе караковой или темно-гнедой и внешне мало отличается от классической шампанской, то есть – гнедой с почти рыжей гривой. И вот такая вот лошадиная шея появилась, значит, в ослепительном световом луче.
– А, чтоб ты знал, Ванечка, – продолжала из-за стены света, из темноты Алевтина Филипповна, – чтоб ты знал: князь Борис Глебович возлегал на всякую встречную девушку пригожую или же молодку, женку ли или же вдовицу, и так бесперечь продолжалося от юности его до самой смерти…
– Аааа мы тоже всех подряд, на хрен, перетрахаем, – сказал внутренний голос.
– Да! – рефлекторно отвечал Голубович.
– Да-ааа… И тут же, значится, князь Борис Глебыч, с коня своего сошедши, на пригожую Ксению немедля возлег, Ванечка… Да-ааа…
Теперь в круге света стал виден уж не театральный, а прямо-тки цирковой номер, потому что Ксения сопротивлялась, а князь путался в полуспущенных своих краповых чикчирах[79], и Kсенины ведра, падая, залили позумент на чикчирах водой, но больше всего воды досталось самой Ксении. Голубович просто отвернулся, но Тоня жадно смотрела, хотя у себя на Шверника уже насмотрелась она, прямо скажем, всего. Наконец князь отвалился от Ксении и поднялся, Ксения лежала неподвижно, мокрый сарафан облепил ее лицо и груди, а живот и ноги все еще оставались открытыми.
– Апосля же она, как водится, понесла и чрез девять месяцев положенных произвела на свет двух младенцев женского полу… А князь-то Борис Глебыч, возлегши на Ксению и девичества ее лишивши, более к ней никак не езживал, поскуль отъехал на другой же день за рубежи… За рубежи, слышь ты… Отъехал по делам своим или же по иной какой причине, скажем, прохладу либо отдыху доставить себе…
Тоня наша, девочка беленькая, мечтательно вздохнула при слове «рубежи» и кротко спросила:
– В Париж?
– В хруниж, – сказал голубовичевский внутренний голос, которого Тоня, как вы сами понимаете, дорогие мои, не услышала. – В Улан-Батор, твою мать.
– Молчи, блин! – с неожиданной для самого себя злостью приказал Голубович внутреннему голосу, и Тоня недоуменно на Ваньку нашего взглянула, по вполне понятным причинам приняв указание на свой счет.
На мгновение повисло молчание. Затем Алевтина Филипповна продолжила, пропустивши реплику Голубовича мимо ушей.
– Да-ааа… А возвернутшися аккурат чрез девять месяцев на двор свой, князь Борис Глебыч нашел на крыльце двух нарожденных девочек, обеих в льняных свивальниках обернутых, что ревом ревьмя ревели в голос… В голос, Ванечка, да-ааа…
Голубович собрался было посмотреть на двух плачущих новорожденных девочек, но прожекторный свет вдруг погас.
– Нельзя, блин, – сказал внутренний голос. – Ну, нельзя, так нельзя, хрен ли, блин, даром кипишиться? Ясно тебе, блин, сказали – детей нельзя! Не хрена и смотреть, блин!
Голубович на этот раз только вздохнул. Вместе с установившейся темнотой на Ваньку вдруг упала безумная усталость. Все-таки утром он пережил сильнейший стресс, а потом еще один, тоже сильнейший стресс и сил потратил сегодня немерeно. Счастливая легкость пропала, словно враз выключилась, тяжкое душевное похмелье охватило Голубовича. Теперь он тоже, словно бы обе женщины, молодая и старая, сидящие с ним за столом, подпер голову ладошкой, расслабился.
– Да-ааа… – глухо доносилось до Голубовича словно бы сквозь туман, которого не пробивал мягкий свет абажура. – Да-ааа… Двух девочек… А в рассуждении того, что князь Борис Глебыч возлегал на всякую встречную, так вот деток народившихся бесперечь к его крыльцу возможно стало бы принесть… Потому князь Борис Глебович и вдогад не в силах стал бы войти, от которой бы девицы, или же молодухи, или же милой вдовы, да абы хоть и мужней которой жены те народившиеся детки к нему доставлены… И мы того знать не в возможности, Ванечка… Слышь, Ванечка? Ты спишь, что ль?
– Нет, нет… – сонно отвечал Голубович.
– Устал он, – по-доброму сказала беленькая девочка. – Устал он, тетя Аля. Ты говори, говори… Рассказывай.
– Да, – не открывая глаз, попросил и Голубович.
– Ты спи давай, на хрен, – распорядился у него под темячком внутренний голос. – А то завтра, блин, ног не сможешь волочь, блин. Трахарь-тяжеловес.
– Да… Да… – почти прошептал бывший девственник.
– Да-ааа… Потому ж не в силах своих князь оказывался таких бы деток-младенцев на себя принять в усадьбе самой и доставлял их всякий раз: ежли мужеского полу младенец – записывал к себе за крепостью в крестьянскую которую сeмью, крепостным работником, значится, а для младенцев женского полу основал князь монастырь на Кутьиной горе… Да-аа… Ежли женского полу младенец оказывался, так в монастырь его князь доставлял… Указывал, то исть, доставить… Да-ааа… Но только женского полу более младенцев не случалось с той самоёй поры, Ванечка… Потому что тою порой в Кутье-Борисове девушке Ксении промыслым Божиим чудо чудное явлено стало, Ванечка… Чудо, говорю, явил Господь… Потому с той поры, как невинность свою от князя потерятши и двух деток женского полу родитши, пошла-почала пригожая та Ксения далее безо всякого к тому мужского на нее возлегания каждые девять месяцев деток производить на свет – но только мужеского пола, и кажинный раз сразу по два, близнецов, то исть… Да-ааа… Опроставшись, полежит, бывалоча, Ксения, чтоб маленько в себя приходти, и встает тут же по хозяйству или еще по которой надобности, и тут же в себе как бы чует новых дитенков двоих, ровно бы закваску в животе у себя… И носит… Так вот люди добрые сказывали, Ванечка… И так вот пригожая Ксения неистощимо рожала и рожала, рожала и рожала, безо всякой мужеской малафьи или другого к себе какого полива, рожала и рожала… Неистощимо… И груди ее, Ванечка, стали уже такой вот величины, что напоить оказывалися в возможности всю нарожденную вот величину ее деток числом немерянным… Неистощимо груди Kсенины давали молока, ровно у которой призовой коровы вымя, Ванечка… Не спишь?
– Нет… Нет…
– Да-ааа… А детки-то, слышь ты, детки, народившися, в сей же миг вставали сами на ноги, и, груди Kсенины потерзавши и полною мерой молоком материнским напитавшися, а Ксения, значится, тем временем лежмя лежала, в себя возвращаясь… Да-ааа… Детки, значит, напитавшися, тут же шли со двора прочь – по всему Глухово-Колпакову, а далее по всему Северу русскому, а далее и по всей Руси… Детки… От Ксении-то неистощимо детки шли, Ванечка… И в любую погоду, слышь ты, дождь ли, вёдро, мороз ли, зной, зима або лето – в любую от Бога посланную погоду на Kсенином дворе зеленая стояла трава, птицы пели чудными голосами своими на все лады, неистощимо бил родник с голубой водою, неистощимо яблони и прочие которые насаждения цвели самым полным цветом, и в тот же миг плоды на ветках неистощимо рожали в самом своем цвету, так же как Ксения, не стареючи и в своем цвету пребывая, неистощимо деток рожала для русской земли… Неистощимо груди Kсенины давали молока… Спишь, что ль, Ванечка?
Голубович уж и не отвечал, совсем погрузившись в дрему. Внутренний его голос тоже совершенно смолк.
– Спит, – колокольчиково засмеялась беленькая девочка. – Затрахала я его… А ты рассказывай, рассказывай, тетя Аля.
– Да-ааа… И так вот нарождалися младенцы от Ксении год за годом, год за годом, и десяток годков за десятком годков, покамест новое чудо не случилося в Глухово-Колпакове у нас…
Голубович захрапел. Рука Голубовича выскользнула из-под щеки и со стуком упала на клеенку, которой был покрыт Aлевтинин стол. И тут же сам наш Голубович, не просыпаясь, с биллиардным звуком бухнул лбом в столешницу. Спасибо, что, словно во многочисленных анекдотах, не попал он лицом ни в тарелку с оладьями, ни в миску с капустой – чего не случилось, того не было, врать не станем. Да мы и никогда не врем, кстати сказать. Аккурат между миской и тарелкой попал Ванек. Везуном он был. Везунчиком.
– Ээ… Миленький, – Алевтина Филипповна прервала свое повествование и приподняла бесчувственного Ваньку подмышки. – Что ж ты, Ванечка… Давай, Тонька, помогай!.. Бери его.
Обе они с кряхтением подняли Ивана Сергеевича, притащили в его комнату и обрушили на всклокоченную кровать, на которой так недавно вершилось святое действо под руководством скромной студентки.
– Ну, бывает… Пусть-ко выспится… Встал нонче ни свет, ни заря, а тут ты его еще и протряхнула… Давай, ложи его.
Алевтина вышла, а Тоня, улыбаясь, раздела нашего Ваньку догола, немного погладила его по волосатой заднице, перевернула на спину, попыталась вернуть к жизни если не всего Голубовича, то хотя бы необходимую сейчас часть его тела – попыталась, используя все имеющиеся в ее распоряжении приемы и методы оживления, – тщетно. Голубович спал. Тогда Тоня, сколько могла, поправила под ним матрас и белье, сама разделась догола, перекатила Голубовича к стенке и легла рядом, накрылась тоненьким одеяльцем, обняла нашего замечательного Ваньку – да, мы хорошо к нему относимся, дорогие мои, а вы еще не поняли? – обняла, значит, Ваньку и сама тоже мгновенно заснула.
Кстати вам сказать, дорогие мои, девочка Тоня, свершив в тот день самое, по нашему мнению, главное дело своей жизни, то есть, беззастенчиво трахнув нашего Ивана Сергеича в ответ на его насилие, теперь почти навсегда покинет наше правдивое повествование. Тонины амбиции простирались куда как далее провинциального коммунхозовского инженера, хотя он и выказал себя исключительным совершенно жеребцом. И с великим удовольствием мы можем тут констатировать, что Тонечке нашей воздалось по вере ее, а мы всегда считали и продолжаем считать, что каждому если и не воздается, то, во всяком случае, должно воздаваться по собственной вере, как и заповедано от Бога нашего Иисуса Христа.
Так вот, буквально этой же весной, весной того года, когда произошло причастие Голубовича в занесенной снегом деревне и восшествие его во храм дикого совершенно секса в панцирной кровати возле печки Алевтины Филипповны, этой же буквально весной делегация Международного союза студентов посетила общежитие на улице Шверника. Излишне вам говорить, дорогие мои, какова была подготовка всей общаги к визиту. И вот хлеб-соль подносила делегации – не Тоня, нет, хлеб-соль подносила не менее авторитетная в кругах девушка Наташа, а Тоня исполняла роль одной из двух ассистенток, по краям державших концы рушника. И так Тоня наша стеснялась, и так скромно глазками своими голубыми хлопала и потуплялась, что один из делегации молодой человек, студент в джонленноновских очечках и с огромным рыжим хайром на голове неожиданно для самого себя спросил:
– Quel est votre nom?[80]
Это тоже был перст Божий.
Тонечка французский изучала в школе, а потом в институте два раза по паре в неделю, но вопрос этот поняла с трудом, а все-таки поняла, вернее, догадалась, о чем спрашивает рыжий козел в дурацких металлических очках, и, еле сдерживая слезы волнения и стыда и покрывшись краскою, прошептала в ответ:
– Tonya… Mon nom est Tonya…[81]
И тут невинная слеза волнения все-таки появилась на щеке великой скромницы. Гениальной была наша беленькая девочка Тоня, да-с, гениальной. И завертелось, дорогие мои. Военную операцию Тоня провела блистательно, только один раз встретившись с рыжим молодым человеком в кафе «Метелица» – туда известное ведомство разрешало водить иностранцев, – где уже совершенно очаровала его. Объяснялись они в основном жестами, но Тоня кое-как отвечала по-французски. Умора! Ни о каком сексе не могло идти и речи, как вы сами понимаете. Молодого человека звали Виллем Нассау и, если вы знаете хоть немного историю Великого герцогства Люксембургского, вы сами поймете, что принадлежал Виллем к герцогской семье, вернее – к ее многочисленным потомкам, в том числе, как и в случае с Виллемом, утратившим герцогский титул. Да в титуле разве дело!
Виллем через две недели появился вновь в Москве уже безо всякой делегации, приехал на улицу Шверника вместе с интуристовским переводчиком и вызвал на общежитское КПП Тоню. И во второй его приезд, представьте себе, Тоня ему не дала! Только в третий. При третьем свидании переводчик не присутствовал, что не помешало Виллему сделать Тоне формальное предложение руки и сердца – с вручением кольца и вставанием на колени. К тому времени Тоне только что и оставалось – получить диплом инженера по холодильным установкам. Она и получила. Насколько девочка наша разбиралась в упомянутых установках, мы не знаем, если честно сказать. Ну, чего не знаем, того не ведаем.
Побывавши в соответствующих ведомствах и подписав в тех ведомствах многочисленные бумаги, Тоня отбыла в Люксембург. Нынче она, как и в молодости, прекрасно выглядит, прекрасно теперь говорит по-французски, по-немецки и по-английски и управляет виноградниками и винодельческими заводами, потому что Виллем по наследству получил их. Сам Виллем уже довольно давно умер. Причин смерти его мы не знаем. Ну, опять-таки, чего не знаем, того не ведаем. Может быть, Тоня его тоже элементарно затрахала. А мадам Нассау, вдова, ведет себя очень прилично, по воскресеньям обязательно ходит в собор Святого Иеронима молиться и слушать проповедь благочестия, а официальных любовников и молодых мальчиков подбирает, как и всегда, очень осмотрительно, чтобы, оборони Святая Дева Мария, не вышло бы ненужных кривотолков. Вино Тонечка выпускает довольно хреновое, если, как всегда, честно вам сказать. Но ведь покупают. Сейчас мадам Нассау собирается выйти замуж за семидесятисемилетнего совладельца люксембургских железных рудников, бездетного вдовца. Познакомились они на заседании Национальной торгово-промышленной палаты, коей членом – простите нам это слово в приложении к Тоне, – коей членом мадам Нассау является много лет. Ну, дай ей Бог! Дай ей Бог! Есть люди, которые живут так, словно бы вовсе не собираются умирать. И умирают они, кстати сказать, очень поздно, лет в девяносто. А то и в сто. Дай ей Бог!
А пока голенькая девочка Тоня спит в обнимку со спящим Голубовичем. Голубович спит, чтобы через много лет очнуться на заднем сидении «Aуди», одиноко – если, конечно, не считать машину охраны и охранников в ней да и собственного шофера – одиноко стоящей на шоссе.
… Как мы вам, дорогие мои, уже сообщали, раздался в машине звонок, – любимый Иваном Сергеевичем Челентано гнусаво запел в личном губернаторском смартфоне. Голубович чирканул пальцем по зеленому квадратику на дисплее, поднес прибор к уху, сказал:
– Слушаю, блин.
Он выслушал, что ему там говорили в ушную раковину, и тут же изменился, значит, в лице.
III
На заседании Главбюро Красин сидел в растрепанных чувствах и молчал. И не слышал почти ничего. Да и, правду сказать, в крайне сложном положении очутился Красин.
После того, что у них произошло с Катею, Красин, разумеется, должен был жениться. Он и почитал за счастие – жениться теперь на Кате. Но захочет ли Катя выйти за него? Выходя за Красина, Катя неизбежно теряла княжеский титул. Точно так, если бы – ну, мы говорим, конечно, о недавнем времени, вы понимаете – точно так же, если б Красин был, скажем, крепостным, а Катя – свободною, так, выходя за него, она становилась бы крепостною – ну, это, говорим мы, восемь лет назад, до шестьдесят первого года, это так, значит, просто к примеру. Таковые законы существовали в Российской империи да и во всем правильного устройства Божием мире, ничего не попишешь – общественный статус жены определялся статусом мужа. Выходя, значит, за простого дворянина, дворянка титулованная титул свой теряла. А Катин титул очень заботил Красина – он знал, что Катя гордилась им, титулом.
И еще. После того, что с ним случилось вчера в деревне, имел ли он право жениться на Кате? Вот что, на самом деле, было сейчас для него самым главным, а даже не титул.
Столько всего за вчерашний день, действительно, случилось, что Красин, воля ваша, словно бы не в себе сейчас находился. И немудрено. Ночью в Кутье-Борисове Красин еще раз пережил такие приключения, что не дай Бог. Не дай Бог. B любом случае Катю сейчас надо было спасать. Но теперь выйдет ли она за него именно по любви, а не потому, что ей надобно было спастись? Вот какие глупые мысли крутились у Красина в голове, дорогие мои.
– Не правда ли, Иван Сергеевич? – вдруг услышал Красин из облака возбужденных разговоров и, поспешив приподняться со стула, тут же сказал:
– Совершенная правда. Несомненно.
– Вот видите, господа, Иван Сергеевич тоже нас поддерживает.
Да-с, теряла княжеский титул. И ребенок их тоже потеряет титул. А кроме того, теперь речь зайдет об имении. Об имении. О землях. Возникал вопрос: что с ними теперь? Ну, тут различные существовали взгляды, с каким-то или даже с какими-то из них Красин только что, вполне возможно, согласился, Бог весть; различные, значит, существовали взгляды в Движении, но один из них или даже некоторые предполагали полную реквизацию имений и земель у владельцев и передачи оных имений и земель сразу и непосредственно крестьянам без всякого залога и выкупа. Каждый, дескать, от Бога наделен равными правами, а земля же принадлежать может только что Богу и народу – ну, вы понимаете – всему народу в равных же долях, и помещик в воле своей отправиться обрабатывать землю наравне с бывшими своими крестьянами. Красин, кстати тут сказать, и прежде-то всегда выступал против изъятия собственности, а нынче при мысли о том, что он активнейше участвует в Движении, которое собирается сделать Катю нищей, у Красина стекленели глаза. Глупость какая-то выходила, воля ваша, господа. Да-с, и мы тоже скажем – глупость. Красин теперь не знал, что о себе думать, и это чрезвычайно, признаемся мы здесь, чрезвычайно его беспокоило. Красин вообще в жизни почти никогда не рефлексировал, так его жизнь сложилась, что все в ней делал он с удовольствием и в полном сознании собственной правоты. Но с появлением Кати, с появлением Кати! Кати! Кати! с появлением в его жизни Кати многое переменилось в Красине. Вот что любовь-то делает. А вы думали!
Так-то ранее все эти простые вопросы в красинскую глупую голову не приходили. Говоря «глупую голову», мы, разумеется, гиперболу тут подпускаем, дорогие мои. Это, значит, прием такой литературный. Ну, вы ж понимаете. В те времена в России – как, впрочем, и во все остальные, в том числе и в последующие времена, в бесчисленное количество умных голов приходили, и приходят, и еще будут приходить такие же вот бесчисленные глупые мысли – о раааавенстве, значит, сослоооовий… о справедлиииивом… а? справедливом!.. о справедливом распределеееении собственности… Ну, и о всеобщей любви друг к другу – ну, это уж заодно, на десерт. Мысли эти немедленно и бесследно испарялись, словно бы летучий эфир из разбитой колбы экспериментатора, немедленно, говорим мы вам, испарялись при малейшем соприкосновении с действительностью, но вот поди ж ты!
– Я против, господа! – Красин, словно бы сейчас проснувшись, вскочил со стула.
Все тут же замолчали и уставились на Красина.
– Против чего, дорогой Иван Сергеевич, позвольте спросить, – с иронией произнес профессор университета Нишанцев. Нишанцев как само собою разумеющееся, предполагал занять место комиссара образования, однако же на место сие находились и еще претенденты, в числе которых Нишанцев без всяких на то оснований числил и Красина. – Вы против чего? Вы же, кажется, нас даже не слушаете.
В установившейся тишине Красин, что бывало с ним в жизни чрезвычайно редко, затруднился с ответом.
– Я… простите, господа… Я должен несколько… Я выйду на минуточку. Je dois aller à l’air frais,[82] – добавил Красин.
– Мы без вас не сможем решить, Иван Сергеевич, – кротко сказали ему. – Только вы понимаете в мостах. Хе-хе-хе-с… Мы в мостах ни бельмеса, тем более – в разводных, а там ведь надо, кажется, ручку какую-то крутить. Хе-хе-хе-с… Мы даже не знаем, где эта ручка…
– Плашкоут[83]… – несколько бессвязно произнес Красин. И услышал в ответ:
– Возвращайтесь скорее. И от двери далеко не отходите, хе-хе-хе-с… Поскольку вы находитесь в некоей прострации, примут вас тут за своего, за пациента, не дай Бог, и возьмут на цугундер.
Раздались поощрительные хохотки.
– Конечно, конечно, господа. – Красин тогда, как это ни странно, и не впустил в голову, о какой ручке применительно к мостам идет речь, а мы вам можем сообщить, что первые разводные мосты действительно пролеты свои разводили, если назначенные к тому служители крутили через систему зубчатых передач огромные стальные ручки. – Извините, – отнесся Красин к сидящему рядом, протискиваясь между стульями. – Прошу прощения… Виноват-с… – Красин вышел из комнаты, прикрыл дверь и остановился в коридоре, мысленно совершая необходимую ему сейчас работу собранности, чтобы стать самим собою – Иваном Красиным, которого он отлично знал и которого уже знаем мы с вами, дорогие мои.
– Тут побережнее, господин хороший. – К Красину подошел служитель в грязном белом халате, перевязанным поясом с завязками за спиною. Надо тут сказать, что заседание Главбюро происходило в лечебнице Полубоярова. – Побережнее… У нас буйные люди случаются. Ежли щас вывести вас за ворота, позвольте тогда на поправку. Поскольку мы тоже люди нездоровые. – Служитель скосил глаза к переносице и скорбно склонил сизую морду, показав Красину такую же сизую, как и морда, лысину. – За ворота желаете, господин хороший? Выведу.
Красин, окончательно приходя в себя, усмехнулся, теперь уж всегда и постоянно копируя Катину кривоватую улыбочку.
– Да я как вошел, так и выйду, любезный. А что ж у тебя тут буйные запросто гуляют по коридорам? Хорошо ли это?
Служитель на мгновение посмотрел мутным взглядом в жесткий красинский прищур, повернулся и молча пошел прочь. Красин только головой покачал. Вся Россия нынче словно бы находилась внутри полубояровской лечебницы.
Вчера Красин вернулся в Питер без Кати. Как только окончательно стемнело, Катя сама подвела Красина к маленькой незаметной двери в монастырской стене. На стук – надо тут заметить, что Катя постучала особо, выбив некую несложную мелодию костяшками по железной двери – там-там-там, там-там, там-там – на стук открыла пожилая монахиня, тут же отпрянула и быстро закрестилась при виде Кати – Катя ведь, как вы помните, оставалась совершенно голой. Монашка держала над собою фонарь, и сейчас шатающийся из стороны в сторону желтоватый свет осветил голый Катин живот, сами, казалось, огнем вспыхнувшие под этим светом волосы на лобке и голые Катины ноги, перемазанные красной, словно бы кровь, глухово-колпаковской землей. Красин – он-то был, как вы тоже помните, в верховых, со вшитыми кожаными вставками, бриджах, – Красин предусмотрительно прятался рядом под стеною. Эти Красинские бриджи Катя надевать решительно отказалась. Да и то сказать – в них влезло бы минимум три Кати, такая вот у нашей Кати была маленькая попка, дорогие мои.
Кстати тут вам сказать, мы сами очень любим барышень с маленькими попками. Ну, это так, в сторону. В сторону. Да, так Катя, значит, постучала, на стук открыла пожилая монахиня и отпрянула при виде голой.
– Mère Isidore, c’est moi, Kate![84]
Монашка, собиравшаяся было дверцу захлопнуть, вновь ее приоткрыла и посветила теперь Кате в лицо. Черные и желтые световые блики заходили по Кате.
– Je dois entrer, Isidore Mère, je importance. Trouble![85]
– Saint-Dieu, ayez pitié de nous, – в ужасе крестясь, произнесла Исидора, – Viens, mon enfant.[86]
Катя вошла, дверца захлопнулась, вновь проскрежетал, теперь закрываясь, засов. Красин, поеживаясь от ночной сырости, прождал не меньше часа. За стеною монастыря полная стояла тишина. Красин постучал – ничего. Он постучал сильнее.
– Кто? – спросил настроженный голос из-за стены.
– Mère Isidorе… Je… Je suis désolé, pour l’amour de Dieu… Je sais… Il est venu tout à l’heure de la princesse… Je…[87]
– Иди себе с Господом, добрый человек. Сюда нынче и вчерась никто чужой не заходил, – сказал тот же голос, Исидоры или еще какой-то новый голос, Красин не разобрал. – И не принимаем мы никого мужеского пола. Ступай с Богом.
– Как же это? – Красин оторопел от прямого вранья в монастыре. – Час назад зашла княжна Катерина Борисовна! Эй! Эй! – он уже, не обинуясь, заколотил в дверь кулаком. В ответ раздался яростный собачий лай.
– Выпущу собак, добрый человек, – ласково сказал голос. – Еще раз эдак стукнешь – выпущу собак.
Красин молча пожевал губами – материться у стен монастыря было бы совершенно невозможно. Он пожал плечами и безотчетно пошел вокруг стены, тут же сообразив, что надеется отыскать какой-нибудь лаз, дыру или, помогай Бог, другую потайную дверцу и тут же признавшись себе, что обманом проникать на территорию женского монастыря все-таки ему невместно, неловко, Красин был, как вы и сами понимаете, дорогие мои, Красин был воспитанный человек. Но Катя, Катя! Что ж такое? «Господи, ты все видишь! Господи, помоги!» – задирая голову к сияющему звездами небу, мысленно закричал совершенно не религиозный Красин. И Бог без промедления помог Красину. Через несколько всего минут Красин наткнулся на маленький контрфорс, выложенный уступами – так выкладывают подпорки под убывающую с высотой статическую нагрузку. Красин тут же, словно бы кошка разве что, обдирая голые ступни об углы кирпича, залез на стену и заглянул внутрь.
За стеною, во всем монастыре стояла глубокая, звенящая тишина, полная темень лежала на всем. Красин прислушался. Нет, тишина дышала. Что-то или кто-то двигался из середины монастыря, от двухэтажных палат сюда, в его сторону. Мелькнуло пятно света, потом сразу же еще одно и еще одно. В неровном колышущемся свете фонарей показалась процессия. Впереди шла высокая и статная монахиня в куколе с двусторонними шлемами поверх апостольника, застегнутого на груди булавкой над золотым крестом; на мгновение Красину показалось, что впереди идет очень молодая, чуть не ровня восемнадцатилетней Кате – такая сухая, стройная у идущей впереди была фигура, но ровней Кате монахиня никак не могла быть – впереди шла несомненно игуменья монастыря преподобная Татиана, да ведь и более никто, кроме игуменьи, не мог носить поверх облачения наперстный крест. За нею, светя Татиане под ноги, двигалась Исидора, и Красин тотчас же ее узнал, а следом попарно, держа над головами фонари, выступали монашки – пар десять или двенадцать увидел Красин, и тут же он узнал Катю. Та тоже, разумеется, оказалась в апостольнике, и бледное Катино лицо в нем поразило Красина сейчас; словно бы не Катя вовсе шла по выложенной камнями дорожке – такою Катю не видел Красин еще никогда. Катя шла, держа под руку пожилую монахиню. Та чуть прихрамывала, и поэтому Красину показалось, будто бы и Катя сейчас прихрамывала, как эта старуха-монашка, во всяком случае, Kатину походку не узнал сейчас Красин.
Процессия, двигаясь точно по мощеной дорожке, обогнула лужайку перед храмом – Красин уже смотрел на Катю только со спины – процессия обогнула, значит, лужайку и вошла в открывшиеся двери храма, откуда полился ровный теплый свет; свежая, изумрудная днем трава казалась сейчас под ним сделанной из темного бархата. Повисла вновь тишина, в тишине раздались непонятные стуки, и потом далеким басом сильно и властно произнесли:
– Благословите, матушка!
Игуменьи в монастырях имеют право благословления, но, как вы сами понимаете, дорогие мои, женщины даже в женских монастырях службу в православном Доме Молельном вести никак не могут, и единственными мужчинами в женских обителях оказываются настоятель монастырского храма и дьякон при нем. Попики в женские монастыри обычно направлялись не так, чтобы сильно видные собою, обычно случались монахи-старички с дребезжащими теноровыми голосами, и дьяконов также посылали в женский монастырь только, разумеется, монашеского сана и совсем уж согбенных летами – аж на седьмом, самое малое, десятке лет, а тут священнический бас вырисовывал в воображении – вчуже, Красин не видел дьякона – дородного и даже, прости Господи, пузатого мужчину лет сорока самое большое.
– Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне, и присно, и во веки веков, – отвечал дьяконову басу хорошо поставленный, твердый старческий женский голос.
– Аминь, – выдали согласные женсие голоса.
– Миррроммм… Гооосс… подууу… помооолимсаааа! – сотряс воздух дьконовский бас.
– Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помии-илууууй, – высоко и безмятежно запели монашки.
Встревоженный, но отчасти и успокоенный Красин безотчетно перекрестился, попытался услышать в хоре Катин голос и – не услышал. Он принялся было вновь вслушиваться, но тут изнутри к стене наконец подлетели собаки, так что следующее суровое предложение дьякона – «О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся» он тогда не услышал; странно, что собаки почуяли Красина только сейчас. Пение, несмотря на дикий лай, не прекратилось, Красин же почел за благо тут же ретироваться; за Катю, по крайней мере, он мог быть спокоен, с Катею покамест ничто плохое не произойдет в монастыре.
Пробежав, наверное, полверсты, Красин остановился и прислушался.
Тихонько листва шелестела на деревьях в том самом месте, где он впервые овладел Катею, Красин вновь сейчас стоял на Борисовой письке; собак не было слышно. Истерзанные, изрезанные подошвы босых ног горели.
Мы с вами, конечно, можем задуматься, не было ли все, чему мы стали свидетелями, во все глаза наблюдающими за Красиным и Катею, не было ли все, только что совершенно правдиво нами рассказанное про этот чудовищный день, не было ли оно напрасным. Мы можем, разумеется, сами себя спросить, но не получим сейчас ответа, дорогие мои. Потом. Да-с, потом. Впрочем, мы уже, кажется, однажды проговорились, что Красин прожил долгую и, в общем, внешне вполне успешную жизнь. Если бы не одиночество – сначала полного сил человека, потом немолодого, но бодрого мужчины, потом старика… Не дай вам Бог, дорогие мои, узнать, что такое одиночество, даже в самом юном возрасте… а что такое одиночество старика, у которого есть только воспоминания… воспоминания о кратких днях счастья… Об одном дне счастья… А вот про Катю, про нашу Катю, про Катю точно потом. Вот сказали «потом», значит, потом. Оставим себе надежду.
Красин же, выпустив у дерева облегчающую струю, застегнулся и сел прямо на дороге. И тут же услышал крики – теперь явно мужские, к которым, впрочем, примешивались и женские; слов было не разобрать. Крики доносились из деревни. Красин тут же вскочил на ноги, словно бы пойнтер, которому свистнул хозяин, вскочил, полный сил и желания действовать. Тоже – как пойнтер, вылезший из реки, Красин отряхнулся, сбрасывая с себя усталость и ночную холодную дрожь; вновь был полон сил Красин, он ведь, как вы помните, мои дорогие, был молодцом у нас, да еще каким!
Красин повернулся и начал спускаться в деревню.
Теперь крики стали слышнее. И совершенно явственно раздавалось там, внизу: – На ассигнации!.. На ассигнации! – Тут Красин остановился и прислушался. – Три мулиона на ассигнации!… Хрен ли… Не пито, не едено, бабы!… Мать вашу! Три мулиона!.. Другие голоса отвечали: – А ты их видел, жополиз княжеский?! Не хрена базлать!.. Три мулиона!.. И еще голосили: – Ой, бабоньки, да че ж это, трахнулися мужики! трахнулися!… Ой, бабы!.. – И другие голоса требовали: – Сучку эту Катьку немедля же сыскать! Катьку сыскать! У ей деньги-то! У ей!.. Затрахаем, на хрен, Катьку!.. Другие кричали: – Какие, на хрен, какие вам ассигнации?! Ты зырил когда ассигнации, дурень траханный?! Айдайте опять усадьбу дербанить, вашу мать! Усадьбу дербанить, на хрен!.. Все подербаним! Айда! Айдайте, вашу мать!..
И с хохотом молодые голоса орали громче всех: – На хрен нам мулионы ваши, мы Катьку вытрахать хотим! Хотим через ляжку Катьку отжарить! Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Катьке, поперек ее и вдоль, письку и жопу разворотим щас! Айда!.. И опять слышалось: – Ой, бабы! Ой, бабы!.. И, словно бы резюмируя дискуссию, веско прозвучало: – Бабы – стерьвы! Стерьвы все вы! Вот что!.. – Ответом был согласный визг и вой и разноголосый хохот, сквозь который явственно опять прозвучало: – Катьку вытрахать! Катьку!
Красина перекосило.
Деньги-то он, в темноте аккуратно переложив и вновь завернув в сюртук, зарыл под приметным пнем на опушке, все руки себе ободрал, разрывая землю; утрамбовал потом ее босыми пятками, разровнял холмик, присыпал травой. Надолго так оставлять, разумеется, было невозможно, тем более – на годы. Пень могли выкорчевать, а сюртук, конечно, сгнил бы к следующей весне непременно, а за ним и сами деньги. Красин предполагал через несколько дней вернуться и деньги перепрятать именно так, как он и обещал Визе, – в опоре моста. И действительно, заранее мы вам сообщаем, действительно вернулся и деньги достал, но, увы, не перепрятал. Да-с! Не перепрятал. Но об этом тоже потом, дорогие мои, потом. Своевременно.
За деньги-то Красин сейчас не беспокоился, но Катя… Катя! Насколько она безопасна в монастыре? – впервые подумал.
Он остановился в замешательстве, и мы тут вынуждены свидетельствовать, что в результате произошедших с ним, Иваном Сергеевичем Красиным, за последние часы событий он, Красин Иван Сергеевич, все чаще начинал сомневаться и в мыслях собственных, и в поступках, чего ранее за всю свою жизнь с самых молодых ногтей никогда – вы понимаете, дорогие мои? – никогда, ни разу себе не позволял. Красин с детства мгновенно принимал решения, тут же начинал претворять их в действительную жизнь и никогда не отступал и не сомневался.
Сейчас Красин уж собрался было повернуть назад к монастырю, когда внизу, в деревне, раздался ружейный выстрел. Крики тут же стихли. Сразу повисла такая тишина, что слышны стали только копыта двух – по звуку – лошадей, переступающих с ноги на ногу, как это делают лошади, только что скакaвшие во весь опор и вынужденные вдруг встать на месте.
Красин, словно бы северо-американский индеец какой, неслышной побежкой спустился еще ниже, еще ближе к деревне и встал за березой на обрезе оврага. Белое, а впрочем, изрядно уж перемазанное кровью и землей, белое красинское тело слилось с белеющим во тьме молочным стволом; если б не темные бриджи, он был бы совершенно невидим сейчас, но темные бриджи скрывала сама ночь.
Раздался еще один выстрел. Красин осторожно выглянул из-за березы.
Прямо посреди деревенской улицы собралась толпа – небольшая, человек пятьдесят; несколько мужиков держали смоляные факелы, пламя, срываясь, плескалось во все стороны. Прямо перед толпою стояла коляска, в которой сидел толстый полицейский офицер в синем кителе – Красин не знал, а мы вам скажем, что это был не так давно по-хозяйски вошедший в князя Бориса Глебовича кабинет исправник Морозов. Морозов сидел в коляске, вертикально уставивши между ног палаш – эдак вот всегда сидят они, а иначе с палашом никак, а рядом с Морозовым помещался такой же огромный и толстый мужчина в синей чуйке и широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Ну, с ним-то вы уже познакомились, дорогие мои, и очень хорошо познакомились – Серафим это был Кузьмич Храпунов, местный уроженец. Он тогда не произнес ни слова, к Красину оказался сидящим спиною, и потом, когда в близком будущем Красин с Храпуновым познакомились и – как бы это поточнее сказать? – сошлись, Красин поначалу не узнал народного трибуна.
Да, так в коляске сидели, значит, Морозов с Храпуновым в колышащемся свете факелов и укрепленных по бокам коляски фонарей, и тут же гарцевал верховой, держа в поднятой правой руке почти такой же, как колясочные, но больший по размеру фонарь. Вот верховой повернулся, и Красин с ужасом вновь узнал в нем живого Сидора Борисова, убитого им нынешним днем. Вновь показывался клык из-под рыжего уса, вновь косили синие, словно бы у Кати… Кати! Кати! глаза. Он был в той же зеленой тирольской шляпе с пером, в той же клетчатой визитке и, самое главное, сидел на том же молодом гнедом из конюшни Бежанидзе коне, на котором прискакал вчера на стройку Красин, только – Красин пригляделся, – бежанидзевское седло Сидор поменял – теперь гнедой ходил под старым, но настоящим английским строевым седлом. Коню досталось за вчерашний день не меньше, чем Красину, но, судя по всему, конь теперь тоже был свеж – вертелся на нем Сидор, как юла.
Крестьяне обступили коляску – видимо, исправник со своим спутником только что подъехали.
– Как же оно так выходит, на хрен, вашшш скородие? – с обидою заговорили мужики. – Днем дозволяли, на хрен, дербанить, и таперя ночью не дозволяете? Обещалки, на хрен, денег, вашш скородие… Где, на хрен, деньги?
– А мы все одно нониче же в лоскуты расхреначим, твою ммать! Расхреначим! По бревнышкам раскатаем, на хрен! Вот оно так, ттвою ммать! И красного пустим петуха, ммать ттвою! Все их осиное кушелевское гнездо погорит, на хрен!
– А в усадьбе – вот он грит, на хрен, – в усадьбе три мулиона денег на ассигнации! Хренова туча, вашш скородь… днем-от не нашедши, на хрен… Как же ж?
Мужики теснее придвинулись к коляске, но Морозов явно не испугался. Он молча пожевал губами, повернулся к своему спутнику, тот достал портсигар, протянул Морозову, оба взяли по папиросе и закурили. И опять в свете спички Красин не увидел лица Храпунова – говорим же, коляска так встала, что Храпунов все время спиною к Красину сидел.
– Мужики! – завопил женский голос за спинами. – Мужики, мать вашу поперек и вдоль! Пластай яво! Пластай, на хрен! И Серафима пластай! Пущай деньги предъявят! Деньги, на хрен!
Сидор тут же бросил повод, выхватил из подседельного чехла винтовку и в третий раз выстрелил в воздух. Гнедой вновь завертелся под ним. Мертвый Сидор демонстрировал отличную джигитовку. Не выпуская из правой руки фонарь, а из левой – винтовку, он привстал на стременах. Мужики и бабы за ними – все тут же отодвинулись и смолкли.
– Никшни! – заорал мертвый Сидор, показывая клыки. – Никшни! Кто другой раз только пискнет щас, в лоб, вашу мать, вхреначу! В лоб, на хрен!
И сейчас же страшная загадка разъяснилась для Красина. Потому что из толпы примирительно сказали Сидору:
– Мы че… Дык мы ничо, твою мать, Харитон… Драной письки делов…
– А хрен ли ты ружом грожаишь, Харитон? Мы ж согласные, мать твою… это… годить еще, на хрен… Харитон, на хрен, ммать ттвою сзади и спереди…
– Мужики! – срываясь, завопил было тот же бабий голос, что призывал пластать исправника, но его тут же заткнули. Баба еще что-то пискнула невнятно и смокла тоже.
И загадка для Красина, говорим мы вам, разъяснилась – Харитон! Мужики называли Сидора Харитоном, это был, по всей вероятности, брат-близнец Сидора. Близнецы во всем Глухово-Колпаковском уезде, знал Красин, рождались бессчетно.
– Вот что, ребята, – важно заговорил в тишине Морозов, пыхая видимым даже в свете фонарей и факелов дымком, – вот что… Пока усадьбу боле не трожь… Я скажу, когда… А щас не трожь… Первее всего – не жечь! Не жечь, поняли?!.. Я стану хозяин – оброк срежу в два раза, – веско добавил он.
Люди оживленно начали переговариваться. – Брешет, мать его, – явно послышалось. – А хрен ли, – возражал другой голос, – а как, мать его, не брешет?
– Ладноть, на хрен, – наконец сказали из толпы, удивительное демонстрируя послушание властям. Этак-то запросто согласиться до последней нитки не грабить и – самое-то удовольствие! – не жечь совершенно открытую пустую усадьбу мужики, а тем более бабы, никак не могли. Почему? Из-за странного этого обещания? Удивленный Красин, на мгновение забыв обо всех иных обстоятельствах своих, в темноте даже головой покрутил за березой. Ну, тут же ему напомнили об обстоятельствах.
– А Катьку-княжну? – так же спросили из толпы. – Мы Катьку, сучку молодую, желаем потрахать всей деревней, и в рот ее, и сзади, и спереди, и в сиську, мать ее! Мало она нами изголялася, сучка, мать ее лежа и стоймя! Оброк эвон какой, на хрен! Хужей князя Бориса Глебыча, мать ее!
– Ииии! – сразу же отозвались бабы. – Не натрахалися! Кобели! Княжну им подай! Ииии! А то княжеская писька глыбжее наших! Ииии!
Морозов усмехнулся.
– Княжну… – снисходительно начал он, видимо, собравшись дать отеческое свое благословение делать с Катей… с Катей! Катей! Катей! все, что угодно, но тут вновь бешено закричал Харитон:
– Никшни! Никшни!
Он бросил фонарь, тот глухо стукнул о землю, звякнуло стекло, фонарь покатился и погас. В свете луны Харитон мгновенно вставил патрон, передернул затвор и выстрелил в воздух, вновь вставил патрон, вновь передернул затвор, перебросил винтовку в правую руку и теперь направил дуло прямо в толпу. Люди вновь отодвинулись. Гнедой опять заплясал было под ним, Харитон натянул повод: – Стой, сучье вымя!.. А вы, ва-ашу мма-ать!… Княжна Катерина моя, на хрен! Моя! Никшни!
Толпа глухо переговаривалась.
– Не про твою, знаться, честь, Харитон, княжна-от, – раздалось из толпы. – Всем миром потрахаем, на хрен! Так-от по справедливости, твою мать, оно выходит! Миром над нами она, стервь, изгaлялася, дык всем, мать ее спереди и сзади, миром и потрахем, на хрен! Знаться, так!
И мужики, и бабы с удовольствием захохотали. И тут же Харитон выстрелил в самый центр скопления людей и мгновенно еще раз перезарядил. В левой руке неведомо откуда появился у него длинноствольный узкий «кольт». И тут же револьверы оказались в руках Морозова и его спутника, по-прежнему невидимого для Красина.
– По домам, ребята, в семью, – спокойно сказал Морозов. Он произнес это слово с ударением на первом слоге. – Ну-к, все по домам… Ну! – он привстал в коляске и тоже направил оружие в толпу. – Ну, кто еще хотит себе докуки?
Толпа разбежалась, двое волочили за собою тело – в темноте Красин и не понял, мужское или женское. Не хуже какого северо-американского индейца Красин давно уже по-пластунски подполз к коляске со стороны выгона и теперь лежал в небольшом овражке саженей в десяти от нее, это на наши расстояния метров двадцать, дорогие мои. Если бы Харитон дал себе труд хотя бы мельком осмотреться, он бы Красина заметил тут же бы и тут же бы и кончил, но Харитон дрожал от бешенства и только выцеливал убегающих, готовый вот-вот еще раз выстрелить.
– Довольно покамест, Харитон, – отнесся к нему обладающий, видимо, ослиными нервами исправник. – Охолони. Все будет по-нашему, как и договорёно. Тебе княжна, мне усадьба и деньги на ассигнации, когда найдем. – Он досадливо бросил еще, на мгновение помрачнев: – И так уж всю мебель вынесли, мрази… Насрали везде…
Но всепобеждающее его природное, по всей видимости, добродушие взяло верх. Исправник засмеялся теплым смешком милейшего толстого человека:
– Хо-хо-хо-хо… Хо-хо-хо-хо… А где княжна-то обретается, знаешь?
Красин напрягся.
– Нет… Ежли в Питер подалися они, так на фатере у инженера ейного, мать его стоймя… Это я найду, драной письки делов… Я знаю его фатеру… Обои там они, на хрен, боле некуда им… И деньги все, на хрен, у инженера.
Сидящий рядом с Морозовым человек издал неопределенный горловой звук, и Морозов повернулся теперь к нему:
– Деньги разделим, как договорёно, не сомневайтеся.
Тот вновь крякнул и кивнул шляпою.
– А что с княжною-то похочешь сделать? – с невидимой во тьме улыбкой спросил исправник. – Зарежешь?
Харитон облегченно засмеялся.
– Не-ет… Не-ет, на хрен… Я сначала затрахаю ее, шоб глаза на лоб у ней полезли, у суки… Я сы с детства самого, почитай, сы с детства ейного я ее любил… – Тут лицо у Харитона остановилось. – Сы с детства ейного… – повторил он, не добавляя теперь никаких матерных слов. – Сы с детства… И Сидор… Мы с Сидором полтину бросали, кому ее первым вытрахать… Замануть хотели на гумно… Дык Сидору свезло… Орел ему выпал… Сидору-то… Свезло… А не мне… – Он вновь начал заводиться. – Не мне! Вновях не мне! А теперя вишь, как оно склалось… Теперя уж мне! А Сидор так ее и не ссильничал! Сидор-то! Нету! Не заманул! Не обломилося ему! Потому – хитрожопая она, стервь… А жопа у нее… Жопа… у нее…
Харитон замолчал и несколько раз сглотнул слюну.
Исправник и сидящий рядом человек вновь добродушно засмеялись.
– Зарезать, на хрен… Зарезать дело нехитрое, Николай Петрович… Не-ет… Я ее в жопу затрахаю, всю жопу у нее раздеру, блин, чтоб сидеть, блин ей стало неможно… А потом в один кабак… Я знаю тот кабак… В Питере в грузовом порту, на хрен… В порту продам сучку… Пущай сама, мать ее спереди и сзади, руки на себя наложит, сука рыжая… Ну, может, уж ладноть, спервоначалу здеся ребятам, мать их, тоже отдам… Конёво дело… Только чтобы здеся не померла, на хрен, под ними… А потом, мать ее стоймя, в Питер ее… В порт…
Исправник больше ничего не сказал, только ткнул ножнами в спину кучера, который все это время совершенно неподвижно сидел на облучке, как изваяние. Коляска покатила прочь. Харитон поскакал в другую сторону, куда-то в глубь черных деревенских домов. Красин неподвижно лежал в овражке, сжимая кулаки и первый раз в своей жизни скрипя зубами. Однако оставаться долго тут было нельзя хотя бы потому, что в любой момент могли налететь собаки, даже удивительно, что до сей поры ни один пес не учуял стороннего человека. Уж Красин-то наверняка обладал совершенно иным запахом, нежели чем Катины крестьяне. Первая же выпущенная за калитку собака Красина немедля учуяла бы.
Красин осторожно приподнялся на руках и огляделся. Стояла странная тишина.
Ночью деревня живет своей жизнью, дорогие мои, той ли, иною ли, но – несомненно живет, и теперь полная тишина в деревне, да еще и возмущенной, только что бузившей и готовой идти грабить, теперь, значит, тишина удивляла. И собаки действительно не брехали, что уж совершенно было странно. Нигде не теплился ни один огонек. Хотя нет – вдали, это, определил Красин, на противоположном конце улицы, вдали один огонек мерцал. Красин тихонько поднялся и прислушался. Теперь ему показалось, что именно там, где виделся огонек, слышались и голоса. Вот и короткое ржание там раздалось, и Красин вообразил, что это бежанидзевский гнедой подает голос и словно бы призывает его, Красина, хотя лошадиное ржанье в деревне, вы сами понимаете, дорогие мои, никак нельзя признать чем-то особо выдающимся из ряда вон. Лошадей тогда держали на каждом справном дворе.
Красин мышиной побежкой, пригибаясь, выбрался вновь на пустой сейчас выгон и тихонько, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, обогнул деревню и вышел прямо к нужному дому. Это было полуразвалившееся покосившееся строение в два окна, больше похожее на старую заброшенную баню, нежели чем на дом, в котором постоянно живут люди. Крытая дранкою крыша принялась сверкать антрацитовым светом под выглянувшей вдруг луной, по двору легли длинные тени. Оградка отсутствовала, но между двором и улицей стояла накренившаяся калитка на двух тяжелых столбах, словно бы символически обозначая границу хозяйских владений, от калитки тоже легла тень прямо Красину под ноги. Он не успел подумать, что все это напоминает какое-то, прости Господи, ведьмино обиталище, как луна вновь скрылась за тучей и только мерцающий огонек в окошке вновь в одиночку принялся посылать на землю свет – ничего толком не освещающий и не дающий теней. Красин еще помимо себя успел отметить, что одно небольшое окошко закрыто не бычьим пузырем или досками, как у всех в деревне, а грязным, в разводах, но самым настоящим стеклом, и что криво висящие ставни, вопреки ночному обыкновению, не притворены в нем.
Гнедого тут, конечно, не было, двор лежал в темноте перед Красиным совершенно пустым. Мы сказали сейчас – совершенно пустым, но это не совсем так, дорогие мои, потому что прямо посреди двора рос огромный дуб. Собственно, развалюха помещалась прямо под дубом, так что если бы луна светила не справа, а слева от дуба, его тень накрыла бы и дом, и весь двор, и половину улицы, но луна вновь выглянула справа, тень от дуба упала назад, на невидимые отсюда задворки, и теперь Красин разглядел низенькую кривую дверь – вход. Но, собственно говоря, делать тут Красину было нечего и незачем было заходить в неизвестный ему крестьянский дом, почему-то светящий своим огоньком в ночи.
Постоявши несколько мгновений, Красин было повернулся, чтобы уйти, но тут дверца в доме со скрипом отворилась. Выглянула Стеша. Красин тут же поспешно лег на землю. В звенящей тишине Стеша внимательно оглядела полные луною двор, улицу, ближние и дальние дома, даже к небу подняла глаза Стеша, желая углядеть, не сидит ли там, на небе, какой недруг или неприятель; где уж было ей заметить вжавшегося в землю неподвижного Красина. Стеша скрылась в доме и тут же на пороге – Красин даже глаза протер – появились два крохотных, совершенно голых младенца. Похожие друг на друга, словно близнецы, да они наверняка и были близнецами, оба стояли на кривоватых, как у всех младенцев, ножках босиком – голы были, говорим мы вам, голы были они совершенно, оба голышом. Им было, вероятно, по году, если уж они могли ходить. Держась за руки, груднички переступили через порог и направились, спотыкаясь, раскачиваясь на ходу, но не падая, молча направились вдоль по улице. Тут же луна вновь скрылась, и оба малыша пропали, словно бы и не существовало их. Красин перекрестился. Может быть, следовало немедленно сейчас побежать вдогонку за детьми, вернуть их или направить, или хотя бы отыскать им какую-никакую одежонку да обувку, но пока Красин – мы говорим «пока», но это «пока» продолжалось лишь несколько мгновений, Красин уже соображал с привычною для себя быстротой – пока, значит, Красин думал, как поступить, из темноты послышался лошадиный топот, и Харитон верхом на бежанидзевском – на красинском! – гнедом подскакал к странному дому, спрыгнул, бросил повод на калитку, словно бы на коновязь, и, пригнувшись, вошел в дверцу, из которой только что вышли дети. И вновь все стихло. И в доме, кажется, не раздавалось ни единого звука. Красин вновь, как полчаса назад, поднялся на руках и прислушался.
Тихо светили звезды.
Теперь никакого выбора у Красина не оставалось, следовало действовать. Он, дождавшись, когда вышла новая туча, пригибаясь, тихонько подошел к коню. Тот, слава Богу, не заржал, а только потянулся мордой к Красину и ткнулся губами в руку – вновь просил угощенья. И Красин машинально – можете себе представить, дорогие мои? – улыбнувшийся Красин машинально сунул руку в карман бриджей, словно бы у него там сейчас яблоко лежало, или кусочек рафинаду, или печенье какое – сунул, значит, руку в карман, чтобы достать угощенье для коня. Все-таки, дорогие мои, не совсем в себе пребывал сейчас Красин. Ну, и не мудрено.
Гнедой с довольно громким чмоканьем начал лизать пустую красинскую ладонь. Красин отстранил его, осторожно, расстегнув шлейку, вытянул из чехла под седлом винтовку, тихо-тихо оттянул затвор, придерживая пружину, чтоб не клацнула – патрон лежал в стволе. Он чуть не по локоть засунул руку в правую подседельную сумку, нашаривая там. Вытащил завернутый в тряпицу бутерброд с ливером – тряпицу бросил, обе ржаные лепешки отдал коню, а ливер целым куском, не жуя, как удав, проглотил сам; тут же ком встал в желудке у Красина. Гнедой зачавкал хлебом – опять очень громко. Далее Красин вытащил бумагу с каким-то списком – в темноте было не разобрать, сунул, не читая, бумагу в другой карман. И наконец нащупал россыпь патронов – штук двадцать уж точно. Быстро переложил все их в правый карман и сразу же правильно устроил там, в кармане – в порядке, словно в патроннике, чтобы удобно было сразу схватить капсюлем к себе. В армии, напоминаем вам, Красин никогда не служил, но охотником считался знатным, да и вообще был настоящим мужчиной. А настоящие мужчины все такие штуки с оружием должны проделывать мгновенно и однозначно, на раз. Да-с! Сразу!
С пальцем на спусковом крючке тихонько Красин приблизился к дверце, еще раз прислушался и тихонько же потянул дверцу на себя. Скрип, показалось ему, долетал до самых звезд. Он вошел. В темных сенях, как и в каждом крестьянском доме, висели по стенам ссохшиеся хомуты и старая упряжь, а в раскрытой еще одной двери колыхался свет. Готовый в любой момент выстрелить, Красин вошел и в следующую дверь. За нею оказалась комната, где посередине стоял круглый стол – Красин помимо себя даже успел удивиться, круглые столы в крестьянских домах обычно не водились, круглый, значит, стоял стол, на котором, мерцая и потрескивая, сильно горела керосиновая лампа. Углы комнаты скрывались в тени, и Красин сторожко переводил дуло со стены на стену, с угла на угол, на дверцу подпола и обратно к порогу, через который только что переступил – ни Харитона, ни Стеши в комнате не оказалось, и не было более ни одной двери. Красин рывком отодвинул старую тканую шпалеру со стены – нет, никого. Такая же шпалера, выполняя роль покрывала, лежала на большой деревянной кровати, неясным абрисом вырисовывающейся во тьме. Красин собрался было сорвать с кровати покрывало, когда из-под него раздался тяжкий вздох:
– Хааааааааа…
Красин отскочил. Прямо у него под дулом покрывало зашевелилось и само соскользнуло на пол. На кровати лежала маленькая, очень худенькая женщина с изможденным сухим лицом и с неестественно огромными, свисающими по обе стороны тела грудями. Не удивительно, что Красин сразу ее не разглядел – все ее плоское тельце почти не выделялось под шпалерой, а груди Красин в темноте принял за подушки. Можете себе представить, дорогие мои? Все именно так и произошло, вот ей-Богу.
Красин левой рукой взял со стола лампу, поднял ее над собою и осветил, сколько возможно, комнату. Спрятаться тут и в самом деле было некуда. Тогда где Стеша и Харитон?
– Где Харитон? – хрипло спросил Красин, и сам голоса собственного не узнал, прокашлялся. – Где Харитон? Харитон! Где?!
Женщина молча заворочалась, и Красин с ужасом увидел, что она совершенно голая, что под нею расплылось огромное кровяное пятно пополам с какой-то непонятной слизью, что всклокоченные рыжие волосы у нее на лобке и между ног все в крови и, что самое главное, рядом с ее телом на кровати лежало синее Катино платье. Катино платье! Катино! Катино! Все еще грязное, тоже в крови и в красной глуховской земле, но именно то самое синее Катино платье! Его еще можно было узнать!
Красин, не выпуская ружья, левой рукою дернул к себе платье, бросил его на стол и второй раз в своей жизни, да еще второй раз – за короткий такой срок – почувствовал, что скрипит зубами.
– Гдеее… Ха-ри-то-он? – вновь спросил он, с трудом сдерживаясь, чтобы не выстрелить. Плоский живот женщины равномерно взбухал и опадал. Так взбухает и опадает шея лягушки-кряквы, когда та поет свою брачную песнь. Женщина молчала. Наконец она вновь тяжко произнесла:
– Хххааааааааа…
Тут на улице послышались тихие голоса. Красин мгновенно потушил лампу и приник к окну. Посреди улицы говорили Харитон со Стешей, слов было не разобрать. Бог их знает, как они вновь оказались на улице. Судя по всему, Харитон еще не подходил к коню, иначе он бы сразу заметил отсутствие винтовки и не держался бы так спокойно, да еще стоя спиною к дому, откуда в любое мгновенье могли выстрелить. Красин прямо через стекло начал выцеливать Харитона. Стеша то закрывала Харитона собою, то открывала, и несколько секунд Красин не решался выстрелить, боясь задеть дуру. И тут вновь луна зашла за тучу.
– Хххаааааа… – еще раз повторила женщина. Она заговорила, голос из нее выходил хриплый, таким же разговаривал сейчас Красин. – Кк… ккаа… кой Ха… ритон… мой милень… кай… Токмо что… Хха… ритон… Ни единый который мужик… Ни… единый мужик… не заходил сюды… почитай, без малого… двад… цать лет… Милень… кай… Девять… надцать..
Живот ее вновь заколыхался, и Красин понял, что женщина смеется. Луна вновь выглянула, мгновенно Красин поднял винтовку, но теперь ни Стеши, ни, главное, Харитона Борисова перед домом не было. Красин, все еще держа палец на спусковом крючке, на цырлах прокрался к входной двери, медленно, сначала выставляя вперед дуло, отворил и, наконец, выглянул. Полная в округе стояла тишина, только конь, увидев Красина, попытался, переступая копытами, подойти к нему.
– Ми… лень… ка-ай! – позвала женщина из комнаты. Красин вернулся.
Уж мог бы он сегодня более ничему не удивляться, но опять – что правда, то правда, уж от правды мы никак не можем отойти, дорогие мои, – опять удивился. Эмоциональным все ж был человеком Красин, не бревном, как-никак. Да-с! Не бревном! Вот и удивился, значит.
Лампа вновь горела на столе. Теперь на совершенно чистой, безо всяких следов крови и слизи кровати лежала очень молодая, если не сказать – юная, очень миловидная рыжеволосая женщина, и совершенно чистое и целое синее Kатино платье было надето на ней, и совершенно впору пришлось оно лежащей, и совершенно ничего не скрывало оно, потому что, кроме платья, ничего на женщине по-прежнему не было, разве что толстая рыжая коса лежала на груди, да-с, ничего, значит, не было более надето, и ноги женщины, согнутые в коленях, были разведены и открывали взгляду точно такой же, как у Кати, густой ком огненной шерсти у нее в межножии, и вот шерсть эта блестела от сочащейся влаги, вновь начинавшей заливать простыню. Женщина протянула руки к Красину.
– Миленька-ай… Возлегай на меня, миленькай! – хрипло попросила женщина.
– Я не могу, – глухо отвечал Красин, чувствуя, что с ним начинает твориться что-то совсем неправильное, просто чудовищно неправильное сейчас. – Не могу. Я люблю другую… Не могу.
– Ооох! Миленькай! Дык я ж твоя любимая и есть… Поглянь на меня, миленькай… То ведь я и есть…
И тут же с ужасом Красин увидел необъяснимое отображение Kатиных черт в ее лице, Kатины узнал глаза. Такие же синие Kатины глаза! Волосы у нее, как мы вам уже сказали, дорогие мои, были так же рыжи и так же вились кудрями – да, кудрями, потому что коса уже сама собою развязалась, и кудри посыпались по плечам лежащей. Женщина приподнялась, вытащила из-под себя платье, бросила его на пол и со стонами начала делать ритмичные движения тазом навстречу Красину. Теперь из нее уже просто лило. И Красин не понял, а потом и не вспомнил, сколько ни старался всю жизнь забыть, сколько, значит, говорим мы вам, сколько ни старался всю жизнь забыть, так и не вспомнил, как оказался лежащим между этих разведенных ног, вгоняя себя в это словно бы катино шерстяное межножие, но мало сказать – не такое узкое, как у Кати, а просто непомерно просторное; практически потерялся в нем Красин.
– Аааааа… – с протяжным стоном женщина обмякла, но продолжала придерживать Красина за голую задницу. – Кончились мои муки! Хорош… ший… мой! Кончились! Мои муки!
Тут же она начала толкать Красина с себя, Красин освободился от нее и поднялся, женщина тоже встала, подошла к красному углу, где, разумеется, помещалась иконка на полочке, обернутая белым вышитым полотенцем – лампадка не горела, но женщина, накинув на плечи разве что из воздуха появившийся платок, все равно встала на колени и истово начала креститься и кланяться, выпячивая в каждом поклоне голую попу, тоже очень похожую на катину. Лампадка пред ликом Спасителя тут же сама собою затлела и вдруг вспыхнула нежным, еле теплящимся огоньком.
– Спаси Господи! Спаси Господи! Ослобонил Господь! Спаси Господи! Ослобонил! – она с улыбкой повернулась к Красину. – Ну, и тебе спасибо, миленькай. Как есть, спасибо! Спасай тебя Господь! Землю нашу ослобонил опричь меня… Крови боле не станет на земле! Спасай тебя Господь!
Она встала и повернулась к Красину. Вы, наверно, подумали, дорогие мои, что женщина, попользованная им, в тот же миг, словно гоголевская ведьма, превратится в страшную старуху. Так нет же! Нет! Наоборот, теперь она стала уже необыкновенно хороша. Лицо ее теперь совершенно вычистилось и разрумянилось, синие глаза блестели, рассыпанные волосы вновь собрались в косу, огромные плоские груди, недавно свисавшие по сторонам, превратились в два твердых очаровательных холмика, торчащих рубиновыми сосками вперед, глубокий пупок смотрел из белого, мягкого даже на взгляд замечательной формы живота, и рыжие волосы у нее на лобке, так недавно напоминавшие чертополох, оказались словно бы подстрижены тщательнейшей рукою, но все равно курчавились и манили к себе. Красин помимо себя шагнул, протянул руку и положил ее туда к ней, между ног.
– Нет-нет-нет, – она отвела красинскую руку с мягкой, но непреложной и неожиданной в ней силой. – Нет, миленькай… Теперь уж я вновях токмо что для суженого, миленькай… Не ты это, – она вновь улыбнулась, но не Kатиной, с насмешливым прищуром, а широкой и открытой улыбкой. – Не ты… Спасай тебя Господь. Ступай теперя своей дорогой, добрый человек.
Потрясенный, более не чувствовавший в себе сил не только разбираться в произошедшем и искать Харитона, но и вообще думать, Красин выбежал наружу, трясущимися руками отвязал коня, вскочил в седло и поскакал прочь. Только черeз несколько минут бешеной скачки он вспомнил, что оставил винтовку в доме; мысль эта мелькнула, но Красин тут же отогнал ее – возвращаться было невозможно, он не желал туда возвращаться! Впрочем, у Харитона ведь был еще и револьвер. Когда Красин немного пришел в себя, остановился и спешился, он нашел в левой сумке, которую не успел обыскать там, на дворе у той женщины, и длинноствольный револьвер, и две синие маркированные коробки патронов. Уже светало, и Красин смог прочитать на коробках желтую витиеватую надпись – K O L T и цифру 24.
Так вот все оно и было, дорогие мои. Так все и произошло.
… Однако же мы оставили Красина уже в следующем дне, невыспавшегося и усталого, отягощенного новыми для себя сомнениями. В том следующем дне Красин побывал у себя на квартире, вымылся и переоделся и даже несколько часов – часа четыре, не более, поспал, – с револьвером под подушкою, мгновенно погрузившись в сон, как только рухнул на постель, и мгновенно проснувшись – так спят все сильные люди с отличной психикой; поспал, но, значит, совершенно не выспался, а потом поднялся и отправился на заседание в Полубояровскую лечебницу, где Полубояров, отпуская уже знакомые нам шуточки, провел все Главбюро – человек двадцать – через лечебницу в особую свою совещательную комнату.
На заседании поставлено было несколько вопросов. Причем ни Александр Иванович, ни Николай Гаврилович не почтили, значит, своим присутствием последнее в истории полулегальное собрание Движения. Или, учитывая последующие события, мы можем вам сказать, дорогие мои, – предпоследнее. Николай Гаврилович пребывал на съемной квартире в не совсем добром здравии и решительно отказался от любых выходов и контактов с публикой и соратниками, даже к делегатам вышла Ольга Платоновна, а не он сам. Александр же Иванович, как немедленно стало известно, поместился в гостинице Savoy, причем совершенно точно стало известно еще и то, что при входе в номер оной гостиницы вместе с мадам Облаковой-Окурковой Александр Иванович явственно произнес слова «Fuck!» и «Bitch» или же «Fucking bitch[88]» – услышанные горничной и четырьмя портье, внесшими за Александром Ивановичем чемоданы. Эти привезенные из Лондона слова немедленно разошлись по взволнованному Санкт-Петербургу, и весь взволнованный Санкт-Петербург теперь решал, относились услышанные слова непосредственно к мадам, или же, может быть, к горничной, или же к гостинице, или, вполне возможно, к погоде, потому что Александр Иванович, разумеется, прибыл в гостиницу мокрый до последней нитки, или же ко всей революционной обстановке в столице империи, или же, вовсе паче чаяния, к самой Российской империи. Словом, Александр Иванович прибыть на заседание отказался, сославшись на то, что нынче ему предстоит участвовать во встрече со студентами Университета и он никак не может манкировать предстоящим свиданием с молодежью. С будущим России!
Херман, одетый в шелковый китайский халат, сидел в глубоких кожаных креслах и курил сигару; драконы на халате изрыгали из пастей еще более красный, чем сам халат, совершенно уже невозможно горячий, словно бы в железоделательной печи, огонь, а посланцы Главбюро, капитан Васильев и помощник присяжного поверенного Мавродаки, стояли пред креслами на ковре.
– Il a parfaitement raison, messieurs, si les représentants de la commission viendra lors d’une réunion à l’université et annoncera sa décision sur le leader du Mouvement. Eh bien, vous savez? Et je suis très favorable aux élèves, je n’ai aucun doute. Ce sont mes souhaits.[89]
– Точно так.
– Ну, и за дело, гос… друзья мои, – Херман сделал некий помавающий жест рукою – дескать, все поняли и валите отсель.
Так что нынче на заседании в повестке дня стояло, как мы уже сообщили вам, несколько вопросов.
Во-первых, да-с, вопрос о лидере Движения, который, вопрос, тут же было предусмотрительно решено перенести в конец заседания. Во-вторых, вопрос о распределении мест, с которого решено было начать. В-третьих, вопрос о сообщениях и возможных совместных выступлениях с «Фабричным союзом», которого Председатель, фабричный кондитерской фабрики Серафим Храпунов, уже третий день ждал приглашения к разговору. Этот вопрос было решено обсудить, ежели останется время. В пункте «разное» предполагалось обсудить вдруг возникшие народные волнения на Петроградской стороне, могущие планомерному ходу революционных событий помешать, и сразу, еще до начала обсуждения, предложено было мосты на Неве к возможным выступлениям народа развести – не время еще для взятия императорской резиденции, поскольку сам Государь, проявляя неслыханную к Движению лояльность, высочайше допустил в столицу империи народных лидеров… Не время! И тут вот и понадобился инженер Красин, а Красин, извинившись, как раз и вышел из заседания вон. Кроме Красина, в мостах действительно никто в Главбюро ни хрена не понимал. Только что разве ездили всю жизнь по мостам в колясках.
Вышедший из дверей Красин, поговоривши со служителем, сделал было шаг обратно, в направлении к двери, но вдруг повернулся и шагнул прочь, по коридору на улицу. И вновь не удалось ему никуда двинуться – сзади крепко взяли Красина за локоть; Красин обернулся.
Пред ним стоял тощий жилистый старик с сильным, обросшим седою щетиной подбородком, с большим и тонким аристократическим носом над всклокоченными седыми усами; воспаленные глаза старика слезились, надетая на нем до пят рубаха была грязна. Старик стукнул разбитыми опорками, словно те были ботфортами со звенящими шпорами.
– Позвольте рекомендоваться вашему благородию! – четко произнес старик. – Артиллерии поручик князь Глеб Глебович Кушаков-Телепневский! – Старик улыбнулся кривой улыбкой, и из-за улыбки его на один-единственный краткий миг совершенно явственно возникло лицо Кати, Кати! Красин остолбенел. Действительно он тут после всего испытанного им сходит с ума, что ли, в доме умалишенных? А старик произнес:
– Будучи на пороге жизни вечной, ваша милость, имею сделать признание к вящей славе и процветанию государства Российского. Имею тайну раскрыть. Дозвольте говорить?
Тут же подскочил уже известный Красину санитар и цепко ухватил старика за воротник.
– Он не буйный, господин хороший, – отнесся санитар к Красину. – Не извольте беспокоиться. – Санитар размахнулся и со спины залепил старику оплеуху, голова старика качнулась и упала на подбородок. – Не буйный, изволите видеть, но иногда заговаривается. Инда бесперечь тайну какую раскрывает, кому ни попадя… – У! Сопля старая! – санитар вновь замахнулся, но не ударил. – А ничо, – он подхватил старика под мышки, поскольку ноги у того подогнулись, – в момент доташшым до палаты… То ись, в момент!.. А с вас, господин хороший, на поправку, то исть… Полагается поблагодарить, порядок такой, – санитар, как и давеча, протянул к Красину раскрытую ладонь.
– Сейчас, – сказал на это Красин, за последние два дня наладившийся быстро решать все вопросы, – сейчас. Повернись-ка, любезный, ликом своим ко мне, ежли просишь. Secundum facta sua retríbuam eis[90] – вдруг с-Дону-с-моря вспомнил Красин из латыни.
– Ась? – послушный санитар повернулся, и Красин уже со всем удобством, не боясь задеть старика, от души ударил кулаком санитара в зубы; ужасный раздался хруст, санитар рухнул на пол, вряд ли хотя пара зубов осталась у него во рту после этакого удара; и второй звук раздался сразу же – кегельный такой звук, с которым лысая санитарская голова ударила в железный пол. Ручка-то у Красина, мы вам уже говорили, ручка-то, значит, у Красина была дай Бог всякому. Красин успел подхватить старика.
Изо рта сумасшедшего сочилась слюна, глаз он не открывал, но дышал – тихонько, еле слышно. Прислушивающийся к старику Красин и не подумал, почему это он, Иван Красин, порядочный и вменяемый человек, который день только и делает, что бьет и убивает. Что такого с ним, с Иваном Красиным, произошло? И не посмотрел, а из-под виска и челюсти санитара тоже начала сочиться кровь, быстро образуя красное озерцо вокруг головы. Рядом останавливались люди, тихо переговариваясь – видимо, персонал или же больные, Красин уже ни на что более не желал реагировать.
– Глеб Глебович! – позвал он. – Ваше сиятельство! Вы слышите меня?
– С-лышу, – ясно отвечал старик, не открывая глаз.
– Вам надо выйти отсюда.
Тот закашлялся, и все никак не мог остановиться; вместе со слюною из стариковского рта начала тянуться тоненькая розовая струйка крови; он все кашлял, пока Красин не понял, что старик не кашляет, а смеется: – Кхе-кхе… Кхе-кхе… Кхе-хе-хе… Кхе-хе-хе… – смеется неостановимо, словно бы невесть какую веселую шутку выразил сейчас Красин: – Кхе-кхе… Кхе-кхе… Кхе-хе-хе… Кхе-хе-хе…
И действительно, скажем мы, смешно Красин высказался – «надо выйти отсюда». Хе-хе-хе-с. «Выйти отсюда». «Ну, выведи», – словно бы говорил своим кхеканьем старик.
Красин подхватил почти невесомое тело на руки и понес к выходу. Такие были глаза у Красина, что никто не решился его остановить.
3
Они нисколько не скрывались – так полицейская сирена в охранительном авто, спешащем на происшествие, бурaвит воздух, издали словно бы предупреждая нарушителя: остановись. Остановись. Так вот и они – четверо или даже пятеро, Цветков не разобрал – так вот и они шагали в берцах своих, стукая каблуками во всю ногу; топот, обгоняя людей, шел по коридору, как от стада слонов. Впрочем, с каким звуком стадо слонов идет по коридорам родного его цветковского института, Цветков, по правде сказать, никогда не слышал. Он и слонов-то видел, чтоб не соврать, а мы никогда не врём, слонов, вернее – одного слона Цветков видел тоже один-единственный раз – в детстве в зоопарке. И слон тогда никуда не шел, а понуро стоял в загоне и лениво шевелил хоботом гору сена на полу. Короткие обрезки бивней тускло мерцали грязным желтым светом биллиардных шаров.
Да, так, значит, не то, что кого-нибудь желая упредить о своем приближении, а просто в головах даже не держа, что надо бы не шуметь, ежли хочешь поймать потенциального злоумышленника, четверо или пятеро охранников, вразнобой топоча, с дежурным обходом шли по институту, и в топоте тонко-тонко слышалось еще словно бы клацкание маленьких подков – это впереди, проскальзывая когтями по старому паркету – ковровые-то дорожки содрали уж Бог знает когда, – впереди шла овчарка, невидимо для Цветкова раздраженно поджимая задницу и показывая резцы в ощере. Никаких злоумышленников патруль тут встретить не ожидал, а овчарка хотела пить и есть, ее не напоили и не накормили перед выходом наряда на маршрут. Не кормить собаку перед работой – это да, правильно, а вот поить… В миске у собаки, чтоб вы знали, дорогие мои, в собачьей миске всегда должна быть вода. Эти топочущие вахлаки – ну, мы вам об этом сообщаем – просто забыли налить в миску воду.
Цветков вжался в стену.
Он стоял на лестничной клетке прямо за дверью в лифтовый холл своего этажа. В коридоре, как мы уже вам говорили, дорогие мои, лежала прежде дорожка, на полу в холле – с дикими узорами, изображающими цветы, ковролин, а в углу, напротив лифта – во время оно помещался зеленый огромный диван. Сейчас, тихонько заглянувши в холл, Цветков помимо себя первым делом отметил отсутствие, разумеется, дивана, хотя до этой секунды совершенно про диван не вспоминал. Ковролин тоже отсутствовал, и в далеком свете луны на полу холла виднелись страшные темные разводы и пятна, словно бы следы трупного гниения на живой некогда материи. Цветков не успел понять, чтo это такие за пятна – шел, говорим мы вам, шел, топоча, патруль, перед патрулем в коридоре автоматически зажигался тревожный аварийный свет, потрескивая на старых дросселях, и тут же, как только эти несколько человек с собакой проходили, тут же сам выключался, оставляя после себя озоновый запах электрического разряда и душный запашок мгновенно нагретого в лампах неона. Собака морщила нос.
Цветков стоял, значит, вжавшись в стену, как приговоренный, ожидая, когда его обнаружит собака. Сейчас… Сейчас… Вот сейчас… У Цветкова был нож – нет, не выкидная финка Лектора, которую он присвоил, словно военный трофей, только на следующий день после изображаемых нами сейчас событий – ну, вы помните, дорогие мои, мы вам рассказывали, как Чижик убил Лектора, и мусоровоз с Чижиком за рулем и Цветковым на правом штурманском сидении – мусоровоз выехал с территории 17-ой Инспекции. Но это случится только завтра, а сейчас Цветков стоял на бывшем своем этаже за дверью холла, сжимая рукоятку короткого овощного ножа. Собаку Цветков убивать не собирался, Константин Цветков, дорогие мои, и в мыслях не держал, что он, Цветков, может убить собаку – какую бы то ни было, хоть и полицейскую. Нож он собирался воткнуть себе в горло, как только его обнаружат. Кстати тут вам сказать, держал он нож, словно записной убийца, вполне профессионально – лезвием не от большого пальца руки вверх, а лезвием, выходящем из кулака снизу. Против удара от себя, с разворачивающимся локтем, блок может поставить только опытный тренированный человек. Цветков всех этих мерзостных умений и близко не знал, как не знал, что, держучи эдак вот нож, самому напасть или нападавшего зарезать можно запросто, а себя – никак, ну, никак, во всяком случае – не первым движением: балбеса Цветкова скрутили бы раньше, чем он успел бы вывернуть руку с ножом.
Патруль протопал, не заглянув в холл, Цветков услышал обрывок разговора, но никаких фраз из отдельных слов не смог сложить: «Светку… рачком… рачком… А Светка… А она, сууука… Я говорю – становись, сука… А Светка… Ка-ак, блин, в жопу вхреначил… Завизжала, суууччара…». Сразу вслед за одобрительным гоготом хлопнула дверь в конце коридора. Весь превратившись в огромную ушную раковину, Цветков услышал, как патруль ссыпался по лестнице вниз, хлопнул дверью в коридоре нижнего, пятого этажа и пошел по пятому этажу в обратную сторону, чтобы спуститься еще ниже с противоположной лестницы и вновь пойти в обратную сторону уже по четвертому этажу. Цветкову даже показалось, что он услышал далекое «Светка… рачком… суууччара…», но это, прямо скажем, дорогие мои, это уже воспаленное воображение цветковское сработало, не мог он слышать слов, как не мог теперь и слышать когтевой собачьей побежки рядом с пятью топочащими мужиками – сквозь бетонное перекрытие-то! Не мог.
Тут мы должны добавить, что в эти только что изображенные нами двадцать или тридцать секунд, пока патруль проходил по шестому этажу, Цветков совершил, вернее сказать – экспериментально подтвердил еще одно научное свое открытие. Да-с! Открытие! Причем, как всегда с гениальными учеными случается, неожиданное прозрение его блистательно, значит, подтвердилось практикой.
Дело в том, что Цветков владел собственного, как вы сами понимаете, изготовления противовшивым препаратом, который в серию не пошел, во-первых, потому что начальству показался слишком дорогим и обременительным в производстве, а во-вторых и в главных, потому – об этом наивный наш ученый даже не догадывался – во-вторых, потому, что самый препарат начальство получить от профессора Цветкова вовсе не желало, начальство желало проводить исследования и получать под оные исследования оклады, преференции, звания и пайки. И так называемые мормышевские дипломы – ну, это у них было вроде Государственной премии. А более высокое начальство вообще – это глубоко между нами, дорогие мои, – высокое начальство вообще не желало, чтобы население избавилось от вшей, потому что завшивленному населению всегда есть чем заняться вместо излишнего умствования. Но препарат-то был, Цветков его изобрел еще год назад! Препарат Цветков опробовал, как и все великие естествоиспытатели, прежде всего на себе, потом на Фросе, а вот Настя, тогда еще жившая с Цветковым, испытывать препарат отказалась решительно. Ну, вот… Уже год вши обходили Цветкова и Фросю, пока та была жива, за километр.
И вот когда сегодня утром на полигоне зашла речь об институтских собаках, что, мол, непременно собаки задействованы в охране здания, Цветков взял и не распылил, нет, а просто-тки вылил на себя остатки Ц-08–66б, еще и мыслью не успев догнать, что препарат лишит обоняния любую собаку, он прежде о вспомогательном Ц-08–66б как об антисобачьем препарате и не думал вовсе. Да-с! А тут при словах «собаки учуют» вдруг встал, сунул руку за пазуху, достал запаянную десятимиллиграммовую ампулу, одним движением безо всякого надреза обломал головку и вылил половину себе на красные патлы, а половину за горло и даже рукою растер там, на горле, резкую влагу.
– Не учуют, блин, – великолепный сказал Цветков, прекрасно понимая, что занимается блефом и может подставить товарищей, но оказавшись не в силах поступить иначе. – Не учуют! Видали, блин? – он повертел пустой обломанной ампулкой.
Впрочем, у нас есть еще одно предположение, почему собака не учуяла Цветкова. Вряд ли противовшивый препарат действует на собачье обоняние. Дело в том, что соответствующим службам выдавалось не по сто, а по триста, а при выходе в наряд – и по четыреста грамм, поэтому от топочущих и гогочущих охранников шел такой водочный дух, что даже какой-нибудь акуле, плыви она тут в цветковском коридоре, – а акулы, дорогие мои, чуют запахи за несколько километров, – даже акуле не удалось бы сейчас учуять Цветкова.
И теперь Цветков медленно, с каждый шагом прислушиваясь, подошел к бывшей своей лаборатории. Наборная замковая панель на двери оказалась замазана какой-то застывшей гадостью, из которой выходила проволочка с пломбой. Цветков задумался лишь на мгновенье. Его, конечно, инструктировали перед делом – как в каком случае поступать, но, честно вам признаемся, дорогие мои, весь инструктаж сейчас вылетел из цветковской головы начисто. В такие минуты самое лучше – положиться на интуицию, на подсказки – кого? Бога, своего собственного alter ego? – на внутренние положиться подсказки; люди, бывало, и – чаще всего – погибали при этом, но случалось, что иногда и находили решение; всяко бывало. И Цветков вытянутым пальцем попробовал тонкую пленочку, залившую панель – не пружинила! Пленочка вдавливалась, не пружинила! Бездельники, охранявшие здание, все делали спустя рукава. Пальцы сами помнили движения, Цветков даже глаза прикрыл, чтобы не ошибиться и полностью довериться мышечной памяти – сквозь заливку набрал, точнехонько попадая по кнопкам, код – 8831. Замок оглушительно – показалось в полной тишине Цветкову – оглушительно щелкнул, всосал в себя двойной язычок, и дверь сама, подтолкнутая пружиной доводчика, приоткрылась. Электропитание даже не отключили, козлы охранительные! Открылась дверь!
Заранее вам скажем, дорогие мои, что сезам в лаборатории работал все-таки не так, чтобы слишком хорошо, и вслед за бочком втершимся в лабораторию Цветковым сам не закрылся, оставив щелочку. А Цветков, у которого кровь стучала в ушах, как ковальный молот в металлургическом цеху, Цветков дверь-то за собою запереть забыл. Хорошо это вышло или плохо, вы уж решайте сами по последующим обстоятельствам. Сейчас все расскажем.
Но прежде, дорогие мои, очередное признание. Состоит оно в следующем: профессор Константин Константинович Цветков, сам не зная зачем, накануне закрытия своей лаборатории совершил тяжкое – мы не шутим – тяжкое должностное преступления. Врать не станем, потому что мы никогда не врём – Костя вовсе не прозревал будущее и зачем сделал то, что сделал, мы не знаем. А чего не знаем, того, значит, как уж не раз мы говорили, того не ведаем. Да он, повторяем, и сам не знал, зачем. Вздорный он был человек, Цветков. Сейчас Цветков явился на прежнее место службы, чтобы преступление свое усугубить невероятно.
Он огляделся в темноте. Казалось, ничто не изменилось в лаборатории с того дня, когда в нее в самый разгар работы неожиданно вошли несколько военных с автоматами и предложили Цветкову немедленно из помещения лаборатории выйти и отправиться в дирекцию, даже электронный микроскоп не дали выключить, за которым Костя в тот миг сидел. В дирекции Цветкову объявили о временном прекращении всех работ, дали подписать какую-то бумагу о глобальном и тотальном его, подполковника Цветкова, обещании молчать решительно обо всем, что ему известно о Божием мире и о работе его лаборатории, и о выплате ему ежемесячной компенсации, которую действительно начали с того дня выплачивать… Да, ничего не изменилось. Даже маска, брошенная на стол, там и валялась, словно бы свидетельствуя о поспешном бегстве хозяев. Цветков положил нож рядом с маскою и моментально маску эту на себя пристроил, шагнул к шкафчику, открыл – несколько таких же масок спокойненько лежали на полках! Цветков вытащил из кармана пластиковый пакет, бросил туда маски и, теперь уже совершенно уверенный в успехе, подошел к серому промышленному холодильнику – точно такие вы видели в подсобке любого общепитовского заведения, дорогие мои – ну, когда общепитовские заведения еще существовали и обладали подсобками. Холодильник натужно и хрипло урчал, говоря о том, что охрана, выведя Цветкова, просто-напросто наскоро запечатала дверь, даже не поинтересовавшись, чем тут занимался этот краснорожий чудик и ничего – вы можете себе представить? мы, так запросто можем – ничего в лаборатории не осмотрев и ничего не предприняв, ни один прибор не отключив.
Цветков попытался открыть верхнюю левую дверцу – та не подавалась. Цветков дернул со всей своей силой, и дверца не то, чтобы открылась, а отвалилась с краканьем и треском. Почти все пространство камеры занимал чудовищный ледяной нарост. За время цветковского отсутствия никто сюда не заходил и никто, значится, и не подумал прибор размораживать. Цветков усмехнулся. Одновременно с открытием дверцы, холодильник, не выдержав давно им ожидаемого, но неожиданного в себя вторжения, утробно щелкнул и, задрожав, выключился, свет в нем погас; запахло паленым – обмотка двигателя наконец-то сгорела. Цветкова это теперь не интересовало. Тщательно проверив на себе крепление маски, он просунул руку в самую глубину камеры, вытащил, обламывая ледяные торосы, голубой примерно полметра на полметра, покрытый изморосью плоский пластмассовый кейс с металлическими накидными щеколдами, отбросил обе щеколды. Внутри кейса находился рифленый резиновый штатив, когда-то полный большими запаянными ампулами, формой похожими на патроны к крупнокалиберному пулемету. Видали когда-нибудь? А теперь только в двух ячейках стояли целые, нетронутые ампулки. На каждой ампуле цветковской рукою маркером черным было написано – «физраствор». Любой студент юрфака вам скажет, дорогие мои, что сия надпись цветковским почерком – состав преступления. Вы, конечно, уже догадались, что это был за физраствор, дорогие мои? Да, Ц-14-а3. Не все сдал Цветков накануне своей отставки. Не все! Да-с! Не все! Две оставил. И пристроил зачем-то к себе в холодильник. Цветков тихонько засмеялся своей победе. Он понимал, что теперь надо было закрепить ее еще и вербально, и он тихонько проговорил, обращаясь неведомо к кому – к ним, ко всем к ним обращаясь:
– Так-то, блин! Бллин! Так-то вот, ннна хрен! В жопу вас всех вытрахал, блин, сссуки трраханные! В жопу вытрахал, блин! Как Светку, блин! Как Светку!
И тут же, словно бы в ответ, за спиною Цветкова раздалось тихое рычание. В ужасе он оглянулся.
Сзади стояла небольших размеров овчарка – та самая, только что невидимо прошедшая с невидимым Цветкову патрулем, желто-черная, со впалым животом, в широком брезентовом ошейнике. С ошейника свешивался болтающийся, не надетый, а просто укрепленный на нем и расстегнутый сейчас намордник. Цветкова от неожиданности взял столбняк. А овчарка повернулась, подошла к двери и села возле нее, высунув длиннющий язык, часто задышала. Повисла пауза. Собака не лаяла, и никто, кажется, ее не сопровождал сюда. Цветков прислушался – никто нигде не кричал, никто не звал ее, никто не шел за нею следом. Спокойные люди охраняли его институт, люди со стальными нервами.
Тут мы кстати должны вам заявить, дорогие мои, что мы все-таки решили настаивать на свершенном Костею открытии, и овчарка явилась не на запах, а, разумеется, на звук. И счастье, что дверь осталась приоткрытою, иначе, не смогши войти, выученная собака наверняка бы залаяла, и тут охранникам пришлось бы отрывать задницы от кресел.
Цветков собак не боялся. В принципе. Что не мешало ясному сейчас пониманию, что выйти ему из лаборатории овчарка не даст. Все. Приплыли.
И снова Божий промысел спас Цветкова.
Сам пока не понимая, что делает, он тихонько, медленно-медленно двигая рукою, открыл еще одну камеру – дверца неожиданно легко открылась, – нащупал там среди ледяных наростов нечто, это нечто достал, медленно-медленно присев, положил нечто на пол и медленно-медленно развернул. В хрустящем ледяном полихлорвиниле лежали три заиндевевших, твердых, как сталь, бутерброда с маслом и колбасой – цветковский завтрак из профессорского его пайка. Собака мгновенно приняла сторожкую позу, только что казавшиеся равнодушными умные ее глаза загорелись. Помахивая хвостом, овчарка подошла к бутербродам и обнюхала их, более уже не обращая никакого внимания на Цветкова. Замороженные до состояния стекла продукты, разумеется, не пахнут, но собачка была, видимо, очень умна, и сразу сообразила, что перед нею – именно продукты, а не что-нибудь иное. Как вы сами понимаете, дорогие мои, брать пищу от чужого выученная сторожевая собака не станет, но эта собачка уж совсем, совсем оказалась умна, ровно бы человек, знающий, когда точно нельзя, а когда можно и нарушить установления, правила, порядки – словом, ваши поистине сучьи человеческие законы.
Цветков тихонько подхватил кейс с обеими ампулами и, еле передвигая ноги, медленно-медленно отодвинулся от холодильника. Овчарка на него по-прежнему не смотрела. Улегшись рядом с едой, она пристроила бутерброды между лап и теперь, совершенно человеческими движениями придерживая еду, со страшным хрустом увлеченно откусывала куски, хватая остекленевшие колбасу и хлеб боковыми резцами.
– Хх… хор-рош-шая с-собачка, – сказал Цветков.
К сожалению, он оказался не совсем прав. То есть, собачка-то, конечно, пришла к Цветкову хорошая, но, видимо, долгое общение со служивыми людьми отбило в собачке основное чувство, которое, признаться, мы сами в собачках очень ценим – чувство благодарности. Потому что, когда Цветков, уже почти успокоившись, потянул со стола пакет с масками, положил на маски сверху кейс, взял в правую руку нож и тихонько направился к двери, собачка, даже не зарычав, а абсолютно молча, неожиданно совершила огромный, поистине цирковой прыжок в сторону Цветкова прямо через стол, и как-то так вышло, что наткнулась она на нож точнехонько самым горлом – Цветков инстинктивно выставил вперед руку, в которой нож-то и был зажат. Взвизгнув, овчарка рухнула на пол и забилась, скуля. Из ее шеи потоком выходила черная в темноте кровь. Цветков выронил нож и сам заскулил не хуже собаки. И пакет выронил, закрыл лицо руками…
Нам сейчас не хочется, дорогие мои, так вот продолжать и, следовательно, оказаться в необходимости так вот и заканчивать эту небольшую главку нашего правдивого повествования. Цветков убил собаку и вынес из института препарат – вынес, не сомневайтесь. Он все теперь мог свершить, потому что он вновь любил – он любил и помнил, что его ждет Ксюха. Любовь к Ксюхе теперь должна была стать еще более крепкой, потому что ей была принесена жертва – собачья жизнь и человеческие жизни. Жизни живых существ.
Мы можем, конечно, повспоминать тут о том, что миллионы вшей, убиенных Константином Цветковым, – тоже живые существа. Но ведь мы с вами не адепты какой-нибудь экзотической религии, запрещающей убивать вшей, блох, клопов и комаров, мы с вами люди крещеные, не правда ли? Мы не Махатмы Ганди какие-нибудь… Нет… Далеко нет… Есть ли душа у вшей, как, несомненно, есть она у человека и собаки, – вопрос дискуссионный, и мы не можем ставить его сейчас в повестку дня, потому что совершенно забыли о Ксюхе, дорогие мои. Совершенно забыли. О Ксюхе, обладающей огромной душою – большей, чем у множества человеческих особей. Наука утверждает, что душа весит семь граммов. Так вот у Ксюхи душа весила восемь, девять, а то и все десять граммов, чтобы не соврать! Да мы и никогда не врем. Вернемся к Ксюхе, вернее – начнем с нею знакомство.
Во избежание возможной путаницы скажем, что Цветков и Ксюха впервые увидели друг друга за четыре дня до сегодняшнего ночного визита Цветкова к месту прежней работы и, следовательно, через четыре дня после того, как Цветков спустился в нору, где сидела его Настя. Да, бывшая его Настя.
Но мы ведь вам о Ксюхе обещали рассказать. С Настей-то мы теперь не то, что распрощаемся, а просто Настя теперь, что называется, отрезанный ломоть, и ломоть этот хавает замечательный Чижик, а наш Цветков, попавши в подвал и так вот в одночасье, можно сказать, изменивший свою жизнь, вдруг переродился и из сердца своего отпустил Настю и простил, отпустил и простил; так вот наделенный саном батюшка отпускает нам грехи, и мы сами – мы! сами! мы сами прощаем их себе и, следовательно, прощаем грехи чужие. Только так, добавим мы сейчас, дорогие мои, можно стать счастливым – самому себе прощая и отпуская. И, самое главное, в жизни Цветкова как последнее чудо в этой его жизни возникла Ксюха.
А вот мы вам и в самом деле расскажем.
Ксюха возникла из ночной тьмы, убранная цветами и с цветами в руках, в цветочном венке поверх короткой фаты. Нам очень хочется сказать вам, дорогие мои, что Ксюха была в белом, до пят, свадебном платье и ступала босиком по мокрому песку – а каким еще должен оказаться песок под ее восхитительными ногами, как не мокрым, ведь Афродита, появившись из пены морской, никак уж не сможет ступить прямо на раскаленный песок пустыни! Прибой, знаете ли! Пусть соленая, но вода!
Да-с, очень хочется что-нибудь такое тут изобразить. Но ведь мы никогда не врем. Никогда. Поэтому честность вынуждает нас поведать вам, что босиком по полигону ТБО ходить совершенно возбраняется по вполне понятным причинам – можно мгновенно порезаться, занести в ранку заразу и в скором времени отбросить копыта; лекарств-то уж давно никаких не производилось, не говоря уж об обязательной противостолбнячной прививке населения. Куда там! Так что Ксюха ступала в коротких, обрезанных по щиколотку кирзачах, и платья белого, к сожалению, не нашлось, как ни искали, марлю для фаты, действительно, нашли, а платье пришлось взять – только не смейтесь – голубого цвета, словно бы это не Ксюха в той, предугадываемой нами сейчас жизни венчалась Цветкову, а в нашей сегодняшней жизни сэр Элтон Джон выходил за Борю Моисеева, ну, или Боря за Джона, хрен ли – поистине! – хрен ли разница. Но зато платье было совершенно новое! Чистое! Ненадеванное! Очень красивое! Миди! В талию! С большим вырезом и без рукавов, более напоминавшее сарафан, но платье! Платье! Где это платье находилось прежде, почему оно сохранилось для Ксюхи и по скольку скидывались обитатели норы, чтобы купить платье у живого тогда еще Лектора, нам неизвестно. Ну, не знаем. А чего не знаем, того не ведаем. А цветов, действительно, доставало более чем – по всей границе полигона, словно бы зримо отрицая и само существование полигона, и начинающуюся осень, бессчетно росли на высоких стеблях красно-желтые раскидистые растения, вдруг решившие теплой осенью зацвести. Немного они напоминали огромные гладиолусы, но это, конечно, были не гладиолусы.
Мы, кстати тут сказать, подозреваем, что цветы эти на самом деле не совсем цветы и пожирают мух и прочих насекомых, как некоторые плотоядные растения Африки, потому однажды и появились тут сами по себе, безо всяких гладиолусовых луковиц, соткавшись из ядовитого, полного злых испарений воздуха полигона. Но ведь Ксюха была не мухой, дорогие мои! Ксюхе цветочки эти никакого вреда причинить не могли, а других цветов невозможно оказалось достать. Ну, невозможно. А эти еще и пахли совершенно дурманящее, словно действительно себе думали, что они растут в Африке и приманивают колибри. Так мы, во всяком случае, полагаем, дорогие мои. Так что Ксюха, повторяем, вся была в цветах, как катафалк. Простите нам это неуместное здесь сравнение. Мы продолжаем и когда приблизимся к дальнейшим событиям, пошутим эту шутку еще раз.
Ксюха, значит, выступила из ночной тьмы, а это совсем не хуже морской пены, из которой выступила Афродита, тем более, что, по слухам, та тоже выступила ночью. Цветков уже ждал ее, – чуть мы не написали «на берегу» – Цветков уже ждал ее возле входа в нору, где сейчас отсутствовали решительно все постоянные обитатели, потому что у Ксюхи с Цветковым сейчас должна была начаться брачная ночь. Вот какую насыщенную событиями – короткую, но насыщенную событиями и, главное, вновь – пусть только последние несколько дней своей жизни – главное, вновь полную любви жизнь прожил на полигоне Цветков.
Тут мы должны объясниться.
Дело в том, что все в Семнадцатой Инспекции, даже Газ, лишенный – это сугубо между нами, дорогие мои, – лишенный каких-либо человеческих чувств, кроме желания властвовать – ну, разумеется, это самое человеческое из всех чувств человеческих, но мы говорим сейчас о, хи-хи-хи, доброте… или там любви… извините нас… сострадании… Даже, значит, Газ к Ксюхе относился чрезвычайно внимательно, как относился бы к своей дочери, если б она у него была. Ну, ей-Богу. И все так относились. Можно сказать, трепетно. И все были, как и Цветков, предупреждены – не трахать Ксюху! И все соблюдали запрет. Один – единственный раз один – единственный отморозок – кстати сказать, соплеменник Газа, один только раз соплеменник Газа в ответ на лапидарное предупреждение выразился в том смысле, что Ben uyarı tükürmek istedim. Ben istiyorum, bu lanet. Ve ona lanet.[91] И более этого свободолюбивого орла в Семнадцатой Инспекции никто не видел, и никто нигде более никогда не видел, он как-то испарился, дематериализовался сразу же после своего высказывания. Видели только, как один из приближенных Газа что-то сжигал в железной бочке прямо посреди двора и потом пронес в раздевалку чей-то комбинезон и сапоги.
И все не потому, что Ксюха, дорогие мои, была очень милой скромной девочкой, приехавшей сюда в семнадцать лет из маленького русского городка Глухово-Колпаковa и даже не из самого городка, а из деревни Глухово-Колпаковского района Кутье-Борисово, потому что в ее родной деревне и в самом городе не было уже ни работы, ни возможности учиться, и Ксюха окончила к семнадцати годам целых четыре класса, и все не потому, что была она еще и очень красивой, а конопушки на ее лице – а Ксюхино лицо все, прямо вам скажем, все целиком просто состояло из конопушек, как и ее тело целиком, о чем, кроме нас, смог узнать только Цветков – не потому. А потому, что у Ксюхи не было вшей. Вообще. Никогда. С детства.
Цветков, как мы с вами знаем, применял свой препарат на себе и Фросе, и вши имели все основания обходить Цветкова и Фросю стороной, а вот отсутствие вшей на Ксюхе, по нашему мнению, является еще одним доказательством существования Господа Бога нашего, потому что как иначе объснить – кто сохранил в условиях поголовного завшивленния всего государства Ксюху для Цветкова, кто оберег ее девственность среди о-очень непростого народа, работающего в Инспекции да и просто проходящего по улицам мимо Ксюхи? Кто перстом своим коснулся конопатой девчонки, чтобы она смогла понести от нового мессии? Обошлось без Архангела Гавриила, просто к девушке пришли от имени всего полигона и от имени полигона предложили ей немедленно выйти замуж. Ей не сказали, что она вскоре станет вдовой. И Ксюха стала счастлива.
Но тут мы несколько забегаем вперед, дорогие мои, хотя, кажется, не раз уже мы проговорились, что Константину Константиновичу Цветкову предстояло совершить подвиг. Он его и совершил, но о том речь впереди. Мы не станем вымарывать тут из нашего правдивого повествования собственные проговорки.
Но прежде мы должны объясниться.
Дело в том, что мы сами, во-первых, категорически против любых подвигов, потому что подвиг всегда – следствие неправильно организованного дела. Или неправильно организованного сражения. В любом случае – чего-то неправильного. Исключения нам неизвестны. Кроме, разумеется, подвигов духа. Во-вторых, мы убеждены, что все подвиги и связанные с ними смерти в конечном счете совершенно напрасны, и целей своих никогда не достигают, в чем вы убедитесь, дорогие мои, продолжая читать наше правдивейшее повествование.
А теперь вернемся на Полигон.
Кстати тут сказать, тот непреложный факт, что все население Инспекции и Полигона в страхе, что Ксюху все-таки заразят, единодушно и трепетно оберегало Ксюху от половых контактов, тоже свидетельствует, что Бог есть на свете. А кто бы иначе вложил это наивное – словно бы вши не могли просто-напросто переползти на Ксюху от любого человека – кто вложил это опасение в головы убийц и подонков всех мастей, оставляя таким образом маленькое светлое пятнышко даже в их сердцах? Даже Лектор… Да что говорить!
Когда населению Полигона представлен был Костя Цветков, когда рассказано было о его прежних занятиях, даже не у Чижика, даже не у Насти, занятых другими мыслями, а у чужих, можно сказать, людей возникла эта идея – поженить Цветкова и Ксюху. И Газ дал «добро», можете вы себе представить? И когда Лектор, тогда еще живой, мерзко похихикивая, тут же доложил куда следует, что находящийся под гласным наблюдением Цветков Константин Константинович собирается опять как бы жениться – жениться на этой чoкнутой девчонке Борисовой Ксении, причем официально он не разведен с находящейся под негласным наблюдением Цветковой Анастасией Ильиничной, даже там… там!.. дали «добро»… А если столь явно видны светлые пятнышки даже в таких сердцах, разве не Бог столь явно являет нам промысел Свой? Промысел, состоящий в том, чтобы настоящая жизнь все-таки продолжалась.
Да, так, значит, обставлено все было очень торжественно. Лишь только убранная цветами Ксения вышла из темноты, заиграл марш Мендельсона. Нам тут приходится признаться, что устроители церемонии, опасаясь, что на каком-либо из столетних плееров в самую ответственную минуту откажет звук, перестраховались и врубили сразу аж четыре плеера, в результате чего вечное создание Якоба Мендельсона, разумеется, тут же превратилось в какофонию. Никто на это внимания не обратил – разве что полигоновские собаки, предварительно все до одной выгнанные и выманенные за ограждение, рефлекторно взвыли, но и они тут же смолкли, как только Мендельсон отыграл свое, только один особо нервный пес время от времени потявкивал, словно бы завидки выражал Цветкову.
Конечно, это не была свадьба официальная, а тем более – не была свадьба церковная, дорогие мои. Но это была свадьба самая настоящая. Зрители стояли в полной тьме, утяжеленной светом единственного прожектора. Вслед за Ксюхой вышла из тьмы Настя, та шла с совершенно сухими глазами и суровым лицом. На Насте было старое, подаренное ей еще Цветковым малиновое платье – единственное, которое можно было тогда получить в распределителе, старое, значит, платье, но чистое и выглаженное. За спиной Цветкова в круге света появился тоже очень серьезный Чижик в единственном своем приличном прикиде – синем парадном мундире майора ВВС. Мы бы рассказали вам, во что в тот миг был одет Цветков и как он выглядел, но свет слепит нам глаза, дорогие мои, высекает из наших глаз слезы, поэтому Костя Цветков кажется нам сейчас стоящим в огненном ореоле, словно бы в центре Неопалимой Купины.
Ксюха замерла перед Цветковым. Виделись они тогда в первый раз и жадно разглядывали друг друга. Цветков пожирал глазами плоское Ксюхино лицо с густыми рыжими бровями, носом картошкой, пухлыми губами и, как мы уже вам рассказывали, полностью покрытое конопушками. Ксюха вдруг широко улыбнулась и сбросила фату, выплеснув под светом огромную волну морковных волос, и мы с вами, дорогие мои, вместе с присутствующими на свадьбе еще раз смогли убедиться, что Ксюха очень красива. Очень красива, очень. Ростом она была намного выше Цветкова, так что, протягивая ей руку, Цветков эту свою руку протянул не только вперед, а отчасти и вверх. Ксюха подала свою руку в ответ, и Цветков ощутил, насколько тепла и нежна ее большая, почти мужская – во всяком случае, куда больше цветковской – насколько тепла и нежна ее ладонь. Раздались оглушительные аплодисменты и пистолетные выстрелы, даже, уж признаемся вам, несколькими автоматными очередями кто-то засадил в небо.
Собаки, рядком сидящие за колючкой, словно бы зрители в первом ряду партера, вновь вскочили и залаяли. И в тот же миг Настя Цветкова вдруг неудержимо начала рыдать. И в тот же миг Константин Цветков понял, понял и до конца своей жизни всегда знал, что он безумно любит крупную угластую конопатую девушку, держащую его за руку. Кашлянув, улыбающийся Чижик выступил вперед, собираясь раздваиваться – исполнить одновременно две миссии: кощунственно миссию батюшки в церкви, свершающего таинство брака, и миссию сотрудницы ЗАГСа, произносящей пред брачующимися – простите нас за это слово – стандартную, заученную речь. Но Чижик только и успел, что прокашляться. Не отрывая взгляда от Ксюхи, Цветков свободной рукою нашарил за собой ручку двери, ведущей в нору, открыл дверь и, осторожно ступая, повел Ксюху за собою вниз, где горел в печи небольшой огонек и где на лежащих рядком двух вычищенных матрасах уже было постелено до того дня свято хранимое чистое белье, и где Младенец, изображение которого укрепленно было в головах Цветкова и Ксюхи, уезжал и все никак не мог уехать из этих мест.
Неистощимая
Начальник Глухово-Колпаковского УФСБ полковник Овсянников в то самое утро, в котором англичане прибыли в Глухово-Колпаков, получил по своим служебным каналам уведомление как раз о прибытии англичанина со свитой и приказ обеспечить прибывающих негласным сопровождением. Полковник повертел перед собою пальцами, примериваясь к ситуации. Что сей сон значил?
Шпионов в Глухово-Колпаковской области никогда не водилось – за исключением, разумеется, конца тридцатых годов, когда шпионы в Советском Союзе обнаруживались везде и всюду, но тогда полковник еще даже не явился на белый свет, сейчас он только что справил тридцативосьмилетие. Однако спецслужбы на то и существуют, чтобы проклятых шпионов не было вовсе. И полковник твердо знал и совершенно искренне верил, что Запад – вообще Запад, НАТО, да и, прямо скажем, все американцы, англичане и прочие шведы только и мечтают, как бы навредить России. Это было само собою разумеющимся. И он, Овсянников, конечно же, сейчас поставил бы на уши весь личный состав Управления. Но в пришедшей ориентировке что-то, воля ваша, казалось странным. «Обеспечить надежное прикрытие имеющихся в городе и окрестностях города объектов перечня прикрытия». На сей счет имелась вполне четкая внутренняя инструкция, разработанный план действий, и ему, Овсянникову, не надо было напоминать, как действовать в подобных случаях. Он знал, как действовать. Удивляло и слово «надежное». С чего бы оно тут, в указивке, появилось? А то он, полковник Овсянников, ненадежное, что ли, до сей поры обеспечивал? И пришла указивка срочно, не загодя, что тоже удивляло. А в особых случаях ему всегда звонили из Москвы. Иногда и сам Директор звонил, и так бывало, редко, но бывало. А тут полная тишина.
Овсянников вновь покрутил перед собою пальцами, взял руку в кулак и резко выбросил пальцы от сжатого кулака, словно бы экстрасенс, отгоняющий нечистую силу – помогало принимать решения, уж давненько, признаться вам, приобрел он такую привычку, еще в детстве. А в экстрасенсов, кстати вам тут сказать, дорогие мои, полковник не верил. Правильный, надежный был мужик Овсянников, потому и быстро рос по службе, и сейчас в свои лета состоял, по штатному расписанию, на генеральской должности.
В окрестностях города располагались две воинские части – недавно появившийся тут Отдельный железнодорожный батальон механизации, уже полтора года ведущий строительство вторых путей на основной областной магистрали и еще один батальон – Учебный саперный, занимавшийся в основном подготовкой сержантского резерва. И еще на Кутьей горе, в бывшем монастыре – окруженный трехметровым кирпичным, с витою поверху колючкой, как на зоне, окруженный, значит, забором Узел – так он назывался в документах, – Узел федерального подчинения, к которому даже Овсянников со своими сотрудниками никакого доступа не имел. И руководство области в лице Голубовича тоже никакого доступа не имело. Можно было бы предположить, что за забором никаких людей не существует, а действуют только роботы, если бы каждый день примерно в шестнадцать часов в ворота Узла не заезжала глухая КАМАЗовская фура – прямиком из Питера, фура, в которой рядом с прапорщиком-шофером сидели два офицера с «калашами» на коленях. Ворота Узла автоматически или же управляемые изнутри открывались, огромная фура въезжала, через часа два-три выезжала и выворачивала, не останавливаясь, прямо на питерское шоссе; исчезала, как фантом. Более никакие машины в ворота никогда не входили и никакие никогда не выходили, даже мусорки и говновозки. И люди никакие не входили и не выходили. Поскольку центральной канализации на Узле точно не было, Овсянников для себя в шутку предполагал, что на Узле народ обитает по замкнутому циклу жизнедеятельности, то есть – ест говно. Предположения и мы с вами, дорогие мои, могли бы сделать самые разные, если б и до сей поры внутри Узла не сиял бы золотыми куполами Божий Храм. Поэтому мы покамест не смеем обнародовать никаких предположений. Но потом, возможно, обстоятельства разъяснятся.
А сейчас к нашим героям.
Овсянников осуществлял – разумеется, в числе многих прочих – прикрытие обоих объектов. В желдорбате и в саперном свои первые отделы по штату не полагались, в каждом только сидел прапорщик в так называемой «секретной» комнате – а чтоб вы знали, дорогие мои, Железнодорожные войска именно тем и занимаются, что ведут строительство пути, ну, разве когда еще выйдут на часок на плац позаниматься маршировкой, только что; да, так в батальоне, значит, свой первый отдел не полагался, только прапорщик-секретчик, ну, про неофициальных осведомителей мы ничего не знаем, а чего не знаем, того не ведаем. В саперном батальоне – то же самое. В желдорбате у секретчика в непосредственном подчинении находился сержант, а в саперном – целых два сержанта, поскольку это был учебный батальон с большой текучкой и сменяемостью личного состава, одному сержанту тут не уследить – вот и вся меж ними разница. А вот что полагалось по штату в Узле, это уж точно Бог весть. Мы даже не догадываемся. Даже предположить ничего не можем, дорогие мои, и только надеемся на дальнейшее развитие событий, которое и выкажет всю истинную правду.
Еще в Глухово-Колпаково блистательно функционировали филиал Московского медицинского института, собственный Глухово-Колпаковский индустриальный институт, не так давно, согласно веянию времени, переименованный в Университет, строительный и химического машиностроения техникумы, медицинское училище при филиале мединститута, две музыкальные школы, десяток обычных филиалов Сбербанка и несколько филиалов других банков, а также Первый Глухово-Колпаковский банк… Между нами, дорогие мои, Первый Глухово-Колпаковский он же был и последний. Еще имелся в наличии Инновационный банк VIMO.
Но это в сторону, да, в сторону. Тем более обо всем, что связано с VIMO, – потом, потом. Не торопите нас.
Ну и, конечно, вокзал и все, что связано с железной дорогой. Вокзал, как вы сами понимаете, дорогие мои, совершенно особый объект силового прикрытия, так что мы сюда даже не станем напрасно соваться. Уж тут все у Овсянникова схвачено было, как полагается. Как и, например, в автобусном парке. Да и вообще…
Банковские, промышленные и административные потоки прочно контролировал губернатор Голубович, как ему и положено было по должности и по понятиям, а Голубовича контролировал Овсянников, как тому и было положено по должности и по понятиям. Овсянниковские сотрудники, тайные и явные, прилежно трудились, разумеется, во всех губернских учебных заведениях, фирмах и на предприятиях промышленности и транспорта в соответствии со штатным расписанием.
Но мы же не о финансовых потоках вам тут взялись рассказывать, дорогие мои. И не о видимом и, тем более, о невидимом административном управлении в маленькой российской губернии. Если честно сказать, – а мы в нашем предельно правдивом повествовании никогда не врем, – если честно сказать, плевать нам на финансовые потоки и административное управление. Неинтересно нам это. Мы пишем историю, во-первых и в главных, разумеется, о любви, а во-вторых, совсем о другом, куда как более прекрасном потоке, чем какой-то мерзотный финансовый.
Так что вернемся к Овсянникову. Мы только можем тут добавить, что, например, истинный владелец Первого Глухово-Колпаковского банка Овсянникову был известен, а вот настоящий владелец Инновационного банка VIMO – как раз нет, хотя бы потому, что обретался оный владелец вовсе не в Глухово-Колпаково. Ну, и хватит про банки! Хватит! Овсянникову неизвестно, а нам откудова знать?
Единственное в области приличное шоссе к Узлу и в село Кутье-Борисово недалеко от бывшего монастыря Овсянников контролировал и регулярно об этом контроле отправлял наверх донесения. Еще в окрестности, на окраине города, имелся химзавод – небольшой, штамповали пластмассовые стулья и столы, а недавно из той же пластмассы начали на паях с несуществующей – это в Управлении точно знали, что с несуществующей – на паях с несуществующей французской фирмой «Сhaperon Rouge» духи выпускать под маркой «Chanel № 6», так на заводе, значит, работал Первый отдел в лице двоих сотрудников – начальника и секретарши; завод Овсянников тоже прикрывал. Отношения между начальником Первого отдела и его секретаршей в Управлении были известны. Истинные, а не номинальные владельцы завода, как и владельцы всех остальных очагов глухово-колпаковского капитализма, в Управлении тоже были известны. Остальное не требовало особой заботы – мебельная фабричка, такая же маленькая пищевая, выпускающая маргарин «Kолпаковский», отправляющийся весь прямиком в Питер – в области собственный маргарин не жрали, – обе музыкальные школы, драмтеатр и прочее в городе, а также и все сёла и деревни в окрестости – это интересовало Овсянникова не более, чем в рамках постоянной рутинной отчетности.
Кстати, по поводу духов. Что такое Сhaperon Rouge, нам доподлинно известно – Красная Шапочка. Также известно из многочисленных анекдотов, помимо сказки Перро, про ее, Красной Шапочки, поведение. А вот из какой субстанции на заводе пластических масс производили духи, известно только в УФСБ по Глухово-Колпаковской области. Кто подписывал бумаги от имени «Сhaperon Rouge», нам неизвестно. А им известно. Ну, вот, жизнь так устроена, дорогие мои. Будем считать, что это весь глухово-колпаковский народ учредил «Красную Шапочку».
Сейчас полковник, нисколько не вспоминая про замечательную косметическую инициативу населения, еще раз покрутил перед собою пальцами. Нечто неприятное он почувствовал сейчас. Профессиональная интуиция подсказывала: ждать беды. Он даже нахмурился, каковой мимики обычно не позволял себе. Беда сейчас полковнику вовсе – можете Вы себе представить? – оказалась бы ненужной, поскольку со дня на день на самый верх должно было уйти на него представление – к генеральскому званию.
Был Овсянников приятного вида, несколько полным для своего возраста блондином с круглым, обычно улыбчивым лицом. Вам даже можем мы сообщить, что очень был Овсянников похож на актера Михаила Жарова – помните вы такого? – в лучшие его, Жарова, молодые годы.
Вместе с гостями, конечно же, прибыли, как положено, и гласные, и негласные сотрудники Центрального Управления, и то же гласное и негласное сопровождение прибывших входили в само собою разумеющиеся, предусмотренные инструкцией обязанности Овсянникова, но это вот, дорогие мои, несколько необычное, из стандартного ряда вон указание об особом чекистском обслуживании гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии Маккорнейла Майкла Тристрама Уильяма 1959 г. р., указание, которого вполне можно было бы не давать, но которое было отдано знающему свое дело молодому и перспективному главе областного Управления – указание о чем-то несомненно свидетельствовало. О чем?
Овсянников нажал нужную кнопку на многоканальном телефоне-селекторе и сообщил, что он, Овсянников, немедленно отправляется на встречу с агентом Пирожковым. Это был глубоко законспирированный, никому не известный, кроме самого Овсянникова, личный агент. Таковыми обладать по инструкции было необходимо, вот Овсянников и завел себе. В Управлении знали только кличку агента, а номер телефонной его симки оставался неизвестным тоже. Вот так вот, а вы как думали, дорогие мои? Ловить шпионов, так ловить.
– «Жигуля» к задним воротам, – приказал еще полковник в селектор. – Без водителя.
– Есть.
– Вечером что, Сережа, дождь обещали? – еще спросил Овсянников у селектора.
– Никак нет, Вадим Петрович, дождя не обещали. Вёдро, – отвечал селектор.
– Добро.
Овсянников, хрустя суставами, потянулся в кресле, потом открыл дверцу в столе, вытащил плоскую белую коробочку, достал из нее робмовидную голубого цвета таблетку, бросил в рот, запил водой из графина. Тем временем все в Управлении уже забегали, как намыленные: чтобы Начальник вызывал «жигуль» и сам собирался садиться за руль – такое наблюдалось тут чрезвычайно редко. Ну, чрезвычайно редко. Мы можем вам совершенно точно сообщить, что – никогда. Никогда прежде не садился Овсянников сам за руль! Потому что не царское это дело, дорогие мои – сидеть за рулем «жигуля». Так что эксклюзивость события и, главное, еще предстоящих событий прочувствована была полковником и всеми его подчиненными сразу и бесповоротно.
Еще немного подумавши, полковник вызвал дежурного. Тот через полминуты встал в дверях.
– Разрешите, товарищ полковник?.. Дежурный по Управлению капитан Ежов по вашему приказанию прибыл.
Кстати тут вам сказать, дорогие мои, мы не виноваты, что капитан носил такую прославленную в органах фамилию, он ее честно получил от отца с матерью, к наркому сталинскому Ежову не имеющих никакого отношения. И никто и никогда из коллег Ежову об однофамильце его не напоминал и почти не спрашивал, хотя все коллеги, разумеется, изучали в Училище историю ФСБ как образовательный предмет и фамилию эту знали. Да-с, не спрашивали, потому что в личном деле капитана Виктора Дмитриевича Ежова имелась краткая запись: «С Народным Комиссаром Bнутренних Дел СССР (1936–1938) товарищем Ежовым Николаем Ивановичем Ежов В. Д. в родственных связях не состоял и не состоит». Такая вот имелась странная формулировочка – «не состоял и не состоит». Это вот нам известно, дорогие мои.
Ежов вошел, козырнул – а дежурные, чтоб вы знали, во всех российских воинских частях и военизированных формированиях даже в помещениях ходят в головных уборах, в сапогах и в портупее с кобурой на ней и со снаряженным пистолетом в оной кобуре, да-с, в фуражке ходят и, следовательно, полные имеют возможность, право и обязанность козырять – козырнул, доложился по установленной форме, и Овсянников, посмотревши на Ежова, как всегда, сразу вспомнил, что тот не состоял и не состоит.
– Гм… Вот что, Ежов… Немедленно всему Управлению – готовность номер два.
На лице вошедшего капитана отобразилось мгновенное смятение: готовность номер два означала, что он, Витя Ежов, не сможет сегодня в двенадцать ноль-ноль смениться с суточного дежурства, а должен будет оставаться в конторе хрен знает сколько времени, пока у начальства не пройдет блажь к военным учениям. У Виктора были планы на сегодняшний вечер, мы вам можем, не нарушая государственной тайны, сказать, что вечером капитан Ежов, отоспавшись после дежурства, собирался наконец-то трахнуть воспитательницу детского сада Наташу Калиткину, которая уж месяца два ему не давала – представляете! Два месяца! И он терпел! Мы, например, к вполне определенной матери послали бы тетку, которая нам не дала бы через два дня после знакомства и давно бы перестали перед нею прыгать зайчиком, а Ежов нет! Нравилась ему Наташа, и очень он хотел ее трахнуть! Влюблен был капитан Ежов. А тут позавчера умничка Наташа сказала, что пригласит вечером Виктора к себе домой, в свою комнату в коммуналке, если тот пообещает потом жениться и на самом деле действительно женится и станет относиться к ее двухлетнему сыну как родной отец, и Виктор тут же, не обинуясь, пообещал и жениться, и относиться, да-с! Были, значит, были у капитана Ежова планы. Однако он немедленно, получивши вводную от начальника, взял себя в руки, придав нужное выражение глазам, щекам, губам, бровям, лбу и подбородку. И, наверное, даже волосам.
– Есть!
Полковник наклонился вновь к селектору, нажал на кнопочку и внятно произнес:
– Я полковник Овсянников. Готовность номер два… Повторяю: готовность номер два… – Отключившись от системы связи, Овсянников отнесся вновь к капитану: – Контрольно оповестить. Всем внештатным и прикрепленным – тоже готовность номер два. Оповестить. Перед встречей с агентом и после встречи я буду на связи.
– Есть!
А готовность номер два, дорогие мои, означает, что каждый, хоть отпускной, хоть выходной, должен находиться на своем рабочем месте, на службе, действительно в готовности – в готовности немедленно сделать все, что прикажут. На рабочем, значит, месте, чтобы каждого не искали хрен знает где, на бабе какой-нибудь или в кабаке. Или на рыбалку, скажем, кому в голову войдет поехать, или, страшно вымолвить, в театр. Или, вероятнее всего, на дачу – лето же.
– Есть!
Что-то в начальнике показалось сейчас капитану Виктору Ежову странным, потому что капитан тоже, как и Овсянников, был профессионалом.
– Слушаюсь. Есть!
Есть… Есть… Есть… Есть… Есть…
Так с этого проклятого утра и пошло. И пошло, и поехало.
… В то утро внештатный сотрудник областного УФСБ в селе Кутье-Борисово Валентин Борисов, – в Кутье-Борисово, кстати тут сказать, большинство жителей носило фамилию Борисов, вот какую добрую память о себе оставил князь Борис Глебович, – внештатный сотрудник Валентин Борисов утром забыл напоить козу. Да и не только напоить, но и даже выпустить ее на траву перед домом. И совершенно напрасно, потому что парное козье молоко, прописанное Валентину медициною, было ему край, как необходимо – у Валентина, а исполнилось ему к изображаемому нами утру целых двадцать четыре годка с небольшим, – у Валентина уже давным-давно диагностировали хронический туберкулез – профессиональную болезнь русских писателей, художников и революционеров. Ну, и уголовников, конечно. Валентин, еще когда мать была жива и следила за этим, потрезву регулярно ходил в областной тубдиспансер обследоваться и ставить уколы. Но была и еще одна причина не забыть про Машку.
Однако то, что Валентин все-таки про нее забыл, не мудрено: вчера по случаю наступления пятницы Валентин сильно расслабился, как говорится, позволил себе – впрочем, как всегда, почти как каждый Божий день, да, расслабился и нынче проснулся – с трудом – в бессознательном состоянии, ощущая собственное тело как одно большое и очень-очень тяжелое бревно; в груди привычно саднило, башка разламывалась. Только лишь больной хроник, пробудившись, с трудом прокашлялся, отхаркался розовой мокротой в тряпочку и разлепил пальцами веки, как тут и раздалось из мобильника: – «Комбат, батяня, батяня-комбат…», – Валентин уважал старую группу «Любэ», – раздался, значит, звонок. Борисов не обратил внимания на то странное обстоятельство, что телефон – звонит! Звонит, хотя провайдеру не плачено полгода, не меньше, да и не заряжался телефон тоже очень, очень давно. Не попадая руками, Валентин нащупал возле себя ручку комода, потянул на себя ящичек и вытащил после некоторой борьбы с ним маленькую с разбитым стеклом мобилу, просипел:
– Сссс… лушшш… а… ю… а… я…
– Товарищ Борисов, – сказал голос в трубке. – На сегодня объявлена готовность номер два. Это означает, что вам надлежит немедленно…
Голос не успел договорить.
– Пп… шел нанана… на хрен, – уже вполне осмысленно сказал Валентин и отключился. И телефон выключил, бросил обратно в комод. Это мать ему сразу, как он откинулся, то есть – освободился из мест, подарила телефон. Валентин им не пользовался, на хрен ему телефон, кому звонить-то?
Ссучился, то есть, внештатным Валентин стал еще на зоне в Пермском крае – летом там комары-ы-ы… А зимою там холод на-а-а-а… Кусать хоца-а-а-а… Домой хоцааааа!.. Попал по глупости, по молодости – за элементарную пьяную драку с одноклассником и, разумеется, однофамильцем Серегой Борисовым; все бы ничо, да Валентин пырнул Серегу ножом – спасибки, тот выжил, и вообще рана пустяковой оказалась. На суде оба никак не могли припомнить, из-за чего возникла разборка; Валентин получил три года, отсидел меньше двух – Валентина, что называется, сактировали, то есть, официально он вышел по, так сказать, состоянию здоровья – по медицинскому акту, свидетельствующему, что у з/к Борисова В. Н. последняя стадия туберкулеза. Это была плата за правильное поведение, потому что на их зоне туберкулез был у каждого второго, и никто этого каждого второго не собирался выпускать – кашляли кровью и умирали все, как и судьба велела, тут же, на казенной койке в коридоре лазарета. А Валентина выпустили.
Участковый в Кутье-Борисово никак Валентину не напомнил об обстоятельствах пребывания его на зоне, но зато вскорости хмуро познакомил с городского вида молодым мужиком в сером полосатеньком костюмчике, который с ходу сунул Валентину на подпись некую бумагу. Куда деваться – Валентин подписал. На зоне подписал и дома подписал. Зачем такой сотрудник нужен был УФСБ – загадка, но чекистам всегда виднее, все им всегда, завсегда все им, родимым, виднее всего. Мужик этот до сегодняшнего дня никогда не звонил, но иногда встречался Валентину на дороге в поле и, улыбаясь, расспрашивал об односельчанах, только и всего. А сейчас, значит, позвонил. Мы с вами, дорогие мои, приглядевшись, сразу бы узнали в носившем полосатые костюмчики мужике капитана Ежова, сейчас столь неудачно осуществившим свое руководящее право над собственным осведомителем.
Пославши, значит, городского куратора, Валентин поднялся на дрожащих ногах и вышел из жилища. Жил он теперь один. Мать умерла в прошлом году, отца Валентин никогда не знал, а своей собственной бабой он до сих пор, до двадцати четырех годков, пока не обзавелся. Так, обходился редкими шлюхами, а чаще своими силами. Да, и, честно мы вам тут скажем, дорогие мои, не очень-то часто Валентину и хотелось. Увы. Но иногда да, иногда надо было.
Когда-то все их путёвые деревенские ребята, дембельнувшись, обязательно должны были жениться, но сейчас в Кутье-Борисово девчонок почти не осталось – все подались если не в Москву и в Питер, то в область точно, в самый Глухово-Колпаков, так что речь не только об женитьбе – просто всунуть кому-нито Валентину удавалось чрезвычайно редко. Поэтому отношения с Машкой – из песни слова не выкинешь – представляли для В. Н. Борисова определенную ценность и важность, и лучше было бы Машку ему напоить. Из-за таких вот пустяков государства рушились, одно неправильное действие, как всем известно, вызывает следующее неправильное, а далее везде. Но этот вот наш Борисов, за которым мы с вами, дорогие мои, вместе сейчас наблюдаем, был лишен умения выстраивать логические связи.
На улице солнце ударило Валентину прямо в глаза, даже слезы высекло; Валентин зажмурился и прямо с крыльца, ничего не видя, с барабанным стуком пустил на сухую землю брызгающую струю. Потом неуверенно пошел вперед, шаря перед собой по воздуху руками, и тут же сильно ударился и руками, и головой обо что-то твердое.
– Блллиннн! – привычно сказал Валентин.
Машка заорала в сарае: – Мэээээ… Мэээээ…
– Молчи, сука, – осмысленно произнес Валентин. – Молчи, сука. Урою!
Машка, однако, продолжала орать как заведенная:
– Мээээ… Мээээ… Мээээ…
Видимо, полученный несчастным удар по голове пошел во благо, воздействовав именно на нужные нервные окончания, потому что Борисов уже почти полностью начал открывать глаза. Более того – вместе с осязанием у него прорезалось и обоняние. Валентин осознал, что стоит перед тракторным прицепом, полным навоза, и навоз этот ужасно, но, однако, вполне привычно и вполне переносимо воняет. Валентин посилился вспомнить, как прицеп оказался у него на дворе, и – не вспомнил. Тогда он, морщась от боли в голове, заглянул за прицеп – тот оказался присоединен к его собственному трактору, свой трактор Борисов узнал: ну, не узнать свой прибор механик не может, в какой бы стадии пития ни находился.
Заглянувши и далее – уже за трактор, Валентин обнаружил совершенно раздолбанные и частично упавшие ворота, и понял, что вчера какой-то козел въехал на его тракторе на его же собственный двор с полным прицепом говна, расхреначив ворота. Тут Валентин выдал длинную фразу, состоящую, конечно, просто из слов, ничего особенного, но мы эту фразу передать вам, дорогие мои, не беремся, несмотря на – как мы, помнится, уже вам сообщали – несмотря на чудовищное самомнение по поводу нашего умения передавать и эти, и всякие другие слова письменной речью.
А Валентин безотчетно, как лунатик, забрался на сиденье, завел прибор – из трубы выплеснулся сизый дымок, тракторишко вздрогнул, словно бы от удара под задницу, и сипло запыхтел, Валентин от родного его пыхтения совсем приободрился, сунул руку себе за спину, в валяющийся под сиденьем черный ватник, пошарил там, вытянул из-под ватника заткнутую пробкой бутылку, наполовину заполненную неизвестной нам темно-коричневой жидкостью, в которой плавали какие-то странные, похожие на стружки включения, мгновенно высосал всю эту жидкость вместе со стружками, удовлетворенно выбросил пустую посуду в открытую дверцу, дернул рычаги и поехал с распространяющим аромат прицепом куда глаза глядят.
В это самое время Овсянников уже переоделся – на службе с утра он находился, а мы об этом забыли вам сообщить; находился oн в итальянском светло-песочном костюме по летней-то поре, в голубой рубашке без галстука, в коричневых блестящих рэйкеровских полуботинках, а сейчас оказался в потертых отечественных джинсах неопределяемого цвета, в матерчатых отечественных же кроссовках и клетчатой серой ковбойке. Пока доселе отсутствовавшие сотрудники полковника спешно прибывали в Управление – а стояла-то суббота! – Овсянников спустился со своего второго этажа вниз и вышел на задний двор. Там перед глухими железными воротами уже припарковалась довольно грязная, специально немытая синяя жигулевская «шестерка» – отдельский транспорт для работы под прикрытием. Ежов, вышедший следом, кивнул прапорщику, сидящему в домике КП, ворота начали раъезжаться. Овсянников бросил дежурному только три слова – «Неотлучно на связи», услышал «Есть!», неожиданно легко для своей комплекции прыгнул за руль и выехал в город.
Голубович в это время уже сидел с гостями в «Капитане Флинте»; у Ивана Сергеевича имелись разве что два мобильника и смартфон, какой-либо правительственный спутниковый телефон у губернатора вопреки упорным городским слухам, отсутствовал, а вот у Овсянникова даже в клоунской «шестерке» время от времени раздавалось шипение – поскольку он, Овсянников, ехал сейчас в одиночестве, рация стояла на громкой связи, и один из таинственных голосов, о которых мы уже упоминали, дорогие мои, – один из этих таинственных глухово-колпаковских голосов звучал в машине:
– В аверну все пошли, товарищ первый… Губернатор, кажется, что-то истерит… Никого не подпускают, ближе пока не подойти… Пельмени подают… Кто-то еще заходит… О! – в голосе прозучало удивление. – Это учитель Коровин, товарищ первый! Я его знаю, дочку английскому учит, – тут интонации одного из таинственных глухово-колпаковских голосов неожиданно потеплели, – так точно, он и есть…
Тут мы должны признаться в некотором невладении материалом, дорогие мои. Дело в том, что узнанный таинственным голосом учитель Коровин, как мы вам уже ранее сообщали, являлся завзятым глухово-колпаковским краеведом, входил в сношение с иностранной организацией ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже – пусть и в безответное сношение, но ведь входил! А также вместе с находящимся в разработке экологом Дыниным открыто выступал против ликвидации городского кладбища и строительства на его месте развлекательного центра, то есть, против официального решения властей и, воля ваша, никак не мог не поступить в такую же разработку к нашему полковнику. Работа есть работа. И тот факт, что теперь вот Коровин зачем-то тусуется с приехавшими иностранцами, так же не мог не насторожить службу Овсянникова. А признаёмся сейчас мы в том, что сами не можем понять, почему таинственный голос, наверняка видевший разрабатываемого со стороны уже не один раз, сейчас признал его не сразу и не профессионально. Понять мы этого не можем, но можем предположить, что наш Глухово-Колпаков такой удивительный город, в котором таинственных голосов великое множество, а не пять и даже не шесть, как мы вам ранее говорили, и каждый из голосов вещает на собственную тему, словно бы настроившись на одну-единственную волну. Так что голос мог сразу Коровина и не признать. Эту нашу догадку косвенно подтвердил и Овсянников, поднесший к уголку рта рацию и раздраженно проговоривший:
– А что Коровин там делает? Это они его пригласили?
На что немедленно получил ответ – как раз от другого таинственного голоса!
– Я четвертый. Это секретарь губернаторский его пригласил, товарищ первый. Их губернаторский толмач с радикулитом лежит, а толмачиха в отпуске, уехала в Сочи.
– Каз-зел! – сказал Овсянников неизвестно про кого, мы подозреваем, что про Ивана нашего Сергеича. – Сам козел и пустил козла в огород… У этих же есть своя переводчица… Ладно, добро, – довольно непоследовательно заключил полковник и приказал: – Работаем пристально.
Овсянников выключил рацию и припарковался метров за сто от таверны, внимательно разглядывая гостей. Под его ладонью, вроде бы случайно прикрывающей глаза, сам собою оказался маленький, похожий на театральный, но на самом деле двенадцатисильный бинокль. Так полковник просидел недолго, минут десять, составляя для самого себя первое впечатление и словесные портреты действующих лиц. Еще он, разумеется, проконтролировал наличие в нужных местах собственных сотрудников – все оказалось в порядке, а сотрудники для себя отметили, что шеф лично контролирует происходящее. Еще полковника интересовало, присутствуют ли на встрече журналисты. Таковых, к его удовольствию, не оказалось, и он уехал раньше, чем все вдруг поднялись и отправились на кладбище. О кладбищенском вояже губернатора и его гостей Овсянников, вновь включивший рацию, конечно же, немедленно был извещен, а мы уж не станем вас утомлять прямой, если так можно выразиться в нашем случае, речью нескольких таинственных глухово-колпаковских голосов, рассказывающих о событиях. Через некоторое время всем этим голосам предстояло произнести: «Бурят», что в нашей правдивой истории гораздо важнее. Но и о кладбище тоже мы вам еще расскажем, дорогие мои. Не сомневайтесь.
Да, так, значит, начальник Управления проехал по улице Тухачевского, еще не зная, что вечером именно отсюда таинственные голоса вновь начнут вещать, завернул за угол дома, в котором как раз и помещался «Глухой колпак» и тихонько вновь припарковался – теперь в обычном дворе недалеко от мусорных баков, вылез, пикнул сигнализацией, вошел в грязный подъезд, поднялся пешком на третий этаж, открыл своим ключом простую деревянную дверь, вошел в неизвестную покамест нам квартиру – то ли конспиративную квартиру Глухово-Колпаковского УФСБ, то ли просто в обычную городскую квартиру – вошел, значит, прикрыл дверь, повернул ключ в замке, сам, добродушнейшее улыбаясь, повернулся от двери и тут же оказался в объятьях совершенно голой молодой и красивой женщины. Это как раз и был агент Пирожков. Вот что нам совершенно точно известно. А почему у красотки-сексотки такое, мы извиняемся, агентурное имя, это вы, дорогие мои, скоро сами догадаетесь. Как видите, агент Пирожков – женщина. И более того: нам известно и то, кто эта женщина. Мы вас, дорогие мои, долго разводить не станем, а сразу скажем, что повисла на Овсянникове сама заведующая производством закрытой губернаторской столовой Ирина Иванова-Петрова, в настоящее время, то есть, во время всех изображаемых нами событий, – единственная постоянная из всех нынешних губернаторских любовниц, отвечающая в губернаторском офисе, в частности, и за изготовление пирожков с самою разнообразной начинкой. Хобби у Ирины такое было – пирожки.
Завтра же в число постоянных любовниц Голубовича войдет, ворвется переводчица Хелен, но это будет завтра.
… Однако упоминание о завтрашнем дне позволяет нам немедленно к нему перейти, ко дню, когда Ванечке нашему позвонили в его авто, стоящее на «пупке», и Ванечка, выслушав один из таинственных глухово-колпаковских голосов, изменился в лице. Но прежде мы должны еще пару слов сказать о дне вчерашнем, о дне появления английских гостей в маленьком русском городке, и не столько о самом том несчастном дне, сколько о благостном и благодатном его завершении.
Дело в том, дорогие мои, что все основные персонажи – и старые, и новые, с такой любовью изображаемые в нашей правдивой истории, еще не предполагая, в какие переплеты попадут, этот первый день закончили примерно одинаково – решительно ни о чем не беспокоясь, в постели с любезными им женщинами. Ну, бывает же! Голубович, как вы уже знаете, оприходовал переводчицу Хелен, упертый краевед Коровин лишил, уж признаемся, лишил невинности Пэт Маккорнейл, чего сам господин Маккорнейл сделать, значит, не удосужился, капитан Ежов, сдавший все-таки дежурство по Отделу, а вместе с дежурством – пистолет «макаров» с кобурою в оружейную комнату сдавший и передавший красную повязку на левый рукав заступающему дежурному, капитан Ежов, все это, значит, наконец-то сдавший и получивший указание – несмотря на положенные ему после дежурства полсуток отпуска – выдвинуться в город, немедленно в город и выдвинулся – тоже в неприметном штатском прикиде – и воспитательницу Наташу чрезвычайно жестко отодрал, правда, тут с девичьей невинностью все оказалось, как вы понимаете, дорогие мои, уже решено до него – Hаташин сын мирно посапывал в кроватке, но не каждый же раз такое несчастье, как невинность, случается, уж извините нас. Маккорнейл и его инженеры спали непробудно в гостинице каждый в одиночестве в своем номере, а вот сотрудник Денис и голубовичевский секретарь Максим, уже успевшие подружиться, в два смычка очень успешно сыграли с Катериной из «Грозы», потерявшей, как известно, возлюбленного и бросившейся в Волгу рядом с блюдом осетрины. А полковник Овсянников, весь день руководивший дневной операцией дистанционно, и доклад о сдаче и принятии дежурства тоже принявший дистанционно, незримо для подчиненных, полковник, находясь под воздействием проглоченной еще в своем кабинете таблетки, обработал гражданку Иванову-Петрову тоже весьма качественно, никак не хуже Ваньки нашего, о чем ему Иванова-Петрова с удовольствием и доложила.
– Даже лучше, – добавила она, несколько тут преувеличивая, но полковник, прекрасно видя женское лукавство, оценкою его трудов все равно остался доволен, будучи осведомлен о выдающихся сексуальных способностях губернатора. Сейчас он, позвонив домой и сказавши, что задерживается на работе, спал в обнимку с Ириною, тихонько посапывая, как ребенок. Умилитесь этой прекрасной картине, дорогие мои. А готовность номер два Овсянников, разумеется, на всякий случай не отменил – лишь позвонил жене и сообщил, что в Управлении много работы.
И только тракторист Валентин Борисов не смог нынешним вечером употребить Машку. Такая вот беда.
Весь день Борисов бессмысленно колесил по округе, и даже мимо Борисовой письки проезжал, и его видели все на письке присутствовавшие и смогли насладиться провозимым мимо них ароматом – видели, но не придали сему никакого значения. И напрасно. Борисов проезжал мимо как провозвестник будущих событий, так что прицеп с говном явился неким символом, не увиденным и не понятым нашими героями. Жаль, что тут можно сказать.
Борисов весь день катался, проветривался, но, к сожалению, так и не протрезвел. Куда едет он, ему самому известно не было. Правда, в двух случаях отключенный мозг сработал автоматически: сначала Борисов заехал на совхозную нефтебазу залить соляры, причем ни на какие вопросы там, на нефтебазе, он не отвечал, а только протянул кому-то талон на пятьдесят литров и поставил дрожащей рукой закорючку в поднесенном ему журнале заправки, а потом отправился в соседнюю с Кутье-Борисово деревню Вербиловку, получившую название свое в незапямятные времена из-за неистощимых – еще при князе Борисе Глебовиче – зарослей вербы, которую перед Вербным воскресеньем ломала вся округа, а верба все не кончалась и не кончалась, а только гуще росла; да-с, заехал, значит, Борисов в Вербиловку, но отнюдь не за вербой. Подъехав к известному ему и не только ему вербиловскому дому, Борисов, не выключив двигатель, зашел в дом и вскоре вышел аж с четырьмя бутылками коричневой жидкости со стружками, как две капли – чуть мы не написали «воды» – как две капли низкосортного нефильтрованного самогона похожими на ту бутыль, что допил он утром. Производство, судя по серийности продукции, налажено было отменно. Придерживаясь правдивости нашего повествования, вынуждены мы сообщить, что тут, в Вербиловке, Борисов уже был должен целых триста рублей, а теперь остался должен уже семьсот. И сказано ему было, что более в долг отпускать ему не станут. Отчего Валентин, хоть и находился в полном отупении, на несколько мгновений погрузился в глубокую печаль. И действительно, печально это, дорогие мои, быть должным. Вот мы, например, никому не должны. И нам никто не должен, потому что мы в долг никому никогда ничего не даем. Но это так, кстати, это в сторону.
Одну бутыль Борисов выдул тут же, опершись свободным локтем на огромное заднее крыло трактора, а три, забравшись на сиденье, положил опять-таки под ватник. И далее поехал себе озонировать пространство. Вскорости на совершенно пустой дороге показалась стоящая у обочины черная «Bолга» и возле нее человек с поднятой рукою. И вновь отключенный мозг сработал – Валентин остановился. Заглохшую легковушку, по всей вероятности, следовало куда-то оттаранить, он, Борисов, многaжды из грязи автомобили вытаскивал, так что остатки сознания подсказали, что проблему этих семисот рублей щас он решит запросто, и, более того, сможет тут же вернуться в Вербиловку и затовариться уж на всю неделю и потом спокойно и с чистой совестью никому ничего не должного человека в свое удовольствие отдохнуть, и все станет путем. Увы, тут Валентина Борисова ждало большое разочарование.
Человек – это был, как вы понимаете, дорогие мои, счастливый после проведенной ночи с Наташею Виктор Ежов – человек подошел к открытой дверце трактора и, доброжелательно улыбаясь, произнес по-товарищески:
– Ты что, Борисов, опять на нары хочешь? Я тебя пристрою в момент. В городе проводится специальная операция, объявлена готовность номер два, а ты тут хрена валяешь?.. – он подождал ответа, но не дождался, потому что Валентин только смотрел на него и часто моргал. – Немедленно отправляйтесь к бывшему монастырю, гражданин Борисов, – перешел Ежов на «вы», – включите связь и ждите указаний. Понятно?
– Понн.. нят… но, – выговорил Борисов. – Он набрал полную грудь прекрасного, надо тут вам сказать, если бы не запах говна от прицепа, прекрасного Глухово-Колпаковского воздуха и четко сказал в добрые глаза капитана:
– Па-шел-на-хрен-блин. Понн… нял? Па-шел-на-хрен.
И поехал себе дальше кататься, время от времени прикладываясь к бутыли. Так что к вечеру Борисов, как почтовый голубь, точнехонько вернулся домой, но на этот раз не только не совсем правильно попав в ворота, а просто въехав к себе во двор сквозь забор. Забор, разумеется, с ужасным треском окончательно упал. Трактор Борисов выключил, и сразу настала тишина. Тут же последняя стоящая секция забора, видимо, до поры раздумывавшая, упасть ей тоже или нет, все-таки решила упасть; вновь раздался треск. И вновь настала тишина. Машка молчала в сарае, и Валентин про нее даже не вспомнил. Он, как и вчера, рухнул ничком на кровать и тут же заснул. Мы, честно сказать, не мастера разгадывать сны, а тем более знать чужие сновиденья, но в этом случае нам точно известно, что снились парню голые бабы с огромными дойками. Такой вот редкий сон.
Утром следующего дня, как раз в то время, когда Голубович отправился на пробежку, оставив Хелен лежать с выставленной на – чуть мы не написали «всеобщее обозрение» – с выставленной прямо под две камеры наблюдения замечательной своею попою – кстати мы тут вам доложим, дорогие мои, что про одну камеру Голубович знал, а про другую не знал, зато про другую камеру знал Овсянников и один из голубовичевских охранников, да-с, так, значит, как раз в то время, когда Голубович в своем олимпийском костюме бежал по дорожкам бывшей усадьбы князей Кушаковых-Телепневских, когда ранняя пташка Овсянников уже возвращался на «шестерке» в Управление – а любимая поговорка полковника была «поздняя птичка глаза продирает, а ранняя птичка носок прочищает», возвращался, отправив Иванову-Петрову в гостиницу будить господ Маккорнейлов, по долгу основной службы обеспечивать всю их компанию качественным продовольствием, любимыми своими пирожками и вообще всем необходимым и, сами понимаете, никак в течение дня от них не отставать, – утром следующего дня Валентин Борисов проснулся от смутно ощущаемого непривычного неудобства в штанах.
Валентин прокашлялся в простыню – крови сегодня в его мокроте оказалось больше, чем вчера, но он этого не увидел, потому что глаза опять не открывались, да Борисов и не пробовал их открыть, понимал – пустое занятие. Опустив руку в низ живота, Валентин на ощупь определил, что, во-первых, лежит он в штанах, и осознание возможности с утреца определить, в штанах он обретается или же без штанов, как бы вчуже удивило его, покольку далеко не всегда по утрам удавалось достигать столь высокой степени самопознания, а во-вторых, так же на ощупь Валентин определил, что елда у него стоит, как железный печной шкворень, и от этого ей, елде, тесно в штанах, а самому ему, Валентину Борисову, неудобно лежать ничком. Он перевернулся навзничь, несколько рассупонился и выставил свой детородный орган на сквознячок. Будучи довольно-таки приличного размера, сей Bалентинов орган несколько минут вертикально торчал над его распластанным телом, как Эйфелева башня над Парижем. Валентин все не открывал глаз. Возможно, именно поэтому про Париж он совершенно не подумал, но, естественно, вспомнил про Машку.
С матом, стонами и неясным бормотанием несчастный парень поднялся с пенисом наголо, вновь ощупью, привычно шаря перед собой руками, выбрался на крыльцо и, как всегда он делал, встречая новый Божий день, со звоном пустил на землю мощную, как из пожарного гидранта, грязно-желтую струю. Елда все не опускалась. Машка молчала. Валентин разлепил глаза, подошел к сараю, отодвинул щеколду и распахнул дверь.
Машка неподвижно лежала на боку, упершись рогами в земляной пол. Возле рогов на полу остались глубокие взрезанные полосы, словно бы коза, прежде, чем окончательно перестать шевелиться, билась рогами об пол. Так, можем мы вам сказать, дорогие мои, так и произошло на самом деле – животное умирало в муках. Старая была коза.
– Маха! Ххх… арэ, бл… блин, трен… деть, – еще не осознав случившегося, произнес Борисов. – Быссс… тро, пад… ла… вста… ла! Ну! Вста-ла, блин!
Коза не отвечала и не двигалась. И тут Валентин все понял. Дикий не то волчий, не то собачий вой раздался из сарая. Все собаки в деревне, все, как одна, тут же залились тоже. Вой в сарае вдруг оборвался, а собаки еще долго продолжали подвывать и тявкать, и отдаленные тут и там раздались человеческие голоса, прикрикивающие на собак; наконец, все стихло. Ну-с, что там в сарае происходило, мы, к сожалению, не знаем. Через некоторое время Борисов относительно твердой походкой вышел наружу, залез в трактор и так же, как и вчера – прямо по трещащим доскам поваленного забора – выехал со своим прицепом говна на дорогу, дал по газам и ходко двинулся в сторону шоссе. Хотите верьте, хотите – нет, дорогие мои, но это случилось почти в ту же минуту, когда Голубович выехал со своей охраной на стрелку на «пупке».
Через четверть часа губернатор уже жевал жвачку, как мы вам и рассказывали, поглядывая через открытое окошко «Aуди», Овсянников не в черном мундире ФСБ, а в оливково-зеленой полевой форме, в портупее и в кобуре на ней, где, честно уж вам признаемся, отсутствовал пистолет, потому что даже начальнику Управления пистолет следовало получать в оружейной комнате, а для этого самому себе писать приказ – без письменного приказа, по устному распоряжению оружие выдавалось только при режиме ЧП или по готовности номер один, а готовность номер один полковник объявить не мог по имеющимся признакам событий, за чрезмерность его бы не похвалили. Ну, в тот же день объявил, разумеется, и номер один, но это произошло позже. А пока он обживался в редко надеваемой «полевке»; в это время Хелен, сидя голою на кровати, поглощала голубовичевские запасы провизии, непрерывно пьющие газировку хмурые Майкл Маккорнейл и его инженеры за столом в гостиничном ресторане ждали, когда им подадут вареные яйца – в столь ранний час кухня еще не работала. Ирина Иванова-Петрова наводила порядок на ресторанной кухне, и наводила она его, признаемся вам, дорогие мои, довольно круто, разве что сковородами не лупила по головам, но репрессии обещала. Повара бегали. Пэт Маккорнейл еще оставалась в постели, неясная улыбка бродила по ее порозовевшему от сна лицу, а руки под одеялом теребили все набухающую и набухающую промежность. Голубовичевский секретарь Максим и сотрудник Денис еще крепко спали в обнимку с Катериной из «Грозы».
Если у кого-то из вас, дорогие мои, есть претензии или, может быть, замечания к поведению провинциальной актрисы, то прошу их адресовать не нам, а непосредственно великому русскому драматургу А. Н. Островскому. Это он во всем и виноват. Через полчаса произошло нечто, о чем мы вам незамедлительно поведаем, и уже через полчаса несчастная Катерина из «Грозы», с самого утреца выдув довольно значительное количество коньяку, вновь и в это утро, словно бы и накануне, то есть в пьесе этого А. Н. Островского, брошенная любовниками, одиноко стояла на остановке и ждала автобуса. Кстати тут вам сказать, Максим и Денис вовсе не оказались гадами, что не посадили ее в машину, просто работа есть работа, бабы – вечером, а работа – с утра, тем более, что с утра – случилось, ну, случилось! Беда случилась! Мы точно совершенно знаем, что каждый дал актрисе по тысяче – огромный по глухово-колпаковским меркам гонорар за ночку потрахаться, да еще она получила за спектакль тысячу! Итого три! Три тысячи за ночь! Если бы не утреннее событие, о котором мы вам немедленно и расскажем, Катерина могла бы считать себя вполне довольной. Увы, дорогие мои, это был ее последний в жизни гонорар.
Да, так Голубович, значит, изменился в лице, потому что один из таинственных голосов сказал ему прямо в ухо:
– Вчера, блин, эти английские козлы на Борисовой письке месторождение открыли, блин.
Вот тут наш Иван Сергеич в лице как раз и изменился.
– Нефть! – закричал ему в другое ухо внутренний голос. – Нефть?! Мать твоююююю!
– Нефть?! – помимо себя закричал и Голубович в трубку. – Нефть?!
О собственном в области месторождении нефти Голубовичу можно было только мечтать. К сожалению, на Глухово-Колпаковских просторах решительно все полезные ископаемые блистательно отсутствовали, разве что песок брали с берега Нянги, да и то не очень много, и песочек был так себе, окский котировался куда выше. Лес еще вывозили строевой, это да, но тоже не очень много, с Архангельском и Карелией, а тем более с Сибирью Глухово-Колпакову можно было не тягаться. А промышленность в Bанькиной области… Да что говорить! Самой маленькой и самой бедной губернией руководил Голубович, может быть, потому и сидел в кресле столько лет.
– Нефть?! Нефть?!
– Нет… – тут таинственный голос явно затруднился с ответом. Потом в трубке раздалось неожиданное хихиканье. – Нет… – тут таинственный голос назвал продукт, бьющий из пробуренного англичанами интимного места, словно оное место, потерявши невинность, отплатило теперь горячими своими соками полной мерой. – Ей-Богу, босс, зуб даю, – добавил голос. – Как из письки, действительно, льет, блин. Я сам, блин, попробовал. – Таинственный голос вновь несубординационно захихикал. – Она, блин. Она!
Голубович еще раз изменился в лице.
– Молчи! – закричал внутренний голос в ответ на сообщение голоса внешнего и таинственного. – Молчи! Молчать надо! Это капец! Капец! Полный капец!
– Молчи! – закричал в трубку Голубович. Потом перевел дыхание и тихо спросил: – Кто знает? Из наших кто знает? Блин! Блин! Блин!
– Да сегодня уже весь город будет знать, босс. Вы че? – таинственный голос вновь неудержимо захихикал. – Там вокруг, блин, народу столько топталось, хоть их жопой ешь. Все, блин, знают.
– Да, – тихонько сказал Голубович. Он отключился, положил смартфон в карман, минуту посидел неподвижно и вдруг сам, попервоначалу тоже лишь тихонько хихикнув пару раз, начал неудежимо хохотать. Шофер повернулся к шефу от руля, быстро взглянул и тут же вновь отвернулся. У Голубовича уже текли слезы из глаз, а он все не мог и не мог остановиться. Наконец хохот прекратился, словно бы враз выключился. Губернатор вновь бросил в рот жвачку и сухо распорядился:
– В офис. Быстро!
Губернаторский кортеж отчалил от обочины и помчался по шоссе. В это самое время случилось следующее: Хeлен привезли в гостиницу, она вошла в ресторан и, кривенько улыбаясь, заговорила с англичанами, те, сказавши лишь «Хэллоу», более ничего не отвечали. Только Иванова-Петрова, вышедшая в белом своем врачебном облачении – халате и шапочке – из ресторанной кухни, протянула Хелен руку, назвав свое имя:
– Ирина Иванова-Петрова. Буду помогать вам на протяжении всего визита.
И самым волшебным образом Иванова-Петрова, сунувши руку под стол, за которым сидели англичане, вытащила из-под него перевязанные скотчем несколько коробок, распространяющих запахи поразительной чудесности, непередаваемой замечательности, непревзойденной соблазнительности… хватит с вас? несколько вытащила коробок, добавивши к произнесенному имени своему только одно еще слово:
– Питание.
Как, каким образом Ирина наша доставила оное питание под гостиничный стол – загадка. Кто-то ей через площадь принес, по всему вероятию, гостиница-то располагалась как раз напротив Белого Дома.
И неожиданно для самой себя Хелен произнесла в ответ: – Алена Красина. – Тут она осеклась и сразу же торопливо поправилась: – Лучше Хелен. Хелен ван Клосс. Это фамилия мужа.
Мы вам сразу должны сообщить, дорогие мои, что был ли действительно у переводчицы муж – неизвестно. Нам неизвестно. И самое главное, для дальнейшего нашего правдивого повествования наличие или отсутствие у переводчицы мужа никакой роли не играет. Вот бывают такие женщины, что есть у них муж, нет ли – им и вообще никому не сильно важно. Кстати сказать, дорогие мои, как правило, муж у них есть. Числится. Но это в сторону, так, в сторону.
Главное, вот как Голубович наш переводчицу расслабил. Всяческий потеряла она контроль. Или волшебное явление коробок с питанием ненасытную переводчицу столь воодушевило, как знать.
Женщины, не разнимая рук, еще мгновение поулыбались друг другу, будто бы принадлежащие к тайной организации, знающие и друг о друге, и о мире нечто, недоступное знанию остальных людей. Да и то сказать – обе действительно были настоящими профессионалками своего дела.
– Вчера там, у монастыря, нашли в земле что-нибудь? – без обиняков спросила Иванова-Петрова у Хелен.
Вместо ответа Хелен неожиданно захохотала и отнеслась с короткою фразою к Маккорнейлу. Ирина ее, к сожалению, не поняла, а мы вам можем сообщить, что фраза была такая:
– It seems that this waitress has an order to follow you.[92]
– Yes, for God’s sake… – Маккорнейл пожал плечами. – And you… – он вновь пожал плечами, – I do not?[93]
Хелен продолжала беспечно щуриться.
– Of course. But for different hosts.[94]
Маккорнейл в третий раз пожал плечами. Хелен улыбнулась и старательной Ирине, и та поняла, что сейчас не дождется ответа. А через десять минут… Через десять минут случилось. Ситуация, как говорят в таких случаях, кардинально изменилась, дорогие мои.
Во-первых, принесли горячее – источающую жар и масляный запах сковороды свининy. Во-вторых, один из Маккорнейловых инженеров – Райан – увидевши на белой ресторанной скатерти тарелку со свининой, вдруг резко встал и произнес:
– I’ll bring.[95]
Не получивши ни от кого ответа, Райан выбрался из-за стола, и всем показалось, что немедленно, в ту же минуту, он за стол и вернулся, только теперь в его руках оказалась двухлитровая бутылка из-под кока-колы, под самый колпачок полная настолько прозрачной влаги, что выглядела пустой. Маккорнейл выхватил у Райна бутылку, вмиг свинтил крышечку – та покатилась по полу прочь, и показалось, что именно этот маленький серо-фиолетовый пластмассовый кругляш распространил по всему залу тонкий, но всепобеждающий спиртовой запашок.
Маккорнейл закинул голову и припал к бутыли, делая огромные лошадиные глотки; через мгновение пили и все трое его инженеров.
А в-третьих и в главных, внутри и вокруг ресторана, гостиницы, площади перед гостиницей «Глухово-Колпаков» и Белым Домом возникло информационное облако. И в центре его повисло слово «губернатор». Губернатор… Губернатор…
Хелен не успела транслировать новость англичанам. Маккорнейл откусил кусок бекона, мелко захихикал и сказал, прожевывая русскую сvинину:
– Well, sure, I do not care! Neither your nor our hosts could change anything… You have nothing at all in Russia to be changed any time…[96]
Признаться вам, дорогие мои, заморский гость оказался и прав, и неправ. Потому что почти в это самое время – ну, может, минут за десять… мы не знаем… Валентин Борисов, протарахтев мимо губернатора, быстро прокатил еще километра три вниз и остановился.
Вчера именно на этом месте его ждала «Bолга» с куратором, а Борисов отравленным своим сознанием четко полагал, что именно куратор этот виноват в смерти единственного его близкого существа – козы Машки. Почему Валентин вдруг так решил, мы вам сказать не беремся, в больную голову со здоровой головой не влезешь. Знаем только, что Валентин куратора решил завалить. Теперь он несколько мгновений провел неподвижно, стараясь понять, почему вдруг сегодня ни куратора, ни его «Bолги» нет на том месте, где он их оставил вчера. К какому выводу пришел Валентин, тоже мы, к сожалению, не знаем. Знаем только, что Валентин безотчетно оглянулся и увидел, как сверху, с «пупка», еще далеко-далеко летят черная «Aуди» и за нею черный же здоровенный джип. Борисов посмотрел вперед и увидел, как снизу, от Светлозыбальска, точно так же летят, как в зеркале отраженные, «Mерседес» и джип – тоже огромные и черные. Борисов издал радостный горловой вопль. Да! Несомненно, это были враги! Погубители Машки! И чуть не впервые в жизни у Борисова появился выбор. Впервые в жизни он мог сам выбирать! Выбирать, кого мочить. Двигаясь вниз, можно было бы развить более значительную скорость, чем при движении вверх, тем более, что легкий и, добавим мы, старый трактор «Белорусь» с тяжелым прицепом по приемистости весьма далек от «Aуди» и «Mерседеса» и приличную даже для себя скорость развивает не сразу. Но Валентин Борисов, дорогие мои, не владел логическим мышлением. Чуть не съехав в кювет, он развернулся на шоссе и двинулся, вдавив педаль, навстречу Голубовичу – сперва по своей правой стороне. «Ауди» превентивно просигналила и даже фарами мигнула, готовясь пролететь мимо тракторишки.
– Щас, блин, – злобно щерясь, пробормотал Борисов. – Ага, блин, щас.
Он резко вывернул руль влево. Если б Валентин не поторопился бы и промедлил еще долю секунды, Иван наш Сергеевич Голубович никуда бы не делся, родной. Но Валентин поспешил. Поэтому шофер Голубовича успел среагировать. Он в автоматическом режиме вывернул руль вправо, «Aуди» соскочила с обочины в темно-красное поле, полное валяющейся, тоже отдающей красным колером картофельной ботвы – картошку-то уж успели убрать и вывезти, – соскочила, значит, в поле, перевернулась через правый передний скат, еще несколько раз перевернулась и легла на крышу, как жук на спину; колеса у машины бешено продолжали крутиться. А вот джип не успел отвернуть. Трактор Борисова и джип голубовичевской охраны столкнулись лоб в лоб. У Валентина в «Белоруси», уж точно мы знаем, подушки безопасности отсутствовали, а в джипе подушки эти сработали безупречно, но толку-то. В те же доли секунды, в которые сработали подушки, в джипе от страшного удара – шел-то он километров двести в час, да плюс километров пятьдесят в час тракторного хода, получилось прилично – от страшного удара в джипе взорвался бензобак, и джип, и трактор одновременно вспыхнули, как китайские петарды. Прицеп же еще в момент резкого поворота отцепился и рухнул на бок, жидкое говно выплеснулось и бешено полилось вниз по дороге. Летящий снизу «Mерседес» резко затормозил, но попал передними колесами на полосу говна. Если бы вы в некотором отдалении наблюдали за происходящим в бинокль, дорогие мои, как это любят делать обладатели таинственных голосов да и сам полковник Овсянников Вадим Петрович, вы бы, возможно, успели увидеть, как колеса летящего снизу «Mерседеса» быстро поворачиваются туда-сюда в тщетной попытке избежать столкновения. В тщетной, повторяем мы, потому что попасть колесами на жидкое говно то же самое, что попасть на лед. Летящий снизу «Mерс» ударил прямо в центр огненного шара, раздался второй взрыв, «Mерседес» тоже мгновенно вспыхнул. Тут же в него ударил точно так же попавший на говно идущий следом джип аверьяновской охраны. Раздался третий взрыв. На шоссе заполыхал огонь неимоверной силы, словно бы маленькая-маленькая атомная бомбочка сработала тут сейчас. И через несколько мгновений, как будто дождавшись срабатывания реле времени, взорвалась лежащая на крыше «Aуди» Голубовича.
IV
Что уж сейчас-то, почти через сто пятьдесят лет после столь скрупулезно изложенных нами событий, пытаться оправдать или осудить Ивана Сергеевича Красина? Мы таковою прерогативой не обладаем – брать на себя вынесение вердикта. Мы готовы, как всегда в нашем правдивом повествовании, выступить в роли незваного адвоката. Ну, мы сами себя позвали. И любой автор, кстати тут сказать, даже в измысленном судебном процессе, ни в какой иной роли, кроме как в роли адвоката, выступать не может, ибо такова сама суть авторского ремесла. Если же вы, дорогие мои, однажды обнаружите, что автор выступает в качестве там свидетеля… тем более свидетеля обвинения… или, упаси Боже, в роли прокурора… в состязательном-то процессе… случаются у нас состязательные процессы с выслушиванием сторон?.. или не ровен час, в роли судьи выступит… если, говорим мы, однажды такая странность обнаружится, смело выносите сами свой вердикт – читательский, в том, что автор сей автором не является и являться не может по определению. Не может! Автор всех своих героев всегда оправдывает. Ну, это так, в сторону, да, в сторону.
Наша же адвокатская речь в настоящем повествовании сводится к обращению внимания вашего, господа присяжные, что все свершенное господином… впрочем, что это мы… свершенное товарищем члена Красиным Иваном Сергевичем совершено было во имя любви. А во имя любви, по нашему скромному разумению, можно сделать все, что угодно. Вот все, что угодно. Хоть зарезать.
А вы, может, подумали, что, говоря о свершенном, дескать, Красиным, мы имели в виду произошедшее с ним в деревне? Вроде бы, дескать, измену возлюбленной? Нет, не-ет, дорогие мои. Тем более, что с тою женщиной в Kатином платье не все так просто. А вот мы вам расскажем.
Вынеся князя Глеба из клиники Полубоярова на руках, Красин свистнул извозчика и, понимаючи, что в иную какую клинику старика везти невозможно, поскольку оттуда его немедленно же вернут в клинику прежнюю, Красин повез его к себе на квартиру, собираясь приватно вызвать туда знакомого врача. Глеб Глебович тяжело дышал, глаз не открывал, но, вне всякого сомнения, оставался жив. Из уголка его искривленного рта, как и из уголков обоих глаз, сочилась мутная влага.
И об заседании Главбюро, где, несомненно, ожидали его, Красина, возвращения – на минуточку он вышел-то – и вообще обо всем позабыл Красин и тем самым изменил ход истории российской – ну, разумеется, так, как она, история, здесь нами излагается. Вы не диссертацию читаете, дорогие мои, а роман! Да-с, не диссертацию! Нет, не диссертацию! Роман!
Когда Красин усаживал старика в пролетку, двое служителей подошли было, один даже успел произнести: «Это… господин… строго возбраняется…». И тут же и третий подошел от дверей, чрез которые только что прошел Красин с князем Глебом Глебовичем Кушаковым-Телепневским, артиллерии поручиком, на руках.
Вы уж наверняка ожидаете, что Красин наш со всеми этими троими обошелся чрезвычайно жестко… Но нет. Помните, мы вам говорили, что такие глаза в тот момент были у Красина, что никто не решился его остановить? Красин только взглянул, трое стражей тут же повернулись и молча отправились по местам своим. Вот только так и можно совершенно запросто выйти из сумасшедшего дома. Мало ли, вдруг вам, дорогие мои, когда понадобится?
У красинского парадного нервно прогуливалась туда-сюда женщина в сером летнем пальто и синей шляпке с черным пером. На цокот копыт она оглянулась, на струне находящийся Красин мельком взглянул ей в лицо, тут же помимо себя, помимо всех произошедших с ним событий, конечно, узнал, он же память-то еще не потерял, Красин-то наш, он хотя и находился сейчас на ооочень, значит, сильной струне, все равно оставался огурцом.
Это была нынешняя и, добавим мы, последняя альфредка красинского хозяина Визе, впустившая Красина к Визе в кабинет. Ну, что у Красина произошло с Визе, мы вам рассказывали.
Альфредка подскочила к пролетке, словно бы собиралась помогать Красину нести Глеба.
– Иван Сергеич!
– Будьте добры, достаньте у меня из кармана деньги, вот здесь, – поворачиваясь к ней боком, довольно неприятным тоном попросил Красин, но та не то, что помогала, а только вдруг пошла вся багровыми пятнами по лицу и молча стояла, как столб, сжимая сумочку.
– А! С вами со всеми! – совсем уж мерзким голосом произнес Красин, перехватил одною левой рукой почти невесомого старика, правую руку сунул в карман, вытащил горсть мелочи и высыпал в руку извозчика. Тот обомлел от этакой щедрости – инда от желтого ведь дома доставил господ! – и даже не нашел благодарственного слова, только поскорее, пока умалишенный бородач в сознательность не возвернулся, хлестнул по лошаденке и уехал.
Красин понес князя Глеба по лестнице, альфредка все так же молча потопала следом, ее каблуки издавали на ступенях цокот, какой издают лошадиные подковы. Красин оглянулся пару раз, но ничего не сказал.
В квартире Красин положил привезенного на софу в гостиной, прикрыл до подбородка пледом и отпер бюро.
– Я сейчас вам передам записку для врача и покорнейше прошу, – сказал Красин, заставляя себя быть прежним Красиным и говорить доброжелательно, как и пристало воспитанному человеку говорить с женщиной, с любой женщиной в любых, добавим мы, обстоятельствах, – покорнейше прошу записку эту немедленно же доставить, чем меня немало обяжете. Тут недалеко… э… – тут Красин на мгновение затруднился, потому что вот имени альфредки он не помнил, имен всех барышень не упомнишь даже при красинских мозгах, а возможно, и вовсе не знал. Не называть же Альфредкою!
– Елизавета! – торопливо произнесла она. – Лиза!
– Очень хорошо! Лиза! Вот. – Он подал записку и даже улыбнулся, отчего барышня немедленно же переступила ногами, как лошадь. – Лиза! – та вновь переступила. – Весьма обяжете! Выйдете из парадной налево, и повернете в первую же арку, а там, перешедши улицу, сразу увидите зеленый с двумя колоннами особняк. Доктор Бортяков. Запомните? Я адресата не написал… Вы запомните. Доктор Бортяков!.. Лиза?
– Иван… Сергеич… – она так же, как давеча в приемной, вылупила глаза и было повернулась, чтобы идти, но тут старик очнулся и слабо заворочался.
– Не… Не надо… Нне… нна… до…
– Чего не надо, Глеб Глебыч? – Красин наклонился над ним.
– Врача… Доктора не надо, – вполне осмысленно и четко произнес старик и открыл глаза. – Поздно мне доктора… Я сейчас умру.
Альфредка Елизавета ахнула.
Красин было открыл рот, чтобы произнести слова, которые добрые люди всегда говорят всем умирающим, но князь поднял упреждающе ладонь; рука его поверх пледа оставалась неподвижною, а ладонь двигалась – да, поднял ладонь: дескать, не надо пустых слов, а тем более напрасных действий.
– С кем имею честь? – твердо спросил лежащий, словно бы это не он только что говорил, что сейчас умрет.
– Инженер Красин Иван Сергевич, – доложился Красин, разве что каблуками не щелкнул. Он вновь, как очень редко бывало в его прежней жизни и почему-то очень часто – неспроста это, ох, неспроста! – стало происходить в жизни теперешней, в последние-то дни, он вновь, значит, затруднился, желая добавить что-то к этой ничего не значащей для стороннего человека аттестации, собрался было добавить самое, на его взгляд, верное: – Друг… то есть, жених… – И непреложное: – Муж вашей племянницы Катерины…
Но не сказал Красин про племянницу, к счастью. Или к несчастью, это как посмотреть. Возможно, будущее покажет, мы не знаем. Бог знает. И рекомендовался так:
– Строю мост через Нянгу возле села Кутье-Борисово. В ваших местах, ваше сиятельство… Строю мост!
Глаза Глеба вспыхнули, синие пронизывающие собеседника глаза всех Кушаковых-Телепневских вспыхнули, старик слабо улыбнулся и кивнул. И тут же перевел взгляд на женщину.
– Елизавета, – быстро произнесла она, суетливо кланяясь, как болванчик. – Елизавета!.. Елизавета!.. Елизавета!..
Тут Красин понял, что барышня кроме имен собственных ничего произносить не умеет, и доложил за нее:
– Елизавета – добрая знакомая промышленника Альфреда Визе, который финансирует строительство моста. Этого самого моста – у вас, в окрестностях Глухово-Колпакова.
– Дейнего! – заполошно добавила альфредка вдогон, польщенная данной ей аттестацией. – Дейнего! Елизавета Дейнего! Из хорошей семьи! – еще выпалила та, будто бы на содержание нанималась к умирающему.
Красин отстранил ее от старика. А тот вновь теперь неотрывно глядел на Красина.
– С того света… стану присматривать… молодой человек… Потому имею сообщить… имею сообщить сведения… А вы уж распорядитесь для блага России… Для блага России!.. – это он произнес с нажимом и, видимо, потратил из-за долгого говорения много сил, потому что вновь закрыл глаза.
– Я слушаю, ваше сиятельство.
– Там… На берегу Нянги… Возле села… Там имеет быть струя неистощимая… Месторожденная… Месторожденная струя, счастье народное… счастье всему народу составящая опричь государственных затрат… Месторожденная из глубин земли… Братец мой Борис… скрыл оную… Монастырь поставил над нею… – старик теперь словно бы обретал силы, говорил все громче и четче: – Монастырь поставил, ровно бы над святой водою… Богохульник! Оскорбил тем и Божью церковь, и всю Россию… Скрыл место земляного рождения от народа… Великий еретик суть князь Борис… Струя неистощимая, но отнюдь… отнюдь не святая… Братец мой… Великий богохульник суть… Великий развратник суть… Как и дочери-близняши его… Подкидыши…
Князь замолчал, опять закрывши глаза, и грешным делом Красин в тот миг подумал, что, может быть, старик заговаривается и все-таки не напрасно содержался он у Полубоярова.
– Меня тоже… скрыл, – неожиданно выговорил Кушаков-Телепневский с закрытыми глазами. И медленно, однако явственно усмехнулся, – в скорбном доме… А вы… вы… Я запомню… – он попытался поднять указательный палец, но теперь смог только чуть пошевелить всею кистью. – Там… Там… наверху… запомню… Присмотрю… там… Ежли что… с того света… прокляну… Иван Красин и Елизавета…
– Дейнего! – выпалила дама. – Но я не при деле, ваше сиятельство! Я женщина! Я не в ответе, если что!
– Хорошо… – тут князь открыл глаза, медленно взглянул на даму, и даже отблеск самого настоящего мужского интереса на мгновение – последний раз в жизни – вспыхнул в тусклых его, когда-то синих зрачках. – Женщина… не в ответе…
– Женщина! Женщина! – истерично крикнула та.
Красин вновь отстранил ее, но она теперь кричала из-за красинской руки, рвясь к старику: – Золото? Да? Золото? Говорите скорей!
– Ты уж не предавай, Ваня, – совершенно ясно проговорил старик. – Предавать никого не можно, коли уж обещался… Хоть бы… женщина… из-за женщины… Бог накажет…
Кушаков-Телепневский опять усмехнулся, склонил на бок голову, вновь желтая слюна побежала из уголка его рта, за секунды темнея и окрашивась сначала в алый, а потом в багровый цвет и превращаясь в совершенно бурую, чуть ли не черную нутряную кровь, и перестал дышать.
Красин наклонился к нему.
– Глеб Глебыч! Ваше сиятельство!
– Помер, – разочарованно произнесла альфредка. – Золото, наверное… – продолжила она задумчиво и как бы про себя. – Что ж еще может быть? Небось, золото…
Так вот горний, высший самый присмотр князя Глеба Глебовича не сказался, по всей вероятности, на барышне Елизавете. Но мы вам, дорогие мои, в самом скором времени непременно сообщим, как оный присмотр сказался на Красине. Уж это само собою.
А тогда Красин вместо того, чтобы развернуться и вмазать дуре пощечину, некоторое время, словно бы ничего не слыша, смотрел в светлеющее и твердеющее лицо князя Глеба, все более становящееся похожим на Kатино лицо.
Красин еще не успел решить, что ему теперь делать с телом. Надобно было, разумеется, усопшего князя Кушакова-Телепневского вывезти на родовое кладбище и похоронить рядом с братом, князем Борисом Глебовичем Кушаковым-Телепневским, Kатиным отцом, но как все такие вещи обустраивать, Красин, можете себе представить, совершенно не знал. Родители его умерли, когда он учился в Париже, приехать на похороны он успел в самый последний момент, чуть ли не к опусканию в могилы, все формальности и соответствующие обустройства проделаны были управляющим без него, он только подписал готовые бумаги. Так что пошлое замечание альфредки он, слава Богу, действительно не услышал.
Кстати тут сказать, пощечины женщинам, даже дурам, да каким угодно женщинам, мы решительно не одобряем, дорогие мои. Ни в каких случаях. Но Красин бы ее и не ударил все равно, да-с! Нечего тут было бы это для него придумывать в нашем правдивом повествовании. Красин все смотрел и смотрел на мертвое лицо князя и, по всей вероятности, в некоторой прострации находился сейчас.
– Иван Сергеевич, – тронула его за плечо честная Елизавета. – А ведь я пришла вас предупредить.
– Да? – равнодушно спросил Красин. – О чем?
– Да что!.. Некоторым образом… И попрощаться… Я уезжаю…
– Добрый путь…
– Он не понял.. Глупый… Попрощаться!
Тут серое пальто Елизаветы само собою, с застегнутыми пуговицами, упало ей на башмаки, прямо на затейливые металлические застежки. Стремление к правде заставляет нас свидетельствовать, что и руки из рукавов Елизавета предварительно не вынимала. Вот ведь как! Она переступила через пальто и, дрыгнув ногами, не менее чудесным образом башмаки свои, не расстегивая застежек, сбросила, шляпка тоже полетела в сторону.
– Ну, Ванечка, – надвинулась она на Красина торчащей под блузкою грудью, как тараном, – дальше сам. Я одна не справлюсь. Только не здесь, конечно. Не в этой комнате. Спальня у тебя там?
– Идите к черту, – еще не успев осознать оскорбления, так же равнодушно и устало ответил Красин.
– Что? – она мгновение помедлила и, сопя и роняя слезы, принялась одеваться, приговаривая: – Дурак… Ну, дурак… Что я, замуж к нему прошусь, что ли? Ванек!.. Ванек и есть!.. Не здесь же! Не при покойнике! Пошли бы в спальню!.. Дурррак! А покойника потом дворник бы зарыл!
– Подите вон! – тут Красин повернулся к ней уже решительно.
– Да ради Бога! – уже полностью засупонившаяся барышня пробежала к двери, цокая каблучками. От двери крикнула: – Только про деньги, Иван Сергеевич, все стало известно! Да! Кому надо, тому известно! Уж извините, так вышло! Дурак! Дуррак!
Хлопнула дверь.
Мы можем тут присовокупить, что Красин действительно оказался дураком. По поводу пощечин женщинам активнейше мы выступаем против, но вот Красину следовало бы тут же Елизавету Дейнего на лестнице догнать и там же на лестнице придушить. Это да. Чего он, разумеется, не сделал.
Поскольку Елизавета Дейнего более в нашем правдивом повествовании появляться не станет, хоть различные персонажи будут еще несколько раз ее упоминать – ведь добрая знакомая Альфреда Визе непосредственное и неожиданно, – признаемся, для нас самих неожиданно – весьма существенное влияние оказала на развитие излагаемых нами событий, а мы обещались рассказывать вам о судьбах всех хоть как-то значимых персонажей, так вот мы можем сообщить, что мамзель Дейнего благополучно уехала вместе с одним из незаконных – но вполне великовозрастных – детей Визе в Берлин – это несмотря на оказанное ею влияние на развитие, значит, событий и связанные с этим влиянием сношения с очень разными людьми – сношения отнюнь не любовные, а просто то были взаимовыгодные разговоры, да-с, только разговоры… Так она уехала, значит, в Берлин, потом из Берлина в город Амстердам, в каковом городе некоторое время подвизалась в одном из лучших голландских борделей Babylon[97], а уже в солидном для девицы возрасте, лет под тридцать, скопивши некоторый капитал, переехала в шотландский город Глазго, где открыла уже собственное дело, назвавши его New Babylon[98]. Да, и замуж успешно вышла она в Глазго за сквайра Тристрама Маккорнейла, что нам доподлинно известно. И New Babylon Eлизаветкин успешно функционировал много – не сказать – лет, много десятилетий, почти полтора столетия, и девочки в заведении всегда были свежие и из разных самых стран, что особенно ценилось завсегдатаями. И закрыт был городским советом «Новый Вавилон» только в наши уже дни, через много десятилетий после смерти Елизаветы. Такая вот вполне счастливая судьба.
И еще, кстати вам тут сказать, дорогие мои. Нынешние владельцы New Babylon оказались почему-то россиянами. Это нам доподлинно известно. Именно они вдруг решили в честь основательницы дела Елизаветы Маккорнейл, чей ХIХ века портрет в соблазнительном, открывающем взгляду решительно все прелести неглиже выставлен был в общем зале, именно они решили переименовать New Babylon в Сheerful Elizabeth[99] – это, значит, pr-ход такой был задуман. Ну, владельцы-россияне, как часто случается с россиянами за всяческими рубежами, просто забыли или не успели осознать, где находятся. А находились они вместе со всеми своими замечательными шлюхами в королевстве Виндзорской динасии, прежде, до Первой мировой войны, называвшейся Саксен-Кобург-Готской, являющейся одной из ветвей Эрнестинской линии от древней саксонской династии Веттингов. И совершенно случайно в тот год правила королевством, пусть и номинально, тезка миссис Маккорнейл. Потому переименование, состоявшись, на следующий же день закончилось, как и, к сожалению, бытование всего бизнеса. Ну, это мы так, в сторону, да-с, в сторону. Вернемся в XIX век.
Главное, что слова князя Глеба о близняшах-подкидышах Красин никак не мог сейчас пропустить в сознание. Он попытался подумать об услышанном и – не смог. Почему подкидыши? Считалось и известно было не только Красину, но всей Глухово-Колпаковской губернии, что супруга Бориса Глебовича княгиня Анна Ивановна Кушакова-Телепневская, умерла в восемнадцать лет, умерла родами Кати, умерла за границею, в швейцарском Цюрихе, где князь с нею и вступил в законный брак, и где и похоронил. Ни о каких Kатиных родственниках с материнской стороны Красин не слышал. Да и при характере князя Бориса Глебовича ни о каких родственниках речи бы не зашло. Князь привечал в имении только тех, кого сам пожелал приветить. Так что Красин взял и просто выбросил эти слова князя Глеба из головы. Да и места у него в голове, если честно вам сказать, дорогие мои, сейчас не оставалось – все свободные в голове номера заняла мысль о спасении Кати. Кати! Кати! Кати!
Выбросил из головы и – навечно. Не вспомнил и не вспоминал никогда. Так вот началось Божье наказание. На всю свою жизнь забыл. А иначе, мы полагаем, у него просто бы мозги закипели.
Теперь Красин все смотрел на мертвого старика, лежащего у него в гостиной, и даже несколько раз слегка руками разводил недоуменно, словно бы ожидая разъяснений от покойника. И тут одно лишь слово с запозданием расслышал он – «дворник». Нужды нет, что произнесла слово альфредка, слово казалось правильным, оно будто смоляным факелом осветило Красину затемнившееся было сознание. Дворник пусть сбегает в похоронное бюро, помещавшееся, Красин знал, в полyверсте отсюда, а также вызовет полицейского урядника и сходит к доктору Бортякову за медицинским заключением – по короткому размышлению Красин решил, что так вот сейчас необходимо поступить.
Красин прокашлялся, закрыл князя Глеба пледом с головою и подошел к окну.
За шторами висел шум. Красин выглянул, отодвинув штору, – под окнами двигалась бесконечная и бесформенная толпа, мелькали непокрытые головы, картузы фабричных, студенческие, солдатские шапки, и редкие – но все же были и они – котелки и платки на бабах. Река разномастных головных уборов текла мимо Красина, на миг показалось – под ними нет самих людей, только картузы, котелки, платки и шапки, начавши жить собственною жизнью, обрели теперь некую общую цель, побудившую их всех двигаться сейчас в согласном единонаправленном потоке; сверху, конечно, нельзя было рассмотреть лиц под шапками. Красин несколько мгновений неподвижно глядел вниз – пока со вздохом не придвинул обратно шторку.
Третьего дня – неужели только третьего дня?! – такие же толпы шли встречать Александра Ивановича, а нынче что? Что нынче? Он, Иван Сергеевич Красин, товарищ члена, ни о каких народных сегодня шествиях осведомлен не был.
Кривая Kатина улыбка почему-то исказила красинскую физиономию, и улыбка эта привела его, наконец, в чувство. Красин привычным жестом потрогал бородку. Решил – дворник, значит – дворник.
Быстро вышел на лестничную клетку – в туалетную комнату, там, все продолжая ухмыляться и брызгая себе на ноги, наскоро оправился, в единый миг переоделся – без жилета, воротничков и галстуха, лишь натянул прямо на рубашку сюртук и на голые ноги полосатые брюки, выскочил во двор и побежал к дворницкой, слушая отдаленный, слово бы звук ледохода на Неве, гул двигающейся толпы.
– Никифор! – приплясывая над ступеньками подвала, позвал Красин дворника – тщетно. – Никифор!..
Он спустился по лесенке вниз; вот теперь запоздалая нервная дрожь била Красина, словно ему зябко стало без жилета августовским днем. Спустился вниз, под самую дверь, заколотил в суриком крашеную облупившуюся сосновую доску под табличкою «ДВОРНИКЪ»; незапертая дверь подалась, запахло смрадом. Красин вошел.
Дворницкая оказалась пуста. С некоторым удивлением Красин, стоя посреди маленькой низкой комнатки, оглядывался по стенам. И тотчас же где-то вовне Красина – не то здесь, в дворницкой, не то на улице, не то, напротив, не вовне, а в нем самом – в ушах, потому что кровь, несомненно, прилила сейчас к голове, не то рядом возник поющий на одной ноте звук, словно бы тонкая струна, не переставая, звучала:
– Тиииииииммммммммммммммммммм!
И, значит, крайне неприятный, резкий и сладкий запах, никак не вязавшийся с виденным сейчас, послышался вместе с пением струны. Зловоние, а не запах.
Слушая пенье струны и ощущая зловоние, Красин сделал еще пару шагов и остановился. Здесь, в дворницкой, наблюдался совершеннейший порядок – будто бы не дворник Никифор, бывший матрос флотского экипажа, а скромная барышня, чуть ли не институтка жила в дворницкой красинского дома. Честная и опрятная бедность вместе с ужасным запахом просто била в нос, как и вся обстановка дворницкого жилища – чистыми, явно недавно мытыми половицами, низким шкафом в углу с положенною поверху кружевной салфеткой, маленьким черным комодом у стены, аккуратнейшее, без единой складочки застеленной кроватью с горкою подушек на ней, круглым столом со скатертью в шотландскую клетку и стульями с высокими, будто бы у трона, прямыми, забранными коленкором спинками. И тут Красин вздрогнул, увидевши, наконец; сразу бы должен был заметить. Вздрогнул; только что он удивлялся поющему звуку, а должен был сразу заметить, что, если бы не сказать – кто производит этот звук.
Посреди стола прямо на клеенке лежал револьвер. Несомненно, именно оружие, и на взгляд ощутимо тяжелое и холодное, но живое, недвижимо рождало звук. Ответная тонкая струна тут же запела в сердце Красина.
Это был только что, почти одновременно с винтовкою, введенный в русской армии американский «смит-вессон», а не «кольт», как у Харитона Борисова. Харитоновский «кольт», как вы сами понимаете, дорогие мои, теперь находился у Красина в бюро. Открывая бюро при альфредке, Красин наш весьма неосторожно, как выяснится очень скоро, весьма неосторожно дал увидеть «кольт» зашедшей попрощаться барышне, но сейчас, когда выбежал к дворнику, «кольт», разумеется, и не подумал захватить с собой. И вот оно вновь – оружие.
Точно такой же револьвер Красин видел у члена Главбюро капитана Васильева. Васильев хвастался, что машинка стреляет с ужасающей точностью и скоростью и что он, Васильев, берется из «смит-вессона» гасить свечи с пятидесяти шагов, и клялся, что это совершенно так и обстоит быть, как русский офицер.
Красин взял игрушку, взвесил в руке. Кривая Kатина улыбка вновь появилась у него на лице. То, что на столе у дворника лежал именно «смит-вессон», непреложно говорило о том, что оставил здесь револьвер человек не случайный, a имеющий отношение если и не к армии, то уж во всяком случае – к государственным институтам.
Откинув вращающийся на шарнире короткий ствол вверх, Красин обнажил барабан – прямо Красину в лицо уставились шесть капсюлей на патронных гильзах, словно бы глаза патронов смотрели на Красина сейчас из стальных комор[100] – барабан оказался полностью снаряжен. Красин, не соображая – ну, простим ему, и вы в такую минуту не очень хорошо соображали бы, дорогие мои, – не соображая, значит, можно ли ему забирать не принадлежащую ему и весьма ценную вещь, рефлекторно сунул револьвер в карман и повернулся было, чтобы скорее уйти, но тут за спиною его раздался скрип. Он рывком повернулся, рывком вновь выхватил из кармана револьвер, наставляя дуло на саму собою приотворившуюся дверцу шкафа. Словно бы обманутый муж, ищущий по квартире спрятавшегося жениного любовника, Красин распахнул дверцу.
B знакомой Красину визитке, наличие которой в гардеропе дворника уж вовсе нельзя было предположить, но Красин-то сейчас и внимания не обратил на это, в альпийской своей шляпе и визитке, в чистых панталонах прямо на стопке постельного белья сидел, скрючившись, вовсе не Никифор, а Харитон Борисов. Из-под шляпы Харитона стекала на щеку и уже расползлась по плечу и рукаву густая темно-красная полоса.
Тут, с секундным замедлением после того, как Красин распахнул дверцу, на него из шифонера выпала вишневая с изогнутой ручкою трость. Красин сделал непроизвольное движение, ловя трость, и тем самым тростью сбил с Харитона шляпу. Обнажилась аккуратная дырка у того на косо подбритом виске, из которой и вытекала полоса. И тут же запах, висящий в дворницкой, вторично всею силою ударил в Красина. Красин опустил взгляд – зловоние испускалось темным пятном на штанах убитого. Перед смертью он, по всей вероятности, обильно обмочился, или же мочевой пузырь опорожнился уже у мертвого. Cильно пахло кровью, a запах крови смешивался с запахом мочи.
Перевидевший за последние дни довольное количество трупов, Красин хладнокровно отступил на шаг, непроизвольно наклонился, поднял шляпу. Тепло исходило от нее, как от вынутого из пылающей печи еще не загоревшегося, но уже прожаренного полена. Красин заглянул за отворот, словно бы желая внутри головного убора найти объяснение увиденному, уставился на муаровую шелковую подкладку со странной надписью латиницей и кириллицей «МАСТЕРЪ FAVRE» и словом «Санктъ-Петербургъ». Шляпа была совсем новой, почти не надеванной. Красин несколько времени смотрел в эти «МАСТЕРЪ FAVRE» и «Санктъ-Петербургъ». Потом вдруг надел шляпу на себя, словно бы для него, инженера Ивана Сергеевича Красина, стало теперь обычным делом мародерничать, обирая покойников, потом, еще раз наклонившись, поднял и трость, вновь сунул в карман револьвер и, пятясь и не отрывая взгляда от мертвеца, вытиснулся было в дверь. Однако тут раздались шаги за дверью. Красин единым духом залез под кровать и затаился с выставленным впереди себя дулом, готовый выстрелить хоть и прямо в лицо любому человеку, загляни сейчас этот человек под кровать. Харитонова шляпа с Красина, разумеется, слетела и осталась валяться прямо перед кроватью, на самом виду.
Совсем тогда наш Красин с ума сошел. Что и подтвердили дальнейшие события. Печально, но из песни слова не выкинешь.
Вошли двое.
Из-под кровати Красин увидел две пары сапог – одни смазные и, кажется, перебивающие едким своим запахом трупный, стоящий в дворницкой, и другие яловые, отлично выделанные и надраенные тонким обувным лаком – завзятый франт Красин тут понимал, в сапожном-то лаке. Если бы прошедшею ночью в Кутье-Борисове Красин обратил внимание на ноги сидящих в пролетке исправника и неизвестного человека в широкополой шляпе, он бы, возможно, не говоря худого слова, прямо из-под кровати выстрелил бы по ногам вошедших и потом, как упали бы обладатели сапог, и по головам. Но вот не обратил внимания тогда и не выстрелил, хотя очень нервно водил дулом «смит-вессона» с сапога на сапог. Да и то сказать – эка невидаль яловые, а тем более смазные сапоги, такую обувку носили даже слегка достаточные в России люди. Ну, а персонажей, надевающих опорки, лапти или же передвигающихся совсем босиком, в нашем правдивом повествовании почти что и нет. Так, разве среди будущей массовки. Поэтому только нам с вами, дорогие мои, уже погруженным в полное о предшествующих событиях знание, идентифицировать личности по сапогам вполне по силам, а Красину – нет. Вот и не выстрелил, водил, значит, дулом туда-сюда.
– Присядем? – спросили одни сапоги у других и, не дожидаясь ответа, обладатель яловых сапог грузно опустился на стул; дворников стул скрипнул и затрещал. Теперь Красин видел толстые ляжки, обтянутые полицейскими штанами с кантом, край белого кителя и помимо себя, отстраненно удивился, что у стража отсутствует палаш, полагающийся тому по артикулу – палаш, как-никак, оказался бы сейчас виден Красину из-под кровати; полицейскому палаш не спрятать, словно бы хвост, – в карман не засунешь.
– Bien sûr[101], – по-французски ответили смазные сапоги басом.
Второй вошедший плюхнулся на другой стул; стул захрипел от неожиданного насилия. Второй вошедший тоже оказался толстяком.
– Видите, нету его, Николай Петрович, – теперь по-русски низко сказал этот второй, с ногами в дегте. – Ушел.
– Да как ушел, хо-хо-хо, – добродушно рассмеялись яловые сапоги, – от меня не уйдет. – Говорящий задвигался, стул вновь заскрипел под его задницей. – Хо-хо-хо… – вновь рассмеялся жандарм доброжелательным отцовским смешком, и тут, наконец, Красин его узнал. Медленно теперь соображал Красин. Узнал, но ничего сделать не успел, потому что Морозов, – а сидел в дворницкой, как вы сами понимаете, дорогие мои, сидел тут на стуле именно Глухово-Колпаковский исправник Морозов, – Морозов все так же доброжелательно произнес: – А эвона он, извольте удостовериться, Серафим Кузьмич, под кроватью обретается… Хо-хо-хо… Шляпа-то… Хо-хо-хо…
– Plutôt vrai. Yeux vous avez![102] – по-французски сказали смазные сапоги.
– Иван Серге-ич! – пропел Морозов. – Вылезайте из-под кровати-и… Поговори-им по-хорошему-у…
Красин двинулся, вновь выцелил исправниковы ноги.
– Только вы вот что, милый человек, – теперь жестко сказал Морозов, – не удумайте учудить что или же, не дай Бог, выстрелить. Вы на двух стволах сейчас, и во дворе еще люди, а им приказано без упреждения по вам стрелять, ежли сами за дверь выйдете… Вылезайте, вылезайте, батенька, – тон опять стал отеческий, – довольно там лежмя пылть собирать.
– Тут недавно вымыто, – неожиданно для себя самого хрипло сказал Красин.
Исправник и Храпунов согласно засмеялись. Красин полез из-под кровати.
Оба вошедших, действительно, держали в руках оружие и оба целили Красину в лоб.
– Револьвер на пол! – с ударением на «о» в слове «револьвер» приказал Морозов. – Толкайте его ко мне ногою!
Красин положил «смит-вессон» на пол и подпихнул его к исправнику.
– Садитесь, милый человек, вот сюда… на табурет.
Красин сел на табурет в углу, медленно, теперь – да, медленно соображая, как бы ему сейчас поступить с обоими толстяками. Упавшая трость Харитона лежала в двух шагах. А исправник с неожиданной для его комплекции быстротой вскочил, цапнул с полу револьвер, сунул его себе в карман кителя, одновременно ногою отшвырнул трость к стене и вновь со страшным деревянным скрипом утвердился на стуле.
– У нас до вас сообщение, – как ни в чем не бывало, сообщил Морозов. – Вот прочитаете, и договоримся мы с вами добром. Добром – самое лучшее. Лучшее оно не бывает, ежли добром. Так… по-хорошему…
Храпунов хмыкнул. И Красин хмыкнул в ответ. Оба револьверных ствола по-прежнему глядели на него.
– Даже и не удумайте, Иван Сергеич, – проницательно сказал исправник. – Пустое дело.
– А где ваш палаш? – опять неожиданно для себя, как только что из-под кровати, спросил Красин. И добавил: – Вчера в деревне у вас был палаш.
Морозов и Храпунов переглянулись и опять в унисон засмеялись.
– А невелика печаль, милый человек, – доверительно сказал исправник, и даже так-то по-свойски наклонился вперед, не выпуская, впрочем, из руки револьвера. – Без палаша оно способнeе станет… – объяснил он с ударением на первую «е». – Без палаша… Легшее… А вот у вас револьвер в руках обретался только что… Свидетели к тому имеются… И здесь же обнаружено тело тайного сотрудника полицейского управления Харитона Борисова… Государственного человека, из оного револьвера как раз и застрелённого… Застрелённого при исполнении… Видели вас… Только что нониче поступила ваша светлая персона в разработку в Санкт-Петербургское управление полиции, немедля же негласное наблюдение установили за вами, и сразу же вы сотрудника застрелили… Находясь в разработке… Это петля, милый человек… По законам-то Российской империи… И на фатере у вас тело задушённого… князя Кушакова… Похищенного вами из лечебницы… Но это уж так, милый человек, так – семечки… Главное эвона, – исправник показал большим пальцем свободной руки себе за спину, на шифонер. – Сотрудник убиенный…
Теперь засмеялся Красин, наконец-то освобождено засмеялся – так, как прежде смеялся в лучшие минуты свои, в минуты счастья.
– Вы бы озаботились, господа, чтобы самим вам вскорости не висеть на фонарях, – улыбаясь, ответил Красин. – И явным, – он перевел взгляд с Морозова на Храпунова, – и тайным сотрудникам… Вон, только подите, суньтесь на набережную, – Красин кивнул на низкое, словно в конюшне, окошко дворницкой; да и то сказать – в полуподвале же помещалась дворницкая, каким еще быть в ней окошку. – Народ поднялся, теперь не остановить.
Морозов и Храпунов вновь переглянулись, а Красин внутренне весь подобрался для прыжка, но не прыгнул – надобно было прежде подтянуть под себя ноги, совсем вплотную к табурету, чтобы не делать перед прыжком лишнего движения – на лишнее движение ушли бы доли секунды, и оба негодяя успели бы выстрелить. А подтянуть ноги следовало как бы между прочим, как бы само собою.
– Меня вы можете, конечно, тоже застрелить, но предупреждаю: я не fileur[103], – тут Красин непроизвольно сделал движение головой в сторону по-прежнему, разумеется, сидящего в шифонере Харитона, – не fileur, а действительный член Главбюро, – несколько повысил свой общественный статус Иван Сергеевич, и тут же вновь засмеялся, сам удивляясь произведенному им назначению, и тут же выложил, уже совсем хохоча, – с правом голоса… Да-с! Это как-никак выходит действительный тайный советник, господа тайные и явные сотрудники… За это точно петля… По новым-то законам… Новые законы вскорости воспоследуют, не извольте сомневаться… – пророчествуя, еще добавил Красин.
Чтобы вас успокоить, дорогие мои, сразу сообщаем, что пророчества эти, как и все остальные пророчества, даваемые политическими дилетантами, блистательно сбылись. Но не сразу. Через пятьдесят лет.
А Красин помолчал и, несколько переставши радоваться, добавил:
– А Харитон ваш Борисов сюда сам явился меня искать… Без всяких полицейских указаний… Так что не врите, господа тайные и явные.
Красин не знал, а мы вам можем сообщить, дорогие мои, что Харитон Борисов действительно являлся осведомителем полиции, а предыдущей ночью, когда Красин уже вскачь возвращался в Питер, стал обладателем некоторых тайн. И, будучи мужиком, в общем-то, недалеким, весьма неосторожно сообщил об оных тайнах Морозову. А вы думали, это просто – осведомителем служить? Тут тоже головой вертеть надо. Морозов, при свидетелях попрощавшись с Харитоном в Кутье-Борисове, столкнулся с ним у квартиры Красина только в присутствии Храпунова. Страстная альфредка в ту минуту уже сбросила с себя пальто в квартире Красина… Ну, Храпунова-то стесняться Морозову не за чем было…
Да, а вот тут-то бы ему и прыгнуть, Красину, пока двое явно находились в замешательстве. Но не прыгнул. Не знаем мы, почему в тот миг не прыгнул Красин, а чего не знаем, того не ведаем. Да-с, не прыгнул. Может быть, просто столько всего пережил за последние дни Иван Сергеевич, что прежних не только душевных, но и физических сил не осталось у него сейчас, и организм сам не отдал команду на богатырский прыжок.
– Je ne suis pas un agent de police, je suis un citoyen ordinaire,[104] – почему-то вновь по-французски пробасил Храпунов.
– Сотрудник, сотрудник, – вновь весело парировал Красин, – коли сидите с полицйским вдвоем, как шерочка с машерочкой.
– Сообщенье, что специально до вас привезёно, станете читать? – кротко вернул Морозов реальность в дворницкую. На Храпунова он лишь мельком глянул, никак не отреагировав на его французское отречение. – Давайте, милый человек, к делу, время дорого… Станете читать?
– Стану.
Не опуская оружия, исправник вытащил из глубин кителя вчетверо сложенный кусочек желтоватой бумаги, положил его на пол и щелчком пальца отправил Красину. Красин поднял бумажку и развернул.
Эту записку Красин потом всю жизнь носил в бумажнике, а прожил Иван Сергеевич Красин с гаком восемьдесят шесть лет, это нам совершенно точно известно, дорогие мои, – восемьдесят шесть, пока однажды, в десять часов утра шестнадцатного августа тысяча девятьсот восемнадцатого года, выйдя из дома, вдруг не почувствовал страшную боль прямо посередине груди, словно бы от удара штыком, и в последний свой миг увидел пред собой голую молодую Катю. Катя смеялась и звала его, как тогда, пятьдесят лет назад, звала его из окна своей спальни. И Красин успел счастливо улыбнуться, прежде, чем тьма навсегда закрыла ему глаза, и он упал ничком прямо посреди Баденштрассе в Цюрихе – недалеко от Баденштассе он жил тогда в тихом районе возле парка Фридхов-Зильфельд. В конце жизни Красин уже ничего не строил, а просто служил профессором Университета, читал курсы сопротивления материалов и строительной механики в Федеральной Политехнической школе[105].
Да, а что касается Kатиной записки, так на всякие ухищрения Красин пускался, чтобы записка не истерлась на сгибах и тушь – а записка написана была черною монастырской тушью, – чтобы тушь не выцвела со временем, но все равно текст, конечно, к концу красинской жизни оказался почти не различимым, а сама бумага истончилась и выцвела даже в самой глубине портмоне – за пятьдесят-то лет! Его и похоронили, Красина-то, с этой запискою на груди, на сердце – по завещанию исполнили ученики… Но это когдааа еще будет…
Вернемся, дорогие мои, в дворницкую.
«Mon chèr, – несомненно, Kатиным почерком, а Красин знал ее почерк, – было написано на оторванном от цельного листа кусочке бумаги, – Mon chèr, je suis vivant. Je t’aime»[106].
Тогда, в дворницкой, Красин, прочитавши, непроизвольно дернулся, и Морозов тут же крикнул:
– Сидеть! Ну! Не балуй!
Красин еще мгновение помолчал, потом тихо спросил, чрез себя, преодолевая, утишивая себя, спросил точно так же, как не так давно спрашивал Kатиного кучера на стройдворе:
– Где… Катерина Борисовна?
И непроизвольно Красин оглянулся, словно бы надеясь, что, как тогда, на стройдворе, Катя вдруг окажется рядом, оглянулся, значит, чуда очередного ожидая – нет. Нет. Не стоило и оглядываться – за спиной Красина, разумеется, оказался только угол дворницкой – две сходящихся выбеленных, а понизу крашенных суриком пустых стены. И стены не рухнули по желанию изнывающего от неистощимой любви Красина.
Оба толстяка вновь, в который раз, засмеялись.
– Хо-хо-хо… Хо-хо-хо… Хо-хо-хо…
И, наконец, Морозов, – а второй с ним un citoyen ordinaire[107], что в смазных сапогах, теперь и его Красин узнал – то был сидевший тогда в пролетке человек в широкополой шляпе – второй теперь ничего вообще не произносил, только похохатывал; наконец, Морозов сказал:
– У нас, у нас… У меня… В надежном месте… Из монастыря-то я вывез ее… Хе-хе-хе-с… Хотите княжну свою беспременно живой и невредимой получить, Иван Сергеич?
И прежде, чем красинские губы сами собою прошептали «хочу», прежде чем сам Иван Красин, сильный, умный и уважающий себя тридцатишестилетный русский мужик, хрипло сказал «хочу», прежде холодная волна поднялась к его сердцу от ног и ударила в голову – при словах «живой и невредимой», которые, слова, словно бы ледяное копье, вонзились Красину в затылок.
И сдался наш герой, Иван Сергеевич Красин. Без боя сдался в единый миг. А кто однажды сдается, тот пропадает, дорогие мои, раз и навсегда. Так жизнь устроена.
4
– Ты сказал, что вшей в России нет? Сказал или не сказал? Что достигнута полная чистота? Благодаря неустанной работе мормышей… Ты сказал?
– Ну, сказал… – уныло отвечал Цветков.
– Как ты!.. Да ты!.. Ты меня предал! Ты это понимаешь или нет? – в десятый, наверное, раз, восклицала Настя.
Цветков лишь молча махал рукой.
Этот разговор можно не изображать, дорогие мои, потому что мы с вами прекрасно понимаем – ко вполне искреннему Hастиному возмущению примешивалось и не менее искреннее чувство вины. Женщина в подобных случаях немедленно начинает наступление на того, кому изменила. Конечно, Настины обвинения здесь, в норе, на полигоне ТБО, следует признать несколько запоздавшими, но женщины всегда желают оправдаться прежде всего перед самими собой, поэтому срока давности при изменах не существует, дорогие мои. Нет, не существует. Первой начала предавать Настя, как мы вам уже рассказывали. А предательство ничего хорошего вызвать не может. Или ответное оно вызовет предательство, или даже что похуже. Тем более, что наш Цветков уже выдвинул аргументы в свое оправдание, в оправдание поведению своему на телевидении – ему надо было довести до ума препарат. Это правда.
Ну, вот, такие, значит, разговоры очень недолго шли. Потому что далее жизнь Константина Цветкова расцвела. Началась у него вторая жизнь. Во-первых, как мы уже вам рассказывали, дадена ему была Ксюха. Кстати вам тут сказать, в сексе Ксюха оказалась столь горяча, столь непосредственна во всех проявлениях своих в постели, что Костя забыл о Насте, увы, просто немедленно. Просто сразу он про Настю свою забыл, можете себе представить? А какие у Ксюхи оказались сиськи! Какие твердые и большие, словно волейбольные мячи, с мгновенно твердеющими, только их коснись, огромными сосками! А какая у нее оказалась… Но это так, кстати, это в сторону. Тут мы умолкаем.
Да-с, во-первых, дана была Цветкову Ксюха. А у Ксюхи не только сиськи, но и… Не дерзая уподобляться библейскому царю Давиду, не все Kсюхины достоинства мы будем перечислять подробно. А во-вторых, предложено было ему в чрезвычайно узком кругу достать препарат – и именно тот, который Цветков действительно достал в бывшем своем институте – смертельную свою заначку.
Чтобы закончить рассказ о добывании препарата, мы можем предположить, что Цветков, убив собаку, оправился бы от случившегося не скоро. Так оно и произошло бы, если б почти сразу после убийства овчарки запах поленого не настиг Цветкова. Гарью тянуло от холодильника, и, открывши полные слез глаза, Костя даже в темноте различил поднимающийся над холодильником черный дымок – чернее самой ночи. И мгновенно пришел в себя наш герой. Цветков стал словно не Цветков, а, скажем, холодный Штирлиц или выступающий на нашей стороне Джеймс Бонд – мгновенно все прозревающий и мгновенно же принимающий единственно правильные решения.
Костя метнулся к одному из лабораторных шкафов, вытащил кювету, убедился, что она, как и много дней назад, полна, метнулся к другому шкафу, вытащил из него маленький контейнер с неким порошкообразным наполнителем, метнулся к третьему шкафу и еще одну, другую, кювету вытащил из него. Мы бы рассказали вам, дорогие мои, что наполняло обе кюветы и что за порошечек сохранялся в контейнере, но тогда у нас получится не роман, а инструкция для террористов. Так что уж увольте. Ни-ко-гда. А Костя-то Цветков очень хорошо знал химию. Да-с! И биологию! И медицину! Вот он какой был, наш Костя!
Затем Костя присел к собственному своему рабочему столу, но ностальгировать не начал, а только быстро выдвинул нижний правый ящик и достал из него перчатки. Натянув их, Костя мгновенно влил и всыпал все три ингридиента в одну большую колбу, колбой этой слегка поболтал в воздухе и поставил ее в огромный, в свое время с большими трудами выбитый из начальства немецкий колбонагреватель – это, чтоб вы поняли, такой прибор вроде скороварки, только без крышки. Включивши колбонагреватель, Костя вновь подхватил сумку с препаратом и масками, поправил на себе собственную маску и, стараясь не смотреть на труп собаки на полу, выскочил из лаборатории. Он встал там же, где пережидал патруль – в холле за открытой дверью, так его не было видно ни от лифта, ни с лестницы.
Буквально через минуту послышалось сначала дикое шипение, словно бы тысячи разъяренных кобр ворвались в институт, и тут же раздался взрыв. Зашумело пламя.
И вновь Косте свезло. Ну, свезло. Бывает. И Джеймсу нашему Бонду везло. И Штирлицу. Взрыв не только выбил стекла на нескольких этажах, но и сорвал все двери с петель, в том числе, разумеется, ту дверь, за которой прятался Цветков. И так вот удачно он, взрыв, эту дверь сорвал, что Цветков оказался лежащим как раз под нею. Сумку свою он сумел удержать, заранее в нее вцепился обеими руками. Так что когда еще через несколько мгновений повсюду завыли сирены и десятки увесистых – действительно, чуть не слоновьих, так показалось Цветкову, а вы вот попробуйте, полежите под дверью, по которой прыгают мужики из охраны – когда десятки ног протопали по лежащей этой двери, Цветкова в метании огня, криках и дыму никто не заметил. Зато Цветков из-под двери заметил валяющийся совсем рядом защитный спецназовский шлем, невесть как очутившийся на полу. Он потянулся, хапнул шлем, мгновенно нахлобучил его на себя, выскочил из-под двери и помчался вниз по лестнице навстречу бегущим вверх, визжа из-под маски:
– Воду, блин! Воду, на хрен, давайте! Воду! Блин! Воду!
Кстати тут вам сказать, при взрывчатом горении именно тех веществ, каковые смешал подполковник, – а на самом деле действительно уже к тому времени полковник Цветков, – вода оказывалась не только бесполезной, но откровенно вредной, чего не мог не знать Костя, все усугубляющий и усугубляющий свои преступления. Вода в этом случае, разлагаясь на водород и кислород, десятикратно усиливала огонь да еще, смешиваясь с продуктами горения, выделяла отравляющий пар – на десятки и сотни метров вокруг. Так вот профессор Цветков расчелся со своим институтом, подвел, можно так выразиться, баланс. Когда Костя стоял в толпе зевак на улице, горело уже все знание, весь институтский пятнадцатиэтажный небоскреб, как один безумный, бешеный факел. Желание говорить правду вынуждает нас засвидетельствовать, что насладиться зрелищем Цветкову не удалось. Вслед за приказом немедленно разойтись, прозвучавшим над улицей прямо с небес, из тарахтящего над головами вертолета, толпу начал поливать водомет, и Костя вместе со всеми побежал, прижимая к себе сумку.
И еще. Страшный грех взял на душу Константин Цветков. В институте от огня и в округе – от отравления – погибли шестьдесят восемь человек. Собак и кошек мы уже не считаем. Так что теперь, буквально за двадцать минут, совершенно другим человеком стал Костя. Человеком, ради достижения цели перешагивающим через смерти других людей. А к таким людям относимся мы совершенно отрицательно, дорогие мои. Ну, совершенно отрицательно, какие бы благородные цели такие они ни преследовали. Одно дело – самозащита или наказание порока, тут мы в своем вправе, а тем более в своем праве возлюбленные герои нашего правдивого повествования. А положить десяток-другой невинных людей, а потом и десяток-другой миллионов невинных людей… Мы даже вот что вам скажем: таковые средства не только не оправдываются никакой целью, но и извращают любую благородную цель, и все благородство из цели немедленно при гибели невинных людей начисто и решительно улетучивается. Как эфир из закупоренной колбы при оной колбы открывании.
А касательно Константина Цветкова, несколько забегая вперед, а мы уже несколько раз и так забегали вперед, можем поставить вас в известность, что он грех свой постарался искупить. Не чужие грехи искупить, смертию смерть поправ, что сделало бы Константина Константиновича Цветкова сами понимаете, Кем, а свой грех. Но по порядку.
Этой же ночью Цветков такие рекорды поставил на Ксюхе, что как врач даже подумал о явно ошибочном утверждении медицинской науки – будто бы стресс отрицательно влияет на сексуальную способность мужчины. Вранье! Стресс он, Костя, только вот сейчас пережил, и не один, а много стрессов, а машинка у него работает замечательно, и простыня под Ксюхой и Костею давно уже оказалась совершенно мокрой, хоть выжми ее.
Это прекрасное чувство мокрой простыни под тобой и твоей любимой женщиной, дорогие мои, мы сами испытывали не очень часто в жизни – прямо скажем, очень редко, а в остальных случаях, достаточно многочисленных, даже, возможно, более многочисленных, чем нужно, все происходило скорее академично. Ну, так ее, женщину, и этак, и туда, и вот туда, а простыня полностью, чтоб от края до края, не намокает. Ну, не намокает полностью. Жаль. Очень жаль.
Впрочем, объяснение редкости столь отрадного явления может быть куда более прозаичным: не всякая женщина при сексе обильно потеет. Но это в сторону, да, в сторону.
Поскольку Ксюха каждый раз вела себя чрезвычайно бурно и громко, в норе – а лежали Костя и Ксюха в норе вместе со всеми, в том числе и Чижик с Настей неподалеку спали в обнимку, так, в метрах трех-четырех, сначала-то новобрачным предоставили часа два для первого близкого свиданья, а потом-то всем надо было ложиться спать, не на голой же земле – в норе, значит, сначала хихикали и отпускали шуточки, а потом постепенно замолкли, а потом уж раздался раздраженный голос, словно бы пришедший не к измысленным нами влюбленным в их первую ночь, а к нам самим – из далекой туристической юности, из-под полога общей палатки:
– Ну, хватит трахаться, дайте же людям поспать!
И наконец, действительно, Костя и Ксюха, вняли сей выстраданной мольбе и заснули. Мы бы могли написать, что Костя заснул у Ксюхи на груди, но это было бы неправдой, мои дорогие, а повествование наше, как не раз мы уже сообщали вам, повествование наше донельзя правдивое. Не мог Костя на Kсюхиной груди заснуть, потому что сиськи у Ксюхи более подходили для занятий на них каким-нибудь фитнесом – кроме, разумеется, и в первую очередь занятий любовью – каким-нибудь, значит, фитнесом в качестве стационарно-подвижного спортивного снаряда или тренажера – если б, конечно, какой-никакой фитнес для обычных людей сохранился в ту пору. Потому что сиськи у Ксюхи… Кажется, мы об этом уже вам говорили, дорогие мои… Но это так, кстати, это в сторону!
Утром следующего дня вся нора мыла чижиковское авто, потом произошел, как мы вам уже рассказывали, небольшой инцидент с Лектором, в результате которого мертвый Лектор оказался лежащим на краю мусорного террикона возле дороги, вернее – возле проезда меж этими мусорными терриконами. Чижик присыпал его второпях, наскоро, и собаки, разумеется, тут же его вытащили, чуть только чижиков мусоровоз отъехал, вытащили и устроили настоящий пир прямо возле норы. Настя и Ксюха – мужики уже отсутствовали по вполне понятным причинам – вдвоем начали было отгонять собак, но немедленно же отступили и дверь за собой прикрыли накрепко. Потому что тут уж не пошутишь. Каким-то чудом труп Лектора прибыло растаскивать совершенно неисчислимое собачье войско, собаки все подбегали и подбегали, свои и чужие, началась уже дикая собачья грызня, так что теперь и живым людям легко можно было мгновенно оказаться с перекушенной шеей. Это, кстати вам сказать, загадка, дорогие мои – столь быстрое, словно бы их по пейджерам оповестили, появление сразу нескольких собачьих стай. Наверное, Лектор был сахарный. Потому что на полигоне ТБО и ранее возникали – ну, сами собою – и ранее возникали трупы, дело житейское, но такого вот дикого собачьего веселья никогда не наблюдалось. И еще одна странность: после полного съедения Лектора чужие стаи немедленно в организованном порядке, неспешно труся за вожаками, покинули полигон, не делая никаких попыток на нем утвердиться. А от Лектора через довольно короткое время остались только окровавленные тряпки, разбросанные вдоль проезда. Свои полигоновские собаки все продолжали сидеть и лежать вокруг, очень напоминая действия львиного прайда после съедения антилопы – львы всегда так вот полеживают возле обглоданных костей. Мы все это сообщаем вам, дорогие мои, вовсе не для того, чтобы придать нашему правдивому повествованию излишний натурализм, а просто потому, что привыкли отслеживать судьбы каждого нашего персонажа, только и всего.
Да, значит, мусоровоз, горящий оранжевыми отсветами, словно бы пожарная машина, въехал в город. На заправке у Чижика с Цветковым никто ничего не спросил, хотя уже тут, на заправке, под баннером с надписью «Единодушно и горячо приветствуем Ежегодное Историческое Собрание МХПР» стоял армейский наряд на бронетранспортере и несколько полицейских в касках и бронежилетах. Тут же помещался и передвижной наливочный пункт – отцепленная от тягача голубая одноосная цистерна с откидывающимся лотком. Наряды стояли и вдоль трассы, по которой ехал Чижик. Вся трасса увешана была красно-желтыми флагами МХПР. Все это непреложно говорило о предстоящем экстраординарном событии – и нагнали людей в погонах явно больше обычного. Чижик рулил молча и сосредоточенно, только один раз воскликнул:
– Вот они!
На обочине стояли трое – полицейские полковник, майор и капитан, все с автоматами через плечо. Никакой машины рядом не было. Чижик притормозил. Полковник вскочил в кабину со стороны Цветкова, тут же на Костю, кроме обычного, как и от всех людей, запаха водки, резко пахнуло ужасным запахом дешевого табака, Костя даже успел подумать, что полицейский полковник, воля ваша, таких вот сигарет, с таким вот запахом, ну никак курить не может, западло бы это стало полковнику – то был запах даже не сигарет «Мормышата», а махорки, раздаваемой населению каждую пятницу в округах Чистого Города по талонам № 6. По шестым талонам отоваривались, Цветков знал, самые… Ну, самые… Это была загадка, почему полицейский полковник курит махру, дорогие мои, над которою, уж прямо скажем, Цветков не очень долго раздумывал.
Капитан и майор молча вскочили на подножки по обеим сторонам мусоровоза. И тут же полковник, придавив Цветкова, через него перегнулся к Чижику, пожал ему руку, и сразу же они с Чижиком, сжавши руки в кулаки, ударили друг друга кулаком об кулак. Полковник выставил кулак и перед Цветковым, a тот и сам не заметил, как сжал свой сухонький кулачок и стукнул им в огромный мясистый кулак полковника.
Неистощимая
Далекой-далекой зимой, когда Голубович и беленькая девочка Тоня беспробудно, пребывая в глубочайшем сексуальном похмелье, спали на узкой панцирной кровати, Алевтина Филипповна несколько времени полюбовалась на спящих молодых, потом накрыла их еще и вышитой какой-то попоной поверх одеяла, которое одеяло, кстати тут вам сказать, дорогие мои, беленькая девочка уже успела полностью во сне натянуть на себя, накрыла, значит, попоной, еще немного постояла над спящими с доброю улыбкой на лице и вернулась за стол. Посидевши несколько минут в одиночестве, тетушка Алевтина налила себе рюмочку, махом ее опрокинула и вдруг заговорила, не в силах справиться с рвущимся из нее продолжением рассказа. Продолжения этого про далекую-далекую, еще более далекую, чем стоявшая тогда зима, рассказа по девушку Ксению никто не услышал. Только мы с вами, дорогие мои, станем незримо присутствовать рядом с Алевтиной. Вот только налить вам стопочку мы не сможем. Но тут уж вы сами справитесь. Мы в вас верим.
– Да-а, – заговорила Алевтина, – новое чудо происключилося с Ксениею. Скуль к тому годочков прошло, что неистощимо рожала девушка Ксения кажные девять месяцев по двух мальчишек, а вот туточки и могу вам сказать, деточки, – здесь Алевтина рефлекторно оглянулась, словно бы отыскивая этих деточек, к которым она обращалась и, разумеется, никого за собственной спиною не обнаружив, вздохнула и продолжала говорить. – Туточки, значит, и могу вам сказать… – и вновь Алевтина отвлеклась от рассказа, боясь сразу выговорить то, что ей предстояло поведать в пустоту, а на самом деле нам с вами, дорогие мои… Потому что мы там незримо присутствуем рядом с Алевтиной Филипповной, которая сейчас вновь налила себе рюмочку и вновь ее разом хлопнула. Закусивши капустою, Алевтина вновь собралась с духом и продолжила: – Да-а… И потому бесчетно и неистощимо рожала девушка Ксения, что любила самою любовью настоящею князя Бориса Глебыча. Любила! И так-то вот в одночасье понесши от князя и двух девчонок родивши, отнесла тех обоих девчонок князю Борису Глебычу на крыльцо, а что князь-то Борис Глебыч более на девушку Ксению никогда в жизни ee не возлегал и даже более никогда ее не видывал в жизни своей до самой смерти, то во благовременье и впредь девушка Ксения рожала только что по двое мальчишек, дорогие мои… Только мальчишек, ровно бы желая образ любимый князя Бориса Глебыча запечатлеть на все времена. Так-то вот, значит, оно и произошло, деточки…
Алевтина умолкла и застыла неподвижно, характерно подперев щеку рукою, и даже рюмочки более не наливала себе. Через несколько минут она поднялась, подошла к темному окну и отодвинула занавеску.
За окном по снегам неистощимо мела поземка, пурга сыпала колкий снег в стекло, бессчетно снеговые холмы возвышались один за другим, сливаясь в бесконечную, покрытую снегом равнину, казалось, отторгающую все живое, желающую знать только тьму, холод, ветер и простор, полный страха. Невозможно было себе представить, что в этот враждебный простор выходят, взявшись за руки, два только что рожденных малыша, не защищенные ничем, кроме бессмысленного на снежной равнине желания жить.
Алевтина отвернулась от окна и произнесла, обращаясь к печи:
– А только что сохранялася девушка Ксения, что никто и никогда более на нее не возлегал и даже что посмелку не принял войти в летний ее двор посредь зимы. Что птицы там пели на свои голоса… Что зеленая росши трава… Что пропитание само об себя неистощимо оказывалось… И неистощимо девушка Ксения рожала, и неистощимо пропитание ей рожала русская земля… – Алевтина вновь повернулась к окну, сузившимися зрачками вглядываясь в темноту, и безотчетно повторила: – Русская земля…
Рассказчица опять вздохнула и рукою махнула на окно, избавляясь от наваждения.
– А об любови своей того не знала девушка Ксения, что вернее-то всего потому мальчишек производила бесперечь она, что воинским действиям на нашей стороне потребность в мальчишках оказывалась самая что ни на есть вящая да скорая, – это рассказчица произнесла словно бы с некоторым сомнением. – Воинским действиям да революцьям всякого разбору, – добавила еще в пустоту. Кроме нас с вами, видящиx голубовичевскую хозяйку чрез магический кристалл, никого тогда не случилось.
Рамы чуть потрескивали под давлением ветра, низкая лампа горела над столом. Алевтина Филипповна более ничего не сказала. Ночная тишина настала в доме Алевтины…
… А через много-много лет, ужасным августовским днем, очнувшись за несколько мгновений до последнего взрыва, Голубович мгновенно выбил ногами стекло, выполз из «Aуди» и побежал, спотыкаясь, по полю прочь от собственного авто. Он же у нас бывший десантник, Голубович-то. Десантура в стрессовых боевых ситуациях реагирует всегда быстро и адекватно. На водителя Голубович не взглянул даже мельком, так что мы не знаем, в каком состоянии до взрыва находился водитель и можно ли было водителя спасти. Ну, чего не знаем, того не ведаем. Скорее всего, если б губернатор начал бы своего служащего вытаскивать, наше правдивое повествование пошло бы совсем в другую сторону. Да и водитель для нас сторонний человек, а к Ваньке Голубовичу мы относимся с большою теплотой. Так что уж извините нас за смерть водителя.
Отбежать губернатор успел недалеко. Во-первых, у него кружилась голова, во-вторых, плохо работали ноги, а в-третьих и в главных, достаточно времени не оказалось, чтобы отбежать на приличное расстояние. Красная глухово-колпаковская земля, рождающая медно-красный, словно бы фальшивой позолотой покрытый картофель, и под кожурою, и на срезе отливающий краснотой, пылила под шаткой побежкою; облачка красной пыли вздымались один за другим и оставались висеть в воздухе.
Кстати тут сказать, в первые несколько мгновений после аварии внутрений голос Голубовича, находясь, видимо, в полном шоке от произошедшего, молчал, как рыба, но когда Голубович выбрался из машины и побежал по полю, внутренний голос вспомнил, наконец, о своих обязанностях и завопил:
– Ложись! Ложись, блин, мать твою!
Голубович руками вперед, как в воду прыгая, рухнул на ботву, тут же закрыл голову руками. Вот только тогда и раздался последний взрыв. Огненные части персонального губернаторского автомобиля полетели через Голубовича, в спину ему застучали комья земли, и какие-то несомненно важные, но, к счастью, не слишком объемные детали настоящего баварского, чтоб вы знали, города Ингольштадта производства ударили в Голубовича – одна в левую ляжку, спасибо, не в яйца под задницей, а вторая в левый же локоть недалеко от плеча и в левую ключицу, но так, что плечо и ключица, в общем, остались невредимы. Баснословно свезло Голубовичу, он же везунчик у нас, вы помните? Везунчик. Пиджак у него на спине загорелся, и брюки загорелись тоже. Голубович вскочил, сорвал с себя пиджак, прыгая, начал стягивать брюки, упал, запутался в горящих штанинах. И вот тут, честно признаемся, тут Голубовичу наконец стукнуло в голову – изнутри, все-таки зачуток его, конечно, контузило. Сосуды мгновенно сжались, распрямились и вновь сжались. Губернатор потерял сознание.
Очнулся он от слабости – пока Сергеич наш находился в отключке, крови из раны на ноге вытекло довольно много. Сзади несло жаром полыхающего огня, огонь шумел так, словно бы уже и весь лес вокруг горел, резко пахло диоксином и горящей резиной. Голубович дернулся, и почувствовал боль в ноге и ключице.
– Приплыли, блин, – хрипло сам себе сказал губернатор, даже не пытаясь подняться. – Покушение на государственного, блин, деятеля.
– Да, блин, приплыли, так, блин, приплыли, – согласно констатировал и внутренний голос тоже. – Не хрена дергаться, блин. Поздняк метаться. Вставай, долго будешь лежать, как Ленин, блин, в мавзолее?
Безумно, казалось, что – со всех сторон, шумело, продолжало бушевать пламя, словно бы работала рядом огромная газовая горелка.
Ванек наш повернулся на живот и, не вставая, уставился на то, что недавно было тремя автомашинами и одним трактором с прицепом. Полыхало желтым, синим, зеленым, красным цветом, языки огня поднимались в воздух, отрывались от всего пламени, словно солнечные протуберанцы, некоторое время, летя вверх, продолжали шипеть и разом гасли, будто схлопывались. На поле и по обеим сторонам шоссе во множестве горели маленькие, но злобные отдельные огни; если б красноватый глухово-колпаковский сосняк подступал тут ближе к трассе, он наверняка уже бы загорелся. Останки людей невозможно было разглядеть в огне. Только Борисов в своем тракторе, превратившись в скрюченное черное полено, торчал сквозь уже несуществующее лобовое стекло. Но вот под поленом что-то, видимо, полностью прогорело, и бывший Борисов, дернувшись, провалился вниз.
– Капец, – вынес приговор внутренний голос.
– Капец, – согласился губернатор. – Всем капцам капец.
От трактора остался только замечательный советского производства черный остов. От машин тоже остались рамы, стоящие на ободах колес. Еще меж железяками во множестве валялось нечто, о чем нам совсем не хочется говорить, чтобы, опять-таки, не придавать нашему правдивому повествованию излишнего натурализма. Скажем только, что это нечто превратилось в оплавленные куски сгоревшего бекона. Голубовича вывернуло прямо самому себе на живот и на ноги. Тут внутренний его голос, видимо, понявший, что сам Ванек никак не войдет в настоящий рассудок и что время дорого, выдал прямое указание.
– Ты на себя, блин, парень, посмотри.
Голубович, не вставая, опустил голову и впервые после катастрофы действительно посмотрел на себя. Оказался он неожиданно совершенно голым, даже без трусов, и покрытым разводами сажи вперемежку с красной пылью, блевотиной и кровью. Впрочем, сейчас земля любого цвета сделалась бы на Голубовиче красной – кровь сочилась из руки под ключицей и довольно обильно шла толчками из ноги, вся левая нога и земля под нею были уже в крови. Кровь на глазах впитывалась в красную землю.
– Быстро, блин! – продолжал распоряжаться внутренний голос. – Быстро! Hогу сверху перетянуть! Каз-зел! Помрешь ведь, на хрен!
Голубович даже ничего не успел ответить. На пустынном доселе шоссе появились сразу три машины – сверху, от Глухово-Колпакова, серая «Дэу», а снизу, от Светлозыбальска, белый «Oпель»-седан и тоже белая «Hива».
Голубович, преодолевая боль, поднялся на ноги, проковылял, подволакивая ногу, к шоссе и указующе, губернатор все-таки, хоть и голый, и грязный, – начал помавать воздетой ладонью, словно бы гэбэбэдист палочкой – остановись, мол. Все три авто резко затормозили; только мгновение они не двигались. Тут же «Oпель» и «Дэу» мощно развернулись и помчались обратно каждый в свою сторону – вниз, к Светлозыбальску, и вверх, к Глухово-Колпакову, а «Hива», взревев двигателем, съехала в кювет и, объезжая пламя, по валяющимся частям людей и машин проскочила мимо, метров через пятьдесят вернулась на шоссе и помчалась вверх к городу вслед за «Дэу».
Голубович оглянулся. В нескольких сотнях метрах от него виднелась не то деревня, не то дачный поселок – крыши проглядывали сквозь купы деревьев.
Когда минимум через полчаса к уже почти затухшему огню с ревом сирен прибыли сразу все три службы – два пожарных расчета, скорая и несколько полицейских машин, в одной из которых сидел глава полиции Суворов, а еще через несколько минут подкатил сам Овсянников – теперь тоже на «Aуди» и в оливковой своей «полевке» – с ним еще один автомобиль его ведомства, и разнообразные машины все продолжали и продолжали подкатывать, из них выскакивали люди… когда через полчаса вся эта орда прибыла, значит, на место катастрофы, Голубовича там уже не оказалось.
Пока совершенно ожидаемые совершались действия вокруг сначала источающих голубой и зеленый пар останков машин и людей, а потом испускающих только ужасный запах мерзкой какой-то химии, сгоревшего железа и жареного мяса – пока спецы ходили туда-сюда с рулетками, разворачивали и потом заполняли черные полистироловые мешки и тут и там с кем-то бесконечно говорили по телефонам, пока Овсянников и Суворов приказывали своим подчиненным огородить возможно больший вокруг теракта участок и полностью закрыть движение на трассе Глухово-Колпаков – Светлозыбальск и принять все возможные меры к недопущению на огороженную площадку журналистов и, главное, телевидения, пока они объявляли всякие режимы ЧП, планы перехватов неизвестно кого и прочие совершали необходимые, но абсолютно бессмысленные поступки, Голубович уже добрался до крайнего в деревне дома.
Дом этот, да что! домик в два окна стоял в самом конце улицы под огромным вековым дубом. Никто из ныне живущих не знает, а мы вам точно можем сказать, что еще ко времени рождения самого князя Бориса Глебовича Кушакова-Телепневского дубу исполнилось аж триста лет, так что в миг первого появления здесь нашего Ивана Сергеича дереву стукнуло лет четыреста пятьдесят, не меньше. Если б Голубович находился сейчас хоть в какой сознательности, он несомненно узнал бы и дуб, и дом под ним – уж слишком памятны они были губернатору, хотя считались вычеркнутыми из памяти, но раненый уже почти ничего не соображал от боли и от потери крови. Голубович проковылял – чуть было мы не написали «оставляя за собою кровавый след», но в том-то и дело, что кровавый след был, а следов за Голубовичем заметно не было, – проковылял он, значит, за калитку, взобрался из последних сил на крыльцо, ударил в дверь кулаком, рванул, не дождавшись ответа, на себя ручку и наконец потерял еще раз сознание. С таким грохотом, словно бы он был не человек, а башенный кран, словно бы даже не из одних костей безо всякого мяса состоял, а один ажурный, но многотонный металлический каркас представлял собою Голубович, рухнул он на рассохшееся, в огромных щелях крыльцо.
Кровь из губернаторской ляжки продолжала течь и текла, кстати вам сказать, все сильнее и сильнее, но таковым оказалось свойство Глухово-Колпаковской земли, что кровь человеческая – хоть якобы голубая княжеская, хоть губернаторская, хоть простая мужицкая, хоть невинная девичья, – любая пролитая кровь на красной земле становилась не видна. На человеке кровь оставалась, на убиенном – хоть винно, хоть безвинно, а равно и на убийце кровь оставалась, на случившихся тут же каких предметах – что на ноже да топоре, что на вилах, что на дощатом полу или паркете наборном в четыре цвета из четырех пород дерева – оставалась, а на земле нет. Нету! То ли столько за многовековое бытование свое впитала эта земля крови, что стала бурой, как обожженный кирпич, то ли от самого зарождения своего оказалась она красной, чтобы неможно было рассмотреть на ней крови – не знаем. А ведь очень важно – узнать сему странному явлению причину. Ну, может быть, cо временем… Когда-нибудь все узнается, дорогие мои.
Так Голубович, значит, следов не оставлял – кровь тут же впитывалась в разрыхленную землю, и найти ее, кровь, мог бы сейчас разве что спектрографический анализ. Не мудрено, что следаки, явившиеся на шоссе Глухово-Колпаков – Светлозыбальск, никаких примет ретировки губернатора с места происшествия не обнаружили. И в деревне никто его не увидел – ни человек, ни зверь. А кроме всего прочего, через буквально пять минут после приезда расследователей все поле вокруг бывшего губернаторского авто оказалось затоптанным словно бы стадом слонов…
Да, мы про телевидение совсем забыли, дорогие мои. Вот мы тут вам расписываем про специальные службы, имеющие, ежли судить по трагическим слухам, без всякой к тому нужды своих осведомителей решительно во всех социальных сообществах, а того вам не говорим, что службы телевизионные, давно уже никакой четвертой властью не являющиеся, а являющиеся просто пропагандистским бизнесом – эти службы имеют своих осведомителей в самих спецслужбах. И те осведомители за скромные, но постоянные деньги как раз незамедлительно и сообщают своим TV-дружкам о событиях. Сообщают. Помимо, конечно, крышевания. Но об этом в сторону. Не об этом сейчас речь. Мы просто к тому ведем свой рассказ, что, несмотря на несомненные ум и хитрость, Овсянников напрасно рассчитывал, что столь выдающееся событие на главной глухово-колпаковской трассе сможет сохранить свою информационную невинность хоть какое-то время. Oн, вероятно, рассчитывал, что невинность оное событие сохранит на более долгий срок, чем оказалось в действительности.
Еще не успели обнести место катастрофы полосатой красно-белой лентой, еще не успели понаставить через каждые пять метров пластиковые стойки с табличками «Проход закрыт. ФСБ», еще не успели собрать все части человеческих тел в мешки, как прямо рядом с Овсянниковской «Aуди» припарковался красный пикап-«Фольсваген» с синею надписью «ТЕЛЕВИДЕНИЕ», оттуда деловито вышел известный всему Глухово-Колпакову да, кстати сказать, всей России известный собственный одного из главных российких телеканалов корреспондент в области Марк Конецкий, или же Конец – так его, разумеется, все называли в глаза и за глаза. Тут же, словно бы он его за пазухой прятал, появился у него в руках микрофон с логотипом, а вышедшие вместе с Мариком из пикапа трое парней водрузили на одного из них телекамеру, и тут же Конецкий спросил в микрофон:
– Миша, сигнал есть?.. Мы готовы.
Он поправил наушник у себя над воротником футболки, зачем-то подвигал туда-сюда обтянутой джинсами поджарой задницей, словно бы проверяя, достаточна ли в сей миг гибкость его позвоночника, каковая является одним из важнейших атрибутов профессии любого телевизионщика, и ходко заговорил в камеру:
– Мы находимся на месте гибели губернатора Глухово-Колпаковской области Ивана Сергеевича Голубовича. Тело губернатора еще не идентифицировано. Вместе с губернатором погибли двенадцать человек. Следствие только приступило к выяснению обстоятельств произошедшего, выводы делать еще рано. Однако источник в правоохранительных органах сообщает, что это несомненно был теракт. Иван Сергеевич занимал бескомпромиссную гражданскую позицию по очень многим острым вопросам современности и пользовался единодушной поддержкой населения. Многие его знали лично… И очень любили… Вы видите сейчас, как специалисты осматривают место происшествия… Ваш корреспондент в Глухово-Колпакове Марк Конецкий… Миша?
Тут почему-то симпатичную мордаху красавчика Конецкого почти незаметно облетела судорога, и тот, кто все-таки заметил бы сейчас ее, не понял бы, неуместная ли то была улыбка или, как знать, может быть гримаса душевной боли, или что еще… А конецкий оператор действительно повернул камеру в сторону, и видно стало в эту камеру, как люди в медицинских масках и перчатках собирают обгоревшие куски мяса в мешки и как к телевизионщикам бежит, тряся пивным животом, сам генерал-майор полиции Суворов.
Пока корреспондент, как всякий общественный человек, энергетически подпитывается обращенными на него взглядами, выслушивает рев Суворова – сам генералиссимус Суворов, как известно, обладал надтреснутым тенорком, а вот генерал-майор полиции Суворов – отличным оперным басом, пока Марик слушает рев Суворова «Без комментариев! Бееез ка-мен-таариев! Очистить место происшествия! Молодой человек! Очистить!», мы вернемся к нашему главному герою. Потому что мы не желаем видеть, как Суворов, повернувшись, сделал понятный знак подчиненным, и Марика со свитой немедленно от снимаемой натуры, говоря протокольным языком, оттеснили. Спасибо, не разбили камеру. Мы этого незаконного действия не видели. Мы только знаем, что уже через несколько минут порядок был восстановлен, и Конец вместе с другими подъехавшими коллегами вещал метров за двести от места трагедии и вскоре вообще уехал в город. Об Марике мы с вами еще обязательно поговорим.
… Да, так в очередной раз очнувшись, Иван Сергеич увидел себя лежащим навзничь на низком топчане и тут же ощутил, как в спину ему упираются многочисленные бугры старого матраца. Стоял в комнате полумрак, пахло затхлой пылью.
Голубович приподнялся и осмотрел себя. Он лежал в тканых бесцветных льняных портах и в такой же рубахе. Поглядевши в порты, губернатор убедился, что по чреслам он обернут тoже льянной материей. Ощупав ягодицу и ногу, Ванек понял, что сквозь лён уже не проступает кровь, и следов крови вообще где бы то ни было не обнаруживается. Тотчас наш раненый ощутил сжатие и неудобство в руке и, подняв льняной рукав, увидел, что так же обернуты и левый его локоть, и ключица, отчего рука не сгибалась. Удивительным образом ни нога, ни рука не болели.
Ванек наш огляделся, отыскивая взглядом телевизор, почему-то именно телевизор, как мы совершенно точно знаем, должен был привлечь его сугубое внимание сейчас, но не привлек, поскольку телевизор в комнате отсутствовал. В углу на полочке стояли Спас в темном серебряном окладе и сдвоенные, в таком же окладе, образа – Ванек не разглядел, а мы вам сообщаем: Девы Марии с Младенцем и Николая Угодника, – пepeд образами теплилась лампадка, висящая на трех цепочках. А внизу, где должен был бы светить экраном своим телевизор, висел неизвестно зачем хомут, который в полутьме Голубович принял за сиденье унитаза. Вдоль стены помещались два огромных темных сундука, покрытых толстыми пеньковыми ковриками, а посередине комнаты – круглый стол, некрашеный, ничем не покрытый, грубо и крепко стесанный.
Голубович прислушался. Стояла тишина. Сколько времени он проспал – неизвестно. Время уплотнилось. Может быть, он спал пять минут, а может быть, пять часов… А может быть, сто пятьдесят лет. Как знать?
Он попытался все-таки услышать сейчас хоть что-тo, может быть, указания внутреннего голоса и даже мысленно спросил его: – Ну, че? Че, блин?
Внутренний голос молчал, но теперь молчал так, как молчит динамик радиоприемника, транслирующий паузу в речи выступающего – тишина теперь дышала в голове губернатора, и наконец из этой дышащей тишины раздалось:
– Новости… Новости…
Дважды произнесенное слово прозвучало тихо, даже сказать – кротко, но Голубович, воспрянув, тут же понял, почему он только что искал взглядом телевизор – из новостей он должен был узнать, что произошло. Голубович вскочил с топчана, но голова у него закружилась, и тут же наш Ванек тяжело осел на одр свой.
Вошла женщина в синем платье с подносом в руках. Она поставила поднос на стол и повернулась с улыбкой к Голубовичу.
Бывают лица – да вы и сами знаете, дорогие мои – бывают невыразительные лица, улыбка на которых совершенно преображает их; стоит человеку или даже, что там говорить, даже женщине с плоским каким лицом улыбнуться, как лицо это высвечивается словно бы Божьим светом, преображается, как в Неопалимой Купине собственной улыбки предстает пред вами человек, будто бы Бог… Простите нас, грешных… Простите нас, мы любим этот прекрасный Библейский сюжет… Так вот тут ничего такого и близко не случилось. На Голубовича смотрела серая бесцветная физиономия, растянутая резиновой улыбкой на серых же губах; серые пряди, собранные в косу, лежащую на спине женщины, не отражали свет, а, значит, не имели цвета, серые брови вошедшей вставали домиком; глаз ее не было видно в полутьме. Единственное, что понял Голубович – женщина еще очень и очень молода. Машинально наш долбанутый на теток Ванек попытался взглядом определить кондиции предполагаемой своей спасительницы и – не определил: глухое платье скрывало все; сиськи, правда – это можно было понять, – сиськи казались большими, платье у нее на груди вздымалось высоко и широко.
– Добрый день, – сказала женщина. – Вам надо покушать. Вот… Она показала рукою на стол. Там на подносе стояли стакан с молоком, тарелочка с нарезанным сыром и несколько ломтей хлеба – такого же, как волосы женщины, серого цвета.
Голубович набросился на еду, как волк. В одно мгновение смёл он и хлеб, и сыр, и выхлестал молоко единым духом, словно бы водку пил. Водку… Водку… Водку!
– Какие новости в области? – хотел было осторожно спросить Иван Сергеевич у женщины, но не спросил. – Как тебя зовут? – еще собрался было спросить, но тоже не спросил. – Это ты меня перевязала? – самый умный вопрос решил задать насильственно вырванный из привычной среды губернатор, но и этот вопрос не задал.
– Давай, вали ее в койку, – посоветовал внутренний голос, видимо, как и сам Голубович, уже пришедший в себя.
– Нет, – безо всякого выражения на лице сказала женщина. – Нет. Мне нельзя этого… Не с вами… Вы же знаете, – вдруг незнамо с чего добавила она, и Голубович в сей же миг помимо себя, совершенно безотчетно, похолодел с ног до головы. И тут же невыносимым жаром повеяло от холодной только что печи, в отверстом ее зеве заполыхал огонь, и пистолетными выстрелами в этом огне затрещали дрова. И женщина преобразилась – теперь она стала молодой, рыжеволосой, худенькой, с прищуристыми смеющимися глазами. Но лишь на миг.
– Прикид какой, блин, возьми и сваливай, на хрен, – посоветовал внутренний голос. – Ты ж, блин, не пойдешь в этих, блин, тряпках.
– Ааа… Яа… Ээ-тто… Од… дежду… мне ббы… – заблажил дрожащий от холода и страха Голубович.
– Голыми мы приходим в этот мир, и голыми уйдем из него, – вновь улыбаясь, произнесла женщина, принимая прежний облик, и губернатор, опустивши огненный взор свой, обнаружил себя стоящим пред нею совершенно голым – правда, чистым и без каких бы то ни было следов боевых ранений. От печи продолжало нести жаром, и тут Голубович почувствовал себя как бы в сауне. Он даже слабо улыбнулся этой аналогии; стало полегче. Однако глаза женщины вдруг блеснули синим лазерным светом, и Голубовича вновь свело холодом. Поскольку мы никогда не врём, честность побуждает нас тут засвидетельствовать, что под направленным взглядом молодой женщины причиндалы губернатора отнюдь не восстали, что обычно в подобных обстоятельствах происходило с ними в автоматическом режиме. Ну, не восстали. Что было, то было. А сейчас не случилось. Голубович в тот миг не понял, не внял, что это была плата за спасение.
Тут ради подтверждения нашего свидетельства мы должны несколько оторваться от размеренного повествования и упомянуть, что в самую свою первую международную командировку Голубович отправился мно-ого лет назад по линии Общества дружбы «СССР – Испания». Прямо сразу в капстрану, хотя за рубеж советских людей сначала – для проверки – выпускали в социалистические страны – вы помните, что такое социалистические страны, дорогие мои? в какую-нибудь Болгааарию… Пооольшу… А Югославия тогда благодаря невнятности и переменчивости ревизионистских позиций cвоего лидера – существовала тогда такая страна –Югославия, значит, считалась в райкомах социалистической наполовину и наполовину капиталистической…
Голубович тогда только-только начал общественную карьеру. И вот где-то в неведомых верхах решили, что, мы извиняемся, членом Общества следует записать какого-никакого провинциального активиста, и Голубович, ставши тогда самым молодым членом бюро Глухово-Колпаковского обкома КПСС, неожиданно оказался в друзьях солнечной Испании. Если б второй секретарь обкома знал, что теперь этого Ваньку Голубовича станут то и дело включать в самые разнообразные делегации для поездок в страну Гарсия Лорки, он бы, наверное, сам записался в друзья. Но уж поздно было – Голубович прошел по всем отчетам другом испанцев, а в Москве да и везде, как про чиновников всегда известно, не любят новых людей и новой работы, хоть и с бумагами: есть такой И. С. Голубович из Глухово-Колпакова, и хорош, пусть дальше дружит, зарекомендовал себя положительно.
Да, так поехал, значит, наш любимый в Валенсию на какой-то юбилей не то падения Валенсии пред франкистами, не то освобождения Валенсии от франкистов – в точности мы не знаем. Ну, чего не знаем, того не ведаем, а врать не станем. Да мы и никогда не врем.
И в первый же день советскую всю делегацию повезли на пляж. Средиземное море хоть в Валенсии, хоть где в Испании, хоть в какой еще стране на его побережье – прекрасно, это тоже мы можем засвидетельствовать совершенно непреложно. Но только пляж в Валенсии, куда привезли советскую делегацию, оказался нудистским пляжем местного университета. По всей вероятности, то была заранее подготовленная провокация Запада.
Дык вот там, на пляже, наш Ванек очень скоро оказался лежащим на животе с головою, уткнутой в песок, и красот побережья и морской дали толком не увидел тогда. Потому что немедленно, попавши в окружение молодых голых теток, которые все как одна – так ему показалось – утыкались взглядами ему, Ваньку, между ног, – а был он еще молод, очень молод! – наш Ванек немедленно, значит, и очень-очень сильно возбудился и вынужден был улечься на живот, чтобы не отсвечивать посреди империалистической Европы устремленной к небу елдой, словно бы оснащенною огромной ядерной боеголовкой советской ракетой на старте. Ну, с непривычки произошло, дорогие мои, ведь провокативная западная свобода тогда известна была Голубовичу исключительно по инструкциям в отделе пропаганды обкома КПСС, а возможность попадания на нудистский пляж даже в оных весьма подробных инструкциях не предусматривалась. Про публичные дома предупреждали, а про пляжи нет. Вот ведь, а? Козлы советские!
Скромное поведение молодого Голубовича не осталось незамеченным так называемым сопровождающим, который как раз всех баб с удовольствием рассматривал, сидя по-турецки под тентом, и, будучи закаленным в поездках, эротически никак на окружающий пейзаж не реагировал, даже когда буквально в двух шагах от него студенты замутили огромную двигающуюся, стонущую, орущую групповуху.
Отмечена, значит, была скромность провинциального партийца, вот он и начал бесперечь летать туда-сюда, и на том именно пляже в Валенсии во благовременье побывал уже в одиночестве и прекрасно там провел время. Но речь сейчас не об этом, дорогие мои, это в сторону, да, в сторону.
… Речь о том, что теперь под взглядом молодой женщины голый Иван Сергеевич остался в совершенно спокойном состоянии, и это спокойное состояние очень самого Ваньку удивило и добавило ему холодной дрожи. Хотя всей грандиозности произошедшего, точнее – не произошедшего Ванек тогда не смог оценить.
– Ништяк, – сказал тут внутренний голос, как всегда, приходя на помощь. – Надо будет, встанет, блин, как новый. Не ссы, блин.
– Ддд… да-да-да… – произнес Голубович. – Яа… Яа… Кк… кон-неч… но…
– Хе-хе-хе-хе, – неожиданно засмеялась женщина дребезжащим старческим смешком, и немедленно Голубович в очередной раз потерял сознание.
Вот с этого своего невстатия все в тот день и началось – так потом полагал Голубович, ну, и мы с вами тоже именно так и станем полагать. Не с появления взорвашего губернаторский кортеж террориста – в Глухово-Колпакове, где террористов отродясь не бывало, а вот именно с его, Голубовича, личного бессилия. Все и пошло-поехало.
Ну-с, что там далее в доме под вековым дубом случилось, мы знать не знаем. Известно только, что с той минуты Иван Сергеевич Голубович окончательно раздвоился, что вовсе не удивительно, посколько руководил он не какой-нибудь иной, а именно Глухово-Колпаковской областью, где в единственном экземпляре редко что существует. Такая вот областная особенность. Причем речь не только об раздвоении душевном и каком-нибудь еще иррациональном. Нет, Иван наш Сергеич заново родился и родился сразу в двух экземплярах – один Иван Сергеевич отныне, если к тому вынуждали обстоятельства, мог находиться у себя в офисе и, скажем, проводить пресс-конференцию какую, принимать доклады о чрезвычайных событиях, которые вот прямо сейчас начнут – да уж начали, начали они! – происходить, а второй Иван Сергеич мог в то же самое время в офисе своем блистательно отсутствовать и пребывать не сказать, чтобы совершенно в ином измерении, но уж точно в другом месте и – в обществе какой-нибудь барышни руководить, например, взрывными работами. Забегая вперед, можно еще раз сказать, что с барышней тет-а-тет ему с той поры находиться стало совершенно бессмысленно, но об этом речь впереди. Может, дело еще и поправится. А что до раздвоения душевного и выслушивания разных несуществующих голосов, то с той минуты оное душевное раздвоение, соединясь с раздвоением натуральным, физическим, достигло у Голубовича поистине геркулесовых столпов. Вот сами скоро убедитесь.
Значит, потерявши сознание, Голубович тут же очнулся и увидел себя стоящим на краю красного картофельного поля, через которое несколько часов назад он ковылял, истекая кровью. Видимо, губернаторская кровь очень обильно увлажнила и остатки ботвы, и валяющуюся тут и там, не попавшую на ленту транспортера, но извлеченную из земли картошку, и саму грубо взрыхленную глухово-колпаковскую землю, или же это красные круги летали у Голубовича перед глазами, или же это Божье солнце, приуготовляясь упасть за недальний лес, уже начало озарять округу прощальным своим светом – только вся она, округа, показалась Голубовичу полной живой, пульсирующей крови, словно бы сквозь багровые линзы глядел он сейчас.
Вдали, на шоссе, стояло десятка два машин и ходили взад-вперед люди. Все они за несколько мгновений один за другим перестали двигаться и неподвижно уставились вдаль – на неподвижную фигуру в отлично выглаженной серой паре с галстуком. Губернатор оглядел себя, сдунул – пуу! – невидимую пушинку с рукава и твердой походкой, давя отлакированными, словно бы только что родившимися штиблетами красные комья земли, зашагал вперед. И тут, наконец – вот только сейчас! – с неба упал, словно рухнувший самолет, – с таким же страшным грохотом с неба упал ливень.
V
Прежде чем рассказать о дальнейших событиях, мы должны посвятить вас, дорогие мои, в краткую теорию мостов и путепроводов. Путепроводами, чтоб вы знали, называются мостовые переходы через любые пути сообщения, кроме водных. Например, путепровод, по которому тяжко проходит паровик, когда вы в пролеточке проезжаете – или, пожалуйста – именно пролетаете под ним на дачу, есть именно путепровод, а вовсе не мост. Так же и в городской черте путепровод над железнодорожными путями возле, к примеру, Николаевского вокзала, путепровод, по которому, вы, не давая шенкелей, удовлетворенно и расслабленно галопируете домой, опять-таки, к примеру, после двухчасового или, страшно молвить, трехчасового пребывания у знакомой посадской девицы, совершенно неправильно называется мостом. Это путепровод. А мост – он только через реку мост. Или через канал какой. Или же, к примеру вам сказать, только что начавшийся строительством Бруклинский мост через пролив Ист-Ривер в Северо-Американском городе Нью-Йорке, на котором уже успел погибнуть Джон Рёбринг – проектировщик и руководитель работ. А мостовой переход через, например, низину или широкий овраг, лишенный каких бы то ни было дорог, называется вообще виадуком. Тут уж ничего не поделаешь.
Но самое главное другое.
Вы, дорогие мои, по всему вероятию, представляете себе мост… путепровод… виадук как нечто незыблемое, установленное на незыблемых же опорах. Отнюдь! Мы не станем вам рассказывать про мосты, скажем, Цезаря, Александра Великого или даже Менеса, самого первого, как вам прекрасно известно, фараона Египта. Все они – то есть, мосты, а не поименованные нами государственные мужи, все мосты в различных вариациях представляли собою жерди, аккуратно уложенные на выдолбленные лодки. А уж по жердям, иногда падая с них или между ними, проходила и легкая, и тяжелая пехота, и легкая, и тяжелая конница, и колесницы, и – чуть мы не написали «легкие» – боевые слоны. Так что поставленные вплотную друг к другу деревянные барки на якорях, называемые плашкоутами, покрытые тесанными бревнами, а те, в свою очередь, как ребра кожею – грубо струганными досками, барки эти – тоже мост, принципиально ничем не отличающийся от мостов Менеса в конце третьего тысячелетия до нашей эры.
Красин с инженером Рёбрингом был хорошо знаком письменно, поскольку много с ним переписывался и, между прочим, уже после всех описанных нами событий к сооружению Бруклинского моста имел самое непосредственное отношение.
А пока Красин вышел из дворницкой; позади него неотступно следовали Морозов и Храпунов. Во дворе перед дворницкой никого, разумеется, не оказалось, словно мощное шествие людей по Невскому всосало, вобрало в себя решительно все население Санкт-Петербурга, кроме этих троих.
Красин не отметил даже вранья Морозова, что на улице, дескать, находятся его люди. Раздавлен был Иван Сергеевич, раздавлен и опустошен впервые в жизни, но одновременно и полон надежд, потому что Катю!.. Катю! Катю!.. обещали ему вернуть живой и невредимой! Так что некоторая шизофрения начиналась в несчастной красинской голове. Впервые в жизни, надо вам признаться, дорогие мои, впервые в жизни Красин столь непосредственный контакт имел с подонками в обличье людей и тем более впервые стал принужден вступить с такими личностями в переговоры и, сверх того, пойти на соглашние. Знал бы он, что ни одному слову их верить не следует, наше правдивое повествование в очередной раз пошло бы, возможно, по другому пути. Но что было, то и было, мы, опять-таки, врать не станем.
– Немедля же и едемте, Иван Сергеевич, – сказал за спиною Красина Морозов, – к ночи доедем. Тут у меня за углом экипаж. А в нем и фонари, и лопаты – все припасёно… Найдете заветное место в темноте-то, милый человек?.. Где прикопано-то?
– Найду.
– Ну, дык все одно – фонари у меня. Да-с! Припасёно!
– А?.. – Красин оглянулся на приоткрытую дверь дворницкой, неопределенно показал на нее рукой, желая сказать, что надобно из дворницкой вынести труп Харитона Борисова, оказавшегося заурядным полицейским филером, да и Никифора-дворника отыскать и объяснить ему произошедшее, потом показал рукою на свои окна, за которыми по-прежнему лежал на диване мертвый князь Глеб Кушаков-Телепневский, которого необходимо было с честью похоронить – показал, значит, рукою, желая все это сейчас думаемое сказать, но – не сказал, словно бы на несколько мгновений лишился языка.
– Пустое, Иван Сергеевич. – Исправник отлично понял Красина. – Не волнуйтеся по пустякам. Само собою складётся, ей-Богу.
Храпунов крякнул, выхаркнул перед собою плевок и засмеялся.
– Без тела князя Глеба Глебовича я не поеду, – сухо сказал Красин, вновь обретший речь. – Что хотите делайте. Надобно похоронить по-людски и непременно в фамильном некрополе. Это вам не ваша собачка служивая.
Теперь крякнул Морозов и выхаркнул плевок смачнее храпуновского.
– Ладно, милый человек… Будь по-вашему… Не удумайте только еще какого дела. – Морозов вновь стал раздражен. – Помните об княжне своей… Ежели что – не сомневайтеся, Иван Сергеич… Сразу… Помните…
– Я помню.
Через двадцать минут из красинского подъезда вышли Красин в дорожном плаще и в островерхой гарибальдийской шляпе, в которой он и в самом деле напоминал могильщика, Храпунов, не изменивший облачения своего, и Морозов, который был теперь в красинском путейском сюртуке, никак не желающем сходиться у исправника на животе и потому расстегнутoм и показывающем белую нижнюю рубаху. Вместо форменных штанов на исправнике оказались синие на помочах китайские шаровары, в которых Красин в гимнастическом зале Вольфа Пфиценмайера когда-то баловался с гирями. Ну, про красинские гири мы вам уж говорили, дорогие мои. В свободные для Красина шаровары ляжки морозовские туго, но вошли, а концы шаровар Морозов подвернул. Красин нес на руках, прижимая к себе, длинный, большой, но, по всему вероятию, не очень тяжелый сверток, обернутый в два пледа и в несколько крестов перетянутый жгутом, и потому напоминающий египетскую мумию, а Морозов тащил завязанную в узел скатерть. Со стороны понять нельзя было, а мы вам можем сказать, что в узле обретались жандармские Морозова форма, портупея и шапка с орлом. Про ношу Красина понятно. А Храпунов нес под мышкой аккуратно сложенный хороший сермяжный мешок; уж не знаем, где он нашел мешок у Красина, может, прачка оставила.
Все трое один за другим, как гуси, повернули за угол и скрылись. И немедленно: – Иван Сергеич! – запоздалый прозвучал зов.
Из противоположной арки выскочил господин в пенсне, с бородою лопатой, в цилиндре, во фраке, с тростью, которую держал он как топор, словно бы в добрую сечу с лютым ворогом собрался сейчас. Трудно было бы узнать, когда мы вам не подсказали бы, дорогие мои, в галопирующем штатском господине полковника Сельдереева. Впрочем, красное его лицо осталось точно таким же узнаваемым, как и в день явления в Императорской России Александра Хермана с пристными своими – поэтом Облаковым и самою мадам Облаковой-Окурковой.
– Иван Сергеевич! – еще раз прокричал Сельдереев и вслед за нашей троицей забежал за угол.
Там, за углом, прошедши буквально шагов десять, идущий впереди Морозов с удивительной для его комплекции легкостью юркнул в узкую арку. Хмурый Красин, прижимающий к себе свой сверток, свернул за ним. Сельдереев наткнулся на поворачивающего в арку Храпунова и отлетел от него, как от столба, но не упал, устоял на ногах.
– Иван Сергеевич! Иван Сергеевич!
– Que voulez-vous, monsieur?[108] – пробасил Храпунов.
Сельдереев пробовал обойти Храпунова справа, слева – тщетно, тот каждый раз заступал дорогу.
– Donner le feu![109] – завопил Сельдереев.
В этот момент из арки, клацая подковами, показалась лошадь. В пролетке, которую мы с вами, дорогие мои, еще недавно видели в Кутье-Борисове, сидел один Красин, сверток лежал у него в ногах. Вожжи, утвердясь на облучке, держал сам Морозов. Кучер теперь отсутствовал. Храпунов, молча сопя, полез в накренившуюся пролетку. Сельдереев бросился к Красину.
– Иван Сергеевич! – заголосил Сельдереев. – Чрезвычайное происшествие! Чрезвычайное! Надо срочно, немедленно найти руководителя «Фабричного союза». Мы отказались от сотрудничества с этой организацией…
Морозов, не обращая внимания на вопящего, уже медленно выворачивал пролетку из арки – надобно было править аккуратно, чтобы выехать, не задев за стены, иначе исправник уже пустил бы лошадь вскачь. Красин посмотрел на Сельдереева и отвернулся. Совсем плох стал Красин, дорогие мои.
… – и напрасно! Напрасно! Опрометчиво отказались! Иван Сергеевич! Движение решило предложить «Фабричному союзу» совершенно другие условия! Вы включены в состав делегации! – заблажил Сельдерев. – Делегации по переговорам с «Фабричным союзом»!
Еще мгновение, и Морозов вытянул бы кнутом по лошадиной спине. Храпунов остановил его руку.
– Je suis le chef de l’Union du usine, – сказал Храпунов. – Alors quoi?[110]
– Ах, – отмахнулся Сельдереев, – что за шутки! Иван Сергеевич! Остановитесь, Бога ради! Нужно найти…
– Тебе сказали, мать твою, старый козел. Я руководитель, на хрен, «Фабричного союза» Серафим Храпунов. Какого хрена тебе, мать твою, надо, пидорас?
Сельдереев просиял. Правая рука его совершила странное движение в воздухе. То ли он собрался отдать честь Храпунову, но вспомнил, что находится в котелке, а не в форменном кепи, то ли он собрался было котелок снять и приветствовать вновь обретенного союзника по борьбе с деспотизмом, то ли протянуть Храпунову руку – неизвестно.
– Да, – равнодушно произнес Красин, – это он.
– Ну, мать твою? Че, мать твою?
– Ах!.. Я прежде не имел чести… Серафим Кузьмич!.. Нам всем сейчас же необходимо отправиться в гостиницу «Савой».
– За каким хреном?
Сельдереев опасливо оглянулся и тоже полез в пролетку…
– Сейчас все объясню, дорогой Серафим Кузьмич…
Александр Иванович Херман, не пожелавши куда-либо выйти из гостиницы, принял руководителей Движения у себя в Savoy – не в номере собственном, разумеется, где в дальней комнате – в спальне – все еще возлежала на розовых шелковых подушках голая fucking bitch[111] мадам Облакова-Окуркова, и отсвет розового белья подкрашивал розовым ее белый жирок, где в кабинете разложены были по стульям несколько фраков и смокингов, поскольку Александр Иванович накануне столь неожиданного, незапланированного и руководимого отнюдь не Движением народного волнения выбирал облаченье для завтрашней речи, где в первой и во второй комнатах все еще стояли по два или по три нераспакованных чемодана, а в прихожей поэт Окурков, примостившись на банкетке у подоконника, скромно пил прямо с оставленного лакеем серебряного подноса дымящийся coffee. Продолжение совещания, недавно покинутого Красиным и вновь к нему теперь вернувшeгoся, состоялось и не в ресторане Savoy, где, по всему вероятию, Александру Ивановичу пришлось бы за всю компанию платить – а он справедливо полагал, что хватит, и так он всю жизнь за всех на свете платит, – а в одном из halls гостиницы, причем в самом дальнем и маленьком hall.
Вокруг овального стола с лаковыми на столешнице инкрустациями сидело всего несколько человек. Мы сомневаемся, дорогие мои, что собравшиеся составляли – простите, но мы произнесем это слово – кворум, что собравшиеся составляли кворум руководства Движения. Но Движение как таковое, несомненно, они представляли, поскольку присутствовали тут два первых в Движении лица – Александр Херман и Николай Темнишанский. То есть, они считали себя первыми. А на самом деле первый, он же – скажем мы, предвосхищая, как не раз мы это делали в нашем правдивом повествовании, предвосхищая события – он же и последний руководитель Движения был тут Серафим Кузьмич Храпунов.
Херман в отличном фраке, оглаживающий пластрон, Темнишанский в коротком зеленом сюртучке и подсученных брючках, делающих его похожим на отставного учителя, Храпунов в длинной синей чуйке, Сельдереев в своей черной фрачной паре, Морозов в красинском путейском облачении – кто таков есть сей господин, ни Херман, ни Темнишанский не удосужились спросить, а презрительно брошенное Храпуновым гостиничному швейцару «Cette monsieur avec moi»[112] они не слышали. Темнишанский сам чувствовал себя здесь не совсем уверенно – вряд ли Николай Гаврилович являлся завсегдатаем савойских или же каких других halls. А вот Храпунов никаких неудобств, по всей видимости, не испытывал, сидел нога на ногу, покачивая носком сапога. Да, и наш Иван Сергеевич, не пожелавший снять ни плаща, ни шляпы – странновато он выглядывал в дурацком гарибальдийском колпаке в гостиничном интерьере, прямо вам доложим, странновато. Единственный, кто органично смотрелся на этом параде мод из различных социальных слоев, был капитан Васильев в белом летнем кителе. Вот вам и весь кворум: не считая Морозова, пять человек, а в руководстве Движения считалось аж целое – вновь мы извиняемся, но каждый понимает в меру своего жизненного опыта, да-с, целое «очко» – двадцать один человек.
А впрочем, нет! Спросили про Морозова! Васильев погладил щеточку пшеничного цвета усов, тихонько наклонился к Сельдерееву и прошептал, косясь на неизвестного пришлеца:
– Кто это?
– А Бог его знает… Кучер. – Сельдереев слегка развел руками. – Должно, из «Фабричного союза»… Или состоящий при Серафиме Кузьмиче.
Васильев пожал плечами и более уж про Морозова не спрашивал.
– Господа! Товарищи!
Сельдереев, поднявшись, уперся кулаками в стол.
– Не имеючи прав на открытие заседания в нынешнем его виде и составе… Э… – он вновь произвел рукою непонятный округлый жест. – Остальные не нашли возможным… Вы сами изволите убедиться, господа…
Тут Херман и Темнишанский совершенно одинаково хмыкнули.
– Но самоличное присутствие Серафима Кузьмича и… э… – он быстро взглянул на Морозова, ушлый исправник только важно кивнул, – э… дает мне возможность заседание наше открыть… а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами… Э… Таким образом, считаю открытым! Господа! Считаю заседание открытым! Имеются возражения, товарищи?
– Fucking clowns, fool buffoons,[113] – тихонько прошептал под нос себе Херман.
– Простите, Александр Иванович?
– Что-с? Как вы изволили?
– Нет-нет-нет! Продолжаемте, гос… друзья! Я слушаю.
– Настоятельно прошу вас излагать побыстрее, Петр Сельдереевич, – раздраженно произнес Красин, тут и мы с вами его бы не узнали, дорогие мои, Красина-то… – Время дорого!
– Совершенно верно, Иван Сергеевич! В связи с чрезвычайными… суть состоит в следующем: в последние несколько часов в Петербурге по фабричным окраинам распространилось известие, что будто бы где-то в провинции… причем недалеко от столицы… как бы сказать… даже затрудняюсь произнесть… – Сельдереев на мгновение замолчал, глубоко вздохнул и решился: – Одним словом, открыто месторождение так называемого зеленого вина! Водопад зеленого вина! Это, господа, народное такое название… Народное название водки, товарищи… То есть, месторождение водки! По слухам! Водопад водки!.. Водопад!
Васильев присвистнул, Морозов с Храпуновым переглянулись и явно напряглись.
– Кучер, – пробормотал Морозов. – Кучер… Надо было сразу его валить… Эх! Никто бы не хватился!
Храпунов шумно вздохнул.
– Какова же чистота очистки? – весело спросил Васильев и подмигнул. – Может, это заурядная сельская брага? Нет ли там в земле шустовского коньяку? Любая корчма…
– Перестаньте! Тут не шуточки вам! – взвизгнул Сельдереев! – Стыдно-с! Я ее не пил!
– Виноват! – улыбающийся Васильев вскочил и щелкнул каблуками; зазвенели шпоры.
Коль скоро на Васильеве надеты оказались шпоры, значит, накал волнений в городе не столь велик, если офицеру в форме стало возможно проехать верхом до самого «Савоя». Так вот мельком подумал Красин; мысль пришла и ушла, и вновь он теперь неотступно думал о Кате.
– Fucking buffoons, – вновь прошептал Херман. – To be taken in for so much… So much![114]
Теперь Александра Ивановича никто не услышал.
Куда уходит нежность, думал сейчас Красин, когда мы умираем? Ведь это невозможно, чтобы его нежность к Кате, ежли, предположим, его, Красина, сегодня или завтра все-таки убьют, оказалась бы убитою вместе с ним. Куда уйдет его неистощимая нежность к Кате, которой нет ни границ, ни пределов? И, размышляя, Красин пришел к выводу, что нежность его никогда не умрет, а будет вечно пребывать на Земле или же где-нибудь возле Земли, чтобы всегда сопутствовать Кате, всю ее жизнь и даже после окончания ее жизни, хотя предположить, что жизнь Кати когда-либо окончится, Красин никак не мог. И пришедши к этому единственно возможному заключению, Красин отстраненно заулыбался, становясь действительно похожим на тихого сумасшедшего.
– Таким образом, господа, у нас один вопрос, – продолжал Сельдереев: – Присоединиться ли к неожиданному народному волеизъявлению и даже возглавить его и вместе с народом, идущим к Зимнему дворцу… То есть, что я… Собирающимся только идти… Завтра же собирающимся идти требовать от Государя Императора… То есть, что я… Требовать от Александра Николаевича Романова оглашения точного местонахождения… Так сказать, обнародования… Обнародования народу… Простите, господа! Я очень волнуюсь, товарищи!
Тут и Херман, и Темнишанский вновь совершенно одинаково хмыкнули. Темнишанский при этом смотрел в пол, а Херман – так же неотрывно – в потолок. На потолке розовый купидон готовился пустить стрелу в толстую голую девицу, положившую тщательно выписанные груди на плафон. Получалось, что плафон помещался как раз между основательными сисями девицы. Несколько эта измышленная девица напоминала мадам Окуркову, поэтому, возможно, ее изображение на потолке вызвало интерес Александра Ивановича. А что Николай Гаврилович видел на полу – загадка, в «Савое» был пол как пол – наборный дубовый пополам с кленовым паркет.
Думая о своей любви к Кате, Красин – порядочный, сильный человек, во всех отношениях настоящий мужчина, совершенно трезво, внешне продолжая представлять cобою чуть ли не полоумного, совершенно трезво спрашивал себя сейчас, еще и еще раз, на что он готов, чтобы Катя… Катя! Катя!.. чтобы Катя вернулась к нему живой и невредимой. И с ужасом отвечал, еще и еще раз с ужасом отвечал себе, что готов на все. Поскольку без Кати он, Иван Красин, не хочет и не может жить.
Мы не знаем, дорогие мои, как относиться к такому красинскому решению. Некоторые считают, будто бы всему на свете существуют или, во всяком случае, должны существовать пределы, в том числе и в любви. А другие считают – ничему никаких пределов существовать не может и не должно, и прежде всего в любви. Так вот, между прочим, полагал коллега наш с вами Уильям Шекспир из Стратфорда-он-Эйвона, небольшого городка в графстве Уоркшир в Великобритании. Или кто там за него писал… Признаться вам, дорогие мои, мы сами впервые по-настоящему полюбили в возрасте куда более существенном, нежели тогдашний возраст Красина – мы полюбили хорошо на шестом десятке, и пока никаких собственных мнений на сей счет… А впрочем… Впрочем… Да… Мы тоже готовы ради своей женщины на что угодно. Вот на что угодно. Предать… Зарезать хоть кого… Мы говорим сейчас совершенно серьезно. И нам приятно осознавать, сколь близко эта готовность роднит нас с Шекспиром.
Но это в сторону, да, в сторону.
Вернемся в hall, где Красин машинально последовал за взглядом Хермана, и не толстая рубенсовская деваха, а голая Катя… Катя! Катя!.. помстилась ему изображенною на потолке. Тут улыбающийся Красин почувствовал, что детородный орган его сам по себе неостановимо твердеет и увеличивается в размерах. Так бывает с любым подростком, едущим верхом или же в тряском, да хоть и не в тряском экипаже, с любым подростком, которому даже не показывают при тряской-то езде голую Катю… Катю! Катю!.. Или, к примеру, еще какую занимательную картинку подростку представить… А у Красина нашего, кстати тут вам сказать, дорогие мои, самопроизвольная, а также и утреняя эрекция регулярно наступали с четырех лет, чем он в свое время чрезвычайно умилял решительно всех горничных.
Ну-с, далее эту хрестоматийную тему про горничных мы с вами развивать не станем, поскольку вы сейчас читаете сугубо приличное, хотя и совершенно правдивое повествование. Достаточно сказать, что Иван Сергеевич вдруг почувствовал, как штанину его изнутри заливает горячий неудержимый водопад.
– Водопад! – прозвучало у него в ушах сельдереевское словцо. – Водопад!
С ужасом опустивши взгляд, Красин констатировал, что огромное мокрое пятно уже проступило, разумеется, у него на брюках и разрастается. Тут-то Красин, наконец, совершенно вошел в сознание. Он с деланным равнодушием взял лежащую возле него на столе шляпу и положил себе на колени, словно бы салфетку. Никто не обратил на него внимания, все слушали Сельдереева.
–… потребовать от императора Александра Николаевича… Словом, требовать вместе с народом… обнародования… точного местонахождения водочного источника… Или же с помощью уважаемого Серафима Кузьмича, присутствующего здесь, погасить народный протест… Господи, что я говорю!.. – плоское лицо Сельдереева покраснело и мгновенно покрылось потом. – Да-с! Временно погасить и направить народ к выдвижению наших требований, суть: конституционная реформа, передача власти выборным представителям Движения по примеру западного государственного устройства… И уже с этим идти к Зимнему… Или же немедленно взять Зимний под нашими лозунгами… С другой стороны, когда трезво, – тут Сельдереев нервно хихихнул на словце: – когда трезво, хе-хе-с, трезво взять в рассуждение, господа… Если у народа станет сколько угодно бесплатной водки, что ему еще будет нужно, товарищи? Да ничего!.. Вы хотите что-то сказать, Александр Иванович?
– Мм… да! Я хочу сказать, гос… друзья, что давно разочаровался в западном конституционном устройстве… В западной буржуазной морали и в буржуазных общественных принципах… И вообще в западной цивилизации… Your fucking Western civilization![115] Я ею сыт по горло, господа!
– Браво! – Темнишанский поднял голову, сдернул с носа пенсне, быстро протер его платком, вновь водрузил на нос, встал и протянул руку Херману. Сельдереев и Васильев бурно зааплодировали рукопожатью обоих выдающихся теоретиков Движения.
– Fuck![116] – Херман явно начал раздражаться. – У России особый путь! И народ радостно идет по этому пути! А мы с вами имеем возможность соединить два разных течения революционной мысли в одно! В один поток! В водопад, гос… друзья мои! В неистощимую реку народного гнева! – Херман замолк и почему-то сказал, словно бы сам себе: – Oh my God… If people do not want to listen to their liberal leaders… and want to listen to those who promise free vodka… Let it disappear! It serves right![117]
– Браво! – Темнишанский повторил это уже почти крича. Темнишанский совершенно не знал английского. – Браво! И мешать народу преступно! Преступно! Народ найдет водочное месторождение и сам себя немедленно и окончательно освободит без всякого выкупа! Тогда сохранится общинное владение землей, которое уже через год-два приведет к социалистическому землепользованию! Товарищеская форма производства уничтожит капиталитическое производство! Мешать этому преступно! – тоненьким голоском кричал Николай Гаврилович. – Естественные потребности народа, а также общественные привычки и обстоятельства, будучи полностью удовлетворенными, приведут к полному расцвету личности! А это возможно только через революцию! Расцвет личности народной возможен только через народную революцию!
– Браво! – теперь закричал Васильев. Он встал и, в свою очередь, пожал Темнишанскому руку. – К оружию! К оружию!
– Народ явится требовать водки и заодно сметет всех Романовых с их косметическими декоративными реформами! С незаконченным освобождением крестьян! С ложью о будущем даровании конституции! С ложью о свободе! Мы с… вот с Александром Ивановичем освобождены… допущены до обеих столиц… Высочайшим указом… Но мы с Александром Ивановичем…
– Fuck! Of course, we are always together with Nikolay Gavrilovich![118] – подтвердил Александр Иванович. И вдруг продекламировал, пользуясь тем, что никто из присутствующих не понимает по-английски:
Mary had a little lamb, Its fleece was white as snow; And everywhere that Mary went, The lamb was sure to go.[119]Темнишанский не обратил на стишки ни малейшего внимания.
– Мы рассматриваем наше освобождение как подлую уловку царизма! Свободу нельзя подарить! Поэтому… вот… Мы не верим нашему лживому освобождению!
– Fuck! Fuck![120]
– Свободу возможно только взять! И народ сам возьмет свою свободу! Скинет оковы!
Тут молчащий до сей минуты Морозов вновь крякнул, как селезень, призывающий симпатичную уточку. И на зов немедленно откликнулись.
Дверь в hall приоткрылась, в щель просунулась разделенная пробором точно пополам напомаженная голова гостиничного лакея. Но он даже не успел ничего спросить.
– Любезный! – восторженно закричал Васильев. – Шампанского!
– Слушаюсь…
– Buffoons! Fucking buffoons! I’m not going to pay for your stupid champagne![121]
Голова исчезла. Храпунов громко засмеялся, все, кроме Красина, посмотрели на него и, возможно, поэтому, когда за матовою стеклянной дверью возникло некоторое движение и странные стуки, они остались незамеченным сидящими вокруг стола. Что уж говорить, что произнесенные за дверью слова лакея «Точно так, вашшш высокобродь… Здеся обои изволят находиться… И еще с ими пятеро лиц… Подавать прикажете на семь кувертов или же на восемь?» оказались не услышаны, как не был услышан и ответ.
Все время от начала речи Сельдереева Красин сидел совершенно безучастно, с отрешенной улыбкой на лице, но глаза его были счастливы, потому что он думал о своей любви и нежности к Кате. А после того, как он столь неосторожно поднял взгляд к потолку, Красин более ни на что не реагировал. Он не только не слышал, он попросту не слушал, что ему говорят, сидел неподвижно, словно бы конная статуя, и глаза его теперь безумно сверкали, как – простите нас за это сравнение – как два раскаленных угля. Можно было бы предположить, дорогие мои, что Красин сейчас пребывал – разумеется, в мыслях своих – вместе с Катею на, скажем, зеленом лугу. Вместе с Катей! Катей! Катей!..
– Иван Сергеич! Иван Сергеевич!.. Да что ж это? Иван Сергеевич в постоянной прострации пребывает!
Красин поднял голову. Из всего сказанного ему сейчас он услышал только два слова: Дворцовый мост.
– Дворцовый мост!
– Да… – Красин было рефлекторно приподнялся, но вновь поспешно опустился на стул.
– Дворцовый мост – наплавной конструкции, – начал он докладывать, словно на экзамене, кажется, действительно не соображая, что, зачем и где говорит. – Пролетные строения, состоящие из деревянных балок, поперечин и настила, уложены на плашкоуты, расставленные поперек реки и закрепленные якорями. А после реконструкции двадцать первого года мост имеет каменные береговые устои и пролетные строения подкосной системы. Плашкоутов в настоящее время пятнадцать штук, господа… Три плашкоута переведены на Дворцовый из состава бывшего Исаакиевского моста, а на месте Исаакиевского моста теперь устроена лодочная переправа… Потому что изволите ли видеть: после окончания строительства Благовещенского моста, расположенного ниже по течению Невы, – безумно продолжал Красин, – Исаакиевский мост потерял транспортное значение. Проект наплавного мостового перехода напротив Зимнего Дворца разрабатывал еще покойный инженер Герард Иван Кондратьевич. – Тут Красин прокашлялся, и голос его окреп. – Мною, инженером Красиным, еще два года назад подан был на Высочайшее имя проект мостового перехода, целиком выполненного из стальных клепаных балок с возможностью поворотного подъема двух центральных пролетов… Революционный для России проект! Революционный проект! – гордо повторил он эти слова, на мгновенние счастливо впадая в прошлую свою жизнь, и странно прозвучало слово «революционный» в этом собрании и в этот час. И, кстати тут сказать, совершенно впустую прозвучало, дорогие мои.
Повисла тишина.
– Иван Сергеевич! Иван Сергевич! Как скоро возможно развести и свести нынешний мост?
Красин пожал плечами, поерзал на стуле и поправил на коленях шляпу.
– Часа за два… Один из плашкоутов выводится из линии, а с двух смежныx с ним плашкоутов поднимается с каждой стороны по половине пролета… – остатки сознания проявились в несчастной красинской голове, он вспомнил помимо себя: «какую-то ручку надо крутить» и усмехнулся: – С помощью несложной зубчатой передачи… И точно так же выведенный плашкоут устанавливается на прежнее место, а пролеты опускаются…
– Только крови никакой не надо, друзья мои, – вдруг сказал Херман. – Убивать никого не надо… Романова убивать не надо… Лишь отстранить…
Его никто не услышал. Усмешки сидели на лицах Морозова и Храпунова.
– Bloody fools! Bloody clowns![122]
– А команда? – возбужденно спрашивали Красина Темнишанский и Сельдереев. – Команда моста? Состав команды?
– Ну, я не знаю в точности, господа, – Красин вновь пожал плечами. – Это несколько… Тут не моя компетенция… Три или четыре унтер-офицера и по два солдата на каждые два плашкоута… – теперь он уже совершенно по-красински усмехнулся и даже привычным жестом огладил бородку, попутно впервые за много часов ощутив, что он, инженер Красин Иван Сергеевич, помимо прочего, еще и совершенно неприлично небрит. Щеки кололи щетиною. – По двое солдат или же просто фабричных – ручку крутить… Всего человек тридцать-сорок на весь мост… А что-с?
– Замечательно! Замечательно! Тридцать человек – это мизер! Мизер! При всех условиях мост должен быть сведен! Будет сведен! Двух часов вполне достаточно!
Теперь Красин думал, как же он в таком виде предстанет перед Катей. Катей! Катей! Катей!.. Совершенно невозможно! Надобно сей же час вызвать сюда в hall гостинничного цирюльника, или как их стали называть и в России, после того, как чуть не все пленные французы начали выказывать себя в устройстве русских причесок и париков и бритье русских щек – парикмахера, да, парикмахера, словно бы в Париже красинской юности, немедля же вызвать парикмахера и побриться! Привести себя в порядок!
– Эй, любезный! – громко позвал Красин лакея, никого более не слушая. – Любезный! – закричал он уже во весь голос, поскольку лакей и не подумал явиться.
– Серафим Кузьмич! Дорогой! – Сельдереев с Темнишанским, в свою очередь, не слушали Красина. – Тридцать человек – это же?.. Да? Мизер! Мы даем вам полный карт-бланш! Все разрешаем! Сarte blanche![123] Сarte blanche народной свободе!
Храпунов вновь засмеялся. А Морозов поднялся из-за стола.
– Вы что же, милые люди, удумали? – с неподдельной тревогой спросил он, и его жирную морду, только что усмехающуюся, перекосила судорога. – Допустить народ до водки? Народная свобода ваша… до свободной водки доведенная… – Он cделал ударение на втором слоге. – Это беда… Для всей России беда!.. Вы, – он повернулся к Васильеву, – вы, офицер… Да куды ж обиноваться! Я вас всех сейчас, милые люди…
Морозов рывком вытащил из-под стола узел с обмундированием, но сделать ничего не успел, потому что теперь поднялся Храпунов.
– Merci. Bienfaiteurs. Ils me donnent carte blanche.[124] – Все еще похохатывая, произнес Храпунов. – Благодетели, мать вашу поперек и вдоль, – повторил он по-русски. – Разрешают мне, на хрен… Да мне потрахать ваше разрешение… Козлы хреновы… Я, блин, что похочу, то и заделаю, мать вашу лежа и стоймя, на хрен… Во всем Питере, мать вашу… Во всей, мать вашу, империи…
– Buffoons! Buffoons![125]
Сельдереев плюхнулся на стул, Васильев схватился за кобуру, но «смит вессон» свой не успел вытащить.
Дверь отворилась, вошли, гремя ножнами об пол, четверо жандармов, за ними огромного роста гостиничный лакей-вышибала, за ним такой же здоровенный швейцар, за ними появился полный господин, представляющий, по всему вероятию, гостиницу Savoy, тут же вслед за ними вошли еще двое жандармов и за ними еще двое жандармов. В hall сразу стало очень тесно. Видно было в коридоре еще тьму жандармских мундиров; теперь стал слышен стук палашей об пол и о стены. Заговорщики застыли на месте. В новую тишину, твердо ступая ботфортами по паркету, вошел жандармский полковник с большим галльским носом над щеточкою усов, с заворачивающими к носу бакенбардами. На эфесе палаша у полковника висел георгиевский темляк, на кителе под горлом – аннинский крестик, и Красин вычистившимся сознанием вспомнил, где видел полковника – тот сидел в пролетке в день прибытия в Санкт-Петербург Александра Ивановича Хермана. Кажется, это было вчера, да что! сегодня! пятнадцать минут назад! Только пятнадцать минут назад он, Иван Красин, счастливо пребывал вместе со своей женщиной! С Катей! Катей! Катей! На вокзале! На зеленом лугу! На голубых небесах!
– Здравствуйте, господа, – улыбаясь, произнес полковник. – Позвольте представиться: полковник барон фон Ценнелленберг Христофор Федорович. Покорнейше всех прошу садиться.
Но все уже и так сидели на стульях.
Сразу за полковником, не давая присутствующим никакой передышки, вошел давешний, заглядывавший в дверь и тщетно призываемый Красиным лакей с ослепительно белым, сияющим свежайшим крахмалом полотенцем на руке. В другой руке он, балансируя, как акробат, держал на серебряном подносе серебряное же ведерко со льдом, откуда выглядывала запечатанная головка бутылки. Еще на подносе стояли ровно восемь зеленого хрусталя узких фужеров.
– Изволили шампаньского заказывать. Прикажете открыть?
– Открывай, открывай, любезный, – благодушно разрешил полковник. – Отчего же? Veuve Clicquot?[126] Открывай.
Хлопнула, как револьверный выстрел, пробка, ударила в потолок, прямо в голую розовую задницу не так давно разглядываемой Херманом и Красиным девицы, отраженная задницей, упала и покатилась в угол hall. Лакей, адекватно оценивая ситуацию, решил наполнить лишь один фужер. Опытная лакейская рука дрогнула, и пенная струя щедро хлынула в фужер полковника, заливая стол.
– Довольно, довольно, братец. Благодарствуй.
Ценнеленберг снял каску, обнажив лысину; промoкнул лысину платочком, словно бы и здесь, в hall, как и давеча, сидел под солнцем, передал, не глядя, каску себе за спину, одному из жандармов.
Лакей тут же осторожно долил дорогущей влаги в зеленый хрусталь вместо выплеснувшейся пены. Все сидящие вокруг стола, жандармы и гостиничные холуи неотрывно смотрели, как Ценнеленберг, попервоначалу едва пригубив, единым духом выхлестывал шампанское. Фужер, как и положено, оказался трехглотковым. У жандарма, в обеих руках держащего каску полковника, на шее дернулся кадык, раздался громкий звук сглатываемой слюны. Лакей озабоченно промакивал стол полотенцем.
Ценнеленберг поставил опорожненную посуду на поднос и молча сделал лакею международный жест – кистью в белой лайковой перчатке от себя. И здоровенным лакею со швейцаром, и полному господину тут же был показан такой же жест, и мгновенно все они из hall исчезли.
– Имею объявить вам, господа, что Государь Император, – тут Ценнеленберг заговорил громким и столь хорошо поставленным голосом, словно бы он в опере пел в свободное от службы время, а что? запросто. Тем более, гораздо вероятнее, что в молодости полковник частенько отдавал команды перед строем на свежем воздухе, а это куда надежнее укрепляет голосовые связки, нежели чем оперное пение. Если, конечно, не убивает связки вконец, это мы по себе знаем, дорогие мои. Стаивали мы перед строями, стаивали! И голосовые связки себе убили. Но это – в сторону, в сторону.
–… что Государь Император, – полковник произнес эти два слова словно бы со строчной буквы, как Имя Господа, и лакей в коридоре, не знающий, уже уходить ему сейчас с открытой бутылкою Veuve Clicquot и, как обычно в разных случающихся, то есть, в разных случающихся случаях, припасти недопитое до четырех часов пополудни, когда он сменится, и в охотку заглотнуть вечерком сладкой господской водички или же, стоючи тут под дверью, еще годить, соизволят ли господа сами допивать – лакей, значит, при словах «Государь Император» поспешно переложил поднос с ведерком и фужерами в левую руку, прямо на мокрое, терпко пахнущее шампанским полотенце и трижды истово перекрестился. Жандармы вытянулись «смирно».
–… что Государь Император Александр Николаевич изменил свое первоначальное решение о предстоящем даровании народу российскому конституции и выборного правления… Этого никогда не произойдет.
Кто-то из сидящих за столом ахнул.
– Также имею донести Высочайшее мнение: конституция и выборное правление русскому народу не нужны. Что показали Его Императорскому Величеству сегодняшние события. Народу нужно пойло, а не конституция.
Полковник выглянул в коридор, кивнул лакею, тот в мгновение ока наполнил – теперь со всеми предосторожностями – бокал, полковник так же мгновенно и этот бокал выдул и со стуком поставил на поднос:
– Благодарствуй, братец. Пшел!
Дверь в коридор вновь закрылась.
– Позвольте! – тонко произнес Темнишанский, быстро вытащил платок, протер очки и вновь их надел: – Позвольте!
– Господин Херман? – безошибочно отнесся Ценнеленберг к Александру Ивановичу, не обращая покамест никакого внимания на Темнишанского; да и то сказать – мудрено было бы ошибиться.
– Fuck![127] – ответствовал Александр Иванович.
– Don’t blackguard here, I represent the person of the Emperor. Seems want some adventure?[128] – совершенно спокойно на чистом английском языке обозначил свои полномочия полковник.
– Please accept my apology. – Херман поднялся, поправил смокинг и пластрон, прокашлялся. – I’m listening.[129]
– Ваши паспорта аннулируются. И также паспорта прибывших с вами лиц. Вам Высочайше предписано покинуть Российскую империю в течение суток, а город Санкт-Петербург и столичный околоток в течение двух часов. Иначе…
– I understand.[130]
– Вам подадут экипаж до вокзала.
– And thank to God! You know, I’ve just taken such a solution![131]
Полковник вытащил золотой Breguet, отщелкнул ногтем крышку, раздался тонкий мелодичный перезвон.
– The time has gone! For being late – blame yourself…[132]
Херман произвел поспешный полупоклон, причем не совсем осталось понятным, относится он ко всем присутствующим или только к одному Ценнеленбергу, и вышел вон. Пройдя буквально пару шагов по коридору, Александр Иванович остановился возле лакея с подносом.
– Налей!
Херман выхлестал фужер по-гусарски, ничуть не хуже человека с георгиевским темляком на личном оружии – в три глотка. Стукнул фужером об поднос.
– Налей! – повторил.
Вторую горькую чашу Александр Иванович испил уже с толком, не торопясь выпил, помимо торопящих его обстоятельств, и быстрым шагом двинулся по коридору. Вслед затопали два жандарма.
Остальные жандармы, числом человек десять или двенадцать, что стояли в коридоре по стенам, глядя, как пьет Херман, бросились в hall, поскольку там оглушительный раздался выстрел и сразу же вслед за выстрелом звуки падения чего-то тяжелого и крики ужаса. И русский мат. Херман шел не оборачиваясь.
Чтобы нам впоследствии даром не отвлекаться, дорогие мои, прямо сейчас мы вам расскажем про дальнейшие события, связанные с Александром Ивановичем Херманом. И связанные с прибывшими с ним лицами. Хотя ничего приятного рассказывать, к сожалению, не приходится.
По возвращении в Англию Александр Иванович Херман через полгода неожиданно умер. Поэт Окурков, лишенный постоянных хермановских стипендии, пайка и пансиона, сошелся с девицею Тимми Фелтроу, которая, прежде чем сойтись с поэтом, продолжительное время провела в заведении New Babylon[133], где подвизалась в качестве одной из основных оного заведения сотрудниц и даже, как вы сами понимаете, дорогие мои, прекрасно была знакома с Елизаветою Маккорнейл, бывшей Дейнего. Что лишний раз говорит о том, как мир тесен. Ушедши из «Нового Вавилона», Тимми почти двадцать лет прожила с Окурковым в полной нищете, но зато во взаимной и искренней любви. Бывшие проститутки иногда горячо влюбляются в бывших поэтов – может, потому, что в обеих этих профессиях мы с вами можем наблюдать очень близкие или, во всяком случае, весьма сходные романтические черты. Как сложилась жизнь Тимми после смерти Окуркова, нам неизвестно, врать не станем. Да мы и никогда не врём.
Зато совершенно достоверно известно, как сложилась жизнь несчастной мадам Облаковой-Окурковой, которая сейчас, пока Херман быстро поднимается к себе в номер, злобно бормоча «Fucking circus! Circus! Balagan! So much cheated! So much cheated!»[134], сладко спит – почти так же беспробудно, как спит розовозадая девица на плафоне савойского потолка, так же открыто и спокойно. Мадам еще до всех событий нашей правдивой истории родила Херману троих детей, которые, кстати тут сказать, официально считались детьми Окуркова, потому что официально мадам с поэтом так никогда и не развелась. Двое детей умерли еще во младенчестве, а третья, обожаемая родителями дочь Анастасия, покончила с собою в семнадцать лет – это уже намного позже всех событий, изображенных нами в этой правдивой истории. Александр Иванович об этом, слава Богу, уже не узнал. А может быть, и узнал – тут уж поистине Бог весть.
Смерть Анастасии Облакову совершенно подкосила, в единый миг не старая еще и довольно пригожая женщина превратилась в бессильную старуху. В Лондоне жить ей более стало незачем и не на что, мадам испросила в России новые паспорта и неожиданно их получила. Дожила она, всеми забытая, зачем-то почти до восьмидесяти пяти лет в имении своего отца – когда-то обширном и богатом землевладении, а ко времени ее смерти ставшим совсем небольшим, заложенным и перезаложенным.
Печально все это, дорогие мои.
Мы лишь можем кстати тут вам сказать – не в качестве утешения, – что примерно так заканчивают жизнь все устроители народного счастья. Ну, за редкими исключениями. А блистательные исключения случаются, в том и состоит азарт большой, очень большой игры.
А впрочем… Впрочем, если быть уж совершенно честными, а мы с вами, дорогие мои, всегда совершенно честны, – если, значит, быть совершенно честными, примерно так заканчивают свои дни большинство даже и не задумывающихся о всемирном благоденствии людей, живущих на свете: одинокими и полными сожалений о несвершенном, хотя что они, люди, на самом-то деле могут свершить? Ничего.
Ничего.
Но Катя… Катя! Катя!.. Любимая нами Катя…
5
Прежде чем КАМАЗ с Чижиком, Цветковым и тремя полицейскими офицерами въехал с тыльной стороны на территорию бывшего Ледового дворца, теперь называвшегося Большой Ареной Собраний, прежде, чем Чижик убил Лектора, и как раз после того, как все обитатели норы вымыли – чуть мы не написали сейчас «добела» – вымыли до ослепительного блеска чижиковский мусоровоз, произошло еще одно событие, почти не замеченное даже его участниками: прощание Цветкова и Ксюхи.
Чижик и Цветков буднично, деловито забрались в КАМАЗ, двери хлопнули, и с высоты КАМАЗовской кабины Цветков в последний раз в жизни увидел Ксюхину рыжую макушку и конопатый нос. Цветков захотел сказать, что он безумно любит и этот нос, и эту макушку, и всю Ксюху, и что дело тут не в Kсюхиных сиськах и не в огромном, заросшем рыжею проволокой, но мягчайшем ее межножии, источающем реки сладкой влаги, а в Божием персте, указавшeм Цветкову на Ксюху, а Ксюхе на Цветкова. Вместо этого Цветков сказал с верхотуры в открытое окно только три слова:
– Ксюха… Ксюха… Ксюха…
А Ксюха, поднимая улыбающееся лицо к Цветкову, ясно произнесла:
– Я сразу же приду к тебе, Костeнька… Всегда буду приходить. Вечно.
Знающий, что означает эта странная фраза, Цветков закивал головой. Слезы готовы были политься у него из глаз, но в этот миг Чижик тронул машину, и машущая рукою, словно бы морячка на краю дебаркадера, Ксюха начала быстро отъезжать назад и вскоре пропала за терриконами мусора. КАМАЗ отъехал от норы, чтобы через несколько мгновений встретить Лектора. Ну, дальше вы уже знаете.
И еще, дорогие мои, сказать ли вам, о чем думал Цветков, зная, что сегодня ему предстоит? Цветков думал, куда уходит любовь, когда умирает дорогой нам человек. Ведь не может так получиться, не должно так получаться, что любящий человек уходит и его любовь к нам уходит вместе с ним? Вот сегодня Цветков умрет, так куда попадет его любовь к Ксюхе? Вместе ли с душой станет она неприкаянно витать в безграничном космосе, беспрерывно сталкиваясь там с такими же блуждающими, потерявшими свое место душами и любовями других людей, или сама, выйдя из какой бы то ни было стесняющей ее оболочки, притаится недалеко от Ксюхи или даже в самой Ксюхе? Ведь не должно так произойти, что вот Костя умрет и больше никогда не станет знать, что делает Ксюха, как она живет, чему радуется, над чем печалится. Нет, нет, нет, наверняка у любви Кости Цветкова останется возможность хоть исподволь смотреть на Ксюху, хоть через приоткрытую дверную щелочку его любовь сможет приглядывать за Ксюхой. Мало ли! А вот если помочь придется ей? Или подсказать? Или уберечь от чего?
И вот решивши, что любовь его, Цветкова, такого свойства, что никуда деться от Ксюхи она просто не сможет, Костя стал совершенно спокоен. Да, дорогие мои.
КАМАЗ с Чижиком, Цветковым и тремя полицейскими офицерами въехал с тыльной стороны на территорию бывшего Ледового дворца, где над выстроенными побатальонно войсками ветер носил стойкий водочный запашок.
Тем временем Ксюха с Настеной молча сидели у себя в норе, пережидая отбытие сторонних собачьих коллективов, принявших участие в поедании Лектора. Сказав – сидели, мы воспользовались несколько неточною формулировкой, потому что Настена лежала ничком на их с Чижиком топчане – лежала действительно молча, даже не плакала, хотя, возможно, слезы у Настены сами собою беспрестанно лились; нам не видно в полутьме, дорогие мои. Зато мы точно знаем, что бывают минуты, в которые человек не плачет, а слезы у него льются. Такой вот парадокс.
Настена Цветкова, при всех своих амбициях и высшем, уж признаемся, гуманитарном образовании была простая баба, дорогие мои. А Ксюха Борисова, простая баба из маленькой русской деревни, оказалась очень непростой. Ну, очень. Сейчас Ксюха сидела, странно улыбаясь, на трехногой железной табуретке, положив руки перед собою на коленях. А поскольку за ее спиною на стене норы висела узкая – страшно молвить – шпалера, то есть, довольно-таки вытертый ковер с неясным рисунком, идентифицировать национальный колорит которого не представляется возможным, а свет в норе почти отсутствовал, нам показалось, что сидящая Ксюха чрезвычайно напоминает Зевса-громовержца, сидящего на черном своем троне – Зевса, точно так же сложившего мощные руки на толстых ляжках и точно так же странно улыбающегося под рыжею, львиною гривой волос, ниспадающих на лицо. Такого Зевса мы однажды видели на Крите в магазине сувениров.
За шпалерою помещался общак – огромная стеклянная бутыль, в которой обитатели норы копили, словно бы ликвидность в тайнике, по закону выдаваемую им и невыпиваемую водку, а на самой шпалере висела на булавке вырезанная Костею из Hастиного буклета репродукция «Бегства в Египет».
Огненные волосы Ксюхи, словно бы под воздействием электрического тока, поднялись и образовали широкий вокруг головы ее ореол. И совершенно нам ясно, почему изваянный Зевс на троне и почему Ксюха на трехногой табуретке сидели, странно улыбаясь. Потому что они оба понимали – их спокойная поза никого не может обмануть: каждый, видящий их, ясно осознавал – что Зевс, что Ксюха всегда может метнуть в любую точку света или тьмы неистощимой силы огненный заряд.
Ксюха, продолжая улыбаться, шумно вздохнула, улыбнулась широко, насколько это возможно. Конопатые Kсюхины щеки разошлись по обе стороны ее лица, и обнажила ее улыбка крупные, как кукурузные зерна, зубы.
– Пора, – произнесла улыбающаяся Ксюха и встала с табуретки.
Настена повернула к ней мокрое лицо. Насколько нам видно в полутьме, в блестящих от слез глазах Настены отобразилось удивление.
– Пора, – повторила Ксюха. Она отцепила от шпалеры булавку и сунула репродукцию туда, куда тысячи лет все женщины мира прятали самое свое дорогое – под груди.
Только что Ксюха была в обрезках сапог, в косой серой юбочке на необъятных своих бедрах и блузке неизвестного покроя с наброшенной поверх нее старой вязанной шалью – во всяком случае, еще короткое время назад именно в этом прикиде прощалась она с Костею. А теперь на Ксюхе само собою оказалось надето свадебное ее голубое платье, а вместо разбитых обрезанных кирзачей Kсюхины ластообразные ступни облегали Бог весть откуда взявшиеся черные лаковые туфли на небольшом каблуке. Это невозможно даже вообразить, что во всей Вселенной найдутся модельные туфли для Kсюхиной ножки, это куда как необычнее, чем отыскать крохотную туфельку для Золушки и саму Золушку отыскать для ее туфельки, но вот поди ж ты!
В лаковых туфлях и голубом платье Ксюха вышла из норы и пошла сквозь полигон, где ее никто не остановил и никто ни о чем не спросил. Ни единой пылинки, ни единой грязинки на облачении своем не собрав, Ксюха прошла под оказавшимся поднятым шлагбаумом и двинулась, все так же улыбаясь и улыбаясь, по дороге, где не так давно проехал чижиковский КАМАЗ. Ксюху словно бы никто не видел, и она как будто никого и ничего не видела вокруг. Постепенно число людей и машин вокруг Ксюхи увеличивалось, неисчислимые войска и всякие другие силы двигались, маршировали, ехали и, кажется, даже летели мимо нее, не причиняя ей ни малейшего вреда, потому что это не они, войска и силы, двигались мимо Ксюхи, а Ксюха шла мимо них, сквозь них со своей двусмысленной Зевесовой улыбочкой, не замечая и не признавая их, войска и силы, существующими. И в самое короткое время Ксюха так вот, пешим порядком, в считанные секунды преодолевая километры, подошла к бывшему Ледовому дворцу – почти сразу же, как на его территорию с тыльной стороны въехал чижиковский КАМАЗ.
… Когда КАМАЗ с Чижиком, Цветковым и тремя полицейскими офицерами въехал с тыльной стороны на территорию бывшего Ледового дворца, выставленные через каждые пятьдесят метров вдоль трассы баннеры «Единодушно и горячо приветствуем Ежегодное Историческое Собрание МХПР» перестали лезть в глаза. Тут, с тыльной стороны здания, обстановка напоминала скорее безграничный дивизионный плац или аэродром перед началом репетиции парада, разве что только сейчас, вот сию минуту была отдана команда «Вольно!» – «Вооо… льнооо…», команда, многократно усиленная и размноженная невидимыми динамиками. Все пространство с тыльной стороны Дворца, везде, куда хватал глаз, оказалось покрытым шпалерами выстроенных рот. В касках и бронежилетах, с короткоствольными автоматами «Тюльпан» и пластиковыми щитами, солдаты сливались в одно черно-серо-зеленое море, и если бы не крохотные промежутки между ротными и батальонными рядами и шеренгами, сходство с грозовым морем стало бы совершенно явным. Над строями висел неясный, порожденный тихим, безгласным, но тысячеротым дыханием шум. Легкий ветерок носил над солдатскими касками запах водки, как мы уже сообщали вам, дорогие мои, – двухсотграммовую спецдозу получил каждый.
Зачем они были тут собраны? Кто и чего боялся? Нам неизвестно. От того, что произошло в самом скором времени, никакие войска спасти не могут, хоть ты всех служивых земного шара выстави в караул. Это знает каждый, кто хоть однажды открыл хоть какую-нибудь книгу по истории. Но вот поди ж ты… Все равно строятся и строятся уже не одну тысячу лет. И каждый раз напрасно…
КАМАЗ подрулил к одному из подъездов, в сопровождении полковника, майора и капитана Цветков прошел внутрь, Чижик остался за рулем. Никто не остановил их, никто не спросил ни пропуска, ни – вы станете смеяться, дорогие мои, – пароля, например. Никто не проверил удостоверения. Тут, с тыльной строны Дворца, могли оказаться только свои. Правда, все трое полицейских – полковник, майор и капитан, сдали автоматы – входить в зал Собрания МХПР с оружием не разрешалось, раумеется, никому. Никому, кроме особо доверенных и допущенных сотрудников охраны.
Полковник, майор и капитан сдали автоматы – сами, показывая приглядывающим за входом доверенным сотрудникам свое знание порядков, поставили их в пирамиду в коридоре у стены, словно бы в пирамиду у стены казармы. Но никто из доверенных нашу великолепную троицу и не попытался обыскать.
Полковник, майор и капитан вслед за Цветковым прошли внутрь, Чижик остался за рулем. На Цветкове теперь отражал световые сполохи защитный костюм ярчайшего яичного колера – с гермошлемом и выходящей из него гофрированной мягкой трубкою, оканчивающейся на красном кислородном баллоне за его спиной. Рядом с кислородным баллоном укреплены были две маленькие стеклянные ампулы, похожие на заправки к сифону с газированной водою – были популярны такие сифоны лет шестьдесят назад, дорогие мои, во времена детства автора, который тогда ни о каких романах совершенно не помышлял. Такие вот маленькие бомбочки; мы о них уже упоминали, когда рассказывали о проникновении Цветкова в бывшую свою лабораторию. В общем, облачение Цветкова напоминало нечто среднее между скафандром космонавта – те, правда, гуляют по Вселенной в прикиде белого цвета во избежаниe излишнего впитывания солнечных лучей – и снаряжением борцов с привидениями из популярного голливудского – клятый Голливуд! – мультика. Ну-с, Цветкову отражать солнечную энергию не было необходимости, вот он и, отражая свет ламп и прожекторов, шел желтым, как цыпленок, как сердцевина свежайшего куриного яйца, а с привидениями борьба еще только ему предстояла.
Вся великолепная четверка зашла, значит, в здание и молча двинулась по коридорам и лестницам, где через каждые пять метров стоял солдат – безоружный солдат! Впереди, глядя поверх голов, шел полковник, иногда только произнося:
– Даррогу!.. Блллиинн, даррогу!.. Асссвабадить дарррогу!
Это «аканье», кстати вам тут сказать, дорогие мои, непреложно выдавало в полковнике уроженца города Москвы, что мы, ничего, к сожалению, не знающие и так и не узнавшие про полковника, можем засвидетельствовать вполне профессионально, будучи филологом по одному из своих совершенно никому не нужных высших образований.
Наша четверка, значит, шла по коридорам, и вдруг пространство, словно Вселенная, открывшаяся выплывающему из отсека космонавту – если уж мы продолжаем космические аналогии – упало на Цветкова и неслышимо и невидимо задышало пред ним: они вошли на самый стадион Ледового Дворца, на саму заполненную до отказа Большую Арену Собраний, утыканную везде, где можно и нельзя, красно-желтыми флагами МХПР и транспарантами, содержание которых мы из любви к вам, дорогие мои, не станем сейчас передавать. Сорок тысяч человек тихо переговаривались, создавая звуковой фон, а водкою тут – в замкнутом-то пространстве – уже не пахло, а просто воняло, как в дешевом портовом кабаке, и, как в портовом кабаке, к водочному запаху примешивался острый запах пота; Цветков в своем гермошлеме не слышал и не чувствовал ничегошеньки. Он оказался на балконе второго яруса, прямо над пустым сейчас столом – вернее, над сложным, наполненным механикой и электроникой полукруглым сооружением – ну, короче, над столом Президиума.
Полковник кивнул стоящему рядом солдату:
– Воин! Аххрранять! – он показал на Цветкова. – Беррречь аат таалпы! Никкого… понятно? Никкого не па-адпускать! Силллу применять… без пррредуп… ррреждения!
Солдат несколько растерянно оглянулся на стоящего тут же рядом своего лейтенанта, однако лейтенат не успел выказать свою власть над рядовым собственного взвода, потому что полковник приказал уже непосредственно ему:
– Еще трра-их ссюда!
И ученый, но плохо выученный лейтенант, как бобик, облажался и показал троим своим солдатам, где занять пост. Даром его учили, лейтенанта этого. Никаким неизвестным полковникам полиции, невесть откуда возникшим, он, лейтенант внутренних войск, разумеется, не должен был подчиняться.
– Силллу пррри… менннять, – приказал полковник и лейтенанту, – беез прре… дуп… ррреждения!
Лейтенант приложил правую ладошку к шлему.
Цветков теперь был притиснут к поручню балкона, а сзади в его тощую попу сильно упиралась крутая солдатская задница, что, возможно, создало бы в иных обстоятельствах и с иным человеком разность эротических потенциалов и индуктировало бы сильный эротический ток и даже, возможно, разряд вроде молнии. Мы к солдатским задницам собственным своим задом ни разу в жизни не прижимались – не только потому, что в армии два года прослужили офицером, а просто случая не представилось, ну, ей-Богу, ничего мы не можем тут вам сказать определенного, дорогие мои. Поездки в городском транспорте в «часы пик» не в счет. А вот случайное или же не случайное прижимание седалища к попе женской!.. Прижимание попы к попе женской, кстати вам тут сказать, дорогие мои, возбуждает чрезвычайно. Даже в транспорте в «часы пик». Во всяком случае, вашего автора. С юности и до нынешней поры, когда автор уже вошел в возраст творческой зрелости. Но только женская попа должна быть, разумеется… И сама женщина должна быть…
Но мы отвлеклись, дорогие мои…
Постоянное стремление к правде вынуждает нас сообщить вам, что съезд охраняли не только такие козлики и сопляки, как тот лейтенант, взводный безоружных солдат. Лишь только появился на балконе Цветков в своем карнавальном прикиде, немедленно некий пожилой человек в штатском, сидящий за пультом под самым потолком Большой Арены Собраний, что-то быстро произнес себе в воротничок рубашки, и тут же с разных концов второго яруса к Цветкову и троим липовым полицейским начали пробираться по рядам люди в штатском. Счет теперь шел на секунды. Первый из подошедших был уже в нескольких шагах, когда вся Арена взорвалась аплодисментами. Все, не переставая аплодировать, поднялись с мест. Полукруглое сооружение Президиума начало медленно раздвигаться, и в середине его, постепенно поднимаясь из недр, начал возникать сидящий в странном, несколько похожим на зубоврачебное, кресле толстый, как квашня, лысый старик с хмурой и злобной улыбкой на бескровных губах.
– Слава отцу народа Виталию Мормышкину! – раздался многократно усиленный в сотнях динамиков низкий дикторский даже не глас, а рык, словно бы сам Сатана приветствовал сейчас Виталия Алексеевича.
– Слава! Слава! Слава! – в мощнейшем едином порыве ответил зал. Как только, мы удивляемся, дорогие мои, как только не возник резонанс, от которого любые колонны или хоть какие стальные опоры падают, будто соломенные. И с полусекундной задержкой, словно бы под действием срабатывающего реле, «… ава!… ава!… ава!…» раздалось, чуть утишенное, снаружи Дворца, снаружи Большой Арены – это ответили солдаты, выстроенные на бесконечном плацу.
Мормышкин с видимым трудом поднял правую кисть – невысоко, так, зачуток поднял – и произвел ею некий помавающий жест, вызвавший новую бурю оваций.
Точно такой же шум, совершенно схожий со звуком неистовых аплодисментов, возник в это мгновение за стенами Дворца – по задвинутой сейчас раздвижной крыше Большой Арены, словно предвестник будущих событий, застучал дождь. Но раскатов грома, всегда сопровождающих молнии, еще не было слышно.
Неистощимая
Роль корреспондента Марика Конецкого в событиях нашего правдивого повествования оказалась достаточно велика. Опосредованно, конечно. Прямого воздействия на развитие сюжета Марик, как вы сами понимаете не мог оказать, но и кривого воздействия оказалось вполне достаточно.
Но по порядку.
Мы должны поделиться с вами еще одной сокровенной информацией: высшие силы узнали об ужасной в теракте гибели губернатора Ивана Голубовича – из телевизионных новостей, то есть непосредственно от Марика. Только недостаточной информированностью высших сил мы можем объяснить тот факт, что временно исполняющим обязанности губернатора Глухово-Колпаковской области был назначен Мормышкин Виталий Алексеевич. Вы, дорогие мои, о нем извещены, мы ведь вам сообщали, что Виталий Мормышкин возглавлял глухово-колпаковскую фирму VIMO, занимавшуюся строительством дорог и уборкой мусора, а вот высшие силы ни о каком Мормышкине, разумеется, слыхом не слыхивали, но некто нам неведомый об оном Мормышкине знал и, по всему вероятию, рекомендовал.
А далее произошло следующее. В первом же выпуске новостей Мормышкин немедленно был населению презентован, причем поспешную фотографию на всех федеральных каналах показали не Мормышкина, а почему-то шведского рок-певца Болла Дройстрёма, одного из лидеров гей-движения. Болл как-то однажды прикалывался и стебное селфи заделал себе – в серой английской тройке, аккуратно причесанный, с полосатым синим галстуком и даже без серег в ушах. Вынул серьги! Прикиньте? И ни глаз не подводил тогда, ни бровей, вообще никакого макияжа не накладывал. Прямо чистый выглядывал лорд из парламента или, лучше сказать, депутат шведского риксдага.
Да-с, а тогда через несколько минут – поздно уж было, но что делать, Дройстрёма из губернаторов убрали, но презентационный ролик уже был закачaн на дециметровые каналы и пошел по ним. Умные люди еще раз всхомяшились, и красотка-телеведущая, только что представлявшая зрителям лже-Мормышкина, вновь оказалась перед десятками миллионов людей – в строгой белой блузке с планочкой, со строгой же стрижкой – никаких шуточек!
– Приносим свои извинения телезрителям, – глаза телеведущей казались бездонными, а любовь к правде – неистощимой. – Произошла техническая ошибка. Вместо фотографии временно исполняющего обязанности губернатора Глухово-Колпаковской области Мормышкина Виталия Алексеевича мы показали фотографию первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского. Предлагаем вам фотографию Виталия Алексеевича Мормышкина.
Тут на экране появилась чуть ретушированная под Дройстрёма фотография Луначарского – в зауженном пиджачке с каймою, в скругленных, какие тоже носили только в начале ХХ века, углах воротничкa на рубашке – тогда говорили «воротничках», под которыми виделись завязки такой же начала прошлого века «бобочки».
Мы можем засвидетельствовать, что нарком действительно сильно машет на приглаженного и не расписанного всеми радужными красками Дройстрёма. Практически одно лицо. А вот с Виталием Алексеевичем оба они – Луначарский и Дройстрём – ни внешне, ни внутренне ничего общего не имеют. Дройстрём – гей, Луначарский предпочитал предельно тощих несовершеннолетних балерин из Большого театра, а Мормышкин после перенесенного еще в дорожном техникуме тяжелого сифилиса вообще остался импотентом. И никаких бороды с усами Мормышкин отродясь не носил, а после своей презентационной истории всю оставшуюся жизнь ненавидел, во-первых, усатых и бородатых, во-вторых, геев и лесбиянок, в-третьих, шведов и всех прочих заграничных козлов, в четвертых, рок-певцов и любых других певцов и заодно танцоров. Но более всего, в пятых и в главных, так вот соединенный в эфире в одно целое с наркомом просвещения, возненавидел Мормышкин оное просвещение: школы, институты, даже курсы повышения квалификации – бессмысленные и ненужные заведения.
Да, так физия Луначарского несколько мгновений постояла на экране, причем зрителям слышалось приглушенного шевеление и еще какие-то малопонятные звуки, потом фотография исчезла, опять появилась ведущая.
– Приносим свои извинения телезрителям, – вновь, теперь чуть менее убедительно отнеслась строгая барышня к населению – и тут же вновь исчезла.
И немедленно вопреки любой формальной логике по всему Глухово-Колпакову с непостижимою скоростью безо всякого информационного облака разнеслось, что новый губер Мормышкин – пидорас, прежний губер Голубович – тоже пидорас, даром что перетрахал он чуть не всех в области теток, а в областном театре драмы и комедии имени А. В. Луначарского сразу же стало совершенно достоверно известно, что Луначарский был не только гомосексуалистом, но еще и педофилом, совратившим аж пятерых несовершеннолетних мальчиков-хористов в Большом театре. Или даже шестерых. Или даже семерых или восьмерых, словом – бессчетно, хотя Луначарский всего-то навсего совратил двух или трех несовершеннолетних девочек, одна из которых впоследствии стала всемирно известной руководительницей советского танцевального коллектива. Довольно тупого коллектива – это наше частное оценочное суждение, – потому что два прихлопа, три притопа не могут изображать собою режиссуру танца, этого вполне достаточно на сельском празднике, а более нигде…
Кстати мы можем сообщить, дорогие мои, что проведшая ночь с секретарем Максимом и сотрудником Денисом актриса проснулась довольно поздно, но раньше обоих молодых людей, подняла с полу трусики и лифчик и прошла на кухню в квартире секретаря. Там она немедленно отыскала банку с кофе, выпила чашечку, потом вторую. Открывши холодильник, Катерина – этим дорогим для нас именем мы сейчас вынуждены ее называть, потому что настоящее имя Глухово-Колпаковской травести осталось для нас пока неизвестным – открывши, значит, огромный серый «Бош», Катерина освидетельствовала его внутренности, которые были грязны и измазаны остатками пищи, но сверкали совершенною пустотой. Ну, мы вам можем для ясности сообщить, что секретарь Максим Осинин был чрезвычайно скуп и обычно принимал пищу, как и вчера, на халяву в Глухово-Колпаковских ресторанах или же за копейки в закрытой столовой администрации области. Дома у него водилось, разумеется, съестное, но бесплатный паек Максиму централизованно, как и еще двум десяткам особо ценных работников области, завозили по вторникам и пятницам, а нынче-то начиналось аж воскресенье, ночью троица подъела все без остатку. Поэтому Катерина, рассеянно хлюпая кофием, запивала его найденным тут же на кухне коньяком, машинально отдавая коньку явное пред кофием предпочтение. Меланхолически выпивая, она включила телевизор и выслушала новость про Голубовича и Мормышкина и успела увидеть Луначарского в образе Дройстрема. Обоих она, принадлежа к гуманитарной профессии, мгновенно иденцифицировала. Тут же в голове у несчастной Катерины громко щелкнуло. Щелчок был такой силы, словно бы сработало центральное предохранительное реле Балаковской атомной электростанции, самой мощной в России. От этого звука Максим и Денис проснулись.
Мы можем засвидетельствовать, что оба относительно молодых человека оказались куда как слабже пятидесятилетнего Ваньки Голубовича по части протягивания актрис и прочих представительниц творческих профессий, однако же сама Катерина была полна накаченной ночью энергией, да еще и подзарядилась она тем, что сейчас увидела в новостях, а после кофе и коньяка вообще пребывала на подъеме, Максим же и Денис, бесперстанно позевывая, двигались, как сонные мухи и еле-еле смогли натянуть на себя трусера. Катерина ничего им не сказала про страшное происшествие, оба узнали все чуть позже. Она только лапидарно потребовала – уже из прихожей, полностью одетая:
– Ребята, деньги! Деньги мне на дорогу!
О деньгах травести Катерина не забывала никогда, ни при каких обстоятельствах и в любой степени опьянения. Но это так, кстати, это в сторону, да-с, в сторону.
Получивши, как мы вам уже рассказывали, по тысяче рублей с каждого, актриса зигзагами побежала к автобусной остановке. Обстоятельства требовали, как прекрасно осознавала служительница муз, быстроты действий, но скупость не меньшая, чем скупость секретаря Максима, не позволяла ей взять такси или же просто голосовать на дороге. Кстати вам еще сказать, одинокой тетке в Глухово-Колпакове лучше было в незнакомую машину не садиться. Помнится, мы уже об этом упоминали.
Как только Катерина отбыла, у сотрудника Дениса странным образом зазвучали наручные часы. Так вот: – Цццццццц… Ццццццц…
Да, странный, признаться вам, звук. Но почему он вдруг возник в обычных, средней стоимости швейцарских часах «Forex», мы не знаем. Часы у Дениса были диаметром дюйма в два с половиной[135] и толщиною с большой палец – чуть было мы не написали «ноги» – нет, с большой палец всего-навсего руки, но достаточно большие и толстые, чтобы нести в себе такую вот опцию – цыкать, ежли что.
И тут же, значит, Денис мгновенно проснулся и, сказавши одно только слово – «будильник» и ничего голубовичевскому секретарю не объясняя, быстренько засобирался по своим делам. Даже от коньяка отказался на опохмел. Можете себе представить, дорогие мои, чтобы сотрудник отказался от коньяка? Но видите вот – бывает. Случается…
– Я тебе позвоню, – неожиданно приказным тоном еще произнес Денис в дверях. – Поедем тут в одно место…
Удивленный Максим не успел ответить, как за Денисом хлопнула дверь.
В это самое время возрожденный Иван Сергеевич Голубович появился на краю картофельного поля и зашагал к потрясенным, остановившимся в своем движении людям. И тут же начался ливень. А поскольку волшебство, преобразившее нашего Ванечку, уже, как ни прикорбно, окончилось, буквально через несколько секунд губернатор оказался мокрым до нитки. А что касается лакированных штиблетов, так горы красной грязи, немедленно облепившие их, превзошли самые смелые ваши предположения на этот счет – то были не горы, а монбланы, эвересты грязи, на глазах поднявшиеся до губернаторских колен. Теперь Голубович, инстиктивно прикрываясь рукою от молний, слоновьми ногами преодолевал пространство, ставшее плотным, как кисель. Сейчас он напрочь забыл, что не любит ходить по мокрой земле. Голубович наклонился вперед, чтобы удобнее было идти – он должен, должен был вернуться!.. Все-таки крепким мужиком оказался наш любимый Сергеич; то ли просто гены, то ли десантура в юности, то ли еженевные многолетние пробежки по утрам сказались – не суть важно; главное, за минут пятнадцать борьбы со стихией он преодолел расстояние, которое не так давно прошел, истекая кровью. Красная земля поднялась еще выше колен – по Bанькиным ляжкам, словно бы не в киселе – нет, словно бы в море отходов мясокомбината шел Голубович – в море кровавых кишок, гнилых печеночных обрезков, нервущихся коровьих аорт.
– Траххх! – раздалось в небе сразу же, как только Голубович сделал самый первый шаг по полю. – Траххх!
Небо разорвалось, из зияющего разрыва вылетела чудовищная молния и ударила в землю в нескольких метрах от нашего Ванечки. Вокруг прерывсто заполоскал безумной силы свет, будто бы горний монтер соединял и разъединял оголенные контакты вселенской электрической цепи.
– Траххх! – непрерывно ударяло и ударяло в небе над головой Ивана Сергеевича. – Траххх!.. Траххх!.. Траххх!..
Молнии каждый раз промахивались, так же непрерывно передавая Ивана одна другой, ослепительный свет Божьего гнева трепетал над его головой.
Кто не знает – во время грозы ни в коем случае идти по открытому пространству нельзя, надо лечь и отдаться обстоятельствам, как насилуемая. Однако губернатор никогда в жизни насилия над собою ни в какой форме не терпел и сейчас не покорился. Форсировав уже почти на четвереньках дорожный кювет, почти ничего не видящий сквозь стену воды Голубович выбрался, наконец, на шоссе. И немедленно ливень прекратился. Ну, немедленно. Сырое открытое пространство задышало свежестью. Вымытый, новорожденный лес с одной стороны шоссе и покрытое еще не просочившейся вглубь водою темно-багровое поле с другой стороны теперь посылали Голубовичу сигналы жизни, сигналы счастья. Голубович осмотрел себя и вдруг освобождено захохотал.
– Ха-ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха! – понеслось по округе, будто бы Зевесов хохот над пучиною.
Надо вам сказать, дорогие мои, что в ту минуту, когда мокрый и грязный губернатор смеялся над собственным спасением, его попервоначалу никто не услышал. Потому что ни одного человека, ни одной машины теперь не было на шоссе. Мы можем только предположить, что их смыло тропическим, поистине библейским ливнем, хотя ливень продолжался несколько менее, чем в Библии – не сорок дней, а минут, как мы вам уже сообщали, пятнадцать. Но и четверти часа оказалось достаточно, чтобы смыть не только живых людей и работающие механизмы, но и все приметы произошедшей трагедии: ни обломков губернаторского кортежа, ни осколков аверьяновского выезда, ни останков трактора Валентина Борисова, не говоря уж о следах человеческих тел – ничего этого не осталось на шоссе. Голубович стоял один на свежем ветерке, как недавно один стоял он в окружении огня и едкого дыма.
И тут вновь проснулся внутренний голос. Наконец-то! Проснулся, чтобы вновь отдавать указания.
– Сними с себя, блин, все, ннн… на хрен! – распорядилось долго молчавшее alter ego[136] Голубовича. – Ты ж не пойдешь, блин, в таком, блин, виде никуда! Грязный, как свинья, блин! И простудишься еще, на хрен! Сними!
Повинуясь, Ванька единым духом содрал с себя костюм, рубашку с майкой, сбросил хлюпающие ботинки, носки, переступил через трусы с брюками. Повторная волна радости ударила в голову Голубовича.
– Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! – вновь во всю свою мощь захохотал совершенно голый Голубович, воздевая руки к небу, по которому неостановимо неслись серые облачка. – Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!
И вот теперь небо ответило.
Раздался вдалеке торопливый рокот мотора, на горке тут же показался красный «фольксвагеновский» пикап с надписью «телевидение», оставляя следы протектора на мокром шоссе, скатился вниз и затормозил у губернаторских ног. Из пикапа выскочил Марик Конецкий, он сам сидел за рулем, никого из съемочной группы в машине не было.
– Господи! – закричал Марик с выражением совершенного счастья на лице. – Благодарю Тебя, Господи! Я знал, знал! Я знал, что вы живой! – это он прокричал уже в лицо Голубовичу. – Будто бы внутренний голос мне приказал вернуться! Иван Сергеич! Я люблю вас!
Марик упал перед Ванькой нашим на колени и произвел попытку некоего действия сексуального характера, о котором мы в нашем скромном и предельно благовоспитанном повествовании ничего сообщать не станем, тем более что действие это закончилось, почти не начавшись, потому что Голубович немедленно Марика отпихнул. Марик плюхнулся задом на выщербленный Глухово-Колпаковский тракт и, светло улыбаясь, повторил:
– Я люблю вас, Иван Сергеевич.
– Камеру, блин! – закричал в уши Голубовичу внутренний голос.
– Камеру! – закричал Голубович, словно бы место для помещения в нем Марика приказывал сейчас найти. – Телекамера c собой?! Ну!
Охнув, Марик вскочил, сунулся в пикап, вытащил камеру и водрузил ее себе на плечо.
– Прямого эфира нет, Иван Сергеевич! Но я запишу, и немедленно мы передадим в эфир.
На камере загорелся красный светодиодный огонек.
– Пишем, Иван Сергеевич! Пишем! Начали!
– Я жив, блин! – со сдержанным напором сказал в телевизионный прибор Голубович. – Я жив!
– Жив! Жив, на хрен! – закричал внутренний голос.
– Жив, на хрен! – закричал Голубович, более не сдерживаясь. – Жив, блин!
– Жив! Жив! Жив! – закричал и Марик. – Урррааа!
Телекамера дрожала в его руках. Объектив опустился, и в центре кадра оказался свисающий несколько вбок детородный губернаторский орган. Стремление к правде заставляет нас свидетельствовать, что не только головка, но и весь орган сей оказались совершенно красными, словно бы трудились они – чуть мы не написали «не покладая рук», – трудились, не сникая, невесть сколько времени без перерыва, как в лучшие свои годы. Это, по всей видимости, отсвет багровой глухово-колпаковской земли, оказавшись на Bанькином пенисе после раздевания, придал ему столь традиционный для всего Глухово-Колпакова колер. Других объяснений чуду у нас нет.
– Я возвращаюсь к обязанностям главы области, – сообщил свеколького цвета пенис в телекамеру.
– Слава Богу! – проникновенно произнес Марик. – Ваш корреспондент в Глухово-Колпакове Марк Конецкий, – добавил он, оторвавшись от глазка видоискателя; выключил огонек. – Есть, Иван Сергеевич! Записали!
– Едем, блин! – закричал внутренний голос. – В офис, блин!
– Иван Сергеевич, – тихо, но страстно попросил Конецкий. – Позвольте… Не могу терпеть… Эмоции… душат… Позвольте… хоть немного…
– На хрен! – закричал Голубович. – Едем! Пидорас, блин! Едем!
Не дожидаясь, пока Марик сядет за руль, Голубович выдернул из его рук телекамеру, бросил на заднее сиденье, вскочил в «Фольксваген», развернулся и голою пяткой дал по газам. Надо было ему хоть джинсы с Марика снять и попытаться натянуть на себя, пусть и аккуратная попка корреспондента оказалась бы минимум на размера три меньше крепкой голубовичевской задницы. Но нет… Не снял…
Через несколько секунд, когда звук мотора не стал слышен, под ясным продутым небом на обочине шоссе остался только лежащий ничком посреди разбросанного губернаторского прикида рыдающий корреспондент.
Поскольку мы взяли за правило, дорогие мои, прослеживать судьбы каждого нашего персонажа, сейчас стало бы совершенно уместным сказать несколько слов о дальнейшей судьбе Марика. Через короткое время он вновь – в последний в своей жизни раз, это уже после всех описанных нами событий – вышел в эфир, иллюстрируя слова строгой московской телеведущей, которая в который раз за день вынуждена была извиняться перед телезрителями: никакого покушения на губернатора Глухово-Колпаковской области не было. Никакого взрыва не было. А было из-за допущенной халатности самовозгорание сельского трактора на шоссе, по которому, то есть, по шоссе, Иван Сергеевич Голубович проехал за несколько минут до означенного самовозгорания. Виновники халатности арестованы. Назначение Мормышкина Виталия Алексеевича временно исполняющим обязанности губернатора Глухово-Колпаковской области отменено.
Тут же на экране возникло перекошенное лицо Марика с наскоро заретушированными синяками под левым глазом и под правой скулою. Марик, заикаясь, выдавил из себя:
– Пп… роизошш… ла ошш… ибка…
И тут же камера показала вымытый ливнем да еще и почищенный на всякий случай метлами знакомый нам участок шоссе под горкою. И в сторону Глухово-Колпакова, и в сторону Светлозыбальска уверенные неслись машины.
Произнесши «ваш корресс… пондент в Глл… ухово-Колл… паково…», Марик даже не успел добавить имя свое, как немедленно исчез. И не только из кадра, эфира и телевидения, но и вообще отовсюду. Ну, неизвестно нам, как и куда, врать не станем. Да мы и… Ну, вы знаете. Зато достоверно известно, что в ансамбле Болла Дройстрёма появился со временем новый солист в новой – так, во всяком случае, казалось – в новой бородке, тоже, как и Дройстрём, ужасно машущий на Луначарского и поющий по-шведски с неким очаровательным акцентом.
А мы с вами вернемся в Россию, дорогие мои.
Тут мы вам должны сообщить, что Иван Голубович за весь период губернаторства своего в Глухово-Колпакове не счел нужным обзавестись не только женою – ну, это вы сами уж давно поняли, дорогие мои; при Ванькиных склонностях никакая жена не была бы возможна в нашем правдивом повествовании, да и на хрен жена-то ему? – но и заместителем по службе тоже не обзавелся. Московские и всякие иные радетели многaжды Ивану нашему Сергеичу заместителей сватали, навязывали и назначали, некоторых Голубовичу пришлось действительно взять и держать какое-то время в областном кресле – да, приходилось, но неизменно каждый зам из кресла своего явными или неявными стараниями губернатора вылетал и спасибо говорил, что, вылетая, не залетал сразу за решетку. Все-таки один, кажется, вовремя не захотел вылетать и тогда вылетел позднее, и, действительно, тут же совершил посадку прямиком на ту самую скамейку, на скамью. И вовсе не на скамейку запасных, а как раз на другую. Так что заместителей у Ванечки нашего не было, как, значит, и жены.
Всяких жен ему, разумеется, тоже многaжды сватали и чуть ли не назначали, говоривши, что губернатору области, пусть и очень небольшой по российским меркам, нельзя оставаться неженатым, но Голубович, рискуя служебным положением, твердо сопротивлялся. Противодействовать сватавшим – не только, конечно, Алевтине Филипповне, первой его свахе, о которой мы вам, дорогие мои, уже рассказывали, но и людям покруче, было непросто, но Голубович справился. Как запросто справлялся и с частными инициативами теток, желающих за него выйти замуж. Ну, запросто. Тут мы не станем погружать вас в подробности, они ужасны. С бабами Иван Сергеевич принципиально не воевал, но нескольких оттраханных теток пришлось возвратить, что называется, в сознательность. Ну, это в сторону, да-с, в сторону.
А про отсутствие заместителя и тем более нескольких заместителей мы сообщили вам неспроста. Потому что, как только весть о губернаторском теракте докатилась до города – что тут? два шага! – и до белого здания областной администрации, тут же в здании оном возник вакуум. Даже некоторые областные чиновники, в том числе и Премьер областного правительства и Председатель Областной Думы, будучи в воскресный день в связи с чрезвычайным происшествием вызваны на работу, начали натурально задыхаться, дорогие мои. Даже несколько неотложек прибыли к Белому Глухово-Колпаковскому дому, и даже нескольких задыхавшихся увезли в больничку. А еще человек восемь – все начальники отделов и управлений – сами, своим ходом – то есть, на служебных своих авто, тяжело дыша и беспрерывно хватаясь за сердце, отправились обратно по домам, где и благополучно проболели всё время Глухово-Колпаковской смуты. Ну, бывает. Человеческий организм – дело тонкое.
На посту остался только голубовичевский секретарь Максим.
Утром, еще обсуждаючи с быстро натягивающим штаны Денисом креатив и творческие возможности Катерины, проявленные минувшей ночью, Максим допил коньяк, оставленный актрисой – прямо скажем, на донышке оставалось. Ну, вы, дорогие мои, за Максима не беспокойтесь – дареных бутылок, и весьма ценных, у него дома насчитывалось штук сто пятьдесят. Сувениры. Да-с! Сувениры секретарю большого начальника. Кроме сувенирных конвертов, разумеется, и всего прочего. Но это в сторону, так, в сторону. Просто открытая Катериной фляга оказалась как раз под рукой, а вся остальная коллекция, как вы сами вскоре увидите, ему не пригодилась.
Денис, как мы вам уже говорили, ссылаясь на предстоящий, несмотря на воскресенье, трудовой день, выпить решительно отказался, что сразу дало секретарю основания усомниться в его, Дениса, профессиональной пригодности. И напрасно, скажем мы вам. В тот же день секретарь Максим смог изменить свое мнение о профессионализме Дениса. Утром же секретарь ничего Денису на его императивное указание о какой-то неизвестной поездке не ответил, просто не успел, допил, значит, коньяк, так же, как Катерина двадцать минут назад, распахнул холодильник, убедился в глобальной, космической его пустоте, и вновь включил телевизор, открывая было следующую бутылку. Через минуту он дрожащими пальцами набирал один за другим номера на телефоне.
А мы вам ничего про Максима-то не рассказали, дорогие мои. Некоторые полагают, что секретарь, а тем более, страшно молвить, секретарша – весьма незначительные персонажи не только в нашем правдивом повествовании, но и в самой жизни. И нечего тут привлекать к ним внимание читателя. Но нет! Это ошибка! Ошибка! Зачастую секретари как раз и выходят в самые что ни на есть высокие начальники, вспомнить хотя бы такую должность – Генеральный Секретарь. Вспомнили? Но и не вышедши, что называется, в люди, секретари и секретарши столь существенное влияние оказывают на развитие событий и здесь, у нас с вами, дорогие мои, и везде, так что принижать значение их, стоящих обычно за спинами своих боссов, мы совершенно не склонны. Сам Максим, если по правде вам сказать, ничего выдающегося свершить не успел, разве что регулярно стучал на Ивана Сергеича всюду, куда можно и куда нельзя. Дык ведь это обязанности всех секретарей, – стучать на боссов. И Ванька наш прекрасно, разумеется, знал, чем его секретарь развлекается. Выявить тех, kто стучит по велению сердца, а не по служебной необходимости – вот тут дело посложнее.
Так что мы два слова про Максима скажем. Главное в его биографии – молодого человека в свое время не приняли в школу ФСБ. Именно поэтому его карьера по-настоящему не сложилась. Не склалась. Тем не менее, Максим всеми фибрами души всю жизнь стремился по мере сил помогать компетентным органам и вообще мальчик был хороший. Несмотря на прижимистость помогал еще живым родителям, бывшим областным комсомольским, потом мелким партийным сошкам, а теперь рядовым пенсионерам. Всегда Максим мечтал, что сделает жизнь свою куда более удачною, нежели чем сделали родители. Бог весть, если бы сын знал, почему его не взяли в так называемые «органы» и вообще не давали ему никакого ходу, он бы своих стариков бросил бы существовать на пенсию и лекарства импортные им перестал бы покупать. А дело в том, что его папенька однажды – давно это было – рассказал в присутствии близких друзей анекдот как раз про Генерального Секретаря. Скажем уж честно, совершенно не смешной анекдот.
Времена тогда стояли вегетарианские, за анекдоты уже не расстреливали и даже почти никогда с работы не снимали, можете себе представить? Почти не снимали. И, самое главное, анекдоты про того Генерального Секретаря рассказывали решительно все жители СССР, у которых еще ворочался язык, а уж в своей узкой, партийной среде, да еще в сауне, на узкопартийной групповухе с активистками комсомола – это мы точно знаем, бывали в саунах-то! – в саунах, значит, такое несли, что во время оно, попарившись и в охотку потрахавшись, загремела бы вся компания вместе с родственниками на какой-нибудь флагман социалистического строительства – рытье канала в пустыне или прокладку рельсов в тайге… Если, конечно, осталась бы в живых… Ничего экстраодинарного отец Максима, Михаил Осинин, не сказал. Но вот поди ж ты. И у него самого, а потом и у сына появилась в личном деле некая пометка. И… и все, дорогие мои. Вот как бывает.
И еще. Был Максим не только жадноват, но еще и трусоват, в школе вечно оказывался битым одноклассниками. И девушки давали ему очень редко, так что – из песни слова не выкинешь, – подростковые занятия онанизмом затянулись у Максима прямо до той поры, пока он не получил назначение к Голубовичу и вместе с должностью возможность добирать остатки – чуть мы не написали «с губернаторского стола», но уместнее сказать – с губернаторской постели.
Так что теперь, – а мы возвращаемся к нашему правдивому повествованию, – немного успокоившись и утвердившись в губернаторском кресле, Максим наслаждался иллюзией власти, власти, к которой он стремился всю свою короткую жизнь и которой так никогда и не достиг.
Он потыкал пальцами в кнопки на селекторе и убедился, что все начальники отделов заболели, поскольку ему отвечали вторые в отделах лица. Максим не успел и толком выматериться, ну, разве сказал пару раз «козлы, блин» – только-то, хотя успел назначить неотложное приватное совещание в губернаторском кабинете, а через сорок минут общее собрание всех сотрудников в актовом зале, – как взгляд его упал на стоящий отдельно от селектора и еще от нескольких телефонов красный аппарат с изображенной на нем двуглавою разлапистой птицей. Телефон сей молчал, что не помешало секретарю представить, как телефон звонит, как он, Максим Осинин, непреложной рукою снимает трубку и прежде чем ответить, на всякий случай поднимается на ноги – сомнений не было, что его сейчас пишут. Более того – секретарь знал, что в Bанькином кабинете всё подряд пишут. И поэтому действительно поднялся из кресла. Ему показалось, что он петушиным голоском сказал в трубку «Да!», непроизвольно поворачиваясь к висящему над головой портрету, и на самом деле немедленно к портрету повернулся. Тут он подумал, что отвечать тонким пидарским голоском на этот звонок – значит проявлять неуважение к собеседнику точно так же, как и отвечать сидя и, столь же непроизвольно прокашлявшись, тяжелым басом, словно бы уже некролог читая, произнес – теперь не в трубку, а прямо в воздух:
– Сек-ре-тарь-гла-вы-об-лас-ти… Мак-сим… Оси… оси-и… ни-ин…
Секретарь произнес еще:
– Обстоятельства выясняются, товарищ… товарищ… товарищ…
Горло секретарю перехвалил спазм. Он осторожно снял трубку красного телефона. Ни длинные, ни короткие гудки не раздались, вот это нам известно совершенно точно. В трубке висело глубокое, ощущаемое как имеющее объем и даже издающее некий запах молчание. В кабинет уже входили несколько человек – оставшееся на посту областное чиновничество. Секретарь так же бережно положил красную трубку на рычажок, словно бы только что имел чрез сей телефонный аппарат исключительной важности разговор с исключительной важности персоною, положил, значит, трубку, плюхнулся в огромное Bанькино кресло и повернулся на нем к вошедшим.
– Ну, че, блин? – спросил он с голубовичевскими интонациями. – Приплыли?.. Капец, блин.
– Добрый день, Максим Михайлович… – вразнобой отвечали вошедшие на секретарское приветствие. – Добрый… Добрый день…
– Че ж тут доброго? Козлы, блин, – продолжал отвязываться Максим, ощущая себя Голубовичем. – Ну, козлы, блин!.. Вы вот че… Щас перетрем об немедленных действиях…
И тут действительно раздался звонок – теперь личного смартфона секретаря. Он совершенно голубовичевским жестом указал вошедшим на длинный совещательный стол – садитесь, мол, козлы, садитесь, блин, щас, на хрен, перетрем – и ответил на звонок низким авторитетным голосом:
– Ннн… да!
– Англичане, – доложил смартфон, – вчера водочный родник нашли возле Кутье-Борисова. Прямо так водка бьет из-под земли. И они про водку все рассказали в гостинице. Говорят – каждому будем бесплатно наливать. Поехали туда, к монастырю. А народ уже с ночи собирается.
– Бли-ииин, – сказал секретарь, продолжая пребывать в образе губернатора.
Сейчас же загудел и замигал селектор. Секретарь ответил и селектору басом, причем – по громкой связи.
– Ну? Слушаю!
– Босс, – раздалось на весь кабинет, и один мужчина и две женщины из девятерых, сидящих за столом, перекрестились, – англичане бесплатно всех обещали поить. Выехали из гостиницы. – Голос, видимо, еще не прослышал о случившемся и полагал, что говорит с живым Голубовичем. – В гостинице уже знают. А через полчаса весь город будет знать, – голос захихикал. – Я ж вам говорил, босс, хи-хи-хи… А может, уже знает и весь город, хи-хи-хи… Из гостиницы уже народ потянулся… Ресторан закрыли пять минут назад, хи-хи-хи… Кто станет платить за пойло, если на халяву можно упиться в сиську… Алло! Иван Сергеевич? Иван Сер…
Секретарь нажал кнопочку на селекторе, но зазвонил один из четырех телефонов, стоящих сбоку от кресла на отдельной тумбочке и одновременно раздался звонок в кармане у только что перекрестившегося мужчины. Секретарь снял трубку звонящего телефона, молча приложил его к уху, короткое время послушал и произнес:
– Да знаю я, блин!
Почти точно так же ответил и чиновник на свой звонок:
– Да знаю я, знаю! Потом!
Мы не станем, дорогие мои, далее вас утомлять этими бесконечными и совершенно бессмысленными переговорами, потому что, во-первых, переговаривающихся голосов в Глухово-Колпакове существовало, как мы уже рассказывали, несметное количество, во-вторых, все они всегда докладывают одно и то же и нам с вами известное, а в-третьих и в главных, ни секретарь Максим не успел положить трубку, ни торопливо ответивший «Потом!» не успел вновь сунуть свой смартфон в карман, как от страшного пинка рывком отворилась запертая дверь, и в губернаторский кабинет вбежали два молодых человека в одинаковых красно-желтых комбинезонах с надписью VIMO и в таких же латино-американских[137] цветов бейсболках. От прочих работников строительно-уборочной фирмы обоих юношей отличала небольшая деталь – «калаши» в руках. Следом за молодыми людьми уже не вбежали, но довольно быстро вошли еще двое, тоже в вимовских комбинезонах, но годками явно чуть постарше и не с автоматами, а с пистолетами в руках – обычными, надо прямо вам сказать, заурядными, как и автомат Калашникова, пистолетами «ТТ». Секретарь и остальные присутствующие замерли под дулами. Повисла пауза. В эту паузу медленно, как Вий, вошел облаченный на августовской жаре в шерстяную тройку Виталий Алексеевич Мормышкин, всем присутствующим, разумеется, прекрасно известный – вошел и остановился перед голубовичевским секретарем, но не глядя на него в упор, как можно было бы ожидать от Вия, а блуждая взлядом по стенам поверх секретарской головы и время от времени задерживая взгляд свой на портрете, к которому – ну, вот только что – в мечтах обращался Максим Осинин. Bновь повисла пауза.
Одна из Глухово-Колпаковских чиновниц попыталась было приветствовать главу VIMO, сказавши:
– А! Виталий Алексеевич! Драсс…
Но тут же эта излишне сервильная дама поперхнулась под наставленным автоматом. И вновь повисла пауза. В нее быстро вошел еще один человек в вимовском комбинезоне, но не в бейсболке, поэтому было видно, как прилежно выбрита у него голова – человек лет уже сорока, со щеточкою усов, какие носили и носят военные всех стран, всех времен и народов. Лысый усачок тоже, как и Мормышкин – можете представить себе? – оказался без оружия, а только с папочкой-самоскрепкой в руках. Вот этот с папочкой внимательно оглядел присутствующих, посмотрел на уже обмочившегося Максима, покрутил недовольно носом, затем покрутил, морщась, и всей головою, словно бы голова следовала в действиях за одною своей частью, – носом, и негромко произнес два слова:
– Все вон.
Больше ничего про этого с папочкой нам неизвестно. Знаем только, что, значит, около сорока лет… Ну, сорок два – максимум… Высокий… С хорошей выправкой… Ходит, что называется, как пишет – по струне… Этот с папочкой встретится еще нам… Да-с! Но главное, дорогие мои, поскольку впервые мы столь крупным планом выводим пред вашим мысленным взором самого Мормышкина, надо два слова сказать о его внешности, а уж о характере Виталия Алексеевича вы станете судить не столько по отрывочным сведениям, которые мы вам уже сообщили и, разумеется, еще сообщим в самом скором времени, сколько по его, Мормышкина, делам – как нам, собственно, и заповедовал Тот, Кто незримо присутствует в нашем правдивом повествовании и Чью волю автор непреложно и незамедлительно принимает к исполнению: «По плодам их узнаете их[138]».
Мормышкин был среднего роста, черноволос с благородною сединой на висках, несколько полноват с виду по так называемому «женскому типу», как и все импотенты – с животиком и задницей шире плеч, и обладал гладким, чистейше выбритым лицом. Напоминал он католического прелата – такого, какими показывают прелатов в тех же голливудских фильмах, такого, знаете, с ямочкой на подбородке. Даже, в общем, красивым мужиком выглядывал Мормышкин, и не раз женщины удивлялись, что не отвечает Виталий на их недвусмысленные сигналы к сближению. Несколько портило лик Мормышкина постоянное выражение злобы, которое отныне, с недавнего времени – после его представления народу по телевидению – постоянно читалось на нем, но уж тут мы не виноваты, дорогие мои. Что есть, то есть, а мы врать не станем. Да мы и никогда не врём.
Так что голубовичевского секретаря и вовремя не проканавших момент чиновников смыло из кабинета за несколько минут до начала ливня. А Мормышкин уселся в еще теплое после секретарской задницы Bанькино кресло. По обе его руки встали молодые люди с автоматами.
Трудно сказать, от чего оберегал себя Мормышкин. Но достоверно известно, что опустился в губернаторское кресло Мормышкин в тот самый миг, когда Иван Голубович в точно таком же костюме, галстуке и блестящих штиблетах – именно в том прикиде, в котором утром выехал из резиденции – сделал первый шаг по красной Глухово-Колпаковской земле в сторону места своей предполагаемой гибели – то есть, в тот самый миг, когда в Глухово-Колпаковской области начался очистительный ливень. Мормышкин, значит, плюхнулся в кресло и сразу за окнами потемнело, и в стекла застучал такой силы дождь, что неробкие молодые люди ошую и одесную от Мормышкина тревожно переглянулись.
– Траххх! – раздалось за окнами. – Траххх!.. Траххх!..
Молнии забили словно бы в самое мормышкинское сердце, белейший свет заполоскал в окнах, однако ни Мормышкин, ни его усатый клеврет не обратили ни малейшего внимания на разгул стихий, как будто у них обоих не было сердец.
Человек с самоскрепкой зашел к новому губернатору слева, словно официант, и подал лист из папочки.
– Указ о вашем вступлении в должность губернатора, – произнес человек.
Мормышкин почесал себе через брюки яйца, потянулся к мраморному пресс-папье на голубовичевском столе, вытащил ручку – та оказалась бутафорской, Голубович, как вы знаете, подписывался хорошим «паркером», который сейчас, пусть и со сломанным пером, пребывал во внутреннем кармане его насквозь промокшего пиджака, валяющегося на шоссе. Стремление к правде заставляет нас свидетельствовать, что в настоящий английский «паркер» Ивана Сергеевича во время русской грозы попала вода, и «паркер» с той минуты стал уж совершенно негоден, что выяснилось несколько позднее.
– Ручку! – хрипло приказал Мормышкин за несколько километров от непреклонно идущего сквозь бурю Голубовича, и это было первое слово, которое произнес он после воцарения в Глухово-Колпакове.
Лысачок молча вытащил из себя довольно простенькую шариковую ручку, щелкнул ею и тоже подал, как и список. Мормышкин расписался на листе.
– Новый состав областного правительства, – подал тот второй листок.
Мормышкин, сопя, расписался на втором листе. Лысый было потянул из-под самоскрепки и третий лист, чтобы подать его Мормышкину на подпись, как даже не в приемной – а двери из кабинета в приемную, и из приемной в коридор, и из коридора на лестничную клетку стояли распахнутыми, потому что охране необходим обзор, все должно просматриваться и легко простреливаться от и до – как на лестнице раздался поросячий визг. Вот тут Мормышкин среагировал и вопросительно посмотрел на подающего ему листы. Тот сделал недоуменный жест.
– Я ж сказал, – выцедил Мормышкин, – сказал: без эксцессов… Еще мне тут… В первый день… В чем дело?
Bизг повторился и тут же смолк, зато немедленно раздался другой звук, словно бы волчий или медвежий рык. Можно было бы предположить, что здесь, на губернаторской лестнице, волк дерет поросенка. Визг прозвучал вновь, и в тот же миг гроза прекратилась, как выключилась. Ровный благостный свет разлился по кабинету.
Высокий быстро вышел и так же быстро вернулся.
– К вам на прием женщина, жительница Глухово-Колпакова, – бесстрастно доложил он.
– Какая еще… жж… женщина?! – Мормышкин взялся обеими руками за край Bанькиного красного дерева стола, костяшки его пальцев побелели, а сама прелатская физиономия начала багроветь. – Какая… Какой еще… прием?! Что за… крики?!
– Укусила сотрудника, – доложил лысый. – Он ей рот зажал… Прокусила перчатку…
Мормышкин молча засопел, все более багровея, и вдруг яростно зачесался, как дворовый пес.
– Советую, Виталий Алексеевич, принять… Вас защищают, – высокий человек бросил взгляд на автоматчиков, и те видимо подобрались. – А тут первый посетитель… То есть, посетительница… Население узнает, как новый губернатор себя проявил… А потом закроем прием… До специального объявления…
Мормышкин посмотрел на лысого и кивнул.
– Заводи! – крикнул лысый.
Вимовец с автоматом на плече ввел, цепко придерживая ее за локоть, первую мормышкинскую посетительницу – совершенно мокрую с головы до ног Катерину. Сейчас вокруг ее намазанных алым губ виднелись такие же алые разводы – то ли вампирская сущность актрисы сама проявила себя, то ли кровь с прокушенной руки вимовского автоматчика осталась, то ли просто размыло помаду – ну, не знаем. Макияж, наложенный на скорую руку, точно был размыт и стекал по щекам, делая даму схожей с индейцем в боевой раскраске. С короткой юбки, с просвечивающей от воды кофточки и с накренившегося набок черного пучка на голове актрисы капала вода и немедленно же накапала целую лужу на наборном Bанькином паркете.
Мормышкин оцепенел.
– Присаживайтесь, – бесстрастно предложил лысый. – Какой у вас вопрос? Губернатор слушает вас.
Настрадавшаяся Катерина утвердилась в кресле перед столом. Введший ее охранник отступил на шаг.
– Ка-кой-у-вас-воп-рос? – повторил лысый усачок по слогам, профессионально скрывая раздражение.
– Театр – это святое! – молвила первая мормышкинская посетительница и даже руку простерла на сторону. С таким жестом обычно ваялись монументы XVIII века. – И мы не желаем!.. Все… То есть, что я… Значительная часть труппы! Не желает более носить имя! В наше время!.. Извращенец! – вновь взвизгнула она, имея в виду, разумеется, Анатолия Васильевича Луначарского, но любой из присутствующих мог принять обвинение на собственный счет.
– Кто… извращенец? – страшно спросил Мормышкин и почему-то вновь машинально почесал у себя между ног, видимо, сам не замечая производимого им деяния или вовсе не придавая не очень приличному в присутствии женщины, да и вообще в присутствии кого бы то ни было почесыванию никакого значения. – Кто… извращенец?
К сожалению, мы можем констатировать, что Глухово-Колпаковская травести не услышала угрозы в вопросе нового губернатора.
– Луначарский! – закричала она в экзальтации. – Луначарский извращенец! Труппа не желает носить имя извращенца! Мы желаем носить имя князя Бориса Глебовича Кушакова-Телепневского! Основателя нашего театра! Князя! Князя! Князя! – заорала актриса, словно бы разборчивая невеста, требующая у маменьки титулованного жениха, и – смолкла, видимо, исчерпавши все эмоциональные силы.
– Так, – при упоминании Луначарского Мормышкин откинулся в кресле. Слабое подобие улыбки изобразилось на его прежде почти неподвижном лике. – Так… – он повернулся к лысому. – Так, – повторил он в третий раз, будто бы разбег брал перед формулированием первого своего решения в ранге губернатора. – Театр закрыть… Актеров всех уволить по собственному… Здание театра… Здание, – тут он несколько затруднился, потому что не имел готового решения, как лучше использовать вдруг освободившееся театральное здание, но решение, разумеется, пришло незамедлительно. – В здании разместить штаб-квартиру Глухово-Колпаковской фирмы VIMO.
– Слушаю, – произнес лысый усачок. – Сегодня сделаем.
А далее произошло следующее, дорогие мои. В голове у актрисы второй раз за день громко щелкнуло. Присутствующие в силу своего воспитания и образа жизни не могли интерпретировать этот почти металлический звук иначе, как звук взводимого пистолетного затвора. Актриса же безо всяких ступы или, например, помела взлетела в воздух, одно мгновение – картина эта бессменно стоит у нас перед глазами, – взлетела в воздух, мгновенно вытягиваясь и становясь не прежней кургузой и толстой, с отвислой жирной задницей и отвислыми сиськами сорокалетней теткой в насквозь мокрой одежде, а юной, тонкой и трепетной девочкой с совершенно замечательной, тронутой лишь похотливыми взглядами попочкой и маленькими прелестными грудками. Собранный утром наскоро черный пучок на голове актрисы в этот миг полета сам собою развязался и превратился в темно-русые – чуть мы не написали «развевающиеся по ветру» – нет, свободно ниспадающие прекрасные волосы. Не ведьма, но юная богиня застыла в воздухе над бывшим голубовичевским, а теперь мормышкинским столом, юбка и блузка вместе с трусиками и лифчиком слетели с нее, теперь она предстала в полупрозрачной розовой материи, ниспадающей с тела. Одно мгновение, миг единый Мельпомена летела к Мормышкину, вытягивая вперед теперь не широко открытую, как на памятнике, а напряженную, явно нацеленную, желающую схватить жертву руку, во второй же руке летунья держала на замахе некий астральный, внеземной, но несомненно театральный предмет – уж если не пистолет, так нож или же кастет, или просто булыжник, или заурядную, как и все оружие вимовских сотрудников, ручную кумуляшку[139]. Одно мгновение продолжался полет. Тут же тетка с грохотом рухнула на пол; грохот от ее падения слился с неистовым грохотом автоматных очередей, потому что в помещении выстрелы слышатся особенно громко. Из множества ран первой посетительницы несомненно предпринявшей попытку покушения на губернатора Мормышкина, обильно хлынула кровь, заливая и ее короткую юбку, и блузку, и колготы, и маленькую, выпавшую из мертвой руки сумочку. Пучок, действительно, развязался от удара головы об пол, и теперь черные мокрые волосы актрисы полоскались в крови.
Лысый усатый человек, подававший губернатору бумаги на подпись, молча повернулся, сделал два шага к хайтековской из матового стекла и металла стенке, откатил одну секцию, словно бы прекрасно знал о том, что и где у Ваньки Голубовича в этой стенке хранится, достал не то скатерку, не то простыню и, взмахнув ею, накрыл расстрелянную.
– Вынести через пятый подъезд, – приказал лысый. – Закопать на свалке…
Двое вимовцев потащили завернутую в скатерть актрису.
– Хотя нет… Нет… – он обернулся к Мормышкину. – В актовый зал ее. Установить личность. Сделаем покушение на народного губернатора фактом истории.
Мормышкин кивнул. Всем журналистам – человек двадцать их набралось плюс четыре телекамеры – и всем вызванным на работу и уже собирающимся в большом актовом зале сотрудникам администрации предстояло, таким образом, услышать сразу о двух покушениях на двух губернаторов, произошедших в одно и то же утро. А это уж… А это уж, дорогие мои… Таких случайностей не бывает, сами понимаете.
Мертвую Катерину, судьбу которой столь бездушно предсказал драматург А. Н. Островский, потащили вниз по лестнице. Лысый, кивнув еще нескольким охранникам, пошел следом.
– Никаких больше сучьих баб, – проскрипел Мормышкин в спины клевретам. – Все! – тут он даже некоторый смешок изобразил. – Прием закрыт.
В это время Голубович уже подъезжал к зданию администрации.
VI
А теперь, дорогие мои, мы расскажем поподробнее о самом Серафиме Кузьмиче и о достославных делах его. Но прежде мы должны окончить рассказ о происходящем в hall гостиницы Savoy.
Лишь только Херман вышел за дверь, Темнишанский молча поднялся, вновь протирая пенсне. Он понимал, что сейчас последует вердикт для него. Водрузивши пенсне на нос, Николай Гаврилович уставился на полковника. Секунды три-четыре они с Ценнеленбергом мерялись силою взглядов. Неистребимая приверженность к правде заставляет нас свидетельствовать, что в соревновании сем Николай Гаврилович победил – возможно, потому, что оказался вооружен волшебными стеклами. Но последнее слово, разумеется, осталось за полковником.
Отведши взгляд, он повернулся к двери и крикнул:
– Гурин!
Вошел еще один жандарм – высокий и плотный вахмистр – с кандалами в руках. Темнишанский улыбнулся. А чего еще должен был ожидать этот человек? – спросим мы с вами.
– По Высочайшему указанию вы будете возвращены первым же этапом к месту прежнего отбывания ранее вынесенного вам приговора. В Нерчинский округ. Приговор вновь вступает в законную силу.
Темнишанский вздернул голову: – Я объявляю голодовку! – Все козлиное личико Тимнишанского яростно задвигалось, словно бы он и на самом деле жевал траву и сейчас собирался выплюнуть жевок.
– Это пожалуйста, – разрешил полковник. – Гурин!
Сопя, огромный вахмистр шагнул к маленькому человеку в зеленом сюртучке и начал прилаживать кандалы. Все молчали и неотрывно смотрели, как парные железные скобы, соединенные цепью, укрепляются на тонких, словно бы юношеских, да что – прямо-таки детских руках Николая Гавриловича.
– Покудова… – хрипел вахмистр, – покудова тако вот… на которое время… шоб щас доехати, а в крепости ужо закуем чинно-блаародно, господин… И чепью тако вот щас обмотаем крестом… Не извольте того… Останетеся довольные…
Через полминуты обмотанные неподъемной для Темнишанского цепью его руки в кандалах оказались плотно прижаты одна к другой от кистей до локтя.
– Послушайте, – хмуро сказал Красин, – вы, полковник… Нельзя же так… Эдак случных быков не стреноживают… Вы же видите: Николай Гаврилович ничего не… Вы специально унижаете человека… Достаточно простой веревки, – добрый посоветовал Красин.
Тонко улыбающийся Ценнеленберг только покосился на Красина.
– Молчите, вы, кулёма! – зашипел Морозов в ухо Красина. – Или уже обсохнул после дрочки-то? Сам-то хоть когда хотишь спустить в телку свою? Или другие в нее должные спускать?… Бычок питерской. Случной бычок.
Пораженный Красин, слава Богу, замолчал и, уж признаемся вам, дорогие мои, даже в тот миг и не подумал дать Морозову в зубы, как несомненно поступил бы всего сутки назад.
– А… мы… нам… что? – улыбаясь дрожащими губами, спросил Васильев.
Храпунов и Сельдереев сидели молча и без движений.
– Не имею всей полноты указаний, месье. – Ценнеленберг, сочувственно покивавший головою, был сама учтивость. – Во благовременье определит Следственная комиссия… Бывший капитан Васильев?
Васильев сглотнул сухим горлом и кивнул.
– Покамест приказано: без погон в Алексеевский равелин[140]. Да-с! Погоны снять! – неожиданно жестко добавил полковник, и тут же вновь стал сама учтивость. – Тут недалеко, времени доехать – пустячок… Пустячок, месье…
Васильев выхватил револьвер. Мы уж, помнится, сообщали вам, дорогие мои: «смит-вессон» это был. Новейший, десятимиллиметровый, блестяще-стальной, и с блестящими же деревянными накладками на рукояти, на которых не успел еще стереться лак, словом – самым лучшим и самым модным оружием владел капитан Васильев.
Никто из жандармов не успел среагировать, не успел даже расстегнуть собственной кобуры, в том числе и видавший – судя по всему – в молодости виды Ценнеленберг. Васильев приставил дуло ко рту, обхватил его губами, словно карп-губошлеп, заглатывающий червяка, и нажал на спусковой крючок…
Да, так мы обещали вам про Храпунова рассказать! Ну, пора, пора выполнять обещание, дорогие мои.
Давайте с вами, словно бы сизый питерский голубь – вечно злобная, больная и голодная птица, – воспарим над столицей российской империи городом Санкт-Петербургом и полетим на Охту, чтобы увидеть, как все это было.
Так: несколько фабричных колон уже выходили к Дворцовому мосту, а в самом конце пятнадцатой линии, где когда-то родился Серафим Кузьмич Храпунов, еще даже не начала двигаться самая главная колонна.
Дом на пятнадцатой линии известен был всем. Как он выглядел еще недавно и всю свою столетнюю жизнь до сегодняшнего дня, никто уж не помнил – словно сто лет не существовало покосившегося сарая под дранкою с двумя слепыми оконцами, из черных от времени досок, похожих на неаккуратно прокреозоченные шпалы. Нынче это был дом в три окна – голубой, как небо, с красною черепичной крышей, с веселыми белыми резными ставнями и наличниками, на красном же кирпичном фундаменте – таким знали и любили его теперь. А как старая развалюха в одночасье превратилась в симпатичный ухоженный домик, известно не было, да это никого и не интересовало, дорогие мои.
Внутри наверняка устроено все было по-людски тоже, как оно и должно обстоять в доме Серафима Кузьмича Храпунова, но внутри дом видели только считанные люди, – знали, что там иногда, очень-очень редко гостевает какая-то женщина – не то сестра, не то полюбовница Кузьмича – а что, дорогой наш Серафим Кузьмич, он полное имеет свое право, – однако же ни женщина эта, ни кто другой случающийся в доме улице не показывались – все разговаривали с посетителями или приоткрыв щелку глухой калитки и держа самою ee на цепочке, или через оконную форточку – если, разумеется, та женщина или вообще кто-нибудь давал себе труд из-за занавески говорить со стучащим в калитку, потому что даже и за забор Храпуновы очень и очень редких пускали к себе… да почти никого… да вообще, уж скажем прямо, вообще никого; так оно, полагали люди, стало быть, заведено в доме самого Храпунова – порядок-то, он, конечное дело, на то он и есть. Не простого человека дом.
Сейчас дверь, как обычно, оказалась закрытою, но и сквозь закрытую дверь и окна, с ночи забранные ставнями, просачивался теплый душок свежих пирогов и пряный, резкий запах жареного мяса – та женщина или же сестрица готовилась, знать, к возвращению братца-то от его дневных трудов. Люди на улице, держащие красные стяги и плакат с кривоватой надписью «Приветствуем нашего дорого Кузьмича» – непростое слово «Приветствуем» вышло правильным, а в «дорогого» последнее «го» где-то невзначай потерялось, – люди принюхивались. Двое с плакатом – молодой вихрастый и конопатый парень в косоворотке и старик с утиным носом в чуйке, седые прядочки из-под картуза, – совершенно одинаково раздували ноздри.
– Чай, мать твою, пироги с требухой, слышь ты, Василич? С требухой-то, мать твою. Я б ща навернул, o-o-o,! О-о, как, на хрен!
– Хрен, на хрен! С капустой! Малой, мать твою, еще! С капустой-с луком, на хрен! От, с капустой, мать твою, да с луком! Понял, мать ттвою?
– Хрен ли базлать, Василич? Требуха, мать твою, она завсегда дает… Эт-та, на хрен… Как бы отрыжку в запаху, мать твою! Требуха, она, знаешь…
Говорящие были почти трезвыми – ради такого дня, – или же обычный опохмел не оказал на них благотворного действия, потому что возбуждение сегодня быстрее обычного сжигало в их желудках грошовый картофельный сырец[141]. Оделись они, как и все вокруг, по-праздничному, в чистое, их густо наваксенные сапоги, тяжело блестя, нестерпимо – для стороннего, случись он тут каким-нибудь чудом, носа – нестерпимо воняли, но оба, как и все, сумели различить в ароматизированном и дурманящий запах еды.
– С капустой, на хрен, знамо дело, мать твою поперек и вдоль! – заговорили вокруг. – Ты нюхалку-то, на хрен, прохреначь, на хрен, от так, мать твою! С капустой-с луком, на хрен!
Вихрастый парень трубно высморкался в пыль под ногами, вытер рукавом нос, блеснула жирная татуировка на руке – «ВИТЯ» внутри крендельных линий, похожих на типографские виньетки, – парень высморкался, приуготовляясь вынести повторный вердикт, но тут спорящие незаметно для самих себя повернулись и, продолжая разговаривать, двинулись от дома Храпунова прочь, потому что лежащий в конце пятнадцатой линии один из хвостов колонны двинулся, и оба спорящих через короткое время двинулись, разумеется, тоже. Солнце плескалось на лицах, отражалось в улыбках, солнце отражалось и в Смоленке вместе с синевою неба и алыми сполохами флагов и транспарантов; голубая Смоленка плескалась – тоже, кажется, радуясь предстоящему свиданию с земляком своим, и окунек, на мгновенье выпрыгнув из воды и тут же с неслышным плеском ушедший в нее вновь, кажется, радовался тоже; никто не заметил окунька, никто и внимания-то на него не обратил, обычно сидящих по берегам мужиков с удочками сейчас не стало ни одного – всех вобрала колонна; перешли по деревянному мосту через Смоленку и двинулись наверх, вдоль восьмой линии, к Неве.
– Слава, мать его, нашему дорогому Кузьмичу, на хрен! – раздавалось.
– Слава! Слава! Слава! Ммаааа-ааать егооо! Слава!
Отзвук катился по колонне и множился; так по железнодорожному составу идет звук взаимно схватывающихся сцепок, когда паровоз, прежде проскользнув колесами по рельсам, трогает с места – железный звук тогда множится, пока не превращается в один тяжело вибрирующий низкий бас, наполняющий все вокруг.
– Траханная сила! Храпунов с нами, мать его туда и сюда!
–… ять! – отвечал эхом Благовещенский сад. —… ава!… ава!
Дальше колонна втягивалась в хорошие, дорогие дома, с левой стороны дороги уже шли приличные дворы, а дальше, где начиналась девятая линия, за парком, виделся в глубине уже и дом самого Визе – с двумя каменными лежащими львами по обеим сторонам лестницы и квадратным греческим портиком. Возле закрытых ворот Визе, придерживая палаши, нервно прохаживались четверо городовых.
А в самом-самом конце пятнадцатой линии, в посаде, стояли улыбающиеся бабы, давно не следящие – впрочем, как и всегда, – за своей с криками бегающей взад и вперед вдоль колонны чумазой ребятней.
– Наши-от идут, мать твою, – в сотый раз сообщали друг другу бабы. – Ты гля… Таперя оно пойде-от… А? Маруська! Таперя, значит, выходит полный капец, ежели мужики до водяры дорвутся… Ты слухай, че говорю-то, стервь. Пойде-от, говорю, твою мать! – лыбилась собеседница Маруськи, словно бы праздник Светлого Христова Воскресения встречали их мужья, а не шли требовать от Государя Императора бесплатного неистощимого пойла.
– Не стерви, сука… Пойде-от… Храпунов – он, сучий кот, понимание имеет, что оно и куды… Оно так, твою мать… – отвечала краснощекая Маруська, тоже улыбаясь и утирая рот уголком платка. – Пойде-от, на хрен… Куды пойдет, туды и пойдет, ммать ттвою сверху и снизу… То до нашенского ума не касаемо… До нашенского ума, писька драная, одно касаемо: задирай ноги, трахать будут… А куды пойдет, значится, туды и пойдет, один хрен…
– Знамо дело, куды все пойдет, на хрен… Промеж ног и пойдет, – вступала в разговор третья. – Мужики таперя от пуза напьютуся – негощие станут вовсе, мать их… Дык сами себя почнем поленами трахать! Целки сбивать! Драной письки делов! Станут у нас письки, мать вашу, занозистые! Не кажинный хрен опосля влезет! Побоится! От оно как, мать вашу поперек и вдоль!
Бабы визгливо захохотали.
А вокруг раздавалось:
– Храпунов с нами, на хрен! С на-а-ми!
– …а-ми! …ать! …а-ми! – повторяло эхо.
Миновали восьмую и девятую линии; ближе к Неве бесперечь пошли уже только каменные дома – с плотно занавешенными окнами, с опущенными шторами, из-за которых невидимо для идущих в страхе смотрели на них обитатели. Хвост колонны еще только медленно уползал от xрапуновского дома, а передовые уже подходили к Биржевой.
И вдруг во главе сходящейся из трех колонн толпы возник caм Серафим Храпунов. Он оказался на набережной наискосок от Зимнего Дворца, словно бы неизвестною, но высшею силой помещенный в этот миг сюда – так на шахматную доску рука играющего ставит сверху фигуру. Шахматным пешкам и коням – да что! и королю с королевой эта непреложная рука наверняка кажется рукою Господа Бога, объявляющего мат.
Храпунов что-то коротко произнес, и тут же люди бросились к нескольким не успевшим уехать – большинство-то дежуривших на Биржевой площади лихачей крестьянским своим умом сразу сообразили, что к чему, и, нахлестывая лошадей, укатили прочь немедля, как только завидели первых бегущих в самой голове процессии, но несколько наиболее глупых, или наиболее жадных, или наименее расторопных остались, – люди бросились к дежурящим на набережной извозчикам, мгновенно скинули тех с облучков – в толпе лишь на миг мелькнули их руки и ноги, и, давя друг друга, потащили упирающихся и пытающихся встать на дыбы лошадей в центр толпы – сразу четыре пролетки потащили, хотя нужна была, конечно, только одна.
Через минуту Храпунов уже стоял в пролетке; неизвестно, как, но он оказался именно на той, в которую была впряжена единственная из четырех спокойная лошадь – белая кобыла медленно все кланялась и кланялась головой в черных шорах на глазах, словно бы, не видя, заведомо одобряла и все происходящее вокруг, и готовую излиться речь вождя. Не иначе, за старостью выброшенную из шапито цирковую лошадь впряг в пролетку уже раздавленный ее хозяин.
Храпунов в правой, воздетой к синему небу руке, зажал сдернутый с головы картуз.
– Ребяты! Братовья, мать вашу сверху, снизу и сбоку!
Сказал он это не очень громко, но низко, тяжело, и голос его, словно бы гром, сотрясая воздушные пласты, покатился над головами. Немедленно все стихло, только одна из лошадей, никак не успокаиваясь, дергалась и храпела. Держащий ее за повод человек без замаха – люди стояли впритир – без замаха, но резко и сильно ударил ее кулаком прямо по ноздрям, и лошадь тут же встала неподвижно.
– Уб-бью, на ххрен, пас-ку-да! – прошипел держащий повод.
– Ребяты! Сегодня вы, мать вашу, хозяева жизни, на хрен! – Заговорил Храпунов. – Вы, мать вашу, на хрен. Не эти пидарасы, на хрен, со своим траханным Движением, которым насрать на трудового человека. Им, мать их поперек и вдоль, насрать, что фабричный или мастеровой, на хрен, человек девятый хрен без соли досасывает! Им, мать их, жидам, на хрен, трудовой человек до письки дверца! В рот их трахать, мать их, в Движении ихнем! Пущай, на хрен, поброются спервоначалу, на хрен! Все, мать их, бородатые козлы, на хрен! Вы хозяева! Все ваше, мать вашу в ррот! А эти, на хрен, поголовно жиды, мать их! Все жиды, мать их, на хрен! Хрен они мастеровому человеку, мать их, насоветуют, на хрен! Хрен! Хрен!
Слитное движение, словно бы одна общая дрожь, прошло по толпе. Никто не проронил ни слова, только кто-то прошептал восторженное «блиииин» и сразу же получил тычок под ребра – никшни! Никшни, сука!
– Они, мать их лежа и стоймя, в этом траханном Движении своем, думали, что нас, фабричных, теперь раком поставят. А хрен! Хрен, мать их, на хрен! Пидорасы, мать их! Хрен им в рот и в жопу! Все клево станет, только слушайте сюда, мать вашу! Все станет наше, на хрен, все, на хрен, наше! – В совершенной тишине он всей грудью вдохнул, чтобы продолжать; слышно было, как фыркают лошади, и казалось, что это говорящий с таким хлюпающим звуком набирает в грудь новую порцию воздуха.
– Теперь, мать вашу лежа и стоймя, слушай сюда, братовья! В Зимнем тайну знают – где есть она, на хрен! Водяра, на хрен, водяра!
Страшный шум, словно бы звук тяжелого тропического ливня, прошел по толпе, но Храпунов вновь поднял руку и вновь мгновенно все стихло.
– А мы, мать их, спросим, на хрен!
Шум вновь поднялся и вновь стих.
– На каждом, мать вашу, заводе, на каждой фабрике, вашу мать, – чуть тише заговорил Храпунов, но бас его все так же и даже теперь глубже, утишенный, падал в души, – надо, братовья, мать вашу, сами распределять водяру, на хрен. Самим, мать вашу! Чтоб по справедливости! Каждому, на хрен! Каждому!
– Слава Кузьмичу! – тонко завопил в толпе одинокий голос, тут же заглушенный чудовищным общим криком. – Слава Кузьмичу! Слава, на хрен, слава!.. ава! …ава!.. ааа!..
Храпунов опять поднял руку.
– А чтоб, на хрен, не разосрались меж собой, я, мать вашу, на каждый завод пришлю комиссара своего. И все станет зашибись, вашу мать, ребята! Станете немеряно водку жрать, в экипажах, на хрен, ездить, осетрину кушать, на хрен! Дорогих баб трахать! И ни хренища не делать, ровно господа! Драной письки делов! Потому что все, мать вашу лежа и стоймя, будет наше! А водяра, на хрен, из источника бьет – я, мать вашу, точно знаю – как цельная, на хрен, река – неистощимо, на хрен! Неистощимая, на хрен, река! Все поделим, на хрен, по справедливости и упьемся в сиську, мать вашу поперек и вдоль! Согласные, на хрен?
Храпунов махнул рукою с картузом, и, словно бы подчиняясь жесту дирижера, вся запруженная людьми площадь ответила одним слитным, как эхо, отзвуком:
– …аше! …ать! …аше! – И вибрирующее вновь раздалось сразу в нескольких местах толпы: – Слава Кузьмичу! Слава Кузьмичу, мать его! – вместе с ответным: – …ава! …чу! …ать!
Дирижер поднял руку, и все немедля стихло.
– С этими козлами, мать их, в Движении не хрена даром и базлать, пока вся власть не перейдет, мать его сзади и спереди, в руки трудового человека!.. Фабричного, мастерового человека, в рот его трахать!
Тут Храпунов на долю секунды вновь замолк, словно представляя для себя, какого именно трудового человека он имеет в виду.
– Пока это траханное, блин, Движение полностью не разосрется с кровопийцами, на хрен. Ведь пьют, мать их, нашу кровь, на хрен! Пьют, на хрен, братовья! – тут Храпунов сделал рукою некий не совсем определенный жест, словно бы желая указать непосредственно на кровопийцу. – Но кровь трудового, мать его, человека неистощима, как водяра! Неистощима, мать его! Кажинный, кто спробует, захлебнется, мать его лежа и стоймя, нашею кровью, на хрен! Захлебнется, на хрен, братовья!
– …я!....я!.. – отвечала набережная.
– Пока полностью, мать их, не уроют всю армию, на хрен, всю, на хрен, полицию, на хрен, всех этих траханных чиновников, в рот их трахать! Сами, мать их поперек и вдоль, будем править, на хрен! Сами, на хрен!
– …ами!......уй!....ять!… – раздавалось.
Он, опять набирая в грудь воздуха, опять взмахнул картузом, и тысячи глоток разом выдохнули «Хх-ха-аа».
– А пока, вашу мать, бросай работу, на хрен! По два литра каждому, на хрен, кто с завтрева же работу бросит, мать вашу лежа и стоймя!
– …уй!!! – взревела толпа. – …ду! …ай! …уй! …о-ту! …уй! На-ахреееен!
– Я, траханная сила, пошлю комиссаров, на хрен, по заводам водяру бесплатно раздавать, смотри, их слушать строго, мать вашу! А то у нас, на хрен, дело не выгорит ни хрена, вашу мать! Сегодня все зашибись – бери, на хрен, что хочешь. Трахаться в ррот! И комиссар скажет, что, на хрен, оно и как, на хрен! Слушайте комиссаров, вашу мать, ребята! И все станет как оно есть, зашибись, на хрен!
– …ять!.. …ять!.. …ять!.. – отвечало эхо.
– Только до усрачки сейчас не пить, мать вашу. Помните, вашу мать, братовья, на хрен! Возьмем, на хрен, окончательно власть, тогда упьемся в сиську!
И тут Серафим Кузьмич добрую улыбку изобразил на лике своем. Народ захохотал. А Серафим наш Кузьмич не хуже какого Суворова заорал:
– Вперед! На мост, вашу мать! На Зимний, вашу мать!
Огромная толпа бросилась на Дворцовый мост. Но лишь только первые сапоги с топотом ступили на дощатый настил, центральный на мосту плашкоут начал медленно отходить в сторону, а пролеты по обеим сторонам его – подниматься.
– Аааааааааа!… – вопила толпа.
Передние старались перепрыгнуть образовавшуюся еще небольшую, но на глазах увеличивающуюся щель, под которою плескалась стальная невская вода, и срывались в воду, задние, не видя, что происходит, давили на передних, и в воду начали падать даже те, кто, вроде бы, приостановился и вовсе не собирался прыгать. Падающие топили упавших секундой раньше, потому что интуитивно старались встать на их тела. Проем под разведенным пролетом забурлил. Так бурлит и кипит водоем, когда на современном рыбзаводе кормят осетров, бросая им сублимированный корм с бетонной кромки бассейна. Огромный людской ком двигался под мостом, постепенно опускаясь на дно и пополняясь новыми и новыми падающими в воду. Верхние топили нижних. Но вот толпа, наконец, остановилась. И в самый момент народной заминки Некто, сверху наблюдающий за шахматной доской, бросил на доску огневой фугас.
– Баххх!
Фосфорный снаряд разорвался в десятке метров от Храпунова, полыхнув огнем и рассыпая огонь вокруг себя. Человек тридцать, не меньше, сами тут же загорелись, как факелы, невыносимо крича и сразу падая. Все четыре лошади, в том числе и белая в храпуновской пролетке, сразу понесли, давя людей вокруг себя. И – чудо, дорогие мои, чудо, мы врать не станем – кажется, за тысячную долю секунды до разрыва Храпунов с пролетки исчез. Ну, исчез. Кому-то удалось заметить, как Серафим Кузьмич нахлобучил на голову картуз, а кто-то и этого не успел заметить. Мы сами, дорогие мои, только и видели: два пальца, тонких и снежно-белых, как два огромных, словно бы пальцы кукловода крохотной марионетки, два пальца – большой и указательный – осторожно, но быстро взяли Храпунова за толстую его талию и вознесли куда-то вверх, так высоко, что даже нам не уследить.
– Баххх! – разорвался второй снаряд. Теперь это была шрапнель. – Баххх! – разорвался третий.
Люди, топча упавших, побежали с набережной прочь. Невидимое орудие более не стреляло, но само небо раскололось, из прорана бесшумно вылетела узловатая ветвистая молния, ударив прямо в бегущих людей. Они уже не понимали, гроза это или же рукотворный боевой заряд. Более не защищенные вождем, люди оказались одни пред лицом стихии. Вслед за погасшей молнией страшный громовой раскат потряс округу.
– Траххх!
Брусчатка набережной заходила под ногами; и сразу же хлынул ливень; люди, сталкиваясь и падая под ноги друг другу, бежали, как муравьи, в разные стороны, накрыв чуйками и поддевками или просто руками головы и ничего не видя перед собой в стене воды. Через минуту, кроме нескольких десятков корчащихся в ливне раненых и лежащих неподвижно раздавленных и сожженных, на площади не осталось никого. Трупы от моста немедленно снесло течением.
А вечером уютный горел свет за ставнями храпуновского дома, пробиваясь в отдыхающий после грозы дом сквозь щели возле шпингалетов и сквозь маленькие, вырезанные в ставнях сердечки, – сквозь них можно было рассмотреть, что делается в храпуновской горнице, если б кто из любопытствующих решился бы перелезть через глухой забор и заглянуть в сердечко – не обращая внимания на полутораметровых кавказских овчарок: снежно-белого Шахтера, названного так, видимо, по извращенной логике, и серого с коричневыми подпалинами Космо. Что такое Космо, никто не знал на Охте, Серафим Кузьмич именно так пожелал назвать собаку, но все знали, что в прошлом году Космо разорвал трехлетнего мальчика, каким-то чудом проникшего на храпуновский двор – именно разорвал; когда прибежали, детская головка уже валялась отдельно от туловища. Так что сегодня, как и всегда, желающих перелезть через забор не нашлось, да и искреннее уважение к хозяевам помешало б, не будь даже на дворе собак, не обратить внимания на которых совершенно, значит, представлялось невозможным – собачки сами на раз обратили б на себя внимание.
Кстати сказать, ничего необычного приникший к сердцечку в ставне не увидел бы в храпуновской горнице.
За столом, покрытым белою узорчатой скатертью с камкой, сидела Катина горничная Стеша и дула из блюдечка обжигающий чай, время от времени поднимая руку, обламывая от висящей на самоваре гирлянды сушек одно за другим хрустящие звенья и отправляя их в рот. Тут же на столе стояли вазочки с вареньями и медом, и Стеша иногда брала серебряной ложечкой меду или же варенья из вазочки, пуская капли себе на подбородок; тут же вытиралась лежащим на коленях полотенцем, заодно им же промакивая пот на лбу, шее и полуоткрытых сейчас в кофточке грудях, в ложбинке меж которых покоился немаленький золотой крестик.
– Федор!
Явился Федор – неопределенного возраста малый в поблескивающей огнем алой шелковой косоворотке, подпоясанной поясом с кистями. Федор, не глядя на Стешу, махнул поклон от двери.
– Самовар! – приказала Стеша, словно бы ставшая, как в сказке Пушкина, не крестьянкою, но столбовою дворянкой или, подымай выше, вольною царицей.
Федор подхватил со стола самовар и тут же, невесть откуда, появился в его руках другой, пышущий жаром и испускающий темный сосновый дымок, пахнущий смолою и шишками; утвердил новый самовар на столе. Bыпитый самовар уже опять был у Федора в руках, а сушки – на новом самоваре; вот разве что на такое волшебство стоило поглядеть через сердечко. Федор вновь махнул от двери поклон и вытиснулся спиною в дверь. Стеша встала, отдуваясь, прошла за занавесочку в углу горницы, и тут же оттуда послышался дробный звенящий звук, словно бы не мощной струею, а сухим рисом сыпала с напором Стеша в ведро.
– Федор!
Федор явился и тут же вместе с ведром исчез. Серафим же Кузьмич отсутствовал на отдохновенном Cтешином чаепитии.
– Ne vous inquiétez pas, vous venez de ne vous inquiétez pas, je suis très à l’aise. Tout à fait![142] – почтительнейше говорил в эту самую минуту Храпунов по-французски.
– Peut-être un cigare? Quelque chose? Je peux offrir un grand Américain Havane, je viens de la semaine dernière a mon homme de Paris. Mais La Havane est située sur une île entre le Nord et l’Amérique du Sud. C’est là que le meilleur tabac du monde.[143]
– Oui, je sais, – с усмешкой, но столь же почтительно отвечал Храпунов; с чмоканьем он сосал обрезанный кончик толстой, с телячью сосиску, сигары, поднесенной в открытой коробке уже знакомым нам Альфредом Визе. – Еn exil, Alfred Karlovich, qui n’est pas connu…[144]
Визе, как и все в Питере, уже знал о произошедшем на набережной и теперь решил пойти ва-банк. Смелым на самом-то деле человеком оказался маленький немец Альфред Карлович Визе. Решил, значит, пойти ва-банк, что еще ему оставалось? Хотя Бог весть, может быть, что-то еще и оставалось. Уже на завтра были у него заказаны билеты на поезд в Варшаву…
Над креслами, в коих восседал Храпунов, круглая горела электрическая лампа, из-за чего в полумраке немчиковой гостиной свет играл лишь на волосах Храпунова, оставляя лицо его в тени и только резкие складки обозначая в нем; пылающий красный огонек такие же чертил резкие линии в воздухе, когда Храпунов, затянувшись, вел руку с сигарой в сторону – стряхивал пепел в зеленую малахитовую пепельницу на ломберном столике.
– Comment pouvez-vous être l’obtention de votre fille, Alfred Karlovich? J’espère qu’ils sont en bonne santé?[145] – спрашивал Храпунов из кресел.
Визе в ответ выпустил короткую фразу по-своему, на немецком. Сидел он напротив Храпунова почему-то в красной на лысине шапочке с черным хвостиком и в белой визитке с красным же выбивающимся из кармашка платком, в красных сапогах – так вот релаксировался Визе, сидел, значит, в этаком клоунском наряде, покачивал нервно ногой и пальцами постукивал по столику.
– Ась?! – с нажимом спросил Храпунов на немецкую фразу. Понимал ли Храпунов по-немецки, проживши несколько лет в Швейцарии, нам неизвестно. Вот по-французски понимал и отлично на французском разговаривал, это да.
– Говорю: в полном порядке пребывают, – поспешно произнес Визе на русском, снял феску и промакнул лысину платочком и тут же, словно бы вспомнив об обязанности, быстро перекрестился. – У нас принято, когда про детей спрашивают, Господа благодарить. Это я сейчас Бога славил. – Визе еще раз широко, по-православному, перекрестился: – Спаси, Господи.
Но видно было, что при произнесении имени Божия немчишка врет, в виду благодушествующего бывшего своего фабричного явно что-то другое он сказал, потому что во фразе прозвучало «Verdammten Schurken!» и «A murrain auf Sie!»[146]. Гость, похоже, не понимал по-немецки. А может, как мы вам уже сообщали, и понимал. Мало того, что жил Храпунов в Швейцарии. Он все-таки двенадцать лет перемешивал у Визе монпансье на фабрике «Русские конфекты», где инженерами и техниками служили исключительно немцы, мог и наслушаться немецкой речи. Запросто.
– Спаси, Господи, – тоже крестясь и не выпуская сигары изо рта, повторил Храпунов.
Белое лицо Визе теперь выразило неприкрытую тревогу.
– Так как же будет, Серафим Кузьмич? Чего ждать? – спросил он вновь по-русски.
– А как Бог даст, Альфред Карлович, – с усмешкою проговорил Храпунов.
Серафим махнул рукою себе по коленям, теперь прямо на персидский ковер стряхивая упавший сигарный пепел.
– Надолго это? – с прежней тревогою спросил немец.
– Ну, если сразу не кончится, – все усмехался Храпунов, – если сразу нас не прихлопнут, то надолго.
– А коли прихлопнут?
Храпунов комически развел руками, словно говоря: «Знал бы куда упасть, соломки бы подстелил». В наступившей тишине неожиданно громко прозвонили куранты: – Дон-динь-динь… И потом десять раз: – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!.. – Донн!..
– Je pense que, – с тою же тревогой озабоченно произнес Визе, оглянувшись на куранты, словно прежде никогда не видел и не слышал их у себя в доме, – Je pense, commencer par Nazarev. Il a un travail et surtout[147].
Храпунов, не ответив, отвернул полу сюртука, открыл за нею жилетку с висящею золотой цепочкой, вытянул Breguet и прозвонил им, будто не доверяя немецкому часовому звону.
– Dix heures… Désolé, camarades d’attente[148].
Он, крякнув, поднялся из кресел, и Визе поднялся со своего стула тоже, сунул руку во внутренний карман и нечто, не совсем видимое в полумраке гостиной, вложил в руку Храпунова. Это нечто, очень похожее на пачечку нарезанных цветных бумажек, Храпунов тут же устроил у себя во внутреннем же кармане. Гость и хозяин со взаимным поклоном попрощались рукопожатием. Визе позвонил в колокольчик, вошла миловидная горничная в сером переднике и наколке.
– Conduite de monsieur Khrapunoff[149].
Горничная быстро присела в книксене.
От двери Храпунов обернулся, поискал пронзительными своими серыми глазами тоже серые, но более светлые глаза нерусского.
– Значит, с Назарьева, говорите?
– Да.
Храпунов усмехнулся, обвел взглядом стены – так кредитор осматривает выставленный на торги дом просрочившего должника, – остановил выжигающий стены взгляд свой на одной из картин. Там изображался страдартный итальянский пейзаж, такие «Виды вблизи Сорренто» пачками продавали макаронники приезжающим из России: залив, невысокие горы на втором плане, а на первом – небрежно выписанные лодки, лежащие на берегу, и пара рыбачков в красных гаррибальдийских рубахах возле них. Hа картине тоже стоял закат, низкое солнце склонялось к горам, протяжные пуская по земле тени. На соседней картине Мария с младенцем ехала на осле в Египет, идущий впереди Иосиф говорил с попутчиком – молодым мужчиной в зеленом хитоне, еще трое попутчиков – наезжена, нахожена была дорога из Вифлеема – трое попутчиков шли сразу за ослом, не зная, что глупая скотина Святое везет Семейство, спасая Сына Человеческого от Иродового избиения, из-за поросших кедрами и кипарисами гор воспарял Вещий Ангел, он указывал идущим путь, счастливый путь избавления и жизни. И на этой картине тоже несомненно уже наступил вечер.
Храпунов еще раз усмехнулся, нахлобучил картуз и вышел вон.
На улице оказалось совершенно темно. Щедрая «гавана» все тлела во рту Храпунова, из тьмы казалось, что огонек пылает нестерпимо жарко, словно бы в паровозной топке. И жарко на улице было, позднее лето после июльских гроз наконец-то взяло свое, Храпунов расстегнул сюртук. Уже висела ночная тишина, чуткая на мельчайший звук; сверху, из далеких домов при фабрике, доносилась пьяная песня; там, где утром шла колонна, теперь – по звуку разве определить в темноте – шагом двигались пустые дровни, копыта ломовика цокали по булыжнику, телега погромыхивала, еле различимое эхо рождая в темных улицах. И неслышно рядом с Серафимом возникла еще одна черная фигура, словно не в сапогах по земле, а, как вещий ангел на картине, босиком по облакам приблизилась. В сгущающейся тьме можно еще было разглядеть, что фигура эта махом сдернула с головы картуз.
– Готовы, траханные в рот? – спросил фигуру Храпунов, затягиваясь гаваной.
– Зашибись, Серафим Кузьмич, мать твою. Второй час, на хрен, в кустах муму трахаем. Уроем, на хрен, драной письки делов! – был тихий, но страстный ответ. – Трудовое, на хрен, дело, оно так-от, твою мать!
Храпунов оглянулся на только что оставленный им дом. Над крыльцом родившегося в России немца тускло горели шары-фонари, придавая мордам каменных львов особенно страшное выражение; демонами преисподней выглядывали сейчас изваяния. Ни одного жандарма теперь не осталось перед крыльцом – успокоенный Васильевский остров мирно отходил ко сну, нечего было и опасаться в такой поздний час, тем более что в доме, конечно, кроме семьи предпринимателя – так по мнению полиции – не могли не находиться люди.
– Пьет, мать его, нашу кровь, на хрен, – с сердцем сказал Храпунов.
– Так как, мать его, будет, Серафим Кузьмич? – озабоченно, словно только что – Визе, спросила на это фигура.
– На, брат, твою мать, засмоли, на хрен, буржуйского табаку, траханная сила, – Храпунов теперь не стал разводить руками, но, видимо, еще ничего не решивши или просто выжидая, когда проедут дровни, протянул пылающую гавану, и фигура, благоговейно приняв пахучую травяную сосиску, только что торчавшую во рту самого Кузьмича, фигура затянулась дымом.
– Каково, на хрен?
– Сладка-а-а…
– То-то, мать твою… Ну, хреначим, на хрен. – Решительно сказал теперь Храпунов. – Там, окромя самого немца и девок его, никого сейчас ни хрена нету, мать его! Чисто, на хрен! Хреначим!
Тут же фигура затоптала сигару и пропала от Храпунова прочь, чтобы в кустах между дорогой и домом чудесным образом размножиться – уже восемь черных теней в темноте прошмыгнули, как крысы, к дому Визе. По двое встали под три окна на первом этаже, а двое с ломиком завозились под дверью, сразу же от двери раздался сухой деревянный треск, за ним – короткий тихий свист, по которому из трех окон со звоном вылетели стекла. Храпунов, под нос матерясь, присел на корточки, во тьме захлопал ладошкою по земле, нащупывая растоптанную сигару, нашел, повертел в руке и снова бросил; отряхнул одну об другую руки, поднялся, несколько времени постоял, потом, не торопясь, вошел в дом, из которого вышел десять минут назад.
Мужчины, кроме хозяина, действительно, в доме отсутствовали. Кто ж знал, что ныне Серафим Кузьмич Храпунов – после произошедшего днем побоища и десятков погибших – запросто останется в городе? Выяснилось это только недавно, когда и дворник, и садовник ради Христова воскресенья уже на счастье свое отправились в церковь и потом по гостям, и кучер давно был отпущен – у всех домашних служащих Визе вдруг нашлись неотложные дела в городе, и господа не предполагали, разумеется, сегодня никуда выезжать, да к вечеру на всем Васильевском острове после взрыва народного гнева и вычистки набережной от мокрых трупов благолепное спокойствие разлилось по округе. Обычно всегда после взрывов рано или поздно устанавливается тишина. Это неизбежно, дорогие мои. Кто ж, значит, предполагал, что Храпунову на ночь глядя войдет в голову желание вновь свершать революционные деяния?
Визе уже стащили вниз и связанного усадили в гостиной в те самые кресла, в которых так недавно помещался Серафим. Визе мычал с тряпкою во рту и дергал головой, из носа его на тряпку, а с нее на белую визитку густо лилась темная кровь – точно такого цвета, что единственный оставшийся сейчас на хозяине сапог и что платок в кармашке.
– Никшни, сука, мать твою! Никшни, на хрен!
Тот было затих, но на женский вопль вновь вскинулся, попытался было вскочить на связанных ногах, сапог подвернулся; один из восьмерых коротко ударил Визе в скулу, тот рухнул вновь в кресла, вновь было поднялся и от нового удара в лицо вновь рухнул. Сверху по лестнице уже волокли, зажимая им рты, обеих его дочерей и горничную. Горничная укусила грязную вонючую руку, держащий ее с криком «Ммать ттвою!» руку отдернул и тут же ударил девушку кулаком в рот, та с биллиардным стуком хлопнула виском об ступеньку и, обмякнув, поехала вниз, задирая на себе платье с фартуком и заливая подбородок и шею хлынувшей изо рта кровью. Ударивший же, не дав ей окончательно съехать на пол, прыгнул на нее сверху, одним движением перевернул на живот, задрал платье и нижние юбки, а потом и нательную рубаху на голову – обнажились белые трепещущие ягодицы. Ударивший спустил на себе штаны, секунду прилаживался и махом воткнул между этих ягодиц черную кривоватую елду. Запахло кровью. Горничная не закричала да и не почувствовала ничего – она уже умерла, ударилась-то удачно, виском, так что кровь, полившаяся по четырем сближенным ногам и с них на лестницу, была мертвой кровью. И вдруг все затихли. Визе, обе его дочери и ночные гости – все молча, не двигаясь, смотрели, как храпуновский клеврет насилует мертвую в анус; ничего не слышалось, кроме сопенья мужика и ритмичного приглушенного стука, с которым коленки горничной бились о тонкую дорожку на лестнице. В этой-то тишине в выломанную дверь сейчас и вошел, не торопясь, Храпунов. Секунду он смотрел, как и все, в прыщавую прыгающую задницу своего товарища, потом повернулся, подошел к столику, на котором еще лежал коричневый деревянный ящичек с сигарами, открыл его и начал, захватывая горстью и роняя их на пол, перекладывать сигары себе в карман; кряхтя, присел, подобрал уроненные и положил в карман тоже. Мужик, зарычав, вогнал последний раз и отвалился; мертвая еще чуть съехала вниз, застыла, оголенная, на последней ступеньке; по ногам ее продолжала тихонько сочиться смешанная с калом и спермою кровь. Храпунов откусил сигарный кончик, выплюнул его, закурил, присел на канапе возле камина – ногу на ногу.
– Eh bien, comme, Alfred Karlovich, comme ça? – спросил, выпуская дым колечком. – À mon avis, a mal tourné[150].
Визе быстро и шумно дышал через нос, грудь его вздымалась и опадала. Храпунов оглянулся.
– Давай, мать твою, обеих сюда, на хрен.
Воющих тихонько девочек поставили раком посреди гостинной.
– Цыц, сучки траханные! Цыц!
Те просто не могли замолчать, даже если б и захотели. Тут же по знаку вождя обеим затолкали тряпки во рты.
– Ну, Альфред Карлович, добром говорите, где сейф. А то ведь вы понимаете, что сейчас может произойти, не правда ли? Где сейф? Скажете? Я вытащу кляп.
Визе быстро закивал.
– Только не вздумай, мать твою, кричать, пидор немецкий, поперек тебя и вдоль. Тут же обеих, на хрен, в три дырки вытрахаем, мать твою. Не будешь кричать, сучара?
Визе отрицательно покачал головой – теперь медленно, гораздо медленней, чем кивал.
– Смотри, мать твою. Только пикни, на хрен.
Храпунов рывком выдернул тряпку. Немец попытался приподняться, окровавленные губы его задвигались, собирая слюну для плевка; вновь рухнул в кресла, голова упала на грудь. Храпунов приложил руку к шее Визе, секунду выждал, потом приподнял бывшему хозяину верхнее веко – глазной в кровяных сеточках белок неподвижно выкатился на бывшего мешальщика: хозяину, как и горничной, повезло тоже. Храпунов всплеснул руками:
– Пи-идар!.. Сбег, мааа-ть егоооо! Сбег, на хрен! А?!
Повезло немцу, повезло – больше он ничего не увидел, сердце, слава Богу, не выдержало и остановилось. Храпунов подскочил к девочкам, схватил одну железными пальцами за обе щеки, сдавил, ломая детские зубы.
– Где сейф?! Ссу-ка… Где сейф, ну?! Быстро, ссука!
Та, дергаясь, заскулила. Храпунов выдернул кляпы изо ртов у обеих.
– Ну!
– Мы не знаем, – совершенно чисто по-русски тихо сказала вторая девочка. – Папа нам не показывал.
– Траханный в рроо-от! – Серафим опустошенно сел на пол. Мгновение сидел так; товарищи не успели ничего у него спросить, как он вскочил, кивнул на девочек.
Когда с треском разорвали платьишки на них, обнажилось кружевное белье; ночные гости на секунду замерли в гневном пролетарском своем порыве – кружевного белья никто из них в жизни, почитай, еще не видел; при виде на девочках белья бешенство в горящих сердцах стало уже совершенно нестерпимым.
Пока посреди гостиной двигался на ковре сопящий и стонущий клубок из десяти тел, Храпунов судорожно обшаривал стены в гостиной, книжные шкафы в кабинете, отодвигал в спальнях кровати, в сортире заглядывал под биде, вновь и вновь ощупывал, обстукивал, возвращаясь туда, где только что все осмотрел и вновь ощупывал и обстукивал – ничего. Наконец он один за другим обрушил в кабинете книжные шкафы – за шкафами открылась белая штукатуренная стена. Ничего! Только что в детской сгреб он с трельяжа несколько золотых колечек да цепок – мелочь. Сейфа не могло не быть, и, вероятнее всего, сейф находился именно в кабинете, но где?
Храпунов, путаясь ногами в разлетевшихся по полу книгах, вновь выскочил в гостиную – обе девочки были еще живы, но их изломанные и окровавленные тела уже двигались между голыми задницами подонков, как ватные, глаза у обеих не открывались, и вряд ли от них получился бы сейчас хоть какой-нибудь все-таки толк для революции.
– Ммать ттвою! – в сотый, наверное, раз произнес Храпунов. – Харэ, сворачивай, на хрен, харэ! По паре раз вдули, мать вашу, и харэ. Сворачивай, сказал, на хрен!
Оставаться тут всю ночь, разумеется, казалось невозможным. Опытом практической революционной работы не обладал еще Кузьмич, а то бы он, не спеша и не обинуясь, методически проверил бы каждый вершок особняка, а через девок пропустил бы сейчас не восьмерых, а весь Васильевский остров – пока те не вникнули б в бедственное положение пролетариата и не подсказали бы товарищам, где золото, деньги и брюлики, столь необходимые для общего трудового дела. Газету надо издавать, покупать оружие, подогревать нескольких людей в департаменте полиции – да мало ли нужд у обездоленного трудящегося класса? Неужто только выпить? То злонамеренные слухи об пролетариате распространяет жидовская сволота!
Мужики один за другим вставали с пола и подтягивали штаны, застегивали пояса. Храпунов подошел к Визе, вытащил у него из кармана бумажник, выпотрошил, бросил, стянул – не шло, дернул, у мертвого с треском сломался палец – с усилием стянул с немца массивное золотое с черным бриллиантом кольцо, потом залез толстыми своими пальцами мертвому в рот и с хрустом выломал золотую челюсть; тело свалилось с кресел на пол. Подошел, нагнулся над девочками – у тех даже сережек не оказалось в ушах, пальцы оказались голыми, без колец. Храпунов, все еще нагибаясь и упираясь руками в колени, тяжело взглянул на товарищей.
– Че ты, мать твою, Кузьмич, на хрен! Че ты, на хрен! Бог с тобой, твою мать! – враз обиженно заговорили. – Бог, мать твою, с тобой, на хрен! Вон у той сучки, мать ее, есть.
Храпунов поднял за волосы голову горничной, вырвал у нее из ушей грошовые дутого золота сережки, бросил в тот же карман, в котором, оттопыривая его, лежали сигары, кольцо и золотые зубы. Подошел к стене.
Картин в доме висело немерено, все какие-то портреты немцев в серых костюмах и необыкновенно толстых или же необыкновенно тощих немок в красных платьях – и в гостиной, и в кабинете тоже, а в кабинете над столом висел огромный в полный рост портрет самого Визе с женой-покойницей – та умерлa несколько лет назад – и девочками, совсем маленькими, одну жена держала на руках, а вторая на картине цеплялась за платье матери; Визе, еще не совсем лысый, прищурясь, смотрел с картины прямо на дверь, на входящих в кабинет; этого всего говна трудовому народу даром не надо было. Храпунов одну за другой снял со стены итальянский пейзаж и изображение путешествующей Богоматери, с хэканьем, что дрова колол, расколол об пол обе рамы, сложил холсты с подрамниками лицом к лицу друг с другом.
– Куда, мать их, сук этих, траханная сила? В Неву, на хрен?
Серафим подошел к Визе, носком ботинка повернул искаженное мукой лицо его на полу.
– Я, на хрен, как-то раз, мать его, прибавки у него пришел, на хрен, просить, – с ностальгической теплотой по-доброму произнес Храпунов. – Мать болела, на хрен, сестра, мать ее, болела, в ррот ее трахать!… Так он, сучара, и прибавил, мать его, аж целый полтинник, и еще денег дал, трахать его-молотить. Десять рублей, на хрен, дал, мать его, не гулькин хрен! – Серафим с хрипом собрал харкотину и плюнул на проклятого немца. – Да, мать его, не гулькин хрен… Можно и в Неву, на хрен. Но мы ж, мать их, все равно красного, на хрен, петуха ща пустим, траханный ррот. Сгорят, на хрен, и драной письки делов…
Дом занялся сразу весь, словно бы керосину плеснули по углам и основаниям стен, хотя подожгли только шторы на окнах, книги и постельное белье в спальне. Хранупов сразу исчез в темноте, а восьмеро остальных еще несколько минут постояли за сполохами света, дожидаясь, когда из окон вслед за густым дымом выбьется открытое пламя и присматривая, не полезут ли все-таки мертвые гады из окон – раньше, чем от василеостровской каланчи не послышится звон пожарного колокола; от проклятых кровопийц всего можно ожидать, – нет, никто не полез. Потому уже совсем поздней ночью – часов в двенадцать, а то и в час – Серафим, примерным счетом, хотя и воскресенье стояло, подведя итог трудовому тяжелому дню, спокойно вечерял со Стешей.
Вот что мог бы увидать заглянувший в сердечко в ставне: кушал Кузьмич холодную жареную курицу, телячий студень, холодную же ветчину, голландский сыр, пирог с капустою – вечерять Серафим любил вхолодную и – что скрывалось от товарищей – даже чай горячий совсем не уважал, но скрывал это, потому что самый, кроме водки, конечно, самый пролетарский напиток – чай, и, не любя чаевничать, Серафим Кузьмич авторитет свой мог бы частично подорвать у масс; Серафим Кузьмич любил клюквенный морс – ну, чисто дитё какое, любил морс и старинный шустовский коньяк, хотя за границею – что тоже скрывалось – пристрастился к ихнему арманьяку, но дома потреблял исключительно старый десятилетний шустовский, а водку теперь пил только на людях, с товарищами, как свой в доску фабричный человек.
Положив ветчины на тарелку, Храпунов налил себе коньяку, высморкался в клетчатый красный платок, потому что в доме находясь, он не мог, разумеется, как все нормальные люди, бить соплею оземь. Стеша молча выдувала очередное блюдце. Храпунов поднял рюмку, произнес скороговоркой:
– Господи, благослови.
Храпунов выпил, в охотку отрыгнул, потянулся вилкою. Тепло светила под широким абажуром керосиновая лампа над столом, трещал сверчок в тишине, хорошая полная ночь обещала новый, такой же светлый день, день радости и освобожденья.
И тут враз завыли, залаяли, зарычали обе собаки. Храпунов вытащил золотой свой Breguet, отщелкнул крышку и посмотрел на циферблат.
А вот мы вам расскажем, дорогие мои, откуда у народного вождя именно такие буржуйские часики. Расскажем. Да вы, наверное, и сами уже догадались.
6
Мы вам только и успели сообщить, дорогие мои, что по крыше Ледовой Арены Собраний застучал ливень. Этот звук легко можно было бы принять за шум всенародного одобрения, поскольку никаких раскатов грома до находящихся внутри дворца не доносилось и, соответственно, никаких сполохов молний внутри дворца не наблюдалось. Ливень, значит, застучал по крыше, и в тот же миг полковник, курящий солдатский табак, шагнул и закрыл собою Цветкова вместе с прижатым к нему солдатом. Последней мыслью Константина Цветкова была мысль о том, как они двое – несчастный, случайно попавший под раздачу солдат и приведший сюда Цветкова полковник – невыносимо воняют этим ужасным табаком. С двух других сторон Цветкова закрыли собою майор и капитан.
И тут же все трое, полковник, майор и капитан мгновенно вытащили – нет, мы не знаем, где и как они их прятали, а знали бы, молчали бы в тряпочку, чтобы никого напрасно не провоцировать на необдуманные поступки – мгновенно вытащили по пистолету.
Первый из штатских почти подбежал к Цветкову, уже держащему руку на стеклянной ампулке. Второй штатский подбегал с другой стороны и был уже от Цветкова в двух прыжках. Далее произошло следующее, дорогие мои. Уже не за секунды, а просто за мельчайшие доли секунд этих.
Пожилой, сидевший под крышей Арены, вскочил из-за своих мониторов на ноги и отдал в воротничок рубашки короткую команду. Нам с вами ничего не слышно в диком гаме, который поднял своим появлением из глубин сам Виталий Мормышкин, мы только можем прочитать по губам то единственное слово, которое произнес пожилой:
– Огонь!
И тут же и первый, и второй, и третий, и еще человек восемь или десять штатских молодых людей, уже почти добежавших до Цветкова, на ходу вытащили пистолеты и открыли по нему, по нашему Косте Цветкову, шквальный огонь. И одновременно открыли по этим штатским огонь из своих пистолетов полковник, майор и капитан, привезенные Чижиком и приведшие экипированного в скафандр Костю на край балкона второго яруса. И одновременно дурак лейтенант вместе со своими подчиненными начали метаться внутри огненного шквала и, разумеется, тоже попали под пули. Словом, возник обычный русский кровавый бардак.
Ни стрельба, ни вопли ужаса со второго яруса не были слышны внизу, где звучало только «Слава! Слава! Слава!». Но пожилой под крышей Арены с размаху ударил по огромной, как шляпка мухомора, поднятой над приборной перед ним панели красной кнопке, и тут же кресло с сидящим в нем Мормышкиным начало опускаться, а стол Президиума – сдвигаться. Мормышкин удивленно крутил головой на жирной шее.
Солдатская задница больше не прижимала Цветкова к бортику балкона. Да Цветков и не смог бы почувствовать сейчас ее давления. Потому что и Цветков, и прикрывавший его солдат были убиты мгновенно, самыми первыми.
Мы вам не сказали, почему это вдруг Константин Цветков натянул на себя еще в кабине чижиковского КАМАЗа дурацкий желтый комбинезон с кислородным аппаратом. Оно конечно, чем необычнее одет человек, тем он меньше привлекает внимания, ясен пень. Но дело еще и в том, что ни сам Чижик, ни тем более полковник, майор и капитан не надеялись остаться живыми в ближайшие десять-двадцать минут, и, разумеется, не остались. Но Цветков, Цветков! Цветков должен был правильно открыть и распылить не только первую ампулу, но и вторую, причем вторую – уже совершенно прицельно, уже в прыжке, уже точно в Мормышкина, если по Мормышкину не сработала бы ампула первая. Никто невинных людей убивать не собирался, пусть они и явились рукоплескать Виталию Алексеевичу. А куда ж им деваться? Жить хочешь – рукоплещи. Но теперь-то не из пистолетов же садить со второго яруса вниз! Вот почему он, Костя Цветков, должен был остаться живым хотя бы пару минут, хотя бы одну минуту, да что! хотя бы десять секунд после начала акции и, следовательно, защищенно дышать кислородом. Тут маска, захваченная Костею в своей лаборатории, не годилась.
И Костя справился, дорогие мои! Мертвый, с разлетевшимся на куски сердцем, Цветков перегнулся через ограждение яруса и медленно, словно бы во сне тысяч людей, упал вниз, прямо на стол перед опускающимся в свои глубины Мормышкиным. Как мы вам уже сообщили, никто более не поддерживал Цветкова перед ограждением, потому что убитый солдат упал назад, в проход, а сверху на него рухнул мертвый лейтенант, затем убитый полковником первый штатский, затем убитый полковник, так по-московски «акающий» и от которого так ужасно пахло дешевым табаком…
Хорошо бы, конечно, если бы Костя упал прямо на лысую башку Мормышкина и без всяких прибамбасов сломал бы ему теменную кость или же шейные позвонки. Другие люди напрасно бы не погибли. Но чего не было, того не было, мы врать не станем. Да мы и никогда не врём, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах. Мертвый Цветков, падая, сделал в воздухе чистое, безупречное сальто, что может изобразить только какой-нибудь олимпийский чемпион по прыжкам с вышки в воду. В воздушном перевороте, будучи совершенно мертвым уже две или три секунды, выхватил первую ампулку, раздавил ее железными пальцами – так, словно это не мертвый Цветков, а живой Чижик сжимал со страшным содержимым стекляшку, бросил осколки вместе со смертоносной жидкостью прямо в Мормышкинскую лысину и грохнулся перед стариком на маленькую композитную антибактериальную дощечку, которая в это мгновение уже опускалась вниз вместе с креслом и, следовательно, самим Мормышкиным. Из простреленного в двадцати или тридцати местах Kостиного облачения хлестала кровь. Гермошлем от удара слетел с нашего Костика, обнажилась красная его голова и торчащие в разные стороны, будто у кота, морковные усы, которые Костя сбрил сегодня утром, собираясь в последнюю свою поездку. И вот теперь, в смертый его миг, усы вновь оказались на Kостином лице, словно бы само существо Константина Цветкова явило себя пред вечностью. Но Мормышкин, опускаясь вниз, не смог возмутиться вопиющей небритостью жителя. Он тоже уже был мертвый. Потому что упал Костя аккурат на вторую ампулку всем своим весом. И эта ампулка неслышно в диком оре, стоящем вокруг, тоже превратилась в груду битых стекляшек и выплеснула все свое содержимое из-под Kостиного тела прямо в лицо Мормышкину, довершая начатое. Уже ставший фиолетовым, как сомалиец, мертвый Мормышкин, изрыгая изо рта, из носа и из ушей черную пену, откинулся в кресле и вместе с мертвым Цветковым, лежащим ничком на хитрой медицинской дощечке, укрепляющей драгоценное мормышкинское здоровье фитонцидами, вместе с Костей Цветковым Мормышкин скрылся куда-то в глубочайшие и потайные недра под стол Президиума, и четырехдюймовой толщины столешница, с двух сторон съезжаясь, сомкнулась над ними.
И вот тут-то и блеснула ослепительная молния и страшный грянул под крышею Дворца гром.
– Траххх!
Ужасный цветковский яд почти не оказал своего действия на остальных людей в бывшем Ледовом дворце. Ну, человек пятнадцать, максимум двадцать, случившиеся поблизости президиума, тоже, изрыгая черную пену, попадали на пол. Ну, двадцать, максимум. Из сорока-то тысяч! Остальные просто начали блевать, выплескивая из желудков остатки непереварившейся пищи и принятую не так давно – при входе и регистрации каждому наливали еще по сто грамм – принятую не так давно дополнительную дозу. Но не только относительная отдаленность от самого центра событий спасла собравшихся.
Мы можем свидетельствовать, дорогие мои: съезжающаяся, a, если надо, и разъезжащаяся крыша Ледовой Арены в описываемый нами миг точно была cдвинута. Запорные штыри вошли в пазы, замки щелкнули, но мало того. Вручную в нескольких десятках проушин вставлены были самые обычные амбарные хоть и с цифровым набором – замки, так что крыша сейчас разъехаться никак не могла. И вот с этой крыши – или сквозь нее – как только обе половины столешницы сомкнулись над мертвыми Мормышкиным и Цветковым, обрушился на собравшихся – чуть мы не написали «тропический» – нет, ледяной полярный ливень. И страшная молния ударила в самую середину столешницы президиума, вновь разъединив ее надвое. Но теперь столешница не разъехалась в разные стороны, а развалилась пополам.
– Траххх!
Тем, кто еще продолжал смотреть на середину Ледовой Арены, показалось, что этот гром – звук ломающегося дерева. Обе половины столешницы, тут же оказавшись черными и оплавленными огнем, встали домиком, словно бы бровки у незабвенной цветковской Фроси. Но тела Цветкова и Мормышкина не появились в образовавшемся проране. Там некоторое время зияла дымящаяся дыра, и люди, не зная, что делать и не смея встать с места и убежать – инстинкт самосохранения оказался менее сильным, чем осознанный страх смерти, – люди, прекрасно знающие, что покидать назначенного им места никак нельзя, иначе тут же их убьют, с ужасом смотрели в дыру, уже мокрые до нитки и мгновенно окоченевшие, как всегда бывает под ледяным дождем.
Сухим, как кленовый лист в сухом осеннем лесу, оказался только один человек – тот пожилой под крышею Дворца. То ли ливень начинался ниже него, то ли в стороне – не знаем. То ли на избранных людей катаклизмы не действуют. Ну, не знаем. А чего не знаем, того не ведаем, дорогие мои, а врать не станем. Да мы и никогда не врём. Во всяком случае, без крайней необходимости.
Пожилой оставался сухим, но в ступор на несколько мгновений впал. Все-таки даже сугубые профессионалы иногда остаются людьми, и ничто человеческое… Да-с, впал в ступор и с ужасом смотрел, как сквозь дымящиеся врата меж створок столешницы медленно поднимается Ксюха. Теперь на ней оказалось надето блестящее золотое платье, в котором отражались, словно в зеркале, ее вставшие вокруг головы красные волосы, словно бы кровавый нимб, поднятый грозой. А гроза вместе с первым и последним раскатом грома, кстати тут вам сказать, немедленно прекратилась – как только багряная Kсюхина голова показалась в черном проране. Ксюха улыбалась, и кукурузные ее зубы тоже посылали в ряды собравшихся сполохи света. Этот свет слепит нам глаза, дорогие мои, как и всем, сидящим в бывшем Ледовом Дворце Собраний, и мы не увидели, на чем стояла Ксюха. По всему вероятию, на каком-то постаменте она стояла. Не в воздухе же она висела, в самом-то деле! Стояла на основании. Но это точно было не прежнее мормышкинское зубоврачебное кресло. Электричество на Арене после первого же разряда молнии перестало работать, и какою силою поднималась Ксюха из глубин, тоже нам неизвестно. Неизвестно, почему в полной темноте вся ее монументальная фигура оказалась ярко освещена, словно бы десятки прожекторов били сейчас в Ксюху.
Что делали сорок тысяч окаменевших от ужаса людей в рядах и партера, и обоих ярусов, нам не видно. Но мы видим сквозь тьму, сгустившуюся от безумного света вокруг Ксюхи, как пожилой там, на верхотуре, закрывается от света левой рукой, а правой медленно лезет себе за пазуху.
И тут же Ксюха захохотала, широко открывая рот, волосы ее зашевелились. От хохота Ксюхи стены Ледовой Арены заходили ходуном. И тут, наконец, долго сдерживаемый общий крик прорвался сквозь перехваченные спазмами тысячи горл.
– Ааааааа! – вопила Арена. – Аааааааа! Аааааааа!
Пожилой человек наверху уже пришел в себя, выхватил пистолет, направил его на Ксюху и даже успел раза три выстрелить, не причинив ей совершенно никакого вреда, а Ксюха подняла голову и указала пальцем на пожилого. И немедленно пожилой высветился в ослепительном круге света, словно бы работающий без питания прожектор направили на него остающиеся в сознании невидимые осветители. И тут же из пальца Ксюхи вылетела молния. И тут же пожилой весь оказался охвачен огнем. Пылающий комок совершенно неслышно в общем крике упал куда-то между рядами вниз, и новые крики там, где он упал, тоже не стали слышны.
А теперь самое время пару слов сказать о вшах, дорогие мои.
Мы избавим вас от ужасных подробностей. Вы ничего не узнаете – во всяком случае, из нашего правдивого повествования – ни о страшных якореобразных когтях, ни о сосущем хоботке, с мощностью – в сопоставимых, конечно, масштабах – с мощностью морской помпы, хоботке, пропускающем через себя кровопоток, ни о выдвигающихся из хоботка прокалывающих кожу сдвоенных иглах. А главное вот что: вши нам с вами, дорогие мои, встречаются трех видов – вши головные, вши платяные, живущие на теле, и вши лобковые, так называемые площицы. Головные вши – самые безобидные. Ну, осыпаются с головы частички высохших вшивых яиц, словно бы перхоть. Делов-то. Платяные же вши переносят сыпной тиф. Вот это беда. А площицы, чтоб вы знали, дорогие мои, самые милые создания из всех трех видов. Передаются только интимным путем. Так что если ваш друг или подруга рассказывают вам, что подцепили лобковых вшей, держась за поручень в метро, плюньте им в их бесстыжие глаза.
Бороться со вшами практически бесполезно. Вши сами уходят с трупа. Так что не дергайтесь напрасно, дорогие мои: когда-нибудь вы со вшами непременно расстанетесь. А всяческие так называемые прожарки – солдатские форменки или зэковские робы прожаривать, – знакомые каждому, кто служил в советской или российской армии или парился на зоне, бессмысленны. Ну, разве что зимою в горячей, как сауна, прожарке могут закинуться колесами дембеля или правильные воры ширнуться за вечерним чифирком да в тепле опетушить фраерка или «пассажира»[151].
И еще. Лобковые вши выше подбородка не поднимаются. Дело в том, что – мы сами не так давно об этом узнали – волосы на голове решительно у всех людей круглого сечения. Как колбаса. Даже у негров. А на лобках и вообще на теле – у всех! представляете, дорогие мои? даже у потомственных англосаксов! – в поперечном сечении треугольные! Вот ей-Богу! Мы врать не станем. Да мы и никогда не врём.
И вот у лобковых вшей когти как раз такие, которые позволяют им отлично цепляться за треугольные волосы. А с круглых волос площицы со своими треугольными когтями сразу падают, не удерживаются. Поэтому залезать на головы лобковым вшам нет никакого резона. Так что если вы, дорогие мои, однажды обнаружили у своей подруги вшей именно и только на голове, это вовсе не однозначное свидетельство измены, просто ваша дама давным-давно не мыла голову. Убедитесь – она и ниже наверняка давно не мытая.
А наш Цветков задолго до своей смерти изобрел противовшивый препарат, но он оказался никому не нужным. Мы же вам не раз, помнится, об этом говорили.
Вернемся на Ледовую Арену Собраний, где промокшие насквозь люди, давя друг друга, побежали с трибун. Уже ничего невозможно было услышать в общем гаме, только однообразное и неровное, словно бы некто, развлекаясь, крутил туда-сюда колесико реостата, убавляя и прибавляя звук, – только, значит, общее однообразное «ааааааа», в котором тонули и крики боли, издаваемые растоптанными, и трески ломающихся пластиковых сидений, и сухие звуки винтовочных выстрелов с самой уже верхотуры, где сидели тоже, как и пожилой, не задетые ливнем снайперы, которые имели непреложный приказ открывать огонь в случае, если кто-либо поднимется со своего места, вот они и стреляли несколько мгновений вниз, в бегущую толпу собранных сюда правоверных активистов МХПР. Человек двадцать подстреленных упали под ноги бегущим; этого никто не заметил – под ноги бегущим беспрерывно падали люди и без всяких снайперских винтовок.
– Ааааааааааааааа!!!!!!!!
В Ксюху тоже, разумеется, стреляли, но пули не то чтобы не причинили ей никакого вреда, а просто огибали ее по сложной траектории, будто бы идущий на посадочной глиссаде самолет. Как только раздались первые выстрелы, Ксюха вновь подняла указующий перст, из него вылетела еще одна молния, и под крышей по всему периметру Ледовой Арены побежала огненная полоса. Теперь помимо общего ора стал слышен ветровой шум, который всегда возникает при большом пожаре. Выстрелы немедленно прекратились. А Ксюха послала молнию вниз, прямо в пол, и сразу негорючее металло-пластиковое покрытие Ледовой Арены Собраний вспыхнуло и разверзлось, словно бы бесфоменные и бестелесные хляби морские, и бегущие начали падать вниз, туда, в черную, никак не освещаемую бушующим огнем пустоту. Ксюха ничью жизнь никому не обещала сохранить.
Мало кто знал, а мы вам скажем, дорогие мои: там, под полом, где прежде помещалось сложное холодильное оборудование, изготавливающее на Ледовой Арене прекрасный, отвечающий самым лучшим мировым стандартам лед, теперь стояли трехметровые в обхвате емкости с водкою – стандартные железнодорожные цистерны, по специально проложенным рельсам однажды заведенные под Арену и намертво – мы можем употребить сейчас это слово? – намертво укрепленные там под системою насосов, сливных кранов, фильтров, воронкообразных горловин, змеящихся повсюду шлангов, припаянных на крутых боках лестничек и ручек.
Ксюха послала молнию, и тут же клепки на всех обечайках цистерн лопнули, как лопаются застежки лифчика у неудержимо набирающей вес дамы, входные люки на всех цистернах сами собою распахнулись, и из них фортанами начала бить водка, а затем и цистерны перестали существовать – сначала отлетели, как отрезанные, эллиптические боковины, и сразу же потерявшие жесткость стальные цилинды развалились по сварным швам; водка хлынула, образуя цунами. И в эту страшную круговерть падали и падали люди. Водка начала подниматься, как поднимается мутная вода в неправильно вырытом колодце, кружа трупы и еще живых утопающих, заливая вздымающиеся из бездны руки, открытые в неслышимом вопле рты, выныривающие и тут же пропадающие в глубине головы.
Посреди волн на невидимом под водкою постаменте незыблемо стояла Ксюха. Теперь она вновь оказалась в голубом свадебном платье и обрезанных по щиколотку сапогах – в том прикиде, в котором она венчалась Цветкову. Вокруг ног Ксюхи закрутились водовороты; водка теперь перестала подниматься и схлынула. Ксюха шагнула с постамента прямо в безумную влагу, но не двинулась, как можно было бы ожидать, яко по суху, а оказалась на совершенно твердой почве. Сгоревший и обрушенный пол Ледовой Арены вновь принял свой прежний вид. Пожар вдруг прекратился, только теперь ни одного человека, кроме Ксюхи, не было здесь, и никаких следов пребывания людей не виделось ни внизу, ни вверху, ни по сторонам. Ни живого не стало заметно, ни мертвого, водка всё и вся унесла за собою в геенну. Живой тут присутствовала сейчас только Ксюха, а мервым – только Цветков. Ксюха держала тело Цветкова на руках. На Цветкове теперь не стало дурацкого желтого костюма, а были надеты выглаженная белая рубашка и старенькие, но выстиранные джинсы. Сам Костя выглядывал причесанным, усы его – аккуратнейшим образом подстиженными, никаких следов крови и страшных ран не осталось на нем.
С мертвым Цветковым на руках Ксения направилась к выходу, прошла пустыми коридорами и вышла на площадь с тыльной стороны бывшего Ледового Дворца, на которой по-прежнему стояли побатальонно войска, уходила вдаль череда тентованных «газончиков», привезших сюда служивых людей, а у входа по-прежнему были припаркованы несколько бронетранспортеров и полицейских машин и чижиковский КАМАЗ с разбитыми, осыпавшимимся стеклами и с лежащим на руле мертвым, сразу же, как только началась во Дворце катавасия, застреленным Чижиком.
Неистощимая
Автомобиля учитель Коровин не имел, даже каких-нибудь стареньких дребезжащих «Жигулей». И на такси у Коровина денег не было, у Пэт денег не было тоже – по секрету мы вам скажем, что мистер Маккорнейл жене денег не давал. Вообще. Никогда. Это баловство, дорогие мои, – деньги женам давать. Поэтому, когда почти вся гостиница «Глухово-Колпаков» опустела, только англичане и Хелен с Ивановой-Петровой еще сидели в закрывшемся ресторане, Кейт с учителем, держась за руки, вышли из гостиницы на центральную городскую площадь и встали на остановке, надеясь дождаться автобуса. Никто вход и выход из гостиницы не охранял, швейцар или хотя бы захудалый охранник у крутящихся дверей отсутствовали, на парочку смотрела сквозь стекло только пожилая девушка с ресепшена в глубине гостиничного холла. Про взрыв на шоссе Пэт с Коровиным ничего не знали.
Только что кончился страшный ливень.
Напротив гостиницы «Глухово-Колпаков» располагался Глухово-Колпаковский Белый дом, официальная Голубовичевская резиденция, уже пережившая рассказанные нами события и долженствующая пережить еще другие события своей новейшей истории, рассказ о которых впереди. Перед зданием администрации стояла одна-единственная полицейская «десятка», патруля ни внутри «десятки», ни рядом с нею не было. Зато рядом с «десяткой» были припаркованы три устрашающего вида черных джипа и белая пассажирская «газель» с затемненными, как и в джипах, стеклами.
Учитель с англичанкою этим обстоятельствам не придали никакого значения.
Если бы Коровин с Пэт вышли на площадь хотя бы несколькими секундами раньше, они несомненно услышали бы выстрелы в здании администрации и увидели бы, как десяток человек в вимовских желто-красных комбинезонах и бейсболках, с автоматами на полусогнутых локтях, только что неподвижно стоявшие у входа в Глухово-Колпаковский Белый дом, все, как один, бросились внутрь здания. Но теперь наша парочка ничего не заметила.
Учитель оглянулся на девушку-ресепшионистку, еле различимую сквозь зеркалящее стекло, словно бы желая убедиться, что город еще не полностью оставлен жителями. Девушка с профессиональной улыбкой покивала Коровину, тот нервно выдохнул.
– I’m afraid the bus would not come, Pаtusha[152], – сказал он.
Пэт удивленно распахнула глаза в ответ. Как это вдруг не будет автобуса? В любом городе мира автобусы ходят по расписанию даже во время войны.
Коровин слегка развел руками, хотел было сказать, что, вот, обстоятельства таковы, начал было даже говорить «The situation… »[153], но только произнес: – You’re in Russia, darling. The bus may not come.[154] И затем все-таки сказал: – The situation… The situation…[155]
И Пэт, улыбаясь, как и девушка за стеклом, тоже покивала Коровину головой. И – вы не поверите, дорогие мои, – тут же подъехал автобус. Это было волшебство, как и многое в нашем правдивом повествовании. А как же без волшебства? Разве не волшебством является тот непреложный факт, что мы с вами еще живы? Разве не волшебством является не менее непреложный факт, что вы сейчас читаете этот роман?
Подъехал автобус.
Постоянное стремление к правде вынуждает нас свидетельствовать, что автобус этот оказался номер 9 «ул. Че Гевары – Химзавод», а вовсе не номер 5 – «Больница – ул. Лосиная», на котором, то есть, на номере 5, собирались ехать учитель и Пэт.
Лосиную улицу называли в городе Лосинкой, и весь район вокруг нее называли Лосинкой тоже. Там начиналась самая короткая дорога к Нянге. Именно туда, на берег реки, собралась наша парочка. Сейчас все расскажем, дорогие мои, не сомневайтесь.
– We take this bus, Pat. The other will not come, – быстро сказал учитель. – Come on.[156]
Они поднялись в совершенно пустой автобус. За рулем сидел пожилой мужчина – в черной бейсболке с надписью «Nьu-Iork» на огромном козырьке – да, вот именно так и было написано, дорогие мои, и в клетчатой ковбойке самой что ни на есть шотландской расцветки – черно-коричневой. Покосившись на удивительную надпись, Коровин усадил Пэт на первое сиденье и дважды прокомпостировал карточку. Пробойник компостера заело на коровинском проездном документе. Коровин ухватился на шишку компостера, с усилием вытащил ее наверх и вынул смятую карточку из зева тысячелетней машинки, словно испорченный бумажный лист из зависшего принтера. Такая вот техника бытовала в Ванькином городском хозяйстве. А вы как думали? Не валидаторы же у него в Глухово-Колпакове стояли!
– We are driving to the chemical plant, and then will go along the bank of the river for a few kilometers; is that okay, honey?[157] – успокоил учитель совершенно спокойную и счастливую англичанку. Она еще и еще раз покивала ему. «Конечно! Я поеду с тобою куда угодно, мой дорогой», – вот что читалось в ее глазах.
Однако сам Коровин спокойным вовсе не казался. Автобус тронулся, Коровин оглянулся в заднее стекло – вот теперь и на молчаливые джипы обратил он внимание. Людей на площади, повторяем мы, не было, однако учителю мерещился чей-то пронизывающий взгляд. Дело известное: даже если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят.
Автобус, значит, тронулся, завернул за угол, и пассажиры вновь не успели увидеть главного – как с противоположной стороны на площадь вывернул красный «Фольгсваген» с надписью «телевидение» и резко затормозил возле джипов.
Учитель уже смотрел вперед. Он был человек интеллигентный, если это расхожее и неконкретное понятие применимо к отдельным жителям даже Глухово-Колпаковской области. Поэтому, посматривая теперь на дорогу, учитель озабоченно продекламировал:
Шел трамвай девятый номер,
На площадке кто-то помер.
Тянут, тянут мертвеца.
Лaмца-дримца. Гоп-ца-ца.
И в ответ на поднятые вопрошающие брови заграничной подружки произнес с успокаивающей рукою:
– All is well, honey. We are riding.[158]
А мы с вами, дорогие мои, можем только в очередной раз констатировать ужасное свойство каких-либо стихов, даже столь примитивных, как продекламированные: они создают реальность. Опасное это дело – читать, а тем более писать стихи.
– Американцы? – вдруг спросил шофер. И, не дожидаясь ответа, сам вынес вердикт. – Америка-анцы… Не люблю вашу Америку, – сообщил он еще, странно усмехаясь.
– Почему? – кротко поинтересовался учитель.
– Спаивают народ! Суки. Лезут всюду. Сюда к нам лезут. Народ… специально спаивают… Спец… – автобус тряхнуло на яме. – …циально… – закончил фразу шофер.
– Я русский, – на всякий случай сообщил учитель Коровин в ответ народному гласу. – Здесь родился… Здесь школу окончил… Институт окончил в Питере и вернулся сюда, – он опять оглянулся на заднее стекло автобуса, словно бы раскаиваясь в своем возвращении к родным пенатам и намечая путь обратно в покинутый им центр культуры. – Здесь у меня мама живет, – закрепил учитель свою привязанность к родному городу. – А девушка – англичанка… Англичанка…
Шофер только усмехнулся и ничего не сказал.
Коровин, нервничая, вновь оглянулся. Вдалеке за автобусом ехала машина, но определить, именно за автобусом она следует или же просто двигается той же улицей, было невозможно. Тем временeм автобус выехал на извилистое шоссе, по обеим его сторонам располагались бревенчатые деревянные домики с густыми палисадниками, но деревня считалась находящейся в городской черте. Это была уже Лосиная улица, Лосинка.
Шофер затормозил возле пустой остановки, открыл обе двери и стоял, словно бы упорно ожидая пассажиров. Коровин в очередной раз оглянулся – сквозь жирную августовскую зелень ничего не было видно за поворотом, который они только что проехали. Если бы машина шла просто в том же направлении, она сейчас должна была обогнать стоящий автобус и проехать вперед. Повисло молчание, нарушаемое только пыхтящим на холостых оборотах двигателем.
– Едем? – спросил учитель.
– Ты вот что, парень, – шофер повернулся от руля. – Бери свою траханную американку и вали с нею отсюда… Пока цел… Понял? – он пожевал губами и вновь произнес, как мантру: – Спаивают народ… Суки американские…
– Но вы же вот не спились, – вступил учитель в дискуссию. – Значит…
– Я вообще не пью, – отрезал шофер. – Вообще. Я вшился. Меня ты так просто теперь не возьмешь… Давайте выметайтесь, на хрен… Ты посмотри, – он показал пальцем куда-то в сторону Кутьей горы, – посмотри, что наделали… Суки американские!
Пэт и учитель рефлекторно последовали взглядами за указующим перстом, но, разумеется, ничего не увидели над зеленой листвою и грязно-белесыми шиферными и черными рубероидными крышами. Только вдруг странный рокот, словно бы рокот морского прибоя, послышался им, но то был, безусловно, вызванный чем-то иным звук, потому что никакого прибоя Нянга никогда не производила, а от веку ровно и спокойно текла в своих берегах, каждый год тихо приподнимаясь весною и так же тихо входя в межень летом. И русло свое Нянга, в отличие от многих северных рек, не меняла, кстати вам тут сказать, никогда. Просто золотая, чудесная была река – Нянга.
– Давай, – повторил шофер. – По-хорошему. А то будет по-плохому. И сучке своей американской скажи, чтоб выметалася из России, на хрен, пока ей жопу не разодрали тут… Понял?.. Что с народом делают! – стихийный пропагандист города Nьu-Iork сокрушенно покрутил головою. – Давай, пшел!
– Come on, Раtusha. Then you have to walk.[159]
Покорный учитель встал с сиденья и протянул руку спутнице.
– Why?[160] – беззвучно изобразила она.
– I warned you: buses do not run.[161]
А мы вам до сих пор ничего не рассказали о Евгении Коровине, дорогие мои. Ну, чтобы надолго не отвлекаться, мы коротенько. А про Пэт еще чуть попозже, хорошо?
Мать, школьная учительница, ростила Евгения одна. Нам неизвестно, по любви она вышла замуж или же еще как, зато достоверно известно, что фамилия отца Евгения была такая – Сорока. Уж извините нас. Как только Евгений появился на свет, отец, не вынесши криков и плача новорожденного, чуть ли не на следующий день после возвращения жены из роддома, завербовался работать в Нерюнгри – это угольный разрез в Якутии, если кто не знает. По прибытии на место счастливый родитель отправил домой телеграмму всего из двух слов. Грамотная, но лишенная чувства юмора якутка в почтовом отделении, поправивши на себе обшитый мехом талалай – несмотря на пыщущую жаром сваренную из керосиновой бочки «буржуйку», на почте стоял холод – якутка, значит, машинально переправила в телеграмме слово «прилетел» на слово «прилетела». И в Глухово-Колпакове получили депешу следующего содержания: «Прилетела. Сорока».
Более никаких почтовых отправлений отец семье не адресовал, в том числе и денежных. А когда мать отправила письмо в Дирекцию угольного разреза с вопросом о судьбе мужа и алиментов, получен был ответ, что техник Сорока противопоставил себя коллективу, уволен по статье за неоднократное грубое наружение трудового законодательства и, по слухам, устроился на полярную метеорологическую станцию на берегу моря Лаптевых, где он осуществит свою мечту, не раз им декларируемую в кругу товарищей по работе – станет пребывать в полном одиночестве. И что туда ему, Сороке, и дорога, а где точно находится оная полярная станция, в Дирекции не известно – море Лаптевых большое. И, соответственно, ничего не знают в Дирекции про алименты.
Мать не стала более искать мужа и писать еще куда-либо. Она только поменяла паспорт, вернув себе и сыну собственную девичью фамилию. А штамп в новом паспорте о заключении брака с гр. Сорока – так вот, в именительном падеже, потому что русская девушка в Глухово-Колпаковском ЗАГСе оказалась менее грамотною, чем якутка в Нерюнгри, – штамп, значит, о заключении брака с гр. Сорока Олегом Владимировичем всю жизнь гр. Коровину совершенно не заботил. Так что ни нам, ни гражданке Коровиной об отце Евгения ничего не известно.
Главное, выросши без отца и унаследовав профессию матери, Евгений, несмотря на свою яркую краеведческую деятельность, сохранил некоторые черты инфантильности, поэтому сейчас, вместо того, чтобы дать водителю в рыло, выбросить его из кабины и самому сесть за руль, чтобы доехать до места назначения, Коровин покорно вышел на остановке, помог сойти Пэт и только руками развел. Автобус тут же уехал. Англичанка и учитель прислушались и недоуменно и тревожно переглянулись.
Теперь рокот моря словно бы приблизился. Казалось, в недалеком прибое купаются и радостно кричат дети, потому что вскрики слышались в рокоте волн. И еще казалось, ветер, теплый дневной бриз дует, сам себе подпевая, с суши на морской простор, потому что завывания ветра слышались тоже совершенно ясно.
Через мгновение Коровин понял, почему ветер пел прямо у него в ушах. Это по всей безлюдной сейчас Лосинке выли собаки. И вдруг он увидел живого жителя Глухово-Колпаковского пригорода. То есть, жительницу, женщину. Старуху. Та копалась на своем огороде, стоя в меже на коленях. Сидящая возле нее кудлатая собака перестала выть, всмотрелась, как человек, в Коровина и Пэт, разве что лапу козырьком к глазам не приложила и залаяла, не отходя от хозяйки. Старуха подняла голову и вдруг погрозила кулаком с зажатoй в нем тяпкою.
– Шлюхи траханные! – визгливо закричала старуха. – Шлюхи траханные!
Собака вновь завыла, поднимая морду и показывая шерстяное горло.
– Come, come, Patusha![162] – учитель потащил не поспевающую за ним Пэт по проулку. Он еще продолжал оглядываться. Машина, только что едущая за их автобусом, так и не появилась, вероятно, свернув на предыдущем перекрестке или остановившись у какого-нибудь дома здесь, в Лосинке.
– Let’s go! Let’s go![163]
Надо вам сказать, дорогие мои, что Коровин в расчетах своих обманулся. Он предполагал, что, выйдя на берег, им придется идти еще километров пять до бывшего железнодорожного моста, но проулок, по которому они с англичанкою ходко, почти бегом, прошли всего метров сто или двести, вдруг вывел их прямиком к мосту – он лежал тут же, сразу за небольшой березовою рощицей. Отсюда, с этой точки берега, источник недалекого шума и вскриков тоже был не виден, только макушка колокольни вдалеке сверкала на солнце, и так же горячо сверкали теплые стволы берез, и голубое, вычищенное ливнем небо над ними. И учитель словно бы забыл сейчас обо всем, в том числе и о цели, к которой они шли. А Пэт все так же светло улыбалась, глядя на своего мужчину.
– Look! Here it is! We are almost there! We’ve come! Darling! We’ve come!!![164]
Учитель окончательно освободился от всех тревог и засмеялся.
Они взялись за руки, как дети, и побежали через рощицу, потом со смехом упали в траву. Вокруг – не считая, конечно, невидимых ими сейчас людей возле бывшего монастыря, а раз ты никого не видишь, так, значит, никого рядом и нет – вокруг не было ни души. А далее, дорогие мои, последовала сцена, которая, во-первых, с участием других персонажей уже была нами изображена в другой части этого правдивого повествования, а во-вторых и в главных, известна, мы полагаем, нашим просвещенным читателям во всех своих прекрасных подробностях, потому что трудно предположить, что есть где-нибудь на свете взрослый человек, который хоть однажды не падал со своим любимым или со своей любимой… да хоть и с нелюбимыми… все равно очень прикольно… не падал бы в августовскую траву. Так не станем же повторяться. А еще вот если на сеновале, то есть, на настоящем деревенском сеновале, наверху, под самою крышей, где сквозь сантиметровые щели в стенах сарая бьют полосчатые солнечные лучи, в которых горят пылинки, и когда в голые тела впиваются завистливые стрелы соломинок… А потом они прилипают к ставшей мокрою коже… Но это в сторону, в сторону! Да-с! В сторону!
Зато мы можем ввести вас в еще одно важное знание, дорогие мои.
Речь о мосте, к которому через минут двадцать вышла наша сравнительно юная парочка.
Начали строить мост аж в конце ХIХ века – не то в шестидесятые, не то в семидесятые годы. Потом, после событий 1869 года строительство прекратилось, и мост долго стоял недостроенный, словно бы дело происходило не в Российской Империи, а в каком-нибудь, прости Господи, Советском Союзе. Тут, в Глухово-Колпакове, этого не знают, а мы вам можем сообщить, что строительство прекратилось, потому что и подрядчик, и инженер, руководивший строительством, тогда безо всяких о себе вестей исчезли из России. Разумеется, через несколько лет мост был закончен, и по нему ходили поезда прямо в столицу, в Санкт-Петербург, распространяя гарь по округе и роняя из конусовидных паровозных труб черные или же белые клубы дыма, которые долго потом плавали над Нянгой, отображаясь в ней, словно облака. Да-с, окончен был! Именно поэтому дорога, по которой сейчас бегут к мосту Коровин и Пэт, до сих пор осталась почти ровной и почти прямой, как, мы извиняемся за свежее сравнение, дорогие мои, – прямой, как стрела. Ведь здесь когда-то лежали рельсы.
Однако же во время первых пятилеток в соседней с Глухово-Колпаковской областью американцы строили металлургический комбинат – флагман социалистической индустрии, срочно понадобились подъездные пути, вот шпальные решетки, то есть, рельсы вместе с уже соединенными с ними шпалами, и сняли со всей глухово-колпаковской ветки на Ленинград, в том числе и с моста через Нянгу. А главный, как у железнодорожников называется, ход пошел стороной от Глухово-Колпакова. Перед войной было говорили, что железнодорожную ветку восстановят, создали даже Управление железнодорожного строительства «ГлухЛаг», даже возвели бараки, даже работы начали, но двадцать второго июня все руководство Управления исчезло, как и семьдесят лет назад, уложенный уже путь вновь немедленно сняли и увезли неизвестно куда, а зэков после того, как они за два дня демонтировали путь, со строительства точно никуда не увозили, но они тоже в одну ночь бесследно исчезли, а ВОХРа утром попрыгала в коленчатокрылые АМОвские полуторки и укатила прочь, бросив пустой лагерь. Только Нянга несколько дней текла водою с красным отливом. Дык ведь земля тут такая! Красная!
Так оно и было, мы врать не станем. Да мы, вы знаете, никогда не врём.
Так что теперь мост пропускал по себе обычную районную дорогу – в две узкие колеи на мосту, так что встречным приходилось ждать, если с другой стороны заезжали первыми фура или просто грузовик – мост пропускал, значит, районную дорогу, сильно разбитую, но не затронувшую в своем постоянном угасании ни стопятидесятилетнюю клёпаную балку, ни береговые устои из тесанного камня цвета сизого голубиного крыла, выложенные тоже полтора столетия назад. Конечно, давно их надо было бы поменять, дорогие мои… По техническим-то кондициям… По СНиПам[165]… Есть такая книжечка небольшая… Но толстенькая… Однако же не поменяли, хотя неоднократно собирались. Руки у советской, а потом и у российской власти не дошли. Дошли только ноги Пэт и Коровина.
Пэт осталась внизу, а Коровин, обдирая пальцы и вымазываясь с ног до головы в густом слое поплывшего на жаре битума, давно отвалившегося сухого кузбасслака[166] и окаменевшей дорожной пыли, залез под балку. Стальная махина, действительно, покоилась на полуметровом металлическом катке, тоже покрытом кузбасслаком, сейчас местами отвалившемся, обнажившем ржавые проплешины проеденного временем металла. Все было покрыто жирной, словно бы лунной пылью в полпальца толщиной. От катка, возле которого самым краешком попы на крохотной стальной площадочке сидел Коровин и, видно было, от второго такого же катка под противоположным углом балки вниз по устою тянулись извивы несмываемой прошвы.
Коровин скособочился и достал из кармана смятый листок отрывного гостиничного блокнота для VIP-постояльцев, сколько мог, разгладил его и уткнулся в начертанные буквы, потому что вдруг обнаружил, что от волнения совершенно забыл все написанное на листке, хотя, кажется, уж на всю оставшуюся – не очень долгую, к сожалению, – жизнь, или лучше при наших обстоятельствах сказать так – намертво должен был запомнить явленные ему слова, как «мене, текел, фарес» царя Вавилонского.
Сверху по голубому полю гостиничного листка изображен был фирменный логотип HOTEL GLUKHOVO-KOLPAKOV, а ниже, на белой части листа рукою Пэт – утром, при Коровине:
Оn the left brige bearing to the side of the flow… near the support roller. It is necessary to pull out the first stone.[167]
Нервно и быстро дыша, учитель схватился за крошечные выступы камня под толстенной металлической плитой, на которой стоял каток, потянул – тщетно. Он потянул еще, и только ободрал два пальца. Не понимая, что делает, Коровин рефлекторно сунул пальцы с прилипшим к ним битумом в рот – обсосать, и этот дурацкий поступок вернул его к реальности. Пальцы были мало сказать – в грязи, а просто невесть в чем, проглоти он это ирландское рагу[168] с микроскопическими кусочками металла, желудок спазмировал бы мгновенно, в ту же секунду. Уже перемазанный весь совершенно, Коровин несколько мгновений сидел наверху под балкой, энергично отплевываясь.
– Эй, – вдруг послышалось снизу, – эй, ты, козел международный!
Учитель впервые за все время, что он сидел у катка, поглядел вниз. Рядом с Пэт стояли двое. Один, крепкий мужик в сером костюме на этакой-то жаре – костюм на жаре помимо себя отметил Коровин, – один, значит, придерживал Пэт за основание локтя и, видимо, крепко, потому что Пэт морщилась, второю рукою мужик приставлял блестящий с длиннющим дулом никелированный пистолет к ее виску, как в кинофильмах. Коровин оцепенел. Дениса он, разумеется, тут же узнал – как-никак вместе провели целые сутки, в которые Денис держался скромно и молчаливо, никак себя не проявлял, тем более эдак-то круто.
Рядом стоял секретарь губернатора Максим и смеялся. Учитель с ужасом увидел в руках секретаря чудовищных размеров, прямо-таки богатырский меч и такой же огромный, тоже из какой-то сказки, молот. Как тут Коровин джинсиков своих не испортил еще и изнутри – загадка. Видимо, учитель оказался более смелым, чем мы предполагали. Зато определенно известно, что за пыточные орудия приготовил голубовичевский секретарь – метровую железнодорожную стамеску и заурядную русскую кувалду, без которой, как известно всем и каждому, никакое производство никаких работ в России невозможно. Хоть с наночастицами.
– Сюда слушай, козел!.. Где закладка? Ну! Закладка где, ванек колпаковский! На счет три башку твоей девке траханной снесу… Ну?!.. Ра-аз…
Коровин сглотнул липкую слюну, хотел что-то произнести, но только пальцем показал на камень.
– Ннн… Нне могу д-достать, – через мгновение покорно произнес Коровин. – Вот этот камень… Вот здесь… Отпустите девушку, очень вас прошу… Пожалуйста… Вы же видите, ей больно!
Секретарь и Денис – оба вполне добродушно вновь засмеялись.
– Не можешь достать… А иностранных баб трахать ты можешь? В антисанитарных условиях… Ты ж борец за культуру… Письма писать ты можешь в Юнеску свою? – продемонстрировал Денис знакомство и с недавними событиями, и с личным делом подозреваемого. – Защитник культуры… Давай спускайся.
Денис говорил вполне доброжелательно. Он легонько толкнул Пэт, и она села на траву, заливаясь слезами, потом обхватила руками колени и зарыдала уже в голос. Всем стали видны голубые с кружавчиками трусики в межножии англичанки, сейчас намокшие точно посередине промежности, потому что не всё еще успело вытечь из выплеснутого в нее Коровиным. Трое мужчин молча уставились в это место между ног Пэт.
– Сначала вытрахать ее, что ли? – задумчиво, словно бы сам себя, спросил Денис. – Люблю, когда баба так… тихонько постанывает… А не орет, как эта сука сегодня ночью…
– Pat! Cover up! Do not be afraid, I am with you![169] – закричал учитель. Все-таки он, видимо, оказался мужиком – не таким брутальным, к которым привыкли мы с вами в нашем правдивом повествовании, дорогие мои, но мужиком. Он начал спускаться по устою, тут же сорвался и проехал на животе метров десять вниз, со вскриком упал в двух шагах от воды, перевернулся. С ободранного лица учителя хлынула кровь. Пэт тоже вскрикнула и вскочила на ноги.
– Sit still Edinburgh whore, and if not we’ll fuck you in all holes right now![170] – неожиданно на прекрасном английском произнес Денис и вновь толкнул Пэт на траву. Для нас с вами, дорогие мои, это обещание прозвучало несколько самонадеянно, потому что после ночи с глухово-колпаковской травести Катериной Денис вряд ли смог бы – через столь короткое время – столь ответственное обещание выполнить. Ну, тут, впрочем, дело молодое. Может быть, и смог бы.
Да, а вот учитель ни в каких спецназах не служил, правильно падать не умел и, видимо, сломал при падении ногу, потому что он только шевелился, как перевернутый на спину жук, а подняться не мог, каждый раз со стоном падая. Кровь с его лба быстро заливала ему лицо – видимо, кроме перелома, учитель здорово поцарапался или задел за что-то головой, съезжая вниз. Теперь Коровин постоянно смахивал кровь с глаз.
– Приплыли, блин! – веско произнес секретарь, изображая Голубовича. И другим, легким тоном отнесся к Пэт, тоже демонстрируя неожиданное, признаемся, для нас самих умение изъясняться по-английски:
– Do not worry. Do what we say, and you will live.[171]
И добавил, обращаясь к Денису и все еще чувствуя себя Голубовичем: – Она из Глазго, блин… Впрочем, не один ли хрен… Давай, действительно, ее трахнем.
И засмеялся меленько: – Хи-хи-хи-хи…
Ничего не отвечая секретарю, Денис подошел к Коровину и направил на него пистолет. Чтобы вы были в курсе, дорогие мои: Денис, по всему вероятию, был отличным профессионалом и отечественным оружием, хоть бы какого прославленного советского бренда, не пользовался. Так что Коровин сейчас смотрел в дуло американской – то есть, производящейся в США по итальянской лицензии спецназовской и полицейской Beretta, самому распространенному, чтобы, повторяем, вы знали, самому распространенному оружию в кругах всех сотрудников всех негласных подразделений всего мира. А показалось Коровину дуло очень длинным, потому что, разумеется, навернут был на «Беретту» такой же никелированный глушитель.
Коровин интуитивно пополз на заднице прочь, подволакивая ногу и не отрывая взгляда от единственного глядящего в него зрачка. Секретарь Максим вновь засмеялся:
– Хи-хи-хи-хи…
Но тут же он вспомнил, что, несмотря на недавно произошедший с ним в администрации конфуз, являет он сейчас собою незабвенный образ покойного Ивана Сергеича Голубовича и посоветовал, пребывая в этом образе:
– Вали его, блин. Че ждать-то? В речку скинем, на хрен, драной письки делов.
И тут опять вскочила Пэт.
– Dоn’t! – закричала она хриплым мужским басом. – Don’t! – тут же повторила она тонким и визглявым старушечьим голоском. – I love him![172]
Нам неизвестно, точно ли Пэт поняла сейчас экспертный секретарский совет, но суть происходящего понять, разумеется, не составляло труда. – Ddd… – было собралась она закричать уже нормальным, наполненным голосом молодой женщины, но много лет не работавшие связки вновь перехватило точно так же, как тогда, когда Пэт, будучи двенадцатилетней девочкой, очень испугалась окруживших ее парней в Бишопбриггсе, пригороде Глазго, на самом конце Спингбурн-роуд. Все парни были индийцами или пакистанцами, во всяком случае – с кожею шоколадного цвета, это нам известно совершенно достоверно. Парни кратко сообщили Пэт, что сейчас все они, кто по очереди, а кто и одновременно вытрахают ее всеми возможными, а также и невозможными способами, и осуществить свое намерение они не успели не потому, что маленькая Пэт мгновенно от страха описалась, и не потому, что как раз тут на Спингбурн-роуд наконец-то появился констебль – нет, полиция пакистанцев не трогала, что бы они ни вытворяли, просто мимо с тренировки ехали в своем автобусе Scottish eagles[173] – городская футбольная команда…
Стресс, пережитый тогда Пэт, лишил ее голоса и до встречи с Коровиным начисто отбил желание интимной близости с кем бы то ни было, хоть и с законным мужем. Кстати тут сказать, во-первых, Пэт и вышла за старика, надеясь, что исполнения супружеских обязанностей в постели тот не потребует, а во-вторых, до замужества Пэт носила фамилию Визе и была одним из многочисленных потомков, представьте себе, самого настоящего россиянина, занесенного после русской революции в Шотландию. А в-третьих и в главных, в семье Пэт была седьмым ребенком, жилось ей не слишком сладко, и Патриция Визе надеялась, что муж увезет ее куда угодно из их пригородного шотландского рая. Тот и увез.
Сейчас Пэт закашлялась, схватилась рукою за горло и таким же, каким говорила она в первый раз, мужским басом хрипло попросила:
– Please don’t kill him… I love him… This is my man…[174]
– Patusha! – закричал Коровин и захохотал от радости. – You speak! Hurrra! You speak! – Тут на перекошенном лице девушки помимо ее собственного сознания отобразилась слабая, но счастливая улыбка. – But do not say anything yet! – продолжал хохочущий Коровин. – Shut up! You can’t talk right now! It’s necessary to roll up your throat with something warm! Returning to the hotel, we will douche your throat at once! Re…[175] – «turning» учитель не успел выговорить. Денис выстрелил, Коровин дернулся и распластался на берегу. Денис вытащил у него из кармана утреннюю записку Пэт, пихнул тело ногою. Учитель съехал в воду, медленно перевернулся на живот и поплыл, постепенно погружаясь, в сторону холодной даже в этот августовский день Балтики.
Из Пэт вышло сипение, ничего более произнести, чудесным образом, а проще сказать – промыслом Божием обретши перед смертью и любовь, и страсть, и голос, ничего более произнести она не успела. Денис еще раз выстрелил, Пэт упала ничком – прямо на свою руку, все зажимавшую саднящее, но теперь уж навсегда переставшее саднить горло. Так же навсегда перестала у нее болеть сломанная в локте и кисти рука – сейчас вот при падении возникли оба эти перелома. Пэт не успела почувствовать никакой иной боли, кроме боли в горле. Ну, это как на приеме у отоларинголога, только и всего. Пустячок…
Пэт поплыла вслед за Коровиным, погружаясь гораздо быстрее его, потому что платье, наполнившееся водою, тянуло ее на дно, словно подводный парус.
Денис засунул пистолет под пиджак – сзади за пояс.
Секретарь Максим много чего навидался на Bанькиной службе, но мгновенного двойного убийства, несмотря на недавний свой совет Денису, еще не видел, и теперь стоял соляным столбом. На брючине секретаря проявилась и быстро поползла вниз к ботинкам широкая темная полоса, тут же из секретарской штанины густо полило.
– Опять зассал, Макс, – доброжелательно констатировал Денис. – У тебя что, энурез, что ли?.. Это ничего… На живом опять обсохнет… Нервный очень…
– Я… я… я… я… – двигал челюстью областной чиновник.
– Давай полезай.
– Я?.. я?.. я? – куда как более осмысленно проблеял секретарь.
– Ну, не я же.
Максим затоптался на месте, не зная, снимать мокрые штаны или же не снимать, снимать ли пиджак с галстуком – вот пиджак с галстуком, по всему вероятию, точно надо было снять; снимать ли ботинки.
– Клифток скинь, и хорош, – поступило новое указание. – Лезь!
Секретарь аккуратно сложил пиджак, пристроил его подкладкою вверх на относительно чистом месте на берегу, столь же аккуратно положил сверху галстук – галстук у секретаря стоил 12 фунтов и 50 пенсов, чтоб вы знали, дорогие мои, в самом городе Лондоне купленный – положил, значит, сверху галстук и, поминутно оскальзываясь и срываясь, полез по устою наверх. Костюмные брючки секретарские тут же перестали, дважды за короткое время обоссанные изнутри и сейчас измазанные снаружи, прямо вам можем сказать, просто перестали существовать.
– Залез?
– Д-да… я…
– Да не ссы ты! Ссыкун колпаковский!.. Держи!
Посланные меткой и крепкой рукою, в воздух взвились одна за другой стамеска и кувалда. И тут же Максим, несмотря на дрожь в руках и ногах, оба шанцевых сих инструмента поймал у себя наверху и даже удержался на крохотном пятачке возле опоры, на котором только что сидел учитель.
– Первый камень возле катка, – спокойно сказал Денис. – Вышибай!.. Только смотри, не навернись обратно. Снова полезешь… Давай!
Начали раздаваться глухие каменные и звонкие металлические удары, которых никто в округе сейчас не услышал, как и звуки выстрелов. Про выстрелы вообще нечего и говорить – оружие с глушителем стреляет так: пук… пук… пук… Словно бы гриб-дымовик лопается под сапогом. Кто услышит, кроме праздного грибника?
Через минуту освобожденный от полуторастолетних наростов камень покатился вниз и ухнул в Нянгу, а в руках перемазанного и измученного непривычной работой Максима оказалась небольшая стальная коробка. В таких коробках сто пятьдесят лет назад продавали отборный, самый что ни на есть дорогущий китайский чай. Сейчас название чая и когда-то ярко-желтый с оранжевыми цветами колер сошли на нет, только кое-где оставались проплешины бывшего яичного цвета, давно ставшие, разумеется, черными, как чумные пятна. Под крышкою была залита и осталась по сей день невредимой, только превратившись в совершенно стальную, как и вся коробка, древесная смола. Тот, кто закладывал коробку, знал, что делал.
– Бросай.
Коробка вслед за стамеской и кувалдой полетела вниз и прикатилась прямо к ногам Дениса. На свет явился выкидной с кнопкою-ассистом швейцарский нож. Денис, сидя на корточках, завозился с крышкою, пока секретарь Максим тихонько, ступая на цырлах, подбирался к нему со спины с поднятой над головою стамеской. Денис быстро обернулся, Максим закричал от ужаса и бросился со стамескою вперед. Профессионал мгновенно выхватил пистолет, выстрелил секретарю в живот и вновь принялся возиться с крышкой – не открывалась, зараза.
– Больно! – закричал секретарь, катаясь по траве. – Больно!
По его рукам, зажимавшим рану, сочилась кровь.
– Коньяк с утра пить не надо, – наставительно произнес Денис, более не оборачиваясь. – Кишки с голодухи плохо спиртное принимают… – еще пробормотал он. – Вот тебе и больно.
Тут – крраккк! – крышка, наконец, отлетела в сторону. Максим замер, замолчал, крупные капли пота выступили у него на лице и одна за другою покатились на рубашку, смешиваясь с грязью и кровью.
– Чтт.. то… там?.. Пп… пок… кажи… Пп… жалуй… ста… – он, сколько мог, вытянулся в сторону Дениса. – Кк… камеш… ки?…
Удивленный Денис вытащил из коробки вдвое сложенный листочек желтой бумаги и перевернул коробку кверху дном, чтобы показать, что более в ней ничего нет.
– Бумаженция… – он заглянул внутрь коробки, словно бы ожидая, что сейчас в ней вдруг что-нибудь еще появится. – Записка… Что ж… Записки разные бывают… Могут оказаться и весьма ценными… – Ты там под катком-то хорошо посмотрел? Больше там ничего?
Максим еле заметно покрутил головой. Теперь он молчал, начавши неостановимо бледнеть. С каждым его тяжелым выдохом у него из живота выкатывалась новая порция крови.
– Нич… чего… – выдавил вместе с кровью из себя секретарь. – Даль… ше клад… ка…
– По-немецки сечешь, Макс? – так просто, словно бы они, два крепких кореша, после тяжелого рабочего дня сидели сейчас в теньке рядком, ножка на ножку, отдыхаючи за пивасиком – так спокойно и доверительно спросил Денис.
– Нет… – выдохнул секретарь. Денис чуть повернулся и выстрелил ему в лоб.
Денис сейчас не знает, раздраженно разглядывая кусочек бумаги, что такое начертано на нем плохим пером, оставляющим кляксы и царапины на листе, а мы вам, дорогие мои, совершенно достоверно можем сообщить полный текст:
Ich, der Ingenieur Krasin Iwan Sergejewitsch, diese Quittung unwiderlegbar bezeugen, dass verdankt seinen Arbeitgeber Wiese Alfred Karlowitsch im Wert ruble von drei Millionen in der Bank nimmt die Staatsbank des russischen Reiches, was ist die Summe verpflichten sich, die komplette Entsorgung der genannten Wiese Alfred Karlowitsch bei seiner ersten bereitzustellen Alfred Karlowitsch Wiese Nachfrage. Was und Signaturen.
Кrasin Iwan Sergejewitsch.August 19 Tage 1869 das Datum, ab RH[176].Далее стояла размашистая подпись.
Денис пожал плечами, сплюнул в Нянгу, быстро обыскал секретаря Максима, достал бумажник, выпотрошил его, бросил в реку, поднял левую руку убитого, посмотрел на часы на мертвой руке, почему-то хмыкнул себе под нос и часов не снял, только положил к себе в карман ключи от машины и найденные в бумажнике деньги и карточки, и еще – плоскую коньячную флягу из внутреннего кармана пиджака. Теперь она перекочевала вo внутренний карман пиджака Дениса. А на галстук, на двенадцатифунтовый галстук! – можете себе представить? – Денис не обратил ни малейшего внимания, хотя что ему – улик бояться, что ли? Вот мы бы с галстуком эдак-то пренебрежительно не поступили, дорогие мои! Хотя мы сами галстуков терпеть не можем и доднесь надевали их в основном только на собственные свадьбы – разов пять или шесть. Ну, значит, и Денис галстуков не любил… И еще. Мы бы вот коньячку обязательно сейчас отхлебнули б. Ну, зачуток хотя бы…
Денис еще раз обсмотрел найденную бумажку, еще раз пожал плечами, вытащил из себя прозрачный файлик, аккуратно вложил в него маленький желтый листок, цепко оглянулся по сторонам. Ни души не наблюдалось во всей округе. Денис вновь сплюнул в Нянгу, пихнул Максима в воду – тот поплыл ничком, как и учитель Коровин. Денис еще раз разочарованно сплюнул и пошел через лес к остановке, где они с Максом оставили машину.
И случилась тут одна странность, которой мы не можем объяснить. Неторопливо идучи к шоссе, Денис вдруг поднес к лицу свои странные часы и что-то произнес, обращаясь, по всей видимости, к самим часам. Ну, техника, вы понимаете, дорогие мои, техника идет сейчас семимильными шагами, может быть, Денис так вот время на часах корректировал. Голосом. Или запись голосовую делал в дневничке – бывают же в дорогих часах дневнички, как в смартфонах – дескать, завалил случившийся рядом контингент, числом три штуки. А может, это вовсе и не часы на руке у Дениса. Ну, не знаем. Не-зна-ем. На наш взгляд, куда сподручнее было бы разговаривать по обычному сотовому. Правда, разговоры по сотовым пишутся сейчас запросто – все, всеми, везде и всегда. А разговоры с помощью часов, может быть, пока еще не пишутся… Ну, не знаем… Не-зна-ем…
Кстати о Денисе, дорогие мои, чтобы не забыть. Вы не поверите, но мы сами ровным счетом ничего о нем не знаем, как и о его часах. Вот ей-Богу! Ни о прошлом его, ни о будущем. Даже его владение английским стало для нас полной неожиданностью. Более того. Когда после всех событий не такие, как мы с вами, а уж полной мерой наделенные и знанием, и возможностями люди начали выяснять, кто таков есть сотрудник Денис и какого, собственно говоря, компетентного ведомства он сотрудник, оказалось, что никакое ведомство, хоть компетентное, а хоть и не компетентное, оного Дениса за своего не признало и никак и нигде не обнаружило. Ни живым, ни мертвым. Как он оказался в машине Маккорнейла? Почему обладал самой разнообразной информацией? Почему с такою легкой непринужденностью убивал невинных людей? Неизвестно. Можно тут, разумеется, строить разнообразные догадки, и мы не станем вам запрещать фантазии на этот счет. Сами мы в конспирологические теории совершенно не верим и считаем, что всем бедам в России виною бывает исключительно свои, отечественные глупость, жадность и лень.
Да, так Денис, значит, положивши расписку неведомого ему инженера Красина в карман, пошел обратно к машине. И сразу же здесь, у моста, вновь стал слышен шум людского прибоя, потому что это люди, а не море, все прибывали и прибывали на обетованный берег возле Узла – Узла федерального значения у села Кутье-Борисово. И вой собак со стороны Лосинки не утихал. Казалось, воет вся Глухово-Колпаковская губерния.
VII
А теперь, дорогие мои, мы должны вернуться в нашем правдивом повествовании на несколько назад, чтобы стройность оного повествования ничем не оказалась нарушена.
О произошедшем на Дворцовой набережной на следующий день после исторического заседания Главбюро в далеком от полного кворума составе в лице Хермана, Темнишанского, Сельдереева, Красина, Васильева, приглашенного Храпунова и примкнувшего к нему под видом соратника Морозова – мы вам уже рассказывали. Рассказывали и об явлении на заседание аннинского кавалера полковника фон Ценнеленберга и вызванных тем явлениeм событиях. Александр Иванович Херман вышел вон; нам трудно заключить, чем вызвано было столь мягкое решение Государя о его участи, не в натальную же карту[177] лондонского сидельца смотрел Император – в карту, непреложно предсказывающую скорую смерть обладателя ее. Херман, значит, вытянул пару бокалов шампанского и пошел себе будить общую с поэтом Окурковым жену и спешно собирать чемоданы. Да их почти и собирать-то не пришлось – не успели толком распаковать. Вахмистр Гурин надел на Темнишанского кандалы – временные, до доставки арестанта в Петропавловку. А Васильев рухнул развороченной выстрелом головою на стол, заливая кровью и сам стол, и свой китель, и спинку стула, на котором сидел, и паркет под стулом.
– Сатрапы! – тоненько закричал Темнишанский, с видимым усилием воздевая скованные руки. – Палачи! Недолго властвовать вам! Народ… – вахмистр пихнул Николая Гавриловича в спину, и тот подавился следующим словом.
– Веди! – скомандовал Ценнеленберг.
Темнишанского повели из hall прочь. На пороге он попытался обернуться и так же тоненько закричал:
– Иван Сергеевич! Ради всего святого! Проследите, чтоб не разводили мост!
Подавленный Красин ничего не отвечал.
– Народ сметет романовскую деспотию, и завтра же мы… – еще начал было Николай Гаврилович, но тут его вновь сильно толкнули в спину, он чуть не упал; двое жандармов потащили его под локти по коридору мимо прижавшегося к стенке лакея. Тот все еще держал перед собою поднос с бутылкою. Урядник, идущий следом за волокущими Темнишанского, как и несколько минут назад Херман, остановился, одним движением цапнул с подноса бутылку, приставил ко рту и разом выхлестал еще остающуюся в бутылке сладкую влагу, отрыгнул и смачно сплюнул на зеленую ковровую дорожку «Савоя».
– Ххрр… Тьфу!.. Хавнота!..
Бросил бутылку на пол, та с грохотом покатилась по тонкому ковру, и потопал следом за арестованным.
– Ради нашей свободы! – донеслось еще до Красина. – Не дайте развести мост! Иван… Сергеич!..
Красин пожал плечами. Странно было Николаю Гавриловичу обращаться в такую минуту с какими-либо просьбами к Красину. Ведь будущее его сейчас, как и будущее остальных сидящих за столом, представлялось достаточно ясным. Этот темнишанский крик поистине из глубины души вызван был, несомненно, некоторым помутнением в голове несчастного. Красин, по всему вероятию, теперь не мог бы ничему ни помешать, ни помочь.
– Ну-с, – он встал из-за стола и протянул руки пред собою, словно бы подставляя их под железы. – Господа! Прошу вас!
Это был бы прекрасный выход для Красина. Сгнить в каземате, а жизнь пусть идет. Так подумал бы слабый человек, дорогие мои, очень слабый. А наш с вами Красин Иван Сергеевич, хоть и сломленный Морозовым на Kатиной записке, хоть и обманутый, Красин все-таки оставался пока человеком чрезвычайно сильным – ну, до тех пор, как из-за него – так он станет полагать – из-за него погибнут люди. А потом он вновь станет сильным. Но это потом, потом.
Ценнеленберг не обратил на эскападу Красина ни малейшего внимания.
– Бывший полковник Сельдереев! – он ткнул пальцем в Сельдереева, бледного, даже с зеленцою, проявившейся на лице его после увода Темнишанского, как будто лягушачьей расцветки сюртучок уведенного положил отсвет на лик оставшегося. – Извольте немедля следовать под домашний арест! На квартире постоянно пребывать в штатском платье! До выяснения обстоятельств и дальнейшего высочайшего решения! Пшел!
Мы можем засвидетельствовать, дорогие мои, – Красин тоже выглядывал сейчас разительно бледным. Мысль о том, что теперь произойдет с Катей!.. Катей! Катей!.. мысль о том, что теперь случится с Катей, когда он, Красин – и, видимо, уже никогда – не сможет ей помочь, не сможет ее спасти, эта мысль заполнила его всего, и уже и думать ни о чем другом он не мог и не мог больше ничего чувствовать, кроме отчаянья. И стоял он с протянутыми вперед руками, явственно пошатываясь; еще минута, и упал бы наш герой под савоевский стол, словно нарезавшийся этим проклятым шампанским неумеющий пить купчик.
Неизбывное стремление к правде заставляет нас, дорогие мои, добавить тут, что мысль, которая пришла в голову капитану Васильеву, мысль о самоубийстве – а васильевский «смит-вессон» в этот миг еще валялся в луже крови на расстоянии пол-аршина – только руку протяни – не посетила Красина. Бог весть, может быть, потому, что все его мысли оказались заняты Катей. Катей! Катей! В голове у Ивана Сергеича тогда просто уже не оставалось места. И не мог он самоустраниться сейчас. Не мог!
А Сельдереев действительно тут же встал и не вышел, а именно пшел вон. За ним тоже потопали двое, царапая стены ножнами. О дальнейшей судьбе Сельдереева – потом, чуть позже, а вот о Николае Гавриловиче Темнишанском, который более не встретится в нашем правдивом повествовании, – сейчас.
Через полгода после изложенных здесь событий Николай Гаврилович уже вновь пребывал на каторге в Нерчинске, где и оставался без малого еще почти пятнадцать лет. Пятнадцать лет, дорогие мои!
Подробности нам неизвестны. Достоверно известно только, что в каменоломнях или на иных тяжелых работах каторжник Темнишанский, слава Богу, не использовался. Более того – имел возможность работать, то есть – писать свои романы и статьи. У них, политических каторжан, процесс создания литературных произведений так и назывался – работа. Странно, правда? Вот Темнишанский пятнадцать лет работал и даже, по слухам, принимал участие в любительских спектаклях, что не может показаться нам с вами удивительным, ведь даже сейчас на любой приличной зоне есть собственный театр, и настоящие театральные фестивали устраиваются, и конкурсы, и ставят не современные какие-нибудь пьесы, а исключительно Шекспира и Мольера.
Так Темнишанский, значит, принимал участие в театре! И даже жил в отдельном домике! А через пятнадцать лет напряженной творческой жизни, больной цингой, малярией, чахоткой и всеми другими возможными и невозможными в остроге, пусть и в отдельном домике, заболеваниями, Николай Гаврилович был освобожден вступившим на престол новым императором, прибыл в родную свою Астрахань, где менее чем через год и умер на руках у любящего сына. Так, к сожалению, всегда бывает – долгие сидельцы умирают вскоре после освобождения, словно бы дали себе слово непременно дожить, увидеть своими глазами свободу.
Но вернемся в Savoy.
Сразу же, чуть стукнула за уводимым Темнишанским дверь и послышался тот прощальный его крик, утишенный расстоянием:
– Не дайте развести мост!… Иван… Сергеич!..
Сразу, значит, после этого полковник фон Ценнеленберг разительно переменился. Рот его раздвинула широкая открытая улыбка, и Красин смог увидеть, что у полковника отличные зубы, как у настоящего хищника, хоть сырое мясо ими рви. Мысль о сыром мясе промелькнула в голове Красина, по всему вероятию, неспроста – ничего, кроме страданий, пыток и муки Иван Сергеевич не мог ожидать от полковника сейчас. И правильно. Ничего хорошего далее не воспоследовало. Мясо с Красина никто не рвал, разумеется, но кто и когда сказал, что муки душевные легче мук телесных? Никто и никогда. А есть такие люди, особенно в России, что лучше им подай телесные, нежели чем душевные. Да-с! А вот нам, кстати вам тут сказать, дорогие мои, куда как лучше душевные, да и свыклись мы с ними за почти семьдесят лет, словно бы с привычной мозолью. Но это тоже в сторону, да, в сторону.
Ценнеленберг кивнул вахмистру на тело Васильева: – Убрать!
Гурин подхватил мертвого капитана под мышки и, пачкаясь в крови, потянул вон; отлично вычищенные васильевские сапоги волоклись по паркету, оставляя на нем темные прерывистые полосы. И тут же давешний лакей, что приносил шампанское на серебряном подносе, а потом стоял в коридоре, на цырлах вошел в дверь и вновь начал вытирать влагу со стола – теперь кровавую, отчего полотенце, вновь намокнув, немедленно потемнело.
– Спасибо, братец, – Ценнеленберг похлопал его по плечу, – это не сейчас. Пшел!
– Извольте распорядиться, вашшш высокккблагородь, я теперя ж сюды поломойку. То ись, момент!
– Пустое, братец. Пшел!
Лакей исчез. Ценнеленберг кивнул на дверь, и последние два жандарма, еще подпиравшие в hall стены, вышли. Теперь здесь остались, кроме полковника, только Красин, Храпунов и Морозов. Ценнеленберг все улыбался. А Морозов одним движением вытащил из-под стола свой узел и – Красин не успел заметить, как – в единый миг вновь преобразился: теперь на нем оказался надет прежний китель с подполковничьими погонами и с кантом штаны. Морозов нахлобучил на себя форменную шапку и потянул из узла и портупею с кобурой, и палаш и, сопя, начал препоясываться и прилаживать оружие к поясу.
Храпунов деликатно кашлянул в кулак.
– Гм!.. Чтобы это… Нам со временем не вышло бы завтра какого расхождения… К самому утру, Христофор Федорович? К которому часу?
Вместо ответа полковник вновь достал золотой свой Breguet, отщелкнул крышку, защелкнул, вновь отщелкнул, вновь защелкнул и вдруг отсоединил часы вместе с цепочкою от себя и хлопающим движением положил их на автоматически – да что! в автоматическом, значит, режиме сработавшую! – положил на протянутую ладонь Храпунова.
– Лично от меня, а также от Отдельного корпуса жандармов Его Императорского Величества народному вождю.
– О, как! – удивленно произнес Морозов. – Это тебе, Серафим Кузьмич, с намеком дадёно, с намеком. Ровно бы аванс.
– Бог с вами, господин исправник. С самым чистым сердцем, как русский офицер! – Тут Ценнеленберг даже и каблуками щелкнул, и учтиво свесил голову на сторону. – А завтра все пройдет по плану, так мы, Серафим Кузьмич…
– Прекратите балаган! – уже не в силах себя контролировать, закричал Красин. – Я не желаю! Ведите меня! – он вновь, не соображая, что делает, протянул вперед руки, подставляя их под воображаемые кандалы. – Клоуны! Шуты! – истерически Красин принялся оглядывать паркет под собою, отыскивая васильевский «смит-вессон». Ну, сорвался Красин. С каждым запросто произойдет при таких обстоятельствах. Бог знает, может быть, он сейчас и выстрелил бы в кого-нибудь из собеседников или же все-таки в себя самого, и страдания его тут и окончились бы. Начал, значит, отыскивать взглядом револьвер. А револьвера не было. Исчезоша.
Повисла пауза.
– А эвона, мил человек, – произнес Морозов. – Нужды нет искать-то. Нужды, говорю, нетути… Эвона… Револьвер…
Теперь окровавленное оружие оказалось в руке исправника, и он поигрывал им прямо перед лицом Красина. Никакого труда для нашего Ивана Сергеевича – мы же с вами знаем его, не так ли? знаем – труда не составляло сейчас мгновенно дать толстяку-жандарму в зубы, выхватить револьвер, выстрелить… Храпунов, сжимая в кулаке столь неожиданно обретенные им золотые часы, вдруг, против всех физических законов, оставаясь на стуле совершенно недвижим, поехал от Красина и Морозова вместе со стулом прочь, пока выгнутая спинка, предвестница стульев мастера Генриха Даниэля Гамса, со стуком не уперлась в стену; Храпунов, по всему вероятию, ожидал драки. Но непостижимо и удивительно Красин медлил.
– Али тыыы, моя лучи-ину-ушкаааа, в печи не бы-ы-ллааа, – вдруг игриво пропел Ценнеленберг, глядя на Красина и полное сохраняя самообладание. Улыбка еще не сошла с него. Никак нельзя было предположить, что полковник, происходя из служилого немецкого дворянства, столь хорошо знаком с русским фольклором. – Что так ярко горишь? – вдруг сбросивши улыбку, спросил он словами песни, теперь сощурившись; и действительно, волчий оскал изобразился на лике жандарма. – Что?.. – не пропел, а проговорил он, – моя лучинушка… Что так ярко горишь?
…Вот мы и сообщаем вам, дорогие мои, что вечером следующего дня, после всех столь правдиво изображенных нами событий, оба храпуновских кобеля завыли, зарычали, залаяли, и Серафим Кузьмич, в очередной раз отрыгнувши, достал свой золотой Breguet, выщелкнул крышку и, деловито нахмурившись, определил, который час пробил. Считай, уж глубокая ночь. Вечер кончился, скончался вечер.
– Пора? – спросила Стеша, на что Храпунов ничего не ответил, а только крякнул, поднялся, налил себе стопочку, махом ее вытянул и, даже не закусивши, вышел из комнаты вон.
На улице стояла та же пролетка, вновь Морозов сидел на козлах, перебирая возжи, словно бы заправский питерский «ванька»[178]. Странное одеяние Морозова поразило бы глядящего сейчас на него: жандармские штаны с кантом, заправленные в сапоги и – поверху такая же, как у Храпунова, чуйка. Узел – вероятно, с полной формою – лежал на дне пролетки, в ногах у Красина, и поперек пролетки, там же, в красинских ногах, лежал никак почему-то теперь не замаскированный палаш в металлических ножнах. Его сейчас нельзя было бы назвать «селедкой» – прозвищем жандармских палашей и шашек в народе. Палаш казался не селедкой, а русалкой, попавшей в сети и выловленной только что из глубины вод, брошенной, как добыча, на дно плоской рыбацкой шаланды. Казалось, ножны и трепетали, будто бы живые – точно так трепетала бы русалка: дрожал бы, тускло отсвечивая в полумраке чешуею, хвост, дрожь проходила бы по мокрым ее грудям и животу в спутанных водорослях, огромные русалочьи глаза, посверкивая сквозь падающие со лба волосы, старались бы рассмотреть будущих ее мучителей в темноте. Но тщетно! Ничего не увидеть! Никого!
Морозов остановился на Пятнадцатой Линии прямо посередине между храпуновской калиткой и воротами лютеранского кладбища, словно бы еще не решил, куда свернуть. На обоих столбах кладбищенских ворот горели по два керосиновых фонаря. Этот керосиновый неровный свет – фитили тлели, огоньки дрожали за стеклышками – и рождал ощущение тревоги и трепета, а с противоположной стороны улицы зашторенные окна Храпунова вообще не давали света – огонь за ними был призван гореть только для обитателей дома, и более ни для кого. Огоньки же на каменных столбах не освещали сейчас даже изваянной у ворот фигуры Христа. В ниспадающем до пят хитоне, опустивши голову и сдержанно простирая руку, как бы желая остановить неизбежную скорбь, он стоял в совершенной уже темноте. Как же тут, дорогие мои, нам с вами, а тем более – случайному ночному прохожему разглядеть кого-нибудь, если даже Господа нашего невозможно увидеть?
Да никто и не смотрел. Сторож давно уже запалил фонари и давно ушел по дорожке меж каменных плит. Никого на Пятнадцатой Линии, здесь, на самой окраине, не случилось сейчас. Город изживал в себе страшный пролетевший день. И русалка на дне пролетки в коротких отсветах собственной чешуи – металлические кольца ножен и стальная рукоять оружия отражали свет – русалка напрасно пыталась бы сейчас увидеть, а тем более прочесть ответный взгляд Красина. Потому что сидящий в углу пролетки Красин не поднимал глаз. Сгорбленный, упершийся локтями в колени и закрывший лицо ладонями, он сам напоминал, воля ваша, молчное и недвижное надгробие. Не узнали бы мы сейчас нашего с вами Красина даже в ярчайшем сиянии Божьего дня. Даже, кажется, ростом он меньше стал после всего произошедшего, иначе бы огромный Храпунов, накренивший легкую пролеточку, как накреняет шаланду забирающийся в нее через борт пловец, не поместился бы на сидении столь вольготно и широко, расставив ноги. В руке Храпунов держал уж не один, а два совершенно чистых сермяжных мешка. Утвердившись в пролетке, Храпунов прохаркался в сторону кладбища – то есть, прямо в сторону невидимой сейчас, но уж наверняка знаемой местным-то уроженцем фигуры Христа, достал из кармана сигару, откусил кончик ее, смачно выплюнул и зачмокал, зачмокал, зачмокал, прикуривая от брызжущих искрами спичек, и выпустил заметный даже в темноте ароматнейший дымок.
Должны мы еще вам сообщить, дорогие мои, что перехваченный веревкою сверток, похожий на египетскую мумию, что давеча – а казалось, сто лет пролетело – что давеча, выйдя из квартиры своей, нес Красин, тоже лежал в пролетке поперек ее, как и морозовский палаш. То есть, палаш, собственно говоря, лежал поверх не дающего никаких отблесков темного свертка, и Храпунов, со смаком сейчас курящий сигару, поставил ноги прямиком на морозовское жандармское оружие и, значит, на сверток под ним.
– Vous ne voulez pas, Nikolai Petrovich? Excellent Havane, – громко, словно бы в чистом поле находясь, невместно по ночному времени, да еще возле кладбища, спросил Храпунов Морозова, даже, кажется, не замечая совсем прижатого им к углу сиденья Красина и ничего тому не предлагая. – Excellent Havana. Vous ne pouvez obtenir dans l’entreprise «Khrapunov».[179] – Хо-хо-хо-хо, – густо засмеялся Храпунов в ночи, словно сатана.
– А пожалуй что, – так же громко отозвался Морозов с облучка: – дадёному не обиноваться. Покуривши-то, весельше доедем… К утрецу аккурат. К свету, значит…
Сигара запылала и во рту Морозова.
– Ну, помогай Господь!
Замолчавшие было при проходе хозяина к калитке собаки вновь заворчали.
– С Богом!
Морозов небрежно перекрестился, дернул поводья, и два нестерпимо красных огонька понеслись во тьме в сторону Глухово-Колпакова, в сторону Кати.
Буквально через несколько минут после того, как собаки перестали ворчать, они залаяли и зарычали вновь. Послышался деревянный треск, словно бы ломали калитку и два выстрела, и тут же, вслед за выстрелами, детский жалобный скулеж, с которым умирает даже самая сильная, самая свирепая собака.
Федор безo всякого спросу вошел в комнату, а за ним – несколько жандармов, стучащих сапогами.
– Вот-с они, сестрица евонная, – пальцем показал Федор на Стешу, а та вдруг почувствовала – ее рука дрожит, поэтому и чашка с чаем дрожит у нее в руке, и Стеша с дребезжащим звуком поставила чашку на блюдечко, чтобы не пролить чаю и тут же ощутила, как на стуле, на котором она сидит, отчего-то становится мокро, и все мокрее и мокрее, словно бы она сидела не на стуле, а в тазу с водой.
– Где Серафим, матка? – мрачно спросил один из жандармов.
– Ууу… уехатши они… уу… уехатши, – выдавила из себя обильно описавшаяся Стеша.
– Толечко что изволили отбыть, господа власть, как вам я щас докладал, – отрапортовал Федор.
– Куда? – спросили Стешу.
– В Глухово-Колпаков… В деревню нашу… В Кутье-Борисово, – почему-то шепотом отвечала та.
Жандармы молча повернулись и, гремя сапогами и аммуницией, вывалились в дверь, Федор за ними.
Повисла пауза.
– Федор, – прошептала Стеша. И вновь, теперь окрепшим голосом позвала: – Федор!
В дверях возник Федор с банным полотенцем в руках.
– Изволите зад приподнять, Степания Кузьминична, – ворчливо произнес Федор. – А к завтрему, они сказывали, выходит явиться нам с вами в жандармское управление. Ну, помогай Бог!
… Больше мы с вами про этих двух людей ничего не станем говорить; действительно, Бог с ними, потому что нам кажется, будто сюда, на окраину Санкт-Петербурга, издалека доносится вслед за Божиим именем:
– Вонифатие… Вонифатие…[180]
Послышались нам звуки смиренной моливы. Но еще пред началом молитвы молодой женский голос звонко произнес:
– Благословите, Мать Игуменья!
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь! – произнес тоже женский, но явно старческий, однако же сильный и уверенный голос. – За всех за нас, сестра… За всю Россию станешь молитву творить…
– О, всесвятый Вонифатие, милостивый Раб Милосерднаго Владыки! – начал женский голос. – Услыши прибегающих к тебе, одержимых пагубным пристрастием к винопитию, и, как в своей земной жизни ты никогда не отказывал в помощи просящим тя, так и теперь избави несчастный народ. Некогда, богомудрый отец, град побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение Богу, велел немногие сохранившиеся грозды положити в точиле и позвати нищих…
Стало слышно, как молодая женщина со всхлипом вобрала в легкие воздух, выдохнула, вновь глубоко вздохнула и продолжала:
– Затем, взяв новое вино, ты разлил его по каплям во все сосуды, бывшие в епископии, и Бог, исполняющий молитву милостивых, свершил преславное чудо: вино в точиле умножилось и нищие наполнили свои сосуды. О, Святителю Божий! Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви и для пользы убогих, так ты, Блаженный, укроти его теперь там, где оно приносит вред… – тут женщина помедлила, явно задумавшись, и наконец решительно уточнила просьбу: – Совсем укроти! Совершенно! Que seule l’eau! Seigneur! Ce fut seulement de l’eau!…[181]
– Не поминай всуе Господа нашего, сестра, лишь на молитву к святому Вонифатию дадено сейчас благословение, – сказала тут игуменья.
Молодая женщина вновь вздохнула.
– Избави от пристрастия к вину предающихся постыдной страсти, исцели их от тяжкого недуга, освободи от бесовского искушения, утверди их, слабых, дай им, немощным, крепость и силу благую перенести искушение, – возврати их к здоровой и трезвой жизни, направи их на путь труда, вложи в них стремление к трезвости и духовной бодрости, – говорила она все убыстряясь и убыстряясь, словно полагая, что чем раньше она окончила бы молиться, тем раньше молитва достигла бы небес. – Помоги им, угодник Божий Вонифатие, когда жажда вина станет жечь их гортань, уничтожи их пагубное желание, освежи их уста небесною прохладою, просвети их очи, постави их ноги на скале веры и надежды, чтобы, оставив свое душевредное пристрастие, влекущее за собой отлучение от Небеснаго Царствия, они, утвердившися в благочестии, удостоились непостыдной мирной кончины и в вечном свете бесконечного Царства Славы достойно прославляли Господа нашего Иисуса Христа со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Животворящим Его Духом во веки веков. Аминь.
Молодой женский голос враз замолчал, словно бы выключился.
– Аминь, – подытожила игуменья. – Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа… Молитву сию следует творить сорок недель, сестра… Никак не менее того… Иначе не внемлят там… Помни, сестра. Не на послушание, на подвиг тебя благословляю…
– Je sais, ma mère, – смиренно, и теперь глухо, и, кажется, безнадежно отвечал женский голос. – Tout ce que je sais…[182]
Раздался добродушный старческий смешок.
– Гордыня, сестра, – смертный грех… Все знает она… Скажи-ка… Наложить бы на тебя эпитимью такову, чтоб не снесть ее тебе до самой кончины!.. Да жаль мне тебя, милая… Ну, дай тебе Господь…
Послышался слабый звук поцелуя – это молодая женщина приложилась к протянутой руке игуменьи.
– Каждый свой подвиг в жизни должен свершить… За други своя… Пусть и небольшой подвиг, сестра… Но ты же подвигнешься за всю Россию… Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа… Аминь.
– Аминь.
Послышались такие твердые и гулкие в пустом xраме шаги, словно бы игуменья шла в солдатских сапогах.
– Спаси Бог, матушка… – произнес вслед ей молодой женский голос. – И вновь, через короткое время, когда за ушедшей хлопнула дверь, женщина страстно позвала: – Господи! Господи! Господи! Помоги теперь нам, нам помоги, Боже мой!
Женский голос прозвучал так же гулко в незаполненном людьми храме, как и шаги. Посмотрите, дорогие мои: коленопреклоненная фигура в монашеском облачении, освещаемая лишь несколькими горящими пред образами лампадками, поднялась с колен, чуть сдвинула со лба апостольник, и стало понятно, что это – Катя. Только очень бледная, с уставшим, аскетичным лицом. Словно бы изваянную из белого коринфского мрамора голову богини увидели мы сейчас.
И тут как будто бликующее дрожащими огнями зеркало возникло пред Катею. Потому что вторая Катя, совершенно и абсолютно такая же, разве что кажущаяся более молодой и цветущей, в таком же черном женском подряснике, возникла пред первой Катей. Обе Кати обнялись и некоторое время молча так стояли – обнявшись. Теперь стало видно, что вторая Катя отличается от первой и одеянием – первая была в глухом апостольнике, а вторая – в простом черном платке.
– Maintenant?[183] – спросила первая Катя, не разжимая объятий.
– Oui, je vais aller jusqu’à l’aube.[184]
– Mère Tatiana bénisse, – словно бы с укором произнесла первая Катя. – Personne ne peut sortir du monastère sans la bénédiction de la mère abbesse.[185]
Вторая Катя захихикала, и тут мы ее уж совершенно узнали, тут стало понятно, что вторая Катя на самом деле – настоящая, наша Катя, а та, что казалась нам первой – ее зеркальное отражение. Обе они уже отстранились друг от друга.
– Je ne suis pas une nonne, – хихикала Катя, – Mashunia, je ne suis pas une nonne, je fais ce que je veux.[186]
– Pendant que vous êtes dans le monastère, demoiselle, vous devez obéir à ses règles.[187]
– Полно тебе, Маша, – сухо сказала Катя по-русски после некоторой паузы.
Тени ходили по страстному лицу Маши. Пахло горящим воском. Свечи потрескивали в тишине.
Да, конечно, мы можем вам, наконец, открыть правду, дорогие мои: только что молитву к Святому Вонифатию возносила княжка Мария Борисовна Кушакова-Телепневская. Да вы и сами уж наверняка догадались.
Маша вдруг вновь порывисто обняла Катю.
– Ну, дай тебе Господь! – прошептала она те же слова, что произнесла игуменья. – Сестра! – горячо прошептала она, по всему вероятию, не вкладывая сейчас в это слово монастырского его значения. – Сестра моя! Сердце мое за тебя болит. – И еще почему-то сказала, не зная, почему, разве Сам Господь Бог в храме Своем вложил ей эти слова в уста: – Смерть твою возьму на себя, сестра.
И Катя ответила так же, еще почти пятьдесят лет не зная, какие слова она произнесла тогда:
– Смерть твою возьму на себя, сестра.
Это можно было сказать только по-русски.
Маша приложила узкую, точно такую же, как у Кати, ладонь, к груди, словно показывая, где у нее болит сердце – там, в самой-самой середине. Слезы вдруг брызнули у Маши из глаз, чего мы ожидать никак не могли, настолько сильным казалось нам юное ее лицо. Но у страстных женских натур, кстати вам тут сказать, слезы всегда очень близко. Слезы, значит, брызнули из Mашинных глаз, и так же неожиданно вдруг заплакала Катя. Если бы у нас, дорогие мои, хоть сколько-нибудь замечались садистские наклонности – чего, разумеется, и близко нет, посколькy мы считаем себя, страшно молвить, внутренне глубоко нежными и романтичными, как, впрочем, все себялюбцы – если бы у нас замечались садистские наклонности, мы бы сейчас насладились этим зрелищем: две сестры, обнявшись посреди полутемной монастырской церкви, тихонько плачут, утирая, как маленькие девочки, слезы кулачками. Это мы их заставили плакать! Мы! Мы довели до слез!
– Et comment savait-il?[188] – спросила Маша, переставши плакать.
– Je devinais… – вновь со смешками отвечала Катя. – Je lui ai envoyé une note avec une personne fiable, avec nos police du district. Nikolai Petrovich avait sauvé la succession d’incendies criminels et a récemment été dans le monastère… Et lui… – она вновь стала серьезной, – Je vous ai écrit pour lui, «Viens…». Juste… il suffit d’écrire… écrire qu’elle était vivante et que je l’aime… Si il largue tout et viennent… Pas besoin de lui pour être là maintenant, dans Peter… Ne pas… Je sens que je ne le fais pas… Voilà pourquoi je l’espère le rencontrer à la maison…[189]
– Il viendra, Katusha! Il va venir![190]
– Да!.. Да!..
Когда Маша, заперев за Катею дверь в монастырской стене, вместе с льнущими к ее ногам собаками шла к сестринским кельям, Катя уже была далеко, потому что Маша долго стояла у стены, прислушиваясь к Kатиным уходящим шагам, а потом просто впуская в себя тихую, чистую ночь и глядя, как на востоке мало-помалу разливается по небу светлая молочная полоса. И вдруг показался над краем земли ослепительный краешек солнца! Солнце красное встало над красной землей!
Маша радостно засмеялась и пошла к себе в келью, трепля по загривкам собак. В келье опустилась на крохотный коврик пред иконою Спасителя и так же радостно начала, крестясь, повторять:
– Спаси ее, Господи! Я верую Тебе! Спаси ее, Господи! Верую, что Ты спасешь! Спаси ее, Господи!
Потом она навзничь легла на низкую узкую свою постель, приложила руку к середине груди, как она это сделала недавно в храме, и самой себе сказала – теперь по-французски:
– Mon Dieu! Comment mes douleurs cardiaques!..[191]
В это время Катя с фонарем в руке уже стояла возле тех кустов, сквозь которые они с Красиным вылезли из потайного хода. Совсем рассвело. С улыбкою Катя посмотрела на примятую рядом траву, не успевшую и до сей поры окончательно распрямиться – настолько велика оказалась сила, примявшая траву к земле. И желание почувствовала Катя сейчас, желание, заставляющее и мужчин, и женщин совершать несвершаемое.
Желание Катя выдохнула – «ффуууу», постаралась выдохнуть, все еще улыбаясь, оглянулась по сторонам – никого. Потом несколько времени прислушивалась. Лес жил своей жизнью, уже полный рассветного птичьего пения, славящего свободу птиц, зверей и людей. Прислушалась, значит, Катя – никого.
Тогда она, с первого раза зажегши спичку, запалила фитиль в фонаре, задвинула стеклышко на нем, закатала на себе подрясник, присела на корточки и так, в левой руке поднимая фонарь, а правой раздвигая кусты, двинулась было голыми коленями вперед.
– Эй, девонька! – раздалось тут у нее за спиною.
Катя от неожиданности ахнула и села на попку, фонарь выронила. Фонарное стекло разбилось, огонек погас. Да тут, под Божием светом, а не в норе какой, фонаря не надобно было, говорим же мы – совсем уже рассвело.
7
Когда Ксюха с мертвым Цветковым на руках вышла на площадь позади Ледового дворца, там, на площади, уже стояла относительная тишина. Общий гул висел над площадью, что – мы уже вам, кажется, говорили, дорогие мои, – что всегда бывает, когда на ограниченном пространстве собирается большое число даже молчащих людей. А может быть, это ветер, тысячекратно ударяя в пластиковые щиты солдат, рождал немолчный однообразный звук. Точно так же ветер поет в песчаниках, перемещая и перемешивая крохотные частички породы. Бывали когда-нибудь в пустыне или хотя бы на границе песков, дорогие мои? Вот и советую никогда не бывать.
Относительная тишина, значит, стояла.
Несколько автоматных очередей, после которых стёкла в чижиковом КАМАЗе осыпались, а сам Чижик уткнулся головою в руль, несколько очередей отзвучали, отрывистые голоса офицеров и единый стук поднимаемых и вновь опускаемых на асфальт щитов отзвучали тоже, как и сотрясшие небо щелчки взводимых автоматных затворов. Все ждали новой команды. Все смотрели на закрытые стеклянные двери. И вот двери эти сами собою отворились, и Ксюха вышла из них.
Мы предугадываем ваши упреки, дорогие мои. Вы готовы нас упрекнуть в недостаточной последовательности. Ведь коль скоро Ксюха оказалась способною вызывать огонь и бурю, почему же мы отказываем ей еще в одном заурядном умении – в способности оживлять мертвых? Тем более, что любовь Ксюхи к Цветкову могла бы подсказать ей простой этот шаг, иногда свойственный богам. Но, во-первых, вы, дорогие мои, читаете пусть и несколько романтическое, но совершенно правдивое повествование, и мы не можем в угоду нашим и вашим, пусть даже самым горячим, желаниям выдумывать тут то, чего не было. Ну, не оживила Ксюха Цветкова. Во-вторых, возможности богов не безграничны. Не хочется это признавать, но приходится. Ксюха явилась войскам не в сияющем златом одеянии, а в самом обычном голубом платье, в своих обрезанных по щиколотку кирзачах. Так очередной римский квестор, трибун или претор, еще не ставший, но желающий стать императором, являлся к своим войскам не в белоснежной тоге и не в златом венце, а в измазанной кровью пурпурной тунике, в солдатском галее[192] без плюмажа, и не скипетр с навершием в виде орла держал он в поднятой руке, а опускал руку на гарду короткого боевого меча. Явившись к своим войскам в голубом платье и кирзачах, Ксюха, по всему вероятию, утратила способность оживлять мертвых – если, конечно, ею обладала прежде, – но зато в понятном и свойском прикиде приобрела возможность воодушевить и направить легионы. B-третьих, Цветкову суждено было погибнуть со славою. А если такая участь кому-нибудь суждена, тут уж не только боги, но и скромные авторы, даже отягощенные, как веригами, непомерным желанием властвовать над собственным текстом, как император над огромной империей, поделать ничего не могут.
Но было еще и четвертое, главное, что позволило Ксюхе защитить себя и попытаться избыть неистощимую водочную струю с русской земли, избыть, не понимая, что защитную корку, слой защитный она хочет содрать с такой же неистощимой почвы, словно бы держащей на материнских руках людей, по-матерински успокаивающих… дающих заснуть… забыться… заснуть… забыться… забыться… не думать… спать… спать… спать… – а вот оживить Цветкова оно же, это четвертое и главное, уже знаемое Ксюхой, уже чувствуемое ею внутри себя, – не дало. Иначе aнгельской сути стал бы лишен… Но об этом потом, дорогие мои, потом, уже в самом скором времени. Не сомневайтесь.
Ксюха вышла, значит, с Цветковым на руках, и тут же другие руки подхватили легонькое тело и положили на пластиковый полицейский щит. Шесть фигур в форме подняли щит с Цветковым над своими касками, и так же над касками Цветков на щите поплыл, передаваемый из рук в руки, от батальона к батальону, от роты к роте. Приближалась уже ночь, уже порядком стемнело, поэтому нам не очень хорошо видно, как там мертвый Цветков путешествует от подразделения к подразделению. Виден нам только красный его затылок, горящий в сумерках, как стоп-сигнал, или голые красные ступни, если щит с Цветковым случайно переворачивали, и его несли головою вперед как живого – ступни, тоже светящие катафотными огнями.
Тут, значит, Ксюха и отдала эту страшную команду, зачастую воспринимаемую в России слишком буквально, хотя и в воинском строю имеющую вполне определённое значение. Отдала эту команду, не только страшную, но и странную в устах женщины. Обычно женщины призваны Богом любить порядок – во всяком случае, и в отношениях с мужчинами, или, скажем, у себя на кухне, не правда ли? Ну, так считается… А если – ну, так считается, – нет у нее ни в чем порядка, то это не женщина, а дура и шлюха… Редкая женщина разрешает мужчине все, что угодно… Разве что очень любящая… А тут Ксюха отдала эту команду, которую все ждали, но которой никто не ожидал от женщины, вышедшей из стеклянных дверей с мертвым телом на руках:
– Вольно!
Команда эта прозвучала не слишком громко, но тут же десятки офицерских голосов покатили по небу:
– Оооо… ль… но! Оооо… ль… но!.. Оооо… ль… но! Оооо… ль… но!..
Знаете, чем американская армия отличается от российской, дорогие мои? В общем, почти ничем. В американской армии при команде «вольно!» надо расставить ноги на ширину плеч и скрестить ладони сзади у себя на копчике. Попробуйте вот сами. Сразу убедитесь, что о свободном, а тем более – вольном самочувствии в такой позе речи не идет. А в российской армии при команде «вольно!» разрешается ослабить, то есть – согнуть одну ногу в колене. Тут-то как раз и появляется во всем теле прекрасная нега… Совершенно излишняя при нахождении в строю.
Мы с вами, дорогие мои, сразу за командой «вольно!» ожидаем команду «разойдись!». Но Ксюха такой команды не отдала, потому что вольные разошедшиеся мужики с оружием в руках – не шутки, это понимает любая женщина в России.
К Ксюхе подошел генерал. Очень красивый, большой, толстый и представительный в фуражке с высокой тульей. Фамилия генерала, кстати тут сказать, нам известна, но в желании сохранить военную тайну мы вам ее не назовем. Тем более, что все генералы всех армий мира примерно одинаковы. Это солдаты, как ни парадоксально, отличаются разнообразием.
Генерал сначала отдал честь, а потом фуражку свою снял и держал ее на согнутой левой руке, словно штатский дипломат – свой цилиндр, представляясь главе государства, а поскольку генерал несколько наклонялся к Ксюхе, возможно, желая выразить ей всяческое почтение, то если бы не черный цвет фуражки, в сумерках могло показаться, что это официант стоит с полотенцем на руке. Ксюха сказала генералу лишь несколько слов, и тут же он надел фуражку и вновь взял под козырек.
Повзводно солдаты, громыхая щитами, начали залезать в машины, скрываясь под тентами, словно в коробках, машины одна за другою всфыркивали и выезжали за ворота. На пустом поле стали видны расставленные через равные промежутки голубые десятикубовые пластмассовые баллоны – до недавнего времени в них была налита водка, а теперь баллоны оказались, как вы сами понимаете, совершенно пусты, и красные их вентили, вырванные из своих винтовых отверстий, валялись рядом.
В топоте ног, в шуме моторов и в шелесте шин по горячему августовскому асфальту нам не слышно, что еще говорит Ксюха генералу. Ксюха ведь самая обыкновенная женщина, дорогие мои, обычная девчонка из провинциального Глухово-Колпаковского села Кутье-Борисово, она не может, даже будучи весьма крупного сложения, не может громогласно отдавать приказы генералам. Правда, генералы, как вы знаете, могут громогласно приказы исполнять.
Ксюха, значит, что-то еще сказала генералу, и тот, продолжая тыкать черными форменными рукавами в воздух, потрясенно спросил:
– Как, вообще? Никогда?
Трагический генеральский бас полетел эхом над полем.
– …да? …да? …да?…
Мы видели утвердительный кивок Ксюхи. Генерал оглянулся на стеклянные двери, из которых вышла Ксюха, потом вновь взглянул на Ксюху, ожидая, возможно, каких-либо с ее стороны возжения огней или обрушения строительных конструкций. Но Ксюха теперь, как, впрочем, и всегда, стала, повторяем, совершенно обычной провинциальной девушкой, пусть и очень крепкого телосложения.
– Слушаюсь… – потерянно сказал генерал.
– …усь… усь… усь… – печально отозвалось небо.
Ксюха вновь что-то ему сказала. Очередной тентованный грузовичок как раз проехал мимо собеседников, на мгновение закрыв их от нашего с вами взгляда, поэтому громогласный генеральский хохот оказался услышанным нами раньше, чем мы вновь увидели Ксюху и хохочущего военачальника.
– Ха-ха-ха-ха-ха… Ха-ха-ха-ха-ха… Ха-ха-ха-ха-ха… – падало с небес, перекрывая все остальные звуки. Генерал даже как-то, знаете ли, откинулся назад и, уронив покатившуюся фуражку, взялся обеими руками за брюхо, чтобы удобнее было смеяться, ставши при этом чрезвычайно похожим на персонажа репинской картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Потом громогласно спросил:
– Всем? Любого звания?
Ксюха вновь утвердительно кивнула, и генерал отчего-то сразу посерьезнел и еще раз произнес:
– Слушаюсь.
– …усь… усь… усь… – теперь прозвучало куда тверже.
Генерал поднял фуражку, рывком нахлобучил ее на себя, козырнул, повернулся через левое плечо и пошагал к черному авто с тонированными стеклами, припаркованному неподалеку.
Хотя Kсюхиных слов невозможно было расслышать, мы, пользуясь своим авторским положением, дорогие мои, можем вам сказать, что Ксюха, во-первых и в-главных, сообщила генералу, что государственная водка личному составу, а также и офицерскому, и генеральскому корпусу отныне выдаваться не будет, и мало того: объявляется сухой закон! Сухой закон! С этой минуты объявляется сухой закон! Для всех! А во-вторых, всем генералам и адмиралам, офицерам, сержантам и старшинам, солдатам и матросам – всем-всем-всем с завтрашнего утра предстоит поголовное бритье лобков, яиц, ягодиц вокруг анальных отверстий и самих половых членов, поскольку у некоторых, в том числе и у…, но мы не можем тут заниматься саморекламой, дорогие мои, у некоторых волосы растут и на членах, да-с. Вот именно это последнее распоряжение, кстати вам тут сказать, и вызвало искреннее веселье генерала, хотя что тут смешного, мы понять не беремся. Ничего смешного.
Может быть, веселье генерала вызвало еще одно Kсюхино распоряжение – помывка решительно всех жителей, как военных, так и штатских, теперь должна происходить не по банным талонам раз в неделю, а ежедневно, причем два раза в день.
Вот это действительно смешно. Это мы можем понять – смешно. Ведь что делать с собою чистому человеку? Куда пойти? Какие совершать поступки? Возможно ли тщательно вымытому делать не очень чистые дела? И удадутся ли грязные дела чистому человеку? Загадка.
Через несколько минут Ксюха оказалась совершенно одна в сгустившейся тьме. Ледовый Дворец за ее спиною не светил ни одним окном. Ни одной автомашины, кроме тускло поблескивающего в темноте КАМАЗa, не стало вокруг.
Ксюха повернулась, подошла к КАМАЗовской дверце со стороны водителя, открыла эту дверцу и вытащила Чижика. Пачкаясь в крови, она перенесла тело вокруг кабины и, по-мужичьи хэкнув, посадила его на пассажирское сиденье. Чижик обрушился было вперед на черное пластмассовое торпедо, как раз напротив пассажирского сиденья делающее почему-то странный выгиб навстречу сидящему, обрушился, словно бы желая хоть после смерти вновь взяться за ручку штурмовика, по-прежнему стартующего на застрявшем в углу осколке ветрового стекла, или же трахнуть красотку Келли Хендерсон, по-прежнему стоящую раком, призывно оглядываясь на смотрящего. Ксюха прислонила Чижика к подголовнику сиденья, протянула руку, выдрала из резинового ободка осколок стекла с Келли и штурмовиком, об колено разломала пополам, Келли выбросила, а штурмовик положила Чижику на колени. Потом она вновь обошла кабину, одним махом, подсучивши платье, взобралась на сиденье, повернула торчащий в замке ключ.
Чижиковский КАМАЗ, тепло урча двигателем, выехал в опустевший город.
Встречая только патрульные машины и бронетранспортеры – стоящие в открытых люках командиры машин вытягивались и отдавали Ксюхе честь, их белые лица выделялись во тьме между черными ушами танковых шлемофонов, – Ксюха приехала к себе на свалку, провела КАМАЗ под поднятым шлагбаумом. Ослепительный свет фар ударил в дверь знакомой нам с вами норы.
Ксюха припарковалась вплотную к двери, выключила двигатель и прислушалась. Стояла полная тишина.
Она тяжело спрыгнула на землю. Несколько собак беззвучно проявились из тьмы, подошли к Ксюхе и легли рядом.
– Соба-ачки, – со вздохом сказала Ксюха. И это было первое и последнее слово, которое она произнесла в тот вечер после разговора с генералом.
Оставив тело Чижика в кабине, она спустилась в пустую нору, разделась догола, легла на их с Цветковым постель, накрылась рваным одеялом, повернулась к стене и мгновенно заснула.
Теперь мы должны сделать еще одно признание, дорогие мои.
Дело в том, что мы собрались было во всех красках живописать развернувшуюся со следующего утра картину похорон Цветкова и Чижика. И как их несли на руках от норы до вырытых могил, и сами могилы, и почетный караул, и троекратный залп, и Бог знает еще чего всякого. Так вот: мы отказываемся от этого намерения. Во-первых, мы сами похорон не любим, поскольку они на нас оказывают гнетущее впечатление, не только вызывая параноидальные мысли о когда-либо – не скоро! не скоро! – пройдущих собственных похоронах, наверняка куда более скромных, чем похороны Цветкова и Чижика, но и напоминая об уже прошедших в разное время похоронах и смертях любимых нами людей и животных. А во-вторых, картина похорон ничего нового в наше правдивое повествование не внесет. И сцену нового прощания Ксюхи с Цветковым нет у нас сил описывать. Ну, нету…
Единственное, что мы считаем возможным сейчас присовокупить к нашему правдивому повествованию, так лишь то, что утром, тяжело проснувшись, Ксюха одним рывком сдернула со стены старую шпалеру и убедилась, что емкость для водки, прежде помещавшаяся за шпалерой, отсутствует. В нише зияла пустота. Ксюха мгновенно взглянула на темную пропасть на месте огромной бутыли; на измученном лице Ксюхи не отразилось ничего.
А теперь, после окончания похоронной церемонии, Ксюха и Настена стояли, обнявшись; это, кстати вам сказать, часто случается с женами одного и того же человека, когда человек этот умирает – обе, или сколько их случается, вдов, – обе вдовы обнимаются, им более некого делить. Ну, разве что имущество. Но у Цветкова никакого имущества не было, квартира его принадлежала Институту, да и по-настоящему любившие женщины – такие еще встречаются, дорогие мои, ей-Богу, – по-настоящему любившие женщины не думают в такую минуту ни о каком имуществе. А Настена все-таки любила Цветкова, да-с… И любила Чижика… И так тоже бывает… Настена сейчас сама стала словно бы неживой; спросить бы ее – она сказала бы, что нету у нее сил теперь жить. И очень скоро ей воздалось по вере ее.
Так Ксюха и Настена стояли, значит, обнявшись, словно бы не слыша топота уходящего, только что троекратно отсалютовавшего отделения солдат, топота – уже в отдалении – нескольких батальонов, державших оцепление. Похоронная церемония закончилась.
Похоронили Цветкова и Чижика на холме над свалкою, куда еще не дошли нескончаемые волны мусора. Глиняные отвалы от двух могил разровняли в спешке не очень-то ровно, поэтому из-под отвалов виднелся кусок пластиковой черной трубы; Ксюха пнула его в сторону от могил – тот спружинил, но остался на месте. Ксюха потянула сильнее. Обнажилась вся труба, уходящая в землю за метра два от нового захоронения – в одну сторону, и в самую глубь холма – в другую сторону. Это была стандартная десятидюймовая полиэтиленовая труба, по которым обычно подавали холодную воду.
– Бог с ним, Ксюха, – мертвым голосом сказала Настена. – Пойдем.
– Нет, – сказала Ксюха.
– Может, разрезать? – предложил за Kсюхиной спиною один из прежних обитателей норы. – Разрежем, хрен ли!
– Нет.
Ксюха подняла голову и посмотрела вслед уходящим ротам охранения. И немедленно идущий впереди рот майор оглянулся и, увидев останавливающий жест Ксюхи, крикнул:
– Сто-ой!.. Кру-у-хом! Шшагеем… арш!
Через десять минут человек триста солдат копали саперными лопатками землю вдоль трубы. Труба постепенно обнажалась, как обнажается раскапываемая археологами древняя крепостная стена. Поначалу-то принялись раскапывать трубу с противоположного конца, со стороны холма, но сразу выяснилось, что труба там изворачивается и уходит вертикально в глубь земли. Можно было бы, конечно, поставить вокруг трубы несколько служивых и, время от времени их меняя, докопаться хоть до раскаленной магмы в центре планеты, но Ксюха почему-то сказала:
– Нет. С той стороны. – И показала рукою. – Трубу не трогать, – еще распорядилась Ксюха.
– Не трогать… Трубу не трогать… Не трогать… – пошло по солдатской цепи.
Ну, вы сами знаете, дорогие мои: русский человек как ребенок. Ежли ему говорят, что чего-либо трогать нельзя, обязательно найдется кто-то вздорный, который тронет. И вот уже измазанная в глине лопатка с размаху – чуть было мы не написали «врезалась в трубу» – нет, ударила в трубу, тщетно ударила, не перерезав, а только оставив на очищенной черной поверхности слабую белесую царапину. Солдат, видимый нами со спины, вновь поднял лопатку для удара, и тут же спину его, не защищенную в этот раз бронежилетом, прошила автоматная очередь – на черной гимнастерке мгновенно возникли пять или шесть брызнувших кровью дырочек. Мы не знаем, кто стрелял, да и какая разница? Солдат лопатку выронил и упал ничком прямо на трубу, тут же его за ноги потащили прочь; невидимое нам лицо убитого оставляло полосу в рыхлом глиняном отвале.
– Не трогать, – повторила Ксюха.
Прошло еще минут двадцать безмолвного сопения, только звуки тяжело входящих в глину лезвий слышались; откопали уже, наверное, с километр. Выяснилось, что труба огибает полигон и резко сворачивает вновь к нему напротив дома Лектора. Хозяин дома, как вы сами понимаете, дорогие мои, уже сутки как отсутствовал, в дом никто не заходил.
Под терриконами мусора раскапывать было, конечно, невозможно, и солдаты полукругом встали у задней стены и начали копать под домом. Обнажилась входящая из-под ленточного фундамента в пол та же самая труба.
Ксюха взялась за дверную ручку, запертая дверь повиновалась ей и открылась. Ксюха оглянулась, и идущие за нею люди остановились. Ксюха вошла. Настена встала у двери, как на часах.
В комнате, в которой оказалась Ксюха, помещался наблюдательный пункт. Сейчас никого тут не было. Но десятка полтора мониторов, настроенных на различные участки Полигона твердых бытовых отходов Семнадцатой инспекции Чистого города, светились. И на них Ксюха увидела и свежую могилу, и Настену, стоящую у двери, в которую она только что вошла, и свою нору с неотогнанным чижиковским КАМАЗом, и, главное, странное движение войск вокруг полигона. Со всех сторон к полигону стягивались войска.
Ксюха посмотрела на огромный селектор у противоположной стены, подвинула было к себе микрофон на стальном держателе, но ничего в микрофон не произнесла.
Черная труба вертикально выходила из пола в соседней комнате, оканчиваясь изонутым патрубком, к которому присоединен был кран с вентилем, но не водопроводным в три четверти дюйма, а большим, напоминающим кран пожарного гидранта. Ксюха подошла и повернула вентиль. Хлынула мутноватая белесая чуть мы не написали – «вода», нет, мутноватая жидкость, напоминающая второй или третий смыв сухого риса. Не надо было обладать способностями дегустатора, чтобы идентифицировать ее. Pезко запахло дешевой разливною водкой. Ксюха вздохнула. Почему-то она вновь сейчас не оказалась в золотом, огненном своем, истинном своем одеянии, мы уже вам объясняли, дорогие мои: Ксюха была простая деревенская баба.
Ксюха не озаботилась подставить хоть какую емкость под неистощимую струю; за несколько мгновений водка растеклась по полу, стала разливаться из-под дома вокруг фундамента и струйками, а потом и потоками потекла вниз – дом Лектора помещался на возвышении, и теперь водка свободно затопляла полигон.
К этой минуте относятся и первые автоматные очереди. Ксюха подошла к мониторам и успела увидеть, как Настена падает возле двери, больше ей не нужно стало исживать в себе муку. Золотой Настенин браслет слетел с ее руки после падения и оказался в стороне от убитой. К безглазой змейке обратились сразу несколько десятков живых глаз.
Тотчас же посыпались автоматные очереди в ответ. Батальон, только что охраняющий похоронную церемонию, вступил в бой.
– Пррекратить огонь! – услышала Ксюха отдаленную команду. Стрельба прекратилась. Ксюха еще ждала, прислушиваясь. Раздался характерный звук, который издает мегафон, когда говорящий в него, прежде, чем начать говорить, рефлекторно дует в пуговку микрофона, словно бы продувая курительную трубку.
– Я полковник Нежданов, – раздался мегафонный голос. – Слушать меня!.. Имею приказ при сопротивлении открывать огонь на поражение! – это уведовление было излишним, поскольку огонь на поражение подчиненные Нежданова уже открыли. – Всем сложить оружие!.. Женщина! Женщина, вы слышите меня?
В пустоте дома Лектора Ксюха, стоящая уже по щиколотку в водке, молча кивнула головой.
– Женщина! Выходите с поднятыми руками!.. То есть, нет… – голос в мегафоне на мгновение запнулся. – Всем сложить оружие и вынести женщину со связанными руками и ногами! Сами свяжите и вынесите! Вынести, блин, свою рыжую суку сюда, ко мне! – вдруг заистерил полковник. – Вынести, блин! Даю минуту! Через минуту открываю огонь! Открываю огонь!
– Я войду туда, в дом, – совсем рядом, за стеною, раздалось в ответ. – Не стреляйте! Я ее уговорю! Не стреляйте!
– Добро! – сказал Нежданов. – Минута, блин!
Когда майор, командир оцепления, оттащил от двери тело Настены, открыл дверь и вошел внутрь, Ксюхи там уже не оказалось. Через порог, лишь только дверь отворилась, потоком хлынула водка. Майор, заливая сапоги, обошел обе комнаты, заглянул под офисные столы, на которых стояли мониторы – вокруг ножек столов уже образовались водоворотики, подвигал кресла на колесиках, пооткрывал дверцы тумбы, на которой помещался селектор, в соседней комнате попытался завернуть вентиль – тщетно, вентиль более не крутился ни в какую сторону – и вышел наружу.
– Никого нет! – закричал он, разводя руками. Пули бессчетно ударили в него, майор упал почему-то вбок, в сторону, как раз поперек оттащенной им в сторону Настены.
– По рыжей тетке огонь без предупреждения! – раздался мегафонный приказ. – Тетку урыть, на хрен! Огонь! Огонь! Всех теток урыть! Всех теток!
Мы не станем описывать, дорогие мои, как армия занимала нашу свалку и искала Ксюху. Ничего тут нет интересного, солдаты всех времен и всех армий мира ведут себя с женщинами в сходных обстоятельствах совершенно одинаково, а Ксюху они не нашли, потому что Ксюха давно уже шла домой, на родину.
А потом свалку всю сожгли. На всякий случай. Вместе с людьми, и крысами, и собаками, и кошками, и домиком Лектора. Ну, что ж тут горевать: и Костя пожег людей, и Ксюха, странно было бы ожидать, что ответные меры прольются здесь молоком и медом. Но Ксюха, как мы вам уже сообщали, к этому времени давно шла домой, стараясь не вдыхать чудовищный запах догоняющего ее дыма – дышала через мокрую тряпочку. А потом и дым отстал, или просто ветер переменился, подул в другую сторону. А свалка продолжала гореть еще несколько дней, потому что никто ее и не собирался тушить. И тлела потом, распространяя диоксин, кажется, вечно – уж несколько месяцев точно.
Шла Ксюха очень долго. Если по пути попадался настоящий лес, а не сквозной перелесок, она уходила в самую чащу, навзничь ложилась на сухую траву, уже начинающую приобретать желто-серый оттенок позднего северного августа, разбрасывала руки, поворачивала их ладонями вверх, словно бы желая большими своими ладонями уловить сквозь ветви некие посылаемые ей с неба сигналы – знаки одобрения и поддержки. И ладони Kсюхины тут же начинали теплеть, и ноги Kсюхины в обрезанных кирзачах, так же, как и руки, разбросанные на стороны, тоже сами по себе начинали теплеть, и Ксюха, благодарно улыбаясь небу, посылала это тепло сначала в сердце, а потом осторожно и медленно опускала тепло в живот, где уже начинал созревать маленький-маленький Константин Константинович Цветков Второй. Ксюхе казалось, что она сквозь собственные кожу и стенку матки видит, какие у маленького Кости ручки и ножки, попочка и маленький-маленький писюнчик над крохотною мошоночкой, и главное, такой же, как у Кости-старшего, остренький буратиновский носик, нежные красные волосики на головке. Ксюхе казалось, будто бы и усы Kостиковы видит она на мальчике, и, понимая, конечно, что никаких усов на Константине Константиновиче Втором быть никак не может, Ксюха сама с собою начинала тихонько смеяться. Потом она садилась, доставала из сумки хлеб и ела, откусывая от батона куски боковыми резцами, как волчица, и запивала хлеб водою из старой пластиковой бутылки.
Деревни по краям дороги, вдоль которой шла Ксюха, жили своею неизвестной и непонятной жизнью. Иногда в них слышались звуки, человеческие голоса, cобачий лай, иногда – резко отдаваемые команды. «Ста-ааа-новись!..»… Вслед за командами слышался топот десятков ног. «Паа… машинам!»… Тогда слышалось еще короткое фырчание, с которым заводятся автомобильные двигатели. Ксюха слышала, как машины уезжают из деревень или возвращаются в деревни и видела, конечно, как машины катили по шоссе. «Ста-ааа-новись!» – издалека доносилось до Ксюхи. Издалека – потому что Ксюха деревни обходила стороною, да и вообще шла не по самой дороге, а вдоль нее полем или лесом. Много раз Ксюхе встречались собаки, все они, подбегая, скалились и рычали, но за несколько шагов вдруг ложились на живот и, поскуливая, подползали к ней. Мутные слезы капали из распахнутых собачьих глаз. Ксюха тогда наклонялась или приседала на корточки и гладила каждую собаку по голове, как ребенка. Собаки не смели следовать за Ксюхой, Ксюха шла в одиночестве, только один-единственный раз, уже близко от Кутье-Борисова, семья лосей – огромный сохач, юная изящная лосиха и совсем маленький лосенок – довольно долго держались позади, не догоняя и не отставая, пока Ксюха негромно не сказала им:
– Дальше не надо за мной идти. Потом приходите, летом.
Лоси остановились. Лосенок, вскидывая тонюсенькие ножки, подбежал к Ксюхе, она обняла его за шею и сказала: – Костик маленький… Не бойся, никто тебя не убьет.
Лосенок коротко вскрикнул, запрыгал вокруги Ксюхи, сохач поднял украшенную чудовищной величины рогами голову и заревел. Все трое повернулись и двинулись, обламывая сухие ветви и шурша листвою. После ухода лосей, вновь оставшись в одиночестве, Ксюха прошла еще только час или два. Прекрасный смешанный лес ненадолго уступил место темному сырому ельнику, а вскоре – сухим розовым глухово-колпаковским соснам. Далеко-далеко за верхушками елей уже виделась черная, когда-то бывшая золотою макушка колокольни.
Ксюха вышла на заросший метровой травою холм, перешла через сдвоенный овраг, из-за разительного сходства форм зовущийся у них в деревне Борисовой пиською, и начала спускаться вниз, в Кутье-Борисово, оставив позади, на холме, валяющиеся в траве черные трубы, ну, точно такие, какую отрыли при похоронах. Трубы валялись там без всякого видимого порядка, некоторые оказались разрезанными. Ксюха не обратила на них никакого внимания.
Когда-то между сдвоенным оврагом под холмом и деревнею помещался монастырь, называвшийся в округе Кутьим, а официально – Высокоборисовским Богоявленским женским монастырем. Ксюха помнила рассказы из далекого своего детства, что когда-то – это Ксюхе рассказывала бабушка, вдруг исчезнувшая из ее, Kсюхиной жизни, а бабушке, по всему вероятию, сама видела Игуменью монастыря Преподобную Екатерину, когда по большим церковным праздникам в монастырь допускались верующие или когда на Великий Праздник Богоявления – а монастырь-то назывался Богоявленский, значит, Крещенье было еще и монастырским праздником – все монахини во главе с Игуменьей в белых своих одеждах окунались, осенив себя крестом, в прорубленную в Нянге прорубь. А Игуменья Екатерина, рассказывала Ксюхе бабушка, по слухам, происходила не из простых крестьянок, но в монастыре начинала с послушницы, и в послушницах якобы носила имя Мария, а, принявши сан, приняла вместе с ним и новое монашеское имя – Екатерина. Так вот знала Ксюха, что благословение Преподобной Екатерины приносило счастье и здоровых детей молодоженам, и когда Екатерина выходила к верующим – редко, очень редко, – то выстраивалась к ней очередь молодоженов…
И что-то с памятью у Ксюхи стало теперь, в родном селе.
В разрушенном монастыре когда-то помещался Глухово-Колпаковский детский дом, где и жила до восемнадцатого своего года Ксюха. Сюда свозили сирот со всей области. По разрушенным камням монастыря, под облупленными и истертыми фресками бегали стайки детей, и невинные, и страшные в непосредственной детской своей извращенности вели игры, но сейчас, спустившись с холма и подойдя к месту своей юности, к месту, в котором Ксюха провела почти двенадцать лет, она вдруг ничего не вспомнила, не испытала никаких чувств. Монастырь оказался совершенно пуст, в лишенных рам окнах свистел ветер. Ксюха постояла, не заходя внутрь, хотя прежде собиралась поселиться в бывшей своей комнате на втором этаже шестого корпуса – в одной из бывших монастырских келейных. Ксюха, значит, молча постояла у разрушенного своего дома – настолько разрушенного, что здесь, казалось, прокатилась с артобстрелами и тяжелыми боями война, потом вдруг низко поклонилась, хотела перекреститься на крест над куполом, но крест отсутствовал. Тогда Ксюха сунула руку за пазуху, и там, между огромными ee грудями, нашелся маленький золотой крестик, которого прежде у Ксюхи и в заводе не было. Ксюха совершено не удивилась, приложилась к нему толстыми своими губами, перекрестилась на него и сунула обратно, между сиськами.
Ветер дунул; полетела листва, на земле на миг возникли водовороты желтых по ранней осени листьев, и Ксюхе послышались в шорохе листвы, в завывании ветра слова:
– Que Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu bénisse votre fils.[193]
– Спаси Господи, – кротко отвечала Ксюха, словно бы действительно услышала и поняла принесенные ветром слова. – Спаси Господи, – повторила она, кланяясь в ту сторону, откуда прилетел ветер.
Ксюха прошла по совершенно пустой, как и ее бывший детский дом, деревне, не заботясь, куда и зачем идет.
На самом краю Кутье-Борисова стоял домик в два окна под огромным, да что – под чудовищных размеров дубом; дощатый почерневший забор накренился, свидетельствуя о долгом отсутствии хозяев, но земля меж забором и крыльцом дома сверкала изумрудною, удивительной для сентября ровной зеленью. Калитка была приоткрыта. Ксюха вошла. На столбике калитки висела ржавая из скрученной проволоки петля, Ксюха остановилась и накинула петлю на столбик ограды, оба столбика сразу оказались прижаты и – чуть мы не написали «намертво» – плотно соединены друг с другом. Заперевши калитку, Ксюха засмеялась неизвестно чему – может быть, тому, что больше сюда никто – вы понимаете, дорогие мои? – никто без воли ее, Ксюхи, не войдет.
С дуба соскочила и бросилась к Ксюхе молодая серо-палевая белочка с рыжими кисточками на ушках, бесстрашно прыгнула Ксюхе на колени.
– Сейчас, сейчас, – добродушно сказала Ксюха. Она достала из мешка остатки хлеба и протянула на открытой широченной своей ладони. Белочка тут же схватила корку обеими лапками, спрыгнула на траву и принялась грызть.
Ксюха еще раз сунула руку в мешок и достала свернутый в трубочку вощеный лист, развернула его пред собою, словно карту будущего, пока еще не пройденного маршрута. Это был Джотто, репродукция, принесенная в нору Цветковым и несколько дней, до всех событий, висевшая на старой шпалере на булавке – копия великой фрески, фрески из Капелла дель Арена в Падуе.
Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь Иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого, родившегося в эту ночь. Потому Святое Семейство по дороге, указанной Божьим Ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет, в теплый и спокойный Египет. Бежало Святое Семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с Младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на Жену с Ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеству людей, но Ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал Ангел дорогу – туда, вперед, в благословенный Египет. Потом Младенец вернется, Он придет, чтобы спасти нас, но Самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалось на лике Марии, а тревога – на лице Иосифа, вот почему суровый лик Младенца обращен был не вперед, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где нет спасения – никому.
Но, быть может, Младенцу еще предстояло вновь родиться, а Ксюхе еще только предстояло вместе с ним войти в свой дом.
Неистощимая
Буквально несколько минут, дорогие мои, есть у нас с вами, а также у всех, находящихся в бывшем Bанькином кабинете – между прибытием на собственное место работы убиенного было губернатора Голубовича И.С. и мгновением, в котором двое вимовцев потащили несчастную Катерину в большой зал. Мы говорим «Большой зал», потому что в глухово-колпаковском Белом доме у Ванечки нашего был еще Малый зал, как и во всех приличных заведениях, работающих с населением – в театрах там, в храмах, на призывных пунктах, в моргах и проч.
На самом деле у нас с вами, дорогие мои, времени вагон, целый железнодорожный состав времени – вечность, отпущенная автору и, соответствнно, его читателям – то есть, вам! У вас в запасе вечность! А вот у большинства людей, присутствующих сейчас в кабинете и в приемной губернатора Глухово-Колпаковской области времени почти не осталось. Потому что народ… население, вы понимаете?.. электорат… то есть граждане начали собираться возле бывшего монастыря еще с ночи. Но об этом потом, чуть позже, а сейчас нам хочется проследить за взаимоотношениями всего нескольких, особо симпатичных нам людей. Быть может, симпатия к некоторым покажется вам странной, дорогие мои, но мы любим всех своих персонажей, даже самых гадких, и это – чистая, не замутненная никакими меркантильными или иными паскудными соображениями любовь.
Вернемся в Bанькин кабинет.
Лысый усачек в вимовской форме, подававший Мормышкину бумаги на подпись, тоже отправился в Большой зал, поэтому все секъюрити, только что блистательно отработавшие эпизод с попыткой покушения на охраняемое лицо, несколько расслабились, внутренне полагая, что – пока все, ребята, пока курим… Курить, разумеется, без разрешения никто не отправился, но расслабились несколько, да… Может быть, поэтому некоторое шевеление под Bанькиным столом, за которым утвердился и только что подписывал первые свои указы Виталий Алексеевич Мормышкин, попервоначалу прошло для охраны незамеченным. Но тут Мормышкин – чуть было мы не написали «протянул» – тут Мормышкин вытянул ноги, уперся ими в нечто и через несколько мгновений понял, что это нечто – живое.
Тут мы должны признаться вам, дорогие мои, что до Мормышкина иногда доходило не сразу. Kряхтя, Мормышкин заглянул под столешницу и встретил распахнутый навстречу его взгляду сияющий женский взгляд. Взгляд такой проникновенности встречается только на рекламе вагинальных прокладок, честно вам сказать, дорогие мои.
Мормышкин поступил так – сначала завизжал, как поросенок:
– Ииииииии! Иииииииии! Ииииииии!
А уж потом заверещал:
– Ай! Аааай! Тут баба! Баба! Опять баба!
Через секунду женщину вытащили из-под стола. Это оказалась чрезвычайно сексапильная молодая блондинка – в обтягивающих замечательной формы попку черных леггинсах Nina Fiammatti – чтоб вы знали, дорогие мои – сто десять баксов они стоят в бутике, в такой же брендовой малиновой маечке Begto за девяносто, сквозь которую торчали каменные, словно бы тетка сейчас неистощимо текла, соски; лифчик на ней отсутствовал – и в малиновых же симпатичных кроссовках неизвестной нам фирмы – под цвет майки. Мы называем бренды и цены не для того, чтобы сделать бесплатную рекламу фирмам, а потому что названия оные начертаны были на самих вещах – Nina Fiammatti на попке, а Begto – на левой сиське, как раз над соском, а мы сейчас – впрочем, как и всегда, – стремимся наиболее полно и адекватно живописать изображаемую для вас картину, дорогие мои.
А кроссовки оказались не маркированные, но мы можем точно сказать, что сейчас меньше, чем за триста баксов, таких убойных sneakers[194] вы не купите.
Прикинутую тетку, разумеется, тут же заломали, многожды облапав ее везде, где можно. То есть, наверное, нигде нельзя было, но облапали везде. Ну, в охране же люди служат, а не роботы, дело простительное. Тетку с завернутыми за спину руками пристроили лицом на стол, а поскольку ногами она стояла на полу, получившаяся поза вызвала у всех присутствующих вполне определенные ассоциации. Мужики молча засопели. Повисла пауза, сдобренная запахом едкого пота. Тут же перед Мормышкиным положили розовый бабский смартфон с включенной на запись камерой. Новый губернатор сделал короткое движение указательным пальцем, и услужливые и сильные руки смартфон разломали пополам, вытащили симку и ее тоже разломали пополам, а потом и каждую половинку симки еще пополам. Упавшие на Bанькин наборный паркет половинки смартфона треснули, и еще, и еще раз треснули под каблуками, но уж больше не переламывались, а только оставляли царапины на паркете. Тетка и бровью не повела.
– Ты… кто?.. – тяжело спросил Мормышкин и вновь незаметно для самого себя почесался между ног. – Чего… надо?..
Он раздраженно поискал глазами лысого, чтобы спросить, почему это опять, опять! у него тут какая-то сука, он же сказал – никаких больше баб! словно забыл, что лысый шел сейчас по коридору вслед за вимовцами, тащившими мертвую Катерину в Большой зал; вспомнил и вновь обратил взор свой на женщину. Мормышкин не взял в разумение, что присутствие каких бы то ни было теток в бывшем кабинете Ивана Сергеевича Голубовича не является фактом, выходящим из ряда вон, а, наоборот, это обстоятельство скорее следует признать совершенно заурядным. Может, тут тетки под каждым листиком прячутся, как мухи. «Где под каждым ей листом был готов и стол, и дом…» Помните, мои дорогие? Это, чтоб вы знали, из сочинения французского баснописца Жана де Лафонтена, беззастенчиво переписанного, что называется, один в один русским литератором Иваном Крыловым, открывшим сей немудрящий творческий алгоритм для современных авторов. А ушлые тетки, дорогие мои, прячутся везде, куда ни шагни!
– Ты… – повторный раздался тяжелый скрип. – Ты… кто?.. Чего? А?.. Которого?..
– Я Маргарита, – ничуть не обинуясь, отвечала стоящая в камасутровской позе барышня. – Маргарита Ящикова, колумнистка «Клеопатры, XXI век» добавила она, вполне резонно предполагая, что ни один из присутствующих не знает названия ее журнала, как и, по всему вероятию, названий еще каких-либо периодических изданий, как и имени Клеопатры. – Клеопатра – царица египетская, очень красивая, а у нас журнал «Клеопатра, XXI век», – еще добавила Ящикова. Про то, что никто из присутствующих понятия не имеет, что такое «колумнистка», Ящикова почему-то не подумала, никак оное понятие не разъяснила, поэтому слово «колумнистка» навсегда осталось для Мормышкина и его присных таинственным, и, разумеется, опасным, как все таинственное и неизвестное, и – неизъяснимо влекущим. Колумнистка. Очень красивая.
– Мне назначено интервью с губернатором, вот я и пришла.
И Маргарита ослепительно, совершенно убойно улыбнулась одной половиной лица.
Тут мы вам должны сообщить, дорогие мои, что такой стебный журнал – «Клеопатра, XXI век» – действительно существует. За логотип они, ни у кого разрешения не спрашивая, взяли одно из известных изображений со стены пирамиды Тутанхамона – ну, помните, тетка там в багровом, как майка Маргариты, куске материи, тетка с попкою в профиль а плечами, мы извиняемся, анфас, как у египтян принято. И несмотря на всякие там интернет, телевидение и прочие современные прибамбасы, журнальчик пользуется популярностью. И не мудрено, если такие экземпляры, как Ритка Ящикова, чуть мы не написали – «трудятся», если такие мамзели, как стоящая сейчас замечательными своими булками вверх Марго, числятся в штате редакции. А вот как и когда Ритка залезла под губернаторский стол и долго ли там тихо, как мышь, сидела и все подряд писала на смартфон, мы не знаем. А чего не знаем, того не ведаем, а врать даром не станем. Да мы и, в который раз хочется повторить, мы никогда не врём. Единственное, что тут можно сказать: облажалась охрана мормышкинская, очень жидко обосралась. Дык с любою охраной однажды так случается, как ты и кого ни охраняй. Исторический факт. Вернее, факты.
Да, а Ритка, значит, отрекомендовалась, и вновь повисла пауза. Сквозь запах мужского пота пробился, наконец, запашок французских духов. Был ли то запах настоящих Chanel № 5 или изготовляемых в самом Глухово-Колпакове «Шанель № 6», мы вам не можем сказать, у нас обоняние не столь тонкое, как хотелось бы. Мы сами, если честно признаться, с самого первого бритья, а тому уж без малого полвека, со времени, значит, первого бритья и доднесь пользуемся исключительно неизменным «Шипром», поддерживая местного производителя, пережившего все преобразования в родном Отечестве, и никаких иных одеколонов и духов не разбираем. Но вряд ли так можно сказать о мадмуазель Ящиковой.
– Зовите меня Марго, – непринужденно произнесла она, словно бы не стояла с выставленной попой, заломленными за спиной и закованными в наручники руками и щекою на столе. И уже совершенно игриво добавила: – Близкие зовут меня Королева Марго.
И вновь она улыбнулась, отчетливо сознавая силу даже половины своей улыбки и, главное, обеих половин задницы.
– Марго… – выпучив глаза, хрипло повторил Мормышкин, будто ребенок в специнтернате для дефективных, где несчастным обитателям иногда бывает трудно соединить отдельные слова в целое предложение. – Марго… Королева… Близкие… Марго…
Однако новый губернатор быстро взял себя в руки. И даже – страшно произнесть, дорогие мои, – даже некая мысль… надежда промелькнула в его начинавших уже заплывать глазках. А может быть, сами стены Bанькиного кабинета оказали на нового губернаторского сменщика свое чумное, вредоносное влияние, словно бы черная аура.
– Ну-кось, – проскрипел он и заерзал в кресле, вновь почесываясь, – ну-кось, все, короче, вышли на пару минут… Алле! – еще почему-то добавил он, как дрессировщик на арене цирка, и пальцем ткнул в сторону наручников на руках Маргариты. – Алле! Алле!
Наручники тотчас оказались сняты и кабинет опустел.
… Голубович в это мгновение взялся за вертикальную дубовую ручку областной администрации. Пэт и Коровин в это мгновение, вышли из автобуса на остановке, им еще только предстояло дойти до своей березовой рощицы. Денис с еще живым секретарем Максимом сидели в голубом максимовском «Hиссане» и смотрели издалека на Пэт и Коровина. А полковник Овсянников осматривал тело козы Машки.
Дверь в борисовский сарай со скрипом отворилась, поток света упал на искаженное страданием – чуть мы не написали «козлиное лицо» – на искаженную страданием козлиную морду с оскаленными зубами. Коза лежала в странной позе – не на боку или свернувшись клубком, как обычно ложатся умирающие животные; козьи ноги были странно разбросаны, словно бы Машка перед смертью желала показать хозяину свои женские прелести и дать ему понять, чего он лишился, вовремя не напоив единственную подругу жизни. Один козий рог глубоко вошел в земляной пол.
– Вытаскивайте, – распорядился полковник.
Два лейтенанта с трудом вырвали Mашкин рог из земли, подняли животное на руки и вынесли во двор, положили между колеями – следами от колес Борисовского трактора. Один из лейтенантов нагнулся и с видимым усилием – тело уже достаточно окоченело – придал позе козы пристойный вид.
Тут у Овсянникова в кармане запел телефон. Мы знать не знаем, кто из многочисленных овсянниковских абонентов, который из многочисленных глухово-колпаковских голосов сейчас вызывал полковника. Единственное достоверное сведение, которое мы можем вам сообщить – на сей раз голос в телефоне был женским. Во как! Еще нам известно, что женский голос весьма приватно произнес:
– Прибыли, Вадик. Прибыли на место. Целую тебя.
– Охрана? – почему-то впадая в такой такой же интимный тон, бархатно спросил полковник у женского голоса.
– Старая смена была в отключке. Новая почудила и уехала.
– Не обращай внимания, – сказал полковник. – Работаем пристально. Давай.
Полковник сунул телефон в карман и покрутил перед собою пальцами. Не-хо-ро-шо. Да, он чувствовал. Не-хо-ро-шо.
Надо вам сказать, дорогие мои, что Овсянников уже успел объявить по всей своей службе сначала «готовность № 1», а через полчаса уже и режим Чрезвычайного Положения, так что теперь и он сам, и все его подчиненные обретались, как мы вам уже рассказывали, в полной полевой форме, созданной гением московского модельера Еврашкина – в пестрых зеленых куртках, будто бы сотрудники Овсянникова собирались прятаться в оливковых зарослях – именно такую мелкую резную листву дает весною оливковoе дерево, – в таких же противооливковых кепи, в берцах и с кобурами на поясах. Штатный пистолет Макарова – игрушка не слишком тяжелая, со снаряженным магазином и запасной обоймой в карманчике кобуры весит около килограмма, но у некоторых сотрудников кобуры явственно оттягивали пояса вниз, что свидетельствовало не о необыкновенной какой тяжести оружия, а просто о недостаточной огневой и строевой муштровке личного состава вверенного Овсянникову Управления. Засупониваться надо покрепче, скажем мы вам, дорогие мои, дисциплина с мелочей начинается, вот от таких вроде бы мелочей потом и города сдают. Мы это можем утверждать совершенно определенно, поскольку два лучших года молодости провели в форме лейтенанта желдорбата и даже однажды командовали ротой, словно бы Хлестаков – департаментом. Eй-Богу. Целых две недели.
Да-с… А из борисовского покосившегося дома вышли несколько человек во главе с довольно пожилым подполковником – это был доверенный овсянниковский аналитик и главный глухово-колпаковский спец по обыскам и сыскам подполковник Никодимов.
– Ну, что, Володя? – доверительно спросил у него Овсянников.
Никодимов только отрицательно покрутил головой. Ничего интересного не нашли.
– Подписали, мать вашу, помощничка, – проворчал Овсянников. – Это Ежова был прикрепленный? Где этот… Где Ежов?
– Я! Я здесь, товарищ полковник!
Пред ясными очами начальника предстал только вчера сменившийся с дежурства Ежов – тот самый мужик, который прежде время от времени встречался Валентину Борисову на дороге, а в последний день пребывания Валентина на Божией земле так бездушно и грубо погубил – разумеется, по мнению Валентина – единственную его любовь – козу. Теперь на еврашкинских полупогончиках борисовского куратора едва заметно мерцали по четыре звездочки.
– Капитан Ежов по вашему…
Овсянников махнул на Ежова рукою, тот осекся. Овсяников вновь вспомнил, что капитан Ежов в родстве с Наркомом не состоял и не состоит.
– Как зовут? – сурово спросил Овсянников.
– Виктором, товарищ полковник!
– Да не тебя… – досадливо поморщился Овсянников. – Тебя знаю… Козу как зовут? Звали как?
Куратор Валентина Борисова затруднился с ответом. Овсянников оглянулся на Никодимова.
– Ма-ашкою, – негромко сказал тот.
– Видал, как старики работают? – в голосе Овсянникова прозвучала отеческая укоризна.
Ежов попервоначалу вольнодумно промолчал, что было вызвано вовсе не отсутствием чинопочитания, а просто-напросто тем, что капитан Ежов вторые сутки почти не спал. Tолько после некоторой паузы, словно бы у него в горле сработало замедляющее реле, ответствовал:
– Так точно.
Это промедление с ответом Освянникову, обычно лояльному к подчиненным, за что его, кстати тут вам сказать, подчиненные искренне любили, это Овсянникову, находящемуся в крайней степени раздражения и даже раздрая – да ведь и не мудрено – сейчас не понравилось.
– Не знаете собственного контингента! Отстраняю вас от… – на счастье капитана, полковник не успел договорить и, скажем мы, несколько забегая вперед, так и в последствии не успел в самом негативном, признаться, плане решить дальнейшую судьбу капитана Ежова. Капитан сам решил свою судьбу. Но об этом чуть позже.
А сейчас тяжело, как морской противотуманный ревун, загудел где-то внутри полковника зуммер, и всем показалось, будто бы начальник, не найдя от возмущения слов, животом чревовещал вполне заслуженный разнос раздолбаю-подчиненному. Овсянников от неожиданности вздрогнул, потом вытащил из себя спутниковый телефон – с виду точно такой же, как и наши с вами сотовые, дорогие мои, только что с толстой, как сосиска, черной антенной – посмотрел на него, вытянулся «смирно», в этом положении приложил телефон к уху:
– Слушаю, товарищ Директор.
В телефоне, по всей вероятности, что-то спросили, потому что Овсянников доложил:
– Нахожусь возле трупа… Никак нет, не губернатора… Возле трупа Машки…
Тут у Овсянникова, по всей видимости, спросили, кто такая Машка, потому что он, желая точно доложить обстоятельства расследования, не подумавши, выпалил в спутниковый телефон:
– Коза, товарищ Директор!
А надо было подумать! Информацию-то… Дозировать ее надо, не доводить в неприглаженном виде… Даже начальству… Но слово вылетело – чай, не воробей…
Следом за сим ответом Овсянникову еще что-то сказали, потому что он, вытянувшусь еще более по стойке «смирно» – и окружающие тоже вытянулись «смирно» перед невидимым, а там Бог весть, может, и видимым, то есть, может, полковник собеседнику сейчас был виден, а собеседник полковнику – нет, техника в наше время, она, сами знаете, дорогие мои… может, кто и просто писал сейчас полковника… вытянувшись, значит, еще смирнее, по струне, Овсянников ответил на очередной прозвучавший в телефоне вопрос:
– Так я и докладываю по существу, товарищ Директор! Я… Так точно, понимаю, что вам не нужны мои оценочные суждения… Но это не оценочное суждение! Это натурально коза!
И тут Овсянников сделал то, что делал в жизни чрезвычайно редко, а в разговоре с начальством – так вообще никогда не делал. Ну, нервы сдали… Бывает… Словом, прокололся наш Овсянников, не потянул момента. Потому что добавил в свой телефонный аппарат вопиющую для ответственного сотрудника глупость, а потом и правду:
– Машка покончила с собой при задержании… – это была глупость, поясняем мы вам. – Никак нет, террористическая сеть пока не обнаружена… – а это была правда, которая куда хуже глупости, дорогие мои.
Тут Овсянников получил новое указание, потому что выпалил:
– Так точно, чисто натовская провокация! Англичане!.. Понял! Есть!.. Есть обеспечить прикрытие любыми средствами! Есть принять выгрузку вертолетами! Слушаюсь!
Мы вам скажем, чтоб вы знали, дорогие мои: обнаружение и ликвидация сети – какой угодно, хоть электрической – есть главное в работе специальных организаций. Два человека – уже сеть. Так вот оно идет с одна тысяча девятьсот восемнадцатого года через тридцать седьмой. Хотя, впрочем, нет… Гораздо раньше началось… С египетских, мы думаем, пирамид… Или еще раньше… Как только возникло общество, стая, а вместе с ним службы безопасности своей стаи…
Да-с! А вслед за обнаружением и ликвидацией сетей идет следующая задача: прикрытие от возможного возникновения оных сетей в будущем. Так что доложивши об отсутствии на подведомственной ему территории террористической сети, Овсянников совершил непоправимую профессиональную ошибку. Сеть, она должна быть… Никак нельзя без сети… Вот полковник и получил новое указание – обнаружить сеть и ликвидировать ее любыми средствами. И понял, что более с ним, как с перспективным подчиненным, Директор не желает разговаривать. Потому что ликвидировать любыми средствами может самый заурядный командир мотопехотного полка, обладающий хотя бы штатным боекомплектом.
Несколько опережая события, мы вам сообщаем, дорогие мои, что вынужденный доклад про обнаружение Машки вместо обнаружения террористической сети – а куда деться? не докладывать? себе дороже – доклад про Машку действительно – помимо прочих прегрешений предстоящего дня, стоил Овсянникову нашему генеральских погон. На лицах присутствующих, слышавших доклад начальника наверх, не отразилось ровным счетом ничего, каменными оставались лица, но глаза заблестели у многих, а несколько офицеров мысленно уже начали строчить рапорты. А Овсянников продолжал разговаривать по спутниковому телефону.
– Слушаюсь… Понял… Обеспечу, товарищ Директор… Есть!.. Есть!.. Есть!..
Полковник разъединился, с видимым облегчением встал «вольно», устроил в глубине еврашкинского своего кителя персональную спутниковую мобилу, выдохнул из себя воздух трубочкою и прислушался. По всему Кутье-Борисову, словно бы отпевая несчастную Машку, выли собаки. Овсянников прокашлялся, открытое доброжелательное лицо его посуровело. Неожиданно он с размаху пнул труп козы ногою, что свидетельствовало о полной потере самоконроля. Тут же, немедленно вслед за пинком, все собаки в деревне согласно взвизгнули, словно бы каждую из них пнули по ребрам железным кантом армейского берца. И вой возобновился на прежней ноте.
– Что это они, Никодимов? – нервно и напряженно спросил полковник.
– Воют… – неопределенно доложил Никодимов. По овсянниковским подчиненым, а собралось их на дворе Валентина Борисова человек двадцать пять, – невидимо прошелестел ветерок молчания.
– Ежов! – вновь позвал полковник. Отошедши с капитаном чуть в сторонку, полковник что-то ему конфиденциально приказал, после чего Ежов козырнул, сел в свою 24-ю «Bолгу», в которой обычно встречал на сельских дорогах трактор погибшего террориста Борисова, и немедленно отбыл прочь. Какое задание там ему Овсянников назначил, какое послушание, словно бы батюшка – проштафившемуся семинаристу, мы знать не знаем, а врать не станем. Единственное услышанное нами слово, произнесенное Ежовым, было почему-то слово «квартира». На которое слово полковник Овсянников выставил пред подчиненным успокаивающую и обещающую ладонь в такого же мерзотного цвета, как и вся форма, перчатке. И нам показалось, что вместе с выставленною рукой Овсянников ответствовал: «обеспечу». Ну, точнее не расслышали, говорим же – собаки выли.
Единственное, о чем, несколько забегая вперед, мы можем вам сообщить, так только о том, что подруга Ежова Наташа Калиткина действительно в скором времени получила квартиру – правда, всего-лишь однокомнатную. И поскольку, выслушав овсянниковское задание, Ежов попросил лишь о квартире для Наташи, это неопровержимо свидетельствует: настоящая любовь посещает любые сердца. Любые.
Ежов, значит, отбыл, и тут внутри Овсянникова по-собачьему завыл другой телефон. Его полковник доставать не стал, а просто вытянул из воротника наушную петличку и динамичек вдел себе в ухо. В ухе Овсянникова раздался один из многочисленных глухово-колпаковских голосов:
– Разливают, товарищ первый. Ждем указаний.
Полковник поперхал горлом и произнес как бы в воздух перед собой:
– Наблюдать. Фиксировать. В случае волнений расчленить массу и оттеснить. К вам выехал капитан Ежов. Обеспечить содействие.
– Слушаюсь, – сказал голос у Овсянникова в ухе и отключился.
И тут же вновь запел телефон в кармане полковника – тот, говоривший женским голосом. Теперь женский голос, явно волнующийся, произнес:
– Разливают, Вадюша! Разливают! Народ…
И голос пропал в телефоне.
Коровин и Пэт в это время, еще живые, беззаветно трахались – чуть мы не написали «как дети», да ведь они и были, и навсегда остались детьми – трахались на зеленой траве в березовой роще; Денис с еще живым секретарем Максимом, облизывая губы, наблюдали за голой, прыгающей между тощих и бледных, воздетых к голубому небосводу ног Пэт тоже довольно-таки тощей задницей учителя, а Голубович – он тоже, как и был, голый, словно целлулоидный малыш нашего детства, разве что голыш обходился без некоторых подробностей телосложения, каковые присутствовали у Голубовича в полном объеме, – с телекамерой на плече Ванечка как раз вошел в собственную приемную.
Еще можем вам сообщить, что в это же самое время зазвонил смартфон Голубовича, оставленный в насквозь промокшем пиджаке, брошенном на дороге. Смартфон работал! Bсе еще лежащий рядом с пиджаком зареванный Марик интуитивно потянулся, вытащил из внутреннего Bанькиного кармана черный кусочек пластмассы, чирканул пальцем по дисплею и хрипло произнес:
– Слушаю.
Хрипота, возможно, и ввела отдаленного корреспондента Ивана Сергеевича – уж второй раз за день! – в ошибку: вновь он принял за Голубовича другого человека. Голос, запинаясь, радостно сообщил:
– Рр… раззз… ливают, босс! Ей-Богу! Она! Я, блин, уже!.. Изз… винн.. нн… нните, босс! Халява!
Марик с силою запулил смартфоном об асфальт. Осколки Bанькиного мобильника, его мокрый и такой грязный, словно бы из самой мусоровозки вытащенный костюм, час назад еще блестящие, а теперь не имеющие цвета ботиночки, трусы, носки и майка – вот все, кроме, конечно, Марека, что осталось на шоссе после катастрофы.
Oдновременно прозвучал еще один таинственный голос в очень высоком кабинете в Москве. Этот голос сухо сообщил:
– Разливают.
Хозяин кабинета положил трубку и тут же из кабинета вышел.
В эту секунду тяжко дышащий Мормышкин стоял перед столичною корреспонденткой без штанов. Что-то еще мужское осталось – чуть было мы не написали «в яйцах» – нет, в голове Мормышкина, против всех событий его биографии, последнее в его жизни возникло возбуждение. Настолько пребывающая в локтевой позе Ксения Ящикова оказалась хороша.
Мормышкин только успел, опираясь на подлокотники, с трудом подняться из Bанькиного кресла, вылезти из-за Bанькиного стола и встать перед уже оказавшейся на коленях корреспонденткой, а та уж сама тренированным отработанным движением, не расстегивая на Моромышкине пояса, чего объяснить мы не в состоянии – чудо явлено было, спустила с новоявленного губернатора штаны, кальсоны – а Мормышкин оказался в шерстяных кальсонах на августовской жаре – спустила с Мормышкина брюки, кальсоны и остро пахнущие мочою синие семейные трусы, которых, дорогие мои, на российских гражданах уже лет тридцать обнаружить невозможно, и где такие винтажные трусера надыбал Мормышкин, опять-таки нам неизвестно. И разом спустивши с нового начальника всю нижнюю упряжь и интуитивно отшатнувшись и наморщив носик от запаха, Маргарита, еще не успев даже приступить к взятию интервью, заметила на покрытом редкими и нежными, как у девочки, кудрявыми волосиками лобке Мормышкина медленно ползущее вверх, к Солнцу, крохотное желтоватого цвета насекомое. И точно такое же насекомое ползло по сморщенному – чуть мы не написали «пенису», но пенисом нельзя назвать половой орган Мормышкина – по маленькому сморщенному стручку в противоположную от Солнца сторону – вниз, во тьму между мормышкинских ляжек. Вся живность с возможною для себя скоростью разбегалась кто куда.
Ящикова отшатнулась еще раз и тут же вскочила на ноги, потому что при ее профессии заразы бояться ей приходилось как огня. Да и вообще, несмотря на профессию, Маргарита понимала себя чистоплотной девицею. Зубы, например, чистила два, а если брала интервью какое, так и более двух раз в день.
В этот миг вновь рывком распахнулась дверь, в сверкающий солнечными лучами проем вошел с телекамерой на плече совершенно голый, неотрывно глядящий в окуляр Голубович. Светодиод на телекамере горел малиновым пламенем, указывая на исправную работу прибора. Маргарита взвизгнула, а Мормышкин плюхнулся на пол толстой задницей и тоже взвигнул. Тут же сидящий на полу Мормышкин, хотя обычно до него доходило не сразу, в автоматическом режиме закрылся обеими руками, поэтому во всех подробностях телосложения записать его Ванечке не удалось. Да подробности и не понадобились, кроме одной – на крупном плане в квадратике кадра ясно было видно, как неторопливая янтарная вошь задумчиво ползет у Мормышкина теперь уже по руке.
Вслед за Голубовичем вошли четверо вимовских «бычков». Прежде они, разумеется, не раз видели губернатора Голубовича, присутствовали на стрелках, стояли вместе с губеровской охраной на совместных с VIMO мероприятиях – словом, узнали они Ванечку нашего мгновенно. И ему свезло. Ну, мы ж говорили, что Иван Сергеич родился везунчиком. Потому что если бы лысый усачок, подававший Мормышкину бумаги на подпись, оказался бы сейчас здесь, а не в Большом зале, из прежнего губернатора мгновенно сделали бы решето. И немедленно решето это пропало бы. Просто бы исчезло. Потому что прежний губер никак уже, воля ваша, не вписывался в сложившуюся картину глухово-колпаковского мира, установленного назначением Виталия Алексеевича Мормышкина: взорвали прежнего губернатора, так взорвали. Один раз Голубович Иван Сергеевич уже исчез на трассе Глухово-Колпаков – Светлозыбальск, и харэ. Но ребятки из вимовской охраны временно остались без руководства, и, оторопев и не зная, привидение пред ними или живой Голубович, только что взяли его на мушку, не решившись стрелять, и так вот, под дулами четырех «калашей», Голубович сейчас и вошел в свой кабинет, не переставая, как говорят телевизионщики, давать картинку. Тут Bанечкин внутренний голос посоветовал:
– Этого гони на хрен! Приканал, блин, гoндон заштопанный! Или лучше прямо щас мочи его! А шлюху сейчас же вытрахни, потом у тебя времени ни хрена, блин, не останется.
Голубович, не выключая телекамеру, поставил ее на пол и отнесся к Мормышкину:
– Пошел на хрен. А то щас прикажу – замочат на раз, блин. Каз-зел!
Да-ааа… Напрасно он, Голубович, так-то вот по-доброму, по-хорошему… Иван наш Сергеич добрый был человек, мы уж, помнится, не раз вам говорили…
Мормышкин, волоча за собою штаны, пополз на четвереньках к двери, с ужасом оглядываясь на Голубовича. Вимовцы опустили автоматы. Никто даже позвонить лысому и не подумал, во-первых, потому, что ни у кого из четверых нужного номера не было, а во-вторых, потому, что думать – это вообще не их прерогатива. Думать как раз должно начальство, вот как раз лысый и должен был подумать. Но в прекрасную идею воскрешения верит не всякий профессионал, дорогие мои, вот лысый всего и не предусмотрел.
Так прежний губернатор временно победил.
– Взять его, на хрен! – вполне логично дал указание Голубовичу внутренний голос. – На нары, блин, за попытку свержения государственного, блин, деятеля! Под нижнюю, блин, шконку!
– Взять, на хрен! – указал Голубович на Мормышкна.
Четверо потрясенных вимовцев натянули на Мормышкина штаны и потащили визжащего, как поросенок, шефа вниз, в автобус. Голубович закрыл за ними дверь и собрался было повернуть золоченую на замке щеколду, но выбитый еще при появлении в кабинете Мормышкина замок наполовину вывалился из двери и висел на одном болте.
– Да и хрен бы с ним, – это сказал не то внутренний голос, не то сам Голубович, не то про замок, не то про Мормышкина. Не суть.
Произошедшее в кабинете далее мы не имеем возможности изобразить, дорогие мои. Мы только поведаем, что Маргарита старалась, как могла, но у Ванечки ничего не получилось, чем он стал совершенно удручен. Но об этом потом, чуть позже. Единственная подробность, доступная нашим возможностям, такова: Bанькин бесполезный орган деторождения теперь блестел – извиняемся за свежее сравнение, – словно зеркало и посылал вокруг себя световые лучи. Как лазер.
Кстати, сейчас о судьбах некоторых присутствующих в нашей правдивой истории персонажей.
Прежде всего, конечно, о Виталии Алексеевиче. Вы думаете, карьера его закончилась после неудачного государственного переворота – в масштабах, разумеется, небольшой, но любимой нами глухово-колпаковской губернии? Как бы не так. О Виталии Алексеевиче мы вам еще успеем, хотя и мельком, поведать.
О судьбе Дениса, как и о судьбе усача нам ничего неизвестно. Даже неизвестно, настоящие у него усы или приклеенные. После мгновенно пролетевшей глухово-колпаковской смуты лысый вместе с Денисом исчез, и следы их пропали во Вселенной.
Зато совершенно достоверно нам известно о судьбе Королевы Марго.
Вернувшись в Питер после столь постыдно проваленных двух интервью с двумя губернаторами, Маргарита Ящикова неожиданно была назначена сначала главным редактором своего журнала «Клеопатра, XXI век», а потом и «толстого» литературного журнала с тем же названием.
А живет Ритка, главенствуя в русском литературном журнале, в Соединенных Штатах Америки, в пригороде Сиэтла. Адрес ее виллы, как и фамилия ее американского мужа, как и фамилии не всех, конечно, но большинства ее остальных мужей в странах цивилизованного мира тоже нам, представьте себе, известны, но тут мы их тоже, как и прочие конфиденциальные сведения, обнародовать не станем.
Вернемся в Глухово-Колпаков.
В ту минуту, когда крайне раздраженная произошедшим с нею корреспондентка Ящикова выскочила из здания областной администрации на совершенно пустую площадь, пробежала мимо запертого микроавтобуса, из которого ей кто-то дребезжащим дискантом кричал «Помоги, сука! Ты, сука! Открой мне!» – Марго внимания не обратила на крики, а мы вам можем сообщить, что это кричал одиноко сидящий внутри, прикованный теми же наручниками к подлокотнику Мормышкин – в ту минуту на трибуне в большом зале Белого Глухово-Колпаковского Дома уже лежал огромный сверток с расстрелянной Катериной. В это же время несколько уазовских «козликов» и десяток тентованых грузовиков неслись по шоссе от города к Кутье-Борисову, почти такой же кортеж, подпрыгивая на грунтовке, выехал в сторону Кутье-Борисова из саперного батальона, расквартированного недалеко от города, и еще один точно такой же кортеж – из желдорбата. Помнится, мы о наличии двух батальонов вам сообщали, дорогие мои, – а полковник Овсянников в ту минуту вместе со своими офицерами, приказавши оставить на дворе Валентина Борисова засаду, а тело Машки доставить в собственный морг Управления, подъезжал к самому Узлу, к сдвоенному холму, к Борисовой письке.
Собачий вой сопровождал кавалькаду полковника всю дорогу. Когда первая машина оказалась у подножья холма, раздался новый взрыв. Тут собаки во всей Глухово-Колпаковской области почему-то враз замолчали, словно дрессированные, но человеческие крики поднялись с неимоверною силой – точно так, как еще недавно поднимался по округе неизбывный, нескончаемый рокот шотландского прибоя. И сразу стало понятно, что не прибой то рокочет, ударяясь о прибрежный мол, потому что в далеком синем небе уже были ясно различимы стрекочущие – чуть было мы не написали «стальные», нет – титановые, дюралюминиевые или из чего их сейчас делают, птицы.
VIII
Сидя на траве, Катя оглянулась. У нее за спиною стояла очень высокая, даже можно сказать – здоровенная, чуть не вдвое выше Кати ростом, простоволосая деревенская девка в голубом сарафане на голое тело, даже без исподней рубахи. Сарафан оказался очень коротко подрубленным, так что открывал круглые исцарапанные девкины колени. Такой непотребный сарафан настолько удивил Катю, что у нее даже мимолетный – от неожиданности – испуг прошел. А так-то наша Катя ничегошеньки не свете не боялась.
Катя попервоначалу и в лицо молодой крестьянки не посмотрела. Девкин голубой сарафан открывал не только ее красные ноги, но и такие же толстенные красные руки до плеч, а декольте, значит, открывало огромные, как и сама девка, пудовые груди и, разумеется, толстую красную шею. Катя всех отцовских, а теперь своих – то есть, бывших до Реформы своими крестьян, разумеется, не знала, и эту вот деваху не помнила. Но теперь, вместо того, чтобы поднять взгляд и посмотреть девке в лицо, – в лицо ей Катя почему-то не смела сейчас смотреть – Катя опустила голову и с новым удивлением обнаружила, что деваха спозаранку разгуливала тут, возле Катиной усадьбы и монастыря вовсе не босиком, а хотя и не в новых и обрезанных выше щиколотки, но в очень хороших – для крестьянки-то – смазных сапогах.
Не поднимая головы, Катя очень сухо произнесла:
– Я тебе не девонька, милая моя, я барыня твоя… Ваше сиятельство… Кланяться надо, – и выговорила это слово: – де-вонь-ка… – И совсем жестко спросила: – Чьих будешь? Как звать? Почему не на покосе?
Катя и не подумала, что рядом с девкою могут оказаться мужики, только что разграбившие, как все знали, и в монастыре, и во всей округе, усадьбу – их с Машею усадьбу! Отцовский, дедовский их дом! Но в ответ раздалось характерное хихиканье, словно бы сама свой собственный смех услышала сейчас Катя.
Тут Катя, вновь удивляясь – теперь собственной необъяснимой нерешительности, чуть не страху, наконец взглянула девке в лицо. И вскрикнула. В этот миг выглянуло солнце; словно бы зеркалящее стекло его лучи образовали пред Катею, и она увидела пред собою саму себя – она себя узнала, разумеется, узнала, узнала.
– Господи, Машуня!.. Машуня?…
Катя собралась было спросить, зачем Маша шла за нею от монастыря, ни разу себя не обнаружив и не выдав, зачем, когда они давеча все так хорошо обговорили и все решили друг про друга, но тут солнце скрылось за тучкою. Пред Катею действительно стояла полуголая деревенская девка в хороших сапогах; да ладно – сапоги, Бог бы с ними.
У девахи было широкое конопатое лицо, такое же красное, словно бы кирпич, вылепленный из красной глухово-колпаковской земли, а на широком лице – здоровенный красный нос картошкой и рыжие густые брови. Образ дополняли морковного цвета волосы шапкою, торчащие в разные стороны, словно из разодранного котом парика. Девка была, как мы вам уже сообщили, дорогие мои, с непокрытою головою, без платка, что вообще показалось Кате уже совершенно невместным.
– Не ходи, – совершенно спокойно сказала деваха, не обращая ни малейшего внимания на явное недовольство барыни. – Не занадобится ни тебе, ни Маше. Ивану Сергейчу занадобилось бы чрез которое время, дык он не возьмет. Ведь не возьмет?
– Не… возьмет… – пораженная подтвердила Катя. – А ты кто?
Девка засмеялась, широко открывая рот и показывая отличные, крупные, но довольно-таки редкие желтые зубы.
– Кто я? – она продолжала смеяться. – Да я ж это ты и есть, милая моя.
Катя никак не отреагировала на этот дикий ответ. Только кротко спросила:
– А… а… если монастырю отдать?
– Хорошо. Монастырю можно, – разрешила деваха. – Но лучшее там оставь. Все едино прахом пойдет. Оставь.
– Все-таки я пойду, – сказала Катя, почему-то непреложно ощущая власть над собою этой крестьянской девки. Катя вгляделась в ее лицо, и вновь на миг в безобразном лике промелькнули ее, Кати… Маши?.. ее собственные черты. Холод пронзил Катю с головы до ног.
– Ты не боись, – доверительно произнесла деваха, и Катя почему-то вмиг успокоилась. – Ты сходи, ежли душа желает. Только бережися – тяжелая ты. Уж тяжелая… Но не боись. Складется все.
Катя закричала, ее счастливый даже не крик, а вопль на минуту заставил птиц в лесу замолчать, но тут же весь лес запел вновь, присоединяясь к Kатиной радости, а девица почему-то грустно улыбнулась и повторила: – Складется все на красной земле.
– Да! Да! Да! – опять закричала Катя. – Он скоро приедет!
– Иди, – распорядилась деваха. – Я тута вот обожду. Не боися ничего. Никто не замает.
Девка села рядом с Катею и вдруг подала ей совершенно целый и даже вновь зажженный фонарь. Катя молча взяла его из огромной, совершенно мужской руки девахи и полезла в потайной ход.
Надо вам честно признаться, дорогие мои, что в темноте, ничего не видя за бьющим в глаза горящим язычком огня, Катя скоро оступилась и ударила ногу, фонарь, ясен пень, вновь выронила. Но теперь фонарь не разбился и даже продолжал гореть. Туфли, а вернее – закрытые монашеские ко́ты[195], взятые у Маши, съезжали по склизлым доскам. Коты сразу стали полны вонючей черной воды. Намокший подрясник тянул вниз. Как же они с Иваном бежали тут босиком, среди тучи крыс, по ржавым гвоздям, щелям и дырам? Задыхаясь от смрада, поеживаясь от ясно слышимого крысиного попискивания, Катя через несколько минут подошла к световому лучу, по-прежнему полному толкущейся в нем пыли. Прежде луч исходил из окуляра, глядящего сквозь кабаний глаз в кабинет отца, князя Бориса Глебовича, а сейчас просто бил из дыры в стене, напротив распахнутого окна, залитого утренним августовским солнцем. Катя, смаргивая, заглянула в дырочку.
В отцовском кабинете ничего не было. Не только кабаньей головы и остальных охотничьих трофеев, но и стола с приборами, ружей в вертикальном ящике-сейфе и самого сейфа, книг в шкафах и самих шкафов, кожаных кресел, ковров на полу и на стенах, картин… Ничего. Многочисленные и почему-то окровавленные осколки стекла – видимо, от книжных шкафов – валялись на полу. Катя помимо себя, вовсе не давая себе труда задуматься, почему битое стекло полно крови, отстраненно поняла, что по стеклу ходили босыми, даже без лаптей, ногами; злобно хмыкнула.
Она осторожно пошла дальше по потайному ходу и вскоре оказалась перед вторым так же светящим лучом, заглянула и в него. Тут прежде была отцовская спальня.
Мы могли бы вам сказать, дорогие мои, что сейчас спальня князя Кушакова-Телепневского сияла – или зияла, это как вам будет угодно – совершенною пустотою, даже без стекла на полу, но это станет неправдою, пустоты не наблюдалось. Во-первых, на полу спальни – и на прежнем месте кровати, и на месте бюро, и стульев, и на месте шкапа – везде лежали кучки человеческого дерьма, а во-вторых, прямо посреди дерьма стояла на коленях и на локтях деревенская баба с отвислым белым животом. Сермяжное платье ее было закинуто ей на затылок, а сзади бабы примостился мужик со спущенными портами и… как бы нам тут выразиться, дорогие мои? У этого действа нет названия на Kатином языке… Словом, Катю громко вырвало за тонкою стенкой, вывернуло прямо себе под ноги и на сами ноги, на подрясник, но мужик с бабою ничего не услышали.
Отдышавшись, насколько это оказалось возможным в смраде, Катя двинулась назад, к кабинету. Она, кривясь от чувства гадливости, начала нашаривать в воде потайной металлический рычаг. Некоторое время Катя ничего не находила, пока ее узкая ладошка не обхватила круглую короткую шишечку, словно бы распушенную белками специально для самовара; тут же Катя потянула за нее. С тихим щелчком отворилась панель, через которую они ретировались с Иваном, мужики так и не обнаружили потайной ход!
Совершенно мокрая, Катя вылезла на карачках в кабинет, распрямилась и короткое время постояла, опустивши руки. Тут тоже, разумеется, валялись кучки – следы народного присутствия. Битое стекло хрустело под ногами. Вперемешку со стеклом на полу валялись книги отцовской библиотеки – их с Машею любимой библиотеки! Но на книги Катя не стала и смотреть – не хотела слез, слезы сейчас оказались бы совсем ни к чему.
Она не боялась ничего – ни того, что ее сейчас услышат, ни того, что могут войти и что-либо сделать с нею. В странном состоянии находилась Катя, словно не ощущая своего тела, словно бы невесомой и невидимою она была сейчас. И действительно: незнакомый ей – еще один – мужик в распахнутом кафтане зашел в кабинет, осмотрелся и как будто не заметил ни стоящую прямо посреди кабинета Катю, от отверстый зев потайного хода. Не увидел! А Катя даже не оглянулась на него. Она смотрела на «Бегство в Египет» – фреску великого флорентийца Джотто ди Бондоне. Сама-то выписанная Джотто фреска находилась в Падуе, в среднем ряду крохотной капеллы дель Арена, но князь Борис Глебович Кушаков-Телепневский, когда-то в юности побывавший в итальянской Падуе и пораженный живописью на стенах маленькой капеллы Скровеньи, не пожелал иметь у себя в доме всего-то-навсего масляную копию великой картины. Борис Глебович выписал из Италии живописца вместе с материалом. Трехслойною итальянской штукатуркою покрыли чуть не полвершковый[196] в толщину лист флорентийского картона, и итальянец-копиист, как и положено, по сырой штукатурке, написал копию Джотто – полноценную фреску.
Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь Иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого, родившегося в эту ночь. Потому Святое Семейство по дороге, указанной Божьим Ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в теплый и спокойный Египет. Бежало Святое Семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с Младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на Жену с Ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеству людей, но Ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал Ангел дорогу – туда, вперед, туда, в благословенный Египет. Потом Младенец вернется, Он придет, чтобы спасти всех нас, но Самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалось на лике Марии, а тревога – на лице Иосифа, вот почему суровый лик Младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвенье, где нет спасения – никому.
Сейчас Катя смотрела на фреску в тяжелой черного дерева раме. Оставалось только удивляться, зачем мужики не забрали и даже никак не испохабили изображение, не Лики же Святого Семейства, не Божий Ангел остановили их, взяли же мужики во всей усадьбе иконы. И мы, дорогие мои, тоже не знаем, что сохранило кушелевского Джотто для будущего.
Зато мы можем точно вам доложить, что княжна Катерина Борисовна с самых девических, чтобы не сказать – детских ее лет пользовалась не только горячей, неистощимою любовью своего отца, но и полнейшим его доверием. Поэтому сейчас Катя просунула точеную руку свою в паз за рамой, там что-то неслышимо для нескольких ходящих по усадьбе баб и мужиков вновь щелкнуло, и фреска вместе с рамою и толстенной, с две Kатиных ладони, основою, на которой была выписана, сама отъехала на петлях вправо, толкаемая пружинами. Катя была готова к открытию тайника, но все-таки помимо себя довольно громко сказала: – Ух ты! Mon Dieu![197]
Отворившаяся, как Сезам, фреска обнажила углубление в стене – точно по размерам рамы. Тут – слева – лежали несколько пачек ассигнаций, посередине – три высоких стопки золотых монет, а справа – небольшой черный кожаный мешочек со стягивающей тесьмой.
Дураки, однако же, мужики в Кутье-Борисово. И хитроумный исправник подполковник Морозов – полный дурак.
Мы бы вам точно доложили, дорогие мои, и сумму на ассигнации, и сумму золотом, и содержание, и даже примерную – ооочень большую цену содержания кожаного мешочка – все это доподлинно нам известно, но поскольку нашей Кате предстоит в самом же скором времени использовать и ассигнации, и золотые, тут же пересыпанные в мешочек, и камни в мешочке вовсе не так, как она сейчас предполагает, а потом и еще раз! eще раз оные цели поменять! Второй раз за день!.. Так мы сейчас промолчим. Покамест.
Катя сняла с себя через голову подрясник, потом исподнее платье, оставшись совершенно нагою, – только мокрые Mашины коты еще были на ней – и завязала пачки ассигнаций и кожаный мешочек в исподнее. Почему-то завязывать деньги и золото с брюликами в монастырское Mашино одеяние показалось ей неудобным.
На мгновение мы отвлечем ваше внимание, дорогие мои.
Сооружая из нижнего своего платья узел, Катя присела, выпятив попку, и мы с… не знаем, как и сказать… «Со слезами на глазах» – не покажется вам смешным, дорогие мои? Однако это чистая правда… Со слезами на глазах мы должны признаться, что видим голую Катину попку, ее голые груди, ее ноги, ее голые живот и рыжее мохнатое межножие в последний раз – во всяком случае, в нашей правдивой истории. В этой истории больше не увидим. Нет.
И никто более не увидит. Никогда.
Катя осталась голой. Бросила пахнущий мышами подрясник на битое стекло на полу. А потом открыла нам, прощающимися глазами глядящими на нее сейчас, еще одну, последнюю тайну дома князей Кушаковых-Телепневских. Она подошла к обклеенной – тогда говорили «бумажками» –полосатыми зелеными обоями части стены в углу, левой рукою сделала странное, неуловимое движение по деревянной вокруг этой части стены обшивке, и тут же вся стена шириной и высотою более чем по три аршина[198] откинулась вперед и остановилась под углом в сорок пять градусов. Катя потянула – вся наклоненная стена повернулась, как и фреска, на петлях. Полковник лейб-гвардии князь Глеб Николаевич Кушаков-Телепневский, Катин дед, своими руками устраивал этот тайник. Никакое выстукивание или простое надавливание тут не сработало бы – надо было знать секрет, а знали его – в разные времена – только сам Глеб Николаевич, потом Борис Глебович и Глеб Глебович, а потом и Катя.
Стена повернулась, выставив на Катю словно бы десятки стоящих на полках рядами маленьких вьючных[199] мортир, сейчас покрытых ужасной пылью, с плотно забитыми дулами, обвязанными полными такой же чудовищной пыли кожаными надульниками.
Это была телепневская коллекция коньяков, о которой десятилетиями по всей России ходили легенды, но которой никогда никто целиком не видел. Разве что сам Глеб Николаевич или Борис Глебович, надевши специальные перчатки, выносили гостям показать – только показать! – ту или иную бутылку. Недоверчивыми людьми были князья Кушаковы-Телепневские – никакие слуги не знали, в которой части дома хранится коллекция. Второй такой не существовало в мире. Даже в хранилище городка Коньяк, центре французского департамента Шаранта, не хватало некоих двух бутылок, которые в единственных оставшихся в мире экземплярах содержались здесь, в княжеском тайнике. Одна там, в Коньяке, оказалась торжественно поднесенной Императору французов и выпитой им самолично, Наполеоном Буонапарте – сам в одиночку выдул за вечер, никого не угостил император, даже Бертье своему не налил граммулечку, как, ежли правду сказать, и князь Глеб Николаевич, и князь Борис Глебович никого никогда не угощали – а вторую, тоже поднесенную ему бутылку, Наполеон послал своей Жозефине – уже после получения известия, что та изменяет ему с его же собственным адъютантом и после развода с нею. Кстати тут сказать, таковых вот посылок князьям Кушаковым-Телепневским делать даже бы в головы не зашло – баб, хоть прошлых, хоть нынешних, хоть верных, хоть неверных, дарить коллекционным коньяком! И да-с! У нынешнего французского императора Луи-Наполеона такой не было коллекции. Катя знала, что некоторые бутылки здесь… И про те две бутылки знала…
Голая Катя, пачкая руки в пыли и сама пачкаясь, начала доставать бутылки одну за другою из устроенной для каждой бархатного, повторяющего форму бутылки пыльного футляра и со страшным звоном, отворачиваясь, чтобы осколки не попали в лицо, разбивать их об угол камина. Никто не явился на звон разбиваемого стекла. Очень скоро слой стекляшек на полу кабинета утроился. Запахло в кабинете так, что Катя уже чувствовала, что совершенно пьяна. Тем не менее каждую разбитую бутылку, если в ней после удара об камин оставалось хоть сколько-нибудь бесценного напитка, Катя старательно разливала по валяющимся книгам, плескала на стены, а потом, открыв двери в коридор, разливала и в коридоре, и на лестнице. Император, значит, нынешний французский Луи-Наполеон, да и сам дядюшка его Наполеон Буонапарте дорого бы дали, чтобы хоть на миг вдохнуть этот единственный в мире и существовавший не более получаса поистине неповторимый букет, но уже шатающаяся Катя зажимала пальчиками носик и старалась вообще не дышать. Потом заглянула в лаз, вытащила оттуда все еще горящий фонарь. Усмехнувшись, бросила фонарь в угол. Теперь стекло разбилось. А загорелось мгновенно так, словно бы не пятисотлетним коньяком поливала, а черным корабельным порохом посыпала Катя стены отцовского кабинета.
Мы никак не можем причислить себя к категории маньяков, но все-таки пока Катя мгновение стоит и смотрит на огонь, и мы тоже посмотрим в последний раз на голую Катю, пусть и покрытую пылью – даже торчащие нежные соски да и вся безумно розовая ее грудь стала серою, даже рыжая шерсть у нее под животом стала серою, – на Катю, пьяную от запаха коньяка и от содеянного ею, на голую Катю с горящими ведьмиными глазами, на такую, какой ее мы никогда еще не видели и больше не увидим…
Катя подхватила узел с драгоценностями, зачем-то прикрыла, повернув пудовую фреску, тайник в стене – щелкнули, закрывшись, замки, в последний раз оглянулась, нагнулась – в самый-самый последний раз мы увидели ее попку, – и скрылась в непроглядной тьме потайного хода.
… В это время пролетка с сидящим на козлах Храпуновым – Морозов теперь спал, доверчиво, как любимая женщина, привалившись к ни разу за ночь не сомкнувшему глаз Красину, неровности дороги Николаю Петровичу нисколько не мешали – приближалась к усадьбе.
Тело князя Глеба, упакованное в виде египетской мумии, сидело, втиснутое меж Красиным и бортиком экипажа – ну, практически у Красина на коленях. Поскольку единственное, чему решительно воспротивился Красин, как только вся компания двинулась в путь – так это тому, чтобы на покойника ставили ноги. Мертвый князь Глеб сидел, тоже привалившись к Красину, и вместе эта полуживая, спящая и мертвая троица представляла бы уморительный вид, когда бы вы, дорогие мои, не знали во всей полноте нашей правдивой истории.
Стояло утро, хотя солнце взошло, а птицы распелись уже. Но в низинах и оврагах еще лежал туман, туманом оставалась покрыта низкая береговая полоса вдоль Нянги, вся сдвоенная ложбина между усадьбою и монастырем – Борисова писька – тоже натянула на себя туман, словно бы стыдливо задернулась шелковым молочного цвета бельем.
Миновав лес, пролетка обогнула опушку в виду монастыря, столь памятную Красину, и через несколько минут уже подъехала бы к усадьбе. И тут позади послышался звук, на котором идет галопом строевое конное подразделение. Это, чтоб вам понятно было, дорогие мои, звучит так, словно бы сама Божия рука бьет об шар земной, как об вселенский барабан, a Земля, будто совершенно пустотелая, отзывается низким немолчным колокольным гудом, и на фоне гуда сыплются по Земле пушечные ядра: – Бумммм!… Рррам! Рррам! Бумммм!..
– Здесь! – неожиданно громко сказал Красин. – Стой!
– Стой! – закричал и проснувшийся Морозов, тревожно оглядываясь. – Тута? Стой!
Храпунов натянул поводья, намотал их на облучок, тяжко спрыгнул на землю и тут же вскрикнул от боли.
– Baiser votre… – выдохнул он и принялся перекатываться с пятки на носок. – Les deux jambes engourdies! Bouche de putain!..[200]
Лошаденка тяжело поводила боками.
– Et quel beau matin, messieurs! – Храпунов, вовсе не лишенный чувства прекрасного, широко развел руки и улыбнулся во всю свою физию. – Respirez! Profitez de votre vie comme la dernière fois![201]… Ммать твою трахать-молотить! – радостно добавил он на родном языке, словно опасаясь, что собеседники его не поймут. – Зашибись!
– Ээсс-каад-рооон! – раздалось совсем рядом в ответ на храпуновские восторги. – Шаа-гоом!
Из тумана на опушку выехали две конные жандармские полусотни; лошади так же поводили взмыленными боками, как морозовская кобылка. Всадники в черных папахах, с короткими черными драгунскими винтовками через плечо, сидящие в седлах поверх черных вальтрапов[202], могли показаться выступившим из утреннего марева адовым войском, если б под седлами шли не каурые, а вороные. Шагом проезжая мимо пролетки, все всадники, как один, поворачивали головы и смотрели на странных путешественников. Морозов тоже сошел на землю и надел шапку, стоял так, будто это именно мимо него парадом проходит подразделениe; Храпунов глядел себе в ноги; только Красин, придерживая мертвое тело, смотрел на монастырь: там не замечалось никакого движения.
– Честь имею! – командир эскадрона подъехал к пролетке и соскочил с седла. Он тоже был в синем двубортном мундире жандарма, в синей низкой папахе с кокардою. Медленно, оглядывая всех троих, поднес правую руку, на запястье которой висела нагайка, к виску. – Ротмистр Лисицын… Прими, – отнесся он к вестовому, и жандарм, нагнувшись с седла, принял у Лисицына повод. А ротмистр снял папаху, пригладил волосы – плеснула белая прядочка – и тут же папаху надел. И тут Красин, конечно, узнал Лисицына. Несомненно и Лисицын узнал Красина, потому что профессиональный, мгновенно пронизывающий взгляд жандарма, переходя с лица на лицо, задержался на Красине. Лисицын обратился к Храпунову.
– Серафим Кузьмич? – и скупая улыбка, вызвавшая ответную широкую улыбку Храпунова, на миг появилась на тонких губах ротмистра.
– Точно так! Храпунов Серафим Кузьмич, Председатель…
«Каково, – помимо себя успел еще подумать Красин. – Два дня назад был поручик, и уже ротмистр. Быстро у них».
А ротмистр оглянулся, выбирая место для разговора и перебил, не давая Храпунову окончить саморекомендацию «… Фабричного союза»:
– Отойдемте, Серафим Кузьмич.
Красин хмыкнул – Лисицын, видимо, всех отзывал для приватного разговора в сторонку. Красин еще смотрел, как они вдвоем с Храпуновым отошли на край оврага; туман доходил обоим до колен. Красин отвернулся от разговаривающих, и тут же раздался револьверный выстрел. Красин мгновенно вновь повернулся в пролетке. Оба – и Лисицын, и Храпунов – стояли в прежних позах, только в руках у Лисицына теперь дымилось дуло, а Храпунов качался с пятки на носок, как он только что качался, спрыгнув с облучка. Покачавшись, Храпунов грузно упал, и его не стало видно в тумане.
Жандармы, в строю по трое, продолжали так же шагом ехать мимо, никто из них явно не услышал выстрела. Лисицын чуть нагнулся и еще раз выстрелил в туман. Слышно было, как тело покатилось вниз. Морозов захохотал.
– От так оно надёжнее станет, – прокричал он, делая ударение на предпоследнем «е» в слове «надeжнее». – Молодца, ротмистр!
Лисицын уже шел к своей лошади, засовывая револьвер – «Смит Вессон» это был – в блестящую черным лаком полицейскую кобуру. Морозов подбежал к краю оврага.
– Толечко что это… Не оставлять же-с… Это… Брегет! Брегет золотой от самого Христофора Федоровича!.. Обождите, ротмистр! Я в единый миг!.. Опять же-с – сигары… Гавана настоящая, что ж тута обиноваться… В единый миг!
Морозов начал шумно спускаться в овраг, придерживая палаш, и пропал в тумане.
– Надёжнее, – еще донеслось снизу оврага, с самого дна Борисовой письки, из самой ее глубины. – На… дёж… неееее…
– Разумеется! – Лисицын вернулся назад и вновь достал револьвер. Он четырежды выстрелил вниз, туда, на самое дно, и продолжал нажимать на спусковой крючок, когда под боек становились уже пустые коморы целиком израсходованного барабана. Лицо Лисицына оставалось каменным, разве что верхняя губа вместе с коротким пшеничным усом чуть кривилась с одной стороны рта.
– Нееет! – очнувшись, заорал Красин. – У него Катя! Он забрал Катю!.. Не-ееее-ет!
Жандармы, по-прежнему совершенно не слыша выстрелов и криков Красина, продолжали ехать мимо, но теперь они все, отвернувшись от обезумевшего Ивана Сергеевича, поснимали папахи и крестились на монастырские купола.
– Пустое, господин инженер. – Лисицын уже сидел в седле. – Катерина Борисовна сей же час найдется. А это у вас что – князь Глеб? – пальцем в тонкой белой замше указал на мумию.
Красин захлебнулся криком, только и смог, что кивнуть. Потом все-таки произнес:
– Эээ… это был исправник…
– Пустое, – повторил ротмистр. – С нынешнего дня я здешний исправник… Назначен как знающий местность… Верхом можете?
– Да.
– Коня! – негромко крикнул Лисицын куда-то себе за спину и вновь отнесся к вестовому, указывая на мумию. – Прими.
Из тумана явился жандарм, ведущий в поводу оседланную молодую каурую лошадь со светло-рыжей, почти белой гривой, Красин сел верхом. Вестовой осторожно взял тело князя Глеба и положил на такую же рыжую лошадиную гриву перед своим седлом. Лисицын вместе с постоянно оглядывающимся Красиным неторопливым галопом поехал вперед.
– Поо-кройсь! – прокричал впереди эскадрона вахмистр. Конники единым движением надели папахи.
– Я арестован, господин ротмистр? – спросил Красин, напряженно глядя на Лисицына.
– Нет.
– А буду арестован?
– Нет, – так же сухо отвечал Лисицын.
– А почему? – вполне резонно спросил Красин, точно зная за собою достаточно нарушений порядков, установленных законами Российской империи.
Лисицын быстро взглянул на Красина.
И вдруг новоспеченный жандармский исправник откинулся в седле и захохотал. И так же неожиданно вновь стал столь серьезен, что Красин более об своей участи ничего не решился спрашивать. Сейчас он только сказал:
– Тогда покорнейше прошу обождать меня ровно пять минут.
Лисицын вновь так же быстро взглянул на Красина. Повисла пауза.
– Хорошо, – наконец сказал ротмистр. – Поезжайте. – Он вытащил из кармана кителя точно такой же «брегет», как у Ценнелленберга, только серебряный, а не золотой – как бы в соответствии с чином, выщелкнул крышечку и посмотрел на циферблат.
«Снабжают их там, что ли, «брегетами»? – подумал тут приходящий в себя Красин, и даже бородку впервые, кажется, за сутки огладил на себе, и усмехнулся даже. Вот до чего дошло, дорогие мои! Лисицын тоже усмехнулся в усы:
– Время-то идет, господин инженер. Не уложитесь в пять минут – ваше положение существенно переменится. Буду вынужден трактовать опоздание как побег из-под стражи.
– Значит, я все-таки арестован?
Лисицын, не отвечая, насмешливо помотал часами в воздухе.
Красин повернул жандармскую лошадь в глубь леса. Место он узнал мгновенно. И сюртук с проклятыми бумажками от Визе вырыл он, как крот, мгновенно – подрыл, обдирая руки, с одной стороны, и, чуть обнажился край узла, вцепился в него мертвою хваткой и вытащил весь узел, уперевшись ногами в пень. И мгновенно – правда, не через пять, а через восемь с половиной минут возвратился Красин, прижимая к себе уже потерявший, кажется, не только вид, но и цвет узел. Лисицын, снаряжающий револьвер, молча взглянул на руки Красина, на бесформенный ком у него перед седлом, щелкнул музыкальным железным щелчком, одним резким движением руки ставя барабан на место, сунул вновь оружие в кобуру и дал повод. Красин, на секунду было подумавший, что ротмистр теперь и в него выстрелит, – представьте себе, дорогие мои! – почти счастливый Красин, посмеиваясь про себя, поскакал следом.
Тем временем туман начал быстро рассеиваться. Стал отчетливо виден пустой край оврага, начала поблескивать Нянга сквозь беспорядочно растущие вдоль нее ветлы, на низком берегу трава, вобравшая в себя влагу, заблестела – прежде чем совершенно высохнуть на солнце. Лес засверкал.
Оставшись в полном одиночестве с брошенными поводьями, морозовская кобыла покачала головой, топнула несколько раз копытами в травянистный проселок и потихоньку потрусила вслед за эскадроном, таща за собою пролетку.
В это время Катя вылезла из подземного хода. Деваха все еще сидела возле кустов. Катя и сказать ничего не успела, как та вытащила из-под себя огромное – показалось Кате – черное крыло и взмахнула им над Катею. Катя тут же оказалась в новом и чистом, застегнутом на все пуговки подряснике и в черном платке. Она положила на траву узел, связанный из исподнего и отвернула подол – новое, совершенно сухое нижнее платье оказалось на ней, сухие панталоны и сухие башмаки – тоже новые, уже не Mашины.
– Ты кто? – шепотом спросила Катя.
Девка вновь громко засмеялась, открывая рот.
– Дык я ж тебе говорила, милая. Я – это ты и есть. – И теперь она вновь совершенно как Катя захихикала: – Хи-хи-хи-хи…
– Я пойду, – сказала Катя, не желая более продолжать бессмысленный разговор и не пытаясь сейчас разобраться, почему и каким волшебным способом деваха надела на нее новое облачение. – Mеня ждут.
Девка принюхалась. Уже довольно ощутимо несло гарью. Катя подхватила узел и собралась было идти.
– Подпалила все ж-таки? – улыбаясь, спросила деваха. – Не пожалела родного дома, – осуждающе сказала она, – Махе не сказывала… Махе-то… лжу выразила… Сказывала – токмо что за камешками… В храме Господнем лжу выразила…
– Да, – краснея, на глазах становясь пунцовой, подтвердила Катя.
– А каково станет тебе ото лжи твоей, вдогад щас сама не войдешь, девонька. Разве опосля, чрез которое время.
– Я пойду! – быстро повторила Катя. Теперь она действительно почувствовала беспокойство. Катя поспешно шагнула было прочь, но в запальчивости вернулась. – А что мне оставалось?!… – заговорила она, уже не осознавая, что, кажется, оправдывается – она, Катя! Катя! И перед кем?! – Что мне оставалось?! Я Маше не сказала… Наш исправник Морозов Николай Петрович… показал мне… Циркуляр Департамента полиции! Что якобы Иван государственный преступник и поубивал людей… И по розыску надобно его взять и представить! В железах! И Морозов… обещал нам с Иваном паспорта, но чтобы имение на него, на Морозова, перевести чрез Дворянскую опеку – отдать в бессрочное управление! Что ж я… – Катя замолчала и усмехнулась такой знакомой, такой любимой нами кривой своей усмешечкой, только сейчас в ее усмешке не стало искреннего молодого счастья, а выразились только злоба и боль. – Ни ему, ни мужикам на поругание отцовский дом не достанется… Иван приедет – он этому Морозову… Уж он ему… Уж он им… – тут Катя показала кулачок. – А мы уедем… A Zurich partir. A Zurich, nous avons un endroit pour rester… Je l’ai dit Ivan – mon père a acheté une petite maison,[203] – естественно переходя на французский, добавила Катя, потому что этой деревенской девице вовсе незачем было знать, куда они с Красиным уедут, а слова о цюрихском доме сами лезли из Кати и не произнести их она сейчас не могла. – Près du parc Fridhof-Saalfeld, – еще добавила Катя, – une petite maison, un total de quatre chambres à coucher…[204]
– Non, chère demoiselle, – с сожалением сказала девка, называя Катю так, как с любовною насмешкой иногда называла ее Маша – demoiselle, то есть, «барышня» и «на вы». – Vous restez ici à Kute-Borisovo, pour toujours. Pour la vie. Vous restez dans le monastère.[205]
У Кати огруглились узкие ее глаза.
– Parce que la terre russe ne peut pas être divisé en deux… La Russie ne peut pas prendre avec vous… Mais pas fourchue, elle vit inépuisable …Pour sauver la terre, il est nécessaire de sacrifier… Et quel sacrifice pour expier un péché mortel? Seul l’amour… Un sacrifice d’amour peut seulement quelqu’un qui aime vraiment vous… Et avec Mashа ne peut pas diviser en deux, – кривою Kатиной улыбкой улыбнулась девка. – Qui se divise, on se tue, mon cher… Voilà pourquoi nous sommes avec vous, chère demoiselle, à différents moments, différentes formes acceptent devant le Seigneur…[206] И еще – добавила она по-русски: – Грех тебе за Машу надо быть отмаливать… И Mашино послушание принять об молитве Вонифатию Святому… На всю жизнь свою… Сама-то поглянь, скуль всего здеся делов набирается…
В это время эскадрон уже подъехал к усадьбе. То, что усадьба горит, было видно издалека, хотя дым бил черными клубами из двух только окон. Горящее дерево потрескивало. Красин привстал в седле. Летели искры, несло жаром, но ни одного живого человека не было возле дома, никто не показывался в окнах.
– Эсска-адроон! – поднял руку Лисицын. – Стой! – опустил руку. – В одну шеренгу! – подал он команду. – Ааа-кружай дом!.. Эх, не успели, – с досадою сказал он, повернувшись к Красину.
– Где Катя?! – закричал Красин. – Где Катя?!
– В монастыре Катерина Борисовна. В монастыре! Не извольте беспокоиться, господин инженер.
На миг сухое лицо ротмистра, обращенное к Красину, приняло совершенно человеческое, доброе и участливое выражение, и тут же вновь, лишь он отвернулся, окаменело.
Два вахмистра, пришпоривая лошадей, проскакали в оба конца – туда и обратно – вдоль выстроившихся шеренгою всадников, проверяя строй, стоявший теперь почти замкнутым кругом в некотором, разумеется, отдалении от дома.
– Заа-ряжай! Наа-аа изготовку!.. Целься!
Тут же винтовки оказались снятыми с плеч, защелкали затворы, но в кого приказывали целиться, Красин не понял. Oн нервно вертелся в седле, не зная, что предпринять. Каурая лошадка, услышав слово «шеренга», сама порывалась встать в общий ряд, Красин тянул повод.
– Бее-еглым!
И вот теперь, всё вокруг, словно только и ждало этой последней команды, пришло в движение. Oттуда, где только что по опушке прошел эскадрон, из монастыря, начал доноситься набат. Дым разом повалил уже почти из всех окон, и огонь, вырвавшись наружу вместе с дымом, страшно загудел. Полетели черные, горящие в воздухе куски дерева. И, самое главное, отовсюду, словно бы тараканы из щелей, посыпаемых дустом, полезли люди – мужики и бабы.
– Пли!
Раздались беспорядочные выстрелы. В бешеном пении огня и звуках пальбы почти не слышалось криков. Убитые и раненые падали и сразу же загорались тяжелым синим огнем, словно обмазанные мазутом, как шпалы, и, как шпалы, мгновенно становясь совершенно черными. Вспыхнув, словно бумажные, загорелись балки под черепичной крышей конюшни, и тут же вся кровля рухнула вниз. Солнца не стало видно. Каурая плясала под Красиным, он, крутясь на лошади, еле сдерживал ее, про сюртук с деньгами забыл – сюртук уже выпал у него из рук, каурая топтала копытами постепенно развязывавшийся узел.
– Осаживай! Осаживай! – кричали теперь оба лисицынских вахмистра. Наа… пле-чу!.. Вправвууу… по три! Строиии… ся!
Все пространство между построившимся вновь эскадроном и горящею усадьбой тоже горело. Тут и там на земле возникали пылающие факелы, вспыхивали даже розовые кусты вдоль дорожек, бешено горели отлетевшие от строений куски кровли и перекрытий.
В шуме огня Красин не услышал, как подлетела морозовская пролетка. Видимо, Маша в беге своем от монастыря вскочила в нее и принялась нахлестывать несчастную лошаденку. Красин оглянулся и увидел, что Катя, одетая монашкою, в подряснике и глухом апостольнике, бросила вожжи, выпрыгнула на горячую землю и страшно закричала, завизжала, прижимая кулаки к груди:
– Катя!!! Кааа-атяаа! Катя!!!
То ли сама себя звала, то ли богу огня представлялась она сейчас – так вот можно было бы подумать Красину.
– Катя! – вторя ей, с безумной радостью закричал и Красин. – Катя!
Монахиня бросилась к дому, отшатнулась от огня, закрылась от него рукавом и упала. Красин, подбежав, поднял ее на руки и, опаленный жаром, понес прочь. И вот только теперь наконец-то сначала робко закапал, потом полил чуть сильнее, потом еще сильнее, а потом потоком хлынул дождь.
8
1. Родители Кости Цветкова были врачами и умерли в один день на ликвидации эпидемии тифа. Факт эпидемии в государстве скрывали, предпочитая лечить разносимую вшами заразу водкою. Но отец Кости, Константин Викторович Цветков, уже родил Константина от жены своей Валентины Дмитриевны. Кто родил Константина Викторовича, нам также известно, но мы здесь не станем отматывать родословную нашего Мальчика до поистине Бог знает каких пределов, чтобы не быть обвиненными в превышении полномочий. Поэтому эта скромная стилизация не поднимется до технически доступных нам высот, а будет нести, как и вся наша правдивая история, сугубо локальный характер. Хотя, кстати вам сказать, дорогие мои, мы искренне полагаем, что любой совершенный текст, как, например, тот, который вы сейчас читаете, является Боговдохновленным по сути своей, словно бы человек – по Ангельской своей сути.
2. Костю с двух лет воспитывала бабушка, Евдокия Максимовна Цветкова, тоже врач. Она умерла, когда Костя уже поступил в Серафимовский – имени народного героя Серафима Храпунова – медицинский институт.
3. А потом, во время всех событий, изложенных в нашей правдивой истории, Бог дал Косте Ксюху, и Ксюха до встречи с Костею пребывала в девичестве и чистоте от лобковых и платяных вшей.
4. А потом, когда Костя спустил в Ксюху такое количество спермы, что благодатно оплодотворить оною спермой можно было бы не только что одну Ксюху, а, к примеру если взять, оба филологических факультета университетов, еще к тому времени продолжавших действовать – а филфаки уже состояли только из студенток, мальчиков не брали, мальчиков брали в армию – и все шесть продолжающих работать педагогических институтов, куда мальчиков тоже не брали, – что внутри Ксюхи сразу! с самого первого раза начал жить и подрастать Константин Константинович Цветков Второй.
5. Когда же Константин Константинович Цветков Второй родился – а мы для краткости далее станем называть его просто Костя, или Мальчик, или Ребенок – когда Костя родился, Ксюха очень удивилась. Не тому, конечно, удивилась, что Костя родился, а тому, что родился он совершенно беленьким, ну, как сметана – а Ксюха однажды видела настоящую сметану и знала, каков ее цвет – белый родился Мальчик от совершенно красных родителей. Удивляющаяся Ксюха – а стояло тогда на Глухово-Колпаковской Неистощимой Земле лето, теплый июнь – Ксюха, сама перерезав и перевязав Ребенку пуповину и покрасив ее зеленкою, омыла Рожденного дождевою водой в корыте и омылась сама, дала Рожденному сиську и, накормив, понесла его крестить в Нянгу мимо развалин бывшего монастыря, то есть, мимо интерната, в котором она когда-то жила девочкой.
6. Когда Ксюха с Костею на руках проходила, значит, мимо монастыря, ее окликнули. Ксюха оглянулась и еще раз удивилась. Возле огромного прорана в монастырской стене – Ксюха не знала, а мы вам можем совершенно точно сказать, что проран этот в одно мгновение произвела БМД, то есть, боевая машина десанта, буквально пройдя сквозь стену, а случилась БМД возле монастыря много лет назад, еще до рождения Ксюхи – возле дырки в стене сидели на поросших мхом кирпичах трое мужиков. Ксюха удивилась, потому что у них в Кутье-Борисово не только мужиков, но и вообще никаких людей много лет не было, и до рождения Мальчика Ксюха, возвратившись на родину, жила в деревне одна. Вот Ксюха, значит, и удивилась и спросила, откуда они тут, в деревне, взялись, мужики. И мужики засмеялись и сказали, что все они с Востока. Один из мужиков, лет сорока с виду, был высокий и худой полицейский, в форме, с черной щеточкою подбритых возле ноздрей усов, с черными же длинными кудрями, выбивающимися из-под каски и развивающимися по ветерку, словно лошадиная грива на бунчуке, и сам – совершенно черного цвета, как гуталин. Видимо, он был негр, более никакого иного варианта нам в голову просто не приходит, дорогие мои. Второй был молодой, маленький, с оливково-желтым лицом и косенькими глазками, с прямыми антрацитового цвета волосами на непокрытой голове, в синей китайской косоворотке прямого кроя с поперечными желтыми застежками, из чего мы с вами можем заключить, что он был китаец. Потому что если некто ростом с китайца, выглядит как китаец и одет как китаец, то он, вероятнее всего, китаец. А третий мужик был стариком с гладкою темно-коричневой физиономией, в белой матерчатой кепке и белой рубахе поверх черных штанов, тоже худой. Мы вам можем без обиняков сообщить, что третий – это индиец. Оба штатских, китаец и индиец, оказались с голубыми повязками кандидатов полиции на рукавах, то есть, по сути, тоже были полицейскими. Перед мужиками на траве лежали три автоматата.
7. Мужики попросили, чтобы Ксюха показала им Ребенка, на что Ксюха без обиняков ответила решительным отказом, сказавши, что Ребенок еще покамест не крещен, и потому от сглазу показывать его никому нельзя. Мужики засмеялись. Они сказали, что они не сглазят, потому что они – беглые, поскольку больше нету их сил каждый день с утра пить водку, даже записавшись на службу в полицию за хорошую хавку. И что их послали из Глухово-Колпакова сюда, в Кутье-Борисово, на проверку – поступило, дескать, донесение, что в одном из домов в Кутье-Борисово по ночам горит свет, хотя электричество во всем районе давным-давно не подается. И, мало того, в донесении, дескать, сообщается, что ночью высоко над домом висит неугасимо и неистощимо горящий фонарь – вовсе без столба и без какой бы то ни было силовой подводки. И что слышится из освещенного дома плач Ребенка, хотя никто в Кутье-Борисово просьб о разрешении рожать не подавал и, следовательно, Ребенок рожден без разрешения и, возможно, по взаимной любви. И что им троим приказано все это проверить и о результатах проверки доложить, но они обратно в Глухово-Колпаков все равно не пойдут, а прямо сейчас отправятся отсюда, от бывшего монастыря, в свои родные края в три стороны Земли другой дорогою. Но им так интересно взглянуть на Ксюхиного Мальчика, рожденного без разрешения по взаимной любви, что они все трое готовы сколько угодно подождать, пока Ксюха окрестит его и вернется.
8. Ксюха на это ничего не ответила, а пошла дальше вокруг полуразрушенной монастырской стены, пока ее вновь не окликнули. Ксюха оглянулась и в третий раз удивилась. С внутренней стороны стены, как раз в том месте, где в ее, Ксюхином, детстве помещался ее жилой блок, стояла маленькая, пряменькая старуха-монахиня. Она была в черном платье до земли, в черном глухом платке, а поверх платья у нее на груди висел сверкающий золотой крест размером с ладонь. Поскольку за все девять месяцев своей новой жизни в Кутье-Борисово Ксюха, многaжды проходя мимо бывшего своего интерната в лес собирать грибы и хворост или дикую рябину зимой, ни разу эту монашку не видела, то теперь, разумеется, и у нее спросила, кто она. На что монашка почему-то засмеялась. На мгновение Ксюхе показалось, что лицо старухи стало другим – молодым и гладким, что седые волосы, выбивающиеся из-под черного платка, стали огненно-рыжими, а тусклые зрачки – ослепительно синими в щелочках смеющихся глаз, но наваждение тут же исчезло. Старуха-монашка перестала смеяться и сказала, что она – Настоятельница этого монастыря Преподобная Екатерина, что Ксюха видит ее сейчас в первый и в последний раз, но что она, Екатерина, видела Ксюху многократно в течение очень долгого времени и будет видеть и впредь, и что она, Настоятельница, желает сейчас самолично крестить Ксюхиного Мальчика, и что ее сан ей это позволяет. Настоятельница повела Ксюху, держащую Костю на руках, к Нянге.
9. Настоятельница спустилась к реке возле старого моста, как раз там, где Ксюха и зимою, и летом ловила рыбу, поскольку именно под мостом клевало лучше всего. Ксюха шла следом. Неизвестно откуда, разве из воздуха, монахиня достала кисточку и баночку с елеем и прежде всего освятила Нянгу. Таков обряд крещения. Вы, дорогие мои, могли бы подумать, что Нянга, неистощимо текущая сквозь все наше правдивое повествование, освящается в первый раз, но это было бы ошибкой. Ксюха не знала, а мы можем авторитетно свидетельствовать, что Нянга освящалась многократно – и в те годы, когда Катя была послушницей, и после ее пострига, и в долгие, почти тридцать лет, годы, в которые Катя служила Настоятельницей, потому что каждый раз перед Крещенским купанием воду надобно освящать.
10. Велев Ксюхе распеленать Ребенка, Настоятельница помазала елеем его лоб, грудь, уши, руки и ноги, сказавши: «Помазуется раб Божий Константин елеем радования во имя Отца, и Сына, и Святаго духа. Аминь». Потом старуха протянула руки, и Ксюха бесстрашно положила на них улыбающегося Костю. Трижды окунала живая Катя мальчика в холодную еще по началу-то лета Нянгу, говоря: «Крещается раб Божий Константин во имя Отца, и Сына, и Святаго духа… Аминь…» Мальчик, получивший имя от Господа, гукал – смеялся, Ксюха, крестясь, тоже радостно смеялась, и даже старуха-настоятельница, вдруг прижавши мокрого Ребенка к груди, засмеялась молодым беззаботным смехом. Елея и кисточки уже не стало в ее руках. Ксюха протянула Настоятельнице заранее заготовленный деревянный крестик на льняной веревочке, та взяла крестик и прочитала над ним две молитвы. Скажем лишь, что в этих молитвах Настоятельница просила Господа влить небесную силу в крест, и чтобы этот крест охранял не только душу, но и тело носящего его от всех навет вражьих, колдовства, чародейства и прочих злых сил. Освятив крестик, старуха надела его на Костю. Потом из воздуха Настоятельница взяла белую рубашечку, и ее тоже надела на Костю. Продолжая счастливо смеяться, Ксюха услышала: «Облачается раб Божий Константин во имя Отца, и Сына, и Святаго духа. Аминь».
11. Потом настоятельльница помазала Костю миром и вернула Ксюхе, сказав: «Никуда не уезжай. Ничего не бойся». И тут же исчезла с берега Нянги, но теперь Ксюха не удивилась, потому что мгновенно забыла об явившейся к ней Кате, никогда Ксюха не знала ничего о ней, смутно помнила только рассказы бабушки о Настоятельнице монастыря Преподобной Екатерине, никогда ее не встречала и действительно никогда более не встретит – во всяком случае, в нашем правдивом повествовании – и теперь только слышала звучащие в ушах слова: «Никуда не уезжай. Ничего не бойся». А Ксюха и сама никуда не собиралась уезжать и – мы вам уже сообщали, дорогие мои, – никогда ничего не боялась.
12. Счастливая Ксюха, держа окрещенного Костю на руках, отправилась домой. Трое мужиков по-прежнему сидели на кирпичах возле прорана в стене. Теперь Ксюха сама подошла к ним и, отвернув полотенце, в которое был завернут Костя, показала его мужикам. Троекратно усиленный, единый возглас восхищения раздался в тишине Кутье-Борисова. Все трое сказали, что никогда в жизни не видели такого белого, такого красивого, такого здорового и такого счастливого Ребенка. И что теперь они будут знать, какие дети рождаются от взаимной любви. И что теперь они понимают, почему в Глухово-Колпакове так взволновались, узнав о неразрешенном, несанкционированном Рождении – таких детей ни у кого в Глухово-Колпакове нет и никогда не будет, потому что в Глухово-Колпакове ни у кого нет и никогда не будет взаимной любви. И что теперь они понимают, почему фонарь неистощимо горит над домом Ксюхи – потому что любви всегда сопутствует свет, а Божьему свету всегда сопутствует любовь.
13. Первый мужик – негр – вынул из кармана пачку талонов на сухие пайки и, сказавши, что эту пачку ему выдали на весь взвод и тут надолго хватит, сунул пачку прямо в полотенце, заменившее Косте пеленки. Еще в его руках вдруг появился золотой браслет в виде свернутой змейки с пустыми глазницами, в которых когда-то, вероятно, были вставлены драгоценные камни. Браслет явно предназначался не для Ксюхиной руки, а для руки юной, если не сказать – маленькой, да еще тонкокостной девочки. Но змейка беспрепятственно влезла на Ксюхину руку и укрепилась на ней. Негр сказал, что после службы в полиции Глухово-Колпакова ему стало ненавистно золото, а Ксюхе и Мальчику оно как раз пригодится. Второй мужик вытащил бутылочку с дымно-желтой густой жидкостью и, сказавши, что Мальчику надо давать из этой бутылочки не более, чем по одной капле один раз в неделю натощак, и что тогда он, Мальчик, вечно, то есть, до самой своей смерти будет совершенно здоров. Ксюха положила бутылочку в ноги Косте. А третий мужик достал из-за пазухи пучок тонких деревянных палочек и, сказавши, что если белому Мальчику станут мешать комары, клопы, тараканы, вши, блохи или люди, надо всего лишь возжечь одну из палочек возле Мальчика, и вся мешающая ему нечисть тут же исчезнет. Ксюха положила палочки себе за пазуху.
14. После этого все три мужика поклонились Косте, а Ксюха, благодаря за подарки ее Ребенку, поклонилась трем мужикам. А те обнялись, попрощались друг с другом, повесили автоматы на плечи и тут же пошли каждый в свою сторону из Кутье-Борисово прочь.
15. В этот миг Ксюха почувствовала тепло на запястье правой руки. Взглянув туда, она встретила распахнутый взгляд золотой змейки. Та смотрела синими блистающими глазами, только что казавшимися слепыми. Синиe камни искрили. Ксюха было подумала, что змейка сейчас заговорит с нею, как всегда происходило во всех русских сказках. Но змейка только, медленно раскручиваясь, сползла с ее руки, мягко упала на траву и пропала под кирпичами.
Неистощимая
А мы с вами, дорогие мои, опять должны вернуться к недавно произошедшему. Известие о гибели губернатора Голубовича англичане восприняли совершенно равнодушно. Но, увидевши растерянность окружающих, добрый, уже опохмелившийся Майкл Маккорнейл решил обрадовать хозяев.
– Tell them, – отнесся он к Хелен, – yesterday we’ve found a holy spring… – Тут англичанин вновь захихикал. – Holy place can not belong to anyone individually. We’ll give a drink to everybody. For free.[207]
И ресторан, и вся гостиница через пять минут после произнесения этой фразы практически полностью опустели. Гроза громыхала за окнами, и несколько мгновений все смотрели на потоки воды на стеклах и молчали.
Хелен молчала своим собственным молчанием; высокие скулы ее затвердели, радостные глаза-щелочки расширились, и стало видно, что зрачки у переводчицы синие-синие, как средиземноморская вода. Но слово «for free»[208] оказалось кем-то услышанным и понятым даже почти в полном вакууме, даже в ударах грома. Даже без помощи Хелен.
– Трахх! – грохотало за потемневшими стеклами ресторана. – Трахх!
– Why do not you translate?[209] – удивился гость.
– Because everyone already knows everything.[210]
– Really? – еще больше удивился Маккорнейл. – Well! It’s better.[211]
– Что он сказал? – приставала к Хелен Иванова-Петрова. – Что он сказал, Алена?
Хелен и ей ничего не ответила.
Маккорнейл был волен думать как ему угодно, а вам, дорогие мои, мы скажем: он сильно ошибся. Во-первых, оказалось довольно быстро, что не тем лучше, а тем хуже. Прежде всего для него самого. А во-вторых, каким бы то ни было месторождением на не принадлежащей ему земле, да еще не в своей стране, англикашка распоряжаться никак не мог. Правда, вскоре выяснилось, у него имелoсь целое межгосударственное концессионное соглашение, но это совсем другая история, дорогие мои.
– I advise you to be careful, in our country it is – a serious article of the Criminal Code, – тихо сказала Хелен Маккорнейлу. – Do you really not know? Does it go another way in Glasgow? Any land always belongs to someone else. And, of course, all that is in the land.[212]
Маккорнейл тогда не ответил или просто не услышал, будучи погружен в размышления, где сейчас находится Пэт и почему она не открыла на его стуки в дверь номера?
Когда заморские гости прибыли к бывшему монастырю, буровая установка, целая и почти невредимая, неизбывно стояла на всех четырех своих колесах и вынесенных и заглубленных в землю обоих опорах. Колеса вот, правда, оказались спущены; на покрышках виднелись явные порезы, словно следы бандитского ножа на трупе, лежащем под лампой полицейского прозектора. Кстати сказать, оставленный возле буровой на ночь полицейский наряд в лице капитана полиции Широколобова и старшины полиции Слепака, отсутствовал. Отсутствовал и полицейский автомобиль. Впрочем, вскоре наряд обнаружился крепко спящим поодаль на траве-мураве. А полицейский автомобиль – сразу вам скажем – так никогда и не нашли.
Разбудить стражей порядка не удалось. Как не удалось разбудить и немногих – сотни три-четыре, не более – местных жителей, валяющихся вповалку на Борисовой письке – по всему зеленому сдвоенному холму.
Пейзаж напоминал бы известную картину Виктора Васнецова «После побоища Игоря Святославича с половцами», если бы местные жители не лежали в куда более живописных позах, чем на картине, не могущих и присниться наивняку Васнецову, и еще если бы вместо неподъемных богатырских мечей тут и там бесчисленно не валялись бы невесомые пластиковые стаканчики всех цветов радуги. А мощного коршуна с картины Васнецова заменяла огромная стая носящихся над холмом и бывшим монастырем ворон, которые своими криками способны были бы довести до исступления простого русского человека, вставшего с похмелья. Если человек, конечно, бы встал.
И еще одно. Все недвижимо валяющиеся на холме люди оказались мокрыми до нитки. Ливень такой силы в любом случае должен был бы привести людей в чувство, тем более что холод, неизбежно охватывающий вымокших, от веку служил простым народным средством оздоровления. Так нет же! Другие жители – тоже пока не слишком многочисленные, человек пятьсот – постепенно стягивались к холму.
И над всем холмом вместе с безумными вороньми криками стоял нескончаемый собачий вой. Достаточное количество собак бродили между людьми, но все они вели себя удивительно тихо, ни на людей, ни друг на друга не нападали. И те собаки, что ходили, сидели, лежали здесь – не выли. Выла вся округа, а эти словно бы ждали кого-то. И вот вместе с появлением автобуса англичан все собаки, как одна, бросились прочь. Так звери уходят с места будущего землятрясения.
Признаться вам, дорогие мои? Никто не обратил на сие символическое действие ни малейшего внимания. А зря!
Время уплотнилось, утро уже давно закончилось, стоял полный день, но по общей неподвижности пейзажа и прекрасному, легкому голубому небу могло показаться, что только-только рассвело.
Прибыли, значит, сюда сам Майкл Маккорнейл, по-прежнему остававшаяся чрезвычайно хмурой Хелен и Иванова-Петрова, бесперечь фотографирующая цифровым фотоаппаратом бродящее вокруг население, саму буровую установку, храпящих в траве ментов и мужиков, в различных ракурсах окрестности, орущую воронью стаю и затаенно молчащие монастырские стены. Меж делом она ненавязчиво сообщила, что обед безусловно будет привезен вовремя, ровно в пятнадцать часов, а пока вон – в автобусе коробки с питанием, милости просим в любое время. Дык ведь честно не знала Ирина, где она будет и что с нею самой будет в пятнадцать часов… И, разумеется, тяжело вылезли из автобуса двое маккорнейловых инженеров, Райан и Кристофер, оба, как и сам Маккорнейл, с потемневшими лицами, с черными горелыми подглазинами, словно выведенные после ремонта из полка[213] старые кавалергардские кони с подпалинами на шкурах, и оба, как и сам Маккорнейл, с мутными, страдающими глазами. Вслед за автобусом на травку вывернула полицейская «десятка» сопровождения с новым отряженным к англичанам нарядом – старшими лейтенантами Кузнецовым и Шумейкиным. Эти двое, ничего ни у кого не спрашивая, молча потащили так и не проснувшихся коллег в свою машину, покамест не обративши на остальных граждан никакого внимания. А граждане уже окружили буровую установку плотным кольцом. Полиция, как и всегда, опоздала.
Полицейские старлеи поначалу встали возле буровой, покрикивая:
– Разойдись! Кому сказано?!
Но вскорости явился из «десятки» мегафон, и полицейские обратились к народу уже с помощью техники:
– Граждане! Немедленно покиньте место бурения! Граждане! Покиньте место бурения!
Граждане молча все собирались и собирались вокруг, все прибывая и прибывая. Оказалось тут народу, чтоб не соврать, уже тысячи две, а то и три. Полиция впоследствии докладывала, что, дескать, пятьсот человек собралось – всего, за прошлую-то ночь и нынешний день, но эта цифра оказалась вовсе не на руку армейским частям и Овсянникову, которые каждый доложили потом по собственному начальству: пятнадцать и двадцать пять. Тысяч. Но мы вам, дорогие мои, можем точно сказать, – ко времени прибытия по воздуху специальных подразделений – в самой, что называется, высшей точке события – народу на холме собралось около восьмидесяти тысяч человек, и народ продолжал прибывать.
Третий инженер, Джозеф, не нашёл в себе сил приехать и остался в гостинице. Чуть-чуть заглядывая в будущее, можно заключить, что это его спасло. Не приехали, как вы сами понимаете, и Пэт, и Денис, и Коровин. Отсутствие Дениса и Коровина не сильно обеспокоило Маккорнейла, а в дверь Пэт муж утром долго, как мы вам уже сказали, стучался, даже, по сути, ломился и несколько раз прокричал «Patty, are you sleeping?! Are you sleeping, Patty?!»[214] – то есть, даже не прокричал, а проревел ослиным ревом. Находись Пэт в номере, она уж проснулась бы обязательно. Тут – простите нам этот тяжелый юмор – тут мертвый проснулся бы. Но Пэт в это время уже ехала с Коровиным к мосту, навстречу своему последнему счастью.
Коридорная из-за ресепшена, горничная и уборщица с их третьего этажа исчезли. Маккорнейл пошёл садиться в автобус. Столь опрометчиво данное им обещание даром напоить Россию нисколько заморского гостя не тяготило. На головном ресепшене внизу пожилая девушка c ужасным произношением ему поведала, что missis MacCorneyl has already left with the yesterday’s translator. With the young man. Right a minute ago.[215]
По лицу мужа при этом известии невидимо для всех, кроме нас с вами, дорогие мои, пробежала судорога. Майккорнейл провел языком между губами и челюстью, цыкнул зубом и сказал хмурым Райну и Кристоферу:
– Let’s go. Pat is waiting for us at the monastery.[216]
Ну-с, прибывши, значит, на место вчерашней дислокации, гости обнаружили мертвое поле, как мы уже вам сообщили, дорогие мои. А между лежащими бродили вновь появившиеся здесь люди и собаки. Причем собаки все до одной дружно покинули холм при появлении англичан.
Тем временем оба старших лейтенанта, Кузнецов и Шумейкин, начали ходить вокруг буровой установки кругами и, наконец, присели на корточки возле ярко-желтого насоса, выносящего на поверхность выбуренный шлам – смешанную с водкою пульпу.
– У нас указание начальства, – пробурчал Кузнецов через плечо.
– They ordered by the sheriff.[217] – Тут же перевела Хелен.
– During the night, then it was pure substance without admixtures. It is a scientific fact.[218] – задумчиво заключил Маккорнейл. – If they all lay down here… But how did they know? Who blabbed ahead of time?[219] – Он оглянулся на Райана и Кристофера. – How did the natives run the drill? Ryan, do you have a key?[220]
Хмурый Райан вытащил из кармана черный пятидюймовый овальчик с разноцветными кнопочками – классический автомобильный пульт с сигнализацией, разве что сам ключ при пульте отсутствовал, посколькy в буровой отсутствовал за ненужностью замок зажигания. Райан пикнул одною из кнопочек – буровая никак не отозвалась.
– Who blabbed ahead of time?![221] – ослиным своим ревом заревел Маккорнейл.
– Yesterday we were at the restaurant. Do you remember, boss?[222] – на темном лице второго инженера, Кристофера, появилась кривая усмешка. – We all drank there at the restaurant. And almost did not drink here… Do you remember?[223]
– No![224] – отрезал Маккорнейл.
– Че это они собачатся? – спросил, не вставая от насоса, полицейский. – У меня указание, чтоб было все это… Без происшествий. А то, знаешь… А то…
– От них происшествий больше не будет, – словно бы пифия, отвечала Хелен. – Ты давай, делай, что тебе приказано. Они свое уже все сделали!
И Хелен очень неприятно захихикала. Как китаец: – Хи-хи-хи-хи…
– А я и делаю, твою мать, сука! – закричал полицейский и вновь нервно повернулся к насосу.
Мы не знаем, как это произошло, но все четыре полицейские руки вдруг одновременно оказались на красном шестигранном вентиле, открывающем подачу шлама на гора». Не сговариваясь, старлеи молча сорвали вентиль. Из оголовка шланга выкатилось несколько капель бесцветной влаги, но насос, разумеется, не будучи запущен, не заработал, неистощимая струя не ударила, против ожидания полицейских, в небо. Кузнецов поднялся, подошел к другому пульту – на боковине буровой установки и попытался запустить насос – тщетно, солярка-то закончилась еще ночью, вот буровая и не фурычила; двигатель чихнул пару раз и затих. А Шумейкин вдруг тяжело задышал и страшным звериным движением припал к выходящему из вертлюга[225] красному оголовку штанги, словно бы голодный волк к хлещущему кровью горлу козленка. Мгновение Шумейкин обсасывал оголовок, потом отвалился от него, вытер рукою губы, как вурдалак, и тоже поднялся. Англичане и отнаряженный администрацией мальчишка-шофер из-за руля микроавтобуса англичан – поскольку и Райан, и Кристофер отказались веcти – все молча смотрели на стражей порядка, ожидая дальнейшего выполнения указаний русского шерифа.
– What are they? – повернулся Маккорнейл к Хелен. – Crazy?[226]
– Work…[227] – коротко объяснила Хелен и тихонько отнеслась уже к Кузнецову как старшему наряда: – Ребята, вы что время тянете? Надо немедленно установку вывозить отсюда…
– Our police in Scotland is crazy too,[228] – сообщил английский гость.
Теперь оба стража по-волчьи ощерились и засмеялись, словно бы поняли сказанное.
– А ничё, блин… У нас приказ буровую опечатать, а при невозможности опечатать – взорвать. Поняла? У нас никаких тебе печатей нету ни хрена. А вывезу ее как я тебе, блин? У ей вон, глянь, конкретно колеса порезаны… Щас взорвем, на хрен. Поняла?
Нам даже показалось, что старший лейтенант Кузнецов хотел еще добавить «сука английская», совершенно не предполагая, что эти слова стали бы полною правдой – Хелен и в самом деле являлась, во-первых, сукой, что для нас с вами непреложный факт, дорогие мои. Если она стучала сразу по нескольким адресам. А во-вторых, именно самой настоящею английской сукой, потому что у нее имелся английский паспорт на имя Helen Vancloss. Ван Клосс – фамилия голландская, так что Хелен являлась еще и самой настоящей голландскою сукою, и у нее имелся еще и голландский паспорт на почти ту же фамилию Helen van Kloss. Всего этого простой русский старлей полиции знать не мог, но чувства! интуциция! И не надо ему говорить, что ему, блин, надо и что не надо щас делать!
– Какие тут печати, Боже мой, – потерянно произнесла Хелен. И вдруг заорала: – Взрывай! Взрывай скорее!
– What’s wrong with you, my girl?[229] – обеспокоенно спросил Маккорнейл.
Вдруг оба полицейских, ничего более не говоря, рысцою побежали к своей машине, вскочили в нее и уехали.
Время безумно уплотнилось.
В эту самую минуту полковник Овсянников со своими сотрудниками, осваиваясь в еврашкинской противооливкой форме, въезжал по поваленным воротам на двор Валентина Борисова – уже не сам за рулем, разумеется.
Голубович уже выспался и проснулся совершенно здоровым, преодолел красное картофельное поле под жесточайшим ливнем, уже разделся догола и отправился на Mариковой машине в город и вышиб Мормышкина из своего кабинета.
Уже Ритка Ящикова бросала у себя в номере шмотки в чемодан и вызвала такси до вокзала, причем операторша в колл-центре почему-то приняла заказ со странным смехом.
Уже опустились на дно Нянги и теперь обнялись навек – так их обнявшиеся скелеты навсегда и занесет илом, никогда их не найдут – Коровин и Пэт. А секретаря Максима пронесло над ними дальше вниз по течению – к самой Балтике.
Уже Мормышкин, почесывая яйца – да что там за яйца! мелкие, как перепелиные! третьей категории! сидел, прикованный к креслу, в микроавтобусе и не звал никого, и уже не всхлипывал.
А Ирина Иванова-Петрова достала из сумочки смартфон, напикала на дисплейчике номер и, не обинуясь, сказала своему абоненту, не понимая, что звонит словно бы в далекий, давно уже прошедший день:
– Прибыли, Вадик. Целую тебя.
Она мгновение послушала ответ, оглянулась на толпу и доложила:
– Старая смена была в отключке. Новая почудила и уехала и ночных ментов увезла… Как это «не обращай внимания»? Тут ни одного мента сейчас нет…
Но ее абонент уже отключился. Она еще раз оглянулась и теперь увидепа то, на что смотрели остальные: со всех сторон к Борисовой письке шли и ехали люди. Весь холм представлял собою движущийся муравейник. Пешком, на велосипедах, на мотоциклах и скутерах, на тракторах, иногда и верхом – в Глухово-Колпаковской губернии кое-где еще держали лошадей, а чаще – на гудящих в человеческой гуще машинах вся область шла и ехала сюда, к ним, в единственную обетованную точку мироздания.
Постоянное и ничем не победимое стремление наше к правде заставляет нас свидетельствовать, что первые несколько мгновений существовала очередь. За это время Ирина успела еще раз позвонить и доложить:
– Разливают, Вадюша! Разливают! Народ…
Сей последний ее доклад, во-первых, оказался преждевременным, поскольку в ту минуту, когда единственный идентифицированный нами из таинственных глухово-колпаковских голосов произнес «разливают», никакого розлива даже не начиналось, активничающая дама опережала события, во-вторых, розлив и не мог начаться, поскольку водочная струя не поднимается из глубин сама по себе, это же вам не колодец, дорогие мои, без работающего выгружного насоса жидкость при отсутствии водоносного пласта сама не поднимается, а насос, как и вся буровая установка, не мог работать без горючки, а ее еще не успели залить, а в-третьих, как только постоянная любовница губернатора, она же подружка Овсянникова, она же личный его агент Пирожков, произнесла во второй раз «Разливают!» и собралась было доложить, что народ выстроился в очередь, сама очередь немедленно оказалась смята напирающими сзади, слева, справа, чуть ли не сверху и снизу, и чья-то цепкая рука схватила честно отрабатывающую начальницу поваров за локоть и потащила сквозь толпу. Сексотка тут же выронила смартфон, фотоаппарат и сумочку, закричала: «Подождите! Смартфон! Фотик! Деньги! Документы!» – и услышала в ответ почти что голубовическое:
– На хрен, мать твою! Дура! За мной!
Ирина оглянулась – железною хваткою ее держала Хелен и тащила за собою к автобусу. Как они прошли сквозь сомкнутые тела обезумевших людей, Бог весть.
Вскочивши в автобус, обе тетки обнаружили, что местный водитель отсутствует. Коробки с эксклюзивной жрачкою тоже исчезли. Но ключ зажигания торчал в замке.
Хелен прыгнула за руль, закрыла входную дверцу и, давя кричащих и сразу обмякающих под колесами людей, поехала прямо сквозь толпу с Борисовой письки прочь, даже не увидев стоящий внизу, под холмом, голубой секретарский «Hиссан». Но Иванова-Петрова, ошарашено крутя головой, хорошо знакомую ей машину Максима узнала и успела заметить, что ни за рулем, ни рядом с машиною никого нет. Ирина отметила это обстоятельство, чтобы потом доложить о нем Овсянникову: если голубовичевский секретарь здесь, то все происходит наверняка не без знания о событиях какого-то высшего начальства. И тут вдруг честная сексотка вспомнила не о Вадике, а о погибшем Голубовиче, о голубовичевском, как бы вам сказать, дорогие мои…, о голубовичевском детородном органе, о крутых губернаторских яйцах, хлопающих ее по ляжкам – самая оказалась для сего подходящая минута!
Мысль перелетела – именно о сегодняшней ночи с Голубовичем вспоминала сейчас Хелен, с каменным лицом вцепившись в руль и время от времени давя двигающихся к монастырю глухово-колпаковцев с ведрами, канистрами, пустыми пластиковыми бутылками в руках, сбивая не успевающих увернуться велосипедистов и скутеристов и чиркая по бокам встречных автомашин левым боком угнанного транспортного средства. Колеса и бока доставленного в Россию мерседесовского микроавтобуса давно были в крови, словно лезвия и внутренние стенки мясорубки; никто на шоссе не обращал ни на что внимания; люди торопливо шли и ехали вперед, как зомби. А Хелен вспоминала, как Голубович утром брал ее в зад, каковой процесс она, Хелен, разрешала партнерам не очень-то и часто, но сегодня только тихонько ахнула, когда губернатор осуществил свое право областного сюзерена. Странная кривоватая улыбка появилась сейчас на уже оттаявшем и начавшем привычно щуриться лице переводчицы. Хелен заерзала на сидении, чувствуя, что подмокает и тут поняла, что утром, вымывшись в губернаторском душе, не подложила прокладку.
Она полуобернулась к Ирине Ивановой-Петровой от руля и спросила о самом главном, что ее волновало сейчас, после того, как она, словно самые обычные российские менты, бросила порученных ее заботам людей и проехала колесами по доброму – извините нам это слово – десятку живых людей, сразу же, разумеется, ставшиx неживыми:
– Ты Ивану часто в жопу давала?
Не ожидавшая этого вопроса, так и не сумевшая сегодня ни утром, ни днем накормить заморских гостей, начальница губернаторского питания, будучи женщиной вообще-то правдивой, естественно сказала правду:
– Конечно!
И тут Хелеп почему-то опять перестала улыбаться и дальше вела уже вновь молча, неотрывно глядя на дорогу. А Ирина, пока позади, на оставленном ими холме, не раздался взрыв, удивленно думала, что неужели есть женщины, тем более в Европе, в Англии и даже пусть и в горах Шотландии, которые не дают своему милому в зад? Фригидные разве? Так ведь Хелен никак не похожа на фригидную тетку.
Но вернемся на наш холм с таким милым, родным названием.
Народ, обступивший буровую установку, мгновенно голыми руками вырвал ротор, вертлюг, вытащил из земли сам бур на стальной оси. Tот непреложный факт – а мы, как вам, дорогие мои, доподлинно известно, никогда не врём, – что ночью буровая без пульта запустилась, а сейчас ненавистный английский вертлюг мгновенно оказался сломанным и отодранным от ротора, и что такой же ненавистный стальной бур с такою же ненавистной английской алмазной гранью вытащен, – неопровержимо свидетельствует: народу нет преград! Нашему народу нету! преград!
Мы не станем тут засорять ваше сознание словами, повисшими в воздухе в процессе разрушения буровой установки. В самом начале, когда Хелен схватила за локоть Ирину и потащила ее к автобусу, a толпа возле буровой не была еще такой плотною, словно бы вся наша – согласно совершенно неразделяемой нами теории – Вселенная в точке сингулярности,[230] можно еще было расслышать голос Маккорнейла:
– Wait! Wait! What is it! Let’s set a line![231]
Но тут Маккорнейл заревел – как у него водилось, – ослом, рев прервался, еще раз было вскинулся над холмом и затих, его сменило общее «Аааааааааааа!!!!», не нуждающееся, как и предсмертный рев, в переводе. Cлышалось сопение и страшный треск ломающейся стали, потом раздалось:
– Бери, блин! Взяли на три-четыре! На ноги, блин, не наступай, завалю, на хрен! Mать твою! Три… четыре!
Это вытаскивали стальную полую штангу с буром.
Kак только вытащили бур, вопреки всем законам гидравлики, сам по себе, без выкачивания, на головы людей обрушился вырвавшийся из скважины водочный ливень.
К этой минуте относится и звонок еще одного таинственного глухово-колпаковского голоса на номер голубовичевского смартфона – звонок, принятый все еще валяющимся на шоссе зареванным Мареком:
– Рр… раззз… ливают, босс! Ей-Богу! Разз… ливают! Она! Я, блин, уже!.. Изз… винн.. нн… нните, босс! Халява! Халява! Халява!
К этой минуте относится и служебный звонок на один из номеров Овчинникова, находящегося еще на дворе Валентина Борисова перед мертвою его подругой Машкой:
– Разливают, товарищ первый. Ждем указаний.
К этой же минуте относится и сухой звонок в московский кабинет, лапидарно доложивший:
– Разливают.
Выслушавший это человек, как мы вам уже сообщали, дорогие мои, тут же встал и вышел из своего кабинета.
Водочная струя фонтанировала – чуть мы не написали «буквально минуту» – нет, меньше минуты, звонки свои глухово-колпаковские голоса едва успели произвести, как струя на глазах опала, и тут же вовсе прекратила течь. Вспомнив еще раз азы гидраврики, можем вам поведать, дорогие мои, что давление в водочноносном слое и давление на поверхности пришли в равновесие. Так прежде врачи пускали избыточную кровь у больного с повышенным давлением.
Некоторое время возле сырой дыры в земле кипела драка за возможность к этой дыре припасть жадным ртом, зарезали в драке всего троих человек, но вскоре народ понял, что не идет водка, не-и-дет, и люди отодвинулись. Стали видны, кроме этих троих, скрытые прежде среди сотен ног, тела Маккорнейла, Райана и Кристофера.
Короткое повисло затишье.
– Пацаны, а эта хренотень? – раздался голос. – Буровая эта… Захреначим, чтоб фурычила… Как вчера, блин… А?
Заговорили сразу сто человек.
– Крыша едет, блин? Ты позырь… Че от нее, блин, осталось-то…
– Драной письки делов, ща починим, нехрена делать!
– Нехрена по-пустому базарить, вот че нехрена.
Но мы избавим вас, дорогие мои, ото всех ста поданных «pro» и «contra» реплик. Потому что сомнений не только в народном гении разрушения, но и в народном гении созидания мы никогда не испытывали.
– Ну, давай, вали за солярой, если ты такая мозга, блин, – вынесен был вердикт.
Одновременно человек пятнадцать начали пробираться к машинам, стоящим среди людей, как в океане – острова архипелага.
По досадной случайности в бак разрушенного английского «Граффера» оказался залит девяносто восьмой бензин, а вовсе не солярка. Ну, случайность… Ну, бывает… Не надо искать тут происков врагов, а тем более чей-то осмысленной работы. Пацаны торопились, их можно понять. Жажда.
А вы знаете, дорогие мои, что бывает, когда дизельный двигатель запускают не на солярке, а на высокооктановом бензине?
– Давай, блин! Хреначим!
Некто в потрепанном джинсовом костюме, не видимый нами со спины, соединил проводки.
Впрочем, возможно, залита оказалась именно солярка, а не бензин. Это выяснится, возможно, потом, не торопите нас. Наше правдивое повествование почти подходит, дорогие мои, к концу. Тем не менее обо всем мы успеем рассказать. Во всяком случае, последствия да и сам масштаб этого второго за день Глухово-Колпаковского взрыва, произошедшего от – примем эту версию за рабочую – залития в бак вместо соляры бензина, превзошли все наши ожидания.
В эту самую минуту голубой «Hиссан» Максима Осинина – навсегда исчезнувшего личного секретаря губернатора Голубовича, лишь мгновение задержавшись на дороге внизу холма, где люди нетерпеливо ломали аккуратненькую, на колесиках новеньких буровую Graffer, словно бы милую девочку хором насиловали, заманив ее на зеленый травянистый холм, – в эту минуту «Hисcан» уже подъехал к резиденции губернатора. Денис вылез из-за руля и с интересом посмотрел на припаркованные здесь джипы и микроавтобус. Джипы явно были пусты, а из автобуса, как показалось ему, доносились странные свистящие звуки. Даже в относительной тишине, временно разлегшейся на площади между зданием областной aдминистрации – Глухово-Колпаковским Белым Домом – и гостиницей «Глухово-Колпаков», свистящие эти звуки мудрено было бы расслышать, но не такому человеку, как Денис. Он еще почему-то поморщил нос, как недавно делал это лысый усач в Bанькином кабинете.
Денис мгновение постоял сбоку, перед черным зеркальным окном, прислушиваясь, потом зашел от руля, попытался вглядеться сквозь единственное незатемненное лобовое стекло, но внутренность салона отделяла от места водителя закрытая дверца. Денис зашел с другой стороны, и вдруг рука его – мы даже не успели заметить, как это произошло – отлетела со сжатым кулаком от тела и пронзила стекло; грудь Дениса правильно развернулась при ударе, нога в автоматическом режиме встала на упор; это был классический джеб, которому позавидовал бы любой профессиональный боксер. Хоть Мохаммед Али.
Будь удар чуть менее мощным, стекло бы просто осыпалось. Но скорость пронзaния преграды оказалась велика, как у не менее классических чоку-цуки[232]. Поэтому в автобусном стекле образовалась дыра диаметром сантиметров в пятнадцать, как от бронебойного снаряда. И тут же три глаза – два ясных денисовских и один темный глаз дула «беретты» заглянули в нee.
По-прежнему прикованный к ручке, развалившись на сидении и разбросавши ноги по проходу, в автобусе спал Мормышкин, издавая нежно свистящие звуки, какими в Индии странствующие дервиши выманивают дрессированную кобру из мешка. Так что мы можем засвидетельствовать, что Мормышкин и храпеть-то, как нормальный мужик, не умел. Он не проснулся и от звука пробитого стекла.
Незастегнутые штаны Мормышкина оказались мокры от паха до простроченной кромки и распространяли ужасный запах мочи, которым, пропах весь автобус.
Денис покрутил носом точно так же, как это делал лысый усач, словно бы они с лысым прошли курс эстетического воспитания у одного и того же педагога.
В эту самую минуту в большом зале Глухово-Колпаковского Белого дома двое вимовцев, закинув автоматы за спины, внесли и с грохотом обрушили завернутое в простыню тело актрисы почему-то не на стол президиума, а на отдельно стоящую трибуну с привинченною к нею двуглавой разлапистой птицею – прямо поверх обеих отвернувшихся друг от друга клювастых голов. В колготах с дырами на пальцах ноги убитой вывалились из простыни и свесились с одной стороны трибуны, а голова, все еще завернутая в пропитанную кровью материю, словно бы в плащаницу, свесилась с другой стороны. По залу пронеслись подавляемые женские вскрики.
– Господи, да что ж это? – явственно прозвучало.
– Коллеги, – негромко только одно это слово произнес лысый, и вскрики мгновенно стихли. Усы его вдруг оттопырились вперед, словно у кота, и сам он чрезвычайно стал походить на кота, словно бы превращенный в человека булгаковский кот Бегемот. Лысый внимательнейшим образом осмотрел собравшихся и вновь заговорил: – Я прошу внимания, коллеги. Как вы знаете, несколько часов назад произошло чрезвычайное происшествие – в результате террористического акта трагически погиб губернатор вашшш… нашей Глухово-Колпаковской области всеми любимый Иван Сергеевич Голубович…
Тут уж и вскрики, и рыдания, и общий шепот вновь поднялись и опали под взглядом говорящего. Установленные в проходах зала телекамеры безостановочно работали.
– Назначена комиссия по расследованию происшествия. Комиссия в ближайшее время вылетит из Москвы. А пока временно исполняющим обязанности главы области назначен всем вам прекрасно известный Виталий Алексеевич Мормышкин, ваш… наш местный уроженец, глухово-колпаковец…
Лысый сделал паузу, но поскольку в зале стояла полная тишина, он медленно поднял перед собою ладони и произвел ими три затяжных акцентированных хлопка: хлопп… хлопп… хлопп…
Раздались аплодисменты.
– Да… – лысый махнул рукою, указывая, что аплодисменты можно прервать. – В настоящий момент времени Виталий Алексеевич знакомится с документами. Приступает к работе новое правительство области.
По залу прошло шевеление и вновь стихло. Лысый протянул назад, куда-то себе за ухо, руку, и тут же в руке у него таинственным образом возникла та самая папочка-самоскрепка, из которой он подавал Мормышкину бумажки на подпись.
– К сожалению, произошло еще одно чрезвычайное происшествие. – Лысый посмотрел на трибуну, и людям в зале показалось, что под окровавленной простыней ноги в порванных колготках шевельнулись. – Лишь только Виталий Алексеевич вступил в должность, – сообщил лысый, – на него тоже было совершено покушение.
– Господи! – опять произнес кто-то несдержанный.
– Нетрудно сделать вывод, коллеги, что в Глухово-Колпаковской области создана глубоко законспирированная, и теперь вышедшая на непосредственное осуществление терактов антигосударственная организация. В связи с этим в области объявляется чрезвычайное положение. Все выборные институты и лица временно слагают с себя полномочия, и вся полнота власти переходит к Виталию Алексеевичу Мормышкину! Уже подписан соответствующий Указ. Вы можете убедиться сами, коллеги. Один из террористов, вернее сказать – террористка застрелена при попытке осуществления теракта.
Лысый шагнул к трибуне и другой рукой сорвал с Катерины простыню. Материя взвилась в воздух и совершенно бесшумно опала на пол. Теперь поверх трибуны с закрытыми глазами парила в воздухе та самая юная, тонкая и трепетная темно-русая девочка в полупрозрачной розовой материи, не скрывающей ни горящих коралловых сосков на небольших, но прекрасных грудках, ни чуть более темного, чем волосы на голове, пушистого треугольника у нее в межножии, ни глубокого темного пупка на белом мраморном животе, ни замечательных, идеально круглых ягодиц – в полупрозрачной, значит, материи. Ну, та, та самая.
– Аааахххх… – пронеслось теперь по залу. И в третий раз прозвучал чей-то страстный призыв: – Господи!
Лысый непонятно откуда, словно бы, как и папочку с Указами – из воздуха, выхватил пистолет. Стремление к правде и – вы уже поняли, дорогие мои, – интерес к оружию, как у каждого бывшего офицера, заставляет нас свидетельствовать, что в руке у лысого оказался не наш «макаров», а такая же, как у сотрудника Дениса, девятимиллиметровая Beretta 92, производящаяся по итальянской лицензии чуть не всеми странами мира, кроме Российской Федерации. Да-с, выхватил, значит, пистолет, но не успел выстрелить, потому что на руке у него, точно так же, как утром на руке Дениса, запел-зацикал огромный кругляш часов: – Цэ-цэ-цэ-цэ… Цэ-цэ-цэ-цэ… Цэ-цэ-цэ-цэ…
И в ту же секунду в распахнутые двери зала быстро вошел, словно бы не замечая охранников, Голубович с неизменною уже телекамерой на плече, болтая от быстрого шага из стороны в сторону блестящим после скоротечного интервью Ритке, отражащим свет пенисом. Пенис Голубовича теперь посылал бесчисленные световые зайчики по всему Большому залу, словно бы крутящийся зеркальный шар. Как на новогодней елке.
Но мы, дорогие мои, оставили вас возле взорвавшейся буровой установки.
Взрыв был такой силы, с которой никакой на свете двигатель взорваться никак не может.
Так что теперь мы возвращаемся, дорогие мои, к тому уже отображенному нами моменту, в который кортеж Овсянникова одновременно с тремя колоннами военных грузовиков въехали с четырех сторон на холм. Чуть в стороне прямо на шоссе один за другим садились вертолеты, и, плавно катясь узкими гусеницами по выдвижным аппарелям, выезжали из них БМД – боевые машины десанта.
IX
Александра Ивановича Хермана с его свитою – поэтом Окурковым и мадам Облаковой-Окурковой – провожали на Варшавский поезд два жандармских офицера, двое носильщиков с громыхающими тележками, на которых возвышалась гора чемоданов, и служащий гостиницы Savoy – тот самый, который вместе с полковником Ценнелербергом вошел в holl на последнее историческое заседание Главбюро. Видимо, сей работник курировал всех останавливающихся в отеле русских революционеров или же отвечал за течение всех непредвиденных ситуаций вплоть до их благополучного разрешения – мы не знаем.
Впрочем, жандармы-то проследовали с Херманом до самой Варшавы и потом до самой границы империи, буквально до переходного пункта, где под вагонами меняли колесные пары для перехода на другую, европейскую, колею – ехали в соседнем купе и беспрерывно курили, даже ночью, вызывая ненависть мадам, – так что, если исключить носильщиков и стоящего возле вагонной двери проводника, находящихся на платформе по службе, провожающий был всего один – господин из «Савоя». Для Александра Ивановича этого оказалось вполне достаточно. Он снял цилиндр, тут же снял цилиндр и поэт Окурков.
– Друзья! – громко и без запинки произнес это слово Херман. Савоец тревожно оглянулся, предполагая, возможно, появление упомянутых друзей, а оба жандарма невозмутимо пускали папиросный дым из-под усов; дым легко подымался в безветренное голубое небо. Носильщики лупились на Хермана, ожидая расчета, один из жандармов кивнул им, и те начали сгружать чемоданы на дебаркадер. – Друзья! – две шедшие мимо дамы в шляпках набекрень остановились, переглянулись и вдруг, взявши друг друга под руки, быстро зашагали прочь. – Друзья! – в третий раз повторил Херман и глубоко вздохнул.
– А как будет, вашшбродь? – снимая шапку, спросил один из носильщиков. – Уговор был за одно место…
– Цыц! – приглушенно отнесся жандарм к нему. – На!
Жандарм положил в протянутую ладонь несколько монет.
– Я покидаю Родину, – начал, наконец, Херман.
– Премного вами благодарны, вашшбродь. В котором купе изволите?
– Цыц! Второе, третье и четвертое.
Носильщики принялись, топоча сапогами и стукая ребрами чемоданов об углы внутри вагона, заносить багаж.
– Есть благо, которого власть отнять не может, – это воспоминания. Разве догадаются поить дурманом или наливать какой-нибудь состав в мозг? Нет, нет и нет! – громко сказал Херман. Жандармы переглянулись. – Теперь мне понятно, что начинать надо с восстановления помяти народа… С воссоздания памяти народа… Вновь прочитать воспоминания Екатерины Великой, например… или Радищева…
Жандармы вновь переглянулись.
– А сейчас бранить или хвалить какое-нибудь всеобщее явление – дело совершенно праздное, извиняемое только благородным увлечением, в силу которого вырываются речи негодования или восторга. Столь же бессмысленно осуждать какую-нибудь народную слабость, если сам народ покамест слаб. Но он станет сильным! Доверие к роду человеческому требует настолько уважения к вековым явлениям, чтоб, и отрешаясь от них, не порицать их: в порицании много суетности и легкомыслия… Кто бранится, тот не выше бранимого: бранятся там, где недостает доказательств… Покамест Россия мертва. Но она очнется ото сна! Очнется! И я обращаюсь к живым! Живые услышат! Услышат! Спящие проснутся!
Раздался троекратный удар вокзального колокола.
Мы могли бы сказать вам, дорогие мои, что почти так же звонил колокол на колокольне монастыря через три дня после изображенных в нашем правдивом повествовании событий – гибели монахини с Катиным лицом на пожаре усадьбы князей Кушаковых-Телепневских. У монахини просто остановилось сердце. Однако мы уже обещали вам не описывать никаких похорон, похоронных звуков колокола, похоронных процессий, слов над телом… И не станем. Тем более когда это касается Кати. Кати! Кааааатииии! И никого не нашлось во всем Кутье-Борисово, кто бы открыл ему истину. У каждого, знающего правду, собственный оказался интерес. В том числе и у Лисицына, который поступил с Красиным более чем… Ну, более чем… Долг он свой нарушил служебный, разве нет? Не ради Красина, ради Кати. Ну, а на самом деле присутствие здесь, в России, Ивана Сергеевича Красина совершенно в планы Лисицына не входило. Даже в качестве заключенного Петропавловки.
Мы можем про похороны одно вам рассказать. Стоящий у еще открытого гроба Красин в таком находился состоянии, что словно бы не увидел – а видел он ее только со спины – наглухо закутанную в черное одеяние, скрывающее и лицо ее, и фигуру, монашку, упавшую на гроб и с рыданиями обнявшую мертвую Катю. И тут же две другие монашки эту подняли и увели. Да и то – Красин-то ни разу в жизни не слышал, как рыдает Катя. Красин тогда без единой слезинки в глазах стоял и неотрывно смотрел на мертвое Катино лицо. А рыдавшая над гробом монашка, отошедши на достаточное расстояние, оттуда тоже безотрывно смотрела на Красина, теперь роняя слезы совершенно бесшумно. Так вот они увиделись, вернее – не увиделись в последний раз в жизни. Катя знала, что это – прощание, и Красин знал, что прощается с Катей, глядя сначала на ее ставшее уже совершенно мраморным лицо, потом на опускаемый в могилу гроб, потом на быстро вырастающий над могилою земляной холмик и деревянный крест, столь же быстро устанавливаемый на могиле.
И довольно об этом, дорогие мои. Маша по особому благословению церковных властей с младенчества жила и воспитывалась в монастыре – таково было желание князя Бориса Глебыча. И мало кто знал, что дочерей у князя две. Маша почти не показывалась на людях. Такую жизнь выбрал для нее отец, и она сама выбрала для себя такую жизнь.
Князя Глеба похоронил Красин рядом с братом, рядом с Катиным отцом, в фамильной усыпальнице, где лежал еще и Катин дед, кавалергард. Тут мы не станем тоже ничего для вас расписывать, дорогие мои. А для Катиной могилы Красин замыслил особенный памятник и собирался заказать его в Питере и сюда доставить, в Кутье-Борисово.
Да! А мы же вам забыли сообщить о Сельдерееве. Mы коротенько. Сельдереев несколько часов просидел у себя на квартире, время от времени выходя на лестничную свою клетку покурить. Сельдерееву в штатском своем платье, ожидаючи непременного с минуту на минуту ареста, разрешалось тут разгуливать с трубочкою под присмотром парного жандармского наряда. Сельдереев даже пожаловался, что в квартире курить ему запрещает жена. Жандармы от души сочувствовали, хотя не понимали, как это жена мужу может что-либо запретить, тем более – таковое вот дело, как курение, хотя по прибытии вместе с Сельдереевым к нему на квартиру жандармы первое что сделали – всю полковничью квартиру тщательно осмотрели и никакой жены и вообще никого там не нашли.
А вообще, кстати тут вам сказать, дорогие мои, это извращение – курение на лестнице, так же, как и соитие с женщиной на лестнице. Любое физиологическое отправление требует правильного к себе отношения, и только тогда оно настоящее доставляет удовольствие.
Но это так, тоже в сторону.
А вот Сельдереев, значит, покуривал себе на площадке перед квартирой, наблюдая за сменой жандармского наряда. Очки его поблескивали в полутьме – наступал вечер.
Внизу за сменившимся нарядом хлопнула дверь парадной.
– Вы вот что, господин, – сказал старший нового наряда, – марш назад в квартиру. – Этот вахмистр изъяснялся совершенно правильною речью и даже добавил к сказанному: – Алле марше![233] Там у себя и покурите, если есть охота.
– Тут вот… туалетная комната… И мне Парамон Семенович разрешал здесь курить… У меня, изволите ли видеть, жена страдает болезнью легких, и она, то есть, жена моя…
– Марш назад! Оправитесь там в ведро. А в крепости на оправку станут выводить, – вахмистр взял Сельдерева за плечо. – Жжива!
Тут Сельдереев неожиданно для себя самого сильно толкнул вахмистра на резную чугунную решеточку, ограждавшую лестничный пролет. Чисто рефлекторное было движение, дорогие мои. Обиделся охраняемый, что прихватили его неуважительно. Не ожидавший сопротивления, жандарм перелетел через перила и с воплем упал вниз. А события-то происходили на четвертом этаже. Раздался снизу мягкий хлопок, сопровожденный коротким скрежетом об кафельный пол ножен палаша. Второй жандарм судорожно начал лапать кобуру, но не успел достать оружие. Сельдереев бросился на этого второго, они упали и, сопя, начали кататься по полу, благо пространства для борьбы в партере тут, как мы уже вам сообщали, оказалось предостаточно. Через короткое время жандарм Сельдереева, разумеется, подмял под себя, уже торжествующая улыбка появилась на плоской физиономии стража, но тут рука задыхающегося профессора случайно попала на открывшуюся кобуру противника. Сельдерев мигом вытащил револьвер, взвел курок и выстрелил жандарму куда-то под скулу – куда Бог навел руку. Вылетели в лестничный пролет, словно бы звезды салюта, красные мозги, осыпали лежащего внизу вахмистра.
Мгновение неподвижно поприслушавшись, бывший профессор математики отвалил от себя мертвое тело, вскочил, тяжело дыша, поднял разбившиеся очки, дрожащими руками нацепил их на нос, забежал в квартиру, там послышались стуки выдвигаемых ящиков. Через минуту полковник, подхвативши револьвер из лужи крови на полу и сунув его в карман брюк, уже сбегал по лестнице. Теперь ему, воля ваша, выходила только виселица.
Мы врать, значит, не станем: неизвестно как, но обнаружился Петр Сельдереевич теперь только в городе Париже. А дальнейшая его жизнь ничем, на наш взгляд, не интересна.
Вернемся в Кутье-Борисово.
Сначала о деньгах. Деньги все сгорели. А что не сгорело, разлетелось по ветру. Если какая бумажка и залетела случайно в тот или иной форменный карман, так про это нам ничего не известно. Красин, разумеется, не в том находился состоянии, чтобы искать и собирать ассигнации, он тогда и не видел ничего, кроме мертвого лица Кати. Потом уже, после похорон, Красин, ни у кого ничего не спрашивая, взял на полке в трактире на постоялом дворе покрашенную ярко-желтой краской, из толстой жести, разве что не стальную коробку с изображением китайца в красном косо запахнутом халате. Под китайцем было изображено следующее:
薄荷茶
Мы понятия не имеем, что сии знаки обозначают. Но вот половой в трактире, китайским разговором или письмом тоже не владея, о содержании надписи примерное имел знание, каракули на коробке гласили:
«Мятный чай из Гуанчжоу».
Красин вытряхнул остатки чая на тарелку и потребовал у полового лист бумаги и чернила с пером. Написавши что-то на листе, Красин помотал листом в воздухе, чтобы чернила высохли, вновь подозвал полового и спросил, где у них на постоялом дворе каретный сарай. Глядя в перекошенное лицо Красина, и мелко-мелко дрожащую, коротенькую, без усов, его бородку, половой не решился на какие-либо комментарии. Тем более, что за поясом у Красина старик-половой успел заметить револьвер. Ну, лихой человек, что с него взять? Сообщать в полицию – себе дороже. Красин недолго пробыл в каретном сарае, вышел, отвязал от коновязи крупную каурую кобылу, на которой приехал, вскочил в седло и галопом поскакал прочь. Уже смеркалось. Половой перекрестился, вытер висящим у него на руке полотенцем мокрое от пота лицо и бросился в сарай.
– Семка! – закричал он, вбегая в распахнутые ворота. – Че этот… чухонец, либо кто… Че похотел от тебя? Стращал тебя ревoльвером?
– Нету, – совершенно спокойно отвечал полуголый, в одних портах Семка, лежащий с руками под головой на копне сена в углу сарая. – За которым хреном меня стращать-то? Видал, ммать твою? – Семка полез огромной, черной от грязи рукою сначала в порты, почесался там, а потом сунул руку себе в рот и вытащил из-за щеки блестящий новенький гривеник. – Небось, не кот насрал… А я ему смолы в баклажку отлил на полкопейки… Вонааа… Траханный в ррот!
– Вонааа, – повторил за каретником половой, покачивая головою. – Достаточный господин… Дай Господи кажинный день таких проезжающих…
Половой, как мы вам уже говорили, был тертый старик и совершенно не собирался никому показывать лежащий у него в жилетном кармане полтинник, полученный от Красина.
Сейчас для нас с вами главной станет такая вот фраза, не сказать – радикально изменившая жизнь Красина, жизнь его уже изменилась, – но продлившая еe до самых пределов, до восьмидесяти шести лет, как мы вам уже сообщали, дорогие мои, до тысяча девятьсот восемнадцатого года. Не прими Красин этой фразы, его, по всей вероятности, ждал Алексеевский равелин, где Иван Сергеевич нашел бы возможность избавить себя от мучений. А так вот он еще полвека прожил бобылем, строя, работая, ложась в постель каждый день измученный заботами, чтобы не вспоминать… Но вспоминал Красин каждый день, каждую минуту. Вот такое вышло ему наказание на полвека, вот такая мука.
А фраза была ему сказана исправником Павлом Ильичем Лисицыным:
– Вам надобно уехать из России.
– Я не собираюсь никуда уезжать, – был ответ. – У меня обязательство по строительству мостового перехода, если вам необходим формальный повод, господин ротмистр. У меня контракт и… вообще… Я обещал… Сейчас приходится набирать новых плотников и путейцев, потом… Да что я вам… К следующей весне надобно построить… А потом я собираюсь постоянно жить тут, возле могилы Катерины Борисовны. Куплю квартиру или дом.
– А жалование, например, позвольте спросить, господин Красин? – Лисицын был, как всегда, непроницаем. – Жалование кто вам станет выплачивать? Департамент полиции имеет сведения, что контора Визе ликвидирована…
– Как-нибудь, – равнодушно отвечал Красин. – Полагаю, как-нибудь все устроится. B соответствующей службе Градоначальника…
– И напрасно полагаете, Иван Сергеевич. У меня приказ об вашем аресте, – он произнес слово «аресте» с ударением на первом слоге – «а’ресте», и Красин немедленно вспомнил хладнокровно застреленного Лисицыным Морозова: все они, такие разные с виду, на самом деле совершенно одинаковые, еще подумал в тот миг Красин.
– Вы ж говорили, что я не арестован, – с бледною улыбочкой бросил Красин. Ему тогда, на самом-то деле, было все равно.
– А разве вы арестованы? – бесстрастно отвечал исправник. Только светлый ус его дернулся. – Я повторяю: имею приказ доставить вас в Санкт-Петербург, в кандалах под усиленным конвоем. В сей момент предпринимаю все меры по вашему розыску.
Тут мы должны сделать некоторые преуведомления, дорогие мои.
Дело в том, что Лисицын всю деревню Кутье-Борисово сжег, а большинство деревенских жителей расстрелял. Не лично, разумеется, сам ротмистр тогда и не доставал оружия, сидел только неподвижно в седле с неизменно спокойным своим выражением на лице. После всего этого Красин Лисицына сторонился, хотя – прямо вам скажем, дорогие мои – порядочный человек Красин уж достаточно к тому дню всего совершил хорошего, чтоб не иметь оснований поставить себя на одну доску с карателем, что уж тут.
Сказавши про кандалы, Лисицын подчеркнуто вежливо рукою в белой замшевой перчатке указал Ивану Сергеевичу путь:
– Извольте проследовать со мною, господин инженер.
Ничего более не спрашивающий Красин вышел вслед за Лисицыным из дома исправника, сел на подведенную ему лошадь. Вдвоем с Лисицыным они поскакали к монастырю.
У такой знакомой Ивану Сергеевичу дверцы в стене Лисицын спрыгнул с седла и знакомым Катиным стуком постучал в нее. Красин вздохнул, удержал слезы. Слезлив в эти дни был Иван наш Сергеевич, да как его не понять. Мы понимаем.
Лисицын, значит, постучал Катиным стуком. Завыли, залаяли собаки.
– Кто? – через несколько мгновений настороженный спросил женский голос.
– Mère Isidore, c’est moi, Paul. Je l’ai amené.[234]
Пребывающий в прострации Красин нашел в себе силы удивиться – ротмистр, выходит дело, уже оказывался своим человеком в монастыре.
– Attendez une minute, Pavel Ilitch, je vais attacher les chiens.[235]
Через минуту, действительно, дверь отворилась. Мужчины привязали лошадей и вошли. По выложенным аккуратным гравием дорожкам Исидора повела Лисицына и Красина за здание храма, между двухэтажными выбеленными зданиями келий, дальше – за складские и дровяные сараи и домики служб, за приземистое здание иконописной мастерской и привела к небольшой часовенке, расположенной так, что ниоткуда праздный взгляд не мог бы часовенку эту рассматривать – вокруг, куда ни повернись, оказывались глухие стены построек.
– Господи, благослови! – крестясь, истово произнесла на пороге Исидора, и оба мужчины, разумеется, тоже перекрестились. А Исидора, кажется, не решалась отворить дверь.
– Входите же, матушка, время дорого, – произнес Лисицын, и Красин вновь помимо себя вспомнил застреленного Морозова. – Venez, s’il vous plaît, – добавил ротмистр, словно бы полагая, что французская речь быстрее войдет в сознание русской монахини. – Venez![236]
Исидора еще раз перекрестилась, вытащила из-под рясы внушительный со сложным языком кованый ключ, повернула его в замке и отворила дверь. Сразу за дверью открывалась лестница вниз, словно бы в погреб. Монахиня, подобравши черный подол, осторожно начала спускаться – боком, левой ногою вперед, на каждой ступени приставляя к левой ноге правую. Молчаливый Красин двинулся было следом, но жандарм придержал его за локоть.
– Минуточку, Иван Сергеевич. Имею вам сделать сейчас сообщение чрезвычайной важности. Вы находитесь буквально на пороге государственной тайны, и я вынужден вас предуведомить об строжайшем и неукоснительном соблюдении самой… самой вящей секретности всех обстоятельств, которые вам сейчас станут открыты.
– Да Бог ты мой! – злобными двумя пальцами, ощеряясь, словно бы упавшую с дерева лесную гусеницу снимал с рукава Красин, снял он с себя лисицынскую руку и повернулся. – Вы оставайтесь тут со своими тайнами без меня. Бога ради! Я уже наелся вот, по горло, – он показал на себе, – всяческих тайн, господин исправник, с меня хватит! Все! Assez! Genug! Basta! Enough![237] – продемонстрировал свободное знание основных европейских языков несчастный Иван Сергеевич. – Могу я уйти?
– Нет, не можете, – спокойный отвечал жандарм. – Владение откроющейся сейчас пред вами государственной тайной есть мое условие вашего освобождения. Кроме того, еще одно… – тут жандарм поперхал горлом: – Кхм!… Я вам доверяю, Иван Сергеевич, а более никакого иного технического специалиста вашего масштаба… Но не только… Кхм!.. Кроме того, еще одно: имею передать для вас бумаги, подписанные Катериной Борисовной накануне гибели своей… Кхм!… Подписанные в присутствии двух свидетельствующих лиц и заверенные Управою Департамента полиции. И кроме оных документов, некоторые вещи.
Красин изменился в лице, он даже не подумал, что и этот жандарм, как и Морозов, тоже передает ему бумаги… одну бумагу… бумажку… записку… не важно… тоже передает ему послание от Кати. Кровь застучала у Красина в висках. Вещи? Катины вещи? Какие вещи?
– Прошу, – указал Лисицын. – Спускайтесь.
Красин начал спускаться вниз вслед за Исидорой, и постепенно два совместных женских голоса – сразу вам скажем, дорогие мои, что Кати тут не было… не было у Кати сил, даже прячась, вновь видеть Красина, – два голоса становились все слышнее, повторяя: – Вонифатие… Вонифатие… Святые Вонифатие… Отврати дух народа от велия греха и направь… Отврати и направь…
– Усерднее надобно, сестры! – совсем рядом прозвучал сочный мужской бас, показавшийся Красину знакомым.
Они очутились в довольно большой и холодной по августу комнате с дощатым настилом и белеными стенами. Комната действительно напомнила бы отличный погреб, когда бы в углу ее, освещенной лишь несколькими свечами в настенных шандалах, из оголовка глиняной трубы не тек родник, с гулким водяным стуком неистощимо уходя в выложенный черепками водоотвод куда-то в глубь земли, и когда бы перед родником на коленях не стояли две монашки, повернувшие головы к входящим – ни той, ни другой Красин не знал, и когда бы над родником не помещалась бы на полочке над лампадою икона с ликом неизвестного Красину святого – мы вам скажем, то был Святой Вонифатий, – и главное, когда бы у противоположной от входа стены на деревянной лавке не сидел мужчина-монах – по всей вероятности, храмовый дьякон. О том, что дьякон, необходимо долженствующий присутствовать при богослужениях, – монах, свидетельствовало черное покрывало на его клобуке. Но сидел монах в странной позе для его звания – ножку на ножку, и в руке держал, рассматривая ее на колеблющийся свет свечи, стеклянную стограммовую стопку, полную воды. При виде вошедших монах быстро опрокинул стопку в рот, хэкнул, словно водки выпил, помахал у себя перед открытым ртом ладошкою, поднялся, засучил рукав фиолетовой рясы и протянул Красину руку, совершенно светски произнесши:
– Ну, наконец-то, Иван Сергеич. Заждались вас.
Красин узнал его. Это был Полубояров.
И в тот же миг Красин осознал, что в помещении совершенно явственно пахнет водкою. Водкою несло и от Полубоярова, словно от извозчика на Пасху.
Чуть было мы не написали «Красин онемел», дорогие мои. Но Красин и так был достаточно немногословен в последние дни, мы сами удивляемся, как он грудной жабы-то[238] не заработал, держа в себе страшный удар. Крепок был Красин, и крепким оставался еще пятьдесят лет после всех этих, столь правдиво изложенных нами событий, до самой своей смерти. А если уж совсем честно вам сказать – работа спасала. Красин всю свою последующую жизнь отдыхал очень редко.
– Вот сюда, Иван Сергеевич, – продолжал радушничать Полубояров, – вот-с, изволите ли видеть, – басил он, – родник. Некоторым образом. Родничок-с. Вот из чего все пренеприятнейшие события и произошли, милый мой. – Он вздохнул, подставил стопку под струю, наполнил ее и вмиг опрокинул. – Ффууу, – выдохнул. – Господи, прости меня, грешного. – Перекрестился на Вонифатия, оглянулся. Монашки уже, разумеется, тихонько вышли, им невместно было находиться в одних стенах со светскими мужчинами. И Исидора ушла, Красин не заметил, когда. Полубояров вновь подставил было стопочку под струю, но его удержал Лисицын.
– Довольно.
– Что-с? Вы мне? – дьякон, или уж Красин не знал, кто он теперь на самом деле, дьякон сощурился.
Лисицын более не затруднил себя общением с Полубояровым, молча взял у него стопку и поставил к стене на полку на деревянный круглый поставец. Потом произнес:
– Извольте нас наверху подождать, господин министр внутренних дел. Далеко никуда не отходите. Ваша служба в монастыре с нынешнего дня закончилась.
Полубояров пошатнулся. То ли страшное известие, сообщенное Лисицыным, так его поразило, то ли какая-то той нестойкости была иная причина, Бог весть. Полубояров вздохнул тяжело и так же тяжело начал подниматься по лестнице.
– Ничего не понимаю, – Красин даже руками развел. – Он кто на самом деле? Директор клиники? Он участник Движения, – наивно заложил дьякона Иван Сергеевич, хотя закладывать Полубоярова смысла, видимо, никакого не имело, коль скоро Лисицын уже того с явною насмешкой титуловал министром.
– Пустое, Иван Сергеевич, не принимайте во внимание. Он шут гороховый. Прошу сюда.
– Как это пустое? – Красин неожиданно для себя начал заводиться. – Вы оскорбляете монастырь, господин ротмистр. Неужели Синод его сюда направил? Епархия?
– Пустое, – как заведенный, бесстрастно повторил Лисицын. – Никого оскорблять мы не позволим. Как направили, так и отправим. Вы не вникайте, господин инженер, в чужие хлопоты. Сюда вот прошу.
– Я! Да я!.. – начал было оживший Красин, но тут же сник.
– Сюда, – в третий раз упорный повторил исправник. – Вот родник. Явление водочного родника есть государственная тайна высшего порядка, о чем я имел уже вас предуведомить. И не взята с вас соответствующая подписка об неразглашении лишь потому, что находитесь вы в розыске по всей территории Российской империи. Ищу я вас сейчас, понятно-с? Могу и найти. Если что. И корреспонденции от Катерины Борисовны не стану никакой передавать.
Красин сглотнул нещедрую слюну и кивнул.
– Сюда, – в четвертый раз, как попугай, повторил жандарм. Красин подошел к водочной трубе. – Извольте сделать… confidentiellement[239] инженерное заключение: каким образом возможно прекратить истечение жидкости из земли? Раз и навсегда.
– Никак, – буркнул Красин.
– То есть как это «никак»? – на лице ротмистра впервые отобразилось хоть какое-то человеческое чувство – удивление. – Быть того не может. Не должно быть, – с ударением на букву «о» твердо сказал Лисицын. – Я сюда прислан Высочайшим указом, с неограниченными полномочиями, лично Его Императорским…
– А вот так, – со злобным удовлетворением прервал жандармские откровения Красин. Лисицын вдруг проболтался, по всей вероятности, потому что был действительно удивлен. – Еще как может… Если здесь забить, скажем, пробку и по сухой поверхности обмазать раствором со связующей добавкою, засыпать, например, песком или щебнем… Кирпичом выложить с заливкою… Или чугунную плиту, – он уже улыбался, – укрепить на связанных сваях…
– Да? Да?
– Все равно выпрет, – сообщил Красин. – Из-под фундамента или в любом слабом месте… Где угодно… И не увидете тогда, в котором… Вновь залить не успеете… Если в подземном русле имеется напорное давление, возможно только само русло перенаправить… Пройти к истоку… В глубь земли…
– Хорошо, – спокойно пообещал Лисицын и сразу деловито и догадливо спросил: – Так что – подвести минный заряд? После взрыва весь поток уйдет обратно на глубину?
– Я не знаю, – честно сказал Красин. – Чтобы произвесть рассчитанный направленный взрыв, надобна подробная геологическая работа, составление карты подземных потоков… Много чего… А мощность взрыва потребна тут… Ежели на взгляд прикинуть… Монастырь точно уж снесет… А может быть, весь холм придется срывать… – он хотел добавить: «срывать всю Борисову письку», ведь он, разумеется, слышал о пикантном названии местности, но как-то тут, в монастыре, историческое название холма не выговорилось. Красин добавил мрачно: – Результата не гарантирую…
Повисло молчание.
– Беда, – тихо сказал жандарм. – Уж достаточно среди населения сведения имеют… Не удержать их более никак…
В полумраке лицо ротмистра показалось совсем человеческим, будто бы не бескровный механизм, часть бездушной государственной машины, а именно человек, страдающий человек стоял сейчас рядом.
– А может, и не выпрет, Павел Ильич, – вдруг помимо себя непоследовательно и – признаемся вам, – непрофессионально сказал Красин и даже сочувствующую руку положил на форменный рукав. – Давление, кажется, небольшое… Потечет себе дальше… Или отвести прямо в Нянгу… В заглубленной трубе, разумеется… Регулярно очищать от ила… А здесь порядком заглушить… Место намоленное… Бог поможет…
Лисицын, насколько нам, дорогие мои, можно видеть в полутьме, просиял, глаза его сверкнули, как сверкнули они, когда несколько дней назад он возле вокзала увидел живую Катю. Красину даже показалось, будто в водочном погребе стало светло. И точно так же, как там, возле вокзала, жандармские глаза немедля же погасли. Вновь сгустилась рассееваемая несколькими свечами тьма.
– Настоятельнейше прошу, господин инженер, представить мне до вечера описание производства необходимых работ, – сухо произнес Лисицын, вновь становясь механизмом. Он вытащил серебряный свой «брегет», выщелкнул крышку, повернул циферблат к свече. – До двадцати часов. И немедля после того прошу нас покинуть. – Ротмистр вдруг усмехнулся, светлый его ус на одной стороне лица пополз вверх. – В двадцать пятнадцать. Лучше верхом через Финляндию. Возьмёте эту лошадь, на которой сюда приехали. – Жандарм протянул руку в водочный воздух, и немедленно в перчатке его из воздуха соткался пакет. – Ваши паспорта. Подписаны прошлым месяцем, действительны еще два дня.
– Нарушаю данное слово, – грустно улыбнулся Красин. – Слово, данное умирающему князю Глебу. Поистине, Бог накажет. – Красин перекрестился на икону Вонифатия.
На Лисицына красинское признание ровно никакого впечатления не произвело.
– И еще одно, – сухо произнес он. – Катерина Борисовна накануне гибели своей… накануне гибели составила духовное завещание. – Вновь странный жандарм вытащил из темноты еще один пакет.
– Катерина Борисовна отказывает вам дом свой в Швейцарии в городе Цюрихе, доставшийся ей от отца. Вот, возьмите. Все документы заверены в установленном порядке. Насколько мне известно, господин Красин, княжна желала просить вас… настоятельно просила вас жить в ее доме в Цюрихе… Насколько мне известно, – повторил формулу жандарм, – это очень небольшой дом, всего четыре комнаты…
Потрясенный Красин принял пакет.
– И еще… Вот… – Лисицын протянул Красину черный мешочек, затянутый тесьмою, на ощупь ежели взять – полный орехов различной величины. – Pierres précieuses… Perles…[240] Тоже ваше по духовной Катерины Борисовны… И деньги ассигнациями, – тут Красин осознал, что Лисицын сует ему еще и какую-то завернутую в вощеную бумагу толстенную пачку, решительно отвел лисицинскую руку.
– Не возьму.
– Возьмете, – Лисицын оставался совершенно серьезным. – У вас же ни копейки нет. На квартиру к себе решительно не советую вам возвращаться. Повторяю: сегодня же ввечеру верхом на север через Гельсингфорс.[241] – Вот еще вам… – из воздуха явился новый, тоже толстый пакет, – сейф у вас на квартире вскрывать… не имелось к тому возможности, а диплом ваш, свидетельство о крещении, исполненные договора – словом, все существенными признанные документы из бюро, – пожалуйте принять.
Красин стоял молча, как соляной столб. Уж не раз изменял он за последние дни сам себе, что ж теперь? Будем ли мы с вами изображать из нашего Ивана Сергеевича невесть кого? Терял и вновь обретал себя Красин Иван Сергеевич, не мог же он раздвоиться, в самом-то деле!
– Хорошо, – наконец хрипло произнес Красин. – Дом и деньги возьму, коли Катя… княжна так решила… Я буду счастлив жить… в ее доме… А фамильные камни прошу передать Матери настоятельнице на нужды монастыря… Я до них не могу иметь касательства… И памятник необходим на могиле Катерины Борисовны. Я пришлю вам проект.
Черный мешочек немедля исчез. Так камни вновь оказались у Кати – Лисицын их, разумеется, тут же Кате и вернул, через пять минут. Катя надеялась, что камешками Красин расплатится с Визе, но не вышло у нее, что поделать.
Ну, а далее совсем коротенько, дорогие мои.
Вылезши на Божий свет, бледный, словно бы он просидел в подполе несколько лет, Красин увидел возле водочной часовенки ожидающего Полубоярова. Красин уж забыл о его существовании, а теперь, вздрогнув, смерил недоуменным взглядом, второй раз огладил бородку свою за несколько последних дней.
– Полноте, Иван Сергеевич, – примирительно пробасил тот и тоже, повторяя красинский жест, погладил себя по огромной лопатообразной бороде. – За всеми нужен глаз да глаз… Хо-хо-хо, – хохотнул он совершенно по-храпуновски. – И от Святейшего Синода, и от Департамента полиции имею благословение на духовную и государеву службу, не извольте сомневаться, милый человек. – Он вновь хохотнул: – Хо-хо-хо… У каждого индивидума тараканы сидят в голове, Иван Сергеевич. Это я вам как психиатр говорю. Нельзя людей оставлять без присмотру… Жаль, теперь тут ротмистр лавочку закроет… Но милый человек он, Лисицын… Милый человек… – Полубояров вздохнул. – Ну, а как иначе… Мужики прознают, так ведь империя рухнет… Это вам не Движение наше, тут действительно… И не от таких вещей государства рушились… От пустяков рушились…
Красин, помимо себя отметив это морозовское «милый человек», пожал плечами и пошел по дорожкам к двери в монастырской стене.
А вам мы можем сообщить, дорогие мои, что дальнейшая судьба Евгения Васильевича Полубоярова нам известна. Он исчез. Отовсюду. Вышел Полубояров из монастыря через минут двадцать после Красина вместе с Лисицыным и немедленно после этого исчез. Такие вот странные обстоятельства. В скорбную клинику назначен был вскоре новый главный врач, в монастырь немедленно прибыл по благословению Глухово-Колпаковского архиерея новый престарелый дьякон по фамилии – вы только не смейтесь – Наливайченко, из малороссов. И хотя старичок-дьякон был ростом весьма мал, со впалой грудью и крохотным ротиком, бас из его тельца выходил такой, что при службах, казалось, стены Божия Храма ходят ходуном. Исчезнувшему Полубоярову и присниться не мог такой бас. Поселившись, разумеется, не в монастыре, а снявши комнату в Кутье-Борисово у солдатской вдовы Макарычевой, старичок Наливайченко прожил там еще лет двадцать или двадцать пять, заделав вдове четверых детей. Вот это нам известно совершенно достоверно.
А летом следующего года в ту самую низкую дверцу, в которую, однажды попрощавшись с Красиным, вошла голая Катя, теперь, нагнувшись, чтобы не задеть светловолосой головой верхнюю, держащую кирпичный свод балочку, вышел исправник Лисицын. Был он – через год-то почти! – уже подполковник. Следом вышла средних лет монахиня и еще вторая монахиня. Глухой апостольник скрывал ее лицо, но тщетно, мы же знаем, что это – Катя. Катя несла на руках небольшой продолговатый сверток. Лисицын, против обыкновения порядочного человека, вышел в дверцу первым. Фуражку Лисицын, конечно же, держал в руках и сейчас не надел на голову, а повесил на переднюю луку седла – в двух шагах от калитки оказалась привязана к березе каурая лошадь. Видимо, она застоялась, потому что радостно заржала, увидев хозяина и даже взбрыкнула передними ногами, отчего черная жандармская фуражка упала в светлую, нежнейшую майскую траву.
– Балуй у меня! – Лисицын поднял головной убор, отряхнул и надел, повернулся к Кате. – Давайте, Катерина Борисовна.
– Сестра, – поправила старшая монахиня. Подполковник на это ничего не сказал, молча отвязал лошадь и сел в седло.
– Давайте, Катерина Борисовна, – повторил сверху, нагибаясь к Кате и протягивая обе руки.
Катя отвернула кусок материи, в которую был завернут сверток и посмотрела на него.
– Спит, – почему-то хриплым голосом произнесла Катя и прокашлялась. – Наелась и спит.
Резким движением она передала сверток Лисицыну, а тот взял его с огромным бережением и прижал к золоченым пуговицам на кителе. Когда Катя передавала сверток, лицо ее чуть приоткрылось за монашеским черным платом, и стало понятно, почему она говорит с хрипотцой – Катя была страшно бледна, как всегда была бледна мраморною бледностью Маша, и, главное, все лицо ее было залито слезами.
– Не беспокойтесь, Катерина Борисовна, – неизвестно в который, видимо, раз повторил Лисицын. – Все готово. И кормилица, и документы… и белье… И пинетки, и ботиночки, и все-все я выписал из Парижа… – тут жандарм позволил себе улыбнуться. Улыбка мгновенно преображала его. – Запись в церковной книге в Ильинском храме в Светлозыбалове… Все сделано… А вы… Катерина Борисовна…
– Сестра, – второй раз настойчиво повторила старшая монахиня. – Вы езжайте с Богом, Павел Ильич… Не ровен час, увидит кто… – она опасливо оглянулась по обеим сторонам стены и перекрестилась. – Езжайте!… Только что шажком… Бережно.
Как вы сами понимаете, дорогие мои, в монастырях никаким беременным находиться не полагается, тем более – рожать. Но для Кати… для единственной из оставшихся в живых дочери основателя монастыря сделали исключение. Было ли к тому прошение на архиерейское имя или же это стало еще одной монастырской вкупе с Глухово-Колпаковской жандармской управою тайной, а грех взяла на себя тогдашняя Настоятельница вместе с особо приближенными монашками – поистине Бог весть. Во всяком случае, первая из вышедших сейчас из двери монахинь нервничала и торопилась.
– Езжайте! – повторила она и перекрестила лошадиную морду. – С Богом!
– Павел Ильич, – подняла голову Катя. – Не могу с вами быть нечестною… И вообще не могу быть нечестною… Я знаю, вы питаете надежды…
– Да, – совершенно просто и спокойно сказал Лисицын с седла, только глаза его вдруг загорелись восторгом, как тогда, когда он увидел Катю, встречающую Хермана. – Возможно все вновь переделать так, как оно и должно быть. Я хочу, чтобы эта девочка стала нашей с вами дочерью. Я люблю вас, Катерина Борисовна. Много лет. Имею честь просить вашей руки.
Никто не увидел, даже Катя, как горят жандармские глаза.
Первая монахиня в ужасе начала вновь креститься.
– Мой дорогой друг, – Кате недостало сил посмотреть Лисицыну в лицо. – Сегодня мы говорим об этом в первый и в последний раз. После рождения дочери я прошла обряд очищения и приняла постриг.
Глаза исправника медленно погасли – так медленно угасает волшебная лампа Якоби, когда естествоиспытатель, демонстрируя опасный опыт, передвигает ручку реостата.
– Прощайте, сестра, – таким же ровным голосом, которым он только что объяснялся в любви, произнес молодой жандармский подполковник. – Не волнуйтесь ни о чем. Только позволите, я буду приводить свою дочь на службы в монастырь? Разумеется, когда она вырастет.
– Вот, – Катя протянула Лисицыну уже знакомый нам черный мешочек. – Возьмите… Станете тратить на… – она запнулась, – на дочь по своему усмотрению.
Лисицын молча сунул мешочек за борт мундира, повернул лошадь и действительно шагом поехал от монастыря прочь.
… А далее начинается жизнь Екатерины Павловны Лисицыной – сначала маленькой-маленькой, обожаемой строгим отцом и монашками в Кутье-Борисовском монастыре прелестной девочки, потом маленькой, но вовсе не испуганной незнакомым местом и отсутствием рядом любимого папы – отцовское воспитание! – смолянки[242]. В Смольный не принимали барышень, чьи отцы имели чин ниже полковника или равный по табелю о рангах чин статского советника, да Павел Ильич к шести Катиным годам уж давным-давно был полковником и служил уже в самой столице, в Питере, в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Да-с, дорогие мои, а потом, по окончании курса, продолжилась жизнь самой молодой и самой – по общему мнению – красивой преподавательницы Смольного института, а потом студентки Цюрихского университета Катарины Лисисин. Katarine Lisisin – эдак вот, с некоторым китайским акцентом оказалось написано в ее швейцарском паспорте и в швейцарском дипломе врача. И действительно, когда эта Катька Лисицына хохотала, синие ее глаза превращались в щелочки, вдруг делая совершенно русскую девушку похожею на китаянку.
Молодая фройляйн Лисисин ни в чем себе не отказывала, поскольку мать, умершая ее родами, оставила ей очень приличное состояние, но, в общем, скромную достаточно вела жизнь и даже, полагая необходимым служение обществу, работала в женской клинике простым палатным врачом. Посылала деньги вышедшему в отставку отцу. Делала благотворительные взносы.
Ухаживали и сватались за богатую русскую красотку бессчетно. Но Катин выбор оказался, на взгляд многих, очень простым. В Цюрихе Катя вышла замуж за потомка Люксембургских герцогов Альфреда Вальтера Максимиллиана Нассау. До управления Люксембургом дело не дошло, мы зря врать не станем, потомков первого герцога Нассау ходило великое множество по белому свету, а Фредди Нассау сам добывал свой хлеб, будучи профессором того же Цюрихского университета. Герцогского титула его линия Нассау давно лишилась, так что Катя герцогинею не стала, к чему она отнеслась совершенно спокойно. Жизнь семьи складывалась несколько, на Kатин взгляд, скучновато – нам и рассказать-то особо нечего – скучновато, но счастливо, пока однажды господин Нассау не умер, оставив Кате двоих мальчишек-близнецов, студентов. У сыновей уже была своя, взрослая, совершенно отдельная жизнь. Катя вернулась в Россию к отцу. Было ей к тому времени под пятьдесят, а полковнику Лисицыну – хорошо за семьдесят. Генералом он так и не стал.
Кстати вам сказать, дорогие мои, мы уж, помнится, обмолвились, что наш Иван Сергеевич Красин преподавал в Цюрихском университете и вообще жил и умер в Цюрихе. Но, имея в Цюрихе дом, Красин всю жизнь строил мосты по всему миру. А вы уж, наверное, подумали, что Иван Сергеевич столкнулся с Катею, например, в университетской библиотеке, и сразу увидел в ней нашу Катю! Услышал, как она хихикает, как хохочет – ну, конечно, это уж не в библиотеке, а, допустим, в кондитерской?… Увы, встречи Красина с Катариной Лисисин не произошло.
Когда Катя ходила по коридорам Университета, Красин строил один за другим два моста через Рейн – оба моста и сейчас стоят, как ни старалась американская авиация в тысяча девятьсот сорок пятом году. Красин приезжал, конечно, домой и жил подолгу – месяца аж по два иногда, вот как! Но и с мадам Катарин Нассау ни разу он не встретился, хотя любил ходить, будучи дома, в городской парк Фридхов-Зельфельд гулять. Красин там жил неподалеку, а мадам Нассау выгуливала там красинских внуков. Красин ездил гулять и в Цюрихсберг – городской лес, и семья Нассау любила туда ездить. Но вот не встретились. Может быть, Катя и Красин видели друг друга издалека – вблизи Красин Катю бы узнал несомненно, и сердца у обоих в тот миг по непонятной им причине щемило, но не более того. А когда Красин начал в Цюрихе преподавать, Кати уже давно там не было.
Кстати сказать, гуляние в парке было одним из немногих развлечений, которые мог позволить себе Красин. Ведь за вход в парк брали буквально гроши – шесть раппенов или, если называть по-французски, шесть сантимов. А Красин всю жизнь копил деньги, чтобы отдать три миллиона детям Альфреда Визе – старшие сыновья Визе благополучно жили в Берлине. Повезло Красину только после начала войны, когда русские бумаги в рассуждении огромных долгов, сделанных правительством Николая II, начали стоять на бирже всего мира достаточно высоко. Осенью четырнадцатого года в нотариальной конторе еврея Шиловски на Тиргартенштрассе Красин полностью расплатился с двумя Альфредовыми сыночками, двумя маленькими лысенькими старичками с бегающими от радости глазками. Причем получили они, по сути, сорок копеек за рубль долга, так что у Красина, не ожидавшего такого подарка судьбы, осталась еще огромная сумма на поездку в Россию, о каковой поездке он мечтал почти полвека. Было профессору Красину к тому времени уже больше восемьдесяти лет. Война должна была вот-вот закончиться. Но и Красин, и визята просчитались. Русские бумаги ужасно, просто катастрофически упали после семнадцатого, а особенно после двадцать второго года – после Гэнуэзской конференции, а сам Красин до окончания войны не дожил нескольких месяцев. Да и как бы он поехал в Россию в восемнадцатом году, дорогие мои? Деньги профессора по завещанию достались Цюрихскому университету, как и вся сумма от продажи Kатиного дома. Иван Сергеевич не оставил наследников. Зато Krasin Auszeichnung[243] за лучший дипломный проект мостового перехода множество лет служила отличным трамплином для инженерной биографии десятков молодых людей.
Но вернемся к Кате и Павлу Ильичу.
После революции отец и дочь Лисицыны эмигрировали, начали было жить у одного из Катиных сыновей в Голландии – Ганса, но это оказалось не совсем удобно. Они сняли квартирку в Париже. Катя устроилась на работу патронажным врачом. Но в апреле двадцатого года весьма уже немолодой полковник Лисицын вновь поступил на службу – в штаб Врангеля, с которым был знаком еще со времени войны с Японией. Они с Петром Николаевичем даже орденами Святой Анны 4-ой степени с надписью «за храбрость» оказались награждены одним и тем же Императорским Указом. Полковник Лисицын тогда был командирован на Дальний Восток, а Петр Врангель был сотником Забайкальского казачьего войска. В двадцатом году генерал-лейтенант Врангель отправил Лисицыну телеграмму, и четвертого апреля Лисицын прибыл вместе с бароном в Севастополь на английском линейном корабле «Император Индии». Катя, как всегда, сопровождала отца. Она начала работать в Симферополе в военном госпитале.
Лисицын занимался у барона не контрразведкой, как вы могли бы подумать, а непосредственно отвечал за подготовку армии к возможной эвакуации из Крыма. Мы смеем предположить, дорогие мои, что именно поэтому эвакуация прошла предельно организованно, все, кто хотел уехать – без паники погрузились на корабли и гражданские пароходы и ушли в Константинополь, вопреки прекрасным советским кинофильмам, гениальным советским пьесам и вообще вопреки всем советским мифам об эвакуационной панике.
И умер Петр Ильич в Брюсселе на руках у дочери в один день с тезкою Петром Николаевичем Врангелем тоже от острого туберкулеза, которым, как и командующий последней русской армией, никогда в жизни не болел. Мы смеем предположить, что причиной внезапной болезни Лисицына стала не глубокая старость, а то обстоятельство, что он заведовал штабом у Врангеля – то есть, был не начальником штаба, дорогие мои, а командовал службой штаба, то есть – держал в руках все нити функционирования крохотной русской военной части в центре Европы. И, вполне вероятно, отказался сотрудничать с советской разведкой. Впрочем, ему вряд ли предлагали. Ему, как и Врангелю, лучше было скоропостижно умереть.
Перед смертью, уже теряя силы, он достал из-под подушки плотный заклеенный конверт и протянул его Кате дрожащей рукой. Впервые в жизни Катя увидела, как из глаз отца текут слезы.
– Простишь ли ты меня… милая девочка?.. – спросил Лисицын. – Отрада жизни моей… Простишь ли ты меня, Катя?… Катя… Катя…
– Господи, папочка, за что? – рыдала Катя, полагая, что отец бредит.
– Скажи… что… прощаешь… – попросил старик. – Я… не смог… Слишком… любил тебя…
– Прощаю, любимый папулечка, прощаю! Бог с тобой! Прощаю!
Катя вскрыла конверт только после похорон. Оказалось, Павел Лисицын обещал найти в большом мире Ивана Сергеевича Красина и отдать ему дочь, если не будет иметь известий о княжне Екатерине Борисовне Кушаковой-Телепневской – Настоятельнице Высокоборисовского Богоявленского женского монастыря Преподобной Екатерине. До той минуты, как мы вам уже сообщали, дорогие мои, Катя полагала, что ее мать умерла родами, отец даже показывал фотографию матери… Все настоящие, неподдельные бумаги о рождении Кати, как и изложение подлинной истории ее рожденья, находились тут же, в смятом предсмертной подушкою Лисицына конверте. Как и цюрихский адрес Красина.
Стоял тысяча девятьсот двадцать восьмой год. Катя выправила отпуск в клинике, где работала – в Брюсселе она вновь работала в женской клинике, и бросилась в свой Цюрих, но увидела только маленький серый камень с надписью «Professor Ivan Krasin. 1833–1918». Она опоздала на десять лет.
А дальше нам рассказывать не очень хочется, дорогие мои. Но скажем два слова.
В тридцать шестом году Катя приехала в Советскую Россию. В монастыре помещалась Детская Трудовая коммуна «Красное Борисово». О судьбе Настоятельницы и монахинь никому в «Красном Борисове» было неизвестно. Привезший Катю в бывший монастырь в люльке мотоцикла младший лейтенант НКВД по фамилии Мормышкин, неотступно следовавший везде за Катею и даже возле закрытой дверцы туалета, если Катя туда направлялась, стоящий на страже – сотрудник Мормышкин из Kатиных расспросов о бывшем монастыре убедился в достоверности поступивших аж из самой Москвы сведений: гражданка Швейцарии шестидесяти шести лет Катарина Нассау – на самом деле русская Екатерина Лисицына, она же Красина, она же княжна Кушакова-Телепневская. А когда старая дворянская сука попросила привести ее к бывшему железнодорожному мосту через Нянгу, пусть уже и со снятыми рельсами, но все-таки к важнейшему стратегическому объекту области, все окончательно стало ясно.
Далее следы Кати теряются. Удалось ли ей, состарившейся дочери нашей Кати, на-шей-Ка-ти! уехать из СССР к сыновьям – в Амстердам или Осло, где ее сыновья жили в то время? Или она сгинула, как без вести сгинули миллионы насельников ГУЛАГа? Неизвестно. Известно только, что один из сыновей-близнецов Кати Красиной, Ганс Нассау, крупный банковский служащий, пережил Вторую мировую войну в Америке, после ее окончания вернулся в Амстердам, а потом перебрался в Люксембург руководить Люксембургским отделением Crédit Lyonnais[244] и оставил в княжестве обширнейшее и такое же успешное в жизненной карьере потомство. А второй близнец, бессемейный Максимилиан Нассау, к Катиному вечному огорчению в молодые ее годы, полная противоположность братцу, не очень большой поклонник учения и скрупулезного труда, но большой, как тогда говорили, «бонвиван»[245], любитель молодых, обязательно с круглыми маленькими попками барышень и хорошего коньяка, всю не очень долгую свою жизнь проработавший гимназическим учителем гимнастики зимой и спасателем на французских пляжах летом, был одним из тех десяти норвежских боевых пловцов, которые взорвали завод тяжелой воды[246] в Пенемюнде, тем самым кардинально изменив ход всемирной истории. Если бы Гитлер получил атомную бомбу хотя бы в сорок пятом году, война закончилась совсем иначе. Макс Нассау, внук Красина и Кати, командовал второй пятеркой, прикрывавшей отход остальных и вывоз на подводной лодке взятых на заводе образцов. Он так и остался лежать на прибрежных камнях Пенемюнде с простреленной головою, с залитой кровью шкиперской норвежской бородкою. Узнала ли об этом вторая наша Катя?
Известно только, что в тридцать шестом году молодой и не очень опытный сотрудник Мормышкин мучился выбором – прямо сейчас, здесь, в «Красном Борисове», надеть на шпионку наручники или же погодить до возвращения в город, в Глухово-Колпаков, и в Ленинград везти ее в наручниках уже из Глухово-Колпакова? Первый вариант казался несколько рискованным – все-таки об этой старой якобы швейцарской тетке начальнику областного Управления звонили прямо из Москвы, о чем Мормышкин знал. Но чрезвычайно подкупал этот первый вариант – тогда можно будет здесь же допросить старуху и привезти в город уже готовый протокол допроса с признательными показаниями и раскрытой агентурной сетью – именами, явками и всем прочим. Предотвращение подрыва пусть и разобранного, но все же моста, моста! ему бы зачлось. Тогда вся слава разоблачения шпионки досталась бы ему, Мормышкину, а то ведь ни районное, ни областное начальство даже "спасибо" не скажет!
В результате своих размышлений младший лейтенант Мормышкин вновь усадил старуху в люльку мотоцикла и когда делал вид, что поправляет на ней кожаный, закрывающий от ветра защитный фартук, мгновенно защелкнул на тонких, уже идущих старческими пятнами руках наручники.
– Qu’est-ce que cela signifie?[247] – удивленная спросила Катя. – Снимите это с меня, любезный, – спокойно добавила она с некоторым акцентом. – Что это? – еще раз спросила Катя. – Зачем?
– Фокус-покус-куверокус, – отвечал остроумный сотрудник органов. – Мост тебе? Щас ты мне все расскажешь, старая сволочь.
Дети, обступившие приехавших плотной толпой, дружно засмеялись. И тут произошла странность. Словно бы горячий ветер пронесся над бывшим монастырем. У мальчишек полетели с голов красные «интербригадовские» пилотки: мода тогда существовала такая пионерская – носить красные пилотки, как в Испании. No pasarán![248] Пронесся, значит, ветер и стих. Дети, смеясь, принесли Мормышкину его улетевшую фуражку с синим околышком, тот нервно нахлобучил, даже не отряхнувши, пыльную фуражку на лоб, завел агрегат, уселся в седло, и, тарахтя, выехал с территории Трудовой коммуны. А далее произошла еще большая странность. Оказавшись на гудронном шоссе Глухово-Колпаков – Светлозыбальск, Мормышкин почему-то не только ни разу не дал старой суке в рыло, а мгновенно снял с нее наручники и повез старуху не в городское Управление, а прямо в Ленинград на вокзал, где, не говоря более ни слова, посадил ее на какой-то поезд, потом он не смог даже вспомнить – на какой. Далее следы Кати, как мы вам уже сообщили, дорогие мои, теряются. Мормышкин пришел в себя, только увидев полуторадюймовый красный круг на последнем вагоне уходящего состава – железнодорожный знак, предупреждающий машиниста идущего следом локомотива. Тут Мормышкин очень громко выматерился и, расталкивая людей, бросился к телефону. Старуха его околдовала и держала под пистолетом всю дорогу до Ленинграда – таков был его сбивчивый доклад начальству.
Следы уехавшей на поезде Кати, значит, теряются, а судьба Мормышкина известна: дурака Мормышкина коллеги расстреляли, предварительно выбив из него правдивые показания на всю Кутье-Борисовскую шпионскую сеть, жену его отправили в лагерь, а двоих малолетних детей – в ту самую Трудовую коммуну «Красное Борисово» в бывшем монастыре.
Да! Мы забыли рассказать о памятнике Кате, дорогие мои.
Красин заказал проект памятника в Цюрихской конторе Die Erinnerung an die Toten. Denkmäler und Grabsteine.[249] Кстати вам сказать, примерно через шестьдесят лет в ту же контору явилась мадам Катарина Нассау-Лисисин с заказом памятника на могилу профессора Ивана Красина. Измысленный Катею памятник должен был представлять собою двухопорную арочную балку, символизирующую мост. После того, как представитель Die Erinnerung an die Toten заверил Катю, что его фирма сможет выполнить любой заказ, но изготовление такой странной формы памятника потребует дополнительных средств, мадам, не торгуясь, уплатила.
Памятник из эшфордского черного мрамора стоит до сих пор, дорогие мои. Его всегда прибирают и моют, потому что всегда показывают экскурсантам. Знаете, есть такие странные люди, которые ходят экскурсиями по кладбищам. Им показывают красинскую могилу и переводят русскую надпись на высоком цоколе: «Моему отцу, великому строителю мостов и великому патриоту России. Екатерина Красина». А прежняя надпись «Professor Ivan Krasin. 1833–1918» перекочевала на цоколь чуть ниже новой надписи.
А над Катиной могилой он, Красин, тогда, много лет назад, будучи еще живым и долго и мучительно потом живший на белом свете, решил поставить изображение сидящей в легком покрывале обнаженной девушки, с легкою же улыбкою с прищуром глядящей на живых, приходящих к памятнику. Красин долго добивался от художника Die Erinnerung an die Toten портретного сходства с Катею и добился почти полного. Он послал в Россию Лисицыну расчеты, рисунки, чертежи и деньги. И надпись, которую желал видеть на памятнике: «Княжна Катерина Борисовна Кушакова-Телепневская. 1851–1869. Тебе суждена жизнь вечная и вечная моя любовь».
Через месяц с небольшим Красин получил деньги обратно в Цюрих вместе с короткой запискою: «Все исполнил. П. Лисицын». Еще через короткое время Красин получил и фотографию памятника, которая, как и Kатина записка, сопровождала его всю жизнь, всегда стояла в ореховой рамочке, где бы он ни находился, на письменном столе. Мы можем свидетельствовать, дорогие мои, что памятник с сидящей в легком покрывале, улыбающейся Катей действительно был поставлен – из пленительного белого с легкою розовинкою мрамора, такого же пленительного, какою была сама Катя. И Мария Кушакова-Телепневская вплоть до августа восемнадцатого года лежала именно под этим памятником. И всегда у памятника были свежие цветы – только розы. А в десять часов утра шестнадцатого августа Катин памятник с могилы исчез.
9
1. Когда в Глухово-Колпакове не дождались троих посланных в деревню Кутье-Борисово полицейских, всем начальникам в Глухово-Колпакове стало ясно, что дело нечисто. Глухово-Колпаковский полицейский начальник и по совместительству глава комитета МХПР и комендант области генерал Макарычев, местный уроженец, сам из деревни Кутье-Борисово происходящий, почему-то почувствовал себя осмеянным, обманутым и униженным и для успокоения выпил тройную утреннюю дозу, что он по положению своему вполне мог себе позволить.
2. Посмотревши на карту области и несколько раз выматерившись, Макарычев отдал команду отправить в Кутье-Борисово аж целый взвод в сопровождении БТРа и однозначно решить вопрос. А БТР, дорогие мои, это бронетранспортер с парой крупнокалиберных пулеметов, а иногда еще с небольшой пушчонкою, вращающейся сверху БТРа на круглой платформочке. Ну, а внутри БТРа сидят, скажем, люди. То есть, отделение военнослужащих. В военной форме. И вполне они могут однозначно решить вопрос.
3. Тут, кстати вам сказать, мы можем засвидетельствовать, что террор, как метод борьбы со злом и подвиг Кости Цветкова – все это совершенно напрасно. Террор приводит только к еще большему террору, а изменить жизнь может только Божья воля, честный труд и правдивый разговор с людьми. Так и сбудется, хочется добавить нам, словно бы реченное от Пророка. Не сомневайтесь.
4. Генерал Макарычев остался сидеть в своем кабинете под тремя портретами. Первый был портрет Виталия Мормышкина – предательски убитого Отца Народов, второй был портретом Серафима Храпунова – еще раньше, задолго до Мормышкина, предательски убитого теоретика и руководителя народного рабочего движения, а третий был портрет того самого – большого и красивого, пузатого генерала, который подходил ко Ксюхе после устроенного Ксюхою в Ледовом Дворце погрома и предательского убийства Мормышкина и сорока тысяч активистов партии МХПР.
5. В то время, пока БТР и грузовик со взводом ехали, погромыхивая в ямах на бывшем шоссе, в сторону Кутье-Борисова, причем БТР двигался куда бесшумнее грузовика, Ксюха еще раз удивилась. Удивилась она потому, что не так давно родившийся ее беленький Мальчик вдруг встал на ножки и пошел, хотя от рождения ему исполнилось только несколько дней.
6. Ксюха счастливо засмеялась и позвала Сына: – Костик! Костик! – На что Костик обернулся к матери и тоже громко и счастливо засмеялся. И даже ручками Своими всплеснул, и с радостным смехом, чуть присев, ударил обеими ручками Себе в коленки.
7. Ксюха теперь стала ждать, что Ребенок ее сейчас заговорит. Так оно и произошло, дорогие мои. Заговорил. Ребенок засмеялся и сказал: – Мама, пойдем со мной! Только одень меня.
8. И Ксюха подошла и надела на Мальчика белую крестильную рубашку, хотя было очень тепло и Мальчик ее только что сидел в Своей люльке совершенно голый.
9. Мальчик уверенно, хотя и покачиваясь на еще слабых ножках, вышел за отворенную калитку и пошел по улице в сторону бывшего Ксюхиного детского дома, то есть – в сторону бывшего монастыря. Ксюха пошла за ним. Посвистывал теплый ветерок, но красная пыль под ногами беленького Мальчика почему-то не поднималась. А Ребенок все шел и шел, оглядываясь на Ксюху и по-прежнему радостно смеясь. И так вот и пришли они – Мать и Сын – к монастырю.
10. Стены бывшего монастыря во многих местах обрушились или зияли провалами, кое-где кирпич был просто разобран и вывезен. Войти можно было бы где угодно, но Мальчик все шел и шел, пока не остановился возле маленькой двери в монастырской стене. Признаться, Ксюха еще раз удивилась. Она помнила эту дверь из своего детства. Но теперь ей показалось странным, как это здесь сохранилась совершенно, конечно, проржавевшая, но все-таки настоящая железная дверь, правда, лишенная вырванного с мясом замка и отворенная, но висящая на обеих хотя и тоже совершенно проржавевших, но целых петлях. И Мальчик, остановившийся возле этой двери, с ужасным скрипом несколько раз Своими ручонками отворял и притворял ее, и долго-долго смеялся и играл с дверью.
11. Потом Ребенок в последний раз отворил ее и вошел внутрь, куда Ксюха ни разу не входила с тех пор, как вновь поселилась в Кутье-Борисово, потому что не любила вспоминать свое детство, проведенное здесь, – Младенец, беленький Мальчик вошел в бывший монастырь. Он уверенно шел, топал Своими босыми ножками в одном направлении, и Ксюха сначала подумала, что Он хочет привести ее к ее бывшему спальному блоку. Туда она совсем не хотела идти и поэтому остановилась и позвала: – Костик! Костик! Пойдем домой, Сыночек!
12. Но Мальчик ее обернулся и сказал: – Не бойся, мама. Пойдем со мной. – И Ксюха послушно пошла за Сыном, потому что был голос Его ей дан во исполнение Его воли к ней.
13. Обойдя сохранившийся монастырский Храм, Костик двинулся в глубь монастыря, между разрушенных построек бывшей Трудовой коммуны «Красное Борисово», а потом бывшего обычного районного детского дома, а перед всем этим – Высокоборисовского женского монастыря. Ксюха боялась, что Мальчик занозит или поранит себе ножки, потому что ножки у ее Мальчика были нежными и мягкими, с вкуснейшими розовыми пятками, которые Ксюха так любила целовать, а путь среди развалин был усеян обломками бетона с торчащею арматурой, кусками рваного железа, острыми сгнившими, но оттого не ставшими менее опасными деревянными щепками, и бесчисленными, непонятно откуда взявшимимся здесь в таком количестве кусками битого стекла, серого и даже черного цвета, словно бы адский калейдоскоп оказался рассыпан здесь некоей черной рукой.
14. Потому волнующаяся за Сына Ксюха позвала еще раз: – Костик! Костик! – И на этот раз не она Сына своего, а Он возымел к ней Свое послушание и вдруг остановился на самом верху горы мусора, щебня, арматуры, битых кирпичей, кусков стекла, мокрой гнилой пакли и еще Бог знаете какой дряни, нанесенной сюда людьми. Ксюха взглянула на ножки Сына, и убедилась, что они по-прежнему совершенно чисты и белы.
15. А беленький Мальчик вновь засмеялся и сказал Ксюхе: – Здесь, мама!
16. Ксюха помнила этот холм из своего детства. Всегда тут была свалка мусора, и потому крысы жили под мусорным холмом в неимоверном количестве. Вспомнив про крыс, Ксюха бросилась к своему Ребенку и приподняла его как можно выше над собою, чтобы никакая тварь не смогла бы тронуть, не смогла бы укусить ее Сына.
17. И беленький Мальчик, лежа на огромных Ксюхиных руках, вновь начал счастливо, заливисто смеяться. И Ксюха, оправившись от мгновенного испуга, тоже начала радостно смеяться вместе с Ним, ясно понимая, что никакой беды с ее Сыном никогда не может случиться.
18. Никогда. Не может. Случиться.
19. И в этот же миг из-под мусорного холма, на вершине которого стояли Ксюха и Ребенок, выскочили тысячи черных крыс – будто из прошлой, давным-давно закончившейся жизни – и не успела Ксюха издать вопль ужаса, как все крысы бурлящим потоком, словно в сточной канализационной трубе, прыгая по головам друг друга, бросились из бывшего монастыря в ближайший пролом в стене и в мановение ока исчезли там навсегда.
20. Навсегда, дорогие мои. Навсегда.
21. И тут же в этот пролом, сквозь который только что в ужасе промчались, желая навсегда сгинуть, и действительно сгинули черные крысы, въехал, переваливаясь с боку на бок, словно подагрический старичок на прогулке, посланный из Глухово-Колпаково бронетранспортер. Грузовик с солдатами остановился за стеною, и взвод, выгрузившись, взведя затворы автоматов и держа пальцы на спусковых крючках, шел, прячась за бронетранспортером, как и положено по нехитрой военной науке.
22. Ксюха с Сыном по-прежнему стояли на самом верху огромной кучи мусора, потому что черные солдаты выбежали из-за страшной, фурыкающей нефтяными выхлопами машины убийства и рассыпались в шеренгу справа и слева от нее, и все держали Ксюху и Костика на мушках. Прятаться было поздно. Да и куда спрячешься в разрушенном монастыре?
23. Ксюха прижала к себе Костика и, как могла, заслонила его собою. А БТР со звериным урчанием остановился в двадцати метрах от Ксюхи и Ребенка, последний раз выпустил вонючий клубок черного дыма из выхлопной трубы и смолк. И тут же маленькая пушчоночка сверху БТРа сама собою повернулась и уставилась круглым черным дулом на Ксюху и Костика. И тут же страшный ветер подул по всей округе, ветер такой силы, что Ксюха – а была она, вы знаете, дорогие мои, весьма крепкого сложения, – с трудом удерживалась на ногах и прикрывала собою Костика, понимая, что живой ни в коем случае ей нельзя вставать на колени.
24. И Ксюхин Сын, Костик Второй, Ксюхин беленький Мальчик вновь сказал ей, Матери Своей: – Не бойся, мама! – И Ксюха услышала эти реченные слова сквозь ветер и еще услышала сквозь ветер слова: – Никуда не уезжай. Ничего не бойся.
25. И тут же раздался гром. Это пушка выстрелила, маленький снарядик вылетел и попал прямо в сердца Ксюхи и ее Мальчика. И вновь удар грома повторился, задрожала вся Глухово-Колпаковская земля – так, что, кажется, задрожала вся Россия. Гром раздался, земля под кучею мусора раскололась, словно бы при страшном землятрясении, разъехалась на стороны, как разъезжается на стороны железный театральный занавес, до поры скрывающий все, что было за ним, и из открывшегося прорана начала бить фонтаном светлая, блестящая на солнце струя.
26. А ветер подхватил и Ксюху, и беленького ее Мальчика, и вознес высоко-высоко над Кутье-Борисово – туда, где неспешно в тихий летний день плыли на синем небе белые ватные облака.
27. А на месте кучи мусора, на которой только что стояли Ксюха и беленький ее Мальчик, стало расплываться сначала небольшое озерцо, а потом целое море чистейшей родниковой воды, неистощимо наполняющей, и очищающей все поры, все овраги, все подземные русла красной Глухово-Колпаковской земли.
Неистощимая
Как только голый Голубович с телекамерой на плече вошел в Большой зал и, поблескивая зеркальным своим пенисом, повернулся прежде всего к лысому усачку, держащему его, губера области! на мушке, тут же лысый вместе со своими усами и со своим пистолетом – а вы помните, дорогие мои, это была «Беретта 92» – тут же лысый совершил некое, если правду сказать, балетное движение: плечи его, казалось, сами по себе съехали в сторону, мимо линии видоискателя голубовичевской телекамеры, крепенькое, правильное, пропорционально сбитое тело лысого вытянулось, словно бы резиновое, тут же к плечам подобрались ноги в выглаженных брюках и начищенных полуботинках; тело лысого вновь сложилось, войдя в свой обычной размер уже за дверью Большого зала.
Так что Голубович смог показать камерой только лежащую поперек трибуны мертвую актрису в развернувшейся уже окровавленной простыне и перевел телекамеру в зал, где его, в свою очередь, бесперывно снимали приплясывающие от восторга телевизионщики, да и остальные журналисты на свои смартфоны.
– Где этот секретарь, мать его? – спросил внутренний голос. – Как надо, так его и нету ни хрена!
– Где Осинин, блин? – совершенно спокойно спросил голый губернатор, хотя мы с вами знаем, что в этот момент Максим Осинин плыл в сторону Балтики, неправильно себя поведши с сотрудником Денисом, и никак на зов начальства явиться не мог. Максим уже свое отработал на государственной службе. Голубович об этом осведомлен не был.
– В кабинете, Иван Сергеевич… У вас в кабинете был только что… Иван Сергеевич… В кабинете… Здравствуйте, Иван Сергеевич… – раздалось в разных местах зала, и эти слова пожелания здравия прежнему, то есть – настоящему губернатору, выразили, как нам кажется, истинные настроения чиновничьего коллектива. – Здравствуйте, Иван Сергеевич!.. Здравствуйте!.. Как мы рады! – даже прозвучало и тут же было радостно подхвачено: – Как мы рады! – И далее еще прозвучало: – Слава Богу! Господи! – И этот глас тут же был многократно повторен: – Слава Богу! Слава Богу! Господи!
– А эти за каким хреном тут собрались? – кротко спросил внутренний голос.
– А вы тут за каким хреном сидите? – послушно транслировал губернатор. – Почему, блин, не на рабочих местах?
– Выходной ведь день, Иван Сергеевич, – пискнул было какой-то особо продвинутый. На него зашикали.
– Так вот… собрались… Иван Сергеевич… Вас ждали… – робко раздалось и тут же было мощно подхвачено подхвачено: – Вас!.. Вас!.. Вас ждали! Ждали Вас, дорогой Иван Сергеевич!… Иван Сергеевич!.. Дорогой!.. Так ждали! Господи!.. Дорогой!..
– Аааа, – выцедил Голубович, – жда-аали, блли-иин… А че ж вы так просто сидите, – говорил он водя глазком телекамеры по рядам, словно бы дулом автомата. – Блли-иин!.. Выходной так выходной!.. Ну, че надо делать-то, нна хххрен! Сами никогда без меня, блин, ничего не допетрите! Каз-злы!
И тут начало происходить – чуть мы не написали «нечто странное». Хотя что ж тут странного, в самом-то деле… Чиновничьи законы не всегда писаны, зато всегда крепки. Поэтому все сидящие в зале – и мужчины, и женщины – начали под дулом телекамеры поспешно раздеваться, бросая в проходах между креслами и рубашки, и брюки, и юбки, и майки, и лифчики, и плавки, и боксеры, и простые узенькие, и кружевные, которые только на свидание с любовниками надевают, трусики. Губернатор-то голый. Значит, нет вопросов! Нет вопросов – нет проблем! С дисциплиною у нашего Ваньки в области все обстояло самым лучшим образом.
Телевизионные камеры в зале, как вы сами понимаете, дорогие мои, работали беспрерывно. Пальцы журналистов порхали по клавиатурам ноутбуков. Если не считать тех журналистов и телеоператоров, которые, поддавшись массовому психозу, не начали раздеваться тоже, и камеры, и ноутбуки свои бросили.
Вот что произошло далее, нам, действительно, даже страшно рассказывать. Потому что пенис у Голубовича, хотя и сохранял полное спокойствие, подолжал блестеть, посылая слепящие лазерные сигналы в зал, и Глухово-Колпаковская элита адекватно принимала эти сигналы как прямое указание к действию, и уже кое-кто из сидящих, полностью обнажившись, начал поворачиваться к сидящему или сидящей в соседнем кресле, но, как всегда в трудных случаях нашей жизни, более высокое, чем даже сам Голубович, начальство, пришло на помощь.
Охранник, чинно оставаясь в черном костюме и при галстуке, потому что дресс-код представителей любой элитной службы охраны всегда неизменен, внес в Большой зал и подал губернатору трубку спутникового телефона.
– Голубович, – произнес Голубович в трубку, не снимая телекамеры с плеча. – Да, – губернатор произнес имя и отчество куратора области в Москве. – Все в порядке, вся областная структура функционирует нормально. Я даже могу сказать – в ускоренном режиме.
В прицеле телекамеры в этот миг оказались двое сотрудников областной администрации, мужчина и женщина, которые быстрее остальных успели воспринять сигналы губернаторского лазера и находились теперь в одной из самых распространенных камасутровских поз, применяемых, что называется, «в офисном варианте», если надо по-скоренькому – ну, знаете, когда дама становится коленями на сиденье стула и, нагибаясь, обхватывает руками спинку. Функционирование администрации происходило и вправду в очень быстром, действительно можно сказать – в ускоренном режиме. Несколько предвосхищая будущее, мы можем вас информировать, что сляпанный даже на скорую руку фильм о явлении Ивана Сергеевича Голубовича чиновничьему народу и о последующей пресс-конференции вполне прилично одетого Голубовича имел огромный успех по всему миру и частично был показан по зарубежным телеканалам, потому что полностью показать его было, разумеется, невозможно.
– Слушаю, – серьезно произнес Иван Сергеевич в поднесенную ему трубку, – немедленно выезжаю.
– Машину, блин! – скомандовал внутренний голос.
– А ты, блин, помолчи пока, – отнесся к нему Голубович. – А то без тебя ни хрена не разберемся… – Машину, блин! – приказал он охраннику.
– У подъезда, босс, – лапидарно доложил тот.
Губернатор аккуратно поставил телекамеру на пол, рядом с уже снятом с трибуны и лежащем теперь на полу телом несчастной Катерины, аккуратно завернутом в новую простыню, вновь, как и прежняя, начинающую уже пропитываться кровью, болтанув посылающими свет гениталиями своими, разом через телекамеру и через тело, и быстро вышел.
Мертвая актриса и голые чиновники и частично голые представители прессы на небольшое время – пока к ним не вышел одетый Голубович – остались одни. Мы вынуждены опустить занавес перед этой ужасной картиной. Что далее, до нового явления Голубовича, произошло в Большом зале, для нас осталось неизвестным. А фильм этот мы не смотрели. Мы порнографических фильмов принципиально не смотрим, тем более с изображением свального греха. Вот ей-Богу.
Сразу скажем, чтобы не забыть. Весь коллектив Глухово-Колпаковского театра драмы и комедии им. извращенца А. В. Луначарского, как только тело актрисы было доставлено в зал театра для прощальной церемонии, немедленно решил переименовать театр. Теперь он должен был стать не имени князя Бориса Кушакова-Телепневского, а имени лауреата Областной премии в области науки и культуры позапрошлого года Людмилы Алексеевны Мехоножиной – оказывается, именно так звали несчастную Катерину из «Грозы». Но актеры даже, к сожалению, не успели демонтировать на фронтоне слова «им. А. В. Луначарского», потому что ровно через сутки, когда Виталий Алексеевич Мормышкин вновь, теперь уже окончательно, был назначен и. о. руководителя области, театр не то что не получил нового славного наименования, а попросту, как Мормышкин успел уже ранее распорядиться, был закрыт за полной своей ненужностью.
Вернемся к той минуте, когда Голубович, голышом вышедши из Большого зала, уселся в новое с иголочки губернаторское авто и поехал к бывшему монастырю, потому что получил по спутниковому телефону указание проконтролировать выполнение операции под личную свою ответственность.
Далее произошло следующее, дорогие мои.
Во-первых, Голубович оказался полностью одет – в светло-серый, по тону полагающийся при теплой погоде костюм – с белой рубашкою, разумеется, и дикого фиолетового цвета галстуком, в блестящие лаком полуботинки и, как вы сами понимаете, в носки – черные, иного цвета носки никакой чиновник никакого ранга надеть, чтобы вы знали, не может по определению. Во-вторых, Иван наш Сергеевич оказался сидящим за своим столом в собственном своем кабинете, по коврам которого – хочется написать «змеились», ну, простите нас в очередной раз – змеились бесчисленные телевизионные кабели, подключающие «свет», то есть – разной степени сияния софиты и «звук» – телевизионные «пушки»[250] и микрофоны с логотипами к тому времени уже двух десятков, наверное, российских и зарубежных телекомпаний. По кабинету, не обращая на его хозяина ровно никакого внимания, ходили человек тридцать парней и девчонок, эти самые звук и свет устанавливающие, и еще несколько десятков симпатичных, с позитивными лицами молодых мужчин и женщин стояли за открытыми дверями кабинета, открыто курили, сбрасывая пепел прямо на мраморные ступени парадной голубовичевской лестницы и притаптывая об итальянский мрамор окурки. Тут же, на лестнице, стояли, скрестив руки у себя на яйцах, охранники, никого не одергивая, ни во что не вмешиваясь и сохраняя неподвижность не только рук, но и лиц своих. Охранников, как и Голубовича, никто не замечал. А сам Голубович, готовясь к передаче, долженствующей доказать мировой и российской общественности, что он не только жив, жив! жив! но и пребывает в полном порядке и крепко держит в руках своих бразды правления областью, – сам Голубович улыбался, наблюдая за хрестоматийным телевизионным бардаком, пожевывал жвачку, хотя курить ужасно, ну, ужасно хотелось, разглядывал теток, выбирая – совершенно напрасно, но он, конечно, не верил, что напрасно – выбирая объекты будущих побед.
А в-третьих, в эту же самую минуту Голубович, по-прежнему совершенно голый, сидел на заднем сидении своей новой, поданной ему вместо взорвавшейся «Ауди» и не мог уже ни о чем думать кроме того, что ему ужасно, непереносимо хочется курить.
Да, мы забыли, что было и в четвертых. Значит, в четвертых, внутренний голос совершенно оставил в это время одетого с иглы Голубовича, сидящего у себя в кабинете, а незримо присутствовал исключительно с Голубовичем голым, пребывающим на заднем сидении новенькой, как и костюмчик того, первого Голубовича, «Ауди». Из чего мы с вами можем заключить, дорогие мои, какой из двух Голубовичей был более настоящий, а какой менее, или, по крайней мере, какой из Иванов наших Сергеичей сейчас более оказался близок ко внутренней своей сущности.
Ну, еще и в пятых. Если уж совсем по совести. Тут, действительно странность. И вот какая: все голоса, во множестве вещающие в городе Глухово-Колпакове начисто пропали. Выключились.
– Курить хочу, блин, – первое начал общение после выхода из Белого дома губенатор. Поскольку прозрачная переборка между седоком и водителем была наглухо закрыта, а переговорную кнопочку Ванька наш не нажал, его никто и не услышал.
– Ты че, трехнулся, блин, на хрен? – внутренний голос возмутился. – Нельзя! Ты че, блин?! Забыл рекомендации?
– На хрен! – резюмировал губернатор. Он опустил стеклянную перегородку. – Сигарета есть, блин? – спросил у вытаращившего глаза нового водителя. Тот даже инстинктивно сбросил скорость. – Извините, не курю, Иван Сергеевич, – виновато ответил водитель, оборачиваясь к боссу.
– На дорогу, блин, смотри! – злобно произнес Голубович, вновь поднимая стекло.
– Видишь, блин, – не судьба, на хрен, – удовлетворенно произнес внутренний голос. – Значит, сиди, ни хрена не дергайся.
– Ребята, сигаретки не найдется для некурящего? – в ту же самую минуту громко спросил сидящий у себя в кабинете Голубович, и немедленно перед ним открылось пачек двадцать самых разнообразных сигарет. Со смехом Голубович начал выбирать сигаретку у доброжелательно смеющихся журналюг – взял из тоненькой пачки беленькой, с рыжиной, конопатой девчушки тоненькую бабскую ментоловую сигарету.
– Мне так, побаловаться…
– Урааа! – очень мило и непосредственно закричала она. – Это значит, Иван Сергеевич отдал приоритет нашему каналу!
– Как вас зовут? – помимо себя облизываясь, спросил Голубович, разглядывая крохотные девчушкины сиськи под блузочкой.
– Вася! Василиса! Можно попросить вас об эксклюзивном интервью после съемки? – девчушка знала свое дело.
Голубович, продолжая облизываться, закивал головой, с наслаждением затянулся девчушкиным дымом.
С тяжелым рокотом, кажется, прямо над крышею Белого Глухово-Колпаковского дома пролетели четыре тяжелых транспортных вертолета Ми-26, почему-то никто из находящихся в эту минуту в кабинете и на лестнице на них не обратил никакого внимания. Голубович забычковал окурок в идеальной до того чистоты пепельнице и подставил счастливую физиономию кисточке гримерши.
А вертолеты уже неслись низко-низко над шоссе, по которому сейчас мчался кортеж Голубовича – его «Ауди», джип охраны и по две полицейских машины впереди «Ауди» и позади джипа – мчался по шоссе, где безостановочно шли люди, ехали машины, мотоциклы, велосипеды с висящими по обеим сторонам руля пустыми канистрами. Навстречу ехали, сигналя, машины «Скорой помощи». Губернатор, сами понимаете, тоже двигался с сиреной, все ментовские машины тоже беспрерывно сигналили, это получался уже настоящий симфонический концерт современной музыки – точь-в-точь Альфреда Шнитке, но и губернатору дорогу не очень-то уступали, иногда приходилось объезжать по обочине, давя людей, но обстоятельства оказывались таковы, что останавливаться не было времени. Тем не менее передняя «Ауди», в которой сидел босс, вдруг замигала правым поворотником и встала. Идущий сзади джип – бампер к бамперу – ткнулся следом, полицейские «Форды» тоже остановились. Из губернаторской «Ауди» выскочил шофер и бросился к джипу. Через мгновение он огромным прыжком вернулся и протянул в открывшееся окно целую, нераспечатанную желтую пачку «Кэмэла».
И в эту же минуту там, впереди, куда ехал Голубович и куда стремились все эти люди, раздался взрыв. Вы уже знаете, дорогие мои, что это взорвалась привезенная англичанами буровая установка Graffer. Мы знаем, что одновременно со взрывом с четырех сторон на Борисову письку вошли войска и что Хелен, сидя за рулем угнанного микроавтобуса, уже заблаговременно съехала от бывшего монастыря прочь и увезла честную сексотку Иванову-Петрову. И в то самое мгновение, когда водитель передавал пачку охранниковского «Кэмэла» боссу в открытое окно, мчащийся от монастыря окровавленный микроавтобус затормозил напротив губернаторского кортежа. И тут же впереди – там, куда стремился Голубович, и позади – там, откуда только что уехала Хелен, где только что сели все четыре вертолета, раздалось несколько артеллерийских выстрелов и потом поднялись и сразу же стихли автоматные очереди.
Хелен выскочила из-за руля, выпрыгнула в дверь автобуса. Агент Пирожков осталась в автобусе, не решилась выйти сейчас.
– Иван Сергеевич! – закричала Хелен.
– Пропустить! – крикнул и Голубович. А иначе сейчас в Хелен могли и выстрелить из джипа.
Кстати, об агенте Пирожкове и заодно уж об Овсянникове, пока мы не забыли.
Поскольку полковника Овсянникова после всех столь правдиво изображенных в нашем повествовании событий с должности сняли – увы, с генеральской должности сняли и назначили на полковничью – заместителем начальника Управления в другую, далекую от Глухово-Колпакова и вообще далекую от чего бы то ни было область, – жена его, Овсянникова, ехать Бог знает куда решительно отказалась и подала на развод. Разводы в офицерской среде не поощряются, чтоб вы знали, дорогие мои, а столь высоких – хотя бы генеральских – сфер, в которых на разводы и на официальных, известных хоть кому любовниц смотрят сквозь пальцы, Овсянников так и не достиг. Мы это все к тому рассказываем, что агент Пирожков, то есть Иванова-Петрова, с пункта питания в Глухово-Колпаковском Белом доме уволилась и поехала со своим Вадиком к новому месту службы, где она уже ничего особенного Овсянникову не докладывала, ни на какую работу не устроилась, а только готовила дома бесконечные пироги, от которых и она сама, и полковник ужасно растолстели. Но, будучи проверенной соответствующими внутренними – самыми внутренними! – службами ведомства, которые всегда досконально проверяют жен сотрудников, вынуждена была иногда – не часто! ну, раз в неделю – бесплатно сообщать о настроениях мужа своему новому куратору. Куратор оказался человеком еще сравнительно молодым и любящим толстушек, и на служебной квартире пользовал Иванову-Петрову в анус – то есть, именно так, как ей всегда нравилось. Теперь это была не агент Пирожков, а агент Глухов. Ну, так вот оно склалось, как склалось. Будучи, как мы вам уже сообщали, очень умным человеком, Овсянников никак не проявлял свое знание о существовании агента Глухова и об отношениях агента со своим куратором, и вскоре завел себе личного агента Манилова – молодую преподавательницу местного института. Одним словом, супруги Овсянниковы, несмотря ни на что, были счастливы. Поди плохо?
Да, а голый Ванечка наш с наслаждением выпустил дымок в синее небо, выбросил окурок из окна машины и закурил вторую сигарету. Он не спросил, что там происходит – впереди. Он уже знал.
– Эта шлюха-переводчица пусть, блин, щас дома тебя ждет, на хрен, – распорядился внутренний голос. – Вечером после всего нормально, блин, отдохнешь. А та шлюха пусть в офис едет, корреспондентов кормить, блин.
– Молчи, – совершенно спокойно ответил внутреннему голосу Голубович. И приказал обеим теткам: – Давайте, блин, валите обе в офис. И сидите там, блин, носа никуда не показывая.
– Разреши… То есть, позвольте, я с вами, Иван Сергеевич, – быстро произнесла Хелен.
– Стучать собирается, шлюха траханная, – подсказал внутренний голос.
– Что, думаешь, некому будет на меня, блин, стучать? – усмехнулся губернатор и вдруг обернулся на охранников, давно уже вылезших из своего джипа и теперь полукругом обступивших Голубовича и обеих дам. Они профессионально стояли спиною к разговаривающим, фиксируя взглядами десятки людей и машин, проходящих и проезжающих мимо, будучи готовыми в любой момент дать отпор новому нападению на охраняемое лицо. – Таких желающих, блин, и без тебя знаешь у меня сколько? Хоть жопой ешь.
– Я на тебя не стучу, – лицо Хелен тут почему-то задрожало, словно бы она собралась плакать. – Просто… боюсь за тебя… Просто хочу быть с тобой.
… Иван Сергеевич добродушно засмеялся на это явное вранье двойной, тройной, Бог знает еще какой сексотки, и, сидя у себя в кабинете, уже загримированный, напудренный, подмазанный, как всегда во время телевизионной съемки, и под глазами, и на скулах[251] и снабженный «петличкою»[252] засмеялся, значит, и сказал с доброю улыбкой:
– Я, главное, при съемках всегда боюсь, что лысина будет блестеть.
Порхнул по помещению ответный доброжелательный смешок.
– Не будет блестеть, – сухо сказала равнодушная гримерша, а тоненькая девчушка Вася, претендующая на эксклюзивное интервью, вдруг на мгновение возникла перед ним и быстро тихо проговорила: – Ничего не бойся. Все будет хорошо.
Тут у нашего Ваньки ноздри зашевелились. Совсем он, дорогие мои, вернулся в себя. Во всяком случае, так могло показаться.
… Когда кортеж Голубовича въехал на холм перед монастырем, все уже было кончено. То есть, мы хотим сказать, что подготовительная часть мероприятия была завершена. Погибших при взрыве складировали в сторонке в черных пластмассоваых мешках, тяжелых раненых вывезли, а нескольким десяткам легкораненым оказали первую помощь и посадили или положили на краю оврага – во благовременье им предстояло вменить ту или иную статью, что переходило уже в компетенцию следствия. Ну, понадобилось, конечно, несколько выстрелов из пушек БМД и несколько – только с одной стороны, на подходе к Узлу, то есть, к бывшему монастырю – автоматных очередей. Эта сторона по приказу охранялась особенно тщательно, хотя люди к Узлу вовсе не рвались, никто не обращал внимания на бывший монастырь. Безумные толпы оказались оттеснены далеко-далеко от Узла, так что солдаты первого Контрольного пункта откозыряли кортежу Голубовича километра уже за четыре от места событий.
Несколько офицеров, в том числе Овсянников, подошли к окошку губернаторской машины, потому что Голубович сидел еще, покуривая очередную сигарету и не собирался бросать ее лишь наполовину выкуренной, – офицеры подошли и откозыряли.
Выслушав доклады о полной готовности, Голубович спросил:
– Все, блин, информированы, что руководство операцией переходит, на хрен, ко мне лично? Все, блин, знают?
– Так точно, – прозвучало. – Так точно… Так точно… Так точно…
– Вопросы, блин?
– Разрешите, товарищ губернатор? – сунулся вперед молодой полковник из приезжих.
– Господин губернатор, на хрен, – буркнул внутренний голос, делая акцент на слове «господин». – Нашел, блин, товарища себе…
– Господин губернатор, блин! Господин! Понял? – пролаял Голубович из окна машины.
У полковника чуть поднялась верхняя губа, словно бы он собрался сейчас харкнуть Голубовичу в рожу.
– Так точно, господин губернатор… Вопрос – разрешите вскрыть Узел специального назначения? Ни из Питера, ни из Москвы нет указаний, говорят: решайте сами на месте. Начальник УФСБ запрашивал по своим каналам, и тоже указаний нет, – полковник оглянулся на Овсянникова, словно ища поддержки.
– Так точно, Иван Сергеевич, – подтвердил Овсянников, тем самым, назвав губернатора по имени-отчеству, показывая остальным, насколько он короток с хозяином области и вообще еще неизвестно, кто тут, в области, настоящий хозяин. – Из Москвы указаний нет. Вам решать. Если последует ваше прямое распоряжение, мы войдем.
Голубович и не подозревал, остальные офицеры не видели, а мы вам можем сообщить, что умничка Овсянников даже не думал звонить по поводу проникновения на Узел – еще чего, проявлять такую дикую инициативу! Карьеру ему подобные мелочи уже не могли спасти, но этого Вадим Овсянников еще не знал и надеялся. А посмотреть, что там такое, на Узле, вход в который был запрещен даже ему, ужасно хотелось.
Голубович выплюнул чинарик, открыл дверцу машины и вышел, ступив босыми ногами на траву. Повисла пауза. Не все еще здесь понимали до этого момента, что губернатор совершенно голый, с болтающимися гениталиями, и увидели Ваньку нашего во всей красе только теперь.
– Ну, че, блин, я даю прямое распоряжение. Давай!.. А ты сиди здесь, – обернулся он к Хелен. – Безотлучно. – Хлопнул дверцей: – Ну, пошли, блин. Зассали… Сами не можете, на хрен, решение принять…
– Ссыкуны… – сказал внутренний голос.
– Ссыкуны, блин, – согласился Голубович.
Возле ворот Узла явился кислородный резак, зашипело на стальных петлях голубое пламя, ворота под напором солдатских плеч с грохотом упали внутрь бывшего монастыря. И тут же БМД – вы помните, дорогие мои? это Боевая Машина Десанта, – а это танк «Клим Ворошилов», очень серьезная была машина в сороковых годах, – проломив стену, въехала на территорию Узла через каких-нибудь метров двадцать от уже упавших ворот. Входить так входить, не правда ли?
… – Никаких беспорядков мы в области не допустим, – улыбаясь, произнес губернатор в телекамеры. – Все соответствующие службы приведены в полную боеготовность, хотя никакого покушения на мою светлую персону, – тут Иван Сергеевич позволил себе тонко улыбнуться, – не было. Вы видите – я совершенно здоров. Могу продемонстрировать невредимой любую часть тела, – добавил он под общие доброжелательные смешки, глядя на девчушку Васю, и та тоже, повторяя улыбку сильного, властного мужчины, понимающе улыбнулась в ответ: можешь продемонстрировать, значит, продемонстрируешь, только подожди немного, ладно?
Голубович покивал лысиной – ладно… Ладно…
– Я хотел бы поговорить, дорогие друзья, о более важных темах. Например, об успехах Глухово-Колпаковской области в привлечении инвестиций, а не о слухах, злонамеренно распространяемых некоторыми зарубежными средствами массовой информации, что будто бы в области находится месторождении водки. – Губернатор засмеялся: – Ну, сами посудите, дорогие друзья, если уж открывать месторождение, то исключительно коньячное… И только пять звездочек…
Теперь тоже засмеялись, но не слишком дружно. Бородатенький парень в клетчатом пиджаке, неуловимо иностранного вида, поднял руку.
– Пожалуйста, – сказал лишенный секретаря Голубович, нервно оглянулся, ища секретаря, тот все, разумеется, не шел, а наши козлы не могли, блин, посадить с ним рядом хоть кого-нибудь, чтобы вести весь этот цирк с конями. – Одну минуточку, – выставил парню предупреждающую ладонь и поманил пальцем девчушку Васю. – Можно вас попросить? Поможете мне вести пресс-конференцию? Хотите быть моим временным пресс-секретарем? Исполняющим обязанности?
Вася в единый миг оказалась на стуле рядом с Голубовичем.
– Ты не пожалеешь, – послышалось это Ивану Сергеевичу или последняя в его жизни женщина действительно так жарко, так страстно и одновременно столь неслышно для остальных произнесла эти слова? Не знаем. А чего не знаем, того не ведаем. Зря врать не станем. Мы никогда… – Да! Пожалуйста! – громко произнесла девчушка, указывая шариковой авторучкой на бородатенького. – Вы! И господа! Прошу всех соблюдать регламент: две минуты на вопрос и на ответ. – Она мимолетно взглянула на губернатора – правильно? Голубович только улыбнулся: хороша девка! Он любил таких. Мы можем совершенно авторитетно подтвердить, дорогие мои: любил наш Иван Сергеевич таких теток. И по-всякому! Добрый он был! Щедрый! Веселый! Правильный был пацан Голубович Иван Сергеевич! – Прошу вас, – повторила Василиса.
Девушка в белой блузке и черной юбке с надписью по заднице «Глухово-Колпаков-ТВ» сунула под нос парню радиомикрофон.
Бородач кашлянул и произнес название одной из самых известных – да что! – самой известной зарубежной теле– и радиостанции и свое собственное имя.
– Господин губернатор! Только что над нами пролетели четыре тяжелых армейских вертолета. Через город прошла колонна военных грузовиков. Чем вызвано небывалое скопление военной техники в таком тихом и спокойном городе, как Глухово-Колпаков? По сведениям нашей радиостанции, в районе обнаружения водочного месторождения уже погибло несколько десятков человек. Спасибо.
– Спасибо, – сказал и Голубович. – Спасибо за столь приятную для сердца губернатора оценку нашего любимого города Глухово-Колпакова. Наш город действительно тихий и спокойный. А техника прошла именно для того, чтобы погибших в результате распространения злонамеренных слухов было как можно меньше. Про десятки погибших это вы бросьте! Бросьте! – он на мгновение было завелся, неприкрытая злоба исказила добрую, отеческую улыбку на губернаторском лице, но тут же Ваня наш вновь взял себя в руки. – Мы не допустим распространения слухов! Граждане иностранного государства… Я могу назвать государство – это Великобритания… Трое граждан Великобритании, к сожалению, погибли при попытке осуществить злонамеренную провокацию на территории Глухово-Колпаковской области… А наших погибли только двое… То есть, как это «только», что я говорю?! Извините, друзья мои… К сожалению, в попытке сдержать разгневанную толпу и защитить граждан Великобритании погибли двое сотрудников полиции, – он протянул руку, и тут же некто вложил в его руку листочек; Голубович прочитал: – Двое сотрудников в лице капитана полиции Широколобова и старшины полиции Слепака. – Бросил листочек. – Семьям будет оказана… И оба представлены, разумеется… После завершения очистительных работ на месте героической гибели сотрудников, администрация губернатора… моя администрация… организует выезд представителей прессы и телевидения, чтобы вы, дорогие друзья, сами смогли убедиться… И снимать там можно будет сколько угодно и что захотите, – Голубович показал фирменную улыбку. – Там рядом здание бывшего монастыря удивительной красоты… Река Нянга… Да вообще у нас природа… – тут Голубович почему-то развел широко руки, не то показывая размеры местной природы, не то желая сказать о величине рыбы, которую можно выловить в Нянге. – И если вы там найдете водку, я с удовольствием выпью вместе с вами. – Тут послышался уже общий смешок. – А что вы думаете? Губернатор тоже человек… Иногда… Может себе позволить… Мы, кстати, непременно организуем при выезде полноценное питание всех журналистов. Не сомневайтесь!.. Пожалуйста, еще вопросы! Только позвольте напомнить, дорогие друзья, – мы так быстро собрались по поводу моего чудесного воскрешения из мертвых! И вы все приехали, можно сказать – примчались в Глухово-Колпаков, чтобы посмотреть на меня, вполне живого…
– Вы! – указала на кого-то Вася под катящийся смешок, но Иван Сергеевич вновь посерьезнел.
– Тела погибших граждан иностранного государства… граждан Великобритании… будут немедленно переданы уполномоченным представителям посольства этой страны. В официальном порядке.
– Вы! – повторила Вася.
… – Вы, блин! – сказал голый Голубович, обернувшись на оседающую в проломе пыль.
– Совсем, блин, трехнулись, – сказал внутренний голос.
– Сдурели, блин? Стены зачем ломать? Тут исторический памятник федерального, блин, значения! Ну, козлы!
Саперы занялись своим делом на холме, а спецназ мгновенно рассыпался по Узлу.
Совсем скоро обнаружилось, что весь Узел, то есть – весь бывший монастырь совершенно пуст. Причем решительно все двери, в том числе и двери в храм, по-прежнему сияющий под небом златым своим куполом, были или заварены, или наглухо заложены кирпичем. Заложены кирпичем оказались и все окна двухэтажных построек, которые когда-то служили кельями монахиням, а потом – общежитиями трудкоммунарам, а еще позже стали жилыми помещениями детского дома.
– Чисто, – начало звучать в рациях. – Чисто… Чисто… Чисто…
За пустыми молчащими постройками, в самой глубине Узла, оказалась маленькая, чистенькая, словно бы недавно выбеленная часовня, метра два, не более, высотой. Лишенная креста, она больше напомнила какую-нибудь садовую постройку, когда бы возле нее на небольшом постаменте не сидела с легкой полуулыбкой женщина, прищурившаяся и, кажется, готовая вот-вот звонко захохотать. Сделанная из белого, с легким розовым оттенком мрамора, она казалась совершенно живою. Накидка покрывала ее плечи и колени, и если бы не эта накидка, женщина предстала бы сейчас совершенно голою – во всяком случае, именно так решили – каждый про себя – несколько офицеров, собравшихся возле часовни.
Подошел Голубович, и тут же оглянулся – он сказал, ясно, блин, Хелен оставаться в машине, как она сумела пройти сюда и усесться здесь на пороге? Рефлекторно, значит, оглянулся, чтобы посмотреть, осталась ли действительно тетка в машине или нет. Машины своей, находящейся далеко за монастырской стеною, разумеется, он не увидел, пригляделся и только тут понял, что Хелен перед ним – скульптура, памятник. Плохо стал наш Ванечка соображать. Все вокруг замолчали, когда Голубович выступил вперед. Взгляд скульптуры поэтому ударил прямо в него, в Ивана Сергеевича. То ли накурившись после долгого перерыва крепких и многих числом – почти всю пачку высадил – сигарет, да еще на голодный желудок, то ли уже чувствуя вполне объяснимую усталось от совершенно неординарного дня, Голубович почему-то не мог теперь оторвать глаз от мраморной копии Хелен, наверняка сейчас сидящей в машине, и все смотрел, смотрел в ее насмешливый прищур, словно бы Глухово-Колпаковский Пигмалион[253], никогда не умевший любить, а сейчас, в наркотическом ли опьянении, в стрессе ли от ломовой усталости – поистине Бог весть – словно бы полюбивший не живую, находящуюся в двухстах метрах от него, а эту – давно мертвую.
Быстро начала опускаться темнота, наступал конец дня. Голубович смотрел в глаза женщины, с которою – полагал ли он так на самом деле? – с которою, кажется, прожил жизнь во взаимной любви и счастии или, по крайней мере, хотя бы один день не бесконечным сексом занимаясь с нею, а просто обнимая ее за плечи в такой вот, как сейчас, сгущающейся и сгущающейся темноте жизни, потому что жизнь – это сгущающаяся и сгущающаяся тьма, и единственное, что может в ней, в жизни, сделать для своей женщины мужчина – это обнять ее за плечи, чтобы его женщина почувствовала и силу, и готовность защитить, и, даже главнее всего этого – почувствовала бы, что ее любят. Потому что любовь можно передать только объятием. А Голубович любил эту женщину, он уже понимал, что любит ее, вот именно эту, любит, любит, любит!
– Эй, эй! – обеспокоенно произнес внутренний голос без единого матерного слова. – Ты че, парень? Нельзя! Тебе ж когда еще сказали? Забыл? Нельзя!
Голубович даже не ответил.
– Какие будут дальнейшие указания, господин губернатор? – прозвучало у него за спиной.
Голубович и на это ничего не ответил. Тут его вполне уважительно и осторожно тронули за плечо. Он обернулся с остановившимся лицом – солдат с автоматом на плече, в каске, разве что пластикового бронещита у того сейчас с собою не оказалось – протягивал ему защитного оливкового цвета штаны и куртку. Логично было бы предположить, что воин принесет вместе со штанами и какие-никакие трусера и майку, но нижнего белья, мы врать не станем, не было предложено, только штаны с клапанами понизу – под берцы и куртка со шлицами под ремень. Ремня тоже, кстати сказать, не оказалось. А какой начальник без ремня? Да никакой, если честно вам сказать, дорогие мои.
– Приказано передать, – доложил солдат, – лично в руки, товарищ губернатор.
И на это ничего не сказавши, Голубович вновь повернулся к своей женщине. Теперь она улыбалась, кажется, шире в полутьме и прищурилась сильнее, и готова была захохотать уже вот сейчас, в это самое мгновенье. И Голубович с гудящей головою, с колотящимся в неимоверном ритме сердцем произнес слова, которых никогда никому не говорил в жизни. Ванечка шагнул к скульптуре, обнял ее, ощутив бесконечное, неистощимое тепло, впитанное живым камнем за теплый летний день и теперь возвращаемое Голубовичу, и сказал:
– Я люблю тебя. Милая… Милая… Я люблю тебя.
И приник к плечам любимой, счастливые закрыл глаза. Ну, устал человек. Любой на его месте устал бы.
– Ну, хватит, – произнес кто-то за спиной губернатора, а тот и не слышал уже ничего. – Время дорого. Берите его и в машину.
Голубович в отключке находился, и сердце в эти минуты само решало, остановить ли свой бесконечный отсчет или все-таки пока нет, оно билось медленно и несильно – ну, может быть, тридцать или максимум сорок ударов в минуту, а такого, чтоб вы знали, сердечного ритма очень мало для жизни. Голубовича повели к машине, иначе он бы услышал, как заскрежетали гусеницы БМД и как, круша мраморное изваяние, БМД проехала по нему и, подав назад, еще раз проехала, превращая любимую женщину губернатора в крошку, в угластые обломки мертвых камней, зарывая, вдавливая их внутрь земли.
На середине скорбного своего пути к машине Голубович начал приходить в себя. Он остановился, и ведущие его под руки двое солдат не решились противодействовать губернатору, пусть и совершенно голому. Иван Сергеевич пошевелил губами, хотел было отдать какое-то новое указание, но ничего так и не произнес. Внутренний голос молчал. Губернатора повели дальше.
Заложенную дверь в часовню нашли мгновенно и мгновенно же проломали. Уходящие вниз ступени осветились желтым электрическим огнем – прямо под правой рукою возле пролома оказался выключатель, так что мгновенно, значит, включили свет. Внутри, внизу, где-то под лестницей, не очень громко, но неостановимо шумел водяной поток. Спецназ начал двигаться вниз по лестнице с пальцами на спусковых крючках.
Внизу помещалась так же тщательно, как и снаружи, оштукатуренная и выбеленная комната, она тоже была сейчас полна неестественным, дьявольским светом, потому что и здесь проводка оказалась в полнейшем порядке.
– Чисто, – доложил в наплечный микрофон первый спустившийся. – Тут коллектор.
В углу комнаты, действительно, в широком бетонном ложе шумела клубящаяся, словно бы на водоворотах, неистощимая светлая река.
Овсянников, расталкивая подчиненных, спустился по лестнице, стащил с руки перчатку, зачерпнул, понюхал, мужественно высунул длинный, как у муравьеда, язык, осторожнейше попробовал самым кончиком языка, потом попробовал еще раз, уже смелее.
– Вода, – разочарованно произнес начальник Глухово-Колпаковского УФСБ.
В этот миг Голубович, наконец, окончательно очнулся у себя в машине. Хелен, плача, целовала его, и от поцелуев Ванечка наш окончательно пришел в себя и, посмотрев на плачущую женщину, сделал очевидный вывод:
– Ты жива.
Хелен, плача и смеясь, обняла его. Неизвестно, как бы далее развивались события на заднем сидении персонального губернаторского авто, если бы командир саперов не возник возле машины.
– Все готово, господин губернатор. Теперь только ваш сигнал.
– Весь овраг снесешь, на хрен?
– Сдвинем края направленным взрывом, и пласт земли ляжет сверху. Водо… – тут он запнулся, – водоносный слой неизбежно уйдет на глубину.
– Давай, блин! – махнул рукой Голубович, и тут же сапер, не отходя от открытого окна машины, точно так же махнул рукой, в которой зажат был красный флажок на палочке – ну, чисто у ребенка в Парке Культуры.
Полыхнул взрыв. Машину подбросило так, словно Бог решил уже сейчас взять Голубовича и Хелен на небо. Уши заложило. Как комбат устоял на ногах – загадка. Ну, видимо, привычный к сотрясениям земли оказался майор. Через минуту Голубович распорядился оставить оцепление еще на две недели – а надо бы навсегда тут было пост учредить, навечно. Ну, мы можем вам сообщить дорогие мои, что именно так потом и было сделано, и за несколько километров от бывшего монастыря по вселенскому кругу на столбах вилась «колючка» и через каждые пятьдесят метров висели таблички «Стой! Запретная зона! Стреляем без предупреждения!», но это потом уже, после всех событий столь правдиво изображенной нами истории, а сейчас Голубович и Хелен неслись в «Ауди» к бывшему имению князей Кушаковых-Телепневских – домой. Ехать надо было всего несколько минут по хорошему-то шоссе.
… Когда до пресс-конференции донеслось далекое эхо взрыва, в зале на мгновение повисла тишина. Потом все разом заговорили. И тут же некий человек в форме без знаков различия подошел к губернатору и положил перед ним бумажку. Голубович бумажку взял, быстро просмотрел написанное, кашлянул и произнес:
– Вот… Мне докладывают, дорогие друзья… Специальными службами ликвидированы все последствия злонамеренной провокации ради восстановления нормальной жизни нашего тихого, как правильно заметил коллега, и спокойного Глухово-Колпакова… Нашего прекрасного Глухово-Колпакова… И мы с вами по-прежнему готовы выехать на место событий… Но только завтра с утра… С утреца, значит… Вы поглядите! Уже ночь! – он показал на окна. Все обернулись – за окнами, действительно, висела темнота. – Сейчас никто уже ничего не увидит, – добродушно засмеялся Голубович. – Давайте и нашу пресс-конференцию перенесем на завтра. Я отвечу на все вопросы прямо на месте происшествия! А последствия самого происшествия уже, значит, ликвидированы, дорогие друзья! Нет более никакого происшествия! И, можно сказать, практически не было! Не было! Я поздравляю вас!
… Тем временем Голубович смотрел на Хелен, еще все-таки не совсем пришедши в себя и не зная, как с нею поступить. Внутренний голос замолчал и уже ничего не советовал. А на лице переводчицы вдруг возникла кривая – обаятельная, мы опять-таки врать не станем, – но все-таки ведьмина улыбка.
– Тебе нельзя домой, – так вот – усмехаясь и еще толком не вытерев слезы, произнесла последняя подружка губернатора Глухово-Колпаковской области.
– Это с чего бы? – удивленно спросил Голубович, настолько, значит, удивившись, что даже забыл выматериться.
– С того, что возьмут тебя сейчас. И самое лучшее, на что ты можешь рассчитывать – желтый дом. После всего, что ты учудил… Объявят, что сошел с ума… А вероятнее всего, кончат тебя через пять минут. Скоропостижно умрешь от инфаркта, как от последствия покушения. Сердце не выдержит. Я так, во всяком случае, полагаю, – продолжая усмехаться, отвечала Хелен. – Есть у тебя где залечь?
– Нету! – отрезал Иван Сергеевич. И спросил: – А почему я должен тебе верить?
Кривая улыбка с лица странной тетки пропала, и вновь на нем выступили слезы.
– Потому что ты не захотел убить меня. Мое воплощение… И еще мне жалко тебя, дурачка. Да и не остается тебе уже ничего, мой милый. Отсчет пошел на минуты.
А когда женщина в России говорит «мне тебя жалко», это, дорогие мои, очень часто означает «я тебя люблю». Во всяком случае, существует такое распространенное мнение. Хелен тут взглянула на часы, и Голубович вдруг отметил – прежде не обращал внимания, какие у нее огромные, совсем не женские на худенькой руке часы. Голубович не знал, а мы вам можем совершенно достоверно сообщить, что точно такие часы носили Денис и лысый усач, первый помощник Виталия Мормышкина.
За окном несся мрачный сейчас Глухово-Колпаковский бор.
– Ну! Быстро! Скажешь, что у меня понос! Прикажи остановиться! Быстро, милый мой! Не торопясь выйдешь, и сразу за мной.
Голубович, не отрывая взгляда от Хелен, словно зомби, нажал на кнопку переговорного устройства с шофером.
– Останови, на хрен! Бабе посрать приспичило!
«Ауди» и впритир за нею джип остановились на обочине. Хелен выскочила и побежала в лес. За нею, не торопясь, вперевалку двинулся Голубович, светя в темноте голым белым задом, словно бы огромный жук-светляк.
– Всем, блин, оставаться здесь! – обернувшись, на ходу бросил губернатор.
Охрана высыпала из джипа – четверо их находилось там, и пятый шофер «Ауди» – и остановилась на кромке асфальта.
– Крутая баба, слов нет, – произнес один из охранников. – И раздевать не надо. Голым закопаем, драной письки делов.
– Молчать! – сказал на это другой охранник, который, вероятно, был старшим. Шофер «Ауди», то ли не посвященный в детали операции, то ли просто труся, открыв рот, в ужасе смотрел на охранников. Минуты две все четверо стояли молча.
– Дать она ему, что ли, решила напоследок? – прозвучало предположение. – Так это в машине надо было…
Зайдя за первые же деревья, Хелен остановилась и подождала Голубовича. В руке Хелен, неизвестно откуда взявшись, разве из воздуха, оказался пистолет с уже навернутым на дуло глушителем. Постоянное стремление к правде и любовь наша к оружию заставляет нас свидетельствовать, что пистолет сей был «Беретта 92». Голубович зашел в лес, увидел оружие у тетки в руке и все понял.
– Ваня, – тихо проговорил внутренний голос. – Ведь помрем сейчас. Оба помрем.
И вдруг Голубовичу стало все равно. Он ощутил ужасную усталось от прожитой жизни. Ну, оказался он почему-то губернатором, и что? Чтобы вытрахать две тыщи теток? Зачем? Голубович, совершенно равнодушно разглядывая темный силуэт последней своей женщины, попытался вспомнить что-нибудь действительно полезное в своей жизни, нужное – хотя бы ему самому, и – не вспомнил.
– Эх, ты, – насмешливо и бесстрашно произнес он, – дура ты, дура. И я дурак… Ну, стреляй… Стреляй, если тебе приказали…
Хелен молча держала Голубовича на мушке, ничего не предпринимая. Потом вдруг расстегнула на руке браслет странных своих часов и, размахнувшись, словно бы гранату бросала, закинула часы туда, в сторону шоссе. И еще об одной загадке вынуждены мы сообщить, дорогие мои. Забросивши часы на опушку, Хелен – ну, странная тетка, ей-Богу, – обернулась к Голубовичу и со смешком произнесла:
– Я умерла. Теперь мне не воскреснуть уже никак.
И вот тут ледяной могильный холод почувствовал Голубович, словно бы его на самом дле убила сейчас Хелен.
Звук, с которым упали часы на траву, был слышен ясно. Так перезревшая одинокая шишка громко падает в ночном лесу.
– Вперед! – скомандовал старший. Четыре джентльмена в одинаковых черных костюмах и одинаковых лаковых полуботинках, не разбирая пути, с пистолетами в руках бросились в лес. Им надо было пересечь небольшое, метров в пятьдесят, пространство между шоссе и лесом, которое только что пересекли Хелен и Голубович.
Когда они вбежали под деревья, ни Голубовича, ни Хелен уже там не было. Не имело смысла искать их сейчас в темноте, поскольку утром найти двух людей не представяло никакой сложности.
Через несколько минут губернаторское авто припарковалось у Глухово-Колпаковского Белого дома. Никто не видел, как у водителя «Ауди», не переставая, мелко-мелко дрожит нижняя челюсть, никто не слышал, как шоферские зубы выбивают бесперебойную барабанную дробь. Прерванная пресс-конференция как раз закончилась. Губернатор вышел из ярко освещенных, праздничных, полных людьми дверей и оглянулся. Улыбающаяся девчушка Вася держалась прямо за ним.
– Прошу, – шутовски распахнул Голубович заднюю дверцу своей машины. – Коли договорились о персональном интервью, значит, дам… Интервью, то есть…
Под смех и аплодисменты Вася в прицелах нескольких телекамер уселась в «Ауди».
Кстати о желтом доме, дорогие мои, о котором помянула Хелен. Голубович в него так и не попал, а новый его шофер, сутки только и отработавший у губернатора, очень гордящийся полученным назначением и успевший уже похвастаться всей родне и, конечно, прежде всего жене и двоим своим детям, – шофер в желтый дом вскоре попал и в оном доме умер. Не свезло в то лето Bанькиным шоферам.
Так Вася, значит, уселась с Голубовичем в машину, и тут же к заднему бамперу «Ауди» пристроился, как фантом, джип охраны, и мгновенно обе машины отъехали от полыхающих электрическим огнем дверей и понеслись во тьме к резиденции губернатора. Исходящие от ослепительных фар лучи вновь полоскали шоссе.
И еще. Мы уже обращали ваше внимание, дорогие мои, на временное исчезновение вещающих Глухово-Колпаковских голосов, в таком изобилии заполнявших его провинциальный эфир и даже порою достигавших самой Москвы. Так вот. Стоило Голубовичу отъехать от офиса своего в резиденцию, как все голоса, долго, по всей вероятности, сдерживаемые, заговорили вновь.
– Девушка села в машину. Поехали в усадьбу, – доложил один голос.
– Опять новую девку к себе трахать повез. Ничто его не берет, старого козла, – констатировал второй голос.
– Я шестой, товарищ первый. Обе машины отъехали, движутся по направлению к резиденции. Девушка в машине, я двигаюсь следом, дистанция пятьсот метров, – таков был третий глас.
Мы уж не станем повторять все сообщения дорвавшихся до эфира работников радиоволн. Разве только одно. В неизвестном нам, но совершенно точно в очень высоком московском кабинете загудел зуммер на отдельно стоящем телефонном аппарате, и в трубке прозвучало:
– Голубович подъезжает к дому. Все на местах. Ситуация в полной готовности.
Человек, выслушавший сообщение Глухово-Колпаковского всезнайки, ничего ему не ответил, молча положил трубку и тут же из своего кабинета вышел.
Вставить Васе Голубович, видимо, попытался еще в машине, и ничего у него не получилось. Мы с вами, дорогие мои, можем это заключить, поскольку вид у Голубовича, когда дрожащий почему-то – губернатор не обратил на него никакого внимания – шофер открыл дверцу, и глава области вылез из авто уже у себя во дворе, вид у него, у губернатора, оказался несколько смущенный.
– Ничего! – весело сказала милая девчушка Вася, выпрыгивая из «Ауди» следом, – сейчас выпьем по рюмочке, да? Согреемся! Ночь-то холодная! – она поежилась в совершенно расстегнутой блузочке, взялась обеими руками за крохотные грудки. – Ой, у меня сейчас сисечки замерзнут, Иван Сергеевич! Срочно коньячку, и все у нас получится просто замечательно!
– Пойдем!
Голубович открыл дверь центрального входа, кивнул охране – это был знак оставаться им всем снаружи – и вместе с Васей вошел внутрь. Вероятно, Ванька наш уже ничего не соображал, как случной жеребец, которого ведут к кобыле, иначе его бы насторожила полная темнота внутри дома – обычно к его возвращению вечером свет зажигался – и отсутствие горничной Марины, которая всегда выходила к боссу из глубин кухни, от повара, и каждый раз, когда он возвращался, спрашивала, станет ли босс ужинать. Кроме того, если секретарь не сопровождал губернатора, он всегда ждал его внутри дома, у входа, тоже, как и горничная, спрашивая, не соизволит ли босс накануне следующего дня отдать тот или же иной приказ. А сейчас дом казался пустым, просто мертвым. Внутренний голос, как мы тоже с вами знаем, покинул этого хозяина уже давно, сознание Голубовича сейчас ничем не было затуманено, и Ванечка наш должен был призадуматься о том, что вокруг него происходит. А вот призадумался он или нет, сейчас увидим.
Голубович, везде по дороге зажигая свет, не переодеваясь и не переобуваясь, прошел по коврам прямо в спальню. Вася, с интересом посматривая вокруг, шла следом, постукивая босоножками, как копытцами.
– Садись на кровать, – распорядился губернатор.
– Можно, я пока вот сюда, за столик? – хихикнула Вася.
– Можно… А съемочная группа твоя когда подъедет?
– Группа? – улыбка на мгновение слетела с Васиного личика. – А разве… Сейчас и подъедет… Группа…
– Шучу, – улыбнулся Голубович, и Вася вновь освобождено засмеялась. – Сейчас, – гостеприимный хозяин открыл минибар. – Основной набор напитков у меня в кабинете, а тут, в спальне – так, небольшая коллекция.
Губернатор достал початую уже бутылку и два коньячных бокала, плеснул в оба на самое донышко, уселся напротив девушки, еще раз при свете откровенно разглядывая ее.
– Вы меня смущаете, Иван Сергеевич, – захихикала Вася.
– Правда? Ну, давай я торшер зажгу, а верхний потушу.
Голубович зажег торшер.
– Во! С торшером клево… А это что? Вон там? – она указала пальчиком.
Голубович оглянулся. И несколько мгновений не мог оторвать взгляда от изображения, видимого им уже тысячи, миллионы раз. Возможно, именно в эти мгновения с содержимым его бокала что-то произошло. Мы не знаем. А чего не знаем, того не ведаем.
– Это фреска… Джотто. Джотто ди Бондоне. Копия фрески из Падуи… Падуя, капелла дель Арена… Самое начало XIV века, тысяча триста третий или тысяча триста шестой год… Называется «Бегство в Египет»… Библейский сюжет… Работнице телевидения надо бы все такое знать, милая моя…
Вася на новый наезд ничего не ответила, теперь улыбка не покинула ее.
– Начало четырнадцатого века века… Балдеж.
– Этот дом несколько раз горел на протяжении своей истории, а вот фреска нисколько не страдала. Хе-хе-хе, – засмеялся Голубович. – Как заговоренная…
– Ну-у, супер!.. Балдеж…
Исполняя волю царя Ирода к избиению младенцев, среди которых якобы есть будущий царь Иудейский, по всему Вифлеему шастали стражники, алчущие избить каждого, родившегося в эту ночь. Потому Святое Семейство по дороге, указанной Божьим Ангелом, немедленно прямо из ослиных яслей двинулось в Египет, в теплый и спокойный Египет. Бежало Святое Семейство в Египет, полный света и тишины. Покорный ослик вез на себе Марию с Младенцем, Иосиф шел впереди, оглядываясь на Жену с Ребенком и разговаривая с попутчиками, потому что дорога в Египет, судя по всему, знаема была множеству людей, но Ангел указывал путь именно им, и можно было предположить, что им одним, ведь именно Марии показывал Ангел дорогу – туда, вперед, туда, в благословенный Египет. Потом Младенец вернется, Он придет, чтобы спасти всех нас, но Самому погибнуть. Вот почему покорность судьбе и готовность к новому горю изображалось на лике Марии, а тревога – на лице Иосифа, вот почему суровый лик Младенца обращен был не вперед, к теплу и свету, к покою и жизни, а в сторону только что покинутого Вифлеема, где всему семейству грозила смерть, где смерть и забвенье, где нет спасения – никому.
– Заговоренная фресочка… Да-с. Вот я ее силой и пользуюсь. – Голубович еще раз добродушно засмеялся. – Если эта фреска не горит, значит, Бог не хочет уезжать из этих мест… Подойди поближе, посмотри. Видишь, Бог оглядывается… Не хочет уезжать… А я свет потушу и тут же снова зажгу – ты так словно заново все увидишь.
Послушная Вася с интересом подошла к фреске и даже потрогала ее осторожным пальчиком. В этот миг Голубович выключил торшер и зачем-то в темноте мгновенно и бесшумно поменял на столике бокалы – перед Васиным стулом теперь стоял его бокал, а перед ним – Bасин. Вновь зажегся мягкий свет.
– О чем говорит эта фреска? – тоном занудного препода спросил Голубович. – О том, что смерти нет, моя дорогая! Что впереди жизнь!.. Ну, иди сюда! Садись! Выпьем, блин, за жизнь! За любовь! И все у нас получится! Если кто что-нить себе замыслит, он обязательно это получает, зуб даю, блин… Давай, я свет совсем потушу, если тебе мешает…
С бокалом в руке он поднялся и выключил свет не только в спальне, но и в коридоре, и на лестнице.
– Ну, что? – еще спросил он для очистки совести в совершенной темноте. – Пьем или как? Может, все-таки не надо?
– Надо, надо! – со смехом отвечала милая девчушка. – И все сразу, чтоб согреться!
Со смехом эти двое в полной темноте потянулись бокалами друг к другу, чокнулись и единым махом, словно бы водку, выдули терпкую влагу из тонкого хрусталя. Голубович остался неподвижным, с невидимой никому сейчас ухмылкою на губах – очень, еще раз напоминаем вам, умным человеком был Иван Сергеевич Голубович, – а Вася вдруг вытаращила глазки, положила ладонь себе под горло, на косточки между симпатичных своих сисечек, словно бы действительно хотела согреть замерзшую грудь, с тихим всхлипом набрала ртом воздуху. Голубович аккуратно подхватил падающий из другой ее руки пустой бокал и не дал рыжей головке телекорреспондентки с биллиардным стуком ударить в стол – бережно положил ее голову щекою на столешницу.
– Ну, как коньячок? – громко спросил Голубович в темноту. – Согрел? То-то. Раздевайся и ложись, я сейчас.
Вася ничего не ответила, но спрашивающий и не ждал никакого ответа.
В руках у Голубовича невесть откуда появилась огромная брезентовая сумка на молнии. Может, из-под кровати он ее как раз и вытащил, Бог весть.
Еще раз воскресший губернатор безошибочно в темноте нажал кнопку на системе, и в спальне гнусаво завыл любимый – все знали – губернатором с молодости, а ныне ветхозаветный Челентано.
Громко говоря «Сейчас… Сейчас, деточка!.. Одну минуту!.. Сейчас, кошка рыжая», Голубович сам кошачьим бесшумным прыжком переместился вплотную к Джотто. Что-то тихо щелкнуло в темноте, а затем раздался коротко катящийся звук, очень напоминающий звук крутящегося подшипника, и следом – второй щелчок. Любитель коньячка потянул за край, и фреска бесшумно повернулась на петлях, словно оконная рама, открывая за собой глубокую, но почти полностью заполненную впадину. Голубович, не разбирая, сгреб все, что там было, себе в сумку, быстро провел рукой по днищу впадины, проверяя, не оставил ли чего. Несколько пачек, конечно, упали на пол, он благоразумно не стал ни искать, ни подбирать. Главное – проверил – документы, лежавшие в ближнем левом углу. Документы он быстро сунул себе во внутренний карман. Челентано честно заглушал все негромкие звуки. – Легла, шлюшка? – громко спросил губернатор, тихонько застегивая молнию на брезенте. Наступил на одну из упавших пачек, все-таки не смог ее не поднять и не сунуть в сумку тоже. – Я иду.
Неся сумку, быстро и по-прежнему совершенно бесшумно – это на каблуках-то лучшей итальянской обуви! – он действительно пошел: прошел через пустой дом на темную кухню. Там на разделке, тускло сверкая в темноте, лежали вымытые и вычищенные ножи, как на выставке. Недолго раздумывая, губернатор взял короткий, с ладонь, узкий стальной нож и сунул было его себе сзади за пояс, потом беззвучно захохотал, широко разевая рот. Если бы не темнота, мы с вами, дорогие мои, смогли бы насладиться этой картиной. Но губернатор недолго веселился. Он вытащил из-за пояса нож и аккуратненько положил его обратно на полированную металлическую поверхность.
Десантировался бывший десантник Голубович из собственной резиденции даже не через кухню – там наверняка стояла пара человек, а за углом от кухонной двери бесшумно влез в люк, по которому в губернаторский особняк ежедневно из грузового пикапа подавали привезенные продукты. Влез, протащил за собою сумку, прислушался. И исчез во тьме.
… А мы с вами, дорогие мои, можем вернуться от Голубовича к Голубовичу.
Ступни ног у Голубовича уже давно были разрезаны в кровь – вы сами попробуйте босиком походить по лесу! Он не обращал внимания на боль, тупо следуя за Хелен. Через полчаса они вошли – Иван Сергеевич и не заметил, как это произошло, – на кладбище. То есть, он понял, что находится уже не в лесу, а на кладбище, когда и справа, и слева от дорожки, по которой они шли, начали возникать надгробия. Тут внутренний голос, придя в себя раньше хозяина, разбудил спящего на ходу Ванька:
– А тетка, блин, не ведьма, часом? Щас живого, на хрен, съест, и копец. Лучше бы там, в лесу, застрелила. Говорил тебе, козлу – урой ее, на хрен! Урой!
Тут Хелен оглянулась и тихонько захихикала:
– Не бойся, я тебя не съем. Хотела бы завалить – уже сто раз завалила бы. Мы почти пришли.
Еще через минуту она подвела Голубовича к темному памятнику, светлеющему, однако, в кромешной тьме, потому что выполнен он был из когда-то белого, а сейчас ставшим серым мрамора. Серый мрамор оказался светлее ночи.
– Присаживайся, – словно бы в мягкое кресло приглашая, предложила Хелен. – Это моя прапрапра… – указала Хелен на развалившуюся на памятнике голую фигуру Ксюхи. – Словом, не важно. Ты тут под защитой.
Голубович облегченно рухнул на приступочек у основания памятника, приложил руку к камню – тот оказался неожиданно теплым, словно бы теплый, с подогревом, пол у него в недостижимой теперь спальне. И неожиданно в полной темноте губернатор сумел прочитать уже, кажется, не так давно прочитанную им надпись: «Княжна Катерина Борисовна Кушакова-Телепневская. 1851–1869. Тебе суждена жизнь вечная и вечная моя любовь». Ставший лазерным взгляд Голубовича уперся в стоящий напротив могилы княжны скромный памятник, и Ванечка наш прочитал: «Алевтина Филипповна Тузякова-Щелканенко». Тут способности прибора ночного видения столь же неожиданно оставили Голубовича, как и неожиданно проявились, и он не смог прочитать на памятнике своей первой квартирной хозяйки годы ее жизни и небольшую приписку внизу – «от любящей и благодарной племянницы Тони». Но что-то, несомненно, перенеслось от этой неувиденной приписки к взболтанным мозгам губернатора – мы можем написать теперь «бывшего губернатора», потому что резиденция губернатора Глухово-Колпаковской области в эту минуту уже горела, и уже объявлено было, что Иван Сергеевич, уставши после тяжелого дня и будучи не в себе, неосторожно обошелся с камином и полностью сгорел у себя в спальне, и что временно к исполнению обязанностей вновь приступил Виталий Алексеевич. И фотография – реальная фотография – Мормышкина явлена была urbi et orbi[254]. Кстати сказать, весь состав областной администрации, устроивший безобразную оргию в Большом зале Белого Глухово-Колпаковского дома, немедленно Мормышкиным был уволен.
Голубович произнес:
– У меня вилла в Валенсии… То есть, две виллы… Одна небольшая, у самого моря, где… – он на мгновение запнулся, – где студенческий пляж… И вторая побольше, в самом городе…
– Про виллы свои ты забудь, – захихикала Хелен. – Там тебе не выжить. И мне там не выжить… Как пришло, так и уйдет… А мне доводили информацию, что ты берешь только наличкой… Хи-хи-хи… Искаженная, значит, информация… Сиди здесь. Безотлучно. А я пойду тебе поищу какой-нибудь прикид… И ноги тебе надо обработать… Ты мне веришь?
– Да.
– Я тебя выведу.
И таково оказалось влияние мощного интеллекта Ивана Сергеевича на скромную переводчицу Хелен, что она добавила – вероятно, для того, чтобы до него быстрее дошло:
– Не ссы, блин, понял?
Что-то, видимо, от далекой-далекой Энтони Нассау перелетело и к ее очень дальней – по мужу – родственнице Хелен ван Клосс или Красиной – это как вам будет угодно, дорогие мои, потому что Хелен вдруг оказалась совершенно голою, как и Иван. Под изваянием лежащей Ксюхи – только рука, прикрывающая ее межножие, была Катиной – и над телом Марии Борисовны Кушаковой-Телепневской произошел вполне качественный сексуальный акт, который нам нет никакой необходимости изображать, дорогие мои. Единственное, что мы считаем возможным вам сообщить, так это то, что выдающиеся способности нашего Ванечки полностью к этой минуте восстановились. И он, счастливый, сказал, когда после произошедшего лежал, как все нормальные люди, в объятьях любимой:
– На пляже у меня совсем маленькая вилла… Куплена на другое имя… Через третьи руки… Собственно, это квартира… Двухкомнатная… В студенческом городке… Я там пока еще и не был никогда… Не найдут…
Хелен захихикала, обнимая волосатую задницу Голубовича.
– И еще в Валенсии… – освобождено, действительно ничего не боясь, продолжал он откровенничать, – номерные счета… Немного там… Я их не трогал тыщу лет… И в Цюрихе… Немного… Лимонов пять-шесть… Дом в Цюрихе… Тоже на другой паспорт… Небольшой дом, всего четыре спальни… Но старинный… Возле парка…
– Дом в Цюрихе, – без всяких смешков, словно эхо, повторила Хелен. – Боже мой!.. Дом в Цюрихе… Возле парка…
Как развернулись события далее, нам неизвестно, дорогие мои. Нам известно – и мы не раз вам сообщали об этом обстоятельстве, – что Иван Сергеевич Голубович был очень умным человеком и наверняка нашел возможность соединиться сам с собою – вероятно, не без помощи отыскавшейся для него на старости лет любимой женщины. Живы ли они, а если живы, живут ли они в Валенсии, или в Цюрихе, или в каком-нибудь другом городе мира, или в какой-нибудь горной шотландской деревеньке, где тишь да гладь и где нет ни нудистского пляжа, ни вообще какого бы то ни было пляжа, ни даже приличной реки, не говоря уж о море – не знаем.
Правдивое повествование наше заканчивается, дорогие мои. Собственно говоря, нам остается только сообщить о допросе Джозефа, состоявшегося той же ночью в офисе Овсянникова, уже под утро, на рассвете – в то самое время, когда догорала резиденция губернатора, и неизбывно, неистощимо желая жить, стояла посреди огня фреска с изображением Мальчика, в то самое время, когда голый Голубович лежал в обнимку с голой Хелен на могиле княжны Кушаковой-Телепневской, а рядом стояла огромная брезентовая сумка, и аккуратно наброшены были на оградку могилы Алевтины Филипповны Bанькины пиджак и брюки, и висели на оградке, проветриваясь, Bанькины носки, и стояли возле оградки на песке начищенные Bанькины полуботинки.
Джозеф же решительно отказывался сотрудничать с российским следствием, пока ему полностью не заплатят за буровую установку Graffer, принадлежавшую, как выяснилось, именно ему одному – инженеру Джозефу Грею Мак-Ковену. Возможно, вздорного инженера объявили бы погибшим вместе с остальными, но его уже после взрыва видело живым множество народу, в том числе иностранные журналисты. Пришлось уплатить – в ведомстве полковника Овсянникова не оказалось подходящей к случаю статьи расходов, и он вынужден был срочно звонить в Москву, чем уже окончательно и бесповоротно погубил карьеру. Даже, значит, получив твердое обещание выплаты денег, Джозеф долго отрицательно мотал головой. И только убедившись, что на его счет в Глазго переведена требуемая – завышенная им раза как минимум в полтора – сумма, показал, что о судьбе Пэт Маккорнейл ему ничего неизвестно, что она действительно являлась женою погибшего Майкла Маккорнейла и что Пэт от своих русских предков владела какой-то русскою тайной, о которой никому ничего не говорила, потому что была немою после перенесенного в детстве стресса. Так же Джозеф показал, что ни о какой водке на Борисовой письке Майкл Маккорнейл и не подозревал, а собирался открыть возле бывшего монастыря золотоносный пласт, о существовании которого знал с юности от родителей, и что концессию на разработку месторождения он получил в Москве напополам с… И тут же допрос Джозефа завершился. Джозеф пожал плечами и сообщил, что все русские тайны ни пенса не стоят и что русские все равно сами не умеют пользоваться своими природными богатствами, и что вообще все природные богатства во всех странах мира должны принадлежать народу. Тут допрос Джозефа завершился вторично, после чего Джозеф заявил, что остатки буровой установки он передает русской службе безопасности безвозмездно. Подобный подарок справедливо показался допрашивающим еще одним хамством, поскольку все остатки буровой к этому времени уже были аккуратнейше собраны до мельчайшей детали, до винтика, а что не успели собрать, ходили и, не спросивши Джозефа, собирали сейчас. Тем не менее соглашение о передаче остатков буровой установки и неимении претензий Джозефу тут же подали на подпись, и он подписал под видеосъемку, и сказал прямо в окуляр видеокамеры, что не имеет никаких претензий и что хочет домой. После чего гражданина Великобритании Джозефа Грея Мак-Ковена, даже не давши ему выспаться, немедленно выдворили за пределы Российской Федерации – посадили сначала в машину, а потом в эконом-класс регулярного авиарейса Санкт-Петербург – Лондон, где заморский гость, наконец, заснул.
Вот, кажется, и все, дорогие мои.
Хотя нет, нет! Мы же вам не рассказали о Kaтином синем платье!
В Государственном Историческом музее, который покамест еще помещается в Москве аккурат на краю Красной площади, там, где, чуть пожелают какие бы то ни было высшие силы устроить для граждан военный парад, именно там, под окном, танки въезжают на площадь – справа от Музея, меж Музеем и Кремлевской стеною, в которой когда-то, во времена нашей юности, помещался общественный туалет для людей, стоящих в очереди в Мавзолей, там, в обычном зале Музея, внутри вертикального стеклянного ящика, словно бы внутри скромного саркофага, вывешено Катино платье, выстиранное, вычищенное, починенное, отреставрированное, снабженное пусть и не теми, настоящими, Катиными, серебряными и золотыми, но все-таки бронзовыми и мельхиоровыми пуговицами под золото и серебро, и написано и на самом стекле, и внизу на табличке, что, дескать, золотые и серебряные это пуговицы, так и пусть, Бог с ними, с музейщиками, у них своя работа, не правда ли? Главное, что платье это – то самое, и висит оно не на плечиках, а на полихлорвиниловом полуманекене с выделкой под кожу – на белом, с чуть розоватым оттенком, ну, точно такого цвета, какою была кожа нашей Кати в ее молодости. Кати! Кати! Кати! И написано и на стекле саркофага, и на табличке внизу, что вот это – типичное дворянское платье середины XIX века: «Амазонка» женская. Россия». Катя надевала его не каждый день – как вы знаете, до всех событий того страшного и прекрасного дня, до того случая в усадьбе всего лишь один раз, а в тот день, когда встречали они с Красиным приехавшего Хермана и вымокли под страшным ливнем, и потом… и потом… и потом они с Красиным так любили друг друга… – второй и последний раз надевала Катя свое синее платье, а уж про Женщину в доме под огромным дубом вообще ничего мы не знаем и не смеем сказать, а про Настоятельницу Высокоборисовского женского Богоявленского монастыря возле села Кутье-Борисово Преподобную Екатерину точно можем засвидетельствовать, что ни разу! ни разу не надевала она синего платья, но хранила в сундуке до самого своего успения, случившегося в десять часов утра шестнадцатого августа тысяча девятьсот восемнадцатого года, когда все монашки монастыря были изнасилованы и потом приколоты штыками или застрелeны красногвардейцами. Место общего погребения всех насельниц неизвестно. Зато достоверно известно, что тело Настоятельницы в той общей могиле отсутствует, хотя Преподобная Екатерина первою, впереди своих монахинь вышла к ломаемым монастырским воротам и первою прямо в сердце была заколота первым же ворвавшимся в монастырь революционным солдатом – в серой папахе с полоскою красной материи на тулье. И каким чудом Господним попало Катино платье в Исторический музей почти не рваным и годным к восстановлению – поистине Бог весть. И мы иногда, кстати тут признаться, дорогие мои, приходим в Музей к саркофагу с Катиным платьем, словно к самой дорогой для нас могиле, и тогда Катя, нам кажется, встает от далеких и потаенных мощей своих, словно бы оживает, и мы, делая вид, что сморкаемся в грязный скомканный носовой платок, утираем этим же платком сами собою катящиеся слезы и улыбаемся Кате в ответ на ее сияющую прищуристую улыбку, и заставляем себя думать, что, может быть, нам все-таки еще стоит жить хотя бы для того, чтобы – пока остаются силы вставать с постели и, тяжело опираясь на палку, выползать из дома, как из норы – жить, чтобы приезжать сюда и улыбаться Кате.
2004–2016Примечания
1
Давай, Пэт, выходи (англ.).
(обратно)2
Это миссис Маккорнейл (англ.)
(обратно)3
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (англ.) – специализированная служба ООН по вопросам образования, науки и культуры.
(обратно)4
Распространенный в середине XIX века фасон женского платья для верховой езды и прогулок.
(обратно)5
Вы видите, месье, я простая девушка. (франц.)
(обратно)6
Это вопрос дискуссионный. (франц.)
(обратно)7
Посмотрите внимательнее. (франц.)
(обратно)8
Довольно, этого довольно. Хватит. (франц.)
(обратно)9
Довольно… Это слишком. Достаточно, если вы будете меня сопровождать. (франц.)
(обратно)10
Крест ордена Святой Анны – одна из высших офицерских воинских наград в царской России.
(обратно)11
Лента ордена Святого Георгия. Георгиевским темляком на холодное оружие награждались офицеры всего отличившегося в боевых действиях подразделения – роты или батальона.
(обратно)12
Воинское звание в казачьих войсках, соответсвующее званию подполковника.
(обратно)13
Вотчина российской императорской семьи в Восточном Забайкалье. Место ссылки политкаторжан.
(обратно)14
Ну, что же вы? Вы не подадите мне руку? (франц.)
(обратно)15
Орден Святого Владимира четырех степеней – российский орден, которым обычно награждалось чиновничество.
(обратно)16
Пойдемте. (франц.)
(обратно)17
Ну, что ж, так и пойдем к железнодорожной станции. (франц.)
(обратно)18
А поезд не может в городе столкнуться с экипажем? (франц.)
(обратно)19
Скажите, господин инженер, когда закончится строительство моста? (франц.)
(обратно)20
Не знаю… К обеду не закончится. (франц.)
(обратно)21
Какое огорчение! Я еду обедать на ту сторону! (франц.)
(обратно)22
Почти полтора метра
(обратно)23
Жесткая вставка для придания платью нужной формы
(обратно)24
Что он сказал? Секрет? (франц.)
(обратно)25
Попросил заботиться об вас, Катерина Борисовна. Буду заботиться. (франц.)
(обратно)26
Не сомневаюсь. (франц.)
(обратно)27
Зачем столько полиции? (франц.)
(обратно)28
Около 190 см
(обратно)29
Mодное приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии.
(обратно)30
Они не видят. (франц.)
(обратно)31
Это слепые… Они ничего не видят… (франц.)
(обратно)32
Как хорошо! Это правда, не так ли?
(обратно)33
Русский народ ни во что не верит в его нынешнем состоянии, Катерина Борисовна. А в будущее верит, словно в Бога, – сказал на это Красин. – Я буду вас оберегать, вы не возражаете? Толпа. (франц.)
(обратно)34
Всегда вы со своими шуточками! (франц.)
(обратно)35
Туда… Пойдемте быстрее!… Поспешите! (франц.)
(обратно)36
Быть или не быть! (англ.)
(обратно)37
Это потрясающе! Он волшебник! Он вызвал бурю! (франц.)
(обратно)38
Откуда вы знаете? Вы тоже волшебник? (франц.)
(обратно)39
Мне нужно переодеться. Проводите меня. (франц.)
(обратно)40
Уберите руки!.. Отойдите, дайте же развернуть! (франц.)
(обратно)41
Свинья! Свинская свинья! (франц.)
(обратно)42
Вы не достойны участвовать в Движении. (франц.)
(обратно)43
Что он делает? Что он сейчас делает? (франц.)
(обратно)44
Ну, скажите мне, что он делает? Я не вижу отсюда! (франц.)
(обратно)45
Научное название лобковых вшей
(обратно)46
Куда? Заезжай в третий сектор! (тур.)
(обратно)47
И часто он у вас так выпивает? (англ.)
(обратно)48
Положение обязывает. (лат.)
(обратно)49
Прощайте, мой друг. (франц.)
(обратно)50
Ненадолго, да? (франц.)
(обратно)51
Вы знаете, где меня найти. У меня с собою все деньги для завершения строительства. Из-за событий. Все… (франц.)
(обратно)52
Прекрасно. (франц.)
(обратно)53
Вид пиджака – род фрака не для вечера, а для повседневной носки.
(обратно)54
Я не слезала с лошади четыре часа. (франц.)
(обратно)55
Бедная лошадка… Лежит там… Умерла… (франц.)
(обратно)56
Как вы оказались здесь?… Вы спасли мне жизнь. (франц.)
(обратно)57
А вы знаете, что это значит? Теперь вы мой… мой… (франц.)
(обратно)58
Милый Чарлей… Отпустите… Отпустите, я пойду сама… (франц.)
(обратно)59
Мой храбрец… Мой самый храбрый и самый верный… Я с тобой, мой любимый, мой муж. (франц.)
(обратно)60
Да, милый Чарли, теперь я приехала верхом. Семен высадил меня в Санкт-Петербурге на соседней улице и уехал. Семен пошел к своим женщинам, а я пошла к крестьянам! (франц.)
(обратно)61
Ванну. А потом можете идти домой. После этого идите домой. (франц.)
(обратно)62
Приготовьте ванну. Месье сам отведет лошадь. (фрaнц.)
(обратно)63
Слушаюсь. (франц.)
(обратно)64
Милый… Милый. Иди… Ты… Я так счастлива говорить тебе «ты». Иди сюда, этот ужас больше не повторится. (франц.)
(обратно)65
Иди за мной! (франц.)
(обратно)66
Где твои драгоценности? Драгоценности! Платье! (франц.)
(обратно)67
Бог с ними! Поторопись! (франц.)
(обратно)68
Вот! (франц.)
(обратно)69
Что там еще? Иди быстрее! (франц.)
(обратно)70
Бегство в Египет… Только у нас нет ребенка… (франц.)
(обратно)71
Будет тебе ребенок, мой дорогой. Иди! (франц.)
(обратно)72
Мы спасемся. (франц.)
(обратно)73
Иди за мной. Только осторожно. Стены могут обрушиться. (франц.)
(обратно)74
Не бойся только… Там могут быть крысы и летучие мыши… Они не кусаются… Пропусти меня вперед… (франц.)
(обратно)75
Иди за мной… Это ход из спальни моего отца и из кабинета… Кроме меня, никто не знает, никто… (франц.)
(обратно)76
А где тут Змий? (франц.)
(обратно)77
Студийное наложение чистого звука на отснятый материал, то есть, именно озвучивание.
(обратно)78
Синем (диалект.)
(обратно)79
Узкие кавалерийские брюки на кожаной подкладке, расшитые галуном или позументом.
(обратно)80
Как вас зовут? (франц.)
(обратно)81
Тоня… Меня зовут Тоня (франц.)
(обратно)82
Я должен выйти на свежий воздух. (франц.)
(обратно)83
Плоское мелкосидящее речное судно, применяемое еще и как основа для наплавного моста.
(обратно)84
Матушка Исидора, это я, Катя! (франц.)
(обратно)85
Мне надо войти, матушка Исидора, у меня беда. Беда! (франц.)
(обратно)86
Святой Боже, помилуй нас… Входи, дитя мое… (франц.)
(обратно)87
Матушка Исидора… Я … Простите, ради Бога… Я знаю… Я пришел вместе с княжной… Я … (франц.)
(обратно)88
Траханная сука (англ.)
(обратно)89
Совершенно правильно, господа, если представители Комитета будут на моей встрече в университете со студентами и объявят там свое решение о лидере движения. Ну, вы же знаете? Я очень расположен к студентам, у меня нет сомнений. Это мои пожелания. (франц.)
(обратно)90
Воздастся каждому по делам его (лат.)
(обратно)91
Плевать я хотел на твое предупреждение. Кого хочу, того трахаю. И ее трахну. (тур.)
(обратно)92
Кажется, эта официантка приставлена за вами следить (англ.)
(обратно)93
Да Бога ради… А вы… Разве не следите? (англ.)
(обратно)94
Разумется, следим. Только для разных хозяев. (англ.)
(обратно)95
Я принесу. (англ.)
(обратно)96
Ну, и следите, мне плевать! Ни ваши, ни наши хозяева ничего не смогут изменить. У вас в России вообще ничего и никогда нельзя изменить. (англ.)
(обратно)97
Вавилон (англ. и голл.)
(обратно)98
Новый Вавилон (англ.).
(обратно)99
Веселая Елизавета (англ.).
(обратно)100
место под патрон в барабане револьвера
(обратно)101
Конечно. (франц.)
(обратно)102
Совершенно верно! Глаза у вас! (франц.)
(обратно)103
Тайный полицейский осведомитель (франц.)
(обратно)104
Я не сотрудник полиции… Я обычный гражданин. (франц.)
(обратно)105
Всемирно известное подразделение Цюрихского университета.
(обратно)106
Мой милый, я жива. Я люблю тебя. (франц.)
(обратно)107
Обычный гражданин (франц.).
(обратно)108
Что вы хотите, господин? (франц.)
(обратно)109
Дайте пройти! (франц.)
(обратно)110
Я руководитель Фабричного союза… И что? (франц.)
(обратно)111
Траханная сука (англ.)
(обратно)112
Этот господин со мною. (франц.)
(обратно)113
Траханные клоуны, шуты гороховые. (англ.)
(обратно)114
Траханные шуты… Так обмануться… Так обмануться! (англ.).
(обратно)115
Ваша траханная западная цивилизация! (англ.)
(обратно)116
Мать твою! (англ.)
(обратно)117
О, Боже мой… Если народ не желает слушать своих либеральных вождей… А желает слушать тех, кто обещает бесплатную водку… Пусть пропадает! Туда и дорога! (англ.)
(обратно)118
Мать твою! Конечно, мы всегда вдвоем с Николаем Гавриловичем! (англ.)
(обратно)119
У Мэри был маленький барашек,
(обратно)120
Мать твою! Мать твою!
(обратно)121
Шуты! Траханные шуты! Я не стану платить за ваше дурацкое шампанское! (англ.)
(обратно)122
Кровавое дурачье! Кровавые клоуны! (англ.)
(обратно)123
Карт-бланш (франц.)
(обратно)124
Спасибо. Благодетели. Они дают мне карт-бланш. (франц.)
(обратно)125
Шуты! Шуты! (англ.)
(обратно)126
«Вдова Клико» – одна из лучших марок шампанских вин.
(обратно)127
Мать твою! (англ.)
(обратно)128
Не материтесь тут, я представляю особу императора. Хотите каких-нибудь приключений? (англ.)
(обратно)129
Примите мои извинения… Я вас слушаю. (англ.)
(обратно)130
– Я понимаю.
(обратно)131
И слава Богу! Вы знаете, я сам только что принял именно такое решение. (англ.)
(обратно)132
Время идет. Опоздаете – пеняйте на себя. (англ.)
(обратно)133
Новый Вавилон (англ.)
(обратно)134
Траханный цирк! Цирк! Балаган! Так обмануться! Так обмануться! (англ.)
(обратно)135
635 мм
(обратно)136
Второе «я» (лат.)
(обратно)137
Красный и желтый – цвета флагов многих латиноамериканских стран.
(обратно)138
Граната направленного действия.
(обратно)139
Западный равелин Петропавловской крепости. Использовался для содержания особо опасных политических преступников.
(обратно)140
Неочищенная водка на основе картофельного или древесного спирта.
(обратно)141
Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мне вполне удобно. Все в порядке! (франц.)
(обратно)142
Может быть, сигару? Попробуете? Я могу предложить большую американскую «гавану», я только на прошлой неделе получил от моего человека в Париже. Гавана расположена на острове между Северной и Южной Америкой. Там лучший табак в мире. (франц.)
(обратно)143
Да, я знаю… В изгнании, Альфред Карлович, чего не узнаешь… (франц.)
(обратно)144
Как ваши дочери, Альфред Карлович? Я надеюсь, они здоровы? (франц.)
(обратно)145
Проклятый подлец… Чтоб ты сдох. (нем.)
(обратно)146
Я думаю… Я думаю, что начнут с Назарьева. Он более всего наработал. (франц.)
(обратно)147
Десять часов… Извините, товарищи ждут (франц.)
(обратно)148
Проводите господина Храпунова. (франц.)
(обратно)149
Ну, как вам… хорошо?… Мне кажется, хорошо пошло. (франц.)
(обратно)150
На воровском жаргоне – случайно попавший на нары порядочный человек
(обратно)151
Я боюсь, автобуса не будет, Пэтюша. (англ.)
(обратно)152
Ситуация… (англ.)
(обратно)153
Ты в России, милая. Автобус может не прийти (англ.)
(обратно)154
Ситуация… Ситуация… (англ.)
(обратно)155
Садимся в этот автобус, Пэт. Другого не будет… Входи. (англ.)
(обратно)156
Доедем до химзавода, а там пройдем по берегу несколько километров, это нормально, милая? (англ.)
(обратно)157
Все в порядке, милая. Мы едем. (англ.)
(обратно)158
Выходи, Пэтуша. Дальше пойдем пешком. (англ.)
(обратно)159
Почему? (англ.)
(обратно)160
Я тебя предупреждал: автобусы не ходят. (англ.)
(обратно)161
Идем, идем, Пэтюша! (англ.)
(обратно)162
Давай! Давай! (англ.)
(обратно)163
Смотри! Вот он! Мы почти рядом! Мы пришли! Милая! Мы пришли! (англ.)
(обратно)164
Строительныне нормы и правила. Сборник нормативных строительных документов, действовавших в СССР.
(обратно)165
Черная антикоррозийная краска, повсеместно применяемая для покраски чугунных и стальных частей мостов, набережных, ограждений и пр.
(обратно)166
В левой береговой опоре в сторону течения… возле опорного катка. Надо вытащить первый камень. (англ.)
(обратно)167
Шуточное название блюда, для приготовления которого используется решительно все, что осталось у хозяйки.
(обратно)168
Пэт! Прикройся! Ничего не бойся, я с тобой! (англ.)
(обратно)169
Сиди, шлюха эдинбургская, а не то сейчас во все дырки тебя оттрахаем! (англ.)
(обратно)170
Вы не беспокойтесь. Делайте, что вам говорят, и останетесь живы. (анг.)
(обратно)171
Не надо!.. Не надо!.. Я люблю его! (англ.)
(обратно)172
Шотландские орлы (англ.)
(обратно)173
Пожалуйста, не убивайте его… Я люблю его… Это мой мужчина… (англ.)
(обратно)174
Пэтyша… Ты говоришь! Уррра! Ты говоришь! Но не говори пока ничего! Молчи! Тебе сейчас нельзя разговаривать! Чем-нибудь теплым надо горло замотать! Вернемся в гостиницу, мы сразу тебе горло будем спринцевать! Как только вернем… (англ.)
(обратно)175
Я, инженер Красин Иван Сергеевич, настоящей распискою непреложно свидетельствую, что остаюсь должным своему работодателю Визе Альфреду Карловичу рублевую сумму три миллиона на ассигнации Государственного банка Российской империи, каковую сумму обязуюсь предоставить в полное распоряжение упомянутого Визе Альфреда Карловича по первому его, Альфреда Карловича Визе, требованию. В чем и подписуюсь, Красин Иван Сергеевич.
(обратно)176
Августа 19 дня 1869 года от Р.Х. (нем.)
(обратно)177
Составленный астрологом гороскоп в виде круглообразного чертежа.
(обратно)178
Прозвище городских извозчиков.
(обратно)179
Не желаете, Николай Петрович? Отличная «гавана»… Отличная «гавана». Сможете получить только в фирме «Храпунов». (франц.)
(обратно)180
Согласно христианской традиции, Святой Вонифатий – заступник пьяниц, молитва к нему избавляет от пьянства.
(обратно)181
Чтоб только вода! Господи! Чтоб только вода шла!… (франц.)
(обратно)182
Я знаю, матушка… Все я знаю… (франц.)
(обратно)183
Сейчас? (франц.)
(обратно)184
Да, пойду, пока не рассвело. (франц.)
(обратно)185
Матушка Татиана не благословила… Никто не может выйти из монастыря без благословения матери игуменьи. (франц.)
(обратно)186
Я не монашка… Машуня, я не монашка, я делаю, что хочу. (франц.)
(обратно)187
Пока вы находитесь в монастыре, барышня, вы должны подчиняться его правилам. (франц.)
(обратно)188
А как он узнает? (франц.)
(обратно)189
Я загадала… Я ему записку послала с надежным человеком, с нашим исправником. Николай Петрович спас имение от поджога и был недавно здесь, в монастыре… А ему… ему я не написала «приезжай…». Просто… Просто написала… Написала, что жива и что люблю его… Если он теперь все бросит и приедет… Не надо ему быть сейчас там, в Питере… Не надо… Я чувствую, что не надо… Вот я и надеюсь его встретить дома… (франц.)
(обратно)190
Он приедет, Катюша! Он придет! (франц.)
(обратно)191
Господи! Как у меня сердце болит!.. (франц.)
(обратно)192
Галльский шлем, защищающий шею.
(обратно)193
Благослови вас Бог, дочь моя. Благослови Бог вашего сына. (франц.)
(обратно)194
Кроссовки (англ.)
(обратно)195
Вид закрытых женских ботинок.
(обратно)196
Около 20 мм.
(обратно)197
Боже мой! (франц.).
(обратно)198
Около 2 метров.
(обратно)199
Перевозящихся верховыми лошадьми.
(обратно)200
Трахать твою… Обе ноги затекли! Шлюхин рот! (франц.)
(обратно)201
А какое прекрасное утро, господа!… Дышите! Наслаждайтесь жизнью, как в последний раз! (франц.)
(обратно)202
Ездовое лошадиное покрывало, кладется между седлом и потником.
(обратно)203
В Цюрих уедем. В Цюрихе у нас есть, где остановиться… Я Ивану говорила – отец купил там небольшой дом. (франц.)
(обратно)204
Возле парка Фридхоф-Зельфельд… небольшой дом, всего четыре спальни. (франц.)
(обратно)205
Нет, милая барышня… Вы останетесь здесь, в Кутье-Борисово, навсегда. На всю жизнь. Останесь в монастыре.
(обратно)206
Потому что русская земля не может раздвоиться… Нельзя увезти Россию с собой… Лишь не раздваиваясь, она живет неистощимо… Чтобы землю сохранить, надо жертвовать ей… А чем жертвовать, чтобы отмолить смертный грех? Только любовью… А жертвовать любовью может только тот, кто по-настоящему любит… И вы с Машею не можете раздвоиться… Кто раздваивается, тот сам себя убивает, милая… Вот почему мы с вами, милая барышня, в разное время разные облики принимаем пред Господом… (франц.)
(обратно)207
Скажите им… мы вчера нашли святой источник… Святое место не может никому принадлежать единолично. Мы будем поить каждого желающего. Бесплатно. (англ.)
(обратно)208
Бесплатно. (англ.)
(обратно)209
Почему вы не переводите? (англ.)
(обратно)210
Потому что все всё уже знают. (англ.)
(обратно)211
Неужели?… Что ж! Тем лучше. (англ.)
(обратно)212
Советую быть поосторожнее, в нашей стране это – серьезная статья Уголовного Кодекса… Вы что, действительно не понимаете? У вас в Глазго так можно, что ли? Любая земля всегда кому-нибудь принадлежит. И, разумеется, все, что в этой земле находится. (англ).
(обратно)213
В кавалерии «ремонт» – плановая замена лошадей на более молодых.
(обратно)214
Пэтти, ты спишь?! Ты спишь, Пэтти?! (англ.)
(обратно)215
миссис Маккорнейл уже уехала со вчерашним переводчиком. С тем молодым человеком. Только что. (англ.)
(обратно)216
Поехали. Пэт ждет нас у монастыря. (англ)
(обратно)217
Им шериф приказал. (англ.)
(обратно)218
Ночью, значит, шла чистая субстанция, без примеси. Это научный факт. (анг.)
(обратно)219
Если они тут все разлеглись… Но как они узнали? Кто разболтал раньше времени?.. (англ.)
(обратно)220
Как эти туземцы запустили бур? Райан, ключ у тебя? (анг.)
(обратно)221
Кто разболтал раньше времени? (англ.)
(обратно)222
Вчера мы все были в ресторане. Вы помните, шеф?.. (англ.).
(обратно)223
Мы все пили там, в ресторане. Здесь почти не пили… Вы помните? (англ.)
(обратно)224
Нет! (англ.)
(обратно)225
Деталь буровой машины, позволяющая пропускать выбранный шлам через работающий бур.
(обратно)226
Что это они?… Сумасшедшие? (англ.)
(обратно)227
Работают… (англ.)
(обратно)228
У нас в Шотландии тоже все полицейские сумасшедшие. (англ.)
(обратно)229
Что с вами, моя девочка? (англ.)
(обратно)230
Согласно теории «Большого взрыва» – бесконечно малая точка с бесконечно большой массой, в которой до «Большого взрыва» помещалась вся Вселенная со всеми звездами и планетами.
(обратно)231
Подождите! Подождите! Да что же это! Давайте установим очередь! (англ.)
(обратно)232
Прямые каратистские удары рукой в солнечное сплетение.
(обратно)233
От французского «Давай, иди».
(обратно)234
Матушка Исидора, это я, Павел. Я его привел. (франц.)
(обратно)235
Подождите минуту, Павел Ильич, я привяжу собак. (франц.)
(обратно)236
Входите, прошу вас… Входите! (франц.)
(обратно)237
Хватит! (франц., нем., ит., англ.)
(обратно)238
Прежне название стенокардии, самое общее название инфаркта в XIX веке.
(обратно)239
Конфиденциально. (франц.)
(обратно)240
Драгоценные камни… Жемчуг… (франц.)
(обратно)241
Прежнее название г. Хельсинки в Российской империи.
(обратно)242
Воспитанницы Смольного института – первого в России привилeгированного женского учебного заведения. Располагался в Смольном дворце, по имени которого назван.
(обратно)243
Премия имени Красина (нем.)
(обратно)244
Лионский кредит – один из крупнейших банков мира в XIX и XX вв.
(обратно)245
От французского bonne vie (хорошая жизнь). В переносном смысле – «любитель пожить».
(обратно)246
Необходимый компонент создания атомной бомбы.
(обратно)247
Что это значит? (франц.)
(обратно)248
Они не пройдут! (исп.) Лозунг испанских коммунистов во время войны в Испании.
(обратно)249
«Память об усопших. Памятники и надгробия» (нем.)
(обратно)250
На профессиональном сленге – вынесенный на длинной штанге большой трубообразный многосторонний микрофон.
(обратно)251
Тон – гримировальная краска.
(обратно)252
На сленге – незаметный индивидуальный микрофон.
(обратно)253
Согласно греческой традиции – скульптор, создавший изображение прекрасной девушки, влюбившийся в него и силою свой любви ожививший скульптуру.
(обратно)254
Граду и миру (лат.). В переносном смысле – всему миру.
(обратно)







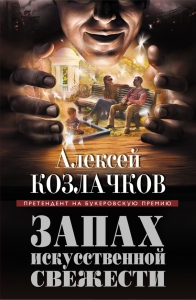

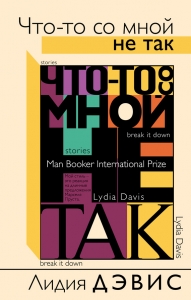
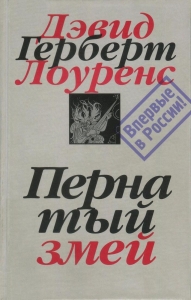

Комментарии к книге «Неистощимая», Игорь Павлович Тарасевич
Всего 0 комментариев