Анатолий Курчаткин Новая дивная жизнь (Амазонка)
© А. Курчаткин 2017
* * *
1
Ей всегда, с самого детства, нравились мужчины с чисто вымытыми ушами. Чтобы внутренний завиток раковины, свивавшейся в тьму слухового отверстия, глянцевито блестел, розово-нежно светился перламутром выстилавшей его эпидермы – чтобы с первого взгляда было бы ясно, что над ними хорошо поработали шампунем, тщательно смыли, многократно прополоскали водой, насухо вытерли тонким, позволявшим мизинцу глубоко проникать внутрь слухового отверстия, полотняным полотенцем. Она всегда смотрела у мужчины прежде всего на уши. И он мог понравиться ей, если только уши у него отвечали ее идеалу. Так было тогда, когда еще не воспринимала мужчин в их мужской самости, так осталось и после, когда выросла.
Маргарита Т. родилась и выросла, как сказали бы в прошлом веке о дворянской, в обедневшей интеллигентской семье. Дед ее был сталинским профессором, специалистом по электроприводу, что в свою пору давало бабке возможность нигде не работать, а заниматься собой и дочерью, матерью Маргариты. Однако уже мать Маргариты, проведя несколько лет в браке с артистом оперетты, потом художником-абстракционистом и наконец, выпускником Литинститута, поэтом и драматургом, которого никто не печатал и не ставил, вынуждена была всю жизнь тащить суровую лямку редактора в техническом издательстве, куда ее в свое время, пользуясь своим положением, устроил отец-профессор. Отцом Маргариты был второй муж матери, художник-абстракционист. Маргарита впервые увидела его в четырнадцать лет. Расходясь с ним и выходя замуж за поэта-драматурга, мать заставила отца подписать бумаги об отказе от отцовства, отцом Маргариты официально стал новый муж матери, и так как все это происходило в ту пору, от которой в памяти Маргариты ничего не осталось, она долго считала своим отцом сумрачного бородатого человека, не проявлявшего к ней ни малейшего интереса и лишившего их с матерью после развода просторной дедовой квартиры, которую пришлось разменять на две. Мать решила больше не выходить замуж, они стали жить вдвоем, Маргарита закончила с отличием школу, поступила как медалистка на филфак МГУ, отделение русской филологии, и защитила диплом на следующий год после троллейбусной революции (три дня которой провела, естественно, на площади перед Белым домом), в самый разгар начавшихся в стране рыночных реформ.
Ее молодой человек, учившийся курсом младше на юридическом факультете, бросил университет в начале весны, весь уйдя в бизнес, занимавший у него теперь все время, убеждал плюнуть на диплом и ее, потому что диплом отныне не будет нужен никому, но в такой бред она не могла поверить и, как ни трудно было с деньгами, как мать ни рыдала, отправляясь всякую новую неделю с какой-нибудь очередной серебряной табакеркой, оставшейся от деда-профессора, в ломбард, все же дотянула оставшиеся месяцы. Что было хорошо – теперь никуда не распределяли, как еще делалось в прошлом году, не могли послать ни в какую тмутаракань. Были, правда, запросы, но все из школ и из школ; идти в школу, когда можно не идти?! Маргарита попросила свободный диплом. Ее молодой человек одобрил решение, которое она приняла. Пойдешь в бизнес, сказал он, будешь вместе со мной педали крутить, у хорошеньких женщин, знаешь, как бизнес идет? Как, спросила она. Офуенно, ответил он.
Маргариту внутренне передернуло от его ответа. Но она не позволила себе никакого замечания. Это было бессмысленно. Ее любовник, с тех пор, как круто занялся бизнесом, все чаще стал выдавать такое. И она стала уже привыкать ко всему этому в нем. Его звали Атлантом, так его нарекли искусствоведы родители при рождении, и ей это ужасно нравилось. Впрочем, конечно, он нравился ей не только из-за имени. Вообще нравился. И как держал себя – с холодным, чуть высокомерным достоинством, как говорил – с тем же спокойным, выдержанным достоинством, и это же спокойное, уверенное достоинство было во взгляде, каким смотрел. Уши у него, само собой разумеется, всегда были хорошо, чисто вымыты. При любых обстоятельствах.
2
– Ну ты что, ты думаешь, я бы тебя посылал, если б не был уверен, что он возьмет? – сказал Атлант. – Да ни в жизнь!
– А если вдруг не возьмет? Если вдруг? Что тогда?
– Если и не возьмет! – воскликнул Атлант. – Что тебе, если вдруг не возьмет? Повернешься и пойдешь.
– Да, а стыдно как, – сказала Маргарита. – Я сквозь землю провалюсь.
– Сквозь землю она провалится! – Атлант похмыкал. – Брось эти интеллигентские комплексы. Возьмет он, как миленький возьмет, лишь бы ему мало не показалось. Все они берут, берут и еще просят!
Маргарита замахала руками:
– Нет, нет, нет! Я не могу. Я не умею. Еще он в милицию заявит – и меня посадят. Ты хочешь, чтоб меня посадили?
– Какого хрена! – Атлант взорвался. – Не возьмет! Посадят!.. Ты думаешь, что, бизнесом заниматься – это образ Татьяны Лариной с Евгением Онегиным проходить? – Он резким движением выдвинул ящик стола, вытащил оттуда и протянул ей толстую пачку двадцатидолларовых банкнот, в ней было, наверное, не меньше пяти тысяч. – Держи – и не ныкай. Не строй из себя Белоснежку! Дашь – и не хрена! Это он у меня может не взять, побоится. Завернет мне салазки с порога – я о деле и заикнуться не сумею. А ты женщина, да хорошенькая, ты к нему – со всем своим обаянием… да он у прекрасной дамы возьмет – не заметит как! Можно разве отказать прекрасной даме?
Маргарита почувствовала, что больше не в силах противиться напору Атланта. Он ломал ее, буквально ломал, и, чтоб не сломаться, следовало прогнуться. Не пропустить момента, сделать это чуть раньше, чем где-то внутри нее хрустнет.
Нет, но ты точно, если б не был уверен, что он возьмет, то не посылал бы? – только еще спросила она.
– Точно, точно, ё-мое, точно! – подтвердил ее любовник, ставший теперь ее старшим компаньоном, начальником, наставником – кем его можно было назвать еще? – Главное, чтоб ему, падле, мало не показалось!
Падла был зам. председателя исполкома. Он был не из бывших партийных бонз, а доцент технического вуза, пришедший во власть на прошлогодней волне демократизации, и когда они с Маргаритой оказались вдвоем, один на один, глядя в его экзаменующие преподавательские глаза, Маргарита поняла, что это не в ее воле – дать ему взятку, она не осилит себя, не вынет из сумочки толстую, перехваченную черной аптечной резинкой зеленую пачку. Если б она не услышала, ожидая в приемной своей очереди зайти к нему в кабинет, что он из бывших преподавателей…
– И почему вы считаете, что это здание должно принадлежать вам? – разоблачающе буравя ее своим преподавательским взглядом, спросил зам. председателя. – Почему вам? Обоснуйте!
Потом, когда она пересказывала Атланту их разговор с зам. председателя, в этом месте Атлант подпрыгнул на сиденье машины и громко ударил себя по ляжкам: «Вот, вот, он же тебе прямым текстом: «Давай на лапу!» «Обоснуйте»! Что еще?! Тут и нужно было обосновывать. Тут же!»
Возможно, ее любовник был прав. Но там, в кабинете Маргарита ничего этого не поняла. Она думала там только об одном: как бы залезть в сумочку и вытащить перехваченную резинкой пачку. Думала, как бы залезть, – а рука на коленях дрожала, не поднималась, и она понимала, что и не поднимется.
– И все же вы так мне и не обосновали, почему это здание должно принадлежать вам, – проговорил зам. председателя, беря со стола ручку и укладывая перед собой бумагу, принесенную Маргаритой, так, чтобы начертать в левом верхнем углу резолюцию. – Удивительно! Хотите, чтобы вам отдали целое здание, а обосновать должным образом почему – нет, никакого умения!
Губы его, когда он произносил это, строго, со значением поджимались, и все выражение лица было – недоуменная назидательность. Он был, видимо, лет сорока, сорока пяти – Маргарита не могла определить точно, – лысоват, с брюшком, в невыразительных, пластмассовой оправы очках на невыразительном, будто затерявшимся среди щек носу. Уши у него, подумалось ей, плохо вымытые.
Дура, идиотка, шваль, кричала она себе, пока шла от его стола к двери. Повернись, возвратись, отдай, стояло в ней приказом, – и не повернулась, не возвратилась, не отдала, дошла до двери, открыла ее и вышла из кабинета.
Но тут, когда вышла, оказалась в приемной и, наконец, взглянула на бумагу у себя в руках, выяснилось, что она получила, за чем ходила. Резолюция, начертанная на бумаге, наискось в левом углу, была абсолютно благожелательной. Сугубо. Исключавшей любые иные толкования, кроме положительного.
Она обомлела. Смотрела на заветные, такие неожиданные слова – и не верила тому, что читала. Перечитала раз, перечитала другой…
Атлант ждал ее в машине на улице. Она села к нему внутрь, он выхватил у нее из рук бумагу и жадно впился в добытый Маргаритой трофей. Впился – и впитывал в себя. Впитывал и впитывал.
– Я ж говорил тебе, все они берут! – победно воскликнул он затем, поворачиваясь к Маргарите. – Как оно, нормально прошло? С боевым крещением! Видишь, все нормально, и ничего не стыдно. А ты, дурочка, боялась!
– Даже юбка не помялась, – ответила Маргарита. И возбужденно хохотнула: – Только я ему ничего не давала. Он безо всего, просто так подписал.
Победная радость на лице ее любовника окаменела, Постояла на нем в таком окаменелом виде какое-то мгновение – и исчезла совсем.
– Это как это? – произнес он с нервным дребезжанием в голосе. – Не понял!
– Так это, – сказала она. – Я пока думала, как дать, он уже подписал.
О том, что не смогла бы дать деньги ни при каких обстоятельствах, Маргарита предпочла умолчать.
Атлант смотрел на нее с острым опасливым недоверием. На лице его теперь отчетливой печатью стояло то нервное дребезжанье, что прозвучало в голосе.
– Не может быть, – сказал он затем. – На хрен ему! С какого вдруг бодуна. Врешь!
– Боже мой, да что я вру! – воскликнула Маргарита. От выражения его лица ее собственное горячее возбуждение тоже исполнилось нервности. – Зачем мне врать, я не пойму?! Вот, – распахнула она сумочку, выхватила из нее деньги и помахала пачкой в воздухе, – вот они все! Целые, нетронутые.
Атлант быстрым, жадным движением выхватил у нее пачку из рук, быстро, жадно оглядел ее, ковырнул большим пальцем, заглядывая внутрь, и с тою же жадной быстротой засунул деньги к себе в карман.
– Твою мать! – вырвалось из него. Во взгляде, которым он смотрел на нее, Маргарита уловила ревнивое, соперническое чувство. – Что, ты ему пообещала свидание, да? Заинтересовал он тебя? Ничего мужик, вполне? Разобрало на него?
Маргарита не ожидала такого. Некая вина за то, что все вышло не по-намеченному, точила ее, не без того. Пусть вышло много лучше, как и не ожидалось, но как не ожидалось, и это рождало ощущение вины. Или нечто, похожее на вину. Однако обвинять ее в том, что получила подпись в обмен на обещание постели?!
– Ты с ума сошел, – медленно проговорила она. – Как ты смеешь. С какой стати? Откуда я знаю, почему он подписал? Я не знаю! Подписал и подписал! Надо было тогда самому идти, все было бы ясно!
Атланта проняло. Глаза у него заметались, прячась от ее взгляда, он отстранился от нее, отвалился на своем водительском сиденьи, взялся за руль и несколько раз крутанул его туда-сюда внутри люфта.
– Ладно, ладно, ладно! – не глядя на нее, оторвал он руки от руля и потряс ими перед лицом. – Я сошел с ума, хорошо! Извини! Но что он хочет?! Что потребует? Ведь почему-то он подписал?!
Все же ее любовник был сыном искусствоведов. Он взял свои оскорбительные слова обратно, он извинился. Маргариту переполнило к нему жаркой, страстной благодарностью. Она обхватила Атланта руками, прижалась к его щеке и потерлась о нее.
– Ты же сам говорил, что у хорошеньких женщин бизнес идет… как? Как ты говорил, как? – терлась она о его щеку, заставляя его ответить.
– Офуенно, как, – через паузу отозвался Атлант.
В голосе его Маргарита услышала отчетливое, внятное ублаготворение.
3
Жизнь раскручивалась – будто смотрела про себя крутое кино. Как правильно сделала, что не пошла ни в какую школу. Как умно. Что бы там за жизнь была, в школе. Гнойное болото, не жизнь. И денег – чтоб только не протянуть ноги. Выживала бы, не жила – как в какой-нибудь ленинградской блокаде.
Так Маргарита иногда на себя и смотрела – будто со стороны. Отстраняясь от самой себя, расщепляя себя на ту, что была внутри, которая прежде ходила в университет, бегала на выставки художников-нонконформистов на Малой Грузинской, доставала и читала толстые литературные журналы с очередным запрещенным раньше романом, и ту, которой она была теперь снаружи: белкой, бешено мчавшейся в стремительно крутившемся колесе, и лапками все быстрее, быстрее, не дать себе отстать от колеса и не позволить ему замедлить свое стремительное вращение. А не отстраняясь, не расщепляя себя на ту и эту, можно было бы свихнуться. Крейзануться, слететь с болтов – самым натуральным образом.
Бизнес у Атланта шел – будто на реактивной тяге. Маргарита не вполне понимала, что это за бизнес. Сначала ей казалось, что это как-то связано со спортом, с теннисными кортами, их арендой, эксплуатацией, но потом вдруг выяснилось, что вся их контора – не что иное, как страховая компания, учредителями которой являются с десяток разных государственных предприятий, однако при этом они ничего не страховали, только все время вели бесконечные финансовые расчеты, а там неожиданно понадобились таблицы мировых цен на металлы – медь, сталь, вольфрам, – после чего всплыли какой-то кирпичный завод под Москвой, мебельная фабрика, магазин галантереи.
Но то, что бизнес шел успешно, ясно было невооруженным глазом. Денег в запечатанном конверте, который Маргарита получала регулярно в начале каждого месяца, каждый же месяц становилось непременно больше. И деньги были приличные. И когда ходили с Атлантом в ресторан, он заказывал самые дорогие блюда, самые дорогие вина – швыряться не швырял, но тратился на полную катушку, жаться ему не приходилось. «В Альпы с тобой на горных лыжах кататься хочу поехать, – говорил он Маргарите. – Вжарить по склону, и на полкилометра вниз, а?! Восторг! – Глаза у него подергивались поволокой, мечтательно прищуривались. – Не могу только пока наше дело оставить. Ни на день!»
Он всегда в разговорах с Маргаритой, когда поминал о работе, подчеркивал, что это не только его, но их с Маргаритой общее дело. Маргарита не перечила. Она и сама так ощущала: их, общее.
Хотя в этом деле она занимала по иерархии далеко не первое место. Вокруг Атланта толклась целая уйма народу, все с должностями директоров, генеральных директоров и вице-президентов, но она стояла ближе к нему, чем они все, она была почти им, одной сутью, они со своими громкими должностями появлялись и исчезали – как в небытие, как их и не было, – а она оставалась.
Впрочем, оставался неизменным еще один человек – такой Семен Арсеньевич. Лет тридцати восьми, тридцати девяти, худой, даже поджарый, но чувствовалось – сплошная мышца под одеждой, шилоглазый и малословный, бывший подполковник из органов, ставший гражданским вскоре после троллейбусной революции, которую Маргарита и творила, сидя у Белого дома. Надо полагать, тогда Семен Арсеньевич был с другой стороны баррикад. Но сейчас, говорил Атлант, он без Семена никуда. «Я без него – как дым без трубы, – говорил он. – Представляешь себе дым без трубы? Вот. Дым вьется – трубы и не замечаешь. А без трубы куда дыму идти? Может он вообще идти?
Семен Арсеньевич держался в тени, вроде как в стороне от всех рабочих событий, не лез ни в какие громкие споры – напрочь, в общем, не вылезал на свет, но Маргарита его побаивалась. Не только потому, что Атлант сравнивал себя с дымом, а его с трубой, признавая тем самым как бы его главность, но ей, по всему поведению Семена Арсеньевича, казалось, задень ненароком бывшего подполковника так, что посчитает себя обиженным, ответит – будут соскребать тебя со стен ложкой.
Правда, Семен Арсеньевич, когда Атлант рассказал ему, что Маргарита вырвала у зам. предисполкома здание без копейки подмазки, проникся к ней особым, уважительным чувством, похожим на изумленное восхищение. «Нет слов, меня душат слезы», – говорил он, когда вдруг, по какому-то случаю вспоминался этот Маргаритин подвиг, – всякий раз неизменно одни и те же слова.
Вскоре, как получили здание и приступили к его ремонту, Маргарита поинтересовалась у Атланта, почему он не утаил от Семена Арсеньевича, что деньги остались целы? Почему она не утаила от него, Атланта, – это понятно. Но почему он? Змеиная мысль, что деньги могли пойти в их с Атлантом личный карман, нет-нет да точила ее.
– Себе дороже, – коротко ответил ей Атлант. И вдруг, через паузу неожиданно взвился – как полоснул острым бритвенным лезвием: – Хотела б, чтоб мне небо с овчинку стало? Чтобы жизнь – поперек горла?
Словно защищался от чего-то в себе. От страха? Того, который ощущала внутри при встречах с Семеном Арсеньевичем и сама Маргарита? Она не решилась уточнять это у Атланта.
Она в их конторе сделалась главным тараном, пробивавшем чиновные кабинеты. Это стало чем-то вроде ее специализации. Атлант с Семеном Арсеньевичем ставили задачу – и она отправлялась решать ее. В ней вызрела наглая, не знающая ни малейших сомнений, какая-то расхлюстанная уверенность в себе, она шла и знала, что все у нее получится, – и у нее получалось. Не всега так, как в тот, первый раз с зам. предисполкома. Даже далеко не всегда. Но она научилась давать взятки – будто платила в магазине за товар в кассу. Великолепно это у нее выходило. И великолепно выходило опускать зарвавшиеся кувшиные рыла: брали в десять раз меньше, а делали больше, чем хотели. «Нет слов, меня душат слезы!» – восклицал Семен Арсеньевич, узнавая об очередной победе Маргариты.
Она по-прежнему жила с матерью и не спешила уходить от нее. Атлант снимал квартиру в центре Москвы, на Садово-Кудринской, несколько раз настоятельно требовал от Маргариты перебраться к нему, но она находила способы, чтоб отказаться. Ей еще хотелось побыть вольной птицей. Попорхать без оглядки. Не сковывать себя ничем. В Москве повсюду открывались ночные клубы, на улицах с каждым днем прибавлялось хорошо одетых мужчин, при взгляде на которых ее неизменно тянуло увидеть их уши.
У нее еще были годы в запасе. Куда было торопиться.
Хотя жить с матерью день ото дня становилось все муторнее. Издательство у матери с началом реформ просело, перестало выпускать книги, потом перестало выплачивать зарплату, а там мать оказалась и на улице. Без работы в неполные сорок девять и без пенсии. Несколько дней она лежала на диване и выла. А когда поднялась – это был другой человек. Та, прежняя, была вполне себе ничего, не стыдно никому признаться, что мать, а тут встала – старая облезлая грымзла, с глазами, как два обомшелых камня. Того, что она теперь зарабатывала продажей газет у метро, хватало б ей только на хлеб с чаем без сахара, и Маргарита сделалась главной кормилицей. Это наполняло ее гордостью и самодовольством, она невольно то по одному случаю, то по другому начала покрикивать на мать, небрежничать с нею, мать то и дело взвивалась, пускалась в выяснение отношений, принималась качать свои родительские права, и это уже было совсем поперек горла.
Но все же Маргарита не уходила от матери. Она вовсе не была уверена, что Атлант – это та партия, которая достойна ее. Она теперь знала себе цену. Вернее, узнала ее. И не собиралась продешевить.
4
Ветер бил в лицо водяной сечкой, солнце, отражаясь от стеклянной глади водохранилища, слепило глаза. Нестись за ревущим впереди, взбивавшим кипящие белые буруны катером на туго колотящихся по этой стеклянной глади пластиковых плашках лыж было такое упоение – из груди рвался вопль восторга. Параллельным курсом, метрах в тридцати, резал воду Семен Арсеньевич. Его скрученное из мышц тело просило большего, чем простое движение, и он закладывал виражи, ходил галсами, приближаясь к Маргарите, словно бы собираясь подсечь ее. Наверное, длины фала не хватило бы, чтоб ему и в самом деле подойти к ней вплотную, но Маргарите делалось страшно, сердце останавливалось, дыхание перехватывало, и она визжала, отчаянно мотая головой, перекрикивая кипящий шелест воды под лыжами:
– Отверните! Не надо! Уйдите!
Семен Арсеньевич, потянув мгновение угрозу, довольно усмехался, отворачивал, выметнув из-под лыж прозрачный веер, и дыхание отпускало, сердце возвращалось на место.
Вдалеке, метрах в двуустах – трехстах, вознесши над стеклом водохранилища треугольники парусов, паслись яхты. Семен Арсеньевич иногда уходил туда, катер на бешеной скорости влек его между яхтами, и Семен Арсеньевич закладывал свои виражи уже там.
Катер, тащивший Маргариту, свернул к берегу, и ее, хотя она хотела еще и еще носиться по жидкой глади, бесцеремонно повлекло за ним. На берегу, расставив ноги, с руками на поясе, будто изготовясь для утренней гимнастики, стоял ждал их причаливания Атлант. Наверное, по его приказу, отданному взмахом руки, катер и пошел к берегу.
Земля стремительно приближалась, мотор на катере смолк, скорость стала падать, рулевой крутанул руль, и катер начало разворачивать обратно в водохранилище, а Маргариту по инерции несло, несло к берегу, все медленнее, все тише, и, не дойдя до берега метров трех, она пошла ко дну. Но здесь уже было меньше, чем по пояс, она успела только раз взвизгнуть – и уже стояла.
– Давай-давай, – помахал ей с берега Атлант и полез в воду, – хорош! Иди составь Наташке компанию, а то она засохла тут без тебя!
– Атлантик, ну милый! – умоляюще заприговаривала Маргарита. – Ну, еще пять минуток, ну ты что такой жадный!
– Давай-давай, уступи. – Атлант был неумолим. – А то Арсеньич сейчас выкатит на сушу, я с ним и не пофинтю. Надо показать класс! – Он отнял у нее рукоятку фала и наступил под водой на лыжи, чтобы она выбралась из них. – Посиди с Наташкой, потреплись, что тебе, не о чем с ней потрепаться?
О, напротив, Маргарите было о чем потрепаться с Натальей. Они не виделись хорошенько несколько месяцев. Наталья тоже взяла себе свободный диплом, решив не идти в школу, но в отличие от Маргариты места нормально приткнуться у нее не нашлось, и она в конце концов занялась торговлей – мотаясь в Польшу и привозя оттуда всякое шмотье. Увидеться за минувший год удалось считанное число раз, и все на бегу, даже по телефону не получалось поговорить всласть, а неделю назад Наталья появилась у нее дома и объявила, что завязывает с Польшей, невыносимо больше челночить, не работа, а Сизифов труд, хотя, конечно, и дает деньги. Во всяком случае, учиться в МГУ, чтобы ворочать мешки с барахлом и строить глазки обиралам с таможни, – совсем было не обязательно. Даже наоборот: лучше бы не учиться. «Слушай, я созрела для того, чтобы продаться, – сказала она. – Что там Маркс с Энгельсом писали, мы еще проходили по философии: что брак в буржуазном обществе – это купля-продажа? Вот, я согласна, раз у нас теперь буржуазное общество.» Подходящей кандидатуры, чтобы Наталье продаться, у Маргариты не имелось, но они решили, что ей следует вести светский образ жизни, бывать где только можно, на всех тусовках, где появляются солидные люди, как можно больше общаться, знакомиться, и для начала Маргарита позвала ее поехать с собой кататься на водных лыжах. Кроме Атланта с Семеном Арсеньевичем, ехали еще какие-то двое, так просто, какую-нибудь голь Атлант с Арсеньичем в компанию с собой не брали, а значит, эти двое вполне могли быть людьми, достойными Натальиного внимания. Даже не обязательно в смысле продажи именно им. Тем более что они ехали со своими пассиями. Как, кстати, и Семен Арсеньевич, хотя имел и жену, и детей. Достойны внимания – в смысле знакомства. Главное – обзаводиться солидными знакомствами, расширять их круг, одно знакомство повлечет за собой другое, то третье…
Катер взревел мотором и медленно двинулся, натягивая фал. Атлант сильным, мощным движением выжал себя из воды, катер ускорил ход, и под ногами у Атланта выросли белые пенные крылья, – его понесло.
Наталья от расставленного поодаль на траве раскладного стола помахала Маргарите рукой:
– Эй! Ты другой цветок, не подсолнух, а Атлант твой не солнце, чтоб так за ним головой крутить!
Она изо всей силы демонстрировала полное душевное благополучие и безмятежность. Словно бы все в пикнике было ей в радость и удовольствие, словно бы получала от каждого мгновения неописуемое наслаждение.
На самом же деле – Маргарита видела, знала она подругу – ее так и корежило. Контакта, которого бы ей хотелось, ни с кем из мужчин у Натальи не получилось. Атлант с Семеном Арсеньевичем, естественно, в счет не шли, а те двое были усиленно заняты своими пассиями. Пассии же, в свою очередь, оказались молодыми дурными телками только что после школы, ошалевшими от новой, открывшейся им жизни, балдели и хмелели от нее, пили ее, распахнув пасть до ушей, – с ними даже не о чем было перемолвиться словом. Едва ли бы они поняли смысл Натальиных слов про цветок, сказанных Маргарите, – если б услышали их. Но они и не слышали. Сейчас они со своими молодцами, все вчетвером, пока не настала их очередь на лыжах, набились, несмотря на жару, в одну из машин, опустили там сиденья и сидели дулись в карты. Та, которая приехала с Семеном Арсеньевичем, лежала на траве почти у самой воды, подставив себя солнцу, она-то наверняка слышала Наталью и, надо полагать, все поняла, но не шелохнулась и даже не открыла глаз – как лежала, так и лежала, с замкнутыми, будто на замок, веками. Она была тертая штучка, не то что эти оглашенные, но уже на излете товарного вида, слишком зрелая, еще чуть-чуть – и можно будет добавлять приставку «пере», по ней было видно, что она с Семеном Арсеньевичем не просто так, не удовольствия ради, а в надежде схряпать его, выволочь из семейного гнезда и свить с ним свое, – и потому держала круговую оборону, опасаясь соперничества со всех сторон, высокомерничала – не подступись к ней, и задай вопрос – не отвечала, а буркала что-то нечленораздельное.
Маргарита подошла к Наталье и бросилась на раскладной стул рядом, отвалилась на спинку:
– Знаешь, ноги дрожат, еле иду, а гоняла бы и гоняла. Прямо как наркотик какой-то!
– Я бы, чувствую, кто б мне дал, села бы на какие-нибудь колеса, – сказала Наталья. – Никакой радости жизни! – Она потянулась со своего стула, взяла со столика оставленный Маргаритой недопитым ее пластмассовый стаканчик с соком, дала Маргарите, взяла свой и, приподняв, приглашая присоединиться, отхлебнула. – Я, признаюсь тебе, за этот год поняла амазонок. Женщины – совсем другая цивилизация. Нам нужно жить от мужчин отдельно. Мы среди них, как марсиане. Или венерианцы. А они принуждают нас быть землянами. Нужно нам это?
Маргарита, посмеиваясь, посмотрела на подругу из-под донышка стаканчика с соком.
– Ты марсианка? А я всегда думала, марсиане зелененькие и с большими ушами. Как у зайцев.
– Нет, марсианка ты. А я венерианка, – передразнив Маргариту – тоже посмотрев на нее из-под донышка стакана, – отозвалась Наталья. – Что в любом случае причисляет нас к немужской цивилизации.
– Почему-то амазонки не выжили, – сказала Маргарита. – Не сумели. А раз не сумели, что же нам теперь остается? Жить по законам мужской цивилизации.
– Не хочу, Ритка, не хочу! – шепотом завопила Наталья. – Пошла она, их поганая цивилизация!.. Почему я должна жить по их поганым законам?
– А ты знаешь, по каким законам жили амазонки? – по-прежнему посмеиваясь, спросила Маргарита.
Как оно все произошло там, на воде, занятые своим разговором об амазонках, они не увидели. Они просто не смотрели туда. Да если бы и смотрели, едва ли б смогли что-то понять. До места происшествия было далеко, метров триста. Все потом пришлось восстанавливать из обрывчатых рассказов Атланта с Семеном Арсеньевичем.
Атлант решил посоперничать со своим компаньоном. Он тоже решил поноситься среди яхт, качая их на волне от катера и ловко лавируя между их легкими лакированными скорлупками.
Делать это Атланту не следовало. Не с его мастерством было гнаться за Семеном Арсеньевичем. На очередном вираже его занесло, он еле удержался на ногах, едва не врезался в «летучий голландец», оказавшийся на пути, сумел отвернуть, но из-под лыж выбросило целый фонтан и окатило висевшего над водой за бортом матроса «голландца». Тот от неожиданности инстинктивным движением выпустил линь, переложил парус на другой борт, а следом вынужден был пеореметнуться сам. Яхта рыскнула, рулевой не сумел отвернуть, и ее на полном ходу внесло в другой «голландец», шедший параллельным курсом. От удара рулевого подняло со своего места и швырнуло на сидевшего внизу, спиной к палубе, пассажира.
В этом пассажире и было все дело. Ему, по всем правилам безопасности, не полагалось там находиться, ни в коем случае. Ему, третьему, вообще не полагалось находиться на такой крохотке, как «летучий голландец». Только матрос на парусе и рулевой, все. И тем не менее он там был. Сидел на дне, спиной к поперечному ребру палубы, от толчка его откачнуло к корме, бросило обратно на палубный брус, и рухнувший на него рулевой многократно усилил удар. Раздавшийся вопль, казалось после Маргарите, было слышно даже на суше. Едва ли они с Натальей слышали его, но после так казалось: слышали. И только, не поняв, что это такое, не обратили на него внимания.
Пассажиру, как стало известно позднее, ударом вышибло межпозвоночные диски. Сместило позвонки и защемило нервные окончания. Боль, видимо, была такой, что через мгновение своего крика он уже сорвал голос и мог только сипеть.
Но самое главное, он оказался братком, – Маргарита впервые тогда услышала это слово. Братками были и его товарищи по яхте, и еще несколько яхт, романтично и целомудренно белевших на обоюдно голубой глади воды и неба, тоже оказались набиты братками.
Катера, катавшие Атланта с Семеном Арсеньевичем, остановились по данному им приказу беспрекословно. Атлант с Семеном Арсеньевичем поплыли было к берегу, но, получивши по голове веслом, тоже предпочли подчиниться. Их затащили на одну из яхт, что побольше, и первым делом хорошо отмочалили, – когда Маргарита увидела их, глаза у обоих уже заплывали, превращаясь в щелки, из разбитых носов обильно хлестало, и у Атланта еще разбиты губы, а у Семена Арсеньевича – обе брови.
Что сказал браткам на яхте Семен Арсеньевич, как договорился, чтоб отпустили, Маргарита не поняла. Но именно договорился – она это услышала точно. Атлант сидел на складном стуле, выбросив вперед ноги и завалившись на спинку, она промывала ему своими духами «Гучи» раны на губах, и он промычал, поворачивая голову в сторону Семена Арсеньевича на соседнем стуле: «Ты молодец, Арсеньич, я восхищен. Пара слов – и полный порядок. Так договориться!» «На то и хлеб жуем, – ответил Семен Арсеньевич. Над ним усердствовала, ставила ему на брови заклейки из лейкопластыря его тертая. – В таких случаях карты на стол вверх лицом без промедления и полная капитуляция. А то бы живыми от них не выползли.» «Нет, ты молодец, ты молодец, – снова промычал Атлант. – Я тебе благодарен – бесконечно. Обязан по гроб жизни. Всей жизнью обязан.» Семен Арсеньевич на соседнем стуле помолчал. Маргарита почувствовала смысл его молчания: он как бы говорил им: «Запомни, что сказал!» «Чего нам все это будет стоить, – произнес затем Семен Арсеньевич вслух. – Вот что важно. Главное, чтоб бизнес не забрали. Все, что угодно, но чтоб не это. На войну с ними мои не пойдут. Слишком круто. Понял?
Маргарита решила вмешаться. Все-таки она тоже была в бизнесе, и ей должно было вникать во все детали.
– Какие это «ваши», Семен Арсеньич? И что значит «на войну»?
Семен Арсеньевич не ответил. Маргарита взглянула на него, – он сидел с таким выражением лица, словно она ничего не спрашивала, а он, соответственно, ничего не слышал.
– Семен Арсеньич! – потеребила она его.
– Не приставай! Не лезь! Не твое дело! – с неожиданной грубостью, окриком ответил вместо Семена Арсеньевича Атлант. – Дело керосином пахнет, не лезь!
Теперь Семен Арсеньевич отозвался:
– Напротив! Риточке даже очень нужно влезть в это дело. Она у нас главный специалист по переговорам. Кому, как не ей, и бразды в руки. Риточка, сядете со мной в машину сейчас? Поговорим. Обсудим кой-что.
– С удовольствием, – выразительно произнесла Маргарита. Она разозлилась на своего любовника: кричать на нее!
– Зачем это ей нужно? Ты что? – повернулся на стуле к Семену Арсеньевичу Атлант.
– Нужно, нужно, – подтвердил Семен Арсеньевич. – Ленка вот, – похлопал он по бедру свою тертую, – сядет к тебе, а Рита со мной. Поговорим по дороге.
– Ну, а я куда, Рита? – спросила Наталья.
Она стояла все это время рядом и слушала.
– Нет, мы уж с Ритой вдвоем, – отказал ей Семен Арсеньевич. – А тебе, Наташенька, что, разве места не будет? Вон ребята складываются, – повел он рукой, – тоже возьмут! С удовольствием.
Те двое приглашенных в компанию паковали со своими пассиями сумки. Уезжали все, не оставался никто. Какой пикник, какой отдых после того, что случилось.
– О кей, – вынуждена была согласиться Наталья. – Поеду с первым, кто позовет. Мальчики! – крикнула она. – Кто меня берет в машину?
Вскинули приглашающе руки, оторвавшись от сумок, оба, но один – покрупнее, порыхлее, постарше и пострашнее, Вадик по имени, – чуть раньше.
– С Вадиком! – сияюще, будто награждая его собой, объявила Наталья.
5
Это был офис так офис, Маргарита еще не бывала в таких. Лаково-белая, выглядевшая воздушно-невесомой дверь оказалась бронированной металлической плитой, за нею сидел парнишка с расстегнутой кобурой на поясе, а из кобуры – вороненый затылок пистолетной рукоятки. И другая дверь, ведущая из тамбура внутрь, такая же воздушно-невесомая, только с окошечком на уровне глаз, тоже была – будто снятая с танка. Ворс полового настила в коридоре пружинил, словно ковер. И все вокруг было светло, чисто, высоко – потолки возносились на высоту не более трех метров, но ощущение возникало: потолок отсутствовал вообще. В воздухе веяло едва уловимым и вместе с тем совершенно отчетливым запахом каких-то цветов. Зал для переговоров был истинно залом – метров семьдесят, не меньше. Круглый, цвета слоновой кости стол посередине имел в диаметре метра четыре. За ним могло рассесться, наверное, человек двадцать. Их замечательный чистенький офис, устроенный в сарайном здании бывшего строительного участка, которое Маргарита так успешно вырвала у зампредсовета, в сравнении с этим роскошеством так и оставался сараем.
– Недурственно, господа, – вполголоса произнес Атлант. – Акценты расставлены в самом начале. Давят на психику.
– Нет слов, меня душат слезы, – тоже вполголоса отозвался Семен Арсеньевич.
Маргарита обескуражено продолжала оглядываться. Она так до конца и не понимала, куда они пришли и зачем. Семен Арсеньевич говорил сплошными невнятностями. И тогда, в машине, и сейчас, перед тем, как ехать. Почему они должны были идти объясняться к этому человеку, бывшему тезкой Семена Арсеньевича, но которого Семен Арсеньевич странным образом называл никак по-другому, как «дед Семен»? Почему слово этого «деда» должно было оказаться авторитетным для тех братков, одного из которых так нелепо покалечил Атлант? Почему братки должны были принять его решение словно некое заключение Верховного суда, не подлежащее пересмотру и обжалованию? Потому, потому, потому, раздраженно отвечал на все ее расспросы Семен Арсеньевич. И только дал установку: «На жалость не бей. Наоборот: блистай. Светись благополучием. Яви себя во всем великолепии. Чтобы видел: не фуфло какое приперло, солидные люди. Ну, прокололись, подзалетели, так с кем не бывает. Солидных людей нужно не топить, а поддержать!» «Вот, вот, именно так, слушай Арсеньича. Прими к руководству», – говорил Атлант. Сам он вообще ничего не объяснял Маргарите, переадресовывая ее с каждым вопросом к своему компаньону. «Слушай Арсеньича, слушай» – только повторял он.
Дверь в боковой стене зала открылась, и оттуда появились двое. Один был сер обликом, как только может быть сер пристебай по призванию – с серым холуйским лицом, серыми угодливыми глазами, хотя, может быть, от природы они у него были и карими, с серыми гладко причесанными волосами, и даже не поймешь, сколько лет, – настолько его возраст тонул в его сером обличье. Второй был полная противоположность ему. Вернее, пожалуй, его следовало бы назвать Первым, но у Маргариты так уж получилось, что она сначала отметила для себя поразительную мышью серость его пристебая, а потом уже взглянула и на него самого. Этот был Властителем. Не Властелином, не Повелителем, а Властителем, именно так. Безжалостный, беспощадный князь со дружиной, едущий выбивать дань с непокорных подданных. Она внутренне содрогнулась. И вот перед этим разыгрывать благополучие? Блистать? Великолепничать? Да он видит насквозь, перед ним как ни играй, все будет фальшь. Ему уже было порядком лет, наверное, около пятидесяти или больше, – точнее Маргарита определить не могла. В общем, не моложе ее матери. Но как разительно несхожи были они! Он являл собой само жизненное преуспеяние. Широкое загорелое лицо схвачено жесткой, поседевшей наполовину, но по-модному коротко подстриженной бородой, подбритой, где должно, с идеальным тщанием, – сразу видна рука хорошего парикмахера. И рука того же, наверное, хорошего парикмахера была видна в стрижке – совсем свежей и ни единого торчащего волоска из общего ровного рисунка. Великоватое широкое брюшко идеально скрывалось просторным кремовым пиджаком, и стоимость этого пиджака, оценила Маргарита, такова, что ее любовник не посмел бы и помыслить, чтобы купить.
Но внутренность ушной раковины, заметила она, чистотой не блистала. Кажется, там был даже слюдянисто-коричневый след от серы, вытащенной из глубины слухового отверстия ваткой на спичке, а может быть, и мизинцем. Ее передернуло от брезгливости.
И вместе с тем Маргарита чувствовала в себе то же странное онемение, что тогда, в кабинете того зампредсовета. Но тогда – потому что ощущала себя перед ним, как на экзамене, а почему сейчас? Из-за этой печати Властителя в облике? Безжалостного, беспощадного князя со дружиной?
Наверное, дед Семен – это он и был.
Семен Арсеньевич, а следом за ним и Атлант, потоптавшись на месте, двинулись было навстречу вышедшей из двери паре, но человек с бородой не дал им приблизиться, махнул рукой, указывая на стол:
– Прошу.
Голос у него неожиданно оказался высокий и даже визгливый.
Стульев около стола – с широкими, резными, обитыми зеленым бархатом спинками – стояло десятка полтора, но все задвинуты под стол и выдвинуты лишь три с одной стороны и два с противоположной. Куда им садиться, ясно было без дополнительных объяснений.
Когда усаживался, поправлял стул под собой, бородатый неотрывно смотрел на Маргариту. Что ей было делать? Маргарита отвечала ему улыбкой, полной радостного благожелательства.
– Я бы сначала, Семен Игнатьевич, хотел попросить прощения, что потревожили вас… – начал Семен Арсеньевич.
Голос его был не похож на его голос. Это было что-то такое вкрадчивое, по-ветошному мягонькое, стелющееся, – Маргарита никогда не могла бы представить, что Семен Арсеньевич может заговорить подобным образом. А этот бородатый – значит, дед Семен, все верно.
Дед Семен не позволил Семену Арсеньевичу рассыпаться в извинениях.
– Ладно, прекратили, – пошевелил он пальцами, прерывая Семена Арсеньевича. – Это моя обязанность – всех выслушивать. Имейте только в виду, – теперь он приподнял руку над столом и наставил на Семена Арсеньевича указательный палец, – что на вашем месте уже сидели. Кого вы обидели. Правду, и только правду!
На ногу под столом со стороны Семена Арсеньевича Маргарите нажали. Это был знак. Она должна была броситься на амбразуру и прикрыть ее собой. Прямо сейчас. Ей не давалось на подготовку даже мгновения.
– Ой, Семен Игнатьевич, это вообще какое-то недоразумение! Это какой-то бред! Молодой человек, конечно, ударился, повредился… ужасное происшествие, мы глубоко сожалеем, скорбим… но ведь мы ни при чем! Наша вина лишь в том, что оказались там рядом. Я говорю «мы», хотя я сама была на берегу, но я все видела с берега, а кроме того, буквально за пять минут до того я сама там была на лыжах и под руку ребятам могла попасться я… Им нужно было выместить на ком-то свою злость… но что же вымещать, ведь это нечестно: они столкнулись, они покалечили своего товарища, а искать виноватого на стороне! Это и нечестно, и неблагородно… какие к нам претензии, это мы им претензии предъявлять можем: мы отдыхали, никому ничего дурного, никакого вреда – и вдруг на нас набрасываются, возводят напраслину… это мы от них компенсации можем требовать!
Маргарита говорила – и слышала, что не говорит, а верещит. Она включила себя на речь после знака Семена Арсеньевича, как механическую куклу – будто нажала в себе некую кнопку, – но механическая кукла и говорит механически, какое там обаяние, какие чары, кошачье мяуканье, а не соловьиная трель.
Но дед Семен при этом, видела она, слушал ее. Сидел, облокотясь, пощипывал пальцами бороду и смотрел на нее неотрывно, внимательно, с пристрастием. С пристрастием, она была уверена, что пристрастием. Только что скрывалось за ним? Она не понимала. И это пугало ее, сковывало еще больше.
– Ладно, – вновь пошевелив пальцами, прервал, наконец, дед Семен ее верещание. И оторвал взгляд от Маргариты, перевел на Семена Арсеньевича с Атлантом: – Хочу от мужиков услышать. Как оно, вы утверждаете, все было?
Маргарита замолчала на полуслове – с облегчением, которому, возникни такая необходимость, не смогла бы найти сравнения. Она будто вынырнула на поверхность воды и глотнула воздуха после того, как пробыла под водой нескончаемо долгое время и от нехватки кислолрода у нее уже начали вылезать из орбит глаза.
Атлант с Семеном Арсеньевичем повторили рассказ Маргариты. Ничего другого они и не могли рассказать. Версия была выработана, детали отшлифованы – любой шаг за намеченные пределы исключался.
Пристебай пригнулся к своему хозяину и что-то быстро сказал ему. Дед Семен отстранил пристебая движением руки:
– Надо думать!
Посидел молча, поигрывая перед собой пальцами, и хлопнул по столу ладонью:
– Я должен подумать, пацаны. Всякое дело нужно сначала хорошенько обдумать. Так и это. Я сейчас поеду на дачу. Пусть кто-нибудь из вас поедет со мной. Побудет рядом. Я подумаю – и сообщу ему. Ну, давай, вот ты поедешь, – указал он на Маргариту легким движением подбородка, схваченного жесткой щетиной модной бороды.
Она? Маргарите показалось, ее снова в одно мгновение утянуло под воду, без единого глотка воздуха в легких, и глаза тут же начало выпучивать. Она думала, сейчас против ее поездки запротестует Атлант, его поддержит Семен Арсеньевич – ведь это же немыслимо, чтоб поехала она, почему она, зачем она? – но и тот, и другой ничего не произнесли, и де Семен удовлетворенно кивнул:
– Заметано.
– Нет, извините, почему я? – взглядывая на Атланта с Семеном Арсеньевичем, передернула плечами, попыталась непринужденно засмеяться Маргарита, но вышло все это с той же естественностью механической куклы.
Атлант ответом ей отвел глаза, упер в стол, а Семен Арсеньевич заговорил торопливо, и голос его, так же непохоже на его обычный голос, был по-ветошному, мягонько вкрадчив:
– Ну, Рита, Рита… Ну, ты же знаешь почему, ты же знаешь. Кто, как не ты. Кто кроме тебя… Ты же у нас главный переговорщик, это естественно, что ты…
– Ланчик! – умоляюще позвала Маргарита – так, как звала Атланта только в постели. – Ланчик!
Атлант взглянул на нее – глаза у него были мутные, невидящие, – и она прочла в них: «Заткнись со своим Ланчиком!»
– Нет, я не поеду. Отказываюсь, – решительно поднялась из-за стола Маргарита.
И тут прорезался тот, серый, до этого лишь прошептавший что-то на ухо хозяину:
– Сказано же: заметано! Какой еще базар может быть?!
В несовпадение с его обликом голос у него оказался колоритным, ярким: хриплое клокотание надсаженных связок, – и по одному этому его голосу, лучше, чем из всяких слов, Маргарита поняла: у нее нет выбора. Если не поедет по своей воле, ее повезут насильно. И Атлант с Семеном Арсеньевичем еще станут помогать этим двоим заталкивать ее в машину.
И вместе с тем, противу того животного чувства, что вопило в ней ужасом под ложечкой, она не допускала мысли, что позвана на дачу помимо дела, из-за которого очутилась в этом офисе. И потому, когда уже сидела в машине – роскошном английском «Ровере» с правосторонним рулем, – одна на заднем сиденье, дед Семен – впереди рядом с водителем, когда уже машина плавно несла свое мускулистое акулье тело в потоке других машин на дороге, спросила с сухой деловитостью, лишь чуть, в самой малой дозе приправленной прельстительной женской игрой:
– Семен Игнатьевич! Мне бы хотелось добавить кое-какие детали к нашему рассказу. Может быть, они вам покажутся несущественными… но мне представляется, что они на самом деле очень важны.
Дед Семен повернулся к ней. Но не полностью, не всем лицом, а вполоборота, и на Маргариту оказалось наставлено его ухо. То самое, со слюдянистым серо-коричневым следом от чистки слухового отверстия.
– Ах ты, цветок мой, – проговорил он. Голос его показался сейчас Маргарите еще визгливей, чем там, в офисе. – Какие детали… Все от тебя зависит. Спасешь ты вас всех или нет.
– Простите? – произнесла Маргарита. По-прежнему противясь в себе тому знанию, что было в ней, мозжило под ложечкой бездной, не желая допустить его до себя, отталкивая его от себя изо всех сил. – Что я такое могу сделать?
Дед Семен доразвернул себя на сидении лицом к Маргарите. Грязное его ухо перестало глядеть на нее.
– Гуманитарка? – спросил он. – Не бухгалтерша какая-нибудь?
– Филфак МГУ, – ответила Маргарита.
– Я и вижу: гуманитарка. – Железную маску Властителя рассекла улыбка. – Люблю гуманитарок. Не то что все остальные. Умненькие. Терпеть не могу безмозглых куриц.
Маргарита не знала, как ей ответить на это.
– Офис у вас какой замечательный, – сказала она. – И машина какая… Судя по всему, дела у вас идут хорошо. Да?
– Ничего, – согласился дед Семен. – Руки сложа сидеть не нужно. И все будет ничего. Мы не сидели сложа руки.
– Кто «мы»? – спросила Маргарита. Хотя ей было совершенно все равно – кто.
– Кто? – переспросил дед Семен. Теперь маска Властителя раскололась ухмылкой. – Да много кто. Кто хотел себе состояние сделать. Такого года, как прошлая зима, больше не будет. Все состояния сделаны прошлой зимой. Кто не сделал, уже не сделает. И кто сейчас разорится, – маска Властителя вновь вернулась на его лицо и наглухо закрылась, – тот уже не поднимется. Такого фарта больше не будет.
– Семен Игнатьевич, ну зачем вы? – придала голосу кошачью ласковость Маргарита. Последние слова деда Семена прозвучали как угроза, и следовало их нейтрализовать, чтобы они не отложились у него в сознании. – Ведь вы совсем не такой, каким хотите себя показать. Вы тонкий, вы благородный, вы добрый!..
Дед Семен вдруг поднялся со своего места и полез между спинками сидений назад, к Маргарите. Пролез, свалился рядом с нею и властно, грубо притиснул к себе, второю рукой сжав грудь.
– Твою мать! – выговорил он сквозь зубы. – Гуманитарка!
У Маргариты от его объятия трещали кости, грудь было больно, перед глазами стояло его ухо со слюдянистой полоской серы.
– Пустите! Пустите! Да перестаньте же! – попыталась она освободиться от его рук.
Он позволил ей это.
Маргарита отлетела от него на сиденье к самой дверце, смотрела оттуда, ужас под ложечкой просвистывал ее насквозь, но сознание все так же отказывалось верить в реальность того, о чем говорил ужас. Машина жарила уже на выезде из города, впереди не было видно ни одного светофора.
– Не приближайтесь! – выставила перед собой руку Маргарита, уловив движение деда Семена снова податься к ней.
Он схватил ее руку и притянул к себе, принудив Маргариту едва не лечь на сиденье.
– Не заставляй меня, цветок мой, тебя бить. Не люблю спать с битой женщиной. Какой кайф от битой…
Убежать, как убежать, выло все в Маргарите.
Дача деда Семена оказалась едва не за самой кольцевой дорогой. Пересекли кольцо, поднырнув под мостом, повиляли немного по улицам поселка и остановились перед могучими железными воротами. Внутри, должно быть, их ждали – ворота раскрылись, и в распахнувшийся зев взгляду Маргариты предстала трехэтажная кирпичная крепость.
Маргарита рванулась открыть дверцу – дверца не открывалась. Она жала на ручку, била бедром, – бесполезно.
Машина тронулась и въехала внутрь, подкатила к крепостному крыльцу. В дверце что-то щелкнуло. Маргарита поняла: теперь она может выйти. Дверцы были заблокированы водителем, теперь он разблокировал их.
– Прибыли, цветок мой, – сказал дед Семен, распахнул дверцу со своей стороны и выбрался наружу.
Маргарита сидела и не могла двинуться.
Дед Семен обошел машину и открыл дверцу с ее стороны.
– Слушайте, – поднимая на него глаза, с трудом выговорила Маргарита, – у меня месячные…
Губы у деда Семена сжались.
– Я тебе уже говорил: не заставляй меня, чтоб я тебя бил!
– У меня месячные, – тупо повторила она. – Понимаете, что такое месячные? Я теку.
– Вот мы посмотрим, какие такие месячные, – наклонился он к ней, взял за плечи и вытащил из машины. Рука его ощупала ей ягодицы сквозь юбку, подняла юбку и забралась под нее. Маргарита была в колготках: деловая женщина, переговоры. Мясистая большая рука по-хозяйски оттянула ей резинку колготок, проникла под ту, проникла под резинку трусиков, и ягодицу обожгло горячее потное прикосновение. Рука помяла ей ягодицу, переместилась, помяла другую и, раздвинув ягодицы, полезла в промежность. Крупная ознобная дрожь пробежала по Маргарите с головы до ног, – ее сотрясло.
– Что, как тут у нас цветочек? – спросил над ухом стиснутый голос деда Семена. – Боится? Пусть боится! Получит. Он свое получит!
Маргарита стояла, не смея шелохнуться. Никогда в жизни не испытывала она большего унижения.
6
– Млядь, биздюк, пидар сраный! – Маргарита вываливала на Атланта весь свой запас слов, которым он обогатил ее за последний год. – Подлое ничтожество, сутенер, Иуда! Чтоб тебе быть импотентом неизлечимым!
Ее любовник стоял перед ней абсолютно молча, терпеливо смотрел на нее, не отводя глаз, – совершенно такой, как всегда, разве что на лице не было его обычного выражения спокойного выдержаного достоинства. Скорее, оно имело сейчас выражение уязвленного самолюбия. Которое вместе с тем он никоим образом не хотел проявлять.
– Специально меня потащил туда, вонючий подлец! Чтобы подложить меня, прикрыться мною, продать меня, как шалавую девку! – кричала Маргарита. – Мерзавец, подонок, грязная сволочь! На воровскую малину потащил меня, в притон!
Ее любовник нарушил молчание:
– Ну, какая малина, какой притон! Обыкновенный офис. Круче, правда, чем у некоторых.
– Мерзавец, мерзавец, мерзавец! – Маргарита влепила ему пощечину – одну, другую, третью.
Она это делала впервые. Никогда раньше не приходилось ей делать подобного. Не было нужды. И опыта не было. Но, оказывается, это давало такое горячее, такое лютое наслаждение! И она повторила серию:
– Мерзавец, тварь, мразь!
Теперь Атлант перехватил ее руки. И, держа их, не давая ей ударить его вновь, проговорил:
– А тебе что, внове так, что ли, было давать?
В голосе его прозвучало то самое уязвленное самолюбие, что читалось в выражении лица. Только к нему примешивалось еще и некое мстительное удовольствие.
– Что? – Она не поняла. – Подонок! Что ты говоришь?
– То, что! Ты что, этому зампредсовета не давала, что ли?
– Какому зампредсовета?! – Она не понимала. Подлец! Он же хотел еще и обвинить ее в чем-то!
– Тому. Который нам здание отдал. Он что, за просто так, вот так взял и отдал?
До нее дошло. Сукин сын, нашел способ обелить себя, сукин сын!
– Что ты мелешь? Что ты несешь?! – Ей, наконец, удалось вырвать у него свои руки. – Когда это я могла? Я к нему только зашла – и вышла, а ты меня ждал в машине!
– Я-то тебя ждал! – сказал Атлант. В голосе его звучало все то же мстительное удовольствие. – А ты вышла. А потом с ним перепихнулась. Через день-другой. Не так, нет?
Бешенство, владевшее Маргаритой, готово было потесниться, чтобы дать место рядом с собой изумлению.
– Так ты думал, подонок, мы получили здание через постель? Думал – но взял и еще звал меня замуж?
– Любовь зла… – проговорил ее любовник.
Он явно намеревался наградить ее уши и «козлом», – Маргарита не позволила ему этого:
– Врешь! Не думал ты такого! Опасался, но не думал! А вот сейчас только уверил себя, чтобы подлость свою прикрыть! Мразь!
Она снова замахнулась, чтобы дать ему еще пощечину, но Атлант вновь поймал ее руку:
– Хорош! Больше терпеть не буду! Иди отсюда к херам собачьим!
– Уйду, конечно. – Маргарита подумала, не плюнуть ли ему в лицо, раз не получилось с пощечиной, пусть даже ударит ее после этого, пусть, но плевок – это было слишком неэстетично, нет, она не была способна на плевок. – Уйду, не останусь. А ты знай про себя: ты не атлант, ты пигмей. Вместе со своим гебешным приятелем. Пидары сраные! – добавила она ему напоследок еще из их лексикона.
Замок, щеколда, другой замок – все в этой квартире, снимаемой ее, теперь уже бывшим, любовником, было знакомо, руки отщелкивали, оттягивали, поворачивали сами собой, без всякого вмешательства сознания, своей памятью, ждать лифта было невозможно, она покатилась вниз по ступеням – и через минуту была уже на улице, в шуме и ярости Садового кольца. Так ей подумалось: «В шуме и ярости». Авессалом, Авессалом… Прощай, оружие, и Ночь нежна. Взгляни на дом свой, ангел… На кой дьявол нужно было все это читать. На кой дьявол все это нужно теперь. Этот подонок прав, трижды прав, десятижды прав: диплом отныне не нужен никому!
Неслись по Садовому, ревели стада машин, тяжелый запах выхлопных газов стоял вокруг, солнце уже село, только еще пламенели и полыхали жаркой золотою каймой кучевые облака на синеющем небе.
Наташка, окажись дома, взмолилась Маргарита, опуская жетон в прорезь таксофона.
Теперь бог был к ней милостив.
– Приезжай. Хватай машину и приезжай, – тотчас отозвалась Наталья.
Она сумела сколотить челночеством кое-какой капитал, снимала за сотню долларов однокомнатную квартирку на окраине, и поехать к ней сейчас, не заявляться на глаза матери – это было спасение.
– Козлы вонючие, козлы вонючие! – повторяла и повторяла Наталья, пока Маргарита рассказывала ей, как вытаскивала сегодня своего любовника с его партнером из ямы, которую они сами же себе вырыли. – Нет, ну какие козлы вонючие, какие козлы!
У нее стояла в буфете пол-литровая бутылка «Мартини», – Маргарита, рассказывая, опорожнила ту едва не наполовину. Ее развезло, и она стала реветь. Но жалеть себя было стыдно, унизительно, Маргарита пересилила слезы, отправилась в ванную, встала под горячий душ. Голову кружило, стены ванной качались, хотелось, чтобы они качались все сильнее, сильнее, опрокинулись бы на нее и придавили собой. Расплющили в мокрую лепешку. После этого жить сразу же стало бы легко: у расплющенных лепешек очень легкая и простая жизнь. Она у них легкая и простая, потому что они сами становятся легкими и простыми по форме, а что легко – то и просто, а что просто – то легко…
– Эй! – перекрикивая шум и шорох душа, позвала ее Наталья. Она стояла около ванны, откинув полиэтиленовую занавеску, и трясла Маргариту за руку. – Ты что? Что ты несешь? Какая лепешка?
Маргарита медленно пришла в себя. Оказывается, она несла все это о лепешке вслух! И не просто вслух, а во весь голос, орала во всю Ивановскую – как какой-нибудь громкоговоритель.
– Давай в амазонки, – сказала она Наталье. – Пошли. Я готова. Где они, знаешь? Веди!
– Слушай, ну тебя, вылезай! – Наталья потянулась и закрыла краны – один, потом другой. – У тебя уже бред какой-то начался. Испугала меня.
– Какой бред. – Маргарита покорно позволила ей накинуть на себя полотенце и начать вытирать. – Хочу в амазонки. Ты ведь тоже хотела? Давай пошли. Давай вместе!
– Ой, Ритка, я бы с удовольствием. Но я не знаю, где их искать. Не знаю, где они живут. А так бы обязательно! – промокая ее и растирая, быстро заприговаривала Наталья.
В голосе ее были испуг, дрожание, откровенная ненатуральность тона, – Маргарита поняла, что Наталья думает, она действительно заговаривается.
Маргарита взялась за полотенце, остановила Наталью и спросила, поймав ее взгляд:
– Что делать, Наташка? Что теперь делать?!
Лицо у Натальи, мгновение назад напряженное, словно бы деревянное, ожило, высветлилось, и она изо всей силы, чувствительно, так что Маргарита вскрикнула, врезала ей ладонью по ягодице:
– Заставила меня струхнуть, дура такая! – И добавила через паузу, вновь принимаясь вытирать ее: – Знаю я, что делать? Знала бы я!
7
Зачем она пошла к Белому дому, спроси ее – Маргарита бы не ответила. Наверное, ее потянула туда память о тех трех августовских днях в девяносто первом. Но, вероятней всего, она бы не пошла, если бы не ее безделье. Которое тянулось с того самого дня, как совершила акт спасения своего любовника с его партнером из бывшей советской госбезопасности. Возвращаться работать с ними – это было исключено, напрочь, и она весь остаток лета и весь сентябрь болталась без всякого дела, с ужасом видя, как тают деньги, начиная сходить с ума от своей подвешенности, и уже посещала, все чаще сверлила сознание мысль: что, идти в школу?
Но прежде чем пойти за направлением в школу, она пошла к Белому дому. Там, около него, уже несколько дней происходило что-то необычное, собирались толпы с плакатами, жгли костры, устраивая ночные дежурства – точно, как тогда, в девяносто первом, потом стали формироваться какие-то военизированные отряды, а накануне вечером, передало телевидение, была попытка штурма телевидения в Останкино, въехали машиной в окно, стреляли, кого-то убили… Маргарита звала пойти к Белому дому Наталью. Та отказалась. У нее назревал-назревал и, наконец, созрел роман с Вадимом, одним из гостей Атланта и Семена Арсеньевича на том несчастном пикнике, везшем ее обратно в Москву, завтра у Натальи было назначено с ним, как она говорила, пиковое свидание, и она хотела выглядеть и чувствовать себя на все сто. А чего и тебе переться туда, сказала она Маргарите. Чего, в самом деле, подумала Маргарита, слушая по телевизору, как бесшеий, постоянно хлюпающий из-за короткой уздечки слюной недавний председатель правительства призывает всех собраться на площади перед зданием Моссовета. К Моссовету ей идти не хотелось. Она пошла утром к Белому дому.
Светловолосую женщину с девочкой лет семи Маргарита заметила, еще только появившись у Белого дома. Вернее, это было не у самого дома, к нему оказалось не пройти, совсем не как в девяносто первом, все оцеплено милицией в бронежилетах, а где-нибудь метрах в четырехстах от него, неподалеку от съезда на мост через Москву-реку, напротив высотного здания трехлистником, в котором сейчас располагалась мэрия. Людей с детьми было немало – мужчины, женщины, кое-кто даже с младенцами в колясках, – но эта женщина выделялась среди них – похоже, она кого-то искала. Переходила от одной группы к другой, металась глазами, всматривалась в лица.
Цепь милиционеров, когда раздался первый выстрел из танка и из окон одного из верхних этажей Белого дома выметнулось облако взрыва, пошла на толпу, оттесняя ее к Садовому кольцу. Парень лет семнадцати, не желая сдвигаться с места, затеял пререкания, его ударили сразу в несколько дубинок, он упал. Ударили еще одного, еще. Толпа заволновалась, пришла в движение. Кто-то побежал. Началась давка. Женщина с девочкой, уже давно исчезнувшая из поля зрения Маргариты, вруг оказалась рядом с ней. Она уже не держала девочку за руку, а прижимала ее к себе обеими руками и выставляла локти, чтобы девочку никто не задел.
– Ой, Боже, – приговаривала она, – ой, Боже!
– Зачем вы с ребенком сюда, – осуждающе сказала Маргарита, тоже выставляя локти, принимаясь помогать женщине охранять девочку от толчков вокруг.
– Не с кем было оставить, – проговорила женщина.
– Сидели бы дома, – мудро наставила ее Маргарита.
– Я маму искала, – благодаря голосом Маргариту за помощь, сообщила женщина.
– А что такое с мамой? – поинтересовалась Маргарита, вспоминая свою мать. За эти два месяца, что бездельничала, они перестали разговаривать.
– Ой, у меня такая мама! – как бы винясь и сокрушаясь одновременно, воскликнула женщина. – Она ходит сюда их всех кормить. Ей все равно кто – демократы, коммунисты. Ходила в девяносто первом, нынче снова. Куда она делась? С ума схожу, беспокоюсь!
В барабанные перепонки гулко и тяжело ударил новый выстрел, произведенный танком.
Маргарита с женщиной и девочкой уже выбрались из толпы и шли по Садовому в сторону Смоленской площади. Это был уже третий выстрел, и так сильно он ударил в барабанные перепонки – они как раз проходили мимо арки в доме, и звук от него прикатился к ним, не задержанный никаким препятствием.
На стене дома рядом с аркой, прикрытый алюминиево-стеклянным квадратным кожухом, висел таксофон. Маргарита достала из сумочки жетон.
– Может быть, позвоните маме еще раз?
– Ой, да! – схватила у нее жетон женщина.
Маргарита осталась стоять на тротуаре с девочкой.
– Тебя как зовут? – спросила девочка.
Она была довольно непосредственной. Ребенок, растущий среди взрослых и привыкший к ним.
Маргарита назвалась.
– А меня Алисой, – сообщила девочка. – Маму Полиной. Папу Артемом. Папа меня зовет Лисой. Хотя меня еще можно звать Алей.
Да уж не Лиса, это точно, подумалось Маргарите.
– Мама! – закричала от таксофона, глядя на них невидящими глазами, женщина. – Мамочка!..
Она дозвонилась, мать ее была дома.
– А кто у тебя папа? – спросила Маргарита девочку, чтобы поддержать разговор.
– Он демократ, – с серьезным видом произнесла Алиса.
– Кто-кто? – Маргарита не смогла удержать смешка.
– Демократ, – с прежней серьезностью ответила ей Алиса. – Он сейчас в команде у Ельцина, помогает устанавливать демократию.
– А-а, – протянула Маргарита. Как отреагировать по-другому, она не представляла.
– Да, он сидит в кабинете, который при коммунистах занимал самый страшный человек, – заявила Алиса.
Маргарита хотела погадать, кого могла иметь в виду девочка, мелькнула мысль о Берии, но тут же, юркая и скользкая, как змейка, несколько даже ядовитая, словно змейка была какой-нибудь гадюкой, другая мысль вытеснила мысль о Берии из головы.
– А он очень большой человек, твой папа, да? – спросила она Алису.
– Он в ранге министра, – с осознанием важности отцовской должности ответствовала ей та.
Ого, прошибло Маргариту. Хотя, конечно, девочка спокойно могла что-то путать.
Мать девочки повесила трубку и выступила из-под алюминиево-стеклянного кожуха.
– Дома! – всплеснула она руками. – Приехала в шесть утра с первым транспортом и отключила телефон, чтобы спать. Никогда в жизни не отключала, тут отключила! Только что поднялась, не имела даже понятия, что здесь сейчас происходит.
Еще один выстрел, выкатившись из-под арки, сотряс воздух. Словно лопнула гигантская железная бочка.
– Вот будут знать, как против демократии выступать, – прокомментировала выстрел женщина.
– Полина! – проговорила Маргарита. – Мы вот, пока вы звонили… мы разговаривали с Алисой… а вашему мужу, скажите, не нужно в его министерство толковых работников-гуманитариев? – Она не выдержала и невольно пустила нервный смешок. – А то у меня сейчас такой статус… безработная. Можете рекомендовать вашему мужу?
Полина смотрела на нее с недоумением и интересом.
И интересом, отметила для себя Маргарита.
– У вас высшее образование, я понимаю, есть, да? – спросила Полина после паузы.
– Филфак МГУ.
– Ой, филфак! – В голосе Полины прозвучало чувство сообщничества. – Не романо-германское отделение?
– Русской филологии.
– А у меня романо-германское, – сказала Полина. И тут же поспешно добавила: – Но все равно, факультет один.
– Факультет один, – подтвердила Маргарита.
– А вы каких убеждений? – спросила Полина.
– Демократических, каких еще, – отважно объявила Маргарита.
– Да, конечно, я не сомневалась, демократических, – подхватила Полина. – Конечно, каких еще.
Ей уже были полные тридцать, старше Маргариты лет на семь, не меньше, но Маргариту это ничуть не стесняло. Опыт прошедшего года выбил из нее все подобные комплексы.
– Всегда есть какие-нибудь вакансии, да? – смягчая вопросительной формой свою наглость, проговорила Маргарита. – Очень даже может быть, что эта вакансия ждет именно тебя, но ни ты о ней не знаешь, ни о тебе не знают.
– У вас есть еще жетон? – вместо ответа спросила Полина. Получила от Маргариты пластмассовый кружочек, ступила обратно к таксофону, быстро накрутила номер и, уже ожидая соединения, прикрыв микрофон ладонью, спросила оттуда: – Вас как зовут?
– Маргарита! – выкрикнула Маргарита.
Полина кивнула и отняла от микрофона ладонь:
– Привет! – Помолчала, слушая, что ей отвечают, и следом, глядя от таксофона на Маргариту, произнесла: – Ты просил меня найти тебе образованную, энергичную и демократической ориентации. У тебя еще нет кандидатуры? Я нашла.
Что ей говорили на другом конце провода, понять по ее лицу Маргарита не могла. Но, повесив трубку и выйдя из-под алюминиево-стеклянного кожуха, Полина сказала:
– Можете прямо сейчас подъехать? Снизу позвоните по внутреннему, подождете немного, вам оформят пропуск – и вы пройдете. Это там сейчас быстро все, по-демократически.
– А где «там»? – не смея верить происходящему и вся внутри вопя от радости, спросила Маргарита.
– На Старой площади, где раньше ЦК КПСС был.
Ни хрена себе, лексикой ее бывшего любовника ахнуло все в Маргарите. Алиса, похоже, ничего не выдумала. А если и выдумала, то не слишком далеко отойдя от правды.
– Только я вас попрошу – сказала Полина. Глянула на дочку, внимательно слушающую их, взяла Маргариту под локоть, развернула, чтобы встать к Алисе спиной, и прошептала жарко и торопливо: – Только я вас попрошу, не говорите, где мы и как познакомились. Раньше были знакомы. А то он, узнает, где я была, убьет меня!
8
Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Эту простенькую народную мудрость с психотерапевтическим привкусом Маргарита повторяла теперь про себя, случалось, по нескольку раз за день. Она стала для нее родом жизненного девиза. К Новому году Маргарита уже два с лишним месяца работала в администрации президента, в должности, до которой другие, отдавшие всю свою жизнь государевой службе, всю эту жизнь росли и дорасти у них так и не получилось.
Муж Полины и в самом деле оказался большим начальником – председателем специальной комиссии при президенте, действительно в ранге министра, и он взял Полину к себе помощником. Ведущий специалист, называлась ее должность в табели о рангах. Эта должность позволяла ей прикрепиться к специальной – кремлевской – поликлинике на Сивцевом вражке, и не только ей, но и матери как члену семьи; мать тут же воспользовалась этим, побегала по врачам – и легла лечиться, а по сути отдыхать в кремлевскую больницу в Кунцеве.
Кабинет, который занимал муж Полины, принадлежал раньше начальнику специального контроля всей коммунистической партии, можно сказать, главе партийного суда, – так что Алиса была недалека от истины в его оценке. Этот глава партийного суда в августовские дни девяносто первого, когда Маргарита была у Белого дома, застрелил жену и застрелился сам, – а кабинет его остался. Он был громадный, в шесть окон, с высокими, четырехметровыми потолками, от двойной, с тамбуром входной двери до противоположной стены получалось метров двадцать, а то и больше. На окнах висели насборенные, торжественные белые шторы, в зависимости от того, насколько их приподнять-опустить, кабинет приобретал нахмуренно-сумрачный или светло-веселый вид. Впрочем, особенной светлотой он не отличался, сумрачность была свойственна ему изначально как некое родовое свойство.
Маргарита сидела в приемной. Вернее, там был ее рабочий стол – замечательная конторка со множеством полочек, по которым так удобно было раскладывать свои бумаги, – но сидела она за ним не часто – присаживалась, не сидела. Два эти с лишним месяца она провела в беспрерывном движении по зданиям администрации. Они все были соединены переходами, виляя по тем, можно было пройти от Старой площади едва не до Красной. Службы, по которым она ходила, располагались в противоположных концах этого канцелярского города, иногда, выйдя в надежде вернуться через четверть часа, она возвращалась через два часа. Маргарита приводила рабочие аппартаменты своего шефа в надлежащий вид. У мужа Полины не было в кабинете необходимой мебели, не было такой мебели и в приемной, и в другой, небольшой комнатке рядом с приемной, служившей прежде кабинетом заместителю партийного судьи, а теперь являвшейся чем-то вроде места для различных неформальных встреч, тоже все было голо. И не было нормальной пишущей машинки – какая-то заедающая, прыгающая, не пробивающая буквы, – хотя в других кабинетах стояли уже и компьютеры, не было ксерокса, чтобы размножить документы, элементарной вешалки повесить пальто. Все это было растащено после самоубийства партийного судьи, и те, кто работал с мужем Полины до Маргариты, не сумели восстановить утраченное. Сарайный облик помещений комиссии угнетал мужа Полины, и первое, о чем он попросил ее, – попытаться придать этому сараю более или менее пристойный вид. Ждать, разослав письма с просьбами, когда им все предоставят, можно было бы годы, и Маргарита пошла по службам сама. Заводить знакомства, устанавливать контакты, требовать ускорить, убыстрить, поторопиться. За два с небольшим месяца появились кресла, диван, журнальный стол для приватных бесед, вешалка и даже холодильник для полного комфорта, который она попросила из обыкновенного куража. Принесли ксерокс, хотя и не новый, не скоростной, но вполне исправный, поменяли пишущую машинку, поставили факс и невдолге обещали компьютер.
Но все же, конечно, она и сидела за своей конторкой – отвечая на звонки, выполняя роль секретаря, писала разные бумаги, переходя затем за машинку, чтобы перепечатать; и сегодня был как раз такой день, что сидела, – сегодня было заседание комиссии. Заседания происходили раз в неделю, она непременным образом должна была присутствовать на них, вести протокол, а также нужно было встретить всех членов комиссии, с каждым перемолвиться словом, предложить кому чаю, кому кофе, а до того еще и приготовить их.
– Рита! – позвал ее из кабинета муж Полины.
Впрочем, он теперь был для нее не мужем Полины, а Артемом Григорьевичем Скоробеевым, это Полина сделалась его женой. Хотя и не просто женой. Они так сошлись за то время, что Маргарита работала помощником у ее мужа, – не могли прожить дня, не переговорив хотя бы пару раз по телефону.
– Рита! – снова позвал Скоробеев. Дверь между ними была открыта, и он звал ее так, обычным образом, не по связи. – Ты мне срочно нужна! Где ты там?!
– Иду! – крикнула Маргарита, опуская телефонную трубку. Она разговаривала как раз с Полиной, и та просила ее последить за мужем. Заседание было последним перед Новым годом, и после него предполагалось отметить приближение праздника, – для этого дела весь холодильник у Маргариты был уже забит бутылками и снедью.
– Наконец-то! – сказал Скоробеев, когда она вошла. Он держался с нею по-свойски, как старший товарищ – действительно демократично. Демократия его и вознесла. Прежде он был рядовым научным сотрудником в заурядном НИИ. И вот из научсотров – в министры. – Я горло надсадил, пока тебя дозвался.
Маргарита промолчала. Ей по ее должности положено было молчать.
Срочно она была ему нужна – вычитать гранки его интервью, которое он давал одной из центральных газет. Гранки валялись у него в портфеле, он о них забыл, сейчас раскрыл портфель – и обнаружил.
– Должны будут сегодня звонить, нужно, чтоб ты просмотрела, – озабоченно-страдающе поджимая губы и наклоняя голову к плечу, сказал Скоробеев. У него была привычка так поджимать губы и наклонять голову, когда он просил о чем-то невозможном для исполнения.
– Когда? Прямо немедленно? – спросила Маргарита. – Сейчас уже все придут. Я не успею!
– Успеешь, успеешь, – ободряюще проговорил Скоробеев. – Закройся там в комнате и вычитай. Ничего, поболтаются тут, подождут, обойдутся без тебя. Вычитай, это сейчас важнее всего. Чтобы там ничего чужеродного не было! Ты знаешь, что я могу сказать, увидишь, если вдруг что не так.
Это было точно: Маргарита знала наизусть, что он может сказать. Скоробеев обожал давать интервью, давал их направо и налево, единственное условие – чтобы издание было демократической направленности, и говорил всем одно и то же, разве что разными словами, она бы могла уже и сама давать за него интервью. Во всяком случае, вычитывать их Скоробеев ей доверял и после нее больше уже в гранки не заглядывал.
Маргарита пошла в комнату, служившую прежде кабинетом заместителю партийного судьи, и заперлась в ней. Интервью было громадное, наверное, на полстраницы, ей требовалось не меньше получаса, чтобы вычитать его внимательно. Она слышала, как в приемной появился один человек, потом второй, третий, толклись там бесприютно в ожидании начала заседания, не чувствуя себя вправе зайти в высокий кабинет без специального приглашения, она дергалась, пыталась невольно угадать по голосам, кто уже пришел, но бросить свое занятие не могла.
Наконец, Скоробеев вышел из кабинета сам, и гул голосов, доносившийся из приемной, исчез. Маргарита вздохнула облегченно. Однако еще минут через пять к ней постучали. Она затаилась. С одной стороны, то, что она здесь, знал только ее начальник, но странно было бы, чтобы он вызывал ее, не дав закончить работы, с другой же стороны, кто это мог быть, кроме него?
В дверь постучали снова. Решительнее и настойчивее. С чувством права постучать таким образом.
Маргарита не выдержала, вскочила из-за стола, бросилась к двери и открыла ее. На пороге стоял начальник отдела, подчиненного Скоробееву как председателю комиссии. На лице у него было выражение недоуменного возмущения.
– Маргарита Евгеньевна, вас все ждут! Странная ситуация: члены комиссии, уважаемые люди, все, как один, собрались, сидят, а помощник председателя комиссии отсутствует!
Он был уже пенсионного возраста, лыс, по-пожилому грузен, возглавлял отдел еще при коммунистах, и Маргарита воспринимала его как замшелое недоразумение, как чудовищного мастодонта, неизвестно каким образом выжившего и существующего сейчас среди людей.
– Извините, Василий Петрович, – сказала она со всею доступной ей строгостью, – вас что, Артем Григорьевич прислал?
– Именно! – воскликнул начальник отдела.
– А он не сообщил вам, о чем меня попросил?
– Не знаю, о чем он вас попросил, – ответствовал начальник отдела, – но меня он попросил позвать вас!
– Иду, – ответила Маргарита. Ничего иного ей не оставалось.
Метнулась обратно к столу, схватила простыню гранок, подобрала ручку и теперь метнулась к двери.
Стол заседаний в кабинете у Скоробеева был полон. Обычно приходили не все члены комиссии, иногда случалось, чтобы набрался кворум, срочно звонить кому-нибудь, умолять приехать, посылать за ним машину, сегодня пришли все. Понятное дело: последнее заседание в году, предновогоднее застолье, возможность погулять. Ни перед кем, однако, не стояло ни чашки кофе, ни чая, не было на столе минералки, печенья – как обычно, заказать это все в буфете должна бы была она.
– Рита… – с суровой укоризной покачал головой Скоробеев. – Нельзя так долго.
Маргарита положила перед ним недовычитанные гранки.
– Не успела последнюю колонку. И два замечания на полях.
– Как не успела? – В голосе Скоробеева было укоряющее страдание. – Сейчас позвонят! Что я скажу?
– Артем Григорьевич! – За время, что работала со Скоробеевым, Маргарита уже научилась вести себя с ним. – Мне продолжить вычитывать?
Мгновение ее шеф мучительно размышлял.
– Василий Петрович, – нашел он затем взглядом начальника отдела. – Начните протокол вы. Рита должна закончить работу.
Начальника отдела, видела Маргарита, всего передернуло. Ее бы, подумала она, на его месте тоже передернуло. Все же он начальник отдела, пятьдесят человек в подчинении, и заставлять вести протокол его – как можно! Однако протестовать против приказа начальства, каков бы тот ни был, – подобное исключалось, и начальник отдела, жарко побагровев шеей, перегнулся через стол, взял с места, приготовленного Маргаритой для себя, чистые листы бумаги и положил перед собой.
Маргарита вернулась в приемную. Теперь она не стала уходить в другую комнату и села дочитывать гранки за свою конторку.
Телефон зазвонил – она как раз заканчивала чтение. Дочитала последние строчки – и сняла трубку.
Обычно, когда заседала комиссия, Маргарита подходила только к телефону правительственной связи – «вертушке», – сейчас звонил не он, но она ждала звонка из редакции насчет гранок и сняла трубку. Она сняла, полагая, что звонит городской телефон, однако это был телефон местный. Единственно, что она не ошиблась и сняла трубку со звонившего аппарата.
Она осознала свою ошибку, только уже начав говорить. Звонил некий человек от поста снизу. Он уверял, что ее шеф назначил ему на это время встречу, он пришел, но пропуск отсутствует.
– Нет, извините, это исключено – отрезала Маргарита. – У нас сегодня заседание комиссии, Артем Григорьевич никак не мог назначить вам встречу на это время.
Но звонивший, торопясь, захлебываясь в набегающих друг на друга словах, стал убеждать ее, что он ничего не выдумывает, так оно все и есть и, видимо, Артем Григорьевич что-то имел в виду, что-то подразумевал, назначая встречу на время, когда заседает комиссия.
Маргарита заколебалась в своей решимости дать неизвестному полный поворот от ворот. Может быть, действительно, ее шеф специально назначил встречу на это время. Может быть, намеревался ввести нового человека в состав комиссии и хотел, чтобы он наглядно увидел, что представляет из себя работа в ней.
– Подождите у телефона, – сказала она.
Начальник отдела, увидев Маргариту, с облегчением оторвался от стопы бумаги перед собой и приготовился передать ее Маргарите. Она, встретившись с ним взглядом, на ходу отрицательно помотала головой и прошла к Скоробееву, сидевшему во главе стола. Дождалась паузы в его речи, положила перед ним бумажную простыню с гранками интервью, указала на свои замечания, вынесенные на поля, и быстро, в несколько слов сообщила о звонке. Скоробеев с недоуменным неудовольствием посмотрел на нее – какие еще посетители сейчас, прочла Маргарита в его взгляде, – и затем лицо его исказила гримаса воспоминания.
– Ах ты, Боже мой, знаю, кто это. Пришел! А зачем ты трубку сняла? – суровея голосом, спросил он тут же. – Ты не должна была снимать!
– Не должна была, – повинилась Маргарита. Что-то странное, двусмысленное почудилось ей во всем том, что говорил Скоробеев, но осознать это не было времени. – Так получилось.
– Вот раз получилось, – наставительно сказал Скоробеев, – сходи к нему вниз и извинись от моего имени. Скажи, что сейчас комиссия, я забыл… в общем, не поскупись на слова, утешь.
– Он на телефоне, – сказала Маргарита. – Ждет.
– Нет-нет, спустись, именно спустись. Пришел – и неудачно, и отказать по телефону… нехорошо! Недемократично!
– Спускаюсь, – приняла к исполнению приказанье Скоробеева Маргарита.
Ей это все было не трудно. Вниз так вниз. На лифте шесть этажей. Что за труд. Она бросила в трубку, чтобы человек подождал ее, и спустя минуту уже была на первом этаже, шла от лифта к посту около стеклянных дверей – солдат в форме и лейтенант из спецслужб в гражданском.
За дверями, в тамбуре стоял, мял в руках шапку лысоватый субъект в пластмассовых очках, лет сорока, сорока пяти, а может быть, и пятидесяти, – Маргарите плохо давалось определение возраста после сорока. Лицо у него было совершенно непримечательное, заурядное, невыразительное лицо, и однако Маргарита его узнала. Она запомнила это лицо на всю жизнь. Это был тот самый зампред из райсовета, которому она должна была дать взятку и не дала. На мгновение, когда проходила мимо поста, показывая свой пропуск, ее охватило тем же чувством робости, что тогда у него на приеме, но она тут же и справилась с этим чувством. Что ей было робеть, да он даже и не помнил ее.
– Артем Григорьевич посылает вам самые свои искренние извинения… – застрекотала она, выходя в тамбур.
– Да? Очень жалко. Как же так… – забормотал зампред, выслушав ее. Невыразительное его лицо, разглядела теперь Маргарита, имело выражение потерянности, оно было словно бы рассыпанное. – Неужели же никак у него не получается встретиться? – спросил он затем.
– Никак, к сожалению, – улыбнулась сочувственно ему Маргарита.
– Телефон тогда, дайте, пожалуйста, телефон, – попросил зампред.
– Пожалуйста. – Маргарита продиктовала ему номер городского телефона, трубку у которого снимала всегда она.
– Нет, домашний, – сказал зампред. – У меня раньше был, мы вместе в институте работали, а сейчас он переехал…
Скоробеев, действительно, совсем недавно, только-только, вот уже при Маргарите, переехал в новую, пятикомнатную квартиру, но давать домашний телефон без его согласия Маргарита не могла никак.
Странно, что у него такое случилось, думала она о зампреде, поднимаясь в лифте на свой этаж.
Онако же, только поднялась, зашла к себе, думать об этом ей стало некогда. Трезвонил городской телефон, – и это теперь оказались из газеты, продиктовала им исправления, сделанные Скоробеевым по ее замечаниям, положила трубку, села, наконец, на свое место за столом заседаний, переняла у начальника отдела протокол – и два часа просидела не поднимая головы.
После чего настало время застолья.
Члены комиссии все до одного были мужчины, она одна женщина, и на нее пала вся подготовка стола: и резать, и раскладывать, и подавать. А там, уже за столом, пришлось принять на себя как единственной женщине и все мужское внимание. Разговор шел, в основном, политический – о ликвидации Советов, о только что прошедших первых выборах в Думу, о раскладе сил в ней, формировании фракций, – но всякий раз, завершив некий круг, возвращался к ее персоне.
– А давайте выпьем еще раз за нашу Маргариту, – поднимал стакан с плещущей на дне водкой доктор юридических наук, профессор, директор научно-исследовательского института. – Я бы сказал «королеву Марго», если бы Риточка не была столь юна и прелестна, напоминая всем своим обликом принцессу. Но у этой принцессы такая рабочая хватка, такие организаторские способности!..
– Да, это уж точно, – подхватывал слова юриста писатель – известнейший, знаменитый, редкая культурная программа по телевидению обходилась без его участия. – Ты, Артем, за Ритой, как за каменной стеной. Смотри, что она из твоих развалин за два месяца сделала. Настоящий современный офис! Прошлые твои помощницы – ни в какое сравнение с ней.
– Это вам, Артем Григорьевич, Бог Риту послал. Истинно Бог, – обласкивая Маргариту светящимся приязнью, благожелательным, солнечно-ликующим взглядом, говорил отец Владимир. – Дай вам Бог, Риточка, счастья!
Маргарита знала и его, слышала о нем, еще учась в университете. К отцу Владимиру все вокруг бегали советоваться, разговаривать о жизни и говорили: если у кого креститься, то у него. Комиссия вообще сплошь состояла из людей известных. Если писатели – то вот такие, которых все время по телевизору; юристы – доктора наук, директора, члены всяких других комиссий; экономисты – мировые знаменитости.
Скоробееву, видела Маргарита, были приятны похвалы в ее адрес.
– Ну, а что же! – отзывался он на слова членов комиссии. – Пришла, познакомились, я сразу увидел: наша девушка! Тут же и распоряжение: оформлять представление, зачислять в штат. Три дня – и все! Чего тянуть, что мы, в прежние времена? Мы без всякой бюрократии, по-демократически. Для того и брали власть.
Он тянулся к бутылке долить себе в стакан водки, Маргарита, помня свое обещание Полине, останавливала его:
– Артем Григорьич! Артем Григорьич!..
Скоробеев послушно подчинялся ей:
– Правильно, Рита, правильно. Останавливай. Не позволяй.
Сама Маргарита пила шампанское и позволяла его себе основательно больше, чем следовало бы. Но это в ней играло счастье. Она чувствовала себя на месте. Ей было хорошо с этими людьми, это был ее круг. В голове у нее, не без иронии по отношению к самой себе, промелькнула мысль: наверное, у них у всех чистые уши. Собственно, эта была даже не мысль, а как бы некая твердая уверенность, и она осознанно перевела свое ощущение в мысль, чтобы лишить патетики.
Еинственное, что ее не устраивало в них, – это то, что все они были стариками. Не в полном, конечно, смысле, но много старше, чем ей бы хотелось. Ощутимо старше. Если бы помоложе – было бы совсем замечательно. Как, интересно, Полина вышла за старика? Хотя, если посчитать, тогда, лет восемь-девять назад, Скоробееву было всего тридцать шесть, тридцать семь. Правда, в любом случае у них с Полиной получалось пятнадцать лет разницы, пятнадцать лет – это, Маргарите казалось, целая пропасть. Да и тридцать шесть, тридцать семь – тоже порядочно, не скажешь, что молодой. Маргарите нравились сверстники. Чуть старше, чуть младше – вот как Атлант. Своего, в общем, возраста. Здесь, в этой компании, она не могла бы отозваться ни на чьи ухаживания. К сожалению.
Домой она ехала на машине. После заседания членов комиссии, чтобы им не толкаться в транспорте, развозили обычно на разгонных «Волгах» – троих-четверых в одном направлении, – и Маргарите обычно тоже доставалось место.
Ехать на служебной машине, ехать по праву – о, это, оказывается, было совсем не то, что на такси или даже в машине любовника. Маргарита познала прелесть езды, когда тебя везут не за деньги и не простым пассажиром, а потому что это так положено по твоему статусу. Неслись, мелькали за окнами вечерние огни, мигали светофоры, гнулись под метельным декабрьским ветром прохожие на тротуаре, а ты сидела в тепле, в комфорте, ревел для тебя невидимый двигатель, спрятанный в подкапотной тьме, и жизнь ощущалась брошенной к твоим ногам, раскатанной перед тобой подобно цветной ковровой дорожке – попирай ее и иди.
Нехорошее было чувство, стыдное, Маргарита стеснялась его в себе, прогоняла от себя, но все же оно каждый раз посещало ее. А сегодня, многократно усиленное шампанским, так и кружило голову. И она даже не могла с ним бороться.
9
Человек звонил, спрашивал Скоробеева уже раз пятый или шестой. Маргарита, отвечая ему, что Артема Григорьевича сейчас нет и сегодня не будет, попробуйте позвонить завтра или послезавтра, испытывала уже такую неловкость, – хоть объяви человеку все как есть. Она и не предполагала, что это так трудно – врать про своего начальника. Врать приходилось всем вокруг: и когда звонили из правительства, и кто-то из руководителей президентской администрации, и всяких других мест – но этому человеку, чей голос она теперь узнавала с первых слов, врать было особенно трудно. Чувствовалось, что дело, по которому он звонит, не просто важно для него, а чуть ли не сама судьба, Скоробеев нужен ему, как последняя соломинка утопающему.
– Что мне записать для передачи Артему Григорьевичу? – отовравшись по полной программе, спросила Маргарита под конец – как спрашивала обычно.
– Да нет, ничего, – стоическим голосом произнес человек. – Буду звонить снова.
Маргарита положила трубку, хлопнула ладонями по столу перед собой, поднялась и быстро прошлась по приемной – до двери и обратно, но не к своему месту у конторки, а к окну за нею. Вид из окна был убогий. Взгляд утыкался в железную покатую крышу соседнего административного здания, снег с крыши был сметен ветром, и несколько ворон, присаживаясь на хвост, катались с нее, бросаясь с конька. В пространство между этой крышей с воронами и крышей другого здания, стоявшего через переулок, виднелись часть Москворецкого моста и угол здания на другой стороне Москвы-реки. Весь вид. Но все же это был вид из окна, он позволял, погрузившись в созерцание, отключиться от самой себя, и Маргарита, как осталась одна в этих трех громадных комнатах, часто стояла у окна, смотрела в него.
Скоробеев скоро уже две недели был вместе с Полиной и дочерью в Германии. Там у него имелись влиятельные и богатые друзья-немцы, организовывали ему за счет некоего фонда полный пансион на горном курорте, нужно только оплатить дорогу, и за время, что Маргарита работала в комиссии, Скоробеев уезжал туда с семьей уже во второй раз. Официального отпуска он не брал, оставляя тот на лето, – ни в прошлый раз, ни в этот. Он никому не был подотчетен, только самому президенту, а ходит председатель комиссии на службу или же нет – президенту не было до этого дела. Права, Скоробеев позвонил из Германии, дал свои координаты – если вдруг что-то чрезвычайное, – но несколько раз предупредил: если только что-то чрезвычайное. Если в высшей степени чрезвычайное!
От идиотичности своего положения, от того, что ей открылось в шефе, на душе у Маргариты было хуже некуда. Она не понимала, как это может совмещаться: демократические воззрения и такое мошенство. И еще ведь откуда-то деньги на проезд. Туда и обратно на троих – это был его годовой оклад!
Телефон зазвонил вновь. Ох, опять, с сердцем подумала Маргарита, ступая к столу с аппаратами и снимая трубку.
Но это была Наталья.
– Ты еще на работе? – изумилась она.
– И еще часа два просижу, – отозвалась Маргарита.
– Чего тебе там?! – вновь изумилась Наталья. – Шефа нет, что ты там делаешь?
– Попкой сижу на телефоне, – сказала Маргарита. – Именно потому, что нет.
– Вот я так и знала, потому и позвонила! – Голос Натальи кипел возмущением. – А когда ты будешь себя готовить? Всю ночь гулять, хорошо выглядеть – часочка три полезно было бы даже сейчас поспать.
– Отлично буду выглядеть, – заверила ее Маргарита, – Руслан твой будет в отпаде.
– Руслан – это твой, – незамедлительно и с резкостью уточнила Наталья. – Мой – это мой, и к нему своими грязными лапами не прикасаться!
– Упаси Боже, – ответила Маргарита, на всякий случай – всерьез.
Сегодня было тринадцатое января – последний день ушедшего года по старому стилю, и они шли с Натальей встречать старый Новый год в ночной клуб. Клуб был безумно дорогой, ни у Маргариты, ни у Натальи не было денег на билет, и они шли туда по приглашению нового друга Натальи – Джабраила. Так его звали. Он был то ли ингушом, то ли чеченцем. С Вадимом, которого сумела взять на крючок на том летнем пикнике, все у нее закончилось, он оказался пустой фишкой, дутой фигурой, неудачливым бизнесменом без основательного дела, и Наталья бросила его, как только все это стало ясно. Джабраил попросил ее привести подругу в пару приятелю, Наталья, естественно, сразу предложила Маргарите, и Маргарита, поколебавшись самую малость, приняла предложение. После того, что случилось летом, она лежала на дне, никуда не ходила, ни с кем не зналась, у нее была стойкая идиосинкразия на любой мужской запах вблизи, но с той поры, как стала работать в комиссии, лед, спеленавший ее, начал помаленьку-полегоньку растапливаться, она почувствовала, как тукнулись в ней вверх, пошли прорастать, вылезая на белый свет, зеленые ростки, зашевелилась, закудрявилась молодая травка, – она бы точно затеяла с кем-нибуь из комиссии небольшой, необременительный роман, если бы только та не состояла сплошь из одних стариков. Нет, больше сидеть затворщицей было невозможно, настала пора выбираться из своей раковины.
– Даю тебе еще полчаса, и чтоб через полчаса духа твоего на службе там не было! – проговорила в трубке Наталья. – Дуй домой, готовься. Я за тебя ответственна. Не понравишься – меня потом мой паяльником прижжет.
Это у нее были теперь самые ходовые шуточки. В таком кругу вращалась. Кошмар. В принципе, Маргарите не хотелось снова в тот круг. Но здесь, в этом, просто не было пока за кого зацепиться. И получалось, что не остается ничего другого, как возвращаться. Впрочем, она надеялась, что это временно.
– Через полчаса выхожу, непременно, – ответила она Наталье.
Через полчаса Маргарита не вышла, но в назначенное время, в половине одиннадцатого вечера, с полиэтиленовым пакетом под мышкой, в котором лежали туфли, стояла, пряча лицо от ветра в воротник, на конечной остановке своего автобуса, ждала машину – светлую «Вольво», как ей было сказано. Машина подкатила, «Вольво», не «Вольво», но светлая точно, задняя дверца открылась, и оттуда высунулась Наталья:
– Прыгай!
Натальин Джабраил сидел за рулем, полагавшийся Маргарите Руслан – рядом с ним, на пассажирском сиденье. Джабраил, пусть и увидела его только в профиль, обнаружил себя вполне интересным молодым мужчиной, с хорошими ушами и даже вроде печатью интеллигентности на лице, Руслан же, тотчас обернувшийся к ним назад и уже всю дорогу не садившийся в кресле нормально, оказался непривлекателен во всех смыслах: какой-то весь коряжистый, бугристый, шишкастый, явно маленького роста и рот – будто дупло в засохшем дереве. А уж говорил он – словно это засохшее дерево и пыталось изъясняться. Отдельными односложными фразами, скрипучим рассаженным голосом – щепки у него там были вместо голосовых связок.
– Ну, ты и удружила мне, – потерянно шепнула Маргарита Наталье, когда ненадолго остались вдвоем – пока Джабраил парковал машину на стоянке, а Руслан, размахивая руками, вроде как руководил им.
– А тебя что, что он платит за твой билет, – это к чему-нибудь обязывает? – отозвалась Наталья.
– Так ты же сказала: паяльником прижжет?
– Вот еще, прижжет он! – фыркнула Наталья. – Ни к чему тебя ничего не обязывает. Они меня попросили – я тебя пригласила. Ты им милость оказала, что согласилась. Пусть они сначала еще докажут, что достойны тебя. Отрывайся по полной программе.
Маргарита поднималась по ступеням крыльца и думала: оторвусь. Что в самом деле, почему нет. Есть возможность – надо оторваться.
На входе в клуб стоял металлоискатель. Около него толклись, пытаясь держаться как можно незаметнее, человек шесть здоровенных лбов, одинаково одетых в черные костюмы, белые сорочки и с бабочками на шеях.
Джабраил с Русланом быстро переговорили на своем родном языке с гортанными всхрапами, велели Маргарите с Натальей постоять возле дверей и, прыгая через ступень, побежали вниз.
– Пошли пушки в машину прятать, – со смешком сказала Наталья.
– Какие пушки? – не поняла Маргарита.
– Которые стреляют, – все так же посмеиваясь, ответствовала Наталья. – Пистолеты. Или револьверы. Не знаю, как их правильно называть.
– Ты что, настоящие? – ахнула Маргарита.
– Ну, не игрушечные же.
– И ты что, у них видела?
– Ой, Ритка, отстань! – В голосе у Натальи прозвучало раздражение. – А ты ни у кого будто не видела?
– Нет, – сказала Маргарита.
– Значит, увидишь, – коротко на этот раз отозвалась Наталья.
Джабраил с Русланом вернулись, все вчетвером, дав охранникам подержать связки своих ключей, они благополучно миновали ворота металлоискателя и оказались внутри.
– Гуляй, девушка! – заступив Маргарите с Натальей дорогу, широко повел перед ними рукой Джабраил.
– Гуляй! – подхватил Руслан, повторяя его жест.
Он действительно оказался мал ростом, как Маргарите и показалось в машине, и жест Джабраила, воспроизведенный им, вышел таким же корявым и коряжистым, как и он весь сам.
С гладко, зеркально выбритым, светлоглазым шатеном, сидевшим через два стола, не скажешь, что атлетического сложения, но с замечательно гордым, красивым разворотом плеч и такою же посадкой головы, Маргарита встретилась глазами, только опустилась на свое место. У него была великолепная модная стрижка – короткие на висках и затылке и длинные на остальной голове, разделенные посередине пробором, падающие на лоб двумя ржаными крыльями прямые волосы, открытое веселое лицо, шелковый темно-синий галстук с карминной редкой полоской и сверкающей крупным камнем золотой заколкой чудесно гармонировал с прекрасным, похоже, что пошитым на заказ, искристо играющим на складках черным костюмом. Шатен, когда встретились взглядами, улыбнулся ей, приветственно помахал рукой, и Маргарита непроизвольно отозвалась ответной улыбкой. Отвела взгляд – и тотчас снова взглянула. А он своего, вероятней всего, и не отводил, и взгляды их опять встретились. Маргарита почувствовала, как где-то внизу спины, у крестца, ее пробрало ознобом. О, это был ее тип, она бы хотела быть здесь не с этим Русланом, а с ним! И он был не слишком старше ее, лет на пять, на шесть, точно, что до тридцати. Почему она здесь не с ним? Почему?
На эстраде, между тем, уже неистовствовал наряженный под клоуна артист разговорного жанра, со страшной силой травя анекдоты, к публике он обращался «Леди и джентльмены». Из дискотеки в соседнем зале прорывалось буханье динамиков на низах – там свое отрабатывал оркестр.
– Девушка! Все твое! – обводя рукой накрытый стол, снова обращаясь к ним обеим в единственном числе, проговорил Джабраил.
– Все твое! – эхом, как в прошлый раз, повторил Руслан.
Ладно, сказала себе Маргарита. Отрываюсь.
– Наливай, – подставила она Руслану бокал, кивая на бутылку красного.
Руслан вырвал из бутылки выкрученную штопором и заново вставленную в горлышко самым кончиком пробку, радостно наклонил над Маргаритиным бокалом.
– Пей, Рита, – сказал он, сразу наполняя бокал до верха. – Пей, сладкая. Девушка пьет – душа играет. Душа играет – жизнь веселая.
– Ой, Русланчик, – засмеявшись, наклонилась к нему, оперлась о его плечо, дунула ему на шею Маргарита, – я вас так сегодня буду веселить, так веселить!
Руслан, плавясь в победной улыбке, обхватил ее за талию, другой рукой дотянулся о колена и сжал его – будто в клещах.
– Веселись, Рита, веселись. Люблю, когда девушка веселится.
Колено было больно, и Маргарита убрала оттуда его руку. После чего, не переставая смеяться, освободилась и от руки на талии.
– Я сказала, не веселиться, а веселить.
– Весели, весели, – согласился Руслан.
Он не уловил разницы.
Джабраил тоже не уловил.
– Ната, весели и ты, да? – сказал он, беря бутылку с красным вином и наливая в Натальин бокал.
Наталья подмигнула Маргарите.
К полуночи, когда Джабраил открыл поднесенное официантом в серебряном ведерке со льдом шампанское и разлил его в дождавшиеся своего часа плоскодонные бокалы, у Маргариты в голове уже был хороший шурум-бурум, и она чувствовала себя вполне готовой оттягиваться по полной программе. Давай, пригласи потанцевать, не дрейфь, посылала она сигналы шатену, то и дело бросая на него взгляды, смысла которых не понял бы только последний олух. И шатен тоже постоянно взглядывал на нее, и что ему было не пригласить ее: за его столом мужского пола сидело больше, чем женского, и он лично, похоже, был свободен. Хотя, конечно, будь она не с кавказцами… подойди пригласи даму у кавказцев – это надо решиться.
Маргарита уже танцевала и с Русланом, и с Джабраилом. Руслан, не обращая внимания на ритм, все время пытался как можно теснее прижать ее к себе, и когда Маргарита уступала, позволяла прижать, ощущала ногой на его коряжистом бугристом теле особо большой и твердый бугор. Она станцевала с Русланом два раза, с Джабраилом раз – и больше у нее не было желания ни с тем, ни с другим. Ну давай, ну пригласи, не телись, понукала она шатена взглядами.
Он встал и пошел к их столу. И оказался, как ей и хотелось, высокого роста, и ничуть не сутулился, гордый разворот плеч и посадка головы были свойственны ему не только когда сидел. И точно шел к их столу, несомненно. Маргарита конспиративно опустила глаза долу.
Она подняла их лишь тогда, когда шатен очутился у стола и, обращаясь к Джабраилу с Русланом, попросил разрешения пригласить на танец их даму. Но приглашал он не ее, он приглашал Наталью!
У Джабраила затрепетали ноздри, кавказец готовился ответить шатену что-то очень, в высшей степени горячее: – Маргарита опередила его:
– Джабочка! Наташа что, не вернется к тебе? Наташа станцует и будет снова с тобой рядом. Она только станцует, Джабочка!
Пусть, если не я, то хотя бы она, такая мысль стучала в голове у Маргариты.
– Нет, это как!.. – вскинулся было Руслан, но Джабраил, махнув рукой, осадил его:
– Хорошо, да. Танцуй, Наташа.
– Что, как потанцевалось? – спросила Маргарита, когда Наталья вернулась из дискотечного зала.
Наталья посмотрела на нее таким взглядом, что Маргарита поняла все без единого слова. Это он тебя приходил приглашать, не меня, значил этот Натальин взгляд. Меня он приглашал для маскировки. И сейчас пригласит тебя.
Но ждать пришлось едва не полчаса. Шатен хорошо маскировался. Если, конечно, она правильно расшифровала взгляд Натальи. Маргарита уже начала сомневаться, правильно ли она его расшифровала. Это она хотела его так понять, а может быть, Наталья совсем не имела в виду ничего такого?
Она уже собиралась позвать Наталью отправиться в женскую комнату, когда увидела, что шатен снова идет к их столу.
И теперь он пригласил ее.
– Да? А почему, Владислав, не меня? – делая обиженное лицо, произнесла Наталья.
Она даже посказывала Маргарите его имя!
Шатен развел руками:
– Вы меня утанцевали, Наташа. Я вас боюсь.
– Один танец, Рита, – поднял палец Руслан. – Я тебя жду.
Поднимаясь, Маргарита рассматривала уши шатена. Уши у него были идеальные.
Ритм, который рубил оркестр, предполагал скачки вокруг друг друга, партнерство на расстоянии не ближе вытянутой руки. Шатен, однако, с решительной полуулыбкой молча обнял ее, привлек к себе, и Маргарита послушно откликнулась на его действие, сама тесно приникла к нему и, закинув руки ему за шею, сцепила их там замком.
– Что, – проговорила она, глядя снизу вверх в его светлые, с торжествующим самоупоением раздевающие ее глаза. – Дождался, наконец?
И почувствовала, что обескуражила шатена, – как и хотела.
– Дождался чего? – спросил он.
– Меня, – сказала она.
По его зеркально выбритому лицу пробежала волна откровенного, острого возбуждения. Ее явление одарило Маргариту уколом удовольствия: приятно вести игру, когда ответная игра под стать твоей.
– Что ты с этими? – сказал он, вжимая ее в себя так, что она едва могла переступать ногами. – Можешь отскочить от них?
– А я что делаю? – не отрывая от него взгляда, произнесла она.
– Я не о танце говорю.
– А я разве о танце? Считай, что их нет. Что они тебе?
Она ощутила животом тугой тычок его мужского естества. И в этом было еще одно удовольствие: что животом. Был бы пониже ростом, тогда бы его возбуждение неприятно напомнило о Руслане.
– О, ты женщина! – сдавленно выговорил он. – Ты женщина!..
Маргариту душило желанием соития с ним прямо сейчас, тут же, в этой скачущей вокруг, трясущейся, толкающейся толпе, под этот грохот и рев динамиков, так многократно усиливающих звуки живых инструментов. Она хотела осязать его в себе, обладать им, отдать себя ему на растерзание – чтобы он расклевал ее до кишок, выпотрошил, опустошил… Она потянулась к нему губами, он тут же ответно склонился к ней, жадно раскрывая рот для поцелуя, но она уклонилась от его губ и, упершись виском в его челюстную кость, жарко впилась ему в шею.
– Владислав!.. – протяжно сказала она, отрываясь от него, но не поднимая к нему лица, водя щекой по тому месту, где, должно быть, теперь у него должен был расцвести кровавый цветок. – Владей славой… Хочешь владеть славой? – Маргарита, наконец, вскинула на него глаза. – Хочешь?
Она не имела в виду ничего конкретного, это так выразило себя в словах сжигающее ее желание, но шатен понял ее слова во вполне определенном смысле.
– Ты тоже Слава? Владислава тоже? Или Мирослава какая-нибудь? Недурно!
– Еще как! – ответила она.
Снова дотянулась до его шеи, вмялась в нее лицом, распаленно прошла языком по хрящу кадыка, захватила губами нежную подчелюстную плоть в ямке над кадыком и, глубоко затягивая в себя, всосалась в нее. Владислав поводил головой, тянул шею в сторону, но не отстранялся, а только перестал танцевать и вжимался ей в живот восставшей твердью что есть силы.
– Вампирша, – сквозь стиснутые зубы произнес он, когда она, в конце концов, оторвалась от него. – Настоящая вампирша!..
– У-у, – вновь устремляя на него свой пьяный, плывущий горячечный взгляд, протянула Маргарита, – я еще не так могу. Знаешь, я как могу? У меня там, – подалась она к нему, нажала на его твердь животом, – знаешь, какая? Я тебя схвачу, так зажму – ты двинуться не сможешь!
Это было абсолютной неправдой, не имелось у нее подобных талантов, но ей сейчас хотелось думать о себе так.
– Вампирша, настоящая вампирша! – повторил Владислав.
Маргарита упивалась восторгом в его голосе.
– Я не вампирша – сказала она. – Я амазонка. Знаешь амазонок? Мы вас пользуем, а потом прогоняем от себя. Некоторых, которые не понравятся, убиваем.
Владислав издал короткий хмыкающий звук.
– В самом деле? – воскликнул он потом. – И не жалко?
– Не-ка, – отозвалась Маргарита. – Чего жалеть. Амазонки не знают жалости.
Владислав постоял мгновение молча и тронул Маргариту продолжить танец. Напор его рук у нее на спине ослаб.
– Ты меня пугаешь, Славочка, – сказал он. – Амазонки меня не интересуют. Зачем мне подвергать свою личность опасности? А, Славочка?
Маргарита не стала пока развеивать его заблуждения касательно ее имени. Это было не к спеху.
– Слава! – сказала она, притягивая заброшенными за шею руками голову Владислава к себе и быстро целуя его – вот теперь! – в губы. – Слава, амазонки на самом деле хотят только одного: чтобы мужчина был сильнее их. Можешь быть сильнее? Можешь?
– Ну? – проговорил Владислав. Он снова вжимал Маргариту в себя так, что невозможно было переступать в танце ногами.
– Увези меня отсюда, – сказала Маргарита, закрывая глаза. – Увези!
Владислав вновь помолчал.
– Не пожалеешь? – спросил он затем. – Готова?
– Готова, – отозвалась она, не открывая глаз. – Прямо сейчас.
– Тогда пойдем, посидишь у себя, – сказал он, – а я разведаю, как тут с ходами-выходами. И опять приглашу тебя танцевать.
– Не хочу танцевать потом. – Маргарита открыла глаза. – Танцуем сейчас.
– Танцуем, – согласился Владислав.
Маргарита посилилась понять своим рассыпающимся пьяным сознанием, зачем Владиславу, чтобы танцевать с ней, нужно сначала разведать ходы-выходы, но все у нее в голове путалось, и ничего ей понять не удалось.
– Танцуем сейчас, – повторила она.
И подняла лицо к Владиславу, чтобы он поцеловал ее в губы настоящим, долгим, обрывающим дыхание поцелуем.
Она не знала, какой танец они танцуют – второй, третий, десятый? – когда около них возник и уперся им в грудь руками, пытаясь развести друг с другом, Руслан.
– Оставь девушка, – гортанно и злобно говорил он Владиславу. – Не твой девушка, оставь! Один танец, так, да? – повернулся он к Маргарите. И схватил ее руку, сбросил с шеи Владислава. – Один танец!
Маргарита, перестав танцевать, смотрела на Руслана и не могла понять: кто такой, что ему нужно, по какому праву.
Нужно было, чтобы Руслан заорал во весь голос, помянул имена Натальи и Джабраила, – лишь после этого в сознании у Маргариты открылась некая дверца, и до нее дошло, где находится и как оказалась здесь.
– Ой, Русланчик, – засмеялась она. – Ой, я совсем забыла о тебе. Вот, говорят, девичья память, да? Настоящая девичья память!
– Пойдем! – рванул ее за руку Руслан.
Руке было больно, и было унизительно, чтобы ее так, на виду у всей дискотеки, тащили отсюда силой, – Маргарита уперлась, ударила по его руке, сжимающей ее запястье:
– Ты что! Отпусти! Не смей!
Владислав заступил Руслану дорогу:
– Эй, абрек, ты как себя ведешь с дамой? Ты тут не в горах!
Руслан, не выпуская запястья Маргариты, взмахнул свободной рукой перед лицом Владислава:
– Не твой девушка, отвали! Пока жив, – добавил он через мгновение паузы.
– Ты угрожать, абрек! – Владислав перехватил его руку у своего лица и попытался вывернуть ее.
Но ему не удалось этого. Руслан выдернул руку, отпустил Маргариту и, будто подскочив, ударил Владислава снизу вверх в челюсть.
Маргарита закричала прежде, чем Руслан ударил. Но она уже ничего не могла предупредить. Руслан ударил, голова у Владислава дернулась, его бросило назад, он налетел на танцующую девушку за спиной, сшиб с ног ее и упал сам. К крику Маргариты добавился испуганный визг сбитой с ног девушки.
Кидаясь поднимать Владислава, периферическим зрением Маргарита увидела, что отовсюду к ним бегут охранники в черных костюмах с бабочками. А из соседнего зала влетают в дискотеку Джабраил с Натальей.
– Он первый! Не я, он первый! – указывая охранникам на поднимающегося Владислава, быстро приговаривал Руслан. – Мой девушка, приставал к ней, я должен терпеть?!
Охранники скрутили и его, и Владислава, и подскочившего Джабраила. Завернули руки за спину и, подталкивая тычками под ребра, быстро повели куда-то через весь дискотечный зал. Маргарита было рванулась за ними, – ее тотчас остановили, схватив сзади за локти. Она снова закричала, и охранник, схвативший ее, рявкнул ей в ухо:
– Заткнись!
– Уберите руки! Как вы смеете! Уберите! – заступаясь за Маргариту, потребовала от охранника Наталья – и нарвалась на то же обхождение, что с Маргаритой.
Другой охранник так же взял ее сзади за локти, и следом их вместе повели к выходу из дискотеки. Оркестр на эстраде не умолкал ни на мгновение, и танцы в дальнем конце дискотечного зала тоже не прерывались.
Маргариту с Натальей провели мимо их стола, заставили взять со своих мест сумочки и повели дальше, к лестнице из зала. Маргарита не сопротивлялась, послушно шла, куда вели, Наталья на лестнице стала артачиться, попробовала остановиться, вырваться.
– Куда вы нас?! За что?! В конце концов у нас деньги заплачены! – заверещала она.
И получила ладонью по губам:
– Заткнись, было сказано!
– Гад, подонок, фашист! – Наталья не хотела сдаваться.
– Заткнись, сучка!
Новый удар по губам был, видимо, ощутимо сильнее прежнего, – она смолкла на полуслове.
Их подвели к гардеробу, руки охранников зашарили в сумочках и извлекли оттуда пластмассовые кругляши номеров.
– Значит, цыпы, – кидая им с гардеробной стойки пальто, сказал один из охранников – чтобы вашего духу через минуту здесь не было. Зарежут вас – ваше дело, но чтобы не в клубе. Нам тут кровь не нужна. Дуйте, цыпы, и без звука!
Ночь на улице стояла тихая, безветренная, с редким, умиротворенно сеющим из небесной глуби медленным снежком, горели фонари, придавая ей особую идиллическую безмятежность, и только проносились на бешеной скорости редкие одинокие автомобили.
– Какого дьявола, что там произошло?! – заблажила Наталья, только они оказались на крыльце. – Тебя, может быть, и за дело оттуда, ушла сбацать – и нет полчаса, а я-то при чем? Что ты там устроила? Куда пропала?
– Отрывалась, Натка, – сказала Маргарита. Ее вдруг стал разбирать смех: вот выбралась в свет из раковины! Выбралась так выбралась. – Отрывалась – прямо с ума сошла. С катушек слетела, абсолютно!
– Ты слетела, а мне теперь что? Что мне теперь Джабраил устроит, ты представляешь?!
Не очень, но все же Маргарита представляла.
– Ты же сама мне сказала: отрывайся, – повинилась она.
– Отрывалась бы, но уж не так же!
– А как еще? – Маргарита снова было пустила смешок – и вдруг осознала: а ведь Владислав не знает, как ее найти, и она тоже не знает, как найти его. Глазам в одно мгновение стало горячо от слез: ей не хотелось так вот бездарно потерять его! Чтобы он вот так глупо и бесследно исчез из ее жизни!
Она оставила Наталью и бросилась обратно к дверям в клуб. Но когда достигла их, те открылись, и охранник изнутри прокричал, страшно тараща глаза:
– Куда, дура?! Хочешь, чтоб прирезали? Тебя специально вперед пустили, чтобы ноги уносила! Сейчас и парнишки твои тут будут – они из тебя бастурму нарежут!
Маргарита вспомнила, как Джабраил с Русланом уходили к машине что-то оставить там и Наталья открыла ей что: пистолеты. Или револьверы. Один черт.
Она шарахнулась от дверей и полетела по ступеням вниз к Наталье.
– Бежим, бежим! – схватила она на бегу Наталью за рукав. – Голосуем, берем машину! Хоть за какие деньги! Скорее!
Наталья мгновение неслась за ней, ничего, видимо, не понимая, – и смысл охватившего Маргариту ужаса дошел о нее.
– Скорее, скорее! – подхватила она. – Хоть за какие деньги! – И не выдержала, мотнула сумкой, ударила ею на бегу Маргариту по спине: – Ты устроила! Ох, ты устроила!..
10
Три недели Маргарита не появлялась дома, боясь мести Руслана. Мать говорила, что по телефону постоянно названивает кавказский голос и несколько раз кто-то приходил, звонил в дверь, просил позвать Риту – все тем же кавказским голосом, – бил в дверь ногами, требуя открыть, и уходил, только когда мать принималась грозить милицией. Почти наверняка это был Руслан, кто другой. Наталья не устояла перед Джабраилом, дала адрес. Она и не отрицала того. «За свою дурость сама, знаешь, и отвечай, – сказала она Маргарите по телефону. – Ты мне голову, если что, обратно не пришьешь.» Маргарита обиделась на подругу. Зачем было говорить тогда, отрывайся по полной программе, ты им оказываешь милость? Она перестала звонить Наталье, не перезвонила, когда следовало, раз, не перезвонила другой, и Наталья тоже перестала звонить ей.
Жила эти три недели Маргарита у Скоробеева. У нее были ключи от его квартиры – с обязательством, данным Полине, поливать цветы, – за всю предыдущую пору их пребывания в Германии она поливала цветы раза три, не больше, теперь, за те несколько дней, что прожила одна до их возвращения, она с лихвой возместила цветам недоданное прежде. Скоробеев с Полиной и Алисой прилетели, Маргарита встретила их дома с готовым обедом, сообщила за обедом Полине, что у нее стряслось, и Полина без долгих обсуждений дала согласие: конечно, живи. Сколько нужно, пока не станет безопасно.
Жить можно было вполне – пять комнат, хватало, и Маргарита еще отработала свое квартирантство, собственной охотой взвалив на себя обязанности Алисиной гувернантки: отпускала Полину со Скоробеевым в кино, театры, на приемы в посольства – пока жила у них, они не провели дома ни одного вечера. Алиса привязалась к ней, почувствовала старшей сестрой и стала называть «моей Ритой». Полина даже начала ревновать дочь к Маргарите: «Чем ты взяла? Она тебя любит больше, чем меня!» Маргарите приходилось успокаивать ее: «Да ну что ты, что за глупость, ты мать!» С Полиной за эти дни, когда они со Скоробеевым возвращались домой, Маргарита тоже наобщалась – до одурения. Сидели в гостиной, перемежая появившееся в продаже «Мартини» с черным кофе, до утра – до четырех, пяти часов. Скоробеев несколько раз приходил, растаскивал их. Приходил он в одних трусах, с вываленным наружу волосатым бурдючным животиком, ругался, отбирал сигареты, выплескивал из рюмок на пол, гнал относить чашки с недопитым кофе на кухню. «У тебя муж в постели один, ты замужем или ты ссыкуха какая?!» – свирепо выговаривал он Полине, старательно обходя Маргариту взглядом. Маргарита за эти дни узнала его, как на работе не узнала бы никогда. И Полина, увидела она, боялась Скоробеева, мигом поджимала хвост, только что так блистательно распушенный в их трепотне с мартини и кофе, торопливо кидала Маргарите: «Ну все, поздно, конечно, пора расходиться», – и торопливо же шла за Скоробеевым в спальню. Маргарите вспоминалось, как тогда, при их знакомстве у Белого дома, Полина воскликнула: «А то он меня убьет!»
На работе, однако, Маргарита держала себя так, чтобы ничем не напоминать Скоробееву о жизни вне работы. Словно бы там, вне работы, это была не она. Она не позволяла себе с ним на работе никакой фамильярности. Всегда к нему, в любой ситуации – по имени-отчеству и все так же подчеркнуто подчиненно, с беспрекословным признанием его начальственности – как бы ни демократично вел себя он.
Впрочем, он тоже начал устанавливать дистанцию. Вернее, она стала возникать сама собой. Он – за это время, что Маргарита работала у него, – словно бы нагулял вес, огрузнел, посвинцовел. Как если бы, превратив его голостенный канцелярский сарай во вполне достойные высокого звания президентской комиссии департаментские покои, она дала ему ощутить свою значительность, головокружительную высоту занимаемого поста. Полина в их ночных разговорах с Маргаритой откровенничала: «Он тебе так благодарен, что ты сделала для него. Так ценит. До тебя двое были, никто ничего не смог. Он себя чувствовал – буто в какое-то подполье приходил. А сейчас приходит – сразу настроение поднимается. Ужасно он тебе благодарен.» Сам Скоробеев, однако, ни за что ее не благодарил. А может быть, думалось иногда Маргарите, преобразования, которые она провела, вовсе не сыграли особой роли в происшедших со Скоробеевым изменениях. А имело значение то, что после расстрела Белого дома, избрания нового парламента, получившего название Дума, у президента не осталось никаких равных ему оппонентов, он сделался полновесным хозяином в стране, и быть в его команде – значило таким хозяином ощущать и себя. Скоробеев стал ходить обедать в спецбуфет для первых лиц администрации, куда не ходил еще и тогда, когда она начала работать у него, заказал себе в сохранившемся от цэковских времен дешевом кремлевском ателье для тех же первых лиц костюм и зимние ботинки. Единственно, что попросил Маргариту не говорить о костюме и ботинках членам комиссии. «Не так, знаешь, поймут», – сказал он. В голосе его прозвучало страдание от невозможности открыться и жить без всякой тайны, лежащей у него на сердце камнем.
Но Маргарита и не собиралась ничего никому сообщать. Ей это было все равно – куда Скоробеев ходит обедать и где шьет костюм. Ну существовал такой буфет и существовал. Существовало такое ателье – и Бога ради. Ее мучило одно дело. Она полагала себя обязанной разрешить его – и не знала, как к нему подступиться.
Устроить встречу того зампреда, что так лихо подмахнул ей бумаги на передачу здания, со Скоробеевым – вот что составляло собой это дело.
Было утро, еще не разошлись рассветные сумерки. Февраль оправдывал свою репутацию властителя метелей – ветер ревел и свистел, будто сорвался с цепи, свевал с крыш и нес по улице снеговую сечку, хлестал ею в лицо, ослеплял, – Маргарита измучилась, пока дошла от метро до своего «подъезда». («Где работаешь? – В третьем подъезде. В двадцатом подъезде», – так было положено говорить о зданиях этого административного города). Она шла, уткнувшись в поднятый воротник пальто, нагибая голову, пряча лицо от ветра, с облегчением, по-прежнему ничего не видя перед собой, кроме ступеней под ногами, взбежала на крыльцо к заветным стеклянным дверям, которые вели в покой, уют, тишину, и налетела на стоявшего около дверей человека.
– Ой! – вскрикнула она невольно, отскакивая назад.
Высвободилась из кокона воротника, глянула, приставив руку к глазам, кто ей загородил путь, и узнала зампреда.
Наверное, она бы не узнала зампреда в такой снеговерти, если бы не видела тогда, перед Новым годом. Но она видела тогда, лицо его заново отпечаталось в сознании – и тотчас узналось. Видимо, он уже порядком стоял здесь, на холоде и ветру – лицо у него было сизо-каленое, брови соединились с очками двумя снежными перешейками.
– Извините, – сказал зампред, не сдвигаясь с места. – Вход вообще-то рядом, вы не туда хотели войти.
Маргарита, не отнимая руки от глаз, огляделась. Действительно: она собиралась сослепу вломиться в стеклянную стену рядом с дверьми, – оттого и налетела на зампреда.
– А вы что здесь стоите? – неожиданно для себя спросила она. Память о той подписи невытравливаемо сидела в ней и побуждала ответить зампреду каким-то участием. – По такой-то погоде, – добавилось у нее.
– Простите? – переспросил ее зампред. – А что, разве нельзя здесь стоять?
– Нет, почему. – Маргарита почувствовала себя словно бы виноватой. – Я интересуюсь… вы кого-то ждете? Вы не Скоробеева ждете?
Увеличенные стеклами очков, залепленных снегом, глаза зампреда оказались в каких-то считанных сантиметрах от ее глаз.
– Скоробеева! Откуда вы знаете?
– Давайте зайдем вовнутрь, – отшатываясь, предложила она. – Здесь же невозможно слова сказать.
В тамбуре между двумя стеклянными дверьми было тихо, сухо, монотонно гудел, вея горячим воздухом, калорифер. Снег на одежде начал мгновенно таять, и, прежде чем продолжить разговор, пришлось сбивать его варежкой. Зампред кинулся было к Маргарите со своей перчаткой, она отказалась от его помощи. Она не видела в нем мужчины. И его ухаживание было ей неприятно.
Хотя, когда промакнула глаза платком и на том остался отпечаток ресниц, подумала с огорчением, что тушь с ресниц вся потекла и веки с подглазьями сейчас – как измазанные сапожным кремом. Но делать было нечего, не убегать же перекрашиваться, ничего не оставалось другого, как стоять перед ним такой.
– Почему вы не тут ждали? – спросила она.
Зампред передернул плечами:
– Охрана у вас… Не хуже, чем при коммунистах.
Маргарита поняла. Секьюритам на посту не понравилось, что он топчется тут, в тамбуре, и они выставили его на улицу.
– Ну, при коммунистах, положим, вы бы досюда вообще не дошли, – сказала она. – Никто бы вас сюда не пустил.
Это Маргарита так защитилась от его язвительного укола. Который, вероятней всего, был сделан им абсолютно нечаянно. Но тем не менее. Ведь так и было: когда здесь находился ЦК коммунистов, свободный проход внутрь дворов был закрыт, на Варварку и Ильинку выходили ворота, в них – будки КПП, и пройти через КПП – только уже с пропуском. Эти мощные, пятиметровой высоты чугунные ворота сохранились до сих пор, однако теперь – всегда открыты, а будки КПП пустовали.
– Скоро, гляди, снова перестанут пускать, – отозвался на ее слова зампред.
На этот укол, уже совершенно преднамеренный, Маргарита сочла лучшим не отвечать.
– Вам что, так нужен Скоробеев? – спросила она.
Зампред молча покивал. Выражение лица у него, вновь увидела Маргарита, как и тогда, перед Новым годом, было какое-то жалкое, прибитое, потерянное, даже не потерянное, а рассыпанное. Да, именно этим словом подумалось ей тогда о выражении его лица.
– У вас что-то случилось, да? – снова спросила она.
– Случилось, случилось, – сказал зампред. – Это, я понимаю, вы ко мне спускались, когда я приходил? Правильно понимаю?
– Правильно, – подтвердила Маргарита.
– И вы мне отвечали, когда я звонил, спрашивал его?
– Ах, это вы! – вырвалось у Маргариты.
Все время, что они разговаривали сейчас, его голос казался ей странно знакомым. Очень хорошо знакомым. Хотя она видела зампреда всего лишь третий раз в жизни. А это, оказывается, звонил, названивал весь январь, спрашивал Скоробеева он!
Зампред сдернул с себя запотевшие в тепле очки, наклонился к Маргарите, и из его незащищенных теперь увеличительными линзами глаз выплеснулась на нее такая боль, – ей стало не по себе. Даже и жутковато.
– Мне очень нужен Скоробеев, очень, – проговорил он. – Я не хочу заявлять, что это вопрос жизни и смерти, но очень нужен, безумно! Мы с ним случайно встретились у нашего общего знакомого, мы все вместе работали, он мне назначил встречу, я пришел… и он переехал, я не могу позвонить ему домой и на работе тоже не могу его поймать!
– Давайте я доложу ему о вас, – предложила Маргарита.
– Что докладывать, мне нужно увидеться с ним, увидеться! – воскликнул зампред. – Скажите вот, во сколько он сегодня будет?
Во сколько он сегодня будет! Если бы Маргарита имела об этом понятие. Мог и вообще не быть. Когда она полчаса назад выходила из квартиры Скоробеева, он, во всяком случае, еще спал.
– Дайте мне ваши координаты, – попросила она зампреда. – Я вам организую встречу, обещаю. Так вы его не поймаете. А то еще, – махнула она рукой в сторону поста за внутренней дверью, – не только вас на улицу выставят, а куда и похуже. Будет вам встреча, ручаюсь.
Недоверие, с которым зампред смотрел на нее, передавая клочок бумажки со своим телефоном, подняло в Маргарите волну оскорбленности.
– Если я говорю, что сделаю то-то и то-то, я это делаю, – сказала она. – Непременно делаю.
Но у нее не получилось организовать встречи ни в тот день, ни через день, прошло дней пять – ничего не выходило. Скоробеев не хотел ее слушать. Она, как ей казалось, хитро и тонко приступала к разговору о зампреде, но только произносила что-нибудь вроде: «А вот помните, человек тогда приходил, перед Новым годом», – Скоробеев обрывал ее: «Потом, потом, не до того сейчас.» Хотя он никуда не спешил и вообще ничего не делал, а, вернувшись с очередного приема, вполглаза смотрел перед сном телевизор.
Ясно было, что он не хочет никакого разговора о зампреде, и Маргарита уже готова была бы и отступиться, не возобновлять разговора, но она обещала! Да еще с таким пафосом!
Зампред позвонил, когда Скоробеев, возвратившись с обеда, проходил через приемную мимо нее к себе в кабинет. Приостановился, прислушиваясь к ее разговору, понял, что разговор идет о нем, и спросил полушепотом:
– Кто?
Зампред, вообще-то, не должен был звонить. У них был уговор с Маргаритой, что позвонит она – как только появится ясность касательно встречи. Но его било нетерпением, и он не удержался.
Дикая, сумасшедшая мысль пришла Маргарите в голову.
– Возьмите, – протянула она Скоробееву трубку.
– Кто? – не беря трубки, нетерпеливо повторил он.
– Это очень важно, – напуская на себя самый деловой вид, сказала она. – Очень важно. Я только забыла его имя. Возьмите.
Она и в самом деле забыла в эту минуту имя зампреда. Хотя знала его теперь прекрасно. Вылетело из головы – не вспомнила бы, как ее ни тряси.
– Скажи, что сейчас возьму, – велел Скоробеев, направляясь к себе в кабинет.
– Одно мгновение. Артем Григорьевич сейчас возьмет трубочку, – произнесла Маргарита в микрофон, подождала, пока в телефоне около уха не настала тишина – знак того, что Скоробеев снял трубку, – и опустила свою трубку на рычаг.
Она была довольна собой. Она обещала зампреду устроить встречу со Скоробеевым – и устроила. Пусть не вживе, а всего лишь по телефону, но уж что получилось.
Минута, не больше прошла с момента, как дверь кабинета за Скоробеевым закрылась, – и она вновь распахнулась. Скоробеев вылетел в приемную, и был он такой красный, будто его обварило кипятком. Маргарита в первое мгновение, не успев ничего сообразить, даже испугалась.
– Что с вами, Артем Григо… – начала она.
И заткнулась.
– Ну зайди! – указал Скоробеев внутрь кабинета.
Она зашла, он захлопнул одну дверь, другую – и заорал, наливаясь медью еще больше, хотя, казалось, больше некуда:
– Ты что себе позволяешь?! Ты кто такая, чтоб мне указывать, с кем говорить, с кем нет?! Ты у меня работаешь или я у тебя? Ты не забывайся, кто ты, а кто я! Забылась?! Ум за разум зашел? Я его тебе живо на место вправлю? «Важно»! «Возьмите»! Как смела?! Как смела, спрашиваю?!
– Но вы же сами назначали ему встречу, – сказала Маргарита. – Он даже приходил, я еще спускалась к нему. Просто вы в неудачное время назначили.
– В неудачное?! – перебил ее Скоробеев. – Не тебе заключения делать! Я знаю, в какое. В какое мне нужно, в то и назначаю. А твое дело маленькое, ты помощник, тебе сказано сделать – сделай, а самовольничаешь – катись к дьяволу, на твое место сколько найдется, знаешь?!
С ясной, рельефной отчетливостью Маргарите вспомнилось: тогда, перед Новым годом, когда зампред позвонил снизу, ей еще почудилось из разговора со Скоробеевым, будто бы он специально назначил встречу на время, когда будет комиссия и никто не возьмет трубку. Но – почудилось и забылось, и больше потом не возвращалась мыслями к тому разговору. А значит, ей это тогда не почудилось. Значит, специально. Чтобы пришел, позвонил-позвонил – и ушел. Убрался восвояси не солоно хлебавши. Но она, полагая, что звонят из редакции, и перепутав городской телефон с местным, сняла трубку.
– Артем Григорьевич, – сказала Маргарита, улыбаясь Скоробееву в лицо, – извините, но вы ведете себя отнюдь не как демократ. Я имею в виду не только то, что вы так орете на меня…
Он не дал договорить ей.
– Заткнись! Ты! Заткнись! – Скоробеев топнул ногой, рука его вскинулась – он был готов ударить ее, но все-таки удержался. – Указывать мне! Вон из моего дома, чтоб к вечеру духу твоего там не было! Чтоб вернусь – не пахло тобой!
Маргарита, не отвечая, повернулась, открыла дверь – одну, другую – и вышла из кабинета. Прошла к своей конторке и села за нее. Но тут же поднялась, встала на стул с ногами и отвесила глубокий поклон – будто перед нею был зрительный зал, а сама она стояла на сцене.
– Мерси, господа, – произнесла она. – Нижайшая вам благодарность. Ваш теплый прием согрел мне душу. Это тепло я навсегда сохраню в своем сердце.
Ее всю трясло, хотелось орать – как Скоробеев, – но, постояв еще немного на стуле, она спустилась с него и занялась своими неотложными делами: сходила в отдел на второй этаж, взяла перепечатанный протокол последнего заседания комиссии, вычитала его у себя за конторкой, позвонила начальнику отдела, сверила данные протокола с его записями, заказала пропуска для корреспондентов с телевидения, пришедших к Скоробееву за очередным интервью, встретила их, сделала им кофе, провела к Скоробееву в кабинет…
За час до окончания рабочего дня, прервав интервью, которое он давал, она зашла к Скоробееву и спросила его, может ли она уйти пораньше, так как сегодня у нее небольшой переезд и нужно уложить вещи.
– Да-да, конечно. О чем разговор, – отозвался он в самой своей демократической манере.
Интересно, в какой бы манере она получила это разрешение, если б не корреспонденты телевидения?
Полина дома была уже обо всем поставлена Скоробеевым в известность. Глаза у нее, когда они с Маргаритой разговаривали, норовили убежать куда-нибудь подальше, и, словно боясь, что Маргарита станет выяснять с ней отношения, она старалась говорить побольше сама, тараторила без умолку, и все – будто винясь перед нею за мужа и одновременно оправдывая его:
– Ой, ты знаешь, он, когда ему поперек, может убить, я правда боюсь. Такой характер. Совершенно кошмарный. А вместе с тем, мы же, бабы, так довести можем, да? Мы же сами от себя спасения, бывает, ищем. Такие мы, бабы. Согласна, да?
Маргарита не собиралась выяснять с ней никаких отношений – при чем здесь вообще Полина? – и, пакуя вещи, укладывая, уталкивая в сумки, односложно поддакивала:
– Соглашаюсь.
– Нет, я серьезно, – не удовлетворившись ее ответом, продолжала Полина. – И тем более этот тип, который звонил… конечно, тебе не нужно было звать Артема к нему. Он так к Артему пристал – просто неприлично. Мало ли, вместе работали! Какой-то идиот, ей-богу! Был зам. председателя в районном совете, а советы же, как Белый дом расстреляли, все упразднили, и вот теперь на работу никуда устроиться не может. Хочет, чтобы Артем помог. Сам за три года никаких полезных связей не наработал, не нужен никому, а почему Артем должен? Почему, да?
– Действительно, – отозвалась Маргарита.
– Нет, ты понимаешь?
– Еще как!
Полина остановила, наконец, на ней взгляд, пытаясь понять, всерьез ли Маргарита соглашается с ней, или же тут ирония.
– Нет, – проговорила она потом, – такой, знаешь, идиот, такой идиот, просто поразительно! Выбрали на демократической волне зампредом, три года сидел – и не наработать никаких связей!
– Идиотичней некуда, конечно, – снова согласилась Маргарита.
Она приехала сюда с двумя сумками, за три недели жизни натаскалось вещей еще на три. Просила мать подвезти к работе то книги, то юбку с шарфом, то альбом с фотографиями. Маргарита вышла на улицу, поймала машину, вернулась за вещами, – и, когда отъезжала от подъезда, в забранный черной чугунной решеткой двор, сыто покачиваясь, неторопливо вкатила черная служебная «Волга» Скоробеева.
Маргарита вернулась домой – и стала жить тихо, как мышь. Шмыгала утром на работу и шмыгала вечером обратно. Кусочек сыра в норку и за кусочком сыра из норки. В известной мере, этот образ, с которым она сейчас ассоциировала себя, соответствовал действительности: в магазинах появились французские сыры с плесенью – «бри», «камамбер», – они безумно понравились ей, и она, несмотря на их дороговизну, старалась, чтобы в холодильнике всегда была коробочка того или другого. Руслан успокоился – и больше не трезвонил и не возникал около дома. Скоробеев после устроенного скандала не появлялся на работе два дня, а когда появился, провел между собой и нею такую черту – как пограничная охранная полоса: не вступи, а вступишь – считай, пропала. Беспрекословное исполнение всех приказаний, без разрешения не открывать рта, высказываться только по делу, и с членами комиссии – тоже никакой неформальной трепотни.
И тем не менее жизнь ее вся сосредоточилась на работе. Шмыг утром, шмыг вечером. Время от времени Маргарита вспоминала о ночи в клубе, точнее, о том шатене, Владиславе по имени, и ощущала в груди сосущую тоску, томление – не по нему, нет, а по тому чувству восторга, парения, упоения своей телесной оболочкой, которое владело ею в ту ночь. И которому не дано было разрядиться освобождающим молниевым разрядом. Но она не позволяла себе купаться в этой тоске. Вытаскивала себя из нее за волосы и хорошенько, насухо выжимала, Выжимала она себя в ближайшем от дома бассейне. Покупала туда после работы билет и целый час, не отдыхая, бороздила его двацатипятиметровое водное поле туда-обратно, туда-обратно. Все же это была редкостная удача – попасть работать в администрацию президента. Первого президента России. Ей повезло, что говорить. И Скоробеев, при всех его недостатках, если сравнивать, – конечно, не чета тем мерзавцам, ее Атланту и бывшему гебисту Семену Арсеньевичу. Идеальных людей не бывает, она тоже, если объективно, совсем не ангел. Маргарита вспоминала, как она заявила о себе Владиславу: «Я – амазонка!» – и вся содрогалась от смеха. Нужно же было залепить такое!
Все у нее еще состоится в жизни – вот ощущение, с которым она жила. Все состоится. Нужно только набраться терпения.
11
О том, что в комиссии должна быть хотя бы одна женщина, говорили все, все время, сколько Маргарита работала помощником Скоробеева. Сама Маргарита была не в счет: она лишь присутствовала на заседаниях, организовывала их, но членом комиссии не являлась. И Скоробеев тоже считал, что комиссии недостает женского взгляда, на заседаниях звучали разные громкие имена – то актрисы, то депутата Думы, то жены умершего правозащитника, которая теперь тоже стала общественной деятельницей, – Скоробеев кивал головой, соглашался, но все тянул, никого из них в состав комиссии не вводил, словно бы ждал какой-то более подходящей, убойной кандидатуры. Он любил это слово – «убойный», «убойно». И то и дело, по тому или иному поводу, говорил: «Нужно, чтобы было убойно. Нужны убойные аргументы. Это совершенно убойный факт!»
Женщина в комиссии появилась только в середине лета. У нее была редкая и странная фамилия – Ципа. Не «Цыпа», через «ы», а через «и» – Ципа. Не депутат, не актриса, не общественная деятельница, – журналистка. Говорили, очень известная, работала в самых престижных изданиях, имеет неоценимые заслуги в разоблачении коммунистической власти, а последние года полтора находилась в Америке, там ей дали специальный грант – то ли кого-то учила, то ли училась. Ее звали Аркадия. И у отца ее тоже было необыкновенное имя – Серапион, и потому она была Аркадия Серапионовна. Аркадия Серапионовна Ципа. Маргарите это понравилось Не имя, а новогодняя елка.
Имя было – наряженная, увешанная серебряной мишурой елка, а дверь открылась – и в приемную вошел один большой сильный мускул. Так показалось Маргарите. Такое у нее возникло впечатление. На миг ее даже охватила некая робость, род гипнотической скованности кролика перед удавом. Хотя в вошедшей чисто телесно не было ничего атлетического. Никакой «накачанности». Но эта мускулистость была в том, как она шла. Как держала голову. Как смотрела. Во всех ее движениях. И в манере вести разговор, когда заговорила, тоже была эта яростная, неукротимая мускулистость.
В новое посещение комиссии – уже не гостевое, а рабочее, на заседание – Ципа принесла свою последнюю статью – сразу несколько экземпляров газеты. Прошу, вручала она газету каждому вновь пришедшему. Получалось это у нее так, словно бы тот для того только здесь и появился, чтобы получить газету с ее статьей. Четвертая страница, добавляла она указующе, там увидите.
Маргарита получила газету первой. И, пока все собирались, толклись в приемной, обменивались новостями, расспрашивали друг друга о самочувствии и делах, успевая наливать чай одному, кофе другому, сумела прочитать статью.
Статья была убойная – любимое слово Скоробеева тут было бы кстати. Рука у Ципы не знала жалости, резала и колола врага без пощады, охаживала по всем уязвимым местам до кровавого месива. Впечатляющая была статья. От ее чтения у Маргариты осталось ощущение чего-то тяжелого, железного, подобного танку, что прокатилось по ней.
Ципа, видела она, пока читала, постоянно поглядывала на нее – внимательным, как бы ожидающим, требовательным взглядом. Словно Маргарита что-то должна была ей; должна – и не вернула. Но непременным образом обязана будет вернуть.
Все собрались, расселись в кабинете Скоробеева за совещательным столом, комиссия начала работу, – и четыре часа пролетели одним жарким, спрессованным в черную вневременную бездну оглушающим мигом. Маргарита, вся еще в жару прошедшего заседания, полыхая внутри раскаленной печкой, поднялась, бросилась в приемную: вызывать машины для разъезда, формировать группы, – Ципа, заступив дорогу, перехватила ее:
– Риточка, милая моя! Я наблюдала за вами, когда вы читали мою статью. У вас на лице была такая буря эмоций! Как вам статья? Мне очень любопытно ваше мнение.
Маргарите было и некогда, и вовсе это не входило в ее намерения – обсуждать с Ципой статью, – она развела руками, извинилась, обогнула Ципу и протиснулась мимо нее в двери. Плюхнулась на свой стул за конторкой, сняла трубку, набрала номер гаража…
Когда, утрясши все с гаражом, записав номера выделенных машин, она подняла от конторки голову, то увидела перед собой лицо Ципы. Та стояла с другой стороны конторки, сложив перед собой на полках руки, смотрела на нее и ждала ее внимания к себе.
– Нет, Риточка, не думайте от меня так просто отделаться, – тотчас, как Маргарита встретилась с ней взглядом, проговорила Ципа. В голосе ее была безапелляционная требовательность. – Вы меня заинтриговали своими эмоциями. Я хочу знать ваше мнение. Как представителя молодого, свободного поколения. Ведь вам уже не известно, что это такое, когда плющат душу плитой марксистско-ленинской идеологии.
– Почему же? – Та кроличья робость – словно перед удавом, – что охватила Маргариту при первом посещении Ципы, поднялась в ней снова. – Я еще сдавала экзамены по политэкономии. И по марксистско-ленинской философии тоже.
– Тем более, – удовлетворенно сказала Ципа. – Давайте пойдем в ту вашу, приватную комнату, поговорим. Ничего, останутся мужчины без вас, побудут пять минут одни, им без женщин побыть, в собственном обществе, очень даже полезно.
Маргарита сдалась. Ципа была таким же членом комиссии, как все остальные, и имела право на внимание к себе ничуть не меньшее, чем они.
Они прошли в ту, вторую комнату, где когда-то сидел заместитель застрелившегося главы партийного суда, Ципа закрыла дверь, прошла к креслу и села в него, забросив ногу за ногу.
– Будете мои? – спросила она, доставая из сумочки пачку «Мальборо». – Настоящие американские, не те, что здесь у нас продаются.
Маргарита, поколебавшись, отложила свой «Вок» и взяла сигарету из пачки Ципы. Что говорить, «настоящие американские» – это соблазняло, трудно было устоять.
– С марихуаной, – проговорила Ципа, когда Маргарита ткнулась сигаретой в поднесенный ею фиолетовый язычок зажигалки.
Маргарита невольно отпрянула.
По лицу у Ципы растекалась плотоядная улыбка заслуженного удовольствия.
– Если бы даже и с марихуаной, – сказала она. – Я, конечно, не рискнула везти, но в Америке, особенно в молодежных тусовках, – это обычное дело. Такой после этого секс – в жизни не имела. А вы разве не пробовали?
Маргарита пробовала, не без того. Пять лет на Ленгорах и не попробовать – такое исключалось. Только она пробовала гашиш, не марихуану, и ей не понравилось.
– Что-то на меня не произвело впечатления, – ответила она.
Ципа, продолжая держать зажигалку горящей, снова протянула ее Маргарите.
– Значит, у вас еще все впереди. В вашем возрасте я не смела и мечтать о чем-то подобном.
Ей, как понимала Маргарита, было около сорока, может быть, лет тридцать семь, а может быть, тридцать девять. Все же там, после тридцати, Маргарита плохо чувствовала возраст. Во всяком случае, Ципа была ощутимо старше Полины – это уж точно. У нее был и муж, и двое детей, но в Америке она жила без них.
Маргарита прикурила от поднесенного огня, отошла к столу со стоящим на нем ксероксом и села на свободный угол, свесив вниз ногу.
– Если марихуана так хороша и безвредна, – спросила она, – почему же в Америке столь усиленно борются с наркотиками?
– Созреет и Америка до легализации. – Ципа тоже прикурила и бросила зажигалку обратно в сумочку. Зажигалка была у нее эффектная – тяжелая, металлическая, со сменяемыми баллонами. – В Голландии, например, – пожалуйста, в любой аптеке. Нужно только знать меру. Как и в алкоголе. Настоящая демократия – это свобода выбора. Знаешь опасность, но хочешь губить себя, колоть тяжелые наркотики – губи. Твой выбор!
Маргарита внутренне содрогнулась. В ней вновь, едва не физическое, возникло ощущение, что по ней, тяжело громыхая и скрежеща, катит что-то тяжелое, похожее на танк.
– Вы хотели о статье, – сказала она. – Мое мнение. По-моему, феноменальная статья.
– Ну-ну. Да. Так, – с жадностью вскинулась Ципа, затягиваясь и тут же выпуская дым. – Понравилась статья, да?
Она хотела похвал! Фимиама! Хотела надышаться им, напитаться, насытиться, хотела его, как наркоман наркотика, и вовсе никакое мнение Маргариты ее не интересовало. Просто другие не прочли статью, а Маргарита прочла, и вот обязана была окурить ее благовонием.
С какой стати?! – встало в Маргарите все на дыбы.
– Тяжело, – проговорила она.
– Что тяжело? – Ципа отвела руку с сигаретой от губ. – Тяжело читать? Ну, это бред! У меня очень легкое перо, еще никто никогда не говорил мне, что меня тяжело читать.
– Нет. – Маргарита, напротив, поднесла сигарету ко рту, затянулась и, не торопясь, выдохнула дым. – Я не о стиле. Я о тоне. Об интонации. Вы будто катком катите.
– Катком? – переспросила Ципа. И пожала плечами. – Конечно. Именно. Это и было моей целью. Значит, я ее достигла.
– Нет, по мне катком, По читателю.
– По читателю? – снова переспросила Ципа. – Ну что ж… По нам по всем не мешает пройтись катком. Чтоб выжать из нас рабов коммунизма. До капли чтоб. Выдавим – только тогда демократия и восторжествует.
Маргарита, нося сигарету с картинной неторопливостью, снова затянулась.
– После катка от человека ничего не остается. Нечему будет и торжествовать.
– Перестаньте. – Ципа рывком подняла себя с кресла, шагнула к столу, на углу которого сидела Маргарита, загасила сигарету о лежавшую на ксероксе стопку бумаги. Бросила белое смятое коленце на черное зольное пятно и, переступив ногами, оказалась перед Маргаритой, прямо напротив нее и так близко, что попробуй Маргарита встать, у нее бы это не вышло. – Вы, Риточка, удивительно извращенно сумели прочесть меня. Статья замечательная, я горжусь ею. У меня не бывает плохих, а эта особенно удачная. – Она сделала паузу и затем спросила: – Вы, случаем, сами не пишите? Ничего?
Оттого, что Ципа стояла так рядом, так близко – едва не между ее ногами, – Маргарите было неуютно, она чувствовала, что кураж оставляет ее, и не знала, как заставить Ципу отойти от себя.
– Нет, – сказала она, – не пишу.
– А что вы заканчивали?
– Филфак.
– Да, филфак – не журфак. Образование получишь, а судьбу строить – кирпич не тот.
Лицо у Ципы странно изменилось. На нем не было сейчас никакого выражения: один гладкий лицевой мускул, и лишь. Не отрывая взгляда от Маргариты, она отступила от нее, постояла так и двинулась к двери.
– Простите, – позвала ее Маргарита. Ей и не хотелось спрашивать, и не могла не спросить, – так ее задели слова Ципы. – Вы о чем, когда о судьбе? Что вы имели в виду?
Ципа остановилась и вновь обратилась лицом к Маргарите.
– То имею, что так и будете сидеть в «чего изволите?» У мужиков в подчинении. Что, устраивает вас ваша работа?
– Вполне. Пока, во всяком случае.
– А и не будет устраивать – куда денетесь. Придется терпеть.
– Почему это?
– А потому что деться вам некуда будет, говорю же.
– Почему? – повторила с настойчивостью Маргарита.
Лицо у Ципы по-прежнему оставалось одним гладким мускулом без всякого выражения.
– Вы кто, женщина? Женщина, не мужчина. А живем мы в каком мире? В мужском. Чтобы стать равной мужчине, нужно быть независимой. Как женщина может стать независимой? Выбрав профессию, где нужны именно ее женские качества. Они, и никакие другие. А это только творческие профессии. Почему женщины всегда рвались в актрисы? Или в писательницы?
– Но не все же одарены актерски. Не все имеют склонность к писанию.
– А я вам о чем? Именно. Так что, Риточка, судьбу я вашу провижу насквозь. «Чего изволите». И вы смеете судить меня? Да ни в жизнь!
После такого уж точно следовало прекратить разговор, ни слова больше, но Маргарита все так же не чувствовала себя способной поставить в нем точку; хотела – и не могла. Она только соскочила со стола и на той же стопке бумаги, рядом с сигаретой Ципы, загасила свою.
– Вы считаете себя кем-то вроде амазонки, да?
– Кем? Амазонки? – Наконец в лице Ципы вновь промелькнуло что-то живое – вроде отвращения. – Еще не хватало! Амазонка живет в своем, женском мире, во вражде с мужчиной. А должно – вровень с ним, в его мире. По его законам.
Вот теперь Маргарита была свободна от нее. Теперь Ципа сказала все, что Маргарите хотелось услышать.
– Я согласна быть амазонкой, – произнесла она. – Мне этого хватит. Я не бык с яйцами.
И быстро двинулась мимо Ципы к двери. Последнее, про быка, конечно, не следовало говорить. Точно, не следовало. Не удержалась.
Ципа, в отличие от нее, не ответила Маргарите. Но в глазах Ципы, в последний момент, когда проходила мимо и еще видела их, Маргарита прочитала горячее, страстное обещание: не прощу! ни в жизнь!
Ну и пожалуйста, проговорила Маргарита про себя, открывая дверь в приемную.
Там ее уже заждались. Машины, оказывается, пришли, шоферы звонили снизу, а без нее никто не мог разбиться на группы – чтобы и всем разместиться и чтобы в одном направлении.
– Притворяетесь, господа! Никогда не поверю в такую вашу беспомощность! – с преувеличенной патетикой возгласила Маргарита.
И принялась делить всех на четверки.
Им с Ципой было в одном направлении, и лучше бы всего было ехать одной машиной, но Маргарита сумела подобрать себе маршрут так, чтобы сесть отдельно от нее. Каждый, перед тем, как покинуть приемную, полагал необходимым подойти к Маргарите и попрощаться с ней. Ципа, одевшись и выходя из приемной, на Маргариту даже не взглянула.
12
– Ой, ты не можешь себе представить, как она его достала! Он прямо с ума сходит от нее! – Голос у Полины в телефоне звенел. – Ей все что-то нужно, все что-то не так, все не по ней. Прямо с ума сходит, буквально!
– Ну так и зачем он ее терпит? – спросила Маргарита. – Что за нужда?
– Ой, ну что ты! – отозвалась Полина. – У нее столько знакомств в Америке. У нее там и в конгрессе, и в сенате, и в университетах. А у Артема в Америке никаких зацепок, нужно же как-то с Америкой завязывать отношения. Он даже сам в Америке не был ни разу. Не говоря уже о том, чтобы нас с Лиской вывезти…
Полина была с Маргаритой прямодушна и непосредственна до того, что иной раз Маргарите казалось, не род ли уж это хитрости? Их отношения, несмотря на ту историю с зампредом и полное прерывание всяческого неформального общения Маргариты с самим Скоробеевым, ничуть не изменились, и Полина, случалось, докладывала Маргарите о таких семейных делах, знать о которых Маргарите никак не следовало да и не хотелось. Похоже, что Полине не с кем больше было поделиться. О Ципе она говорила с тем бо́льшим удовольствием, что ей было известно от Маргариты об их взаимной антипатии. Того, что такими разговорами продает мужа, она словно бы не понимала. Или понимала, но считала это в порядке вещей? По принципу, проблемы начальства – твои проблемы?
От мыслей об этом Маргарита испытывала иногда едва не физическую тошноту. Ей хотелось простых, ясных отношений со всеми и во всем, работать, делая свое дело – как можешь, сколько можешь, выкладываясь до дна, – и все, больше ничего, а получалось, что дело обрастало всякими дополнительными условиями, обязанностями, занятиями, и они становились главным.
Дверь приемной раскрылась, и в ее проеме возникла Ципа.
– Все, счастливо. Предмет нашего разговора, – произнесла Маргарита в трубку – пока Ципа еще не могла слышать ее.
– Ой, ну надо же, опять! – воскликнула Полина. – Танк, настоящий танк. – И попрощалась: – Ладно, тебе тоже счастливо. Последи, если будет выпивон, чтобы Артем не злоупотреблял.
Накануне был день рождения одного из членов комиссии, многие по такому случаю приходили на заседание комиссии с сумками для застолья, и тогда после заседания устраивалось еще одно: уже с заздравными речами.
– Что, никого еще нет? – проговорила Ципа, проходя в приемную.
После того их разговора в маленькой комнате она больше никогда не здоровалась с Маргаритой.
– Нет, рано еще, – сказала Маргарита.
– А Артем там? – снимая дубленку, помещая ее на вешалку, ткнула Ципа пальцем в сторону кабинета.
– Нет еще, – с прежней короткостью отозвалась Маргарита.
– Тогда, если я кому понадоблюсь, я на его месте, – тоном приказа сказала Ципа и, раздирая на ходу расческой волосы, прямиком направилась к кабинету, распахнула и без того раскрытые двери во всю ширину, вошла и плотно закрыла их за собой. Было слышно, закрылись следом и двери внутренние.
Она давно уже взяла себе за правило приходить минут за сорок до начала заседания и, обосновавшись в кабинете Скоробеева на его месте, звонить по телефону правительственной связи. Таких телефонов было два, АТС-1 – для самого высшего правительственного круга, и Ципа звонила исключительно по нему. Телефон АТС-2 стоял на столе и у Маргариты, трубку у него снимала обычно она, а аппарат АТС-1 стоял только у Скоробеева. Иметь возможность позвонить по АТС-1 значило гарантированно попасть на само первое лицо, а не на помощника. Звонком по АТС-1 разрешались во мгновение ока все проблемы, которые до этого нельзя было решить долгие недели и месяцы. Но самое главное, пользуясь этим телефоном постоянно, как бы оказывался сопричислен к тому властному кругу, которому было положено пользоваться АТС-1, принадлежал к нему по полному праву, становился в нем своим, и с тобой уже нужно было считаться именно как со своим. Скоробеев, приезжая к началу заседания и обнаруживая Ципу на своем месте со снятой трубкой АТС-1, приходил в ярость, но обрушивалась она неизменно на Маргариту. «Я ее не должна была пускать?» – спрашивала Маргарита. «Не должна, не должна! – багровел Скоробеев. – Чтобы в следующий раз не смела!»
Однако остановить Ципу, не пропустить – это было Маргарите не по плечу. И она только изобрела способ избегать скоробеевского гнева: перед тем, как появиться Скоробееву, заходила в кабинет, начинала готовить совещательный стол к заседанию, опускала-поднимала шторы, переставляла с места на место стулья, все это досаждало Ципе, и она сворачивала разговор, клала трубку, оставляла скоробеевское кресло.
И сегодня, минут за десять до того, как, по ее расчетам, Скоробееву должно было приехать, Маргарита по-обычному зашла в кабинет и приступила к своим обычным делам – прежде всего стала раскладывать на столе папки с материалами обсуждения. Ципа, схватила она периферическим зрением, закрутилась на кресле, хлопнула по столу рукой, а потом, прикрыв трубку ладонью, громко произнесла:
– Потрудитесь оставить меня, настоятельно попрошу, одну! Вы мне мешаете!
Чего-то подобного Маргарита ждала всегда и была к этому готова.
– Аркадия Серапионовна, – сказала она, даже не взглядывая на нее, – вы вообще не имеете права разговаривать по этому телефону, и потрудитесь поскорее закончить свой разговор.
– Голубушка! – Ципа повысила голос. – Кто вы такая, чтобы мне указывать?! Знайте свое место! Это вам не цековские времена, когда каждый инструкторишка мнил себя царем и богом!
– Времена не цековские, но пользоваться старыми цековскими цацками приятно, да? – Маргарита, наконец, взглянула на Ципу и указала движением подбородка на трубку аппарата АТС-1 у Ципы в руках.
Цель ее была достигнута: через мгновение паузы Ципа отняла ладонь от микрофона и произнесла в него:
– У меня тут возникли некоторые помехи. Давайте я к вам подойду. Да, прямо сейчас.
Трубку на рычаг она положила с такой кроткой осторожностью, что въяве было видно, до чего ей хотелось эту трубку швырнуть. Но мускул ее тела, направляясь к выходу из кабинета, прошил воздух в полуметре от Маргариты с железной весомостью тяжелого артиллерийского снаряда.
Она ушла, и через какие-нибудь минуты две появился Скоробеев.
– Что? Как дела? Вижу, опять раньше всех? – заметил он дубленку Ципы на вешалке. Шагнул к двери в кабинет и заглянул внутрь. – Что? Где? Отошла куда-то?
В голосе его прозвучало удовлетворение, что Ципа не сидит на его месте с трубкой у уха.
– Отошла, – коротко ответила Скоробееву Маргарита.
Ципа вновь появилась в приемной – Скоробеев даже не успел зайти к себе в кабинет. Лицо ее было гнев и исступление.
– Артем, что такое?! – с этими гневом и исступлением обрушилась она на Скоробеева – так, словно Скоробеев, когда уходила, здесь был и здороваться с ним нет никакой нужды. – У нас что, мне непонятно, цековские времена возродились? Почему я никуда не могу пройти, что за посты, в чем дело?!
– Подожди, подожди, – забормотал Скоробеев, выставляя перед собой руки – впрямь защищаясь от нее. – Какие посты, в чем дело? – И повернулся к Маргарите. – В чем дело, почему?
В чем дело, Маргарита уже поняла. Но не смогла отказать себе в удовольствии уточнить у Ципы, что она имеет в виду.
– О чем речь? – осведомилась она бесстрастно.
– Да, о чем речь? – снова повернулся Скоробеев к Ципе.
– Как о чем! – воскликнула та. – Почему меня никуда не пропускают? Стоят молодчики, требуют какой-то особый пропуск! Снова, как в прежние времена?!
Теперь Скоробеев, с гримасой страдальческого недоумения, поглядел на Маргариту:
– Почему не пропускают? Какой такой особый пропуск?
Он тоже все понял, но объяснять Ципе, что значат молодчики, требующие от нее пропуск, – получалось как бы взять на себя ответственность за них, и он этой ответственности брать не хотел. Скоробеев выставлял перед собой заслоном Маргариту, защищался ею, словно щитом, и Маргарите, сколь того не хотелось, не оставалось ничего другого, как принять удар на себя.
– Они требуют не особый пропуск, – сказала она Скоробееву, а совершенно обычный. По которому ходите вы, по которому прохожу я.
Вопрос задал ей Скоробеев, ему она и отвечала, но следующий ход естественным образом сделала Ципа:
– Почему раньше там никого не стояло, я ходила абсолютно спокойно, а теперь не могу?!
– Наверное, потому, что снова наступают прежние времена – вернула ей Маргарита ее же слова.
Постов в коридорах-переходах между зданиями и в самом деле не было еще совсем недавно. Иди свободно от Старой площади до Красной. Но перед самым началом военных действий в Чечне каждый переход был перекрыт. Стояли двое – штатский и в форме, – просили потвердить право на то, чтобы пройти в соседнее здание, и сейчас, когда вместе с началом нового года в Чечне вовсю загрохотало, эта мера предосторожности уже ничуть не удивляла. Собственно, для самой Маргариты, как и для Скоробеева, посты ничего не значили: показывали свой пропуск – и шли куда нужно. Но Ципа, как и все остальные члены комиссии, проходила по общему, списочному пропуску, лежавшему под стеклом у дежурных на посту в подъезде, личного пропуска у нее не было, и, кроме этого здания, никуда больше она теперь попасть не могла.
Ответ Маргариты Ципе вывел из себя прежде всего Скоробеева.
– Какие прежние времена?! – с яростью, по-обычному наливаясь медью, проговорил он. – Если бы они наступали, меня бы уже здесь не было. И я бы не стал ждать, когда попросят, я бы сам тут же покинул эти стены. – Быстрым жестом Скоробеев обвел руками вокруг себя. – Я за это не держусь! Мне это само по себе просто так не нужно!
– Только я почувствую запах прежних времен, моей ноги здесь не будет! – Ципа смотрела не на Маргариту – на Скоробеева. Гнев, звучавший в ее голосе, превосходил негодование Скоробеева многократно. Это была расплавленная сталь, готовая испарить любого во мгновение ока, когда у Скоробеева температура едва достигала уровня белого каления. – Я не позволю использовать свое имя в грязных делах!
– Кадя, да я тоже, я же говорю, – вмиг пасуя перед ней, вновь забормотал Скоробеев. – Я и говорю, ничего такого… что ты! Что нужно, – перевел он взгляд на Маргариту и даже шагнул к ней, в глазах его Маргарита прочла беспощадное требование брать все на себя и не сметь фардыбачить, – что нужно, чтобы Аркадия Серапионовна беспрепятственно могла пойти куда ей требуется?
Он прекрасно знал сам, что нужно. И Маргарита могла указать ему на это. Но запас ее возможностей противостоять Скоробееву был исчерпан.
– Нужен личный пропуск, – коротко сказала она.
– Какой личный пропуск? Рита, давай яснее! – Скоробеев почти кричал.
– Такой же, как у вас. Или, в крайнем случае, у меня.
Скоробеев по своему пропуску мог свободно пройти даже в Кремль, Маргариту по ее пропуску в Кремль не пропустили бы.
– Так почему у Аркадии Серапионовны его нет?! – вопросил Скоробеев.
Это уже было слишком. Словно иметь или не иметь Ципе пропуск зависело от Маргариты!
– А у кого он есть из других членов комиссии? – спросила она.
У нее возникло впечатление – она как бы поставила своим вопросом перед Скоробеевым стену. Он налетел на нее – и остановился. Остановкой было его молчание. Смотрел на Маргариту бешеным, раскаленным взглядом и молчал.
– У Аркадии Серапионовны такой пропуск должен быть! – произнес он затем.
Скоробеев не перемахнул через стену, не обошел, он проник сквозь нее – словно какой-нибудь иллюзионист. И в тоне его было такое, что уже окончательно лишало всякого смысла возможные Маргаритины объяснения.
– Займись этим вопросом! – добавил Скоробеев, быстро глянув перед тем на Ципу.
Лицо у Ципы дышало радостным ублаготворением.
Доктор наук, профессор, директор института, у которого накануне был день рождения, пришел с сумкой, полной бутылок и снеди.
– Ритулечка, организуем? – передавая ей сумку, принял он ухарский вид.
– Нет сомнений, – отозвалась она, демонстрируя ответной залихватскостью тона предстоящее удовольствие.
На самом деле никакого удовольствия от этих застолий она теперь не получала. Уже почти годовой давности крик Скоробеева: «Ты кто такая?!» – стоял в ушах, не исчезал, как ни силилась избавиться от него, и все отравлял. Она не чувствовала больше того единения с ними со всеми, какое было поначалу, той прежней полноты жизни, сидела с ними за столом – и все было чуждо, не вбирало в себя, напротив – отторгало. Хотелось, чтобы застолье скорей закончилось, в машину – и домой.
Впрочем, застолье могло бы быть и много хуже – останься на него Ципа. Вот уж было бы удовольствие, если б она осталась. Но она ушла с заседания, не досидев и до середины. Она редко досиживала до конца, обычно уходила раньше. «Дела!» – коротко бросала она Скоробееву, поднимаясь со своего места.
Маргарита, как ей это не было в тягость, села рядом со Скоробеевым. Она обещала Полине следить за ним, не позволять увлекаться рюмкой и не могла нарушить данного слова.
– Только не говори мне, что не можешь этого сделать! – неожиданно, поворачиваясь к ней, сказал Скоробеев. – Ясно? Не смей говорить!
– Вы о чем? – Маргарита не поняла.
– О пропуске, о чем. У Ципы такой пропуск должен быть.
– Вы серьезно?
Чего-чего, а вот этого Маргарита не могла и предположить: что Скоробеев вполне серьезно предлагал ей заняться пропуском для Ципы. Она полагала, что он это все для красного словца, демонстрируя Ципе свою дружбу. Личный пропуск выдавался только тем, кто работал в штате, члены комиссии в штате не состояли, и получить такой пропуск… да для этого требовался приказ главы администрации о зачислении человека на работу!
– Я серьезно, – ответил ей Скоробеев. – У Ципы такой пропуск должен быть.
Маргарита помолчала. Это было немыслимо, чего он требовал.
– Тогда занимайтесь им сами, – сказала она. – Это вне моих возможностей.
– Как это вне? – Скоробеев пристукнул о стол рюмкой. Такое бешенство вспыхнуло в нем. – А пропуска этим бельгийцам?
– Пропуска бельгийцам! – откликнулась Маргарита. – Там совсем другое.
Она действительно умудрилась с этими пропусками для бельгийцев прыгнуть выше головы. И не просто выше, а головокружительно высоко. На оформление пропусков иностранцам уходило три дня. Подать заявку меньше, чем за три дня, значило гарантированно пропуска к нужному времени не получить. Скоробеев вспомнил, что к нему должна прийти бельгийская делегация, за три часа до ее посещения. И естественно, первым делом Маргарита сказала, что получить пропуска невозможно. «Да? – вопросил Скоробеев. Он стоял около ее конторки и, потянувшись, похлопал по выгнутому дырчато-шероховатому крупу компьютерного монитора перед Маргаритой. – Те, кто работал до тебя, говорили, что это вот – тоже невозможно». «На компьютер у меня ушло несколько месяцев», – помнилось Маргарите, ответила она ему тогда. «Другие говорили, что вообще невозможно», – повторил Скоробеев. Он, конечно, элементарно сыграл на ее тщеславии. Но в конечном итоге получилось, что он был прав. Маргарита сумела получить на руки бланки заявок, чего никогда не делалось, сама отнести их в комендатуру, что также не позволялось, получить на заявках необходимые визы, а потом еще, чтобы получить последнюю подпись, умудрилась пройти к начальнику службы прямо во время совещания, прервать его ход и заставить генерала поставить свое факсимиле. Бельгийцам пришлось ждать внизу у поста всего каких-нибудь десять минут.
Но то, что требовал от нее Скоробеев сейчас, ни в малой мере не зависело от ее способностей прыгать выше головы. Прыгни она на десять собственных ростов, сделать бы ей ничего не удалось.
– Пропуска бельгийцам – совсем другое, – повторила она.
Скоробеев на этот раз не ответил. Только снова пристукнул рюмкой о стол и отвернулся.
Он отвернулся – и больше не заговаривал о пропуске до конца застолья. Не возобновил он разговора о нем и потом, когда разъезжались. Не возобновил на следующий день. И после субботы-воскресенья, в начале наступившей недели тоже не вспомнил. Маргарита уже стала думать, что тема исчерпана и Скоробеев к ней не вернется. Надо полагать, он понял, чего требовал. Нельзя же требовать от песка, чтобы он стал текучим, как вода, а от воды – чтобы сыпучей, как песок.
Но накануне нового заседания, едва появившись, зайдя к себе в кабинет, он тут же, даже не раздевшись, вышел обратно:
– Как дела с пропуском?
В Маргарите невольно все внутри сотряслось от смеха. Вот тебе и понял. Песок теки, вода сыпься.
– Великолепно дела, – сказала она со своего места из-за конторки.
Скоробеев радостно шагнул к ней от порога еще ближе:
– Нет, действительно?
– Действительно, – отозвалась Маргарита. – Завтра к заседанию ей прямо и будет.
Скоробеев понял. Лицо у него вмиг, как всегда в мгновения гнева, стало кирпично, медно багровым, он сделал к конторке Маргариты еще шаг и быстрым широким движением руки смахнул все, что у нее лежало и стояло на краю, на пол. С шумом грохнулись книги, глухо задребезжал осколками стакан с кофе, звонко заперестукивались ручки с карандашами.
– Дрянь! – закричал Скоробеев. – Девка! Ты что о себе такое думаешь? Ты что себе опять позволяешь?! Тебе сказано делать, ты для чего здесь сидишь, книжки читать?!
– Я еще не сошла с ума, чтобы выполнять безумные распоряжения. – Маргарита старалась говорить как можно спокойнее, равнодушнее и даже с ленцой. – Вы хотите, чтобы вашего помощника кое-где сочли сумасшедшей? В лучшем случае. В худшем могут счесть и кем-то вроде шпионки. Или пособницей шпиона. Хотите выступить в этой роли сами?
– Дрянь! Девка! – было ей ответом Скоробеева.
Он пнул валявшуюся на полу груду книг, шаркнул по разлившейся луже кофе, и брызги того веером прыснули на Маргариту – на одежду, лицо…
Какого хрена, с какой стати мне сдерживаться, прозвучало в Маргарите. И, прежде чем она успела додумать эту мысль, рука ее взлетела и влепила Скоробееву звучную, смачную пощечину. Щека у ее начальника была рыхлая, мясистая, ладонь так и влипла в нее.
– Подонок, – произнесла Маргарита.
– Ты!.. Ты!.. – Скоробеев задохнулся. Чего-чего, такого он не ожидал. Всегда его помощница была, может быть, и своенравна, но выдержана, ровна, хладнокровна. – Ты что себе позволяешь!
Маргарите вспомнилось, как она лупила по щекам Атланта. Тогда это было впервые в ее жизни. И тотчас в памяти всплыла вся лексика, которой она тогда вместе с пощечинами угощала бывшего своего любовника.
– Пидар сраный! – сказала она Скоробееву.
Получая самое дичайшее, исключительное наслаждение от его потерявшихся, забегавших глаз.
13
Прежде Скоробеева заявление об увольнении должен был подписать Маргарите начальник отдела. Подписывать заявление он категорически отказался. «Если будут уходить такие, как вы, кто в этой конторе останется?» – мотивировал он свой отказ.
Маргарите были лестны его слова. За пятнадцать месяцев, что проработали в одной упряжке, они с начальником отдела хорошо узнали друг друга, и Маргарита преисполнилась к нему симпатии. Хотя начальник отдела и был еще прежней, советской закалки. Не эта бы его закалка, Скоробеев со своим презрением к рутинной работе давно завалил все дело.
Но оставаться из симпатии к начальнику отдела и его взаимной приязни – это было бы странно. «Подписывайте, Василий Петрович, – сказала Маргарита. – Куда денетесь, все равно подпишете. Мое решенье окончательное.»
Начальник отдела не подписывал заявления целую неделю, объявив Маргарите, что потерял его, как потеряет и все следующие. Но она недаром ела хлеб эти пятнадцать месяцев. Перед тем, как дать заявлению движение, Маргарита сходила в канцелярию главы администрации, зарегистрировала его, – и начальнику отдела в конце концов ничего не осталось делать, как «обнаружить» заявление и подписать.
Скоробеев поставил на заявлении свое согласие в тот же день, как оно поступило к нему. Вернее, в ту же минуту. Не возражая против того, чтобы уволить своего помощника без положенной по закону двухмесячной отработки, незамедлительно – того же числа, как глава администрации подпишет приказ.
Через два дня Маргарита была уже вольна, как птица.
Мать, вставши утром и обнаружив ее в постели, пришла в смятение.
– А как же моя поликлиника? – первое, что спросила она, узнав от Маргариты, что та с сегодняшнего дня не имеет больше к администрации президента ни малейшего отношения.
Мать уже считала кремлевскую поликлинику своей навечно. Точно, что к хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать – в лом.
– Не все коту масленица, – сказала Маргарита. – Хватит, подремонтировалась. Уступи место другим достойным.
– Но почему? – возмутилась мать. – Что случилось? Конечно, деньги тут были не бешеные, но это же администрация президента! Из таких мест, кто попал, никто не уходит! Руками-ногами-зубами держатся, а со временем здесь и платить начнут – ого-го! Не сомневаюсь.
Пафос матери веселил Маргариту. Похоже, ее завораживало само это сочетание: «администрация президента». Вроде того как раньше «ЦК КПСС». Попасть работать в ЦК КПСС – и можно считать, жизнь удалась.
– Это, мам, мой личный протест против политики президента в Чечне, – тоном официального заявления произнесла она.
Мать восприняла ее слова всерьез.
– Да, то, что там происходит, совершенно кошмарно, – тут же, с мазохистским удовольствием хорошенько почесать зудящую кровавую рану, подхватила она. – Ведь это же, по сути, гражданская война, не что иное, да?
Все-таки она вся, с потрохами и, видимо, уже до конца жизни была в том, прежнем времени, в этом кипении общественных страстей, в желании общественного служения, и того, что все переменилось, что настала другая пора, было ей не понять.
– Только, мам, давай не заводись, – сказала Маргарита. – И меня не заводи. Жизнь продолжается. Живем дальше.
Ха-ха, живем, тут же с язвительностью прозвучало в ней. Вопрос «Что делать?» обвивал сознание жаркой тугой анакондой, душил и разламывал череп головной болью. Волей ассоциации в ней вылезло название знаменитого романа несчастного Чернышевского. Где, интересно, Вера Павловна брала деньги на свои швейные мастерские? И как устраивалась с «крышей»? Ответа в памяти не было. Так она и не осилила знаменитый роман ни разу: ни в школе, ни потом, на Ленгорах.
Мать, уйдя в соседнюю комнату, рыдала. Громко, со всхлипами, швыркая носом, сморкаясь и вновь со сладостью отдаваясь своей боли. Обиделась, что Маргарита не стала делиться с ней происшедшим, отшила ее, не позволив вместе пожевать жвачку стоического страдания.
– Двадцать пять лет, – доносилось до Маргариты из соседней комнаты, – двадцать пять! А все, как в семнадцать, никакого понимания жизни! Никакого, никакого, никакого!..
Двадцать пять, вслед матери подумалось Маргарите вдруг с ужасом. Никогда раньше она не ощущала возраста. Девятнадцать или двадцать три – все было одно. Но двадцать пять, которые должны были исполниться в нынешнем году, – это показалось ей сейчас невероятно громадной цифрой. Четверть века, с ума сойти! И все пока – будто печешь пирог в скверной духовке: подгорает и подгорает, угли и угли!
– Измучила меня! Измучила! – доносилось из соседней комнаты. – Проклятая кровь! Все только о себе думает, не тронь ее, как с писаной торбой с собой!
Маргарита не пошла утешать мать. Кто бы утешил ее. Она пролежала в постели весь день, поднимаясь только в туалет и цапнуть что-нибудь из холодильника, когда в животе начиналась голодная резь. Телевизор стоял включенным, менял картинки, то звучал речью, то музыкой, то всякими другими звуками – вроде рева автомобильных моторов на гонках, – не смотрела его и не слушала. Так, чтобы уж не совсем вывалиться из жизни.
Вечером, под самую ночь, позвонили уши, с которыми она последние полгода делала секс. Так она называла его про себя – уши, – потому что кроме изящных, чисто и аккуратно вымытых ушей больше он ничем не блистал. Осторожный и хитроумный, бескостный кремлевский чиновник, для которого геморрой у начальства – большая беда, чем любая война. Начальственный геморрой чреват дурным начальственным настроением, а кавказская кровь – это в какой дали, эта кровь! Объект внимания, выбранный для внимания по причине окружающего безрыбья.
– Как же так, почему ты мне ничего не сказала, что у тебя конфликт с этим дерьмократом? – зажурчал, побежал в трубке неторопливым шелестящим ручейком его бесцветный, сероватого оттенка голос. – Уволилась – и мне ни слова, зачем же так? Сказала бы – я б тебе нашел место, устроил не хуже, чем имела, перевели бы – и всех делов. Как же было мне не сказать?
– Да пошел бы ты куда подальше! – не напрягаясь, с ленцой, не вкладывая в свою речь ни грамма эмоций, проговорила Маргарита. – Подальше, подальше, подальше, и с глаз долой.
– Прости? – вновь зажурчал его сероватый голос. Он воспринял ее слова как вполне естественную, закономерную женскую истерику, разве что тихую, и приготовился быть мудр и терпелив. – Давай считать, я ничего не слышал. Просто, я думаю, есть еще возможность все поправить. Это, конечно, будет сложнее, чем если бы ты не уволилась, но шансы есть, я уже сегодня предпринял кое-какие шаги. И они обнадеживающи.
– Да пошел ты! – снова произнесла Маргарита. Снова с той же ленцой и бесстрастностью. – Очень мне нужно менять шило на мыло. Лучше и без того, и без другого. Пошли вы все подальше, кто только там есть. И ты вместе со всеми. Вместе со всеми, вместе со всеми.
Она уже давно собиралась порвать с ушами. Порвать и растоптать. По крайней мере, половину того срока, что одаривала его собой. Все-таки слишком долго обманывать самое себя, считая этого рака рыбой, было невозможно. К тому же он был женат, скорей, скорей – и домой, чтобы никаких подозрений, что за удовольствие иметь такого любовника! И однако же как-то так получалось, желая порвать с ним, никак не могла собраться порвать – буквально не доходили руки. А теперь сам Бог велел. Конец государевой службе – конец и роману с государевым человеком.
– Подожди, подожди, – заволновался отставленный ею государев человек. Теперь он врубился. Понял своим макиавеллевским умом, что его увольняют, и без выходного пособия. – Еще ничего не поздно, все еще поправимо! Я тебе обещаю, я приложу все усилия, ты снова будешь в администрации, и без всякой потери в положении.
Маргарита опустила трубку.
– Пошел ты! – произнесла она еще раз, – только он уже не мог ее слышать.
Она лежала в постели три дня. На четвертый день глаза ей открыло в семь утра. И тотчас подняло на ноги, понесло в ванную – будто внутри заработала, погнала ток некая батарейка. Она вымылась, обдирая себя мочалкой – словно сдирала с себя ту жизнь, которой жила последние месяцы, – приняла контрастный душ, высушила голову феном, уложив волосы щеткой, с аппетитом позавтракала яичницей из трех яиц с жареным шпигом, сделала маникюр, наложила на лицо макияж, сварила кофе и с дымящейся чашкой села к телефону, набрала номер Натальи. Номер натальиного телефона хранился в памяти, как высеченный на камне, не пришлось ни прибегать к записной книжке, ни напрягаться, вспоминая.
Но Натальи по ее прежнему адресу не было. Квартиру снимали другие люди и ни о какой Наталье не знали.
За телефоном Натальиных родителей пришлось уже лезть в записную книжку. И пока доставала ту из сумочки, листала страницы, чувствовала в себе давление совести: скверны у Натальи дела, раз она съехала со своей квартиры и перебралась обратно к родителям. Маргарита была так уверена, что Наталья живет с родителями, что ей даже не пришло в голову: могут быть и иные варианты.
Наталья с родителями не жила. Наталья вышла замуж и жила у мужа. И было этому событию уже скоро полгода.
Маргарита просидела над телефонной книжкой с записанным новым Натальиным номером, не решаясь набрать его, минут десять. И набрала, только выцедив из чашки последнюю каплю кофе.
Наталья встретила ее звонок, словно последний раз они разговаривали какую-нибудь неделю назад.
– Давай, хочешь – жми ко мне прямо сейчас, – позвала она Маргариту, когда та, будто выдирая себе самолично, без всякого новокаина зубы, призналась ей в своей теперешней жизненной ситуации.
Наталья жила в сталинском доме на Гончарной, бывшей Володарского, квартира оказалась побольше скоробеевской, тоже из пяти комнат, но три из них непроизвольно вызывали ассоциацию если и не с футбольным полем, то с теннисным кортом – по крайней мере, в одной из этих трех комнат шелестел струей, журчал водой, стекающей по горке блестящих, глянцевых камней, фонтан, – не иначе, как Наталья специально включила его к ее приезду.
Здесь, у фонтана, Наталья и посадила Маргариту. Кресла были громадные, как целый диван, напоминали формой лилию и лилового же цвета.
– Очень хорошо успокаивает, – кивнула Наталья на шелестяще-журчащее каменно-водяное устройство. – Десять минут, бывает, посижу, распсихованная была – жуть, но десять минут – и все как с водой ушло.
– Кто он у тебя, мафиози? – со смешком – и почему-то понижая голос – спросила Маргарита.
– Иди на фиг! – без страсти ругнулась на нее Наталья. – Свихнулись все на этой мафии. Он финансовый гений. Спекулянт.
– Кто-кто? – переспросила Маргарита.
Она понимала, что Наталья вкладывает в это слово абсолютно положительный смысл, но для нее «спекулянт» еще звучало синонимом «прохвоста». «Сукиного сына».
Наталья сделала вид, что смысл уточнения, которого просила у нее Маргарита, остался ей не ясен.
– Он играет на бирже, – сказала она. – Ценные бумаги, акции, облигации… ГКО такие. У него фирма по этому делу. Ему всякие, кому деньги пристроить нужно, дают их, и он те пускает в оборот. Покупает, продает. Продает, покупает. Нервное только дело – жуть. Было тут недавно – за день сто двадцать тысяч потерял, я уж его чем только не отпаивала…
– Сто двадцать тысяч чего? – снова уточнила Маргарита.
– Долларов, чего, – пожала плечами Наталья. – Не деревянных же наших.
– Но… – не решаясь спросить прямо и не зная, как сделать так, чтобы не обидеть Наталью, проговорила Маргарита, – но он… намного старше тебя? Или нет, ничего, нормально?
– Нормально, – кивнула Наталья. – Мужчины, которые умеют делать деньги, старыми не бывают.
Маргарита про себя как бы присвистнула с восхищением. Наталья выдавала прямо афоризмы. Не хуже Шопенгауэра. Вроде того, что здоровье – главное счастье.
– А ты что? – спросила она Наталью.
– Что я?
– Ну, он делает деньги, я поняла, а ты что?
Наталья, захмыкав, повела вокруг себя руками:
– А я знаю, как их потратить. Видела такую рекламу? Он знает, как их заработать, она знает, как их потратить. Вот я по этому делу.
– И тебя это не гнетет?
– Что?
– Ну… вот такое твое положение. Получается, вроде как ты на содержании. Вроде того.
– Не гнетет. – Наталья снова хмыкнула. – Отнюдь.
«Отнюдь нет», – хотела заметить ей Маргарита – и удержалась. Это было пустым делом – поправлять Наталью. Та Наталья, что училась с ней вместе на Ленгорах, и Наталья эта – были абсолютно разные люди. По этой ни за что бы нельзя было сказать, что она в свое время, всего лишь какие-то три года назад, закончила филологический факультет. Какой-нибудь кулинарный техникум – самое большее. Наталья словно бы полиняла – как змея. Содрала с себя одну кожу и стала жить в выросшей на ней новой. Ничуть не похожей на ту, прежнюю.
И все же Маргарите хотелось уяснить для себя все до конца. Поставить жирную, отчетливую, внятную точку. Во всем мне хочется дойти до самой сути…
– И что же ты, ты находишь такую жизнь вполне приемлемой для себя? – спросила она. – Полностью тебя устраивает, да?
Теперь Наталья засмеялась:
– Ты даешь! Еще б не устраивала. Ты бы мой «Рено» видела. Свадебный, между прочим, подарок. Это свихнуться можно, что за машина! Я еще, правда, права не получила. Сдать пока не могу. А в каких мы отелях за границей останавливались! Да у меня туфель меньше, чем за четыреста долларов, нет!..
Они сидели на этих лиловых креслах-диванах с сигаретами в руках, Наталья, перечисляя достижения своей жизни, подпрыгнула на пружинящем сиденье, взмахнула рукой с сигаретой, и та, вырвавшись из пальцев, перекувыркнувшись в воздухе, ткнулась Маргарите в грудь. Ткнулась точно зажженным концом и свалилась на пол, а от белой блузки Маргариты тотчас потянуло запахом паленой синтетики. Маргарита скосила на грудь глаза – там красовалась аккуратная дырка в коричневой оплавленной обводке, блузка была испорчена.
– Ой, извини, извини! – Наталья вскочила, подобрала сигарету с пола, сунула в пепельницу, а потом мазнула по Маргаритиной блузке ладонью, словно оплавленное отверстие могло от этого движения исчезнуть. – А почему ты вообще в синтетике ходишь? Культурная женщина, а в синтетике! Хлопок, лен, шелк – натуральное надо все носить, натуральное!
– Извини, – сказала теперь Маргарита, затягиваясь своей сигаретой, – но натуральное нам, бедным девушкам, не по карману.
Наталья мгновение молчала. Потом выхватила у нее сигарету из рук и отправила вслед за своей в пепельницу. Схватила Маргариту за руку и потащила прочь из комнаты с фонтаном.
– Сейчас мы найдем тебе достойную замену. Лучше попорченной будет. Не из нефти этой, из голландского батиста, хочешь?
Маргарита отказывалась, вырывала у Натальи руку, но Наталья притащила ее в спальню, распахнула дверцы у всех шкафов и принялась копаться в вешалках. Вот это померяешь, снимала она с плечиков одну блузку. Вот эту еще, снимала она другую. И вот эту.
Объем ее гардероба вызвал у Маргариты чувство головокружения.
– Ты же только полгода замужем, – сказала она. – И за полгода столько успела?
– Почему за полгода, – отозвалась из шкафа, продолжая рыться в вещах, Наталья. – Он и до того меня одевал. Он же хотел, чтобы я выглядела престижно.
К радости Маргариты, ничего из Натальиного гардероба ей не подошло. Наталья была плотнее, шире в плечах, в бюсте, в талии, никогда они не могли меняться вещами, и сейчас все примерки только подтвердили давно известное. Вообще же, пока занимались примеркой, слюнки у Маргариты текли – вещи у Натальи были роскошные, ни от одной бы не отказалась, – может быть, если бы просто так, взять поносить, и не удержалась бы, взяла кое-что, но оказаться в положении одариваемой? Нет, Маргарита не приняла бы – если б даже что-то и подошло, если бы даже и идеально.
– Ладно, – сказала Наталья, закрывая дверцы шкафов, – будут у тебя свои батисты. И туфли за тыщу баксов, и машина – все обзавидуются. Попользуешься моими трудами. Я не пожмусь для подруги. Хоть ты меня тогда и подставила, но я уже все забыла. А знаешь, чего мне стоило на настоящих тузов выйти? Ой, сколько я этой шелупони вроде тех джабраилов с русланами перебрала, сколько я ее перебрала!..
Маргарита слушала ее и не понимала.
– Что ты имеешь в виду?
– То, что им всем нужны новые жены. Они сейчас все пережениваются, вот как раз сейчас. Все, исключений нет. Как раз время у них подошло. Деньги наковали, теперь пора о себе подумать. А со старыми они жить не могут, те им удовольствия от их денег почувствовать не дают. Быть женой богатого человека – это надо уметь. Это не кажая сможет. Это свое искусство! Совсем молоденьких, восемнадцать там, двацать, они побаиваются, им все же жена нужна, не партнерша по дансингу, а наш с тобой возраст – самый цимус. Самый цимус, я тебе со всей ответственностью говорю. Захочешь, да дурака не сваляешь – через пару месяцев все свои проблемы разрешишь. Ну, через три!
Теперь Маргарита ее поняла. Теперь было трудно не понять.
– Прости, – с извиняющейся улыбкой произнесла она, – а сколько все-таки твоему? – И добавила, подняв планку с громадным запасом, – чтобы Наталье было легче ответить: – Пятидесяти хоть нет?
– Нет, – сказала Наталья. – Сорок девять.
Сорок девять! Маргарита и без того была рада, что мужа Натальи нет и они могут быть только вдвоем, теперь она внутренне как бы захлопала в ладоши: хорошо, что не встретились, она бы невольно глядела на него, наверное, с ужасом, – подумал бы о ней Бог знает что!
– Спасибо, Наташ, – сказала она, стараясь не встречаться с Натальей взглядами. – Но я, знаешь, боюсь, что не смогу ответить высоким запросам твоих тузов. Боюсь, я не владею этим искусством: быть женой богатого человека. Не была еще ни разу! – не удержала Маргарита в себе зревшей, зревшей и сорвавшейся, как спелый плод, шутки.
Наталья, видела она периферическим зрением, смотрит на нее с недоумением и порицанием.
– Не была ни разу – откуда тебе знать, владеешь ты этим искусством, не владеешь?
– Я чувствую, Наташ, я чувствую! – воскликнула Маргарита.
И вынужена была взглянуть на подругу, чтобы та не заподозрила ее в какой-нибудь хитрости.
Но Наталья, поняла она по ее глазам, уже что-то заподозрила. Если и не заподозрила, то, во всяком случае, ее недоумение было уже больше, чем недоумение, – что-то, близкое к обиде.
– А что ты тогда ко мне пришла? – проговорила Наталья – слова, которые и в самом деле свидетельствовали об обиде. Или даже оскорбленности.
– Привет! – Маргарита изумилась. Все же Натальина реакция была чрезмерна. – Пришла к подруге. С кем мне поделиться своим?
В глазах Натальи стояли странные отчуждение и холод.
– А чего тебе со мной делиться? Мы с тобой теперь в разных плоскостях. Мне тебя не слишком-то интересно слушать. Даже совсем неинтересно. У тебя свои проблемы, у меня свои. Я думала, ты помочь просишь. Помочь я бы тебе помогла. Мне не жалко. Наоборот, с удовольствием. И были бы снова в одной плоскости. А нет, так извини. Мне же по-настоящему с тобой и потрепаться не о чем!
На улицу со двора нужно было выходить через высокую зарешеченную арку. Маргарита остановилась перед решеткой, взялась за квадратные чугунные прутья и, закрыв глаза, прижалась к рукам лицом. Хотелось стоять так, стоять и стоять – до беспамятства, выть, как собака, оплавиться в этом вое подобно свече, истечь стеарином и исчезнуть. Но руки от металла мгновенно заледенели, их стало жечь, закололо тысячью иголок – будто под током, и Маргарита оторвалась от решетки, вышагнула в калитку – и оказалась на улице.
К метро следовало идти направо, но ноги почему-то повели налево. Она знала, что нужно идти направо, но не могла остановиться и шла, шла в противоположную сторону – словно специально, на зло себе, словно хотела себя так проучить.
Она сумела развернуть себя, соступив с тротуара на проезжую часть и, подобно автомобилю, пересекши ее по дуге, так что на другой тротуар поднялась, уже двигаясь в нужную сторону.
За пересечением с боковой улочкой, на углу стояла небольшая церковь. Маргарита поравнялась с ней, мазнула на ходу невидящим взглядом по кирпичной кладке, – и ее остановило. Прошло несколько мгновений, пока она поняла, почему остановилась. Глаза не видели, а сознание схватило: в стену церкви, обращенная ликом прямо к улице, была вделана икона Богоматери. Дева Мария глядела на Маргариту из-за поблескивающего стекла, будто из окна, и будто спрашивала ее оттуда о чем-то. Или не спрашивала, а просила.
Но о чем спрашивала, чего просила? Маргарита стояла перед иконой и не могла понять. Может быть, Божья матерь просила ее помолиться? Или хотя бы просто перекреститься? Но Маргарита даже не представляла, как это – креститься, и никогда в жизни не молилась. Она вообще была не крещеной. И все в ее семье – и мать, и бабка – были атеистками. С чего ей вдруг показалось, что Богоматерь о чем-то просит ее? То ли просит, то ли спрашивает…
Маргарита повернулась и понеслась по тротуару дальше. День стоял не слишком морозный, но злобно-ветреный – настоящий февральский день, – и в ее жидкой дешевой полушубейке особо было не постоять. Поддувало снизу и гуляло холодом по всему телу, живот над лобком, чувствовала она, даже взялся мурашками.
14
Отец возник подобно черту из табакерки.
Маргарита не знала, откуда пошло это выражение, знала лишь его смысл – неожиданно, нежданно-негаданно, будто из небытия. А отец именно так и появился; как черт из табакерки – лучше не скажешь. Вдруг звонок – и в трубке его голос: «Ну что, Ритка, как дела?» Может быть, это была работа матери – его звонок, но ни мать, ни он в том не признались. Нет, что ты, ни о чем не просила, клятвенно заверяла мать. «Отстань, не терзай меня, а то дам в лоб», – только и ответил отец на ее приставания. «Давай-ка встретимся, дорогуша, – сказал он, когда Маргарита сообщила ему, что без работы. – Подумаем, покумекаем, авось что-нибудь и вымылится».
Маргарита видела его последний раз, когда еще училась в университете, лет пять, если не шесть назад, – в другую эпоху, при коммунистической власти. Отец тогда преуспевал, его картины бешено продавались на Запад, из карманов у него, когда засовывал туда руку за платком, за очками, за ручкой, то и дело выпархивали смятые зеленые бумажки с портретами американских президентов, на столе в комнатке при мастерской, как он ее сам называл – приемов, не переводясь, стояли английское бренди, шотладское виски, французский коньяк. Награда за годы унижений, Ритка, приговаривал отец, выставляя перед ней во фронт разом несколько рюмок и наполняя каждую из разной бутылки, не зря страдали, на компромиссы не шли, талант берегли, не зря! Вокруг него толокся целый хоровод из женщин, все предъявляли на него свои права, он млел, пытался держать их при себе всех разом, называл «моим гаремом», – у Маргариты от того посещения отцовской мастерской осталось ощущение угарно-праздничной, блестящей жизни, на которую, представляла она, у нее самой недостало бы внутри куража.
Но потом, с началом реформ, дела у отца, знала Маргарита от матери, пошли наперекосяк. Коллекционеры на Западе потеряли к его картинам интерес, он перестал покупаться, галереи, где выставлялся, закрыли перед ним свои двери. Ничего не шло у него и на внутреннем рынке. С аукционов улетали Айвазовский с Шишкиным, современную живопись не брал никто. Тем более абстрактную.
Она ожидала увидеть отца опустившимся, обозленным, заскорузшим в бедности, но он был бодр, весел, хорошо одет, являя собой даже эдакий образчик преуспеяния и полного довольства жизнью, от него пахло хорошим французским одеколоном и свежеупотребленным доброкачественным «Мартини».
– Дорогуша моя появилась. Пожаловала, наконец, моя дорогуша, – приговаривал он, хлопоча вокруг нее, усаживая за стол в «комнате приемов», подавая чашки для кофе, включая пластмассовый электрический чайник, накладывая в чашки растворимый кофе «Якобс», заливая его кипятком и сам же размешивая ложечкой.
Рюмок во фронт на этот раз он не выставлял, но налил ей замечательного, тягучего, как мед, шоколадного ликера, Маргарита, попробовав, тотчас хлопнула всю рюмку, потом вторую и подставила ее, чтобы он налил снова, в третий раз.
Отец, однако, не налил.
– Ну ты, отцовская дочка! – воскликнул он, убирая бутылку за спину. – Во даешь. Алкоголичка! Но я же мужик, мне алкоголь к лицу, а ты кто?
– Да ладно, ладно, давай, – покрутила Маргарита в воздухе рюмкой. – Чего там. Я амазонка.
– Иди ты, амазонка! – Отец не достал бутылки из-за спины. – Нам с тобой сначала поговорить нужно. Поговорим – потом наклюкивайся. Кофе вон жри.
В мастерской на этот раз, кроме них двоих, никого не было, ни следа прежней богемно-угарной жизни, так поразившей и уязвившей Маргариту, но вместе с тем сама мастерская производила впечатление заброшенной, нерабочего помещения – мольберт придвинут к стене и пуст, драпировки кучей свалены в угол, шары пыли на полу, – будто он тут, в самой мастерской и не работал, а обходился лишь этой «комнаткой приемов».
– Да нет, – сказала Маргарита успокаивающе, – я не алкоголичка. Так я, иногда, по случаю. По состоянию души, вернее. А в общем, нет. Не слишком падка. Не волнуйся. – И взялась за кофе. – Ты в самом деле можешь что-то с работой помочь?
– Это хорошо, что не слишком падка. Вот это очень хорошо, – не ответив ей, проговорил отец. – И даже важно. Важно-важно-важно.
В нем по сравнению с тем, каким видела его в прошлый раз, появилась словно бы некая легковесность, он напоминал ей сейчас малое перышко, пушинку, невесомо трепещущую в воздушной струе. Он изменился даже и внешне. Прежде отец носил бородку, усы и был похож на героев картин какой-нибудь фламандской школы, а теперь – ни бороды, ни усов, гладко выбрит, ничего художественного во внешности.
– Ну ответь же! – потребовала Маргарита. – Что ты имел в виду, говоря про работу? Как-нибудь связано с тем, чем ты сам занимаешься? Чем ты сейчас сам занимаешься?
– О том и разговор, о том и разговор, дорогуша моя! – Отец схватил со стола свою чашку кофе, отхлебнул, потанцевал с нею в руках перед Маргаритой и звякнул обратно на блюдце. – Не заложишь, нет? Могу надеяться? Можешь обещать?
– Боже мой, папа! – Маргарите было смешно. Она и не смогла удержаться, хихикнула. – Ты что, агент ЦРУ, как говорили раньше? Или чей там еще?
– Мирового империализма и мирового сионизма, – подхихикнув вслед ей, сказал отец. Тут же, впрочем, изгнав с лица всякое подобие веселья. – Но я серьезно, дорогуша моя, более чем серьезно. Можешь поручиться, что не заложишь?
Маргарите в конце концов пришлось дать ему нечто вроде клятвы: не заложит, ни в коем разе.
– А заложишь – убью, – махнул отец у нее перед лицом указательным пальцем, полез в тумбу стола и извлек на свет, бросил перед Маргаритой на стол альбом – наподобие тех, в каких раньше, в советские времена, держали фотографии. – Вот, ознакомься.
Маргарита раскрыла альбом, пролистнула – это была коллекция винных этикеток. Французских, итальянских, немецких. Черные, бордовые, белые, фиолетовые, с золотыми, простыми, серебряными буквами. Их здесь было несколько десятков, этих этикеток, под сотню, а то и больше.
– Ты что, подделываешь этикетки? – догадалась она.
– Умна не по годам, сразу видно в кого, – сказал отец. Забрал у нее альбом и бросил обратно в ящик стола. – Именно! Там и занимаюсь.
– Зачем? – запинаясь, спросила Маргарита. Понимая зачем, но не позволяя себе поверить в это.
– Затем! – отозвался отец. – Любишь всякую привозную лозу? Пьешь? Не пей! Я – этикетки, а те, кто мне их заказывает, – вино. На бутылку настоящего – десять искусственных. Какая там дрянь размешана – и черту неизвестно.
– А кто тебя заставляет этим заниматься? – опять же понимая кто, а вернее – что, но не в силах удержаться, не спросить, произнесла Маргарита.
– Жизнь, дорогуша! – ожидаемо ответил отец. – Жизнь какая, ё-моё, я и предположить не мог, что она со всеми нами такой фортель выкинет. Или что, мне саван на голову и ползти на ближайшее кладбище? Хрен! Раз вы меня мытьем, так я катаньем!
– А я тут при чем? – снова спросила Маргарита.
– А ты при том, что хочется мне кушать, – сказал отец. И засмеялся, замахал рукой: – Не в том смысле, что у дедушки Крылова, не в том. В другом! Хотя и в прямом. Представляешь, как я живу?
– Нет. Откуда, – пожала плечами Маргарита.
Отец покивал:
– Да, откуда… Ах, дорогуша моя, и стыдно, и надо признаться. На понтах я живу. На понтах!
– То есть? – Маргарита не была уверена, что правильно поняла отца.
– Понтярю я, понтярю! Вид делаю, арапа заправляю! Стою на пальцах, как в пуантах, чтобы выше ростом казаться! А то опустят меня, как суку последнюю, и буду я у них ботинки лизать, а они мне подошвой грязной по морде!..
Маргарита потеряла терпение:
– Пап! Ты бы послушал себя. Ты говоришь, словно какой-то блатняга! Словно урка последняя.
– О-ох, с кем поведешься, тем голосом и выть. – Отец, наконец, сел к столу, взял свою чашку, отпил, поставил обратно на блюдце и ударил ладонью по столешнице, так что все вздребезжало. – Делового человека я из себя корчу. Бизнесмена. Будто бы не я эти этикетки рисую, а негры на меня пашут. Будто бы я фирмач, а кисти в руках и не держал.
– Бред какой-то, – не выдержала, удивленно проговорила Маргарита.
– Бред, потому что ты в бизнесе ни хрена не сечешь, – тотчас парировал отец. – Узнают, что я художник – сразу мне расценки на пару порядков снизят. Мгновенно! Человек у них – только кто дело крутит, бизнес, иначе, а кто работу работает – грязь, шваль, растереть, как харчок, и чтобы следа не осталось!
– Но я-то при чем, я-то? – снова напомнила о себе Маргарита.
– Подходим, дорогуша моя, подходим, – сказал отец. – Какая ты нетерпеливая. Я какой образ жизни веду, соображаешь?
– Образ жизни бизнесмена, – по-школьному ответила Маргарита.
– Почти, – подтвердил отец. – В той, видимой части. Которая на публику. Шьюсь во всяких тусовках, членствую в клубах, разнообразные завтраки, обеды, ужины… А в связи с этим я нуждаюсь… как ты думаешь, в чем?
– Да, в чем? – переспросила Маргарита.
– В эскорте.
– В эскорте? – Маргарита не поняла.
– В сопровождении, дорогуша. – Отец протянул руку и похлопал по руке Маргариты на столе. – Куда-то я могу притащиться один, а куда-то ни в коем разе. И мой эскорт должен подчеркивать мою крутость. Сечешь?
Маргарита кивнула. Она просекла.
– Ты предлагаешь быть твоим эскортом мне?
Отец, не отнимая от ее руки своей, тоже согласно кивнул.
– Умна не по годам, говорю же. Я, видишь ли, нуждаюсь в том, чтобы это был совершенно надежный человек. Чтобы я знал: не подведет и не продаст ни в коем случае. Не будет трепать языком. Я пару раз сильно подзалетел. Очень сильно. Больше не хотел бы. Полагаю, с родной дочерью таких проблем не возникнет?
В чем-чем, а в этом Маргарита могла заверить его, не задумавшись.
– А в каком качестве по отношению к тебе я должна выступать? – спросила она затем. – Дочери? Любовницы?
– Пассии, – убирая свою руку, сказал отец. – Дочери – это, конечно же, хорошо бы. Но дочь с собой всюду не потаскаешь. Так что пассии, дорогуша моя, пассии.
– Ну, ты придумал! – выдохнула Маргарита. – Да я же себя… кем? Я какой-то продажной сукой себя чувствовать буду!
– Ну, ну, ну! – увещевающе помахал рукой отец. Отпил из чашки, поднялся и прошелся перед столом. – Ты что, тонкая натура, что ли? Еще не хватало. Грубей! И побыстрее. А то обдерешься вся, до живого мяса, всю жизнь себе в ад превратишь. Живи веселее, вольнее. Не думай о завтрашнем дне. Лови кайф. Всерьез роли своей не воспринимай – и никаких проблем. С новыми людьми будешь знакомиться, отношения завяжешь. Может быть, с кем роман закрутишь. Пожалуйста. Ничего не имею против. Придумаем что-нибудь, чтоб и волки сыты, и овцы целы. Найдем способ, как выкрутиться. Главное, не продавать. Быть Партнершей с большой буквы, Чтоб я всегда на тебя опереться мог.
– И ты мне собираешься за это платить? – поинтересовалась Маргарита.
– Триста долларов, как и другим, – живо отозвался отец. – Извини, больше не могу. Устроит?
– А стаж, трудовая книжка, с этим как?
Отец развел руками:
– О чем ты?! И стаж будет идти, и в ведомости на получение зарплаты будешь расписываться. У меня фирма официально зарегистрирована, бухгалтер приходит, отчеты шьет, офис даже содержать приходится. В двух шагах от Красной площади, между прочим. Неплохо, а?
Маргарита согласно прикрыла веки:
– Неплохо. Даже замечательно. – И вслед отцу развела руками: – Но только пардон, уволь: не буду я изображать твою пассию. Ни за триста, ни за тысячу. Это не для меня.
– Подожди, дорогуша моя, подожди, – склонился к ней, положил теперь руки ей на плечи отец. – Да ведь тут никакой работы, одно удовольствие: шляйся по разным местам и все. Да у меня все девки, кто был, со счастьем!
– Вот и бери снова девку, – отрезала Маргарита. – А я люблю дело делать. Дело, а не изображать. И все, не уговаривай больше. Не уговорюсь.
15
Через полторы недели Маргарита сидела с отцом в ресторане «Прага» в отдельном кабинете со столом на шесть персон – одна женщина среди пятерых мужчин – и, принимая ухаживания соседа, волоокого красавца грузина чуть постарше себя, расплавляла, следуя указанию отца, сердце своего визави: неулыбчивого грузина лет пятидесяти, седоголового, седоусого, с просторным животом под рядами золотых пуговиц двубортного клубного пиджака – главного в этой кавказской компании, которую отцу предстояло раскатать на бабки. Работенка, почувствовала она уже через десять минут, была еще та. Маргарита напирала на литературу и кинематограф, поминала имена Иоселиани, Эмиреджиби, вспомнила даже «Витязя в тигровой шкуре» Руставели, но понять, знает ли седоголовый хотя бы Руставели, было невозможно. Она окатывала его волнами внимания, особой заинтересованности в нем, особого уважения, он только смотрел на нее беспощадно ледяным, пустым взглядом, непонятно пошевеливал усами и, когда уж совсем невозможно было не ответить, поднимал толстый, тривиально похожий на сардельку указательный палец и, то ли восхищаясь, то ли грозя – убейся, не разберешь, – произносил: «О, Рита! Даешь, Рита! Рита, не надо!»
Маргарита ответила согласием на предложение отца после того, как неделю, почти не кладя трубки, проговорила по телефону. Она обзвонила всех с факультета, кого могла. Даже кого и не могла. Учившихся с нею вместе, курсом старше, курсом младше. С кем была близка и с кем еле знакома. Чьи телефоны теснились в студенческой записной книжке и чьих никогда не было – получая их иногда по цепочке в несколько человек. Никто ничего предложить ей не мог. Некоторые сами были устроены весьма неплохо, но или не хотели взваливать на себя чужие заботы, или же в самом деле не имели возможности помочь. Мать за эту неделю, что просидела на телефоне, заводила разговор об отце раз сто: «Триста долларов тебе в месяц и стаж будет идти, он тебя что, землю пахать зовет?» Пришлось орать на нее и посылать от себя подальше, – а по-другому ничего не понимала.
Седоголового звали Агабом Нугзаровичем. Маргарита развлекала себя тем, что постоянно, без особой нужды, по всякому поводу произносила его экзотическое имя. «А вот еще, Агаб Нугзарович, вам будет интересно узнать…» – говорила она. «А вот такого, Агаб Нугзарович, бьюсь об заклад, вы в жизни не слышали…» – вворачивала она через минуту его имя вновь. Ее волоокий сосед-красавец подкладывал ей на тарелку ломтики севрюги, и она тотчас вскидывалась: «Ой, а Агаб Нугзарович севрюги себе не брал! Агаб Нугзарович, миленький мой, возьмите себе севрюжки! Агаб Нугзарович, вы же совсем голодный сидите!»
У седоголового развязался язык только в конце застолья. Но зато для того, чтобы усладить уши отца решением о сотрудничестве.
– Вас рекомендовали мои друзья, я им полностью доверяю, – сказал седоголовый отцу, прикладываясь к чашечке кофе. – Завтра Реваз, – указал он на соседа Маргариты, – к вам подъедет, все подвезет. И – как мы договаривались.
– Как договаривались, – подтвердил отец.
Маргарита посмотрела на него – он так и купался в довольстве, как сельдь в рассоле.
Впрочем, она сама тоже испытывала похожее чувство: надо полагать, в том, что ужин завершился столь удачно, была и ее заслуга. Даже наверняка была.
Отец, когда возвращались из ресторана, крутя баранку тяжелого, похожего на броневик темно-синего джипа «Тойота», похвалил ее:
– Молодец, отлично работала! Им с деньгами расстаться – все равно, что душу вынуть. Их не ублажишь, не рассиропишь – ни за что деньги из кармана не вынут. Камни, не люди. Все, все без исключения, кто б ни были: грузины, русские, евреи, татары… Все одинаковы. Жлобье! Жлобье необыкновенное. За счет того и живу.
– Как это? – заинтересовалась Маргарита.
– Так это, – сказал отец. – Вот этикетку я нарисовал, современные технологии сейчас какие, знаешь? Заложил ее в компьютер, обработал – и она у тебя вечная! Бумажка обносилась, клише затерлось – нырк в компьютер, и получай новенькую. Но только за компьютерную обработку нужно заплатить, отдельную цену положить, а они, идиоты, экономят. Они как думают: партию фальшака загнать – а там хоть трава не расти. А трава растет: партию загнали – новую деньгу сковать хочется. Новую сковали – там еще. А бумажка, которую я нарисовал, в негодность пришла. Ее же не берегли, в специальной папочке не хранили, совали черт те куда, с чего клише делать? Снова ко мне: можно организовать? Можно, конечно! И я им заново какое-нибудь французское «Мерло» заделываю. Пожалуйста, господа, получите!
– И они после этого компьютерной обработки все равно не заказывают?
– Не заказывают! – захохотал, ударил по рулю отец. – И никогда не закажут. Жлобье! Необыкновенное жлобье!
– Ну, ты и хват! – не удержалась, фыркнула вместе с ним Маргарита. – Приспособился к рыночным временам. А говорят, людям в возрасте трудно приспособиться.
– Э-эх, дорогуша моя. – Голос отца прозвучал минорно. – Трудно, трудно, все правильно говорят! Лет бы пятнадцать скинуть, что бы я, стал бы одалживаться этим конем? – Он постучал по приборной панели перед собой. – Мой бы это конь был, собственный. А так вот и тут понтярить приходится. Не может же такой бизнесмен, как я, на тольяттинской колымаге гонять!
Они подкатили к огороженной металлической решеткой, дорогой стоянке с двухэтажной рубленой будкой дежурного у ворот, въехали вовнутрь, отдали «Тойоту» охраннику, пересели в отцовские «Жигули» и вырулили на улицу.
– А чей это джип был? – спросила Маргарита.
– Хрен его знает, – отозвался отец. – Охрана дала чей-то. Так я у них тут обычно «Опель» беру, специально для съема его держат, но сегодня обломилось. Вскрыли вот мне эту «Тойоту». Им любую машину вскрыть – как тебе о Льве Толстом поговорить.
– А ключ зажигания? – продемонстрировала Маргарита свою осведомленность.
– Дело техники. Их, не моей. Подобрали.
– А если хозяину машина понадобилась? Как раз, когда ты на ней раскатываешь?
– Опять же не мое дело, – с прежним хладнокровием ответствовал отец. – Дают – значит, полагают, что не понадобится. Имеют о том какие-то сведения. Подзалетят – им отвечать.
– Нет, ну а если тебя ГАИ остановит? Ведь у тебя же на машину никаких документов?
Отец присвистнул.
– Копаешь! Прямо не по-женски. Ухо с тобой держи востро.
– Нет, а все же? Ведь никаких? – настойчиво повторила Маргарита.
– Да тебе что, не все равно? – по тону отца было ясно, что он уже начал злиться.
– Нет, ну а как же: ведь я с тобой еду, разделяю ответственность.
Отец помолчал.
– Не мечи икру, – сказал он потом. – Еще не было случая, чтоб я не выкрутился. А без риска деньги сейчас не скуешь. Не хочешь подаяния просить – рискуй. Рискуй – и не мечи икру! – Эти последние слова он уже выдал на крике. – Ясно, дорогуша моя?
– Ясно, – покорно проговорила Маргарита, понимая, что перехватила в своих вопросах, заступила за границу своих прав. – Ясно…
В следующий выезд Маргарита сопровождала отца на самый настоящий прием, проводившийся клубом, членом которого, оказывается, отец состоял. Для этого приема отец, поехавши с ней вместе в недавно открывшийся итальянский бутик, купил Маргарите вечернее платье. К платью ей был выдан им бриллиантовый гарнитур, но в том, что бриллианты в нем – чистой воды стекло, Маргарита не сомневалась. Впрочем, ее это не волновало. Стекло так стекло. Не отличишь.
Через несколько дней после клубного приема настала очередь австрийского посольства, – отец, оказывается, котировался и на таком уровне. Маргарита, выйдя из дома, уже привычно распахнула мягко всхрапнувшую замком дверцу «Опеля», нырнула внутрь…
«Сладкая жизнь» – так она назвала свою новую работу «пассией» при отце. Правда, приходилось дежурить и в офисе – шестнадцатиметровой комнатушке в обшарпанном конторском здании со шмыгающими по туалету крысами, единственно что здание действительно находилось в двух шагах от Красной площади, сразу за ГУМом, имело пропускную систему и с улицы выглядело вполне пристойно. Дежурства в офисе были, впрочем, необременительны – ответить на телефонный звонок, отправить факс, принять факс, она во время них, в основном, читала – и газеты, и журналы, и книги, – сколько никогда не читала в жизни, даже и в университетскую пору; в общем-то, это была все та же «сладкая жизнь».
И так пришла и прокатилась весна, настало лето, сменилось осенью, снова лег снег, выбрали взамен прежней, наспех сколоченной после расстрела Белого дома краткосрочной Думы новую, на полноценный, четырехлетний срок, год закончился и начал грузнеть днями следующий по счету, – Маргарита все жила этой жизнью, перестала чувствовать ее временной, втянулась в нее. Мало-помалу она пришла к заключению, что, по сути, занимается тем же, чем занималась, работая с Атлантом и его компаньоном Семеном Арсеньевичем. Только с теми она таскалась по нудным, вытягивавшим жилы офисным переговорам с чашечкой кофе для ублаготворения, а тут – по приемам, презентациям и ресторанным обедам. «Почувствуйте разницу!» – кричала реклама с экрана телевизора; разница была еще та, Маргарита чувствовала ее еще как.
Сергея она встретила в Центре либерально-демократической интеллигенции на Большой Никитской, помнимой ею с детства как Герцена. Там проводилась некая конференция по поводу войны в Чечне, которая длилась уже второй год, и отец тоже был приглашен поприсутствовать. После конференции хозяева Центра дали ужин. Ужин проходил в форме фуршета – перемещались по залу с тарелкой еды в одной руке, с бокалом в другой, отца в разговоре с нужным ему человеком отнесло от Маргариты, она стояла одна, прикладывалась к бокалу, пытаясь с внутренним смешком определить для себя, настоящее «шабли» или подделка, взгляд ее прыгал с лица на лицо, перебегая из одного конца зала в другой, она ощущала себя эдаким невидимым никому прожектором, освещающим пятном луча плоскую тьму то там, то здесь, и вдруг этот луч будто поймали. Притянули к себе – не оторвать. Как если б он обладал свойствами железа и попал на магнит. У магнита были яркие, обжигающие голубые глаза, ярко-ржаные волнистые волосы, совсем недавно побывавшие под рукой хорошего парикмахера, открытое, без малейшего следа предпринимательского зажима, светлое чистое лицо, и возраста он был – того самого, который она определяла без всякой сложности: ее возраста. Они смотрели друг на друга – и отвести взгляды было невозможно. Сколько длилось это взаимное притяжение на расстоянии, она не знала. Потом ее магнит стронуло с места, и, не отводя от нее взгляда, кого из встречающихся на пути людей обходя, на кого натыкаясь, он двинулся через зал к ней.
– Почему вы одна? – спросил он, подходя к ней.
– Ничего подобного, – отозвалась она, взглядывая на его уши. Уши у него были под стать его хорошо подстриженным, свежевымытым волосам. – Уже не одна. – И, не дожидаясь, когда он представится, первой назвала себя: – Маргарита.
Она не влюбилась. Она втюрилась. Как того не случалось уже целую прорву лет. Втюрилась, как было только в школьную пору да еще в университете на первом-втором курсе. Она даже ощущала это свое чувство физически. Оно помещалось в грудной клетке, занимая пространство от шейного мыска, где сходились ключицы, до разлета ребер, до язычка солнечного сплетения. Оно было подобно некоей поднимающей силе. Распирало грудную клетку, тянуло вверх, казалось, тело утратило вес, земля не притягивает, и хочешь – полетишь.
Сергей был журналистом, работал в одном из новых, во множестве появившихся глянцевых журналов, и был на той конференции, чтобы потом у себя написать о ней.
– А ведь могли послать не меня, – говорил он Маргарите позднее. – Даже должны были не меня. В последнюю минуту меня направили.
– Могли, конечно, – мурлыча, отвечала ему Маргарита, – могли не тебя. И тогда бы я захомутала его.
– Его?! – В голосе Сергея звучала ревность. – Он страшный. У него зубы железные.
– Обожаю мужчин с железными зубами! – все так же по-кошачьи мурлыча, с удовольствием поддразнивала его Маргарита.
Ей нравились нотки ревности в его голосе. Она сама была такой втюрившейся в него, что ей постоянно требовалось подтверждение его ответных чувств.
Разговоры эти, начавшись, часто заканчивались у них постелью. Вернее, почти всегда. Они распалялись от таких разговоров, будто сухое сено от искры.
В постели они проводили долгие часы. Хотя сказать, что «в постели», было б неточно. Они могли начать на постели, а оказаться в итоге, ни на миг не разомкнувшись, в другой комнате, на кресле, причем он – отнюдь не сверху, а под ней, она же охаживала его из мужской позиции, словно и была мужчиной, – не уставая, не прерываясь, останавливаясь только тогда, когда не остановиться было нельзя: оплавляясь в собственных содроганиях или принимая в себя его извержение.
Ему, кстати, нравилось быть под ней. Он любил, чтобы она брала на себя активную функцию, повелевала им, – его это заводило. Некоторая женственность была ему свойственна, не без того. Но только некоторая, в самую меру – вот в таких вещах, – и это его желание быть подвластным ей, ответно заводило ее, она была словно бы все время голодна, не насыщалась им, хотелось, если уподобить это ее чувство жажде, пить его и пить, пить и пить. Она ощущала себя с ним воистину амазонкой. Могущественной хозяйкой жизни, взявшей под свое крыло более сильное физически, но внутренне – более слабое создание. Это она так хотела чувствовать – и чувствовала: более слабое. И он, когда открылась ему, с удовольствием подхватил: «амазонка». «Моя амазонка, – слышала она от него постоянно. – Моя амазонка так полагает? Бесподобно, моя амазонка! Моя амазонка, ты не права.»
Вновь, как в юности, когда у нее появился первый любовник и она еще не представляла себе, как заставить мужчину заботиться о женщине, Маргарита пила гормоны. Только теперь не из страха подзалететь, а из чистого желания дать ему и получить самой не сдерживаемое никакой уздой наслаждение. И впервые в жизни в ней прочно обосновалась мысль о замужестве. Позови Сергей ее замуж да будь достаточно настойчив, Маргарита, скорее всего, ответила бы согласием.
Но он не звал.
И это было бы ладно, в конце концов, она вовсе не горела таким желанием – взять и непременно выйти замуж, – но он безумно боялся ее отца. Сергей полагал, что ее отец – крутой бизнесмен, с крутой беспощадной крышей и, встречаясь с Маргаритой, он крадет у того его любовницу. А она не могла открыться Сергею, как обстоит дело в действительности. Не имела на то права, должна была молчать, хоть примись он ее пытать. И только старалась уверить своего любовника, что страх его абсолютно беспочвен. Безоснователен. Не имеет права на существование.
– Да нет же, нет у него никакой крыши, – хохоча, говорила она Сергею.
Он ей не верил.
– Ты просто не знаешь. Ему бы давно уже оторвали голову, если бы не было. У всех есть крыша. Без крыши у нас ларька не откроешь. А откроешь – двух дней не проторгуешь. Это наша национальная особенность. Просто раньше на всех была одна крыша – ЦК КПСС, а теперь каждый устраивается сам, как сможет.
Иногда Маргарита пробовала приоткрыть краешек завесы над своей тайной.
– Да и вообще я не сплю с ним, с чего ты взял! – заявляла она. – Я его служащая, я у него за деньги работаю!
– Брось! – морщился Сергей.
– Да нет, я правда, – коверкая от волнения язык, настаивала Маргарита.
Сергей взрывался:
– Я тебя о чем-нибудь спрашиваю?! Я к тебе пристаю?! Чего-нибудь от тебя требую?! Не спрашиваю, не пристаю, не требую – какого черта сама лезешь! Не интересует меня, что ты с ним, не интересует!
Он кричал так, что его яркие синие глаза делались черными, руки у него начинали дергаться, словно бы шарить в воздухе вокруг себя, он запускал их пальцами в волосы и стремительно возил в них – будто голова у него нещадно чесалась. Маргарита страшилась его такого. Ей казалось, боль, что у него внутри, может вырваться наружу подобно зверскому пламени и спалить ее во мгновение ока до тла.
– Сережка, Сережка, какой ты смешной! Смешной какой, смешной! – набрасывалась она на него. Обнимала его, целовала в губы, в шею, находила языком ухо, просовывала язык в слуховой ход, сколько было возможно, ходила им там, – и через пять минут, торопясь, словно запаздывая куда-то, он уже жадно прорывался к створу ее раковины – так жадно, что хотелось даже несколько этот его пыл и умерить.
То, что он считал ее любовницей собственного отца, вносило в жизнь Маргариты весьма ощутимую горечь. Ей очень хотелось, чтобы этой горечи не было. Чего бы она не дала, чтобы вытравить из себя эту горечь!
И все же впервые за долгое время – зная об этом и оттого дорожа своим состоянием – она жила с ощущением счастья. Каждодневного. Ежечасного. Не оставлявшего ее ни на мгновение.
16
– В этой стране нельзя жить, нельзя жить, нельзя жить!.. – неистовствовал Сергей. Пальцы у него месили волосы, будто сбивали там на голове что-то подобное гоголь-моголю. Он причинял себе физическую боль, чтобы заглушить ею боль, раздиравшую ему грудь. – Из нее нужно уезжать, удирать, рвать когти, это ужасная страна, ужасная, ужасная!
– Сережка, Сережа, Сереженька! – пыталась по-обычному, лаской успокоить его Маргарита, но впервые у нее ничего не получалось.
Он не позволял ей даже притронуться к себе, отталкивал ее руки – с решительностью, которая превосходила ее настойчивость.
– Ужасная страна, ужасная, ужасная! – вновь и вновь повторял он словно бы заклинанием.
Его уволили из журнала. Вернее, не уволили, а вышвырнули. Как нашкодившего в доме приблудного, не дорогого хозяйскому сердцу кота. Он вроде как и в самом деле нашкодил – взял с героя своего очерка, успешливого предпринимателя, деньги за рекламу, но деньги со своих героев брали в журнале все без исключения, это была обычная практика, можно сказать, узаконенный способ приработка, а попался он, да и то почему? – потому что его герой, оказывается, уже заплатил начальству и при случае пожаловался тому, что с него содрали двойную плату.
– Говно, не страна, – буйствовал, не мог успокоиться Сергей. – Закон – тайга, медведь – хозяин! Я, классный журналист, не могу нормально заработать на жизнь, вынужден брать! Они меня заставляют брать, а чуть что – ах ты, сволочь! Это они, они-то! Пробу на них ставить негде, а целок из себя корчат, прямо ангелы во плоти! Ангелы, а ноги с копытами! И рога под шляпой! Уезжать, надо уезжать, к чертовой матери, вон!..
– Куда уезжать? – сумела вставиться в его извержение Маргарита.
– Куда?! – глянул на нее Сергей все тем же темным, яростно-слепым взглядом. Казалось, он не понял, о чем она спросила его, и его ответный вопрос – механически подставленная пинг-понговская ракетка, отщелкнувшая целлулоидный шарик обратно. Но неожиданно взгляд его стал светлеть и сделался осмысленным. – Было бы куда, вот вопрос! Где мы нужны? Пойди попросись остаться в какой-нибудь Франции – за шкирку тебя и обратно! В Германию – только евреям и этническим немцам. Хорошо быть евреем: не в Америку, так в Германию.
– Да, хорошо, – не удержалась, проговорила Маргарита. – А если бы родился в этой Германии лет шестьдесят назад?
– Кто говорит про шестьдесят лет назад? – мгновенно парировал Сергей. – Речь про сейчас. Некуда русскому податься! Сгнивай в этой стране, не нужны никому!
– И что бы ты там делал, в Германии? – Странным образом этот внезапно возникший разговор что-то задел в Маргарите, взбудоражил ее, она словно бы попробовала некой незнакомой прежде еды, и оказалось, хочет еще и еще. – Ты журналист, пишешь на русском, что там русскому журналисту делать?
– Нашлось бы. Немецкий бы выучил. Я не дебил. – Сергей достал из кармана расческу и принялся расчесывать волосы. Они у него были великолепные. И цвет, и стрижка, и густота. Маргарита обожала смотреть на него, когда он расчесывается. – Но вообще, конечно, что Германия, нужно в Америку. Въехать туда – и начинать колотиться. Как в притче? Побилась-побилась мышка в сметане – и сбила масло. Что я, не сумею в конце концов грин-карт получить? Не мытьем, так катаньем, – получу!
– А я? – непроизвольно, с растерянностью вырвалось у Маргариты.
– Что ты?
– Ну, ты в Америку, а я что же?
Сергей оторвал руку от волос, дунул на расческу и сунул в карман.
– Ну, и ты давай. Если своего не боишься.
Он имел в виду ее отца и намекал на те отношения, которые, по его разумению, были между ними. Но сейчас Маргарита оставила этот его намек без последствий.
– Ты серьезно? – спросила она.
– А чего нет, – отозвался Сергей. – Почему не попробовать. Все равно здесь черт те что, не жизнь. Что, там хуже будет? Будет – можно вернуться. Не прежние времена.
– Нет, ты действительно, ты серьезно, ты в самом деле собираешься? – снова спросила Маргарита.
Она чувствовала в себе удивлявшее ее самое лихорадочное, жаркое возбуждение, – оказывается, еда, которую попробовала, разожгла в ней совершенно нестерпимый аппетит, она хотела еще и еще, оказывается, она давно жаждала этой еды, только не догадывалась о том.
– А, черт, собираюсь, не собираюсь! – воскликнул Сергей. – Решиться надо. Черту переступить. Переступил – там понесет, как под уклон. Вызов, виза, билеты…
– А у меня международного паспорта нет, – сказала Маргарита.
– Как нет? – Сергей, показалось ей, был даже не удивлен, а шокирован. – Ты что, не выезжала никуда?
Вопрос его был груб, но и совершенно естествен. Все вокруг будто свихнулись на загранице, только о ней и говорили: кто куда, каким образом и на сколько ездил – по вызову, в турпоездку, на отдых, в командировку, в Германию, Францию, Турцию… Но странно, это общее безумие ее нисколько не задевало. Не вовлекало в себя. Конечно, можно было бы посидеть, как другие, полгода на хлебе с водой – и сгонять на неделю в ту же Турцию по путевке, но ей вовсе не хотелось того. Ничто внутри не просило непременным образом побывать за границей, отметиться: и я съездила. А вот так, как говорил Сергей, уехать туда, поселиться там, начать там жить – о, это было по ней, так ей хотелось, и хотелось, поняла она сейчас, не осознаваемо для самой себя, уже давно; просто она не отдавала себе в том отчета, не понимала своего желания. Оно сидело в ней, будто запертое наглухо в сундуке, и вот Сергей распечатал его.
– А это как, международный паспорт, трудно сделать? – спросила она.
– Международный? – Он хмыкнул. – Проще простого. Идешь в ОВИР, заполняешь анкеты, платишь деньги, даешь фотографии, месяц – и вся недолга. Не прежние времена все же, это сейчас живо.
– Все! Решено! В Америку! – Маргарита бросилась на Сергея, повисла на нем, и теперь ему не удалось освободиться от ее рук. – В Америку! Едем! Все! Грин-карт, дайте нам грин-карт!
Она увлекла его на пол – прямо тут же, где находились в этот момент, в проеме комнатной двери, почти в прихожей, в двух шагах от входной двери, – запустила ему под одежду руки, начала раздевать, а там, не устояв под ее натиском, принялся и он раздевать ее.
– Грин-карт! – приговаривала Маргарита, овладевая им. – Грин-карт! Дайте нам грин-карт!
Как ей было восхитительно с ним. Бесподобно! Волшебно! А впрочем, вот уж точно: не выразить словами. Несказанно! Если бы еще было можно открыться ему, что крутой бизнесмен, с которым она таскается везде и всюду, – это ее отец.
В Америке, решила она. Когда будут уже в Америке и в кармане будет лежать грин-карт. Тогда, пожалуй, можно и нарушить слово, данное отцу, открыться. Грин-карт – это значит, они остаются там, и то, что на другом конце земного шара кому-то, кроме нее, станет известна отцовская тайна, не повредит отцу никаким образом.
С паспортом, однако, все оказалось не так, как было обещано Сергеем. Она сдала документы, фотографии, заплатила деньги, прошел положенный месяц – паспорт, когда пришла получать его, отсутствовал. Придите через неделю, сказали ей. Она пришла через неделю – паспорта не было. Давайте еще через недельку, слегка мягчея своим деревянным голосом, сказала чиновница, у которой было положено получать паспорт. И даже сочла возможным самую малость объясниться: знаете, как случается, кто-то там, где проверяют, заболел, кто-то уволился… у нас и по месяцу бывают задержки.
Но паспорт не был готов и через два месяца. Голос у чиновницы больше не мягчел, из деревянного, когда теперь разговаривала с Маргаритой, он превратился у нее в жестяной. «Нет, не готов! Не знаю почему. Некуда мне обращаться. Поинтересуйтесь через неделю», – отвечала она, словно автомат.
Ходя в ОВИР, в оно из посещений Маргарита столкнулась здесь с тем бывшим зампредом, который уже такие далекие четыре года назад подписал ей разрешение на передачу здания и которому она пыталась устроить встречу со Скоробеевым. Узнал на этот раз ее он. Она, даже гляди на него в упор, не узнала бы его ни за что. Она как раз, отстояв очередной час в очереди, вышла из кабинета чиновницы, ведавшей выдачей паспортов, ответ был все тот же: ждать! – настроение у нее было великолепнее некуда, и она элементарно никого вокруг не замечала.
– А, да, здравствуйте, – с неохотой отозвалась она на приветствие бывшего зампреда.
Хотела пройти мимо, но у зампреда было, видимо, желание и потолковать со встреченным здесь знакомым человеком, – он не дал ей пройти, остановил:
– Что, едете куда-то? Или, наоборот, кого-то к себе приглашаете?
– Да нет, паспорт все пока получить не могу, – сказала Маргарита.
– А что такое? – поинтересовался бывший зампред. – Тянут, говорят, не поступило разрешение на выдачу?
– Именно, – коротко подтвердила Маргарита.
– Так, так, – раздумчиво проговорил бывший зампред. – А скажите, у вас какая форма допуска?
– Что значит, форма допуска? – недоуменно спросила Маргарита.
– Ну, вот вы работаете там, в администрации, какая у вас форма допуска к секретной информации?
– Да я там давно уже не работаю, – пожала плечами Маргарита.
– Это не важно, – махнул бывший зампред рукой. – Работали. И вот когда работали, какая она у вас была? Первая, наверно?
Маргарита снова недоуменно пожала плечами. Она не понимала бывшего зампреда.
– Не было у меня никакого допуска. Работала и все.
Бывший зампред покивал:
– Понятно. Понятно. Это вы, значит, просто не знали. Был, конечно, допуск. И конечно, первая форма. Там в администрации только у поломоек не первая. Это я вам точно говорю, я знаю. Я, видите ли, тоже некоторый срок начальничком поработал, поварился в этом котле. Еще до расстрела Белого дома. Заместителем председателя райсовета. Избрали на демократической волне в свое время.
– И что это означает, что первая? – Смысл сказанного бывшим зампредом стал понемногу доходить до Маргариты. – Мне не дают паспорт из-за того, что у меня была эта форма?
Признаваться бывшему зампреду, что она знает его как раз с той самой поры, когда он был «начальничком», она не стала. Что бы это меняло? Ничего это не меняло.
– Думаю, что из-за этой формы, – подтвердил ее предположение бывший зампред. – А из-за чего еще? Сейчас ведь любому бандюгу́ за границу поехать – пожалуйста, дорога закрыта лишь тем, кто носитель секретов.
– Какой я носитель секретов! – воскликнула Маргарита. – Да они все, кто, вы говорите, начальнички, ездят и ездят, у всех паспорта, и никто им не запрещает.
Бывший зампред вновь согласно покивал:
– Ездят, ездят. И никто не запрещает. Правильно. Зачем они сами себе запрещать будут? Только паспорта у них какие?
– Какие? – опять не поняла Маргарита.
– Синие! Дипломатические. Значит, им, сколько секретов ни знают, все можно. Можно, положено, дозволено.
Маргарита была ошеломлена. Хорошенькую информацию сообщил ей бывший зампред!
– Так что же, так мне и не получить паспорт, раз у меня был этот допуск?
– Не знаю, – сказал бывший зампред. – Вообще они не имеют права не дать. Но кому-то там, где проверяют сведения о нас всех, нужно поставить свою подпись. И вот он не хочет. Перестраховывается. Все ведь осталось по-прежнему. Вся система. Зачем ему, если вдруг что, отвечать? Нужно, чтобы кто-то, как говорится, из органов походатайствовал за вас. Есть у вас кому походатайствовать?
– Из органов? – ненужно переспросила Маргарита. – Еще не хватало!
– Ну, сходите к начальнику ОВИРа, прорвитесь, поговорите с ним, – предложил бывший зампред. – Может быть, я и ошибаюсь. Хорошо бы, конечно, чтоб ошибался.
К начальнику! Это была идея. Маргарита подосадовала на себя, что не додумалась до этого сама и раньше. Настроение у нее сразу пришло в норму. Конечно же, пойти к начальнику – и все разрешится наилучшим образом. А прорваться к нему – это не задача.
Чувство благодарности к бывшему зампреду за то, что узнал ее, остановил, заговорил, требовало отплатить ему его же монетой: поинтересоваться его делами.
– Как мои дела? – отозвался бывший зампред на ее вопрос. И усмехнулся. Покачал головой. – Да вот собираюсь на постоянное место жительства в Германию. Выправляю документы. Уеду скоро – прощай, Россия.
– Вы немец, да? – понимающе, как бы поддерживая его решение, проговорила Маргарита.
Еврейских черт в лице бывшего зампреда не проглядывало.
– Русский, – сказал зампред. И вновь усмехнулся. – Но стал на старости лет евреем.
– Как это? – Маргарита не поняла.
– Так это, – эхом ответил зампред. – Я, видите ли, после того, как Белый дом расстреляли, советы все разогнали, так никуда на приличную работу и не смог устроиться. Не берут! Шарахаются, как от прокаженного. Боятся. И в институте, где прежде работал, то же самое. Кем я только не перебыл за это время! Даже риэлтором пробовал, квартирами торговать. Еле жив остался. И нигде заработать не могу. Не получается!
– Но что значит, вы стали на старости лет евреем? – напомнила ему Маргарита.
– То, что стал. Мне подсказали: купи метрику. Раньше, если в паспорте другая национальность, Германия устному заявлению верила, что ты еврей. Напиши только, что мать еврейка или отец, и все. А теперь строже стало: нужна метрика с национальностью родителей. Сто долларов мне эта метрика стоила. Поеду теперь в Германию. Буду на пособие жить. На еду хватит, а крышу над головой дают. Все лучше, чем здесь. Здесь я на кусок хлеба заработать себе не могу, а до пенсии еще ползти и ползти. Не доползу! Устал, ужас!
Вид у бывшего зампреда и в самом деле был измочаленный, в глазах – пыльная пустота, не скажи он, что до пенсии ему ползти и ползти, Маргарита решила бы, что пенсионный возраст для него давно наступил.
– Что ж, счастливо вам! – сказала она.
– Да уж, да уж, дай бы Бог! – с признательностью откликнулся бывший зампред. – Нелегко, знаете, ох, нелегко, оказывается, поменять национальность. Не имел представления, до чего нелегко. Все равно как от самого себя отказываешься. Но что делать? Выхода нет, здесь – хоть в петлю!
Маргарита поняла: если его не прервать, бывший зампред будет говорить об этом и говорить – хоть до закрытия ОВИРа. Ему хотелось поделиться своими переживаниями, кричать об этом на каждом углу, но, наверное, в кругу знакомых и близких этим было не поделиться. Чтобы не нашлось легкого на руку доброжелателя, который бы сообщил о нем, куда следует, правду. И вот он избрал на роль исповедника ее. Она была знакома с ним, но не знала, как он полагал, даже его имени, и потому подходила для этой роли как нельзя лучше.
– Счастливо вам! – сказала она еще раз, прерывая бывшего зампреда. – И спасибо за совет. Воспользуюсь им. Непременно.
К начальнику ОВИРа Маргарита попала уже на следующий день.
Подтвердить предположение бывшего зампреда, что разрешение на получение паспорта задерживается из-за ее службы в президентской администрации, начальник ОВИРа не мог.
– Откуда ж мне знать, почему задерживается? – пожал он плечами, когда Маргарита спросила его об этом впрямую.
– Но можно же сделать запрос, вы же знаете куда, к кому обратиться, – сказала она.
– А почему вдруг я должен это делать? – глядя на нее веселящимися прищуренными глазами, поднял он брови.
Слова его прозвучали как предложение: заинтересуйте меня, чтоб я захотел это сделать!
Маргарита ответно смотрела на начальника ОВИРа оживленным, играющим взглядом, словно была готова откликнуться на его предложение, – и понимала: деньги он не возьмет. Не нужны ему деньги. Деньги он возьмет с кого-нибудь другого. По тому, как он смотрел на нее, было ясно: он бы хотел взять от нее натурой.
Сергей между тем уже получил от своих знакомых в Америке гостевые вызовы. Следовало начинать оформлять документы, идти в американское посольство за визой, – и ничем невозможно было заниматься. Потому что у нее отсутствовал паспорт. Шел май, перевалил на вторую половину, по телевизору, по радио, в газетах семибалльным штормом бушевала компания по выборам нового президента.
Сергей начал психовать. Вот выберут коммуниста, закроет ворота – вообще никуда не выедем, ярясь, говорил он. Почему обязательно коммуниста, отвечала Маргарита, совсем необязательно. «Да кого бы ни выбрали, что, в этой стране что-нибуь путное можно сделать?!» – неистовствовал он.
На эти его слова отвечать Маргарита уже не осмеливалась. Эти его слова недвусмысленно подтверждали то, что, в принципе, ей было ясно и так: истинная причина психотни Сергея заключалась вовсе не в страхе перед тем, кого выберут. Он сходил с ума от своей межеумочности. Здесь для него были закрыты все двери, жизнь здесь остановилась – будто высыпался до последней песчинки песок из песочных часов, – а жизни там все не наступало, она все отодвигалась, отсрочивалась – словно песочные часы, которым, чтобы время опять потекло, должно было перевернуться, продолжали и продолжали стоять в своем прежнем, мертвом положении.
Она не могла бы обвинить его в страдательной бездеятельности. Ожидая от своих знакомых в Америке запрошенных вызовов, Сергей одновременно предпринял несколько попыток устроиться на работу здесь, – ничего у него не вышло. Он был меченый. И если где было о том еще неизвестно, то с его появлением там тайна невдолге раскрывалась. Он договаривался о месте в каком-нибудь малозаметном издании, получал от них пробное задание, а пока выполнял его, писал текст, те, не торопясь, связывались с журналом, где служил прежде, – и когда с текстом вновь появлялся в редакции, тот уже там не требовался. Он был меченым, и от его метки положено было открещиваться. С изнанки редакционная одежда могла быть какой угодно, но с лица – белоснежно-чистой. «Я ж ничего не зарабатываю, сидим здесь – попусту проедаем деньги!» – бесновался Сергей день ото дня все чаще и чаще.
Экономя деньги, он съехал с квартиры, которую снимал прежде и где они обычно встречались, перебрался к Маргарите, и теперь в одной комнате жили они вдвоем, в другой – мать. То, что приходилось жить вместе с матерью Маргариты, было дополнительной причиной, сводившей Сергея с ума. «Ну, ты служила в администрации, у тебя там какие-то знакомства остались, пошеруди по ним, не может быть, что никто не знает, к кому позвонить следует, чтобы с мертвой точки все сдвинуть!» – начал он нажимать на Маргариту.
– Да ну не к кому мне обратиться, не к кому! – не выдерживала, тоже принималась кричать Маргарита. Ненавидела себя за этот крик – и не могла сдержаться.
Она уже позвонила тому начальнику отдела при комиссии, что не хотел отпускать ее, Василий Петрович обрадовался, услышав ее голос, и с удовольствием проговорил с нею на самые разные темы целые полчаса, но когда Маргарита высказала ему свою просьбу, сокрушенно поохав, ответил отказом: «Что вы, что вы! Как я в тот департамент могу соваться? Там не знаешь, как встретят. Хорошо если просто пошлют подальше, а то ведь телегу накатают: такой-то вмешивается!» Оставался, конечно, еще вариант с ушами – тем бескостным кремлевским чиновником, избранным ею тогда в любовники по причине полного безрыбья вокруг, но с какой стати он должен был поступить иначе, чем начальник отдела? Тем более что она послала его подальше.
Втайне от Сергея после очередного их пусто-бессмысленного истеричного разговора о паспорте Маргарита снова сходила к начальнику ОВИРа.
Он запомнил и ждал ее – она тотчас поняла это по его оживленному, радостному виду, с каким он ее встретил.
– Да, так что, все так и нет паспорта? – с этими оживлением и радостью спросил он Маргариту.
– Ну, так вы же не обращались, куда следует, не подтолкнули, – настраивая себя на ответное радостное оживление, сказала она.
– А с какой стати я должен был обращаться?! – воскликнул он.
Заинтересуйте меня, заинтересуйте, звучало в его голосе.
И теперь Маргарита была уже готова к тому, чтобы заинтересовать. Несмотря на то, что начальник ОВИРа был ей неприятен даже и чисто внешне. Он весь был какой-то шныряющий. Ему, должно быть, подходило к сорока, но он – ростом, фигурой, всей статью – походил на подростка, и подростка вполне определенного типа – шпанского. Она еще помнила чувство, что охватывало ее, когда школьницей приходилось проходить мимо компаний такой шпаны, и сейчас при мысли о том, что, может быть, придется ему отдаваться, это чувство поднялось к горлу распирающим рвотным комом, название которому было ужас. На уши начальника ОВИРа, хотя так и просилось глянуть на них, она заставила себя не смотреть. Она знала и так, что уши у него – сама гадость.
– Боже мой, неужели такой женщине, как я, нужно кого-то чем-то заинтересовывать? – сказала она, садясь на предложенный начальником ОВИРа стул нога на ногу – открывая себя едва не до трусиков. Погода стояла уже совсем летняя, и всей одежды на ней было – легкая блузка, распашная жакетка и короткая юбка, которую, садясь, так естественно было еще и поддернуть вверх. – Вам что, трудно позвонить, куда нужно, узнать?
Начальник ОВИРа заглотил заброшенную Маргаритой примитивную наживку, как тот самый шпанистый подросток. Взгляд его будто приковало к ее ногам. И он даже двинул вверх-вниз кадыком, сглатывая слюну.
– Да нет, в общем, нет, – сказал он, с трудом отрывая взгляд от ее ног, – не трудно. Можно позвонить.
– Так в чем дело? Позвонить и сказать: пусть там все живо, сколько можно тянуть. Чтобы пара дней – и разрешение у вас на столе!
Выдав ему подобное указание, она задела его профессиональное чувство. И это профессиональное чувство, может быть, противу желания начальника ОВИРа, сделало стойку.
– Как это я так могу им приказать: два дня – «и на столе»?! Это их дело, дать разрешение, не дать. А позвонить, – начальник ОВИРа, казалось, замурлыкал, – позвонить – непременно позвоню… Может быть, там просто затерялось, заложилось куда-то… Но, чтобы нашлось, нужно, конечно, подтолкнуть, не подтолкнешь – не поедешь…
Маргарита шла из ОВИРа, и ее сотрясало от исступленного внутреннего хохота: надо же, нашла кому отдаваться – мелкой шавке! Как удачно, что, не желая того, наступила случайно на его профессиональную мозоль. Только он то и может, что позвонить!
Следующим, последним шагом, который она могла предпринять, было обращение к Семену Арсеньевичу, компаньону Атланта. Уж он-то как бывший гебист точно знал, куда следует обращаться, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Может быть, даже знал к кому. Но на этот шаг надо было решиться. Созреть. Обратиться к Семену Арсеньевичу после того, что они сделали с нею, было все равно, что добровольно лечь под каток.
Маргарита созрела для того, чтобы лечь под каток, недели через две после визита к начальнику ОВИРа.
– Рита?! – как поперхнулся Семен Арсеньевич, услышав ее голос. И, чтобы скрыть растерянность, употребил свое обычное присловье: – Нет слез, меня душат слезы.
– Не задушат, – сухо отозвалась Маргарита. – Вы мой должник, вы помните?
– Ну-у, – не зная, что отвечать, протянул Семен Арсеньевич, – в известной мере, в известной мере… – И, видимо, сумел взять себя в руки – что и говорить, школа у него была хорошая: – Я бы вообще не ставил вопроса таким образом. Я, Рита, вам благодарен – вот бы я как сформулировал.
Что ж, это уже было неплохо. Маргарита опасалась, что Семен Арсеньевич просто пошлет ее куда подальше. Как послал тогда к своему тезке бандиту.
– Вас не угнетает это ваше чувство благодарности? – спросила она.
– Ну-у… – снова протянул он, судя по всему, обдумывая ответ со всевозможным тщанием. – Может быть. В некотором роде.
– Хотите избавиться от него?
– Интересно. – В голосе компаньона Атланта и в самом деле послышалась заинтересованность. – Каким образом?
– Окажите мне услугу.
Стремясь как можно лапидарнее, Маргарита описала ему ситуацию с паспортом, – и Семен Арсеньевич тотчас все понял. Можно сказать, схватил на лету. Он был схватчив – чего не отнимешь, того не отнимешь.
Дайте мне неделю на выяснение, услышала от него Маргарита.
Когда она положила трубку, у нее было полное ощущение того, что эти несколько минут разговора ей действительно пришлось держать на себе каток.
Через обещанную неделю никакого ответа Семен Арсеньевич не дал. Он попросил еще неделю.
Между тем вал предвыборной президентской компании с грохотом обрушился послевыборной тишиной, и дыхание этой тишины было зловещим. Главу государства не выбрали. А в предстоящий второй тур прорвались два бывших секретаря обкомов – один уже показавший себя во всей красе, второй ясный в своей красе и без показа.
Сергей запсиховал с новой силой: «Этого вшивого демократа никто не выберет, придет тот, коммунист! Придет – и сразу первым делом амбарный замок на границу. Кто не уехал – просим не беспокоиться!» «Нет, почему, даже если и так, все равно сразу все гайки не закрутить, пройдет какое-то время», – успокаивала его Маргарита. О том, что позвонила этому Семену Арсеньевичу, ждет от него сообщения, она Сергею не говорила. Очень даже могло ничего не выйти, и обнадеживать Сергея лишний раз, терзать его новым пустым ожиданием – это, казалось Маргарите, было бы с ее стороны жестоко. Она только сказала ему, что не оставляет попыток получить паспорт и, в принципе, не могут они не дать его, обязаны дать и в конце концов дадут непременно. Дадут, дадут, пробормотал он в ответ на это, так дадут – будешь счастлив, когда не давали. Маргарита промолчала. Она ждала звонка Семена Арсеньевича.
Семен Арсеньевич прорезался, как обещал, ровно через неделю.
– Что, Рита, могу больше не чувствовать себя благодарным, – услышала она в трубке его голос. Спеша выложить ей информацию, Семен Арсеньевич даже не поздоровался.
Заковыка, оказывается, была даже не в допуске. То есть в нем, но с этим допуском, продолжай она работать в президентской администрации, ей бы уже давно дали паспорт, а так как она ушла, числилась теперь в какой-то частной конторе, прошлое обладание этим допуском стало камнем преткновения.
– Рецидивы советского сознания, Рита, – сказал Семен Арсеньевич со смешком. – Проклятое советское прошлое тянет нас назад.
Маргарита оставила без внимания его ерничанье. Ей не было дела до его комплексов бывшего гебиста.
– Но дадут, да? Дадут?! – закричала она.
– Должны. Беседа, с кем надо, проведена, указания даны, все должно быть нормально. Через месяц будет.
– Через месяц! – невольно обрушила на него свои чувства Маргарита.
Через месяц – это было через вечность.
– Может быть, и пораньше. Поинтересуйтесь. – Семену Арсеньевичу, в свою очередь, не было дела до ее обстоятельств.
– Но от чувства благодарности, – приводя себя в равновесие, проговорила Маргарита, – вы можете быть свободны только после того, как я действительно получу паспорт. Не раньше.
С Семеном Арсеньевичем она могла быть – словно нож, рассекающий масло, с Сергеем Маргарита сама была этим маслом. Когда, с закинутыми ему за шею руками, счастливо вжимаясь в него всем телом, она известила Сергея о полученной новости, вместо того, чтобы ответно обрадоваться, он потемнел глазами, помертвел лицом – и освободился от ее рук, отодвинул от себя.
Она сразу поняла, что он сообщит ей сейчас что-то ужасное. Не что-то неприятное, а ужасное. Она знала такое его лицо. О, как знала!
– Видишь ли… Да, видишь ли, – избегая ее взгляда, глядя в сторону, тяжело проговорил он.
Еще бы ему было легко. Сделать такое, понимать, что сделал, – и признаваться в том!
Оказывается, Сергей втайне от нее уже побывал в американском посольстве. И не просто побывал, сдал документы, но у него состоялось и «интервью» – как в посольстве называли собеседование. А и более того: он уже имел визу – штампик в паспорте, дававший ему разрешение на въезд. Он ее получил не далее как сегодня. И как раз собирался во всем Маргарите открыться.
«Как ты мог! Втихомолку! Это предательство!» – рвался из нее крик, но Маргарита не позволила себе даже намека на упрек.
– Ну хорошо, – сказала она, демонстрируя абсолютное спокойствие, – виза ведь не обязывает тебя уезжать немедленно. Дождемся моего паспорта – и поедем.
Лицо у Сергея пришло в движение. Из мертво-застывшего оно сделалось вызывающе упрямым.
– Дождемся моего – и поедем, – повторила Маргарита.
Губы у него разомкнулись.
– Нет. Я больше не могу ждать. Я прямо сейчас.
Словно бы что-то обрушилось в Маргарите. Ей даже показалось, это было похоже на сход горной лавины – чего она никогда в жизни не видела, только в кино и на видеокартинке. Но то, как ее протрясло – с головы о ног, – невозможно было бы уподобить ничему другому.
– Сережа! Сереженька! Сережка! – выговорила она тугим, отдавленным лавиной языком. – Зачем? Что ты! Столько мы ждали… Еще месяц – и вместе!
Он помотал головой:
– Я сказал!
– Сере… – снова начала она, и кошмарная догадка осенила ее: – Может быть, ты хочешь еще сказать, что купил и билет?
Он купил и билет.
Обида была такой нестерпимой, такой ужасной, что удержать ее в себе – значило разорваться. Лопнуть, как передутый воздушный шарик.
– Если ты в самом деле уедешь без меня, – с трудом вылепляя слова своим отдавленным тугим языком, сказала она, – я не поеду. Или вместе, или я не поеду.
Боялась взорваться она, – взорвался он.
– Без шантажа! – закричал Сергей. – Без шантажа! Надоело! К черту! Не приезжай! Сиди здесь! Сгнивай! Спи со своим старым козлом! Давай ему! Очень ты мне нужна там, каких фортелей от тебя там ждать?!.
«Сережка, Сережа, Сереженька!..» – стояло на языке, просилось сойти с него, но уже не могло сойти. Она была ему там нежеланна! Он заранее боялся ее там, в Америке! Он хотел уехать один, совершенно точно, только не мог решиться, – и вот решился! Унижение было слишком велико, непомерно.
– Катись, – сказала она. Предполагала громко, отчетливо, а получилось – шепотом. Сдавленным, свистящим – будто змеиный шип. – Прямо сейчас. Сию минуту. Немедленно. Со всеми вещами. Ночуй хоть на уличной скамейке. Мне все равно. Катись!
17
Выходя из метро на «Речном вокзале» и садясь на автобус до «Шереметьево», Маргарита все время оглядывалась, опасаясь, что Сергей может ехать этим же автобусом и они сейчас столкнутся нос к носу. И в автобусе первые две остановки она тоже то лишь и делала, что внимательно изучала заполненный народом салон – вдруг при посадке она не заметила его, и Сергей все-таки здесь. Но его не оказалось, она успокоилась, нашла на сидении удобное положение и уже до самого аэропорта ни на что внутри салона не отвлекалась, глядя в окно. Сергею, в принципе, было еще рано в аэропорт, до его рейса оставалась еще уйма времени, – она специально выехала с таким запасом, чтобы наверняка приехать туда раньше него и не пропустить. А кроме того, он мог поехать в аэропорт и на такси.
В аэропорту Маргарита выяснила, где будет оформляться рейс на Нью-Йорк, и, примостясь в стороне, стала ждать. Она не знала точно, зачем приехала. Она хотела увидеть его – это да. Но что-то и еще. Что? Маргарита не понимала того и сама. Просить у Сергея прощения, вымолить его и чтобы он, улетая, попросил, в свою очередь, ее прилететь к нему? Похоже, она была готова к тому, чтобы молить его о прощении.
Ей пришлось провести в своей засаде без малого два часа. Увидела Маргарита Сергея, когда он заполнял таможенную декларацию. Она смотрела в тот угол, где толпились конторки с бланками деклараций, минуту назад перед тем, – его там не было; отвела взгляд, взглянула вновь, – он уже топтался около конторки с серым листком бланка в руках и вчитывался в требования декларации, собираясь ее заполнять. По-соседству с ним паслась аэропортовская металлическая тележка, забитая сумками и чемоданами, – нет, на автобусе с таким грузом он приехать не мог, только на машине. Откуда столько багажа и взялось.
Маргарита жадно вглядывалась в него, вгрызалась взглядом, физически ощущая себя подобием некоего консервного ножа, вскрывающего запаянную герметически банку, пыталась проникнуть внутрь этой банки – и не могла, недоставало сил, умения? или жесть была слишком толста? Она едва удерживала себя, чтобы не броситься к Сергею, вцепилась в ладонь ногтями – до слез от боли, и так не позволила ногам сделать ни шага, и двинулась с места лишь тогда, когда двинулся он.
На его рейс уже пропускали, смотрели документы, просвечивали багаж, и, заполнив декларацию, Сергей со своей забитой вещами тележкой сразу переместился в очередь к столу таможенников. Здесь, в очереди, клубившейся тесной толпой, видеть его Маргарите стало значительно хуже, здесь его то и дело перекрывали собой другие люи, но зато он был здесь совсем близко от нее – подать рукой, – и, когда открывался, она могла видеть все мелкие частности его одежды, и во всех подробностях могла читать его лицо. Оно-то, его лицо, и было для нее важно. Она исследовала его с тщанием и страстью археолога, воссоздающего по откопанным черепкам заваленную веками жизнь.
Лицо Сергея было ужасно. На нем не было и следа потерянности, которую она ожидала увидеть. Ни следа мук от происшедшего между ними. Ни тени внутренней душевной тяжести. Ни малейшего страдания или угнетенности.
Это было легкое, светлое лицо. Вдохновенное, открытое предстоящей жизни и счастливое своей готовностью к ней.
Маргарите бессмысленно было молить у него о прощении. Ему не за что было ее прощать. Он уже не помнил ничего, что связывало их недавно. Он не помнил даже, кто она такая.
Маргарита видела еще, как он, пересекши пустое пространство между столом таможенного досмотра и стойкой оформления билетов, стоял со своей тележкой сдать багаж, получить посадочный талон, видела, как он, все уменьшаясь в размерах, пошел дальше – к пограничному контролю, чтобы исчезнуть за темной, непрозрачной пластмассовой перегородкой, но, когда вышла из здания аэропорта, дошла до остановки, снова села в автобус и ехала им обратно к «Речному вокзалу», перед глазами у нее все стояло его лицо. Счастливое, безмятежное лицо, горящее азартом предстоящей жизни.
Отец прорезался через неделю, как она перестала появляться в его офисе у Красной площади.
– Я скисла, – ответила ему Маргарита на вопрос, куда подевалась. – Как сметана. Прогоркла и воняю.
Отец в трубке похмыкал. Он все же был художник и умел ценить красочность речи. Но он к тому же был и деловым человеком. Хотя и понтярщиком.
– Как так! – прохмыкавшись, сказал он. – Еще не хватало. Ты мне завтра нужна. Покисла – и хорош, снова в строй.
– Ты не по-онял! – заорала, заколотила невидимо для него в воздухе рукой Маргарита. – Я скисла, скисла, все! Напонтярилась, отпонтярилась, выпонтярилась! Нет больше моих сил понтярить, дела хочу, дела, дело делать!..
– Хочу быть честной, – подытожил отец. – Понятное желание. Кто ж не хочет. Только, дорогуша моя, за честность я платить не могу. Знаешь как: честной жене – привязанность, а денежки – бесчестной мляди.
– Ну и не надо! – крикнула Маргарита. – Кто тебя просит?!
Ох, и гривуазен он был. От хорошего семени она завязалась.
Но все же отец оказался отцом. Позвонив ей так еще несколько раз и не уговорив вернуться, он включил свои «предпринимательские» связи и устроил ее на работу в некую финансовую школу – менеджером в учебную часть.
– Давай, дорогуша моя, попаши, – сказал он при встрече, отдавая ей трудовую книжку со всеми необходимыми записями и печатями. – За те же деньги, да с утра до вечера, да каждый день. Узнай, как честные люди живут. Но ко мне обратно прикатишь, не думай, что так вот – раз, и возьму обратно. На коленях поползать заставлю. До крови. А по-другому вы не понимаете. Кровь вас только и вразумляет.
– Не прикачу, – ответила ему Маргарита. – Не жди.
– Ну, не прикатишь, живи тогда, как честная женщина, – хохотнул отец.
О том, почему она так неожиданно скисла, не случилось ли с нею что, он даже и не спросил. Не поинтересовался.
Да по ее виду, наверное, нельзя было бы и подумать, что у нее что-то случилось. Она сказала отцу, что «скисла», но на самом деле она не позволяла себе раскиснуть. Держала себя в руках. Чего ей это стоило – держать себя в руках! Она держала себя не в руках, – в тисках. Закрутила винт до упора – не вздохнуть, не охнуть, только одно – молчать. Мамочка, почему, зачем, не хочу! рвался из нее крик – и не мог вырваться.
Между тем, секретаря обкома, бывшего последнее время президентом, избрали президентом вновь, он вновь приступил к отправлению обязанностей главы государства, и все вокруг тоже словно бы вернулось в прежние берега, потекло с прежней скоростью, прежним образом, прежним порядком. Лето, странно не начавшись, стремительно полетело к концу, а там зашелестела сухим листом под ногами и осень. Маргарита, невидимо для всех туго сдавленная тисками, в которые закрутила себя, снова, как в свою пору в администрацию президента, ездила к девяти утра и приезжала домой в восьмом часу вечера. Только если тогда она ездила в самый центр Москвы, то теперь на окраину, где в некоем бывшем производственном здании из грязных железобетонных плит располагалась непонятная финансовая школа, учившая на дилеров-шмылеров, операционистов-вористов, бухгалтеров-обмантеров – на кого, собственно, она толком и не понимала. В ее обязанности входило составлять-утрясать расписание, обзванивать преподавателей, обеспечивать учащихся методическим материалом – и она занималась этим, ни во что больше не вникая. Натаскай обезьяну – та справилась бы с ее обязанностями не хуже. Не хотела в школу – вот попала. Права, не в ту, в какую не хотела. Совсем не в ту. Но все равно. Забавно. Даже смешно.
В финансовой школе Маргарита проработала до Нового года. А вскоре после него, сама не очень-то одобряя, что делает, перешла на работу в рекламное агентство. Денег в агентстве больше не обещали, наоборот, могло получаться меньше, потому что здесь она зависела от количества сделок, которые должна была заключать, но в школе со своей обезьянней работой она ощущала себя словно бы в некоем загоне, в резервации размером с пятачок, шаг влево, шаг вправо – забор, и жить, постоянно натыкаясь на загородку, – это на нее действовало угнетающе.
Срок ее службы в рекламном агентстве оказался еще короче, чем в финансовой школе. Рекламное агентство рухнуло спустя несколько месяцев после ее прихода туда, и в середине весны Маргарита осталась без работы в очередной раз.
Теперь она пошла в риэлторы. Фирма, в которую ее взяли, была одной из известнейших, логотип фирмы мелькал в рекламных разделах всех газет, попадался на улице, проскакивал по телевизору, с женщинами, позвавшими ее работать вместе с ними, Маргарита и познакомилась, когда готовила по их заказу очередную рекламную компанию фирмы. Женщины зарабатывали по тысяче и по две тысячи долларов в месяц, они обещали, что Маргарите с ее активностью несложно будет заработать и больше.
Риэлторство у Маргариты не пошло с самого начала. Оказалось, чтобы хорошо зарабатывать, следовало уметь хорошо разводить. Клиентов, начальство, руководство фирмы. Писать в документах одно, говорить клиенту другое, показывать в отчетах третье. Но главное, содрать с клиента сверх официального процента как можно больше. Будь это старик, больной человек, прижатая нуждой семья, меняющая жилье в центре на окраину. Нужно было запугивать, угрожать, шантажировать… Женщины, позвавшие ее в фирму, делали все это с блеском, Маргарита не могла. Это было похоже на бандитизм, что еще? Самый настоящий, только замаскированный под бизнес.
В начале лета Маргарита снова оказалась на улице. Мысль вернуться к отцу приходила в голову все чаще. Впрочем, мысли о школе возникали не реже. Не о финансовой, куда ее, разумеется, больше не взяли бы. Об обычной. Общеобразовательной. Русский язык и литература, заработок – чтобы не протянуть ноги с голоду. Но если идти в школу, в любом случае следовало дожить до конца лета. Начислять зарплату раньше сентября никто бы ей все равно не стал.
Пойти продавцом? Маргарита думала и о таком. Заходила в магазины – и стояла, наблюдала за работой продавщиц. В торгующие одеждой, всякой хозяйственной утварью, обувные, цветочные, продовольственные. И понимала, что не сможет продавщицей. Надо было родиться кем-то другим, чтобы стоять торговать. С другой головой. С другими желаниями. С другим составом гормонов.
В конце концов она додумалась. Устроиться личным помощником главы какой-нибудь фирмы. Или референтом, как там будет называться должность. Собственно, заниматься тем же, чем занималась в президентской администрации. Английский можно подтянуть, компьютером в той мере, в какой это нужно обыкновенному пользователю, работая у Скоробеева, она овладела.
И весь июнь и июль Маргарита исправно покупала то одну, то другую газету, где печатались объявления о работе, ходила в ближайшую библиотеку, листала газеты там, выписывала телефоны, звонила, посылала резюме, ездила на собеседования. И ни в одном месте ее не взяли. Оказывается, она уже считалась старой, – многим боссам нужны были девушки не старше двадцати трех. Ее работа в президентской администрации тоже вышла ей боком, – никто не верил, что она ушла сама, по собственной воле, и ее ответ расценивался как желание скрыть истинную причину. Несколько фирм оказались обыкновенными борделями. Деньги в доме закончились, с согласия Маргариты мать, простояв три дня в подземном переходе у станции метро, продала то вечернее платье, что отец купил ей в итальянском бутике для приемов, потом продала ее новые, неношеные туфли, потом кожаную курточку. Над головой вновь вьюжно засвистело девяносто вторым годом, зловонно опахнуло дыханием нищеты.
Наступил август. Маргарита больше не покупала газет и не ходила в библиотеку. Подождать еще немного – и за направлением в училки. Ничего иного не оставалось. Вперед, вперед, друзья свободы! К отцу, решила она бесповоротно, не приползет. Хватит, наползалась.
Но при этом она жила со странным чувством некоего близкого счастья. Ну, если не счастья, то настоящей, большой радости – по крайней мере. Которая уже ждала ее, изготовилась к встрече, и дело осталось за малым: пересечься.
Маргарита отмахивалась от этого чувства, вытаптывала его в себе, потешалась над собой: ждет уже, конечно, рядом! – но избавиться от него не могла.
Что это было? Защитная реакция психики? Наверное, так.
18
– Слава! – позвал кого-то за спиной мужской голос.
Маргарита шла по Тверской, бывшей Горького, мимо Центрального телеграфа, спускаясь к Манежной площади. Солнце село, воздух наливался сумеречной синевой, у края проезжей части около тяжелых, похожих на небольшие танки дорогих джипов стайками по трое-четверо толпились весело одетые проститутки. Некоторые были весьма в возрасте и невероятно страшны, с тяжелым слоем штукатурки на корявых лицах, но встречались удивительно молоденькие и свежие, а среди них – и просто чудо какие хорошенькие.
– Слава! – снова позвали за спиной, совсем неподалеку от Маргариты.
Какой-то Слава кому-то нужен, с усмешкой высокомерной гордости отметила про себя Маргарита. Хотела бы она быть кому-то нужной. Она шла, разглядывая толпящихся у джипов проституток, и думала: интересно, а цена тех, что страшны, как смерть, и этих, хорошеньких, совершенно не похожих на продажных, одна или разная? Наверное, разная. А тогда, наверное, тем, что дешевле, ужасно обидно, и злобы в них – как серы в адском котле. Как уж так Сонечка Мармеладова вышла на улицу – и тут же нашла клиента, притащила деньги домой. Вот пойди попробуй вклиниться между этими – еще вопрос, останешься ли жива. Ей казалось, не это бы обстоятельство, она сейчас могла пойти и предложить себя.
Она только что предприняла еще одну попытку устроиться на работу. Объявление в случайно попавшей в руки газете привлекло ее своей странностью: не только высшее образование, иностранный язык, но и хорошие манеры вкупе со склонностью к приключениям. Предложение аудиенции в столь позднее время насторожило, но она уже не могла удержаться: попробовать в последний раз перед тем, как отправляться гнить в школу. Неясные опасения, возникшие, когда договаривалась об аудиенции, оправдались. Это была некая охранная фирма. И никакой личный помощник или референт ни к какому шефу, как то указывалось в объявлении, не требовался. Они искали подсадных уток. Которые бы становились у разнообразных боссов соглядатаями. Заниматься чем-то вроде того, чем она занималась у отца, только уже не изображать из себя пассию, а быть ею, обольстить – и быть, и при этом шпионить. Когда Маргарита, демонстрируя хорошие манеры, поблагодарила за предложение, поднялась и пошла к двери, вышла в коридор, за нею последовал один из собеседователей, молча толкнул в закуток около бронированных дверей выхода с фасетным глазком посередине, и Маргарита увидела перед лицом длинное – никогда раньше не видела такого длинного, – словно прут, острое на конце, как игла, блестящее шило: «Сучка, надо надеяться, понимает, что нужно молчать?! Все данные сучки у нас, если что – вот этой штучкой! Смертность стопроцентная.»
– Слава! – Голос раздался у Маргариты над самым ухом, и в следующее мгновение ее схватили сзади за руку. – Слава!
Маргарита повернулась.
У мужчины, схватившего за руку, была модная стрижка – короткие на висках, длинные на темени ржаные волосы разделены посередине головы пробором и так, двумя крыльями, падали на лоб, – лицо выбрито до какой-то невероятной, зеркальной гладкости, светлые его глаза смотрели на нее с обжигающим азартным возбуждением. В голове стояла картина пережитого десять минут назад, и Маргарита со страхом подумала, что это кто-нибудь из той, охранной фирмы. Только при чем здесь она и «Слава»?
– Простите, – повела она рукой, отнимая ее у мужчины. – По-моему, вы ошиблись.
Мужчина покачал головой:
– Не может быть! Я тебя запомнил. Я тебя запомнил! Еще б мне было тебя не запомнить. Так я старый Новый год больше не встречал. Амазонка! Кто себя называл амазонкой?!
Вон это кто был, Владислав! Маргарита внутренне присела от восторга и хлопнула в ладоши. Надо же! Да-да, он ее назвал вампиршей, а она сказала, что не вампирша, а амазонка.
– Сла-ава! – протянула она. – Слава, куда же ты тогда подевался?
– Ну вот, узнала! – воскликнул он. – Наконец-то! А то уж я… Кричу, кричу – не откликаешься. «Слава, Слава!» – она молчок. Чего не откликалась?
А, вспомнила Маргарита еще, у них как-то так пошел тогда разговор, что он решил, ее тоже зовут Славой. А она не стала разубеждать его. Слава так Слава, не все ли равно. Стоило там тратить силы на то, чтобы разубеждать.
Однако признаваться сейчас в невольном обмане ей не хотелось. Такая пошлость – называться при знакомстве чужим именем. И вот открыться так на ходу в этой пошлости? Иди доказывай, что все это вышло случайно. Потом, решила она. Если это потом будет. А пока без нужды.
– Ты мне сначала ответь, Слава, куда ты тогда подевался, – смеясь, сказала она. – Уж мы с подругой тебя искали-искали – ни следа!
– Меня ни следа! – снова воскликнул он. – Это тебя – ни следа! А мне в тот клуб потом еще пришлось приезжать, учить их гостеприимному обращению!
– Научил?
– А чего ж! – Владислав хмыкнул. – Возвратили всю стоимость вечера, всему нашему столу, плюс столько же за моральные издержки.
– О, ты крутой! – воскликнула теперь Маргарита.
– Не без того, – согласился Владислав.
Маргарита смотрела на него – и ей все четче, все внятнее делалось ясно, что разговор с Владиславом доставляет ей удовольствие. То удовольствие, которое не связано с разговором. Когда не важно, о чем он. Когда, чем бессмысленнее, тем даже и лучше. А там со все нарастающим изумлением она обнаружила, что Владислав и Сергей – как искаженные копии один другого. Не полные, а именно искаженные, отчего она это не сразу и увидела. Ржаные волосы у обоих и светлые глаза. Только у Сергея волосы волнистые и ярче окраской, и ярче глаза. И если в нем – явная, отчетливая женственность, то во Владиславе, наоборот, – прямая, откровенная мужественность. А может быть, ее так бросило тогда к Сергею, что неосознанно для нее самой он показался ей похожим на Владислава? Ведь в клубе, на тот старый Новый год, она вспыхнула сеном-соломой – только увидела его.
– Да, так что, – сказала Маргарита, – не прошло, значит, и трех лет, как положено в сказке, – вот след твой и объявился. Как писал классик, «объявился след Тарасов». И что?
– Что «что»? – переспросил ее Владислав. Он протянул к ней руки, Маргарита не отстранилась, и он обнял ее, вмял в себя животом, грудью, так что ей стало трудно дышать. – Помнишь, как танцевали там?
– О! – протянула она не пресекающемся дыхании. Но ей было ужасно приятно, что он так вминает ее в себя. Проститутки на обочине дороги, схватила она краем глаза, развернулись и стояли смотрели на них. – Еще б не помнить. Помню, Слава, помню!
– А помнишь, просила меня увезти?
Просила увезти? Нет, этого Маргарита не помнила.
– Куда? – спросила она.
– Да хоть куда. – Владислав усмехнулся. Она подняла к нему глаза и увидела, что взгляд его жарко плывет, плавится в желании – он, согласись она, взял бы ее прямо тут, на асфальте, посреди обтекающей их толпы, на виду у этих развлекающих себя соглядатайством проституток. – В Париж хочешь?
– В Пари-иж! – снова протянула она. – В Париж! Какая женщина не соблазнится Парижем? Увозить, так в Париж. Paris is never out of time! – добавилось у нее почему-то по-английски.
– Нет, я серьезно, – сказал Владислав. – Я там живу.
Теперь Маргарита, положив между собой и ним руки, отстранилась от Владислава, чтобы увидеть его лицо яснее. Живет в Париже? Это ей уже не понравилось. Она почувствовала, как внутри у нее шевельнулось раздражение. В Париж! Это уже попахивало понтярством отца.
– А как насчет Нью-Йорка? – спросила она.
– Съездим, – сказал он. – В Нью-Йорк, Лондон, Мадрид, Рим. Куда захочешь. Если позволят дела.
– А если на Луну?
– А! – до него дошло. – Не веришь. – Владислав разжал объятия, отступил назад, достал из внутреннего кармана легкого летнего пиджака темно-красную книжицу и протянул ей: – Смотри. Визу там, французскую визу посмотри. Срок действия видишь? Называется многократная. Бессрочная, считай.
Маргарита покрутила в руках паспорт, полистала его – в нем не было живого места, весь обштемпелеван, на каждой странице. Где тут среди остальных французская виза, она не стала искать. Она поверила Владиславу.
– Да, действительно, – сказала она, возвращая ему паспорт. – Я по свету немало хаживал…
– Но в землянке не жил, – тут же подхватил он. – Еще не хватало, в землянке. У меня прекрасная квартира в Париже. Не на Елисейских полях, но не далеко.
Маргарита почувствовала, как в ней набухает, спеет, почти уже созрела готовность откликнуться на его предложение согласием. Она подумала: похоже на то, как снимают этих девок у джипов. Точно так же.
– У меня, Слава, нет заграничного паспорта, чтобы ехать с тобой в Париж, – сказала она. – И в Лондон, и в Нью-Йорк, и куда там еще?
Она забыла в этот миг, ей начисто отшибло память, что паспорт у нее, вероятней всего, есть, готов, лежит в ОВИРе и нужно лишь съездить за ним, забрать. Чего она после отлета Сергея в Америку так и не сделала.
– А что, какие проблемы? – удивился Владислав. – Пойти в ОВИР и сделать. Пара пустяков!
– Нет, у меня проблемы. Мне не дают. У меня была такая степень секретности.
Маргарита произнесла это – и снова не вспомнила, что уже преодолела свою секретность, что паспорт почти наверняка ждет ее, и всех трудов – доехать до ОВИРа и отстоять в нужную комнату очередь.
– Степень секретности? – иронически отозвался на ее слова Владислав. – Подумать только: такая степень секретности! – Он взял ее за локти и снова приблизился к ней своим плавящимся в желании и оттого остро возбуждающим ее плывущим взглядом. – А если я тебе сделаю паспорт, поедешь? Поедешь, спрашиваю?
– Как это – сделаю? – не поняла Маргарита.
– Мое дело.
– Нет, как?
– Как, как! – с прежней иронией проговорил Владислав. – Как все делается, за деньги! И не через какой не ОВИР, а прямо в МИДе. Дай только имя-фамилию, дату рождения и фотографии.
– А вроде теперь уже так не делается. Это вроде только в начале девяностых так было можно.
Маргарита верила ему уже абсолютно, полностью, и если спрашивала, это спрашивало не сомнение в ней, а просто она не могла решиться дать ему согласие так сразу. Собиралась с силами, чтобы ответить ему «да».
– Деньги сейчас еще побольше нужны, чем в начале девяностых, – отвечая ей, сказал Владислав. – Знать только нужно, к кому обратиться. Связи иметь хорошие. У меня хорошие. Вместе в МГИМО учились.
– И что, прямо так: никаких моих документов, имя-фамилия – и все?
– И все, – подтверил Владислав.
Она верила ему абсолютно, безоговорочно, – и все же, оказывается, сомневалась.
– А ведь это, наверно, немалые деньги?
Владислав прищурил глаз, словно бы прикидывал, какие это могут быть деньги, и кивнул:
– Изрядные.
– И ты готов их платить?
– А едешь со мной?
Маргарита помолчала. Взгляд невольно снова схватил проституток у джипов. Те устали глядеть на них с Владиславом и отвернулись, вновь щебетали между собой на свои продажные темы.
– Поеду, – сказала она, враз осипнув. Откашлялась и повторила: – Поеду.
– Значит, плачу, – сказал Владислав.
Лицо у него было открытое и веселое. Чудное лицо. Недаром она тогда так на него запала.
19
Самолет взодрал нос и взлетел. Стремительно отвалилась вниз взлетная полоса, мелькнула нитка забора, проплыли, на глазах уменьшаясь и превращаясь в набор из детского конструктора, какие-то приаэропортовские строения сарайно-ангарного типа, лес, выплывший под крыло, был похож на ковер мха. Место Маргариты было у окна, и она, не отрываясь, смотрела в него. Грудь разламывало восторгом. Вот это что такое – летать самолетом! Она летела впервые в жизни. Впервые, и сразу в Париж! Paris is never out of time. А впереди – и Нью-Йорк, и Лондон, и Рим, и Мадрид, почему же нет?! Вот тебе, Сережа, за твое предательство. Получи.
В аэропорту, когда проходила через таможенников, через стойку регистрации, сдавая багаж, а после – паспортный контроль, все время, не в силах избавиться от этих мыслей, думала о Сергее. Видела, как проходит предполетные этапы он, представляла на своем месте его – вот, значит, как оно все было с ним, когда стояла там, в темном углу неподалеку от стола таможенного досмотра… Забыла о Сергее она, пожалуй, лишь на короткий миг – когда девушка в будке паспортного контроля, забрав ее паспорт, ожидала каких-то сведений у себя на невидимом дисплее. Маргарита стояла, смотрела сверху на рыжий перманент пограничницы, и от напряжения у нее сводило мышцы на ногах. Все же никакой Славы Анисимовны Рогозовской в природе не существовало. Но девушка дождалась там на дисплее необходимых сведений, покидала глазами вверх вниз – сравнивая Маргариту с фотографией, простучала по паспорту щелкающим агрегатом, ставя штамп о выезде, и выбросила паспорт на стойку: «Пожалуйста. Счастливого пути».
– Что, – сказал Владислав, кладя Маргарите руку на колено, – прощаемся с родимой отчизной? Прощайся, прощайся. Хрена в ней, родимой. Была чушкой зачуханной, ею и останется.
Он впервые позволил себе быть при ней грубым. До этого, все без малого три недели после той встречи на Тверской у Центрального телеграфа, Владислав был, пожалуй, даже изысканно учтив, деликатен, корректен, и она, вспоминая о помянутом МГИМО, случалось, думала с удовлетворением: все же учеба на дипломата – это школа!
Тем сильнее был укол уязвленности, который ощутила Маргарита. Как бы это он произнес про нее: «чушка».
– Ну зачем ты так, – сказала она. И, чтобы не получилось слишком серьезно, сдобрила упрек иронией: – Родина – мать, а о матери так – нехорошо.
– Мать-то мать, да мать бывает и млядь, – не обратив внимания на ироничность ее тона, отозвался Владислав.
Он вновь позволил себе грубость, и похоже, вполне нарочно. У Маргариты просилось ответить ему что-нибудь пресекающее, – и она не нашлась, как это сделать. Она не чувствовала в себе права на это!
Маргарита решила опять отвернуться к окну. Тем более ее так и тянуло к нему. Земля уже осталась далеко внизу, и самолет входил в облака, прошивая собой одно клубящееся белое марево за другим. Удивительное было зрелище. Необыкновенное. Просто потрясающее. Вот оно как, лететь!
Маргарита рывком повернулась к Владиславу, обхватила его руками за шею и, притянув к себе, быстро поцеловала в губы, в щеку, в шею, снова в губы.
– Ты меня везешь в Париж! В Париж! Будем ходить по Елисейским полям! Гулять в Булонском лесу! Ты меня везешь, везешь!
От ее толькошней уязвленности не осталось и следа. Она уже не помнила о ней. Только чувство благодарности к Владиславу.
Владислав, принимая ее поцелуи, довольно похмыкивал.
– О-ох, – протянул он, когда она оторвалась от него, снова кладя ей руку на колено, сжимая его, а сам откидываясь головой на спинку, – ох, как мне надоело таскаться в родное отечество! Непередаваемо. Кто бы знал!
– Все, в последний раз, – сказала Маргарита. – Меня нашел, увозишь, зачем тебе возвращаться? Все, что мог, ты уже совершил.
Владислав снова похмыкал. Только теперь не с довольством, а саркастически.
– А бизнес у меня как крутиться будет? Я с кем торгую? Из России – в Лютецию, из Лютеции – в Рашен.
– А что такое Лютеция?
– Древнее название Франции.
– А чем ты торгуешь? Ну, из Рашен в Лютецию, например?
– Богатствами родины, Славочка, богатствами родины! – Владислав склонился к ней и, наконец, тоже поцеловал. – Чем еще торговать Рашен, кроме своих богатств?
– Лесом, нефтью, металлом, да? – проявила осведомленность Маргарита.
Владислав покривился.
– Нефтью – нет. К нефти, Славочка, лучше не подходить. Страшное дело, нефть! Чужие на этом поле бывают только мертвыми.
Вскинул глаза наверх, над спинками передних кресел, посмотрел на табло впереди – и расщелкнул пристегивающий ремень на животе. Потянулся – и расщелкнул на Маргарите:
– Все. Погасло. Конец «фасен белтс». Легли на курс. «Анфасен». Сейчас горло дадут промочить.
Маргарита видела в фильмах да и просто знала, что после взлета на международных рейсах подают напитки, но она не могла себе и представить, что, когда стюардесса, двигаясь по проходу между креслами с уставленной бутылками высокой тележкой, подойдет к их ряду и услужливо склонится к ней, нагнувшись над сиденьями: «А что вам?» – ее сведет такой судорогой кайфа. О, в этот миг она поняла, тех, кто бредил заграничными вояжами! Надо было испытать самой, чтобы понять. Оказывается, когда тебе служат и ты волен распоряжаться тем, кто служит, как угодно твоей душе, – это удовольствие, которое не сравнить ни с чем! Несравнимое удовольствие. Услада души.
Она собиралась взять минеральную воду в пластмассовом стаканчике, но Владислав, перебив ее, заказал у стюардессы красного вина. И сразу два бокала. Себе он взял коньяка, а оба бокала предназначались ей.
– Пей, не жалей, – сказал он, помогая Маргарите установить перед собой столик и опуская на него бокалы. – Настоящее французское. Не та помойка, что в Москве в магазинах.
Маргарите мгновенно вспомнился отец, показывающий альбом с этикетками.
– А неужели в Москве совсем нет настоящего?
Владислав покрутил в воздухе рукой.
– Случается. Но все равно. Бумажка на бутылке одна, а внутри другое. Отдаешь рубль – получаешь на копейку.
– Откуда ты знаешь? – Маргарита взяла бокал, поднесла к лицу, втянула в себя ноздрями витающий над бокалом аромат вина.
– Да уж знаю, – отозвался Владислав.
– Ты, может, их и поставляешь? – заговорщически скосила на него глаза Маргарита.
– Может быть, – невозмутимо ответил он, отхлебывая из своей рюмки.
Маргарита опустила бокал к губам и тоже сделала глоток. Покатала вино во рту, – и ее окатила волна восторга. Это было вино! Хотя наверняка далеко не лучшее. Даже точно, что самое среднее. Не будут же в самолете угощать коллекционным.
– А? Что? – видимо, проследив за выражением ее лица, воскликнул Владислав. – Вещь, да? Чувствуешь?
– Вещь! Чувствую, – протянула Маргарита. Отпила еще глоток и повернулась к Владиславу, закрыла глаза, потянулась к нему губами.
Но вместо поцелуя получила по губам легкий щелчок пальцем.
– М-м! – недовольно отшатнулась она, открывая глаза.
Владислав смотрел на нее с победной саркастической улыбкой.
– Без излишней эротомании в общественном месте! – И, подмигнув, пообещал: – Ужо попьешь у меня такого! От пуза.
– Нет, от пуза не хочу. Еще не хватало, от пуза. Что я, винохлебка? – быстро ответила ему Маргарита.
Но тем не менее оба бокала усвистели у нее – не заметила как и, когда стюардесса проезжала с тележкой обратно, попросила у Владислава разжиться у той еще порцией.
– Даешь! – сказал Владислав.
Но вино у стюардессы взял, и взял для себя еще коньяка.
– Даем! – принимая у него вино, снова с заговорщическим видом указала Маргарита взглядом на его коньяк.
– Дорогу ведь надо как-то скоротать. – Владислав смотрел на нее все с тою же победно-саркастической улыбкой. – Сдохнуть можно, пока допилишь.
Маргарита не заметила, как допилили. Она допила вино, посмотрела немного в окно, – и уже, оказывается, развозили обед. Пообедала, вновь испытав прежний кайф, когда стюардесса, склонившись, поинтересовалась у нее, что она будет, птицу или мясное, отдала стюардессе спустя полчаса раскуроченный поднос, посмотрела в окно еще, перебрала свою сумочку, искоса поглядывая на отдавшегося объятиям Морфея Владислава, вновь понаблюдала за небом со стеганым одеялом облаков внизу, – и загорелась надпись «Fasten belts».
– Торговцам богатствами родины – подъем! – застегнув свой ремень, повернулась на кресле, склонилась к спящему Владиславу Маргарита.
Глаза у Владислава раскрылись – будто он там, во сне стоял на страже и ждал, когда его разбудят. Они, можно сказать, не раскрылись, а распахнулись – вспыхнули из-под век. И взгляд их был не весело-спокоен, как ожидала Маргарита, а придавливающе-тяжел.
– Как ты меня назвала? – спросил Владислав.
– Торговцем богатствами родины, – дразняще, с видом примерной ученицы, повторяющей по просьбе учителя свой ответ для всего класса, отозвалась она.
– Чтобы больше не слышал такого. – Голос у Владислава был серьезен. Слишком серьезен для столь ничтожной провинности – если считать ее безобидную шутку провинностью. – Не хрена попусту язык распускать.
Укол уязвленности, что испытала Маргарита, когда только оторвались от земли в Шереметьеве, вновь прошил ее острой, сквозной болью. Словно бы тем шилом, что показывали ей в охранном агентстве, куда она ходила как раз перед встречей с Владиславом на Тверской у Центрального телеграфа.
– Есть! – ответила она по-военному, прикладывая руку к виску, изо всей силы стараясь не выказать пронзившего ее чувства.
Владислав, не торопясь, застегнул ремень, достал из кармана все того же летнего пиджака, в котором встретились, платок, обмахнул им углы губ, промокнул подглазья, убрал платок, посмотрел на часы у себя на руке и после этого повернул голову к Маргарите:
– Что, где сегодня будем кормиться? В чисто французском ресторане? В китайском? Или хочешь английской еды? Можно немецкую.
Шило, прошивавшее Маргариту насквозь, исчезло в одно мгновение – как его и не было.
– Конечно, хочу во французский!
– Заметано! – соглашающе поднял брови Владислав.
Вот так, Сережа, сказала про себя Маргарита. Ясно тебе?!
Она снова прильнула к окну. Самолет снижался, облака внизу были уже совсем близко. Через несколько минут за окном стали пролетать белые клочья – и самолет погрузился в туман. В тумане он шел минуту. Или две. Потом сквозь разрывы в поредевшей кисее стали коричнево промелькивать куски земли – раз, другой, третий, и облака остались наверху, земля открылась во всей наготе: зеленые мхи лесков, желтые поля, сизая паутина дорог, серебристые блюдца водоемов, серебристая нитка реки, игрушечные краснокрышие дома… И все это уже была Франция.
Лютеция, произнесла про себя Маргарита.
20
– Любимое оружие Джеймса Бонда. – Владислав погладил лежащий у него на ладони маленький, похожий на игрушечный черный пистолетик, сжал ладонью рукоятку и, просунув указательный палец в спусковую скобу, крутанул пистолетик на пальце. – «Беретта» девятьсот пятьдесят, двадцать пятого калибра. А? Нравится?
Маргарита пожала плечами.
– Мне все равно. Не испытываю никаких чувств.
– А ты возьми, подержи в руке. Сразу начнешь испытывать. – Владислав вложил ей пистолет в руку, заставил сжать пальцы на рукоятке. – Просунь указательный в скобу, просунь! Вытяни руку. Прицелься!
Маргарита, только он отнял свои руки, потянулась и положила пистолет на ломберный столик рядом.
– Не хочу я прицеливаться. И вообще даже в руки брать. Зачем мне это? Не хочу!
Владислав засмеялся:
– Правильно! Не стоит того. – Взял пистолет со столика и снова поласкал в ладонях. – Хреновое на самом деле оружие. Дамская пукалка.
Он подошел к сейфу и, приоткрыв дверцу, положил дамскую пукалку обратно на полку. Рука его повозилась в недрах сейфа и вынырнула наружу с новым пистолетом, и это уже была штука так штука, вдвое больше прежнего.
– Этот нравится? Тоже «Беретта», но девятьсот пятьдесят один. Одна цифирка разницы, но все другое. Тридцать восьмой калибр. Как саданешь, так саданешь, если с близи – можно в грудь навылет.
Маргарита смотрела на черное чудовище в руках у Владислава и чувствовала, как вдоль позвоночника, сверху вниз бежит ознобная струйка холода.
– Зачем ты мне это показываешь? – спросила она.
– Ты же сама спросила, что в сейфе, – хохотнул Владислав.
– Ну я же не думала, что такое.
– А что ты думала?
– Да вообще ничего я не думала. Так просто, – сказала Маргарита.
– Ты думала, что там бриллианты. – Владислав снова хохотнул. – Бриллиантами, Славочка, если что, не отобьешься. А вот этой машинкой, – он похлопал по чудищу у себя в руке, – как саданешь, так саданешь!
Струйка озноба, бежавшая вдоль позвоночника, внезапно расплескавшись по всей спине, сотрясла Маргариту волной холода.
– От кого тебе, если что, отбиваться? Ты что, опасаешься, такое может случиться?
– На Бога надейся, а сам не плошай, – сказал Владислав – словно отвечая на свой собственный, непроизнесенный вопрос, а не на вопрос ее. И вновь протянул ей пистолет: – На, подержи. Такую уверенность дает – сразу весь мир не страшен.
На этот раз Маргарита отшатнулась от него так, что налетела на ломберный столик и больно ударилась о ножку лодыжкой.
– Уйди, не суй, перестань! – заприговаривала она, кривясь от боли. Упала на стул и, согнувшись, обхватила лодыжку, закачалась из стороны в сторону. – Это вообще пушка какая-то, прямо артиллерийское орудие, ей-богу!
Владиславу, видела она, был приятен ее страх.
– Можно использовать как орудие киллера, – будто Маргарита не отшатывалась от него, а, наоборот, просила как можно обстоятельнее рассказать об этой «Беретте 951», покрутил Владислав пистолет у нее перед глазами. – Видишь, резьба на стволе? Навинчиваем на нее вот такую оглоблю, – он отшагнул к сейфу, покопался там рукой и выкатил на свет длинную металлическую трубку, стал наворачивать ее на ствол, – навинтили – и шлепаем, кого надо. Чпок – будто пробка из шампанского выскочила. Ан, глядь, там труп лежит. Чпок, чпок! – произнес он, наставляя невероятно удлинившийся пистолет на Маргариту.
Маргарита завизжала, сорвалась со стула и вылетела в соседнюю комнату.
– Что ты делаешь! Что ты несешь! Ты сдурел?! – прокричала она оттуда.
Владислав, отбросив руку с пистолетом в сторону, хохотал.
– Ты дала, ты сиганула! – выговорил он сквозь этот смех. – Чего испугалась? Он не снаряжен. Пустой. Гляди. – Владислав чем-то щелкнул в пистолете, и снизу, из рукоятки в руку ему вылетел светло-металлический узкий длинный пенал. В стенке пенала, в середине, во всю его длину была выемка, пустое место, как бы экран, и в нем виднелась змейка пружины. – Видишь магазин? Пустой. В него еще патронов набить нужно.
– А патронов у тебя нет? – зачем-то спросила Маргарита.
– Навалом. – Владислав вновь нырнул рукой в сейф и вынырнул оттуда с пластмассовой коробкой, доверху заполненной желтовато-зеленым, тускло поблескивающим братством.
«Маслята», – прозвучало в Маргарите откуда-то знаемое. Наверное, из российских газет и телепередач.
– Ну-ка, – снова зачем-то слюбопытничала Маргарита.
И, прихрамывая от боли в лодыжке, пошла из соседней комнаты к Владиславу, приблизилась к нему, взяла у него из рук коробку. В этой груде патронов было что-то завораживающее. Они были такие маленькие, славные. Так уютно сидели пули в тесно обнимающих их округло-купольные тела юбочках патронов. В них была некая умилительная детскость.
– Ух ты! – вырвалось с восторгом у Маргариты. Она запустила пальцы в эту пластмассовую колыбель, захватила горсть – и ощутила на ладони вес. – Ого! – вырвалось у нее теперь.
– А ты думала! – усмехнулся Владислав.
Маргарита почувствовала: в ней больше нет прежнего страха. Который заставил ее сотрястись от озноба и бросил от Владислава через всю комнату. Пожалуй, в ней была сейчас ревность к Владиславу, что он так близок с этими железными зверюгами, так уверенно обращается с ними – подобно укротителю каких-нибудь львов или тигров в цирке, а она в стороне, ни при чем. Теперь, когда полюбила этих опрятных желто-зеленоватых толстушек в своих тесных юбочках, ей захотелось познакомиться и с их хозяевами, которым они служат, набиваясь в тесное пространство светло-металлических пеналов.
– А как они туда попадают, в этот магазин? – показала она Владиславу захваченную в горсть кучку патронов.
– Гляди. – Он положил пистолет с навинченным на него глушителем на ломберный столик, взял у нее из горсти патрон и поднес его к одному из торцов пенала. – Видишь, отверстие сверху? Вот и пихай в него. На, попробуй, – вложив патрон внутрь, протянул он пенал Маргарите.
Жадная торопливость, с которой схватила у Владислава пенал, показалась чрезмерной и ей самой. Но, осудив себя за нее, с тою же жадной торопливостью Маргарита высыпала патроны из горсти обратно в коробку, оставив один, и, тщательно копируя действия Владислава, наложила патрон сверху того, что вогнал Владислав, нажала пальцем. Патрон мягко и послушно вошел внутрь и, хитроумно придерживаемый в пенале каким-то малым зубцом, остался стоять там.
– Здорово! – восхитилась Маргарита. Схватила из коробки сразу два патрона, вогнала их, схватила еще два, вогнала, хотела взять новую пару, Владислав остановил ее.
– Хорош, – перехватил он ее руку. – Ты на боевое задание собралась, полный магазин напихивать? Гляди дальше.
Отобрал у Маргариты пенал магазина с патронами, взял с ломберного столика пистолет и, поднеся магазин к рукоятке, одним быстрым, ловким движением вбил его в рукоятку.
– Видишь? – повертел он пистолет перед собой. – Вот теперь этот уравниватель шансов готов. Почти готов.
– Что значит, почти? – спросила Маргарита.
– То. Вот на, попробуй, нажми на собачку, выстрели.
– На собачку? – переспросила Маргарита, принимая от него пистолет обеими руками. Все же в ней оставался тот страх, что отшвырнул ее в другую комнату, и еще следовало преодолеть его.
– Вот, на спусковой крючок, – указал ей Владислав. – Нажми, нажми, попробуй.
Маргарита взяла пистолет в одну руку, просунула указательный палец внутрь спусковой скобы. Выставила его перед собой на вытянутой руке. И сразу почувствовала вес. Пистолет был тяжелый – ого! Держать его одной рукой требовалось слишком большое усилие, навинченный глушитель тянул пистолет опуститься стволом вниз, и она поспешно подставила под руку с пистолетом другую, сначала сжав ее в кулак, но так было неудобно, и просто обхватила руку с пистолетом снизу ладонью.
Владислав взревел – как, наверно, это происходит с ошпаренным. Но только в голосе его было восхищение.
– Ну ты! Ну ты! – ревел он. – Абсолютно по правилам! Амазонка, точно! – И подстегнул: – Нажимай.
– Боюсь! – вскрикнула Маргарита.
– Нажимай! – снова приказал Владислав.
Она зажмурилась и нажала. Ничего не произошло. Спусковой крючок под пальцем не двинулся.
Маргарита открыла глаза. Владислав, ухватившись за живот, заходился в беззвучном хохоте.
– Глаза закрыла, а! Глаза закрыла! – сумел, наконец, выговорить он. – Амазонка!.. Во дает!
– Ты что так веселишься? – спросила она с досадой.
– То, – снова произнес Владислав. – Я же тебе говорил: почти готов. У него еще предохранитель есть. И с этого предохранителя его нужно снять. Гляди. – Он взял у Маргариты пистолет и указал ей на изогнутый рычажок чуть сбоку и сверху от спускового крючка: – Видишь? И вот мы его так поворачиваем…
Рычажок под его пальцем двинулся и переменил положение.
– Ага. Давай, – протянула Маргарита руку.
Владислав не дал ей пистолет.
– Но и сейчас, Славочка, он у тебя еще не выстрелит. Надо еще его взвести. Вот так. – Он взялся за верхнюю часть пистолета, она под его пальцами поползла назад, внутри пистолета раздался хрупающий металлический звук, Владислав разжал пальцы, и верхняя подвижная часть с клацаньем вернулась на место. – Вот. Теперь да. Теперь все.
– Давай, – снова протянула Маргарита руку.
– Да?! В самом деле? – Владислав вновь не дал ей пистолета. – Убивать меня собралась?
– С чего это ты взял? – не нашлась, как отшутиться, Маргарита.
– Ты ж обещала, – посмеиваясь, сказал Владислав.
– Обещала? Когда?
– Когда! В клубе.
О Боже! Маргарита вспомнила. Он тогда назвал ее вампиршей, она не согласилась, назвав себя амазонкой, а потом еще добавила, что мужчин, которые не нравятся, они, амазонки, убивают. Без всякой жалости. Много она чего намолола тогда. И, наоборот, не сказала. Назвала бы тогда свое имя – и была бы собой. А теперь неизвестно кто. Словно какая-то шпионка.
– Я слышала, – проговорила она, – ты с кем-то говорил по телефону, договаривался ехать стрелять по тарелочкам. Возьми меня.
– Захотелось пострелять, да? Захотелось? – посмотрел на нее Владислав – будто уличил в тайном пороке. Передвинул на пистолете рычажок предохранителя в прежнее положение, положил пистолет обратно в сейф и стронул его тяжелую дверцу с места, чтобы закрыть. – Я тебе говорил: надо только взять в руки. Взял в руки – все, не захочешь расставаться.
– Нет, ну просто чтобы вместе, – невольно оправдывающимся тоном ответила Маргарита. – А то мы сколько уже в Париже. А вместе никуда.
Они жили в Париже уже третью неделю, а кроме ужина в тот первый день – в каком-то ресторане на площади Одеон, – вместе за все это время никуда не выбирались. Никуда и ни к кому. И он ее ни с кем не знакомил. А были же у него здесь кто-то, с кем он общался, не могло не быть. Разговаривал по телефону – звонил сам, звонили ему. И уезжал из дому каждый день. Но всегда один, как бы ни одевался: по-повседневному или же по-парадному, как был, когда ужинали в ресторане. Извини, Славочка, некогда, не до того, отклонял он все ее предложения, когда она принималась настаивать, чтобы они отправились в тот же Булонский лес, поехали в Версаль, в Фонтенбло. И, отказывая ей, бывал, случалось, дико, невероятно груб, ругался и однажды, показалось ей, хотел даже ее ударить. «Меня месяц здесь не было, голова у тебя соображает, варит голова, что такое месяц для дел?! – кричал он в тот раз, когда ей показалось, что собирается ее ударить. – Или ни хрена твоя головка не варит? Не варит, так я ее могу заставить! Пусть лучше сама учится, а то ей плохо придется!» Он вообще, сев тогда в самолет, сразу и абсолютно переменился, стал другим. Словно бы снял некую кожу, в которой ему было плохо и неудобно. Как бы обрел себя того, быть которым ему было легче и проще.
Маргарита осваивала Париж сама, в одиночку. Купила карту и, держа ее перед собой сложенной в небольшую пластинку, без устали ходила по улицам: бульвар Сен-Жермен, авеню Клебер, площадь Согласия, Люксембургский сад, сад Тюильри, мост Александра третьего… За эти две недели она побывала и в Лувре, и в центре Помпиду, и в музее Орси, поднялась и на Триумфальную арку, и на Эйфелевую башню, пообедав там после подъема в ресторане на первом этаже, побродила по Монмартру, с трудом удержавшись, чтобы не купить у какого-нибудь из уличных художников незамысловатый и не слишком выразительный парижский пейзаж, спустилась с холма – и тут, на бульваре Клиши уже не удержалась, купила билет в порнокинотеатр. Сухолицая, в дешевых очках, чем-то похожая на мать и возраста матери, бедно одетая женщина, светя перед собой фонариком, провела ее по проходу, посадила и не уходила, что-то быстро и сердито говоря, пока Маргарита не догадалась дать ей несколько франков. На громадном, широком экране громадный мужской пест с равномерной монотонностью входил в такую же громадную женскую ступу и выходил, входил и выходил… Низом живота Маргарита почувствовала, как ее заливает жаждой такого же действа и сунула между ногами руки, зажалась. Но просидеть так ей удалось не более пяти минут, только успели привыкнуть глаза к темноте. Глаза привыкли к темноте – и она обнаружила, что во всем, солидных размеров зале всего каких-нибудь двенадцать-пятнадцать человек, она – единственная одинокая женщина, встревожилась этим, и оказалось, что не напрасно: с обеих сторон от нее уже сидели неслышно подобравшиеся два араба, и чуть погодя они принялись ощупывать ее формы, взялись за пуговицы, – пришлось выдираться из их рук, крича и ругаясь на весь зал, и когда выдралась, оставаться в зале уже ничуть не хотелось.
Сентябрь закончился, начался октябрь, но погода стояла – чудо, великолепное бабье лето, по московским понятиям, Маргарита бродила бы и бродила по улицам, но ходить вот так одной, рискуя попасть в какую-нибудь переделку, как в кинотеатре, не имея возможности ни с кем перекинуться словом, – это было невыносимо. Хоть вой. Накануне, выйдя из дома следом за укатившим на своем «Шевроле» неизвестно куда Владиславом, она доехала на метро до станции «Сен-Мишель», поднялась наверх и целый день провела, перемещаясь вокруг площади из одного кафе в другое, беря то кофе, то вино, то что-нибудь пожевать, располагаясь за столиком на улице – и наблюдая за протекающей мимо жизнью. Одиночество было физической тяжестью, ей казалось, оно давит ей на позвоночный столб, заставляя сгибаться. Кстати, деньги, выданные Владиславом, заканчивались, нужно было просить…
Владислав вдвинул дверцу сейфа на место, прощелкал замками и покрутил ручку влево-вправо, сбивая шифр.
– Ладно, мадмуазель, – сказал он, – съездим, постреляем по тарелочкам, чего не пострелять. Вот только разберусь здесь с делами. Месяц меня не было, что ты!
– А сегодня? – становясь перед ним с заложенными за спину руками, вся подаваясь к нему, дразня близостью и в то же время готовая в любое мгновение отпрянуть назад, проговорила Маргарита. – Поведи меня сегодня куда-нибудь. А? Давай! В Мулен-Руж, а?
Сегодня он впервые за все дни остался дома. И сейчас было уже основательно за полдень, а только поднялись с постели, приняли душ и собирались садиться за завтрак. Маргарита принимала душ первой, вышла – и занялась завтраком, в ванной обосновался Владислав – и умудрился залить водой тапки. Тут-то, когда попросил принести другие, и выяснилось, что она не имеет понятия, где их брать. «Как, до сих пор не знаешь?» – утрированно удивился он – и, появившись из ванной, повел ее по квартире на экскурсию:
– Вот это, мадмуазель, мое рабочее место с компьютером. Разрешаю раскладывать пасьянсы… Вот это – музыкальный центр, к вашим услугам. Рядом – Сонька золотая ручка с встроенным видаком в пузе, тоже к вашим услугам… Это – платяной шкаф, где вещи висят… Это – входная железная дверь, ее, войдя, обязательно следует закрыть…
Входная железная дверь поразила Маргариту, еще когда вошла в квартиру Владислава впервые. Она стояла не так, как это обычно в России – снаружи простой, а за нею, внутри самой квартиры, так что с лестничной клетки входные двери выглядели, как и все остальные в подъезде. Внутри же квартиры, забрав собою все пространство с пола до потолка, высился короб из толстенного металлического листа. Почему-то Владислав не закрасил его, не оклеил обоями, и тот бугрился сварными швами, горел сизыми подпалинами, пламенел пятнами ржавчины. Всякий раз, входя в квартиру, Маргарита испытывала ощущение, что входит внутрь громадного сейфа.
– А что у тебя в сейфе? – вспомнила она о сейфе настоящем, когда Владислав подвел ее к этому грандиозному металлическому коробу.
– Интересуешься? – прищурил глаза Влаислав. – Пойдем! – И, открыв сейф, достал изнутри предмет, поверить в реальность которого Маргарите стоило сил: – Любимое оружие Джеймса Бонда!..
– Да, ну так что насчет Мулен-Руж? – повторила Маргарита, по-прежнему стоя перед ним в соблазняющей стойке. – Идем?
– Мулен-Руж, Мулен-Руж, – протянул Владислав. – Что, только Мулен-Руж есть в Париже?
– Тогда в Оперу, – тотчас нашлась Маргарита.
– Дома бы я сегодня поторчал, оттянулся, – сказал Владислав. – Намотался за эти дни… Ну, ладно, ладно, – видимо, заметив тень на лице Маргариты, быстро проговорил он, – давай заправимся сначала, а там будет видно. Всякой машине сначала – топливо в бензобак, потом все остальное.
Они заканчивали завтракать, ели уже, как положено по французским правилам – после всего остального, сыр в ароматной опушке белой плесени, нарезая его треугольными ломтиками на специальной круглой дощечке, когда трубка радиотелефона на банкетке рядом со стулом Владислава залилась звонком.
Лицо у Владислава сразу пришло в движение, губы подобрались, брови поднялись вверх, напряглись крылья носа. Если он и не ждал какого-то неприятного звонка, то, во всяком случае, был готов к нему.
– Ви! – сказал он, поднося трубку к уху.
Но там, видимо, говорили по-русски – больше Владислав по-французски не произнес ни слова. Собственно, он почти и не говорил, в основном, слушал. Только время от времени – междометия, отдельные слова, обрывчатые фразы, из которых Маргарита, сколько ни напрягалась, не могла понять ничего.
– О кей, – произнес он напоследок, отключил трубку и, положив обратно на банкетку, посмотрел на Маргариту. Явно намереваясь ей что-то объявить.
– Я вся внимание, – вытянулась Маргарита на стуле.
– Ко мне сейчас приедут, – сказал он.
И смолк.
– Замечательно. – У Маргариты внутри все возликовало. О, ей ужасно хотелось какого-нибудь общества, новых лиц, общих разговоров. Быть одной и одной с утра до вечера, ни с кем, кроме любовника, за две с лишним недели не перекинуться словом!.. – В морозилке есть круасаны – я их сейчас поставлю в духовку, есть фрукты, конфеты. Кофе сварю…
– Ты не поняла, – осадил ее Владислав. – Ко мне придут, и ты должна уйти. Мне нужно поговорить. Выйди погуляй.
Выйди погуляй?! Сменой ликованью в Маргарите все встало на дыбы. Но внешне она постаралась этого не показать.
– Ты мне что, не доверяешь? Опасаешься меня?
– Я тебе сказал: выйди! – повысив голос, повторил Владислав.
– А если не уйду?
– Уйдешь.
Лицо у Владислава, как переменилось, когда раздался звонок, так и оставалось таким: подобранные губы, вздыбившиеся брови, напрягшиеся крылья носа. В нем не осталось и следа того, который ей понравился тогда, без малого три года назад в клубе – открытого и веселого. Жесткая, неуступчивая решительность была в нем, холодная хищная ястребиность. Но все же Маргарита не могла сдаться так быстро. Слишком это было унизительно. Невероятно, как унизительно.
– Что за бред! – рассмеялась она. – Кто бы к тебе ни приезжал… Даже если ты не хочешь, чтоб я присутствовала… я просто отсижусь в дальней комнате, и все! Что значит, выйди?!
– Заткнись! – Владислав встал, звучно двинув стулом по полу, и ударом ноги запнул его под стол. – Пять минут на сборы – и чтоб вымелась. Через десять минут у меня здесь уже будут.
Пытаться настоять на своем после такой его лексики было еще унизительнее, чем подчиняться его приказу.
– «Беретту» свою только, если что, не вытаскивай, – сказала Маргарита, поднимаясь из-за стола. – Поостерегись. У них, наверное, тоже есть.
Надо же было хоть что-то сказать.
Владислав не ответил.
Нырнуть в джинсы, захлестнуть на себе первую попавшуюся под руки блузку, влезть в курточку – на все хватило и двух минут. Покидать в сумочку вещи – полминуты.
– На, возьми, – открыв перед Маргаритой стальную дверь, сунул ей в руки мобильный телефон Владислав. – Освобожусь – позвоню. А раньше сюда – чтоб ни ногой.
Наружную дверь, на лестницу, Маргарита открывала сама.
Выйдя из подъезда, она дошла до угла дома, встала за ним и стала наблюдать. Владислав сказал правду: большая, тяжелая, видимо, американская черная машина, высматривающая себе стоянку около дома, появилась не более, чем через пять минут, как Маргарита заняла свою позицию. Места около дома припарковать машину не было – не втиснуться и мухе, – и американская громада проехала дом, проплыв в каком-нибудь десятке метров от Маргариты, свернула на перекрестке, медленно покатила вдоль косяка машин, стоявших там, и там свободное место нашлось. Спустя минуту мимо Маргариты прошли трое мужчин. Один, осадистый, коренастый, – лет пятидесяти, двое других – как Владислав. Даже если бы они не перебрасывались на ходу отдельными репликами на русском, Маргарита все равно определила бы в них русских. Все трое были одеты с тем шиком, с каким, успела она уже заметить, никто в Париже не одевался. Еще один человек, которого она знала в Париже, одевался так же: Владислав.
Все же Маргарита постояла, прячась за углом, еще, подождала – куда направится троица. Троица остановилась у подъезда, из которого она только что вышла. Потопталась немного на ступенях, дожидаясь, когда домофон ответит, и еще немного спустя дверь открылась, и они один за другим исчезли внутри. Дверь закрылась.
Маргарита повернулась и быстрым, целеустремленным шагом пошла прочь. Хотя идти ей было совершенно некуда.
Мобильный в сумочке зазвонил часа через два. Маргарита доставила себе удовольствие – не включала трубку едва не десять звонков.
– Чем там занимаешься, где у тебя трубка? – спросил Владислав, когда она ответила. Голос у него был взвинченный, сухой, голос трещал – будто рвали лощеную бумагу.
Даю под мостом клошару, хотелось ответить Маргарите, но она удержалась.
– Слушаю тебя, – сказала она.
– Слушай, – разрешил он.
Посетители его ушли, и Владислав милостиво предлагал ей вернуться домой.
– Ты далеко? – спросил он.
– Мыслями – безумно, – ответила она.
Маргарита находилась в двух шагах от дома – как села за уличный столик первого попавшегося кафе, так и сидела. Возвращаться домой не было сил. Но если не возвращаться, во всяком случае, прямо сейчас, – что это повлечет за собой? Чем это может закончиться?
По трезвому рассуждению, следовало быть осторожной и возвращаться.
Маргарита допила вино, остававшееся в бокале, и поднялась.
Но уязвленная гордость требовала сатисфакции. И когда, не позвонив, сама открыв двери – и наружную, и железную, – ступила в квартиру, а навстречу неторопливой хозяйской поступью вышел Владислав, поперед всего остального она сказала:
– Как мафиозная разборка? Жив? «Беретту» свою не вытаскивал?
Он ударил ее. Не раздумывая – как дав ответ. Внутренней частью кулака, сбоку, взорвав в ухе артиллерийский снаряд.
– Сука! – прорвалось до ее слуха сквозь боль и колокольный звон в голове. – Подначивать меня! Я тебя в Париж привез, суку, ты мне тут нервы мотать будешь?! Амазонка фуева!..
21
Впрочем, вечером Маргарита все же сидела в зрительном зале. В партере, на самих дорогих местах, смотрела феерию чисто французского ревю – оглушающая музыка, оглушающие костюмы, оглушающая игра света. Разве что это был не Мулен-Руж, а театр Фоли Бержер. Владислав был прощен ею, без остатка, до дна, все забыто, держала его руку в своей, пока шел спектакль, не отнимая, и он не отнимал своей – держал себя без тени мужской заносчивости, что так фонтанировала из него днем. Собственно, он сам же и предложил поехать на этот спектакль, звонил по телефону, заказывал билеты, сгонял на машине выкупил их. И попросил у Маргариты прощения, и сделал это без ее принуждения – сам, по своей воле, и, прося прощения, даже опустился перед ней на колени.
Но назавтра все началось заново.
– Что тебе делать. Сиди смотри телевизор. Или лежи смотри, – с раздражением ответил он, когда Маргарита, готовя ему одежду для выезда, спросила, а чем заниматься ей. – Насладись жизнью!
– Смотреть телевизор – это наслаждаться жизнью?! – воскликнула Маргарита.
И нарвалась:
– Слушай, на твоем месте другая ссала бы духами!
Ссала бы духами. Выпускник МГИМО так из него и пер. Похоже, от этого выпускника в нем уже осталось лишь знание французского.
– Дерьмо! – сказала она, бросая ему рубашку в лицо.
Владислав оделся, ушел, сев где-то там на улице в свой «Шевроле» и укатив неизвестно куда, а она и в самом деле включила в гостиной телевизор и час, не меньше, пролежала перед ним на диване, бессмысленно перескакивая с канала на канал. Антенны, чтобы принимать Россию, у Владислава не имелось, телевидение было только французское, и она не понимала ни слова.
Потом она поднялась, убрала со стола оставшуюся после завтрака посуду, вымыла ее и, ничего больше по дому не делая, спустилась на улицу. Она была в Париже, она не была обременена никакими заботами, никому ничего не должна – следовало воспользоваться этим и, не обращая ни на что внимания, получить от своего пребывания в Париже столько радости, сколько он мог ей дать.
Она снова доехала на метро до станции «Сен-Мишель», вышла там и отправилась бродить по Латинскому кварталу. В одном этом сочетании слов – Латинский квартал – было нечто такое, что тянуло ее сюда сильнее магнита. А в переливах его улочек и переулков была чудодейственная врачебная сила; они действовали на нее, словно к тому месту в груди, где должна была находиться душа, прикладывали некий лечебный пластырь.
То и дело ее слуха достигал укол русской речи. То это была экскурсионная группа – и Маргарита тотчас направляла свои стопы в сторону от нее, то оказывалась фланирующая пара, как правило, женщина с мужчиной, – и Маргарита подгребала поближе, вслушивалась, стараясь остаться незамеченной, в их разговор, но всякий раз выяснялось, что это также туристы-соотечественники, во всяком случае, не местные русские, и она в конце концов отгребала и от них.
Маргарита искала каких-нибудь русских, живущих здесь постоянно. Вроде того же Владислава. И была уверена, что найдет. По-другому просто не могло быть.
Искала она – нашли ее.
Маргарита попала на улочку галерей. Переходила из одной в другую, скользила взглядом по развешанным на стенах картинам с пришпиленными к ним карточкам с ценами, некоторые картины ее привлекали, и она останавливалась около них, рассматривала внимательнее. Посетителей в галереях, несмотря на уличные толпы, было далеко не в избытке, кое-где – вообще никого, кроме нее, и услышать здесь русскую речь она не ожидала никак.
– Простите, вы не из России? – произнес рядом с ней женский голос, она повернулась – перед нею стояла, улыбалась совершенно французской, невероятной в России приветливой ясной улыбкой молодая женщина чуть постарше ее, и весь вид женщины тоже был абсолютно французский – прическа, макияж, одежда, – чего, знала Маргарита, не сказать о ней самой.
Тем не менее она была потрясена.
– Ничего себе! – проговорила Маргарита. – На мне что, написано?
– У вас удивительно славянское лицо, – продолжая улыбаться ей своей французской улыбкой, сказала женщина. – Знаете, как соскучишься здесь по родным лицам – видишь издалека, будто маяк светит.
В груди у Маргариты радостно запело. Это была удача.
– Живете здесь, да? Парижанка? – спросила она.
– Парижанка, – с некоторой иронией отозвалась женщина.
– Но? – показала, что уловила ее иронию, Маргарита.
– Да нет, парижанка, парижанка, – покивала женщина. – Просто сам Париж, он ведь небольшой. А все остальное – пригороды. И у каждого свое название: город такой, город такой. Я живу в пригороде. Но если по существу, то все это, конечно, один город.
Для Маргариты подобное было новостью.
– Да? Как интересно! – отозвалась она.
– А вы здесь в турпоездке? В гостях? – спросила ее, в свою очередь, женщина.
Маргарита вздернула плечи и засмеялась:
– Сама не знаю. Но не в турпоездке.
– И что, скоро обратно?
– Обратно? Бог его знает, может быть, – неожиданно для себя ответила Маргарита.
– Вы ходите-смотрите, что-то хотите приобрести? – спросила женщина. – Может быть, нужен совет? – И воскликнула: – Ох, извините, я не представилась. Галя.
– Рита, – тотчас, с удовольствием ответно представилась Маргарита.
– Да, так чем-нибудь вам помочь? Есть нужда? – вернулась к своему вопросу Галя.
Маргарита развела руками.
– Нет. Спасибо. – Хотела бы она сейчас нуждаться в какой-нибудь помощи, чтобы как можно естественнее и проще завязать с Галей прочные отношения. – А пойдемте в какое-нибудь кафе, посидим? – ничего не придумав, решила она пойти напролом.
Галя ответила согласием без малейшего раздумья, сразу и с охотой:
– Пойдемте. Только я угощаю, да? Как парижанка.
Маргарита приняла ее предложение:
– Хорошо. Но в надежде возвратить вам долг.
– Договорились, – кивнула Галя. – Давайте, если не возражаете, я поведу вас в мое любимое?
Маргарите было все равно. В любое! Ей требовалось выстраивать здесь свою жизнь, нужно было отрываться от Владислава, завязывать собственные связи, и для этого подходило любое кафе, хоть стоячая забегаловка.
Но Галя привела ее в кафе, где все дышало основательной респектабельностью: крепкая темная мебель, широкие темные панели, застеленные белыми скатертями столы. Такое кафе располагало к тому, чтобы полюбить его. Сесть Галя предложила в самом кафе, а не на улице.
– Знаете, Рита, – усаживаясь, сказала она, – старое парижское правило: когда хочется отдохнуть – располагаетесь на улице, когда поговорить – берите столик внутри.
Некая струна в груди у Маргариты вновь издала победный, радостный звук. Маргарита вспомнила, как тогда около Белого дома познакомилась с Полиной. Уличное знакомство, а результатом – президентская администрация.
– А вы, Галя, давно из России? – спросила она.
– Ой, давно, – Галя с видом изнеможения махнула рукой.
На подлетевшем официанте с маленьким блокнотиком в руках сиял белейший накрахмаленный передник.
– Кофе, пирожное, орешки? – спросила Галя у Маргариты. Получила от нее ответ и быстро, бегло засвиристела с официантом на превосходном французском.
Может быть, конечно, он и не был столь уж превосходен, но Маргарите так показалось: на превосходном. На мгновение ее обдало волной зависти. Она все это время в Париже пыталась объясняться на английском, но ее английский в сравнении с Галиным французским был косноязычным лепетом.
– Ого! – сказала она, когда официант, приняв заказ, улетел.
Галя с улыбкой пожала плечами:
– Язык, выученный в постели, – то же, что язык, постигнутый в детстве. Сразу в подкорку, и там уже намертво. Три года замужем за французом – выучишь, как миленькая.
– А сейчас? – осторожно поинтересовалась Маргарита.
– Ой, что вы, Рита! Еще не развелись, но разъехались. Русской женщине жить с французом – радость не из больших. Они хотят, чтобы жены сидели дома и ждали их с начищенной… ну, нашей штучкой, которой мы отличаемся от них, понимаете, да?
Галя достала из сумочки сигареты, и к удовольствию Маргариты это оказался тот же «Вок» с ментолом, что у нее.
– Хотите моих? – достала Маргарита свои сигареты.
Галя потянулась взглядом, поняла – и рассмеялась.
– Давайте я ваши, а вы мои.
Они вытащили по сигарете из чужой пачки, прикурили от Галиной зажигалки, и Маргарита снова спросила:
– А чем занимаетесь? Где-то работаете?
Галя, выпуская дым, покрутила рукой с сигаретой в воздухе.
– Сложно сказать… В настоящий момент я безработная. Но во Франции – это не обязательно: работать. Я натурализованная француженка, мне платят пособие. Мне его хватает. А приработок… ну, по-разному.
– Что значит, по-разному? – Маргарита старалась изо всех сил, чтобы интонации ее голоса были как можно непринужденнее. Чтобы та свирепая заинтересованность, которая диктовала ей ее вопросы, не прорвалась наружу.
Похоже, ей это удавалось. На лице у Гали появилась улыбка неловкости, она немного помедлила, а потом снова покрутила рукой с сигаретой в воздухе.
– Ну, например, мой любовник каждый месяц дает мне определенную сумму. Заработок это?
И мне тоже, просилось у Маргариты с языка. Хотя это и было бы неправдой. Деньги, данные ей Владиславом, уже совсем подошли к концу, и больше он ей пока не давал.
– А если преподавать русский язык? – спросила она.
Галя, как Маргарите и хотелось, решила, что речь идет о ней самой.
– Да кому он нужен! – сказала она доверительно.
– А если французский соотечественникам?
– Французский соотечественникам? – переспросила Галя. И с отрицанием покачала головой. – Нет, я вообще стараюсь не общаться с соотечественниками.
Официант, появившись около них, принялся перегружать на стол содержимое принесенного подноса. Они заказали себе всего лишь по кофе – Маргарита экспрессо, Галя капучинно, – по порции орехов – фундука и бразильского, – а официант уставлял стол и уставлял: каждой сахар в отдельной сахарнице, и отдельно ложечку на блюдце для орехов, и по молочнику со сливками на блюдце, если захочется добавить, и по влажной салфетке еще на одном блюдце. То еще было кафе, за распектабельность здесь брали, надо полагать, без жалости.
– А почему вы стараетесь не общаться с соотечественниками? – спросила Маргарита, едва официант отлетел.
– От них, Рита, одни неприятности, – сказала Галя, не поднимая на нее глаз, поднося к губам чашку с кофе.
– Но я, кстати, тоже ваша соотечественница.
Галя, не отпив, оторвала чашку от губ и взглянула на Маргариту.
– Вы – другое. Вы здесь не живете. Наоборот: с вами мне очень даже хочется пообщаться.
– А как вы распознали, что я здесь не живу?
– Потому что по вам видно.
Галя ободряюще улыбнулась Маргарите и, вновь поднеся чашку к губам, наконец, отпила из нее.
Маргарита чувствовала себя задетой. Правда, если бы по ней не было заметно, что она не парижанка, Галя бы к ней не подошла.
– А если бы вы не были натурализованной, как бы вы тогда зарабатывали? – задала она новый вопрос.
– И думать не хочу! – с живейшим чувством воскликнула Галя. – Какая тут работа для русских?
– Нет, все же? – нажала на нее Маргарита.
– Идти на панель, – сказала Галя. – Другой работы нет. Кому ты нужна.
Маргарита потерялась. Слишком неожидан был Галин ответ.
И утратила осторожность.
– Нет, как же, а вот я знаю… слышала, – с косноязычной сбивчивостью понесла она, – художники, и кто бизнесом… и вообще всякие другие… находят свою нишу…
– А вы что, хотели бы найти здесь себе работу? – спросила Галя.
Делать было нечего, следовало раскрываться. Да и как иначе, не раскрывшись, она бы выяснила то, что ей требовалось.
– Я бы хотела, Галя, – сказала она, – чтобы просто чем-то заниматься. Каким-то делом. Ну, и чтоб это приносило какие-то деньги. Пусть и небольшие. А то у меня… Я в Париже как раз с соотечественником, – она выделила голосом это слово, усмехнулась, – и он, видите ли, вроде вашего французского мужа, не хочет мне помочь ни с каким устройством… хочет, чтобы я только дома, никуда… я просто не знаю…
Она начала снова сбиваться в косноязычие, потому что Галя, держа чашку со своим капучинно у губ, смотрела на нее совсем иным, чем еще минуту назад, без следа прежнего открытого доброжелательства, пронизывающим, испытующе-жестким взглядом.
– А вы же сказали, Рита, – опуская чашку, проговорила она, – что скоро в Россию?
– Может быть, придется, – подтвердила Маргарита.
– Нет, а точнее?
– Ой, я не знаю. – Маргарита видела, что Галя спрашивает ее не просто так, с каким-то смыслом, но что именно стоит за этим ее вопросом, было Маргарите не ясно. – А что? – спросила она сама.
Галя помолчала. Маргарите было отчетливо видно, Галя колеблется. Как она сама минуту назад перед тем, как раскрыться.
– Мне, Рита, нужно кое-что передать в Москву. – Галя решилась. И взгляд ее вновь стал полон ясного, улыбчивого доброжелательства. – Я бы хотела, чтобы вы захватили с собой. Ничего тяжелого, рук не оттянет. – И, словно предупреждая вопрос Маргариты, потрясла головой: – Не наркотики, нет, упаси Боже! Микрофоны. Три микрофона. Сможете? Можно было бы, конечно, послать почтой, но посылать обычной… это все-таки микрофоны, не табуретки. А экспресс-почтой – дорого невероятно, никакого смысла. Вы спрашивали о приработке. Вот как раз самое то, ответ на ваш вопрос. Здесь подешевле, в России подороже. Был бы спрос. Захватите? Сможете?
Маргарита слушала Галю – и ее все сильнее сотрясало от внутреннего смеха: решили две шельмы обвести друг друга вокруг пальца. Она хотела использовать Галю, а та – ее. Вот и вся тоска по свежим славянским лицам. Куда смешнее!
Но обмануть Галю – нет, это было невозможно. Как она могла обещать ей что-то?
– Нет, вы знаете, – сказала Маргарита, когда Галя умолкла, – я все же пока не собираюсь обратно. Я просто о том, что не могу исключить возможности… но, в принципе, нет, в ближайшее время не собираюсь. Пока я здесь.
Галино лицо, исполненное живых, ярких чувств, вмиг, будто внутри нее сработал некий выключатель, потеряло всю свою живость и яркость, и взгляду Маргариты предстала серая остывшая пустыня. Маргарита, взявшаяся было, наконец, за свою чашку, невольно поставила ее обратно на блюдце, – так неожиданно было это превращение.
Галя, между тем, напротив, быстро, в несколько глотков допила свой капучинно, взяла влажную салфетку, обмахнула губы, бросила на стол и встала.
– Ладно, Рита. Рада была познакомиться. Жалко, что вы меня обманули.
– Я? Обманула? – Маргариту оглушило. Чего-чего, а такого она не ожидала никак.
– Обманули. Будто бы скоро уезжаете в Россию. Заставили потерять с вами напрасно время.
Галя двинула стулом, вышла из-за стола и пошла по проходу к выходу. Маргарита смотрела, как она идет, и физически ощущала на лице брызги слюны. «Как оплеванная», – так она себя сейчас чувствовала. Рука непроизвольно даже поднялась и мазнула по лицу – стирая невидимую слюну. Это уже получалось не смешно. Одна, может быть, и была шельмой, но другая просто гадиной.
Остывший «эспрессо», показалось, имел вкус бурды. Словно в каком-нибудь московском «Русском бистро». Маргарита медленно выцедила его, промокнула губы салфеткой, нашла в сумочке какой-то полиэтиленовый пакет, ссыпала в него с блюдец орехи, завязала, толкнула на дно и стала ждать официанта. Счет, поднесенный летающим официантом на подносе, заставил ее содрогнуться. Кафе драло за свою респектабельность не безжалостно, а со всею лютостью. Денег в кошельке Маргарите хватило только-только. Не осталось даже нескольких франков официанту на чай. Что, правда, было отрадно, официант ни единой мышцей не выказал ей своего огорчения, лицо его не изменило своего весело-любезного выражения, словно все оно так и должно было быть. «Мерси, мадам», – произнес он, слегка наклоняя голову, и от избытка благодарности в Маргарите промелькнуло желание поцеловать его в сквозящую теменную лысинку.
Она шла бульваром Сен-Жермен, даже не поглядывая на витрины магазинов вокруг, сосредоточенно устремив взгляд перед собой – непонятно куда, ничего не видя и не замечая, – и в голове, будто склеенная в кольцо магнитная лента, крутилась одна и та же мысль: как замечательно они разговаривали с Галей. Такое понимание друг друга – будто одна речь на двоих, так легко было с нею, так дружественно, и даже одинаковые сигареты «Вок» в сумочках…
22
Дождь шел вторую неделю. Облака паслись над самыми крышами домов, едва не заглядывая в окна. Париж посерел, улицы его источали уныние, стада мокро блестящих машин у тротуаров казались брошенными хозяевами сгнивать под низвергающимся с неба водопадом.
Дождь прекращался на час, на два – дать напомнить о себе солнцу, – и облака наваливались снова, снова сверху сеяло, лило, хлестало. День ото дня все больше холодало, по утрам, когда Маргарита закрывала окно в спальне, изо рта у нее, смешиваясь с водяной взвесью на улице, шел пар. Праздник вживания в Париж закончился, начались будни.
Маргарита, как и хотел Владислав, безвылазно сидела дома и тупо глядела ящик, перескакивая с канала на канал да крутя кассеты с американскими фильмами. В фильмах она хотя бы понимала, о чем речь. Книг у Владислава в доме не было ни одной. Перескакивала с канала на канал, смотрела фильмы – и ждала Владислава, как выразилась Галя, с начищенной штучкой. Можно сказать, получила Натальину жизнь, только Наталья – в Москве на Гончарной, а она на Коперника во французской столице.
Единственно куда она выходила – это в магазин, стараясь попасть в прогалину между дождями. Набирала сумки еды – и неслась обратно. От каждого посещения магазина Маргарита старалась теперь как можно больше заначить. Не пятьдесят франков, так сорок, не сорок, так тридцать, а то и двадцать. «Да ты куда их деваешь, опять закончились?! – недовольно вопрошал Владислав, когда она в очередной раз требовала у него денег. – Ты в Москву, что ли, отовариваться ездишь?» – «Нет, только собираюсь», – неизменно что-нибудь вроде такого отвечала ему Маргарита. Она и сама не очень-то понимала, с какой целью заначивает деньги, копит их, всякий раз, как добавлялась новая порция, пересчитывая накопленное. Ею овладела страсть некоего рода стяжательства. Она хотела набрать как можно больше денег. «На всякий случай», – звучало в ней – словно она перед кем-то оправдывалась.
У Владислава, она теперь в этом не сомневалась, был где-то офис. Или что-то вроде офиса. Во всяком случае, место, из которого он крутил все свои дела. Куда и уезжал почти каждый день – в свежей сорочке и при галстуке. Но он ей даже не признавался в том, что у него имеется офис, не говоря уже о месторасположении. Не твое дело, отрезал он, когда Маргарита задавала ему какой-нибудь вопрос о его бизнесе. И она уже смирилась с этим, покорно сносила его хамство – что невозможно было бы еще месяц назад.
Телефон в квартире почти все время молчал. Он мог не звонить и сутки, и двое, и трое. Владислав пользовался им, только когда нужно было позвонить самому. Ему звонили исключительно на мобильный. Мобильный был рабочим, общедоступным, стационарный домашний – в высшей степени приватный, для самых доверенных. Для Маргариты телефон существовать, практически, перестал. Ей не с кем было разговаривать. Никто не звонил ей, никому она. И даже свои звонки матери в Москву она делала из уличных таксофонных будок. Чему ее научил сам Владислав, когда только прилетели в аэропорт Шарля де Голля и, демонстрируя ей реалии французской жизни, он предложил ей позвонить, сообщить о благополучном приземлении с первого таксофона в аэропорту. Что за смысл был не пользоваться домашним телефоном Владислава, звонить с улицы, – она не отдавала себе в том отчета. А чтоб ничего у него не брать! – что-то вроде такого девиза стояло за этим. Хотя карточка, купленная для звонка с улицы, была куплена на его деньги, не на чьи другие. Скорее всего, она защищалась так от еще одной неприятности: отчитываться ему по телефонным счетам: куда звонила, зачем, почему так много наговорила…
Телефонный звонок, раздавшийся вскоре, как Владислав вышел из дома, поверг ее в смятение. Он произвел на нее впечатление, как если бы рядом с ней взорвался спавший до того вулкан. Встав над аппаратом, Маргарита смотрела на трезвонившую трубку – и не могла ничего решить: брать или нет. Владислав не давал ей на этот счет никаких указаний. А прежде, без исключений, если телефон вдруг звонил, всегда на звонок отвечал он сам. Он даже имел привычку, перемещаясь по квартире, всюду таскать трубку с собой. Как это было и в тот раз, когда выставил ее из дома, чтобы она не присутствовала при разговоре с теми его тремя визитерами.
Телефон звонил, звонил – бесконечно долго: десять звонков, пятнадцать, двадцать, – и Маргарита не выдержала. Ей показалось, звонить так долго мог только сам Владислав, зная, что она дома и слышит звонки. Зачем-то она ему срочно понадобилась, срочно и позарез, и вот он звонит, а она не отзывается.
– Да! – поднесла она трубку к уху.
Мгновение в трубке молчали. Как если бы там не ожидали, что телефон все же ответит. Или не ожидали услышать ее. Были ошеломлены – в любом случае.
– Это кто? – спросил затем в трубке мужской голос. По-русски, но с кавказским акцентом.
Надо было положить трубку. Пусть там думают что угодно. Но кавказский акцент мужчины превратил Маргариту в соляной столб. Ее вмиг опахнуло той ночью в клубе, когда она познакомилась с Владиславом. Владислав и кавказский акцент были неразрывно связаны в сознании, и ей показалось, это звонит тот ее кавалер, кажется, Руслан по имени. Она хотела положить трубку – и не могла.
– Кто вам нужен? – вместо того, чтобы опустить трубку, проговорила она.
– Слава нужен. Давай Слава! – потребовал голос.
– Его нет, – ответила она.
И, ответив, опять же можно было положить трубку, и опять она не сделала этого.
– А ты кто, его девушка, а? – спросил голос.
– Что вам угодно? – отозвалась Маргарита.
Трубка выдала ей в ухо гортанный рык недовольства.
– Ладно, девушка, – сказал затем голос. – Передай, девушка, твоему Слава, он хороших людей обидел. Лес продал, все деньги себе взял. Передай ему, ждем два дня. Передай, плохо ему будет. Все понял, девушка?
Маргарита была не в состоянии пошевелить губами. Зачем она сняла трубку, зачем?! Во многия знания многие печали. Уж не знала ничего – и не знала бы.
– Понял, девушка? – угрожающе проклекотал голос.
– Да, – осилила себя произнести она.
И теперь у нее получилось опустить трубку.
Жизнь Владислава, куда он не пускал ее даже и на порог, высветилась для нее на всю глубину. Что проку, что эта жизнь протекала в Париже, столице Франции. Это была ровно та же жизнь, которой жили Атлант с Семеном Арсеньевичем, отец с его этикетками и понтярством…
У Владислава, когда рассказала ему о звонке, пошло пятнами лицо. Губы у него от закипающего бешенства по-негритянски вывернулись.
– Какого хрена ты брала трубку? – медленно, артикулируя каждое слово, с этим закипающим бешенством проклокотал он. – Кто тебя просил, дуру?!
– Но они же, кто звонил, все равно знали твой номер, – стараясь спокойно, словно не заметив ни «хрена», ни «дуры», ответила Маргарита. – Позвонили бы снова. Ты бы взял трубку. И они тебе – все то же самое. Какая разница?
– Та разница, – закричал Владислав, – я знаю, как с ними говорить! Одно дело – я сам снял, знаю, как говорить, а теперь мне – звонить им! Я, получается, на поклон к ним, подстилкой, ты меня подставила, как последнее чмо!
– Ну, извини, – всем своим видом продолжая выказывать спокойствие, пожала плечами Маргарита. – Но ты мне даже ни разу ничего не сказал: брать трубку, не брать. Сказал бы – разумеется, я б не взяла!
– Сука, она еще учить меня! – В ухе у Маргариты, как уже было однажды, разорвался артиллерийский снаряд. От удара ее бросило в сторону, она не удержалась на ногах и упала, опрокинувшись на спину. – Котелком варить надо, сука! Котелком своим! – услышала она над собой, а в следующий миг огненная боль пронзила Маргарите голову – Владислав, схватив за волосы, поднял ее на ноги. – Варить надо! Понятно? Котелком! – проорал он ей в лицо, оттолкнул от себя и снова ударил – только теперь в другое ухо.
Вновь лежа на полу, с гудящей колокольным звоном, пылающей огнем головой, Маргарита подумала, вся внутри передергиваясь судорогой ненависти: был бы сейчас в руке какой-нибудь из тех его пистолетов – застрелила бы его, не задумываясь. Не задумываясь, не задумываясь!
Она медленно, с трудом поднялась, посмотрела вокруг – нет ли чего, чем ударить Владислава, – и, не увидев, плюнула ему в лицо:
– Мразь! Подонок! Говнюк!
Он избил ее так – теперь, прекрати дождь свои унылые монотонные гаммы, засияй под солнцем вечным праздником Париж вновь, выйти на улицу было бы невозможно. Лицо ее расцвело самыми яркими тропическими цветами. Только добежать до магазина с килограммом косметики на лице – и обратно.
Маргарита не разговаривала с Владиславом три дня. На четвертый, выйдя утром из дома, он вернулся не вечером, а через какие-нибудь полчаса – притащив целый воз цветов.
– Славочка, нервы ни к черту, такая жизнь – не жизнь, а вечный бой, все время, как по проволоке, не обижайся, Славочка! – ходил он за нею по всей квартире, куда бы она ни пошла, и везде на ее пути, выдергивая из воза, раскладывал цветы: на стол, на стул, на диван, на край умывальной раковины, на плиту. Или же бросал просто по ноги: – Вот топчи меня, это ты меня топчешь, топчи меня! Я заслуживаю, Славочка, заслуживаю… хотя там очень скверно все получилось, очень скверно!
Цветы его ничего не могли поправить. Она не могла простить его. Чтобы простить, следовало забыть. А как можно было забыть, что он сотворил с нею?
Но продолжать наказывать его молчанием – глупее было не придумать. Раз жили под крышей. И раз она во всем, целиком зависела от него. Тем более что еще предстояло с ним спать. Глупо же было бы не спать, живя вместе и не имея для постели никого взамен.
– И что, удалось разрешить проблему? – нарушила она свое трехдневное молчание.
– С трудом! – довольный, что она ответила, радостно отозвался Владислав. – Пришлось поизвиваться… член узлом завязать!
– Вроде он у тебя не такой длинный, чтоб завязывать, – сказала Маргарита.
Владислав издал нечто вроде боевого победного клика.
– А давай проверим, давай проверим, – вываливая все цветы, что еще оставались в руках, на пол, схватил он ее, привлек к себе, и одна рука тотчас взметнула подол юбки, стала пробираться под резинку трусиков, легла на ягодицу, стала мять ее. – Давай проверим, вспомним давай, убедимся, ты уже все забыла…
Маргарита позволила ему вспомнить только к вечеру, проводив весь день на длинном поводке, так что он истекал желанием, как собака слюной в жаркий день. «Славочка, Славочка», – только и слышала она от него на протяжении дня. Славочка я тебе, несомненно, с насмешкой думала она. То, что он не знал ее истинного имени, доставляло Маргарите сейчас мстительное удовольствие. Словно бы та, что была ею истинной, так ни в чем и не уступила ему, продолжала держать от себя на отдалении, по-прежнему молчала, а на компромисс шла она ненастоящая, та, которая «Славочка».
Однако же «Славочка» имела над нею и вполне реальную власть. Тропическое буйное цветение на лице у Маргариты начало проходить, можно стало выбираться на улицу уже без килограмма косметики, и сердце у нее, поймала она себя на этом, начало отмякать, уже по ней то и дело прокатывала волна нежности к Владиславу – и когда была с ним в постели, и когда гладила ему после стирки какую-нибудь сорочку, и когда ждала его возвращения домой из той жизни, в которую он ее не допускал. Она поймала себя на этом, решила, что нужно сопротивляться, не уступать «Славочке», – и невдолге сдалась. В конце концов, она и Слава – все это была она.
О том, что улетает в Лондон, Владислав объявил ей накануне отъезда. «Собери чемодан», – велел он. – Дней на пять, из такого расчета».
– А я? – мгновенной реакцией вырвалось у Маргариты.
Она не удивилась тому, что он ничего не сказал о ней. Не вознегодовала. Она чего-то подобного и ждала. Проживши здесь с ним это время, она знала, что он, если куда поедет, то поедет один, была уверена в этом. Но объявить о том так прямо, так нагло, без стеснения! Маргарита почувствовала себя оскорбленной, вот что.
– А что ты? – не сразу, через паузу отозвался Владислав. – Деловая поездка, на пять дней – двадцать встреч, при чем тут ты?
– Но я бы тоже хотела поехать, – сказала Маргарита, прекрасно осознавая всю бессмысленность своего заявления. – Лондон, конечно, – не Рим, но тоже открытый город, – добавила она.
– Н-ну, бабушкины сказки, – процедил Владислав. – Для кого открытый, для кого наоборот.
– Ты хочешь сказать, для тебя открытый, для меня закрытый?
Владислав покивал:
– Вроде того.
– Но ты же мне обещал! – Маргарита постаралась изобразить возмущение, которого на самом деле в ней вовсе не было. – Говорил, Рим, Лондон, Нью-Йорк. Только про Луну не говорил.
– У тебя вида на жительство нет, – сказал Владислав.
– Ну и что? При чем здесь вид на жительство?
– То, что без него тебе в Лондон визу не дадут. На Британию шенгенское соглашение не распространяется.
– А у тебя он есть, этот вид?
– У меня есть.
– Так почему мне его не оформить?
Владислав издал протяжный хмыкающий звук.
– Чтобы его оформить, нужно другую французскую визу на въезд иметь.
– И у тебя другая?
– У меня другая.
Ну, дрянь, ну, подонок, звучало в Маргарите. Вот теперь с изумлением и даже, пожалуй, потрясенностью. То есть он обещал ей тогда весь мир, прекрасно зная, что этот мир будет для нее не слишком доступен!
– Но ты же мне обещал! – снова вырвалось у нее, и вот теперь с самым неподдельным возмущением. – Ведь ты обещал!
Владислав вновь похмыкал.
– Мало ли что я тебе обещал! – сказал он затем.
– Нет, а зачем?! – настаивающе потребовала от него ответа Маргарита.
– Мало ли что я обещал на тебе, – переиначив прежнюю фразу, произнес Владислав.
Маргарита поняла его. Это был такой анекдот. «Милый, ты обещал на мне жениться! – Мало ли что я обещал на тебе!»
– Но ты был не на мне, когда обещал, – сказала она.
– Но очень хотелось, – глядя на нее с ясным, вызывающим спокойствием, ответил он.
Ей нечем было крыть. Владислав был откровенен как никогда. Вот он я, на кушай, какой есть. Ей оставалось только проглотить то, чем он угостил ее.
– А не вид бы на жительство, так взял с собой? – зачем-то спросила она еще – чтобы уж разодрать себе все внутри до крови.
– Разумеется! – с тем же вызывающим ненатуральным спокойствием воскликнул он.
«Собирайся сам», – просилось ответить у Маргариты, но она справилась с собой. Больше желания надавать по его чисто вымытым МГИМОвским ушам, устроить ему перед отлетом хороший скандал, было желание, чтобы он нормально уехал и она осталась одна. Пусть уезжает, а она пять дней будет предоставлена самой себе, пять дней будет только с самой собой.
– Во сколько у тебя самолет? – спросила она.
Он улетел, Маргарита легла на диване в гостиной перед телевизором и пролежала так, не вставая и не включая телевизора, три дня. В ней больше не было ее прежней. Той, которая была одновременно и Маргаритой, и «Славой». Своей поездкой в Лондон Владислав избавил ее от Славы. Выбил ту из нее – как пробку из шампанского. Она прежняя, может быть, вновь взвешивала бы все «за» и «против», вновь искала возможности компромисса, эта, новая, была трезва, холодна, рассудочна и больше не хотела мириться с тем положением, в котором оказалась.
У нее не было дела, чтобы занять себя, не было места, куда бы она могла пойти, выйдя из дома, никто ее нигде не ждал – она словно бы висела в безвоздушном пространстве. У нее не было своих денег, своей собственной крыши над головой, личной перспективы жизни здесь – она была во всем зависима от своего любовника. Она была рабой. Или хуже, чем рабой. Зверем в клетке, вот кем. Обезьяной, антилопой, пантерой – назови, как угодно, главное – в клетке. Сиди в ней, ешь в ней, пей в ней, дыши ее воздухом, задыхайся, зажимай нос, блюй от собственных испражнений, – но сиди, сиди, сиди!
Она вляпалась. И круто, как никогда до того. Ввалилась, будто сом в вершу. Владислав был не Сергеем. Он был вторым Атлантом, что-то вроде того. Только вкупе с дедом Семеном. Шампунь и кондиционер в одном флаконе.
Он ее там снял, на Тверской, около Центрального телеграфа. Как снимают проституток. Только тех везут в гостиничный номер или куда-нибудь на квартиру, а он привез ее в Париж. Отвалив за нее кому-то бешеные деньги – чтобы устроить ей паспорт. Проститутка есть проститутка, ее надо драть и ничего больше, проституток не знакомят с друзьями, прячут от деловых партнеров, не тратят времени на их досуг, их дерут, дерут, дерут. Разве что для повышения тонуса, чтоб у нее там блестела, как начищенная, когда припрет, можно свозить в какой-нибудь Фоли Бержер.
На четвертый день отсутствия Владислава Маргарита поднялась с дивана, привела себя в порядок и спустилась на улицу. Судя по всему, начиналась зима. В воздухе медленно сеялись крупичатые снежинки, разве что, ложась на асфальт, тут же таяли.
На аэрофлотовский билет, полагала Маргарита, денег, что заначила от Владислава, должно хватить. И взять прямо на завтра же, исчезнуть до его возвращения. Всего один билет, кто-то в последний момент сдал, – почему ей не должно повезти?
Однако ей не хватило денег даже на «Аэрофлот». Больше чем половины суммы.
В офисе «Эр Франс» ее согласились доставить в Москву почти за те же самые деньги, что и родная авиакомпания. Совсем чуть-чуть подороже. Самую малость.
Маргарита прикинула, как скоро ей удастся скопить нужную сумму. Получалось, что меньше, чем за месяц, не выйдет.
Отлет прямо завтра же отменялся. Нужно было продержаться здесь до самого католического Рождества.
23
Она ошиблась в своих расчетах. Рождество приближалось, а денег на билет ей все так же недоставало. Уже не половины, поменьше, но все равно изрядно. Да если бы не хватало и десяти франков. Никто бы ей не продал билет дешевле своей стоимости на эти самые десять франков. А нужно еще было на дорогу до аэропорта, на какие-то непредвиденные расходы в последний миг – пусть и самую малость.
Психика не выдерживала, ее постоянно потрясывало словно бы в ознобе, и она каждый вечер пила теперь какой-то транквилизатор матери, случайно захваченный из Москвы в аптечке. Несколько раз в надежде найти деньги Маргарита обшарила одежду Владислава. Но всякий раз ей удавалось обнаружить только какую-нибудь жалкую мелочь. Владислав для всех расчетов пользовался карточкой и снимал наличные в банкомате, только чтобы дать ей на хозяйство. Иного способа собрать на билет, кроме как заначивая из этих хозяйственных денег, у нее не было. Недели, что предстояло прожить с ним здесь сверх намеченных ею тогда, во время посещения аэрокасс, казались каторгой. Ждать дальше было невозможно, невыносимо, она не представляла себе, как отбудет эту каторгу.
Владислав, однако, преподнес сюрприз.
– Что, Славочка, хочется куда-нибудь прокатиться, да? – вдруг произнес он. – Свежих впечатлений хочется, да? Острых ощущений?
Был поздний вечер, они только что поужинали, вернее, как положено в Европе, уверял Владислав, пообедали – по куску мяса, поджаренного Маргаритой с кровью, стручковая фасоль, листы салата, итальянская паста с натертым сыром, – он принял свои обычные сто пятьдесят граммов коньяка и был умиротворенно-благодушен, ублаготворенно расслаблен, сидел в кресле, взодрав ноги на подлокотник дивана, и, поигрывая в руке пультом от телевизора, то скакал по программам, то запускал стоявшую в видаке кассету с французским фильмом. У него никаких проблем с французским не было.
Маргарита вся напряглась, вытянулась струной, услышав его слова. Ее внутренний озноб окатил вполне натуральной дрожью ей спину.
– Да, просто безумно стосковалась по острым ощущениям, – проговорила она.
– Будут, – сказал Владислав.
– Интересно, – не решаясь задать никакого прямого вопроса, ответила Маргарита.
Владислав, наконец, перевел взгляд с экрана на нее.
– Хотела куда-нибудь смотаться? Вот, смотаемся. В Альпы на Рождество. Покатаемся на лыжах. Каталась когда-нибудь на горных?
– Нет, не каталась, – по-школьному ответила Маргарита.
– Научишься. Никакой хитрости. Главное – смелость. Смелость у тебя есть?
– Не знаю, – снова по-школьному произнесла Маргарита.
Владислав двинул бровями:
– Есть! Ты ж амазонка. – И опять повернулся к экрану, ткнул в него пультом, побежал по каналам. – В общем, деньги заплачены, места заказаны, – собирайся. Через три, нет, через четыре дня выезжаем. Довольна?
– Безмерно, – отозвалась Маргарита.
– Что за ирония? – глянул на нее Владислав.
– Помилуй Бог, – пожала она плечами. – Какая тут ирония. Безмерно!
Было мгновение – в Маргарите вслед волне озноба и в самом деле все вспыхнуло радостью. Но тут же эта радость и погасла. Она не верила Владиславу. Точнее, не доверяла. Может быть, это и была правда – об Альпах. Чтоб у проститутки там все блестело, ее время от времени следовало вывозить не только в Фоли Бержер. Так что даже, вероятней всего, это было правдой. Но она никуда больше не хотела с ним ехать. Ни в Рим-Мадрид-Лондон, ни в Альпы на лыжах. Она хотела от него уехать. И все.
– О! – снова отворачиваясь от экрана, вскинулся Владислав. – Помнишь, ты пострелять хотела? Помнишь?
– Помню, – кивнула Маргарита.
– Вот, там и постреляем. Там есть площадка. Паф – и тарелки нету. Паф – и нету. Кайф – нет слов!
– Ссу духами, – сказала Маргарита.
– Что? – не понял Владислав. И понял: – Ах ты! – Она его, видимо, как-то необычайно возбудила этими возвращенными ему его же словами. – Ах ты, сучка!..
Он скинул ноги с дивана, вскочил с кресла и бросился к ней. Маргарита вполне натурально вскрикнула и бросилась от него. Он поймал ее, опрокинул на пол и уже тут, на полу стал раздевать.
– А ты, сучка! Ах ты, сучка! – приговаривал он, пока раздевал.
– Сколько дашь? – спросила Маргарита перед тем, как выпустить его из себя.
– Что такое? – вопросил он. Удивление его было более чем искренним. – Ты что, продажная?
– Нет, ну мне же надо кое-что подкупить себе для поездки, – спокойно сказала она. – По мелочам, на то се – и наберется. Перчатки, рейтузы, теплые носки… еще сколько наберется!
Утром на следующий день в кошельке у Маргариты лежали полторы тысячи. Это было более чем достаточно. С лихвой. И на билет, и на дорогу до аэропорта, и на непредвиденные расходы.
Она рванула на Елисейские поля, только за Владиславом закрылись двери. Она готова была улететь прямо сегодня, и если не успеть до рейса упаковать вещи, то – и без вещей.
Но билетов не было ни на сегодня, ни на обозримое будущее. Ни в одной компании. И в родном «Аэрофлоте» тоже. То есть, разумеется, билеты бы появились – кто-нибудь непременно бы сдал, – можно было записаться в лист ожидания и постоянно звонить, но в этом самом листе ожидания уже стояли впереди Маргариты тысяча и один человек.
Наверное, вид у нее был не огорченный. И не потерянный. А какой-то такой, что заставил девушку за стойкой, когда Маргарита повернулась и пошла прочь, позвать ее.
– Madam, madam! You please! Who wanted to go to Moscow! – кричала девушка ей вслед, пока Маргарита не оглянулась. И, когда оглянулась, поманила Маргариту к себе рукой.
Должно быть, то, что она сообщила Маргарите, говорить она не имела права. Давая Маргарите эту информацию, она предавала интересы своей компании, лишая ее потенциального клиента. Но, видимо, такой был у Маргариты вид. Вид висельницы, подумала про себя Маргарита чуть позднее, уже выходя на улицу.
«Попробуйте «Британские авиалинии», – сказала ей девушка шепотом, чтобы никто вокруг больше не слышал. – Полетите в Лондон, там сделаете пересадку – и полетите в Москву. У них, как правило, бывают места».
Как правило, как правило, повторяла Маргарита по-английски, едва не бегом направляясь в незнакомый ей офис. As usual, as usual…
Места у «Британских авиалиний» были. Во всяком случае, место. Правда, не на сегодня и не на завтра. И даже не на послезавтра. Но до того, как нужно будет выезжать в эти Альпы, она все же успевала улететь.
As usual, as usual, повторяла, пела про себя Маргарита, спускаясь по Елисейским полям к площади Согласия. Париж, несмотря на холод и слякоть, снова был великолепен и праздничен, и можно было запомнить его, увезти с собою в Москву именно таким.
24
Того, что Владислав что-то заподозрит, ей даже не приходило в голову. Она ослепла в своем упоении предстоящим бегством. Сделала слишком мало покупок для маскировки. Пожмотилась. Хотела сберечь как можно больше денег для Москвы. А наверно, было что-то и в глазах, что выдало ее. И заставило его полезть к ней в сумочку. Чего он никогда прежде не делал. Она знала точно, что не делал. Наводила в сумочке определенный порядок, оставляла на открытом месте – и находила нетронутой.
Она вышла всего лишь во двор – выбросить в контейнер мешок с накопившимся мусором. Была уже середина дня, но Владислав странным образом никак не мог выйти из дома. Слонялся по квартире из комнаты в комнату, звонил по домашнему телефону и по мобильному, уходя от нее подальше, чтобы она не слышала его разговора, полез по второму разу в душ. Вот тут, когда он по второму разу полез в душ, в раздражении, что все не может остаться одна, Маргарита и схватила из-под мойки мешок, который, если по-хозяйски, можно было еще заполнять и заполнять.
Она отсутствовала минут семь. Может быть, восемь. Можно было бы управиться и за три. Но хотелось побыть одной. И она спускалась, проиграв ногой по каждой степеньке, и так же потом поднималась, и во дворе, удовлетворив жерло чистенько-черного контейнера своей порцией его пищи, еще постояла, посмотрела на окна вокруг и только затем повернулась возвращаться.
Маргарита отомкнула наружную дверь, отомкнула внутреннюю, железную, закрыла их, пошла в ванную ополоснуть руки, – Владислава там уже не было. Кран был не закрыт и хлестал водой, насыщая воздух горячим паром, на кафеле пола отпечатались мокрые следы его ног, с края раковины свисало скомканное полотенце, – все свидетельствовало, что Владислав покинул ванную необыкновенно спеша.
Он встретил ее на пороге гостиной в торопливо схваченном поясом синем банном халате и босой. Он стоял на пороге и ждал ее, похлопывая по ладони каким-то длинным цветным конвертом.
– Что это? – переставая хлопать, показал он ей конверт.
В глазах его было холодное, бритвенное бешенство.
Маргарита посмотрела – и ей почудилось, у нее совершенно натуральным образом шевельнулись волосы на голове: у него в руках был ее билет! Девушка в офисе перед тем, как отдать ей билет, вложила его в специальный бесклапанный конверт-кармашек, этот конверт-кармашек и держал сейчас в руках Владислав.
– Ты роешься в моих вещах? – с высокомерной презрительностью произнесла Маргарита.
Что она могла сделать еще, кроме как изобразить оскорбленную невинность?
– Нет, паскуда, – ступил к ней Владислав, поводя перед собой конвертом с лежащим внутри билетом из стороны в сторону, – ты так мне благодарностью платишь? Я тебя – в Альпы, деньги тебе на шмотье, а ты от меня дёру дать намылилась? Ручкой мне адью сделать, так, паскуда?
– Ну и лексикон, – с прежней высокомерностью проговорила Маргарита. – Неужели, мсье, вы заканчивали МГИМО?
Владислав как не слышал ее.
– Деру от меня решила, паскуда, дать! Намылилась! На мои же деньги – от меня! С носом меня решила оставить – вот твои лыжи, не нужны! Паскуда, ну, паскуда!
Маргарита рванулась вперед и выдрала у него из рук конверт с билетом. Ее пробило чувством, если билет окажется у нее, то Владислав уже ничего не сможет ей сделать: не удержит ее, не остановит – никак не помешает ее отлету. До отлета оставалось два дня, и она готова была провести их на вокзале, под мостом – где угодно! – улететь хоть в одном нижнем белье – только бы выскочить за дверь.
Но Владислав дал ей подержать билет в руках одно мгновение. Схватил за руку, вывернул – и билет, прошелестев, упал на пол.
– Кинуть она меня намылилась! – продолжая выворачивать Маргарите руку, стиснутым бешеным голосом просвистел Владислав ей в лицо. – Мандавошка такая! Ты что, мандавошка, о себе вообразила? Ты – что есть здесь, что тебя нет! Я с тобой что хочу сделаю, тебя даже никто не хватится!
– Больно, перестань, больно! – закричала Маргарита, пытаясь отнять руку у Владислава. – Отпусти, мерзавец, отпусти, гад такой!
Она кричала не оттого, что ей было больно. Она кричала, чтобы заглушить охвативший ее страх. Что хочу, то и сделаю, никто не хватится, – что он имел в виду? Он угрожал убить ее?!
Владислав довольно усмехнулся и отпустил Маргариту. Ему понравился ее крик. Вернее, ее страх, прорвавшийся в этом крике.
– Хочется меня прямо убить, а? – продолжая усмехаться, спросил он. – Ух ты, ух ты! Амазонка! Убить нелегко. Это не всякому дано – убить. Кому дано, а кому не дано. – И подался к ней резким, пугающим движением: – Хочешь, проверим?
Маргарита отпрянула от него в сторону, и теперь он уже захохотал. Нагнулся, поднял с пола конверт с билетом, сунул в кармана халата и, продолжая хохотать, повернувшись к Маргарите спиной, пошел обратно в гостиную. Маргарита смотрела ему вслед и боролась с искушением броситься к входной двери, открыть одну, другую – выскочить на лестничную клетку и больше не возвращаться сюда. Она знала замки и, вероятней всего, успела бы выскочить прежде, чем он догнал ее. Но что она была без билета, который лежал в кармане его халата? Зачем ей тогда нужна была эта свобода от Владислава? Что бы она делала с нею?
Она пошла в гостиную следом за ним. Он остановился около сейфа и оттуда оглянулся на нее.
– Что, готова?!
Маргарита не понимала его.
– Отдай билет! Отдай! – закричала она, вновь криком стараясь перебить колотивший ее страх. – Отдай, не могу здесь больше, отдай, дай улететь!
– Нет, как же, – прежним насмешливым тоном проговорил Владислав, – ты же амазонка, ты же меня убить обещала! Помнишь, обещала?
– Отдай! – не решаясь приблизиться к нему, повторила Маргарита. – Отдай!
Владислав пощелкал ручкой, набирая шифр, набрал, отодвинул щеколды замка и, потянув, открыл сейф.
– Во, гляди, – достал он изнутри тот, большой, который тогда у нее на глазах снаряжал патронами. На стволе у пистолета остался даже навинчен глушитель. – Попробуешь? Десять секунд на размышление. Пока я другой заряжаю. Сможешь – убей. Давай. Амазонка! А нет – так я тебя из другого. Из любимого пистолета Джеймса Бонда.
Маргарита видела: он куражится. Куражится – и получает от своего куража удовольствие, какого, наверно, не получал от удачных сделок по поставке фальшивого французского вина на родину-млядь.
– Отдай мне билет! Отдай! – как закольцованная магнитная пленка, тупо выбросила она Владиславу в лицо, обдирая себе криком горло.
– Сама возьмешь, – похлопал по карману халата Владислав, подходя к ней. – Когда убьешь. – Вложил Маргарите в руку металлическую тяжесть пистолета, но тотчас отнял, двинул сбоку какой-то рычажок и вновь всунул пистолет Маргарите в руку. – Во. Теперь абсолютно готов. Давай!
Повернулся и неторопливо, спокойно двинулся обратно к сейфу. Даже подчеркнуто неторопливо. Даже слишком спокойно.
Маргарита стояла с убийственным грузом в руке и с ужасом смотрела Владиславу в спину. А если он не шутит? Если он куражится, но всерьез, уверен, что она ничего не сможет, зарядит своего джеймсбонда – и убьет ее? Ей вспомнилось, как он ее бил. Ей вспомнилось, как ее бросил Сергей. Ее Сереженька… Как ее продал Атлант. Как вышвырнул с работы Скоробеев. Как насиловал дед Семен. Как использовал отец…
Владислав подошел к сейфу, засунул внутрь руку, и она вынырнула наружу с любимцем легендарного агента. Засунул другую, и другая появилась с пластмассовой коробкой, доверху наполненной тускло-маслянистым латунным богатством. Маслята, вспомнила Маргарита читанное в газетах о патронах. Как точно.
Владислав повернулся и поставил коробку с патронами на ломберный столик.
– Стоишь? – спросил он. – Ну, стой, стой. Наверно, я ошибся, у тебя не десять секунд. Побольше. Пока я нужные патроны наберу, пока магазин набью… шесть патронов, по-честному, как у тебя, не больше.
Говоря это, он выщелкнул на ладонь изнутри рукоятки белый плоский пенал и, покопавшись пальцем в латунной куче, вытащил один «масленок», вставил в пенал. Вытащил второй, вставил.
Утробный, звериный рык сотряс Маргариту. Она вскинула руку с пистолетом, подперла ее снизу, чтобы не так прыгала, другой, и ободранное ее горло прохрипело:
– Стой! Прекрати! Брось пистолет! Брось!
Владислав остановился снаряжать магазин и посмотрел на Маргариту. По его гладко, как всегда, зеркально выбритому лицу пробежала ехидная куражливая усмешка.
– О! Голос амазонки. Это я понимаю. Молодец. Давай-давай!
И снова опустил глаза к коробке с патронами, снова покопался в них, вытащил подходящий, воткнул в обойму, стал искать новый.
– Прекрати! Брось! – рычала Маргарита. – Брось! Отдай билет!
– Вот сейчас у тебя секунд десять, – не обращая внимания на ее хрип, продолжая снаряжать обойму, спокойно произнес Владислав. – Даже меньше уже. – Он закончил с обоймой, повернул пистолет к себе дном рукоятки, наставил пенал магазина на отверстие и вбил его внутрь. – Вот, теперь уже почти ничего не осталось.
Маргарита не поняла, как случилось, что она нажала на спусковой крючок. Она не помнила, как нажала. Ни первый раз, ни второй, ни третий. То, что нажала три раза, она определила потом, по оставшимся патронам. В памяти сохранилось лишь то, что руки у нее ходили ходуном, тряслись, будто под электрическим током, и внутри стоял жуткий, отчаянный, звериный вой: не попаду, успеет раньше, убьет!
И звука выстрелов она тоже не слышала.
Ехидная куражливая ухмылка на лице Владислава вдруг сменилась уродливой, жуткой гримасой, рот ему стало растворять, все шире, шире, он качнулся и упал перед ломберным столиком на колени.
– Е-мое, – просипел он. – Ты что, дура…
Больше он не смог сказать ничего. В горле у него заклокотало, изо рта, пузырясь, полезла красная пена, и, сползши с ломберного столика, он рухнул на пол.
Он рухнул, и что отдельно запомнилось Маргарите – с каким тяжелым костяным звуком ударилась о пол голова. Будто громадный бильярдный шар.
Сколько она простояла, не в состоянии сдвинуться с места, Маргарита не знала. Она все не верила в то, что произошло. Знала, что произошло, и не верила. И все держала в руках перед собой пистолет, сознавала, что можно избавить себя от него, и не могла заставить себя его опустить.
Потом ее словно ударило. Она швырнула пистолет на ломберный столик, бросилась к лежавшему на боку, с подвернутыми ногами Владиславу, перевернула на спину. Он был тяжел и подчинялся ей с послушностью бездушного бревна. Там, на полу, где он лежал, осталось ярко блестеть огромное красное озерцо. Маргарита потеребила его за щеки, заглянула, растянув пальцами веки, в глаза, – Владислав отзывался на все ее действия с той же послушностью бревна. Маргарита бросилась в спальню к своей расстеребленной, обысканной сумочке, выхватила из нее зеркало и, метнувшись обратно, поднесла его к окровавленным губам Владислава. Так, помнила она из детских прочитанных книг, проверяли герои, жив другой герой или нет. Круглое ее зеркальце не замутилось. Только в одном месте, где оно случайно задело губу, осталось бурое пятнышко крови.
Путь к вожделенному билету в кармане халата у Владислава был свободен. Залезь и возьми. Маргарита потянулась к карману – и в рот ей свирепым, мощным толчком, обдирая горло, как до того криком, выкатилось из желудка его содержимое. Она рванулась побежать в ванную – и не сделала трех шагов: из нее изверглось. Забив нос, заложив уши, вызвав своим отвратительным запахом новый желудочный спазм.
25
Оставшиеся до отлета два дня Маргарита провела в пьяном беспамятстве. Она пила все, что было у Владислава – вино, коньяк, виски, джин, – лишь бы побыстрее опьянеть. Приходила в себя – и тут же снова пила, и отключалась. Желудок не принимал столько спиртного, ее то и дело рвало, но, отдышавшись после очередных поклонов умывальнику, прополоскав из-под крана саднящее горло, Маргарита заставляла себя принять новую порцию. Мобильный телефон Владислава постоянно звонил, и она отключила его. В минуты, когда сознание яснело, ее охватывало страхом, что где-то там, куда Владислав уезжал почти каждый день, в оставшемся ей неизвестном офисе его могут хватиться, приехать сюда, начать звонить в дверь, может быть, даже выламывать ее, резать каким-нибудь автогеном… следовало бы, понимала она, собрать вещи и убраться из дома, – но так и не нашла в себе сил это сделать. Судьба, однако, оказалась к ней благосклонна: никто не приехал, и в дверь за все два дня ни разу не позвонили.
Рассудок ее не оставлял. Она следила за временем и, приходя в себя, непременно проверяла, сколько осталось до самолета.
Перед выходом из дома Маргарита присела над Владиславом – вернее, над тем, что теперь было им, – и с минуту сидела, смотрела на него. Она не трогала его эти дни, он так и лежал, где упал, на спине, как она перевернула его, рот у него был широко открыт, открыты глаза, она попробовала закрыть их, но у нее ничего не получилось – он уже давно закостенел. Впрочем, ей до того было физически плохо, что эти его открытые рот и глаза ее не пугали. Зачем она напоследок столь пристально вглядывалась в его лицо – ответа на это в ней не было. Она не прощалась с ним. Ей нечего было с ним прощаться. Она не чувствовала в себе такой потребности. Просто некая сила, что была вне ее и сильнее ее воли, заставила Маргариту сделать так, и она так сделала.
Груза у нее получилось – два больших чемодана. Но оба были на колесиках, с приделанной к ним ручкой, кати – и никакого особого труда. Вместо своего легкого пальто, в котором ей было не слишком тепло и в Париже, она надела дубленую, с коротко подстриженным мехом куртку Владислава. Куртка была основательно велика ей, но двубортная, застегивайся хоть на какую сторону, и для декабрьской Москвы подходила лучше всего прочего.
В сейфе, который Маргарита обследовала еще в одно из своих просветлений между пьяным беспамятством, лежали, оказывается, не одни пистолеты. Владислав держал здесь и деньги. В глубине, у дальней стенки. Не франки. Доллары. Много: несколько пачек сотенных в банковской упаковке. Соблазн взять хотя бы одну был так силен, что сначала Маргарита и взяла. Она уже стояла с чемоданами у дверей, соображала, мучительно преодолевая похмельную слабость мыслей, все ли сделано, что собиралась, и достала из сумочки пачку долларов, разорвала банковскую бандероль, отсчитала две тысячи, а остальное отнесла обратно, бросила в сейф. Кто знает, какие правила на таможне здесь, какие правила там, в Москве. Лучше было не иметь с собой больших денег.
Такси на улице, когда она покатила по тротуару с двумя чемоданами, остановилось само, без всякого ее знака. Мадам нуждается в машине, мадам подбросить? – что-то вроде того спросил, наверное, французский таксист, высунувшись из окна. Ви, ви, отозвалась Маргарита, сворачивая с тротуара. Аэропорт, сказала она уже в машине по-английски, Шарль де Голль. Водитель понял. О кей, улыбнулся он.
В аэропорту, перед тем, как идти оформляться на вылет, Маргарита выбросила ключи от квартиры Владислава в урну. Все, теперь пусть туда приходят, кто пожелает. Ее там нет.
Оказавшись в зале посадки, Маргарита достала из полиэтиленового пакета прихваченную из дома непочатую бутылку виски, вскрыла ее и отхлебнула прямо из горла. Отрываясь от бутылки, она заметила на себе сразу десяток удивленных взглядов. Но ей было все равно. До Москвы еще нужно было долететь, и, чтобы долететь, следовало себя снова как следует оглушить.
И в самолете, когда стюардесса покатила по проходу со своей тележкой, она тоже пила, взяв себе сразу две рюмки коньяка, и пила потом в аэропорту Хитроу, дожидаясь всю ночь своего рейса. Как она проходила затем аэропортовские формальности, как снова садилась в самолет – ничего этого Маргарита не удержала в памяти. И не запомнила, как летела.
Она пришла в себя, когда объявили, что уже подлетают к Шереметьево. Стюардесса наклонилась над ней, требуя застегнуть ремень, потрясла за плечо, – и Маргарита очнулась. О кей, о кей, бестолково ответила она стюардессе, но та не уходила, настаивая, чтобы Маргарита пристегнулась, Маргарита соединила на себе застежку ремня – и это действие окончательно привело ее в чувство.
Место ее было у окна, и она глянула в него. Но внизу пока было только стеганое одеяло облаков. А вокруг, оказывается, – сияющий ультрамарин пронизанного солнцем неба, такой сияющий и слепящий, что внутри в ней, несмотря на разнимающую тело похмельную слабость, тотчас все отозвалось счастьем.
Она дома, она дома в России, было сутью и смыслом этого счастья. Она дома! Там, в той квартире, все, конечно, в ее следах, ее будут искать – никакого сомнения, но кого будут искать? Будут искать некую Славу Анисимовну Рогозовскую, но такой нет в природе, она существует только в этом паспорте в ее сумочке, и осталось лишь пройти всякие контроли здесь, а после этого Слава Анисимовна исчезнет. И даже если в каких-то мидовских архивах отыщут ее паспортную фотографию, как по этой фотографии установить ее настоящую? И как хорошо, что он ее ни с кем не знакомил и что она ни разу не звонила с его телефона в Москву. Ее следов в квартире полно, но следов ее настоящей – никаких.
Самолет вошел в облака, прошил их и вынырнул к заснеженной земле. Маргарита, вновь приникнув к окну, жадно смотрела на мелькавшие мхи лесов, коричневые нити дорог, коромысла высоковольтных вышек, россыпи домов, и сердце у нее захлебывалось радостью: дома, дома!
О том, что если в квартиру уже проникли и кому-то из знакомых Владислава там все же известно имя, под которым она обитала в Париже, то здесь, в аэропорту ее могут ждать, Маргарита странным образом не думала.
Она подумала об этом, только когда все контроли были уже позади и каким-то узким мрачным проходом между двумя грязно-серыми стенками вышла к бурлящей толпе встречающих. Она подумала об этом – и ее запоздало опахнуло ужасом. Она стояла со своими двумя изрядных размеров чемоданами на пути – и не могла сдвинуться с места. Ее толкали, случайно и нарочно, обругивали ее, а она все стояла. Вот ничего себе, что еще могло быть, звенело в ней.
Из толпы встречающих выпихнулся мужик с печатью таксиста на лице.
– Что, девушка, машина нужна?
Маргарита, глядя на него, медленно приходила в себя.
– Машина? – переспросила она, не понимая. И поняла: – А, машина! Нужна.
– Сколько? – спросил таксист.
– Сколько положено, – сказала Маргарита.
– Сто, – сказал таксист.
– Чего? Рублей? – Маргарита удивилась.
– Каких рублей. Долларов.
– Да ну идите вы! – Маргарита стронулась с места и пошла сквозь толпу.
– Ну, восемьдесят, давай! – попробовал таксист перехватить у нее один из чемоданов.
– Десять, – предложила Маргарита.
– Иди ты, десять, – послал теперь, в свою очередь, ее таксист, отпуская ручку чемодана. – Тебя дешевле пятидесяти никто здесь не повезет!
Маргарита, продолжая сосредоточенно двигаться к выходу, не ответила ему. Она и не собиралась брать никакого такси. Она собиралась на автобусе до «Речного вокзала», а там на метро. Нужно было экономить. Она видела теперь всю свою жизнь навылет, до смертного одра. Учительница русского и литературы. Жизнь впереди ждала ясная и убогая.
Маргарита вышла через стеклянные двери на улицу, тотчас обдавшую ей лицо стылым сырым ветром, и покатила с чемоданами вдоль дороги. Мимо, загрузившись пассажирами, с солидной медлительностью проезжали роскошные «БМВ», «Вольво», «Мерседесы», «Тойоты», родные «Волги» с шашечками на крыше – чтобы дать настоящую скорость дальше, выехав на шоссе. Остановка автобуса была там, внизу, за автостоянкой, и до нее нужно было пройти метров триста. А потом стоять и ждать.
Она больше ни на что не претендовала в жизни. И ничего больше от нее не ждала. Если только какое-то чудо. Но на чудо она тоже больше не надеялась.
1999 – 2000 гг. Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




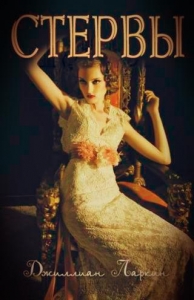

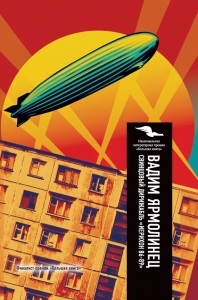
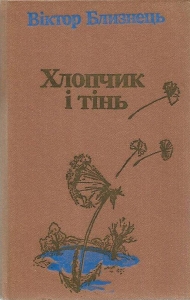

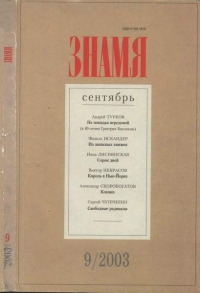


Комментарии к книге «Новая дивная жизнь (Амазонка)», Анатолий Николаевич Курчаткин
Всего 0 комментариев