Альберт Егазаров ЧАЙКА
Героям советского образа жизни посвящается
1
— Через одну, мальчики! — кричала в тугое брюхо автобуса верткая поджарая старуха с крашеным под солому каре и выражением предельного душевного подъема на морщинистом и все же неестественно юном лице; ситцевое платье в горошек, авиамодели в руке, беленые мелом парусиновые тапочки, — словно из карнавальной процессии ряженых вырвали сей персонаж — задорную комсомолку в роли старухи, но седина и толстый слой морщин, положенные временем, этим обычно мастеровитым гримером, не совсем уклюже прикрывали трескучую, в тон пионерскому барабану, юность.
И как вскрик латунного горна звучал ее голос, когда заплеванный мундштук плющит неумелые губы и вместо бодрящего «Вставай, вставай, штанишки надевай!» рвется из раструба хриплый намек, но, пройдя тесное горнило латуни, эхом огненных лет откликается в больших не по возрасту сердцах пионеров и наказами павших героев догоняет уходящий рассвет.
И как собственные крылья берегла она бумажные плоскости моделей, держа их вверху, над толпой, подальше от потных касаний и наглого недоуменья.
Автобус тронулся, где-то лопнуло, у кого-то хряснуло, что-то шлепнулось и потекло, слабый возглас с требованием всех расстрелять пыхнул у дверей и тут же увяз, как вязнет в груде тел пуля, а вот тронутая старуха устояла, и еще не стихло волнение, а она уже с силой грузчика раздвигала толпу, влекомая странной целью — затылком, похожим на стиральную доску; конечно, пройти было непросто, крылья хлопали полицам, кого-то задел хвост, кого-то нос, какая-то визгливая дамочка извещала всех о дороговизне колготок, но странная пассажирка в ситце этого уже не слышала, и она не скандалила, нет, она даже извинительно улыбалась за что-то постороннее в себе — то, что на время втиснуло в ее старое тело мощь и наглость уличного фраера.
Затылок, к которому она пробиралась, за все это время ни разу не шелохнулся и все так же невозмутимо торчал над сиденьем. Возмущались морщины, их жгутики при особо густых и пахучих ругательствах, щедро спускаемых в пассажирские уши, брезгливо морщились и стыдливо краснели.
Ряженая комсомолка, действительно, рехнулась: пробравшись к затылку, она сломала об него хрупкие крылья авиамоделей, но несокрушимый утес с живыми морщинами как будто и не почувствовал этого, старой же авиамоделистки на большее не хватило — состарившись теперь по-настоящему, она покачнулась и стремительно, словно подбитая птица, спикировала на пол. Лицом вверх. Руки произвольно. Извинилась глазами за причиненное неудобство. Замерла… Визгливый голос, требовавший расстрела, ругнулся в последний раз: «Скорую!»
Странный для спертого, многократно испорченного воздуха салона вихрь свежести пробежал по автобусу: разбудил дремлющего у стойки пассажира, прошелестел мятой газетой в руках владельца затылка и мирно затих…
Старуху подобрали и в окружении ее воспитанников, помощников и просто зевак быстро вынесли наружу; из пионерской свиты в автобусе остался один рыжий мальчуган: решительно погоняя пассажиров, он собрал останки планеров, с тою же пионерской бесцеремонностью пробрался к выходу и, только спрыгнув вниз, обнаружил в охапке вместе с авиащепками два затоптанных, местами еще ослепительно-белых пера.
2
Лиза Чайкина Лизой была недолго. С такой фамилией имена долго не живут. Они соскальзывают быстро и столь же незаметно, как в добрых руках слетают с доброй шашки ножны. И не случайным призраком для сравнения вынырнула из этих строк шашка. Ведь Лизонька родилась как раз в то время, когда ножны с шашек соскальзывали слишком часто даже для сравнений, так часто, что они грозили стать банальностью и почти стали ей, как и тот ветер, что насвистывал в них, когда ждали они возвращения своих постояльцев. Постояльцы возвращались и вносили в тесные свои хижины запах сладкий — чужой крови, и горький — своего стыда за то, что другие ножны, круглые и короткие, слишком долго оставались без клинка.
Лиза стала Чайкой и умудрилась остаться ребенком. Детство в те годы светило не многим, и нужно было иметь либо недетское мужество, либо стариковскую мудрость, чтобы, забыв о хлебе, гонять мяч или наряжать кукол. По огромной, утопающей в кумаче стране, бродила в поисках пропитания особая, карликовая порода взрослых, живущая интересами той здоровой физиологии, что по классовой индифферентности своей была прозвана вождем мирового детства «болотом», а рядом веселилась порода детей-исполинов, ежегодно устраивавшая праздники детства и юности, забавлявшая себя флажками, лампочками, механическими игрушками, подшипниками размером с «чертово колесо», ватными, хорошо горящими буржуями, красными ангелами, рабочими-гигантами, змеями и гидрами империализма в натуральную величину, а также быстро растущими на плакатах вождями, грозящими при аварии похоронить под собою треть, самое малое — одну шестую мира, — и все это шумело, мигало, визжало, дети-гиганты водили хороводы, играли в явочных подпольщиков и явных комиссаров, шпионов, разоблачения и саботаж, а также устраивали любимые всем мировым детством тайные собрания, где клялись наподобие Сойера и Финна друг другу в верности, — всем было весело, только взрослым карликам было не до веселья — прагматичные нужды накидывали тень грусти на их глаза — мамка в комитете каком-то играет, папка в агитбригаде поет, а ботинок в школу нету…
И все же природа свое брала: карлики подрастали и становились детьми… Ну, и Партия мимо не прошла — разрешила карликам играть: вначале в пионеров, костры и синие ночи, а потом и до старших добрались — им дали поиграть во внучат. У самых младших, Гулливеров, оставалось в ходу всего несколько игр, но любимейшей считалась «борьба». Боролись за все: за комсомольские браки, за электрификацию, за всеобщую грамотность и ничейную собственность, за ликвидацию и разгром, были и календарные игры — за сев и урожай. Но урожай почему-то всегда оказывался сильнее «борцов», и дети, потерпев поражение, затевали игры в саботаж и двурушничество.
А что же Лиза? Лиза, как и все, поиграла вначале в синие ночи, пионерские зорьки и костры, но потом ее навсегда выбрали Чайкой, и она, конечно же, начала играть в авиацию. Дети-гиганты в это время вовсю забавляли себя игрой в энтузиазм.
За моделями с их плоскостями, элеронами и пропеллерами Чайка не замечала ни сношенных башмаков, ни полинявших платьев, ни угрюмого комбинезона. Запуская хрупкую искусственную птицу, она не оставалась на поле — нет, она летела вместе с ней, вперед и выше, она чувствовала все ветры, все потоки, идущие от земли и к земле, она была там, в сухом и предельно синем небе, влекомая еще неясной, но уже прекрасной, на мечту похожей целью. И вся страна была уже на крыльях, пока еще фанерных, бумажных и алюминиевых, но в институтах уже работали над сортами хлеба, растущего то ли прямо в булках, то ли кустами подобно винограду, и под этот невиданный хлеб, под воздушные города, под торжество победившего социализма новый тип человека зрел в пробирной тишине лабораторий — Homo aerus — специальной породы — окрыленной.
Взлетая мыслью ввысь и покоряя небо, Чайка как-то пропустила момент, когда она оказалась у тетки, а та ей все пыталась объяснить, куда затерялись ее родители, что было Чайке в общем-то неинтересно; родители затерялись для Чайки давно, когда она еще Лизой была и канючила, чтоб папа взял ее на горки, но папа спешил в агитбригаду, а мама, спихнув ее ворчливой бабке, упархивала в кружок красного ткачества. Бабка же беспрестанно доводила ее разговорами о боге и раздражала какой-то поповской темнотой, висевшей в углу и чадящей плохим салом… и довела: Чайка выкурила из дома этот опиум для народа, основательно поработав топориком над темной доской. Бабка ее прокляла и с тех пор стала побаиваться, при каждом ее появлении испуганно вздрагивая и крестясь, и прямо в глаза уж более не смотрела — на сторону воротила, ну и за свое, конечно, — крестилась. От этой дурной привычки Чайка ее так и не отучила.
…Тетка купила ей новое мадаполамовое платье, блестящие ботики, себе — бутылку водки, позвала за стол, заставила надеть платье, причесаться — поохала, удивляясь ее быстро растущим грудям, подвела к зеркалу.
Чайка вначале подумала, что тетка ее разыгрывает — налепила поверх стекла афишу — так неожиданно из мутноватого мира Зазеркалья вынырнула белокурая красотка, копия сразу двух кинозвезд, немецкой и нашей, советской, которая начинала покорять горизонты всенародной любви тем, что для ткачих она была ткачихой, трактористы видели в ней мечту механизатора, ученым актриса казалась коллегой, а революционерам боевой подругой, — но не только на поля в аудитории и цеха заглядывала эта звезда — перигеем ее небесного хода было схождение в хлев, к свиньям, в ужасы откорма и рекордных убийств.
Тетка была удивлена сама не меньше, чем Чайка, она даже забыла, для чего водка на столе и весь этот маскарад, «я покажу тебя режиссеру, — первым делом сказала она и только после второй рюмки вспомнила:
— значит… родители твои… на Север уехали… осваивать».
Чайка восприняла новость на редкость спокойно, только из школы, где она была примерной ученицей, пришлось уйти, труднее было скрыть, куда, а еще труднее отбиться от обнаглевшего физкультурника, решившего, что раз «чеэскаэрка», то и дозволено все.
А небу было наплевать на аббревиатуры. Небо принимало людей без статусов и сокращений, небо принимало (или не принимало) только полностью, без всяких там Ф.И.О., Г.Р. и М.Р. И оно не позволяло так себя провести, как дала обмануть себя Чайка, на короткий, но стыдный миг мишурного ослепления забывшая, что она — Чайка, а не какая-то начинающая мосфильмовская блядь с «хорошими шансами на образ». Платье пришлось подарить пыльному ящику, а с теткой поссориться и больше ее никогда не увидеть, и не знать все последующие годы — пустое ли это совпадение или часть спектакля, поставленного тем сладкоречивым режиссером, что сулил «шансы на образ».
Небо знало, что Чайка не долго будет горевать о потерянном платье, оно знало, что синий комбинезон с большими карманами был сто крат ей милей фильдеперсов, а резкие запахи резины и клея она не променяла бы ни на какие «Диоры».
3
Май, небо Коктебеля весело и тепло смотрело на рыжие скалы у моря, серую гальку пляжа, на две фигуры, мужскую и женскую, особняком от других, образцово-социалистическую — Чайки, и другую, побольше, чуть мещанскую из-за гладкости и полноты — молодого инструктора, что магнитился к ней с назойливыми объяснениями восходящих и нисходящих потоков, а также сравнительных свойств пашни и леса с точки зрения планеризма. От пристального взгляда неба тела быстро краснели, пора бы уйти, но инструктор все объяснял и объяснял бесчисленные маневры, показывал рукой вверх, делал ей замысловатые пассы, но смотрел почему-то больше вниз, туда, где лежали ноги Чайки. Чайка зевала, монотонный бред инструктора действовал на нее тяжело, даже усыпляюще, а рассуждения о полетах были бескрылыми и неуклюжими, вроде откормленного к празднику гуся, летающего разве что во снах, но… приближался экзамен, и начинить себя свинцом инструкций Чайке все же пришлось, да так, что недоставало совсем немного знаний, чтобы страх и свет, порождаемый ими, мог загнать ее в такую темь, что даже гусь, в темнице мешка покорно строящий печенку, пребывает в большей возможности взлететь — пусть единственный раз, пусть мистически, зато благородно — в паштет.
Небо поглядывало, инструктор поговаривал, Чайка подумывала, но больше о своем, хотя и старалась думать об общем. Лежала на спине, смотрела в зенит, и непривычно пустой была небесная синь, пустой для нее, привыкшей видеть небо как улицу, только в дирижаблях, стягах и аэропланах вместо машин, — и пусть на две трети это ее представление о советском небе было искусственным, то есть от искусства социалистических романтиков вроде Дейнеки и Петро- ва-Водкина, — как бы там ни было, небо в представлении Чайки было уже давно заселено и обжито энтузиастами страны, той, что всеми способами: дырявящими небо проектами, крепнущими крыльями и хрупкими дирижаблями, лагерями и песнями стремительно и коллективно переселялась в небеса.
Поэтому странным в этом месте нетронутых гор и старых морей было для нее видеть небо, отданное одним лишь чайкам да стае-другой черных ворон, кричащих совсем не по-городскому, низко и мелодично, в отличие от фальцетных срывов своих горластых конкуренток. Вороны были большими, чайки — огромными, шумные битвы между двумя воинствами разгорались почти каждый день. Что могли делить эти птицы, когда у одних было море, у других — ущелья и горы? Небо? Неужели этой огромной чаши не хватает на всех? — недоумевала будущая планеристка.
Лиза Чайкина лежала на спине и уже с четверть часа неотрывано следила за одной чайкой, парящей без единого взмаха крыльев. О каких восходящих потоках имеет представление эта птица? Ведь не думает же она о приметах, она просто летает и даже не знает, как можно ошибиться и вместо восходящего потока попасть в нисходящий. Чайки не ошибаются. И самое главное — не падают…
Первый ее одиночный полет был назначен на утро. Это было майское утро — пахучее, свежее и воздушное, как «Песня о встречном».
Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река, Кудрявая, что ж ты не рада Веселому пенью гудка? Не спи, вставай, кудрявая, В цехах звеня, — Страна встает со славою На встречу дня.Инструктор давал ей последние наставления, что-то опять втирал о потоках, крене и предельных углах, сам провожал ее к длиннокрылому планеру и, придерживая за локоть, старался тыльной стороной ладони коснуться небольшого, но упругого холма, обтянутого тонким синим брезентом. Чайка его совершенно не слышала, она даже не замечала его нахальных жестов, она вдыхала носом воздух, и это было не просто дыхание, это было вдыхание, и оно, это вдыхание, говорило ей больше о небе, чем привыкшие к нему глаза и бездействующие пока уши. Чайка шла и принюхивалась к силам, которые поднимут ее в воздух и будут держать в небе до тех пор, пока… Пока что?
А залезая под колпак, Чайка почувствовала, что планер — это не просто фанерная игрушка, эта штука — теперь часть ее самой, и от того, как она примет свои новые члены, крылья, хвост, стабилизаторы, от этого будет зависеть, сколь долго ей лететь. Белокрылая чайка, наматывающая восходящие круги. Скорость потока — минус скорость снижения…
Резинка выстрелила ею мягко, но решительно, бесповоротно отбрасывая не только надежную землю, но и те самые надежные знания, что безнадежно вшептывал ей в ухо молодой чубатый инструктор. Чайка взлетела над горой, с воздуха — настоящая оборонительная насыпь, возведенная поколением гигантов, живших на этих землях задолго до человека, — заложила в сильном токе круг и… стала падать, валясь на левое крыло. Зажмурила глаза. В голове мелькали обрывки никчемных инструкций. Тело, плоть бескрылых существ, налилось предательской тяжестью, обмякло… Послышался свист. Сейчас. Скоро. И вдруг, не открывая глаз, Чайка почувствовала, как руки с непонятной для нее цепкостью, выдающей привычку, взяли штурвал и, повинуясь какому-то органу, зудящему под переносицей, начали выравнивать опасный крен, уводя планер к нагретому каменному плато.
Она поднялась уже метров на четыреста, когда вспомнила, что до сих пор так и не открыла глаз. Не нужно! — было первой мыслью, идущей опять же не от ума. Но сейчас Чайка твердо знала, что ей делать — она уже назвала это «нюхать», и никакие инструкции не могли ей теперь помешать. В приступе необъяснимой радости, какая бывает только после пережитой опасности, она заложила крутой вираж, и перегрузки в крыльях болью отозвались в лопатках. «Осторожней!» — сказала себе Чайка и, нарушая инструкцию, повела планер к древней стоянке гигантов, названной почему-то вулканом.
Ей открылись пленненые берегом каменные монстры, ноги их цепко держала земля, зубчатые хребты жгло немилосердное солнце, а у самого моря, подняв от соленых волн морды, беззвучно лаяли порыжевшие от времени псы. Новым своим зрением Чайка видела, что этот каменный зверинец — не просто торы, похожие на то-то и то-то, они и есть это самое «то-то», заснувшее, притаившееся до времени, чтобы однажды, во время большой воды, когда исполинские тела станут легче, сбросить со своих спин наглых паразитов, питающихся соками их тел, распрямить глубоко ушедшие в землю члены и двинуться дальше, на север, увидеть снег и там, в земле гипербореев, прилечь на отдых до следующей большой воды, и встать, когда придет она, и снова идти, и в конце концов найти то, чего еще никто не видел, но которое есть — то, возле чего можно, наконец, лечь и уж не вставать боле.
Сделав круг над дышащим жаром каменным сходом, Чайка поднялась еще выше и только тут заметила, что рядом с ней летит целая стая белокрылых птиц. Срываясь в фальцет, они что-то кричали ей на своем языке, оборачивались и, казалось, с сочувствием и укоризной заглядывали за фонарь кабины, снова кричали, и Чайка вдруг поняла — ее приняли, ее зовут, и лететь надо за ними. Всей стаей ворвались птицы в мощный поток, стекающий вниз, к морю, — по темному ущелью с журчащим на его дне ручьем слетала вниз стая. Скала перед ней выросла неожиданно — в поворот не вписаться: ее правое крыло должно было врезаться в спины двух сфинксов, несущих вечную вахту на входе в каменное святилище. И тут Чайка вскрикнула, точнее, крик сам вырвался из ее пересохшего горла, получилось пронзительно и по-птичьи сухо, и чайки ответили ей — подняли гомон, похожий на стенания опытных причитальщиц. Но похороны не состоялись — она опомнилась, когда великаны были уже позади, словно каменные их спины, склонившись, пропустили ее. Вода в бухте казалась глубокой, холодной и синей, она засасывала, эта вода, и Чайка, целясь носом в середину бухты, снижалась очень быстро, слишко быстро, чтобы по правилам выйти из пике, — она вскрикнула еще раз, чайки без промедления ответили, уходя строгим клином прямо в отвесную, похожую на огромный клык, а может и на алтарь, скалу. Они что, решили ее убить? Тогда к чему эти дружелюбные покрикиванья и эти сочувственно глядящие глаза? Но что за выбор: под ней — вода, от которой уже не оторваться, холодная, синяя, как перекаленная сталь; слева — алтарная скала, твердая, как… скала.
Чайка завалила левое крыло, и в неистовом гвалте птицы у самой скалы взмыли вверх, а она ждала смерти, она была Чайкой с прописной, когда сейчас не было для нес ничего желаннее строчной, да простит ее Алексей Максимович, мечтавший о заглавных буквах для всех.
И тут вместо удара она почувствала мягкую, но властную силу, взявшую ее к себе на руки и подбросившую вверх; а потом этот невидимый покровитель, как когда-то в детстве папа, закружился с ней по уходящей к небу спирали…
По мнению наблюдателей Чайка экзамен провалила, а ее полеты над кратером потухшего вулкана со спиральным подъемом были расценены как опасные судороги напуганного новичка, чубатый же инструктор вновь окрылел, надеясь, что неудача подтолкнет эту птичку к нему за добрым и нужным советом в нелегком для слабого пола деле покорения воздушных высот.
На следующий день были показательные полеты мастеров. Чубак (фамилия его была именно такой) был тут как тут: взявшись растолковать Чайке нюансы планирования, он умудрился испортить ей весь праздник: тупость его острых замечаний конкурировала разве что с плоскостью незатейливых шуточек и округлостью стонущей от вожделения плоти.
Экзамен ей все же пришлось сдавать. Вторично. На сей раз Чайка знала, что нужно делать — глаза ни в коем случае не закрывать, и не «нюхать», конечно, а считать.
Ползать по небу оказалось нетрудно…
А Чубак, гордо подбрасывая чуб, вился вокруг комиссии и время от времени важно изрекал: «Моя… — и хотелось ему ограничить себя этим словом, но пока он вынужденно добавлял: — школа».
И откуда ему было знать, что помимо Чайки она была еще волейболисткой, гимнасткой и байдарочницей, и нежные холмики грудей у этого человека нового типа были надежно прикрыты крыльями тренированных мышц, так зажавших его изогнутое запястье, что пришлось накладывать шину и ограничиться лишь магическим обладанием строптивой ученицей в виде низкой брани и матерных обещаний, похожих в чем-то на романтические обеты верности бесследно сгинувших рыцарей.
4
А полеты все ширились, все большее число людей заражалось горячечным бредом высоты, отчего некоторые умствующие обыватели, прийдя в смятение и ужас, пытались унылыми сентенциями обуздать стремительно молодевшую страну. Но их голоса были робки и тонули в гуле пламенных моторов, сменивших устаревшие и уставшие сердца. Не отставали от них и покорители недр, высоких широт и далеких меридианов. Время свершений упразднило тление будней. «Первый прыжок в шестьдесят!» — возвещали с восторгом газеты, и эта радость непосвященным, всяким там Жидам-гуманистам, право-троцкистам и лево-зиновьевцам казалась не совсем уместной, только верные слову и делу Великого Продолжателя угадывали за этими подвигами надежды на хороший урожай и рост выплавки стали. Парады физкультурников, танцы с прыжками, бодрые песни поощрялись с теми же целями. Твердо проверенный факт: пшеница после концертов музыки советских композиторов становилась выше и веселее, как жизнь. «Все на планер!» — командовала страна. Население слушалось. «Все на парашют!» — и тысячеокая толпа с завистью смотрела на плывущие в небе купола. «Небо не должно пустовать!»
— этот лозунг не появлялся на страницах газет, о нем знали только внутренние круги тайного общества, называемого советским народом, но этот принцип отражался и дробился в других лозунгах, вошедших в Кодекс Строителя. Летали сами и пытались навечно оставить в небе своих великих вождей. Стометровый Предтеча должен был вознестись почти на полукилометровую высоту, чтобы видеть оттуда и направлять…
Только зря ее не допустили к соревнованиям. Говорят, не было летного стажа и какой-то классификационной карточки. Да это бы ничего — энтузиазм мог смыть все кастовые барьеры отборочного списка, а массовка длиннокрылых планеров, соперничающих в белизне с облаками, была бы явно по душе небожителям. Поэтому «в виде исключения» допустили почти всех. За пределами «почти» в плену строгих правил оказалась одна Чайка. Исключений, что уже стало привычным, было во много крат больше, чем жестких правил и строжайших предписаний. Но строгие правила и грозные инструкции подобны богам: как последние сдуваются над пустыми алтарями и уступают небеса второй смене, так первые теряют свою власть от долгого неупотребленья. У правил же строгая диета, одни лишь применения служат им пищей, случается, что и кровь пленников, стекающая с алтаря — не всегда след преступления, есть народы, чье солнце перерабатывает ее в нужный всем свет.
А жертву избирает жрец. Дневальным по алтарю правил во время соревнований был назначен Чубак. И он, как сделал однажды грозный бог древних иудеев, предложил Чайке искупительную жертву. Он смеялся, гордо вскидывал чуб, но ладони к ней уже не простирал… Если бы просто так, без жертвы, без платы, без всяких там пропусков в прекрасный мир кино, общественного питания или авиации, если бы кто-нибудь посмел возложить на нее горячие от желания руки, тогда… тогда бы она и вправду не знала, что делать, и самое главное, как к этому отнестись. Партия в этом тонком деле по большей части хранила молчание, и поэтому еще не все было ясно в отношениях полов у строителей будущего, комсомольский же съезд в целом принял резолюцию о том, что половое влечение не ослабляет классового сознания, конечно, при условии пролетарской эндогамии и негаснущей в течение всего акта революционной бдительности. Что касается любви, то она подобно церкви, отделенной от государства, была начисто отлучена от секса. И это новое значение любви укрепилось даже в народном сознании.
«Мы с миленочком вдвоем В гору поднимаемся Два нагана по бокам Шутить не собираемся!»— пели на клубной завалинке девчата новой деревни.
«Сколько елочек в лесу Сколько яблонек в саду, Сколько девушек готовых… К обороне и труду!»— отвечали им с тракторов хлопцы.
Комсомолец Чубак отступил не сразу. На случай неудачи с искупительной жертвой у него имелось одно давнее комсомольское постановление по вопросу о том, имеет ли право комсомолка отказывать комсомольцу в его классово-сексуальных исканиях. В те времена, а это были бурные годы поиска канона, незначительным большинством бюро приняло: «Нет, не имеет, ибо это подрывает у комсомольца, строителя светлого будущего, уверенность в завтрашнем дне».
Так, в мелкобуржуазной колоде заигрываний, этом наследии тяжелого прошлого, у комсомольца Чубака оказался пятый туз — то самое историческое решение Костромского бюро. Но и Чайка не осталась без козырей: «Да, если только комсомолка решила связать свою судьбу с комсомольцем, чтобы объединить свои усилия в борьбе за светлое будущее, а если она потворствует грязным инстинктам, доставшимся от тяжелого прошлого, значит, она подтачивает фундамент победившего социализма, значит, она предает идеалы, дело и героев, которые…» Побледневший Чубак уже не слушал, он замер, столкнувшись с желтыми немигающими глазами Чайки, потом тряхнул головой и спешно ретировался.
Свежим предполетным воздухом Тушинского аэродрома решила развеять Чайка смрад вожделений. Было то самое утро, о котором поется в песне:
«Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля Просыпается с рассветом Вся советская земля».Сняв косынку и распустив желтые волосы, чужая общему празднику стояла она, не смея преодолеть небольшой лоскут зеленого поля, разделившего возбужденных людей на тех, что в строю — «участников» — в шлемах и летных комбинезонах, и прочих — разноодетых толпящихся зрителей. И вдруг, после вводной и приказа, по команде «вольно!» все спортсмены ринулись к ней, вытаскивая ее из толпы, а из командирских планшетов — блокноты и карандаши.
Долго пришлось Чайке доказывать, что она Чайкина, не Орлова и уж тем более не германская кинозвезда-шпионка, а такая же, как они — планеристка. Советская.
И комиссии, несмотря на индивидуальный протест Чубака, пришлось сделать еще одно исключение.
Еще одно исключение праздничному дню подарила сама Чайка. Исключения, подобные этому, назывались рекордами, а нередко и подвигами. И страна, считавшая себя кузницей героев, где к горну был приставлен неприметный ранее скандинавский бог, остро нуждалась не только в связных между небом и землей, объединившихся в церковь нового типа, но и в тех полубожественных существах, которые покрыли бы собой всю сферу человеческой активности, от стратосферы до канализационных стоков, и утвердили бы новый канон в победившем культе Труда.
Гудит, ломая скалы, Ударный труд! — Прорвался песней алой Ударный труд! В труде нам честь, в труде почет, Для нас кирка породу бьет, Для нас и трактор по полю идёт, гудёт, Он с песней по полю гудёт.735 километров без единого взмаха пролетела в этот жаркий день Чайка.
И как могла она объяснить назойливым собкорам, рабкорам и селькорам, этим канарейкам нового образа жизни, «методы» и «приемы» полета? Как рассказать им о той силе, что повела ее кболоту, над которым по всем инструкциям лучше не пролетать, но вышло так, что болото оказалось высохшим, больше того — с тлевшим где-то в глубине торфом. Именно из-за него, этого болота, Чайка смогла набрать высоту, на нем и еще на грозовом облаке — кто, кроме Чайки, решился бы использовать грозу? И какие инструкции могли подсказать ей, что бурое поле рядом с толстенной трубой — еще триста метров высоты, отвоеванных у неба? Никто и никогда не ходил по этому полю — горячий шлак с крупнейшей ТЭЦ пятилетки сеяли на нем грузовики.
Не успела фотография Чайки облететь газеты страны, как от модели страна уже звала к планеру, а с планера манила на самолет. И Чайка, подобно другим девушкам нового типа, готовым к обороне и труду, решила сменить сердце на пламенный мотор. Ее не пугали ни рев, ни мясорубка винта, единственное, чего ей не хотелось видеть рядом со своим самолетом, было Степаном Чубаком.
Но в аэроклубе о нем ничего не слышали, кроме того, что он находится сейчас на важном задании. Дальше Чайка расспрашивать не стала — словесные заклинания типа «на важном задании», «выполнять наказ Родины», «по зову Партии» были для нее исчерпывающе ясны.
Сомнительным темам Чайка предпочитала разговоры о порывах и новых сердцах молодых, которые вовсю врубались в скалы и склонялись к станкам, чтобы покорить для Родины горизонты трех мыслимых миров: глубокого, широкого и высокого.
И расступались стихии перед натиском молодых.
И в тихий май сорок первого казалось, что недалек последний день истории — вначале в одной, отдельно взятой стране, а потом и во всей наблюдаемой части Вселенной; той истории, что двигалась под действием борьбы классов, и которая должна была завершиться установлением царства всеобщего счастья, царства дружбы, равенства, братства.
И все стройно было уложено в классовом сознании, одна только малость и выпирала: как же могло так случиться, — недоумевали строители нового будущего, — что в одно и то же время, на одной и той же небольшой планете, навстречу их красному гиганту, зовущему народы мира в формацию вечной зари, на теле гниющей западной цивилизации поднялся, подобный исполинскому грибу, еще один призрак, коричневый, тоже зовущий, тоже в царство, если не вечное, то тысячелетнее, и с рвением не меньшим, чем у марксового могильщика, пытавшийся со своей стороны подмять под себя гнусную поступь буржуазной истории — но вместе с ней почему-то и могильщиков ее, неужели из-за того только, что Первый Предтеча был не арийских кровей?
Временный союзник и непримиримый враг? Или союзник и временный враг?
Два красных стяга реяло над Землей, и тень их полотнищ ползла по планете.
И две крови питали одну землю, но земля, вопреки теориям, никак не могла обнаружить отличий.
Красные знамена — красная кровь.
5
Правил на войне не спрашивали, зенитки и германские летчики пришли на смену экзаменационной коллегии.
На «утках», «саранче», «утюгах», «этажерках» летали в основном готовые к труду и обороне девушки. Мужчины презирали летающий шкаф, как они называли «У-2», и тротиловое белье выбрасывали из него девушки. И женская рука, привыкшая к домашней утвари, промахивалась редко. А летали на так называемые бомбежки ночью — считалось, что женщины, как совы или кошки, могут видеть в темноте.
Так Чайка стала совой.
Ее посылали в ночь, чтобы далеко во вражеском тылу выбросить за борт уродливые чушки с кокетливым хвостиком, горделиво именуемые бомбами; лететь надо было низко, чтобы чушки попали точно в длинные невзрачные бараки, откуда после вспышки и настигавшего самолет грохота выбегали в белых одеяниях исторгающие стоны и что-то нелестное в адрес небес падшие ангелы, ангелы ругались по-немецки и валились на землю совсем как люди — кто добровольно, лицом вниз, а кто и по. команде второй вспышки — неловко подломившись, эти не береглись при падении: навзничь, ниц или набок падали белые привидения и, чернея в отдельных местах, замирали.
А однажды в грохот разрывов вклинился другой стон, непохожий на немецкий, и летели в небо проклятия, и буйный, перемешанный с русским матом, жертвенный экстаз воскурился от земли.
И у Чайки на место пламенного мотора вновь вернулось сердце, и застучало часто-часто, по-птичьи. Такая молодая, сильная и красивая, а тут… сердце барахлит.
После вылета ее уложили в лазарет, и полковой врач долго не мог определить, что за напасть прицепилась к Чайке.
Еще сливаясь лицом с больничной койкой, объявила Чайка, что совой больше не будет, что пойдет под трибунал, а на этажерку не сядет, что способна заклевать в воздухе любого аса, сколько бы у того не было тузов на фюзеляже.
И пошла бы Чайка под трибунал, если бы не попавший в умывальник шальной снаряд, унесший в небеса души пяти летчиков из эскадрильи воздушного боя.
От модели к планеру, с планера на самолет, с самолета на истребитель — вот путь девушки с лицом и фигурой Марлен Дитрих.
Теперь ее инструктором стал тонкий русоволосый мальчик с остановившимися глазами, в глубине которых, если вглядеться, навсегда поселился крест прицела. И странные жесты были у ее нового учителя: он мог, уставясь в одну точку, монотонно объяснять назначение закрылков и принцип действия синхронизированной с винтом пушки, а потом вдруг вскинуть голову и медленно обвести взглядом сектор… обстрела.
Он часто мерз и сидел, нахохлившись.
В детстве играл в шахматы и мечтал стать математиком.
Как и у Чайки, фамилия у него была птичья — Хвостиков. Звали его Николай.
Как-то, заспорив с ним о равноправии женщин в военных действиях и бегло оценив физические возможности своего наставника, Чайка предложила ему помериться силами. Николка ухмыльнулся и поставил на локоть свою тонкую руку, Чайка свою — гладкую и мускулистую. С той же ухмылочкой и ни разу не моргнув, он позволил ей сделать глубокий крен в его сторону, потом его сухие длинные пальцы стиснули ее ладонь, и арка предплечий качнулась в обратную сторону. Он не стал валить ее на половину Чайки — это послужило бы доказательством равноправия, — Николка остановил рукопожатье на средине и перевел прицел в правый глаз соперницы, и в перекрестьи его…
Они одновременно и неловко покраснели, с недоумением разглядывая свои сцепленные руки.
Крошечная пташка стыда вылупилась у них между ладоней, и увидели они, что не только летчикам-истребителям принадлежат их тела, что от одной руки идет тело мужчины, и тело женщины от другой; и что наги под одеждой тела и безнадежно, излишне красивы.
Почему же создатель не уродует их, приспосабливая к уродливому окружению, почему оставляет им нужды, большие и малые, лунные и семенные, почему в землянках, бараках и переполненных госпиталях, зачастую не дав ни человеческой койки, ни надежды на выздоровление, он толкает их в торопливые объятья, порой с ожиданием в томительных очередях, а порой и с легкомысленной болезнью, вызывающей теперь только усмешки; и почему от мирной жизни остается понос, но исчезают теплые туалеты, почему женщины должны воевать, оставаясь плодоносящими, и выходить на боевые дежурства во время месячной слабости, а мужчины — пить спирт и быть нарочито грубыми из страха пропустить вместе с наслаждением демонов слабости, крадущихся из женского лона?
Почему есть война?
Почему есть война и война? — задавалась Чайка вопросом. — Одна война в газетных строках и голосе Левитана, приказах командования и сводках, и другая — в тоске промозглого утра, в мокрых портянках и спиртовом перегаре?
Быть может та война будет для Чайки в воздушных боях с коварными фрицами, что прячут злобные ухмылки за колпаками своих «мессершмитов», или в торжественных тостах после крупных побед, или в наградах, сверкающих на тугих гимнастерках?
Занятия продолжались.
Странно, кличка у Николая против ожидания была не Хвост, а Страна, его и на КП вызывали: Колька Страна, — быть может из-за математической тяги Хвостова к абстракциям бесконечно большого и малого.
На войне это протекало предельно просто. Спирт, пайковая тушенка, несколько проверенных щипков, притворный храп, доносящийся с соседней койки, задавленный ладонью стон.
…Если призрак любви не маячил над ложем.
Тогда это превращалось в мучения и слезы, тогда раковая опухоль нежности насмерть поражала самца и лишала вульгарной привлекательности самку, тогда на узкой кровати, стоящей посредине разрывов и смерти, встречались увидевшие себя люди и мучали друг друга заботой до самого утра, вызывая негодование, сочувствие и зависть соседей.
6
Стоял душный июль сорок третьего. От мух, летящих с бранных полей, не было никакого спасу. Третий год война выводила особую породу мушиного племени, сытую, наглую, сходу летящую в рот, к местам нежным и сладким, не разбирая чьи они — живого иль мертвого. И на кухне, несмотря на липучки и яды, постоянно гудел сине- зеленый рой, сверкавший на солнце металлическим блеском.
Входя в столовую, Чайка сразу обратила внимание на крупный затылок в ежике волос, на короткую, тщательно выбритую шею, что мощно выпирала из свежей полоски воротничка. Запах чужой увсренности, нахальный и резкий, соединяясь с испарениями дефицитного одеколона, исходил от шеи и разливался по столовой.
Человек с крупной головой и хорошо откормленной шеей столовался один.
И разговоры за соседними столиками, против обыкновения, велись вполголоса, без обычного буйства и пластической демонстрации боя, когда ложки, тарелки и кружки заменяли технические средства, а голосовая имитация очереди: «та-та-та!», летела, казалось, со двора довоенного детства.
Энергично двигая челюстями и столовыми приборами, человек с гладкой шеей аппетитно жевал, но в моменты, когда за соседним столом произносили одно из ключевых для его работы слов: «Ставка», «Сталин», «Власть», «Беспорядок», «Измена», он, чуткий к подобным поворотам чужих бесед, застывал в такой неподвижности, что даже ложка, застряв на полпути от тарелки до рта, не роняла ни единой капли супа. Только мухи, избравшие его шею взлетно-посадочной полосой, были неподвластны магии его внимания.
Слишком много мух. Быть может от пота, вызванного жарой и горячими блюдами? Или еще какой запах? Несолидно как-то такой важной персоне отмахиваться. И от кого? От мух?
От Чайки, если и пахло чем в эти июльские дни, так это маслом, спиртом и сгоревшей резиной. Ничего особенного, но сидевший в одиночестве человек, собрав не шее спиральные складки и, помогая голове телом, обернулся, едва она вошла.
Чайка узнала его — это был Чубак, бывший когда-то инструктором аэроклуба, перед самой войной посланный Партией для выполнения особо важных заданий.
И сюда он прибыл не для обучения новичков. Посущественней были дела. Например, до командования дошли слухи, что в энском авиаполку не выполняются инструкции по ведению воздушных боев, что есть случаи (конечно, требуется проверка!) подражания гитлеровским стервятникам, что стали крутить какую-то «арийскую бочку», и садятся на хвост «мессершмитам», используя «петлю Вриля», что совсем не практикуется советская методика ведения коллективного боя, что и в бытовой жизни наносится урон социалистической нравственности, — в общем, обстановка в эскадрильях тревожная, что еще более усугубляется непонятно откуда взявшейся (при таких-то нарушениях!) высокой эффективностью человеко-вылетов. Ситуация, разумеется, требовала срочного и обстоятельного расследования, а Степан Чубак, уже успевший зарекомендовать себя как примерный рыцарь революции, был к тому же на короткой ноге с авиацией.
День выдался спокойный, и отдохнувшие летчики собрались вечером в столовой — пропустить по глотку неразбавленного и послушать патефон с единственной уцелевшей пластинкой. Затеялись танцы. Утомленные кавалеры, стряхнув на время усталость, ангажировали дам. Чубаку не хватило и он вальяжно прохаживался среди пар, с удовольствием отмечая, как свободные движения вальса, стоило ему приблизиться, превращались в настороженный жест.
После третьего обхода кружки со спиртом Чайка вдруг вспомнила, что Ванечка Перепелица, веселый чернявый хохол, еще в обед вылетев в тыл за медикаментами, в эскадрилью до сих пор не вернулся. Слово «тыл» успокаивало, но все же среди танцующих пар, расстраивая движения вальса, зашмыгала еще одна дама — незваная, неприятная — тревога. В ее присутствии о Чубаке быстро забыли, и он уже довольно близко подходил к строящим предположения летчикам, подходил, внимательно слушал, в споры не вступал.
А к четвертому кругу объявился и сам пропащий Иван.
После штрафной чарки он с воодушевлением рассказал о том, как сцепился с двумя «фокке-вульфами», в целости уходящими из нашего тыла. «Бачу, встигли наробити справ, гади! — возбужденно вскрикивал Перепелица, охваченный огнем приключения и чистейшего спирта. — Та в кишени их, бачу, пусто, а пид гузном — густо! Я за ними, воны — драпать. Я швидше — хлопци теж не дурни, мене уперед пустили. Я — гальма, стелюся пид одного — палю — мимо, а снарядив — гусив стращати. Не встиг… Гляжу, а назустрич — двое, та хрести… Чую, далече од своих. Один мени крилами маше, я йому — гойди, берить гади у полон… Сидаю, воны — на другий захид пишли. Я на старт. В одного, що поле межив, пальнув, той — набик, а другий став палить, так я на його винтом, о так от и зрубив, гашетки не мацав… Хоч сам дав драпака, а все ж, запалив одного, що сидав, — вин сидае, я — вгору. Пидчепив, гадюка, червоного кочету!»
«Та молодец, гойдать его хлопцы!»
Гойдали, спьяну чуть не уронили.
После минутной паузы в тяжелую отдышку молодцов вклинился малознакомый голос — Чубак:
— А «полон», это что такое?..
Утром Вани на завтраке не было, комэск хмурился, на вопросы отвечал глухим: «Направлен на выполнение ответственного задания», Чубак улыбками встречал осторожные взгляды летчиков.
Все три дня уполномоченный Степан Демьянович Чубак делал вид, будто никогда не был знаком с Чайкой. Чайка делала вид, что она не знает о том, что Чубак делает вид, будто никогда не знал Чайку. Виды были что надо.
Он терпеливо дождался боевого дежурства Хвостикова, пригласил ее в кабинет (вселился в него, выставив двух штабистов), налил ей коньяку, щедро хрустнул шоколадом, начал без обиняков: должность при нем, летный паек и никаких вылетов. «Родина нуждается в сильных дочерях, помогающих нести нелегкую вахту ее сыновьям, верных подруг и соратниц ищет Родина для своих защитников», — витийствовал бывший планерист Чубак.
«Значит, вы — сыновья, а мы — дочери?» — переспросила Чайка.
«Да, мы дети одной матери-Родины», — без запинки выстрелил Чубак.
«Но это же будет кровосмешение, Партия не позволит вступить в преступную связь своим детям!» — рассмеялась Чайка и, отхлебнув большой глоток коньяка, вместе с пайкой наживочного шоколада исчезла за дверью, оставив Степана Демьяновича поразмышлять над тайной инцеста в привилегированном одиночестве.
Подарив шоколад помойке, Чайка забилась в дальний, разбитый снарядом угол столовой, чтобы на шершавой, облупленной поверхности стены найти ей одной понятные знаки.
И пока она изучала стену в поисках ответа на то, чего не знала, но что уже сейчас ощущала как тревожное гудение в голове, звено Николая успело вернуться, и его удачливый командир уже ввязался в какой-то материаловедческий разговор о крыльях Родины. Оппонентом был Степан Чубак. Чубак отстаивал первенство стали, Колька Страна уповал на алюминий.
«Так сталь по-вашему слабее?» — допытывался у Кольки Чубак.
«Сталь тяжелее алюминиевых сплавов, а от снарядов не спасает ни то, ни другое, — степенно объенял Колька. — Дюралевая же обшивка позволяет взять больше топлива и снарядов, а это важнейшие факторы воздушного боя».
«Так сталь, значит, вам не по душе?» — отшинковывал вопросы Чубак.
«Да не нужно стали небу!» — горячился Страна.
«Простите, не расслышал, вы сказали, Сталин что?»
«Да причем здесь Сталин?» — вскричал Колька, не замечая западни.
Довольная усмешка расплывалась по тщательно бритому лицу Чубака, гордо сиял хром отполированных до блеска сапог.
«Хорошо, вы считаете, что Сталин в авиации не при чем», — не уставал уполномоченный.
«Даже закалка и легирование не решает проблемы», — простодушно гнул свое Николай Хвостов, увлеченный устаревшими идеями буржуазного материаловедения, в то время как в стране давно одержал победу классовый подход к сопромату. При таком подходе у этой важнейшей отрасли знания появилась новая ветвь, вскоре обособившаяся в отдельную научную область — «компромат».
«А товарищ Сталин говорил, что закалка решает все», — привел одну из аксиом новой науки Чубак.
И тут Колька Страна, вспомнив высокоученый спор в кабинете отца, перенесенный в одну из шарашек ГУЛага, вовремя переключился в ритуальный регистр.
«А что, интересно, скажет товарищ Сталин, если узнает о том, что его основополагающие идеи, на которых, кстати, стоит здание советской науки, путем нетворческого, а порой и сознательно ложного употребления пытаются дискредитировать, чтобы тем самым сыграть на руку реакции и затормозить социальный прогресс».
«Металлургия, выплавка чугуна и стали, как указывает Сталин, — важнейшая отрасль оборонной промышленности!» — неуклюже парирует Чубак, но Страна уже заготовил решающий выпад:
«…Особое внимание обращая на развитие цветной металлургии, играющей первостепенную роль в производстве современных видов оружия», — наносит Николай удар, завершивший научную полемику.
А нужно было проиграть. Тогда бы может и не мелькнуло в отчете страшное слово «измена».
Чайка долго изучала копию материала по «выявлению и разоблачению».
И под торжественное сжигание «компромата» выдала она Чубаку свою искупительную жертву.
Напившись спирту, легко забыть свое тело, а глаза, эти ворота, через которые душа общается с миром, во время жертвоприношения можно просто закрыть.
А можно подкрасться к ним поближе, залечь, не касаясь содрогаемых стен обиталища и, поймав в перекрестья темные амбразуры неприятельской крепости, с двух стволов — «та-та-та!»
И можно на все время жертвоприношения врезать в лицо улыбку Моны Лизы, и тогда не всякий жрец будет способен воскурить жертву богам.
Чубак, несмотря на высокий жреческий сан в красном богослужении, на деле оказался «не всяким». Он долго готовился, с чем-то стыдливо возился в углу, ныл, поминутно оправдывался, говорил, что не время (зачем затевал?), и в присутствии негнущейся, точно Найденный по весне труп, оцепенело улыбавшейся Чайки, был скорее похож на жертву — двойник разрываемого на части Диониса, а попросту — козел, в отчаянной попытке плотью своей покрывающий необъятное тело плодоносящей земли.
Чубак едва справился с тяжелой ролью насильника, и вместо благодарности за тяжелый труд, выраженной прямо или в форме проклятий, услышал от своей жертвы лишь могильно-спокойное: «Все?»
Так долго желать, так порывисто ждать, а итог в одном крошечном вопросике «все?»: ни криков ненависти, смешанных со стонами сладострастия, ни удушья борьбы с всхлипами жалости, ни отвращения, ни вожделения. Иголка «все» в стогу «ничего».
А Колька с перегона не прилетел.
Прямо из молочных облаков свалилась на звено Хвостикова четверка «мессершмитов»: свеженьких, ни царапины, точно был у гитлеровских асов припрятанный в облаках аэродром. Повели себя дерзко, из-под одного Колька выскочил, а тот что в центре был, крестов на нем, мама! — все бока на брюхе покрещены, тот, значит, как? — ума не приложу, успел — на такую же гору лезет, только круче берет, я было к Кольке, немца зажать, куда-там! — гляжу вниз — и на мою тень стервятник полез, и пока юлил под ним — Кольки уж не видать, только дым за бугром, а фашист этот, ну ровно гопака пляшет, попляши, думаю, тетеря, пока я в хвост тебе красной веревочки не вплел… Своего пришлось бросить и вроде удачно на гузно ему сел, а нажал — он словно провалился — все в облако ушло, потом глядь — слева меня обходит, и молчит гад, не стреляет, хоть я перед ним, как в тире; смекаю, вышел у Ганса боезапас, и пока я смекал, он уж рядом идет, крыло в крыло, повернулся я в лицо посмотреть этому гаду, а, видать, нему интересно… тут чиркнул ись мы с ним взглядами, я чуть в штопор не свинтил от таких гляделок… чего в нем особенного, говорите? — да Колька это наш, вылитый! — он без маски был, этот фриц, безусый, светлобровый, и улыбается, гад, как Страна! Так он же и подставился мне, правда раз только, да мне б хватило, не видать бы хари его. А так попадешь разве, когда и голова и руки ходуном. А вот он чего не стрелял, не пойму. От растройству я ведь его еще раз пропустил под себя, так у меня аж застыло все, когда почуял я брюхом, что глядится в него черная фрау. А он проскочил, и гашетки не тронул, словно и не было меня… А запасец, клянусь был у него приличный — с какой-то тупой сосредоточенностью Ганс этот расстрелял вместо меня обычный стог…
Витька Хана внезапно замолчал. Он вспомнил, что в этом полете были не только загадки и приключения — погиб его звеньевой и приятель — Колька Страна, и после рассказа, где оживленность рассказчика была лишь инструментом повествования, но никак не состояния, Хана вновь погрузил лицо в тень печали и скорби.
— Этого светлобрового зовутЗигфрид, ребята, — сказал подошедший комэск, — последний раз его «сбили» под Ржевом, но видно в каком-то другом небе, правда, есть мнение, что этих Зигфридов было несколько, одного собьют, под тем же именем летает другой, может, и выборы проводят… в Зигфриды; Геббельсу и Герингу, конечно, выгодно иметь непобедимых героев, и если бы Зигфрида не было в действительности, все было бы именно так. Так вот, Зигфрид, ребятки, это не только общая кличка асов, это, ребятки, стиль… И лично мне было бы куда муторнее, если бы враги такого сорта не рождались раз в десять лет, а воспитывались, или, еще хуже, выбирались из выпускников летных школ… Зигфрид, цыплятки вы мои, летает…
Комэск осекся. Он хотел было предостеречь летчиков, рассказав им о том, как же все-таки летает Зигфрид, но где-то на окраине взгляда завидел плотную, аккуратно обтянутую гимнастеркой и туго перевязанную портупеей фигуру Чубака.
Неловкое молчание, воцарившееся на минуту в кругу летчиков, как-то само собой переросло в минуту молчания.
Первой нарушила его Чайка.
— Когда это случилось? Только точно. — спросила она.
— Бой продолжался минуты две-три, а засекли мы их в четыре шестнадцать.
Чубак, так любивший раньше комбинации восходящих и нисходящих потоков, со времени перехода на особо важную в безопасности страны работу перенес часть своей комбинаторной страсти в папочки с грифом «совершенно секретно», а часть — на шахматную доску. Играл Степан посредственно, но у него был великолепный игровой комплект, включавший изящную доску, резаные под гражданскую войну красно-белые шахматы, а также трехциферблатные часы, подстегивающие время новой эпохи «Маршем энтузиастов» и обрывающие цейтнотные раздумья имитацией орудийного залпа. Фигурки выглядели настолько убедительными, что казалось, уж не на этом ли приборе была разыграна гражданская?
Чайка вспомнила, как похвалялся ей Чубак точностью хода часов и мелодичностью марша, через каждые три часа зовущего в мир неясной мечты. Часы она запомнила в мельчайших подробностях.
Как неопытный артист, Чайка не знала, что делать с руками «в то время, как…» Для этого «как» на складе образцов человека нового типа годных примеров не нашлось… Чайка сосредоточилась на часах. Срединный циферблат со стрелкой в виде догоняющего время, стригущего секунды серпа. Рука нащупала пусковой рычажок. Начало хода — четыре шестнадцать, длительность — две тридцать две.
— Начало хода — четыре шестнадцать… — повторила она вслух и посмотрела сквозь круг летчиков в сторону своего бывшего инструктора. Над головами невысоких ребят она разглядела уже только крупный затылок с мощной шеей под ним, ежик редеющих волос…
Чубак в тот день бесследно исчез: видимо задание, полученное им по секретным каналам, было столь срочным, что он, покидая эскадрилью, не успел даже собраться…
Часы со стрелками в виде залегших красноармейцев Чайка по истечению срока давности выпросила у комэска себе; левая половина, где остановилось время четыре восемнадцать, оставалась нетронутой, правая была ей безразлична, лишь центральный хронометр не знал покоя — она то и дело прерывала в нем ритмичный ход времени — ставила красноармейцев на три и слушала зовущий в еще неясную, но уже прекрасную мечту марш…
7
Трижды Чайка возвращалась одна.
Второе звено потерял Зигфрид.
Звеньевая Чайкина едва могла набрать себе ведомых. Лишь наиболее задиристые, остро ощущающие скверну эмансипации летчики-петушки, чтобы доказать превосходство мужского рода, соглашались летать вместе с ней. Но как и у петушков, невелико было их летное время.
Трудно и Зигфриду стало комплектовать свои звенья.
И все потому, что в одном из боев германский ас, известный на фронте как Зигфрид, заглянул под фонарь одной из намеченных им жертв. Под фонарем сидела Чайка. А он думал — неуклюжий русский Иван.
Вышло так, что в тот день по возвращении на базу «вальтер» Зигфрида перебил половину общих запасов спиртного, вторую половину уничтожила его глотка. Сам Зигфрид был здесь не при чем.
Свалившись в одежде на кровать, он долго рассматривал старую почтовую открытку. Это была фотография Марлен. Как жаждал он еще тогда, до войны, чтобы эта девушка с большими влажными глазами и сильным скуластым лицом стала его. Он, Гюнтер Дюркгейм, ас, сын Отчизны, и она, воплощение Родины в прекрасную женщину — Марлен Дитрих, кинозвезда. Он думал тогда, в дни «бури и натиска», что отныне его ничто не испугает, что он вступит в рыцарское соперничество даже с самим рейхсфюрером, что для нес он станет первым крылом Великой Германии! Что покорит ей небо от тропиков до Антарктики! Доберется до Асгарда, отыщет Грааль. Приняв посвящение, станет «Зигфридом», но сохранит в новом теле часть прошлого, старого своего человеческого тела, для того лишь сохранит, чтобы остаться ее единственным рыцарем и… мужчиной.
И после всего этого Марлен сбежала. В теле валькирии жил тлетворный дух низкорожденной. С грязным вертлявым макаронником, или хуже того, с голливудским мойшей сбежала эта отступница!
Лишь большая война спасла его дух от разложения.
Но он знал, что истинная дщерь Германии, его Хильда, светлоокая валькирия, воинственно-нежная и сурово-прекрасная, еще встретится ему на пути.
И они встретились. Высоко-высоко, на пределе альтиметра, у порога солнечного Асгарда. Но только почему его мечта сидела в кабине русского самолета? И была она, как Марлен, в шлеме, с выбивающейся прядью светлых волос, с глазами, подобными холодным альпийским озерам. Русская?!
Четыре дымных хвоста прочертили тот день.
Да, она и есть та самая, его Хильда, о которой пророчествовал «Вель».
С каким-то жертвенным покорством лезли на нее его товарищи, и с каким-то нечеловеческим коварством и точностью, точно опытная проститутка, выскальзывала она из-под его насильников-молодцов, и еще до того, как Зигфрид успевал развернуться, дырявила их беззащитные тела.
Расправившись с его боевыми товарищами, Хильда пыталась сесть ему на хвост. Рискуя потерять управление, Зигфрид нырнул на своем «Ме-109» в крутое пике. Но красную валькирию не испугала близость земли: она заложила свой «Як» круче, а выровняла ниже. В баснословной спирали, брюхо к брюху, взмыли они вверх…
Расстреляв неуклюжих спутников Хильды, Зигфрид заблокировал гашетку. Один выход был у него — посадить красную летчицу у себя на аэродроме, а потом…
О «как» и «потом» думать не хотелось.
Только бы взглянуть на нее… в полный рост.
Он дал ей уйти, не мог он грубой, квакающей очередью прошить ее скрытое в кабине тело. Хотя бы взглянуть, поговорить с глазу на глаз. О языке Зигфрид не думал: ас всегда поймет асинью, асинья поймет аса. Зигфрид поймет Хильду, и Хильда поймет Зигфрида.
Но начальство, этот выводок штабных крыс, забывших, как пахнет расцвеченное трассерами нёбо, было им недовольно.
До командования дошли слухи, что он бережет русскую бандитку.
Дело могло кончиться переводом, а то и контрразведкой.
Разговоры с ней ничего хорошего не сулили.
И тогда на его! место, в его! звено напросился этот выскочка, Отто фон Эшенбах, племянник влиятельного Густава Эшенбаха.
Его, Зигфрида, не спросили, какая наглость! Какой-то птенец собирается исправлять его ошибки!
И как ни давил он в себе чудовищные сомнения, как ни вызывал духов Великой Германии, против искусительных мыслей не спасало ничто — в той или иной форме он желал успеха не своему соратнику, а жестокой и хищной русской валькирии.
Хильда. Твердо очерченный подбородок, свежие здоровые щеки, влажные глаза и губы.
Кто она, тельмановка-коммунистка, спасшаяся в России от гестапо, беглянка, пленница? Или? Или… Славяне тоже… люди? Ведь такие девушки не могут рождаться среди расового шлака. Есть в ней, есть чистый огонь нации… Хильда.
…Вместо Отто, не успевшего даже представиться летчикам из-за нестерпимой жажды победы, в часть прилетел его дядя, Густав фон Эшенбах, чтобы подняться в опасное небо и выбросить из кабины лавровый венок на недоступную и несуществующую могилу племянника.
Конечно, поступить как Отто мог каждый второй из их эскадрильи — дух нации подкреплялся еще и чисто половым стыдом за слабость сильного пола… И азарт набирал губительные обороты.
Зигфрид решил остановить волну самоубийств. Он подал командованию рапорт, где выразил мысль о том, что вопрос с русской летчицей уже давно вышел за рамки ее чистофизического уничтожения. Красную бандитку необходимо взять живой и заставить работать на Германию, и он, ас Зигфрид, берется сделать это…В помощниках не нуждается…
Отказавшись от бильярда и выпивки, Зигфрид как истинный рыцарь Грааля, валялся на своей койке, и то мечтательно грыз подушку, то записывал нервные строки скальдических виршей, посвящая их причине своей сумасбродной страсти.
О, Хильда, красная кормчая в Хель, Острие Кремля, жало осы нибелунгов, На овцах Асгарда в собрание крыльев Вносит тень ворона.И т. д.
8
Такого у нее давно не было. Война, холод, нервотрепки свели почти на нет женскую физиологию. А тут началось — и чуть ли не река.
Чайка ослабела, ходила бледной, но от вылета отказаться не смогла пришлось постоянно тереть щеки — не приведи бог встретить фельдшера с таким «румянцем», — да, бледна, как смерть, была в этот день гроза «Люфтваффе», простая русская летчица Лиза Чайкина.
Вчера они с Тоней Кожемякой ходили на реку. Сбросили одежды, стянули сапоги, поглядели друг на друга, вспомнили туфельки, чулки, — все то, чего у них до войны не было или просто казалось неважным, до войны все для них было покрыто небом, а чулочки и туфельки годились только для бренной земли, теперь же…
«Как кузнечики-то стрекочут! — мечтательно произнесла Тоня, — И лето кончается».
«А я и не слышала, мне все кажется, мотор гудит, — ответила ей Лиза, — а где не мотор, там снаряд или бомба».
Стая белых птиц снялась с заросшего травой колхозного поля и полетела на запад.
«Смотри, чайки», — сказала Тоня, пробуя воду.
«Чайки», — чего-то смущаясь, повторила Лиза.
«До моря далёко, а их тут, как… в Сочи», — оглядываясь из воды на боевую подругу, сказала Кожемяка.
«И чего они?» — Чайка вдруг покраснела, как-будто ворвалась случайно в мужской отсек бани.
«А что им, корму довольно. Море же — дело историческое. Чайки — те же вороны, только белее и больше. Белые вороны… и все».
«Но они…» — Чайка окончательно смешалась, ей даже воздуха не хватило, чтобы продолжить фразу.
«Да что ты, Лиза, кому крылья, кому ноги, зубы или когти, — каждый своим берет, — Тоня повела глазами и заметила впереди по течению в излучине реки крупную белую чайку. Посредине излучины виднелась большая воронка, чайка слетала в нее, что-то доставала оттуда, садилась на край насыпи и усердно долбила это клювом. — Вот! Была бы пища, и крыльев не надо!» — по-детски обрадовалась живому примеру Тоня.
«Ах, как же ты не помнишь, Тоня! Крылья — это же!..»
Тоня не дала ей закончить мысль без неясной, но зовущей цели и обрубила разговор с решительностью мясника:
«А то ты не знаешь, что ныне за урожай на полях», — и булькнула с головой в воду.
Чайка ее уже не слушала. Какая-то тень скользнула в воронку, и почти сразу с выщербленного снарядами плёса донесся неистовый гам. Два голоса разобрала Чайка: низкое картавое «кр-ра» и детский лепет чайки.
Большой, угольно-черный ворон и полевая чайка вылетели из воронки и стремительно взмыли вверх. Ворон то нарезал воздух сильными широкими взмахами, то, сложив, крылья, камнем валился на чайку, но и белая его соперница была не менее ловка; выскользнув из преследования, она тут же пикировала на хозяина битв, и уже ему приходилось проявлять всю свою легендарную хитрость, чтобы не попасть под белый таран.
Чайка смотрела на птичью схватку, не слыша призывов Тони, и ничего, кроме двух крылатых соперников, не видя. Она настолько была там, в поединке, что в перепадах птичьего боя у нее самой рвалось дыхание и холодели руки, словно верткий самолётик с птичьим вместо пламенно-моторного сердцем управлялся ее руками, ее нашептывания-заклинания поддерживали в бою птичий дух: левый крен, хорошо, бочка, пике…
9
Несколько раз уже они летали с Зигфридом крылом к крылу, разделенные стеклами фонарей и кусочком шаткого неба.
Конечно, Чайка должна была отомстить. Чубак бесследно исчез, но гитлеровский ас оставался для мести. Она вспоминала кровавые карикатуры на «Люфтваффе» во фронтовой газете, где асы выглядели как общипанные наглые птенцы, которых русские соколы могли поражать без разбора и счета.
А Зигфрида она распознала сразу. Еще не видя крестов, по манере боя и по тому ощущению крыльев, что было у нее самой. Крылья у Зигфрида были тоже сильные и надежные, но какой-то другой природы, и видно было, что не только в конструкции их самолетов коренились различия…
Только сам летчик, вот напасть! был вылитый ее Коленька. А говорили, чистый ариец, белокурая бестия. Что ж, и Коленька, выходит, ариец? Тогда, может, и она? Вот собьют ее — с обеих сторон беда: на той — плен, у своих… свои, чего доброго, в немецкие шпионки определят.
И Зигфрид этот, какой он к чертовой маме ас? Веснушки… Маску стянул, улыбается… Вроде как оскал изобразить хочет, а не получается. Застенчивый он какой-то… Как Коленька. Странные дела, этот стервятник погубил ее парня, а ненависти к нему — никакой. Только все равно убить его надо.
…Ворон был на пол-пера от победы. Вынырнув из-под чайки, он заставил ее опрокинуться на спину. Прямо над сердцем завис его клюв… Но он почему-то дал ей сделать пол-оборота, и чайка сразу оказалась в более выгодном положении, теперь она догоняла ворона, находясь сзади и немного ниже. Чуть задрать задрать голову вверх и в перекрестьи возникнет черное беззащитное брюхо.
Спасая пилотажную честь, ворон камнем ринулся вниз, чайка и на этот раз не отстала, и он, восхищенный ее дерзостью, высоко задрал клюв, чтобы рассмотреть пикирующую на него валькирию… Он искренне залюбовался соперницей, как будто не была под ним в двух саженях земля, а она была, и поэтому бесполезен был мощный взмах черных крыльев… В груду искореженных железных трупов вонзилось его тело… И дважды еще вздрогнули крылья…
И ее крылья на выходе из пике рвануло так, что они, казалось, отделились от тела, и боль в лопатках была невыносимой. Если бы не байдарки в довоенной юности и не лыжи, покоиться бы Чайке вдвоем, вместе с черным вороном, на полевой свалке войны.
…Они уже выбирались на берег, когда из-за леса вынырнул на бреющем немец. Тоня успела сказать, что впредь у ратных полей сменится хозяин — несомненно, они видели решающий поединок, ну примерно как в старину, когда исход битвы часто зависел от схватки богатырей.
Не иначе как в шутку короткой очередью вспорол немец Тонину спину… Все брюхо в крестах.
…В том бою несколько крутых горок чуть не лишили Чайку сознания. Из сгустившихся внутри нее облаков вынырнул Зигфридов ворон и стремительно ушел вверх. Сейчас он свалится на нее, она выскользнет, теперь в высоту они вопьются вдвоем — да, этот бой уже состоялся, выстрелов, кажется, не будет. Но из такого пике не выходят, — возразила Чайка сценарию, задыхаясь от прилипшей к легким диафрагме и выбирая до отказа штурвал… Сценарий не подвел. После бешеного «U», дописанного Зигфридом только до «J», уже на безопасной высоте она едва не потеряла сознание… Небо превратилось в свинцовый туман с красными пузырями, и только тот спасительный для нее орган, что прятался под переносицей, привел ее к аэродрому.
А она уже была в далеком-далеком детстве, сидела в тазу, в теплой воде плавала деревянная утка, и мама тянула ее за руки…
10
Когда ее осторожно вынимали из кабины, все думали, что Чайка тяжело, возможно, смертельно, ранена, — простынно-белым было ее лицо, как будто смерть уже привела ее в свою гримерную и положила на щеки первый слой пудры. Ниже пояса Чайка вся была мокрая — это кровь, найдя себе дорогу, бежала вон из плена тела.
Пока несли, гадали, где рана. Комбинезон был цел. А когда раздели, вздохнули с облегчением. Все, кроме фельдшера. Он сказал, что лучше сквозной прострел с рваным краем, чем женская кровь — ни жгут здесь не положишь, ни забинтуешь и не зашьешь…
Чайку бережно, как подбитую птицу, распрямили и, стараясь не взбалтывать столь коварно прохудившееся тело, увезли в госпиталь.
Кровь Чайке, победительнице Зигфрида, отдавали охотно и много, и пока вся она не была заменена на чужую, невидимый КП ее тела команды «стой» не давал…
Она долго лежала без памяти, и за это время чужая кровь сделала ее суше и тоньше — от «девушки с веслом» остался разве что один скелет, а от Лизы Чайкиной — два листа: больничный и послужной.
В бомбежке оба ее листа погибли, эскадрилью перебросили на южный фронт, а всех раненых, оставшихся без документов, до выяснения личностей перевели в какой-то особый госпиталь.
Личность девушки, похожей на уснувшую птицу, выяснить так и не удалось. Ни имени, ни фамилии, ни где служила, ни что делала, девушка не помнила, только по ночам оживал в ней невнятный голос прошлого: она бормотала чьи-то имена, твердила о каких-то бочках, хвостах и будила всех своих сопалатников резким отрывистым криком. По этому крику ее прозвали Чайкой, а позже, когда пришел черед выправлять «ксиву», по больничной кличке ей присвоили фамилию Чайкина. А нарекли Катюшей, в честь той, что на крутом берегу заводила известную всем фронтам и тылам песню.
Став Катюшей, она, конечно же, очутилась в медсестрах и научилась так заговаривать раны, что после болезненных перевязок раненые старались заполучить ее к себе хотя бы на несколько минут. Дело доходило до перебранок, а однажды чуть не вспыхнула драка.
Как-то ночью привезли четырех разведчиков, напоровшихся на мину. До операционной доехали трое, а Клава, ассистирующая обычно при операциях перебрала в шестой палате спирта, и на все попытки привести ее в чувство отвечала лишь невразумительным мычанием, да шаловливо била по рукам Иван Сергеича, тоже несколько хмельного после четырех «резок», и так сладостно-сонно причитала: «Да ну хватит, Ваня, я ж устала». Иван Сергеич в отчаянии (раненые исходили кровью) ударил ее по лицу, на что Клава ответила блаженной улыбкой, и тогда хирургу стало понятно — Клаву можно убить, но вернуть в это пьяное, распутное тело медсестру он сейчас не в силах.
И тогда Иван Сергеевич взял ассистировать Катюшу.
В первый раз она удивила его тем, что указала на раненого, которого нужно было оперировать первым. Иван Сергеичу он показался легким и он решил оставить его на потом, а того, что был выбран им, Чайка предложила вовсе не трогать. Иван Сергеевич хотел было возмутиться и настоять на своем, но внутренний хирург подсказал ему, что сестричка по женскому ли чутью или же по наитию, что ни говори, была безусловно права.
Иван Сергеевич в деле торопился, что, однако, не мешало ему быть собранным и точным. Он проследил все возможные пути осколков, он шел к ним кратчайшим путем, скальпель его был быстр, игла проворна, рука верна, сестра… сестра, как ни странно, расторопна… Он еще не успевал проговорить, что ему нужно, а инструмент уже был в его руках.
Поэтому странным после такой слаженности ему показалось то, что он в третий раз сказал «игла!», и иглы не было — щелкала в ладонях пустота.
Он обернулся, сестра сказала: «Здесь», — и провела пальцем по шестому ребру.
Иван Сергеевич еще не знал, что ему делать, смущаться или негодовать, а руки его уже послушно брали поданный ею зажим и так же послушно направляли его в указанное сестрой место.
Осколок он добыл крошечный, но внутреннее кровоизлияние, вызываемое им и практически не ощущаемое раненым, обычно приводило к смерти.
Им удалось спасти двух, третий, который с самого начала был приговорен Чайкой, действительно оказался безнадежным — в его легких, как в кроне раскидистого дерева, расположилась целая стая металлических воробьев.
В госпитале Чайка оставалась недолго.
Младший медперсонал устроил партактив и на нем вынес порицание Чайкиной за антисоциалистические методы ухода за ранеными.
Как ни упрашивали хирурги Чайкину, остаться она не могла, а способ ухода был один — рапорт на передовую. Отказывать в этом было не принято.
Попав на передовую, Катюша Чайкина поняла, что именно у линии огня было ее место. Главное здесь было найти раненых. Вначале она пыталась действовать по инструкции — вслушиваться в стоны и слабые крики о помощи, замечать шевельенье и дрожь, оттягивать веки и щупать пульс. Но мертвая в жизни гражданской, инструкция и на войне была мертва, подобное к подобному, инструкция искала мертвых. Чайка находила живых, похожих на мертвых и уходила от мертвых, оживающих только для того, чтобы исторгнуть из себя признаки жизни. С каким-то внутренним содроганием обнаружила в себе Чайка способность и на больших расстояниях отличать тела живые от мертвых и даже то, насколько глубоко сумела забраться в них госпожа Смерть. Она не смогла бы сказать в чем для нее было это отличие, но она точно знала, что ни зрение, ни слух здесь не участвовали. Катюша могла вообще закрыть глаза, заткнуть уши, вот тогда-то в зеленовато-оранжевых полях, раскинувшихся под веками, и возникали перед ней растущие цветы страдания.
И густо были засеяны эти поля. А рук у нее было всего две. Как объяснить умирающему, что лучше его не трогать пока, а взять его товарища, которого еще можно спасти. Другие сестрички, глядя на агонию, проскальзывали мимо, как-будто уже не человек стонал рядом с ними, а труп. Случалось, «труп» был в сознании, и тогда на последнем вздохе летела им вслед отборная матерщина. Чайка делала по-другому: она не закрывала глаз и не затыкала ушей, она брала уходящего за руку и наговаривала ему, чтобы дождался он свежего ветра, собрал силы, глубоко вздохнул, потом закрыл глаза и представил лужайку, излучину реки, мама берет его за руку, они идут в воду… И отступала перед Чайкой боль, пусть ненадолго, но чтобы умереть времени хватало.
11
Победу Катя Чайкина встречала в тонких фильтрах ГУЛага.
После шума и эйфории победных дней Партия, как истинный рулевой, определив текущий момент этапом скорейшего восстановления народного хозяйства, утвердила переход к мирным будням. И Партия не только постоянно напоминала, что именно под ее руководством и непосредственной организацией внешний враг был разгромлен, но и бдительно предостерегала, что помимо внешнего затаился где-то и рассредоточенный внутренний враг. Ведь целых четыре года шла война, невозможно, чтоб без предательского пособничества так долго сопротивлялся немец… Посему, подозреваемых в пособничестве, в том числе и в виде пассивного недеяния, а именно пленных, угнанных и оставшихся (пленистов, угонистов, оккупистов), в целях удобства из рассеянного состояния перевели в концентрированное.
Чайку довелось концентрировать майору госбезопасности Степану Чубаку.
Сортируя подшивки с делами, он наткнулся на худенькую папочку с фамилией Чайкина. Что-то колыхнулось в его подогнанном под новый китель и майорские звезды теле, от сейфа его качнуло к столу, словно там, внутри, волна памяти лизнула каменный берег, лизнула (Лиза?!) и опала, лишь обслюнявила новую должность пеной прошлого вожделения.
Эта Чайкина звалась Катериной, служила в медсанбате. И лицом не вышла — суха, и не первого цвету уже, год рождения приблизительный — из прошлого после контузии ничего не помнит, документы сгорели во время бомбежки.
А вот майор Чубак помнил все: далекую довоенную молодость, красивую девушку нового типа Лизу Чайкину, полеты… И когда воспоминания оделись цветом, Чубаку показалось, что под коростой беспамятной медсестры нижний слой проступает на фотографии — планеристка Лиза. Он даже поскреб ножичком успевшую пожелтеть эмульсию. Ничего — шершавый белый лист.
Чубаку было томительно, досадно и ненавистно…
Подумал, не полетать ли на планере?..
«Чепуха!» — крикнул он вслух в напряженную «делами» тишину комнаты. — «Детство в жопе играет».
Когда измышления еще не стали реальностью, а страх уже из щекотки бесплотных эмоций перебрался в печенки, тогда…
Да что говорить о фанерке, когда и в железный самолет с опытным экипажем Чубак забирался примерно с таким же чувством, с каким верблюд лезет в игольное ушко, и потом, сидя за двойным слоем обшивки, пристегнутый, с парашютом, он чувствовал себя не многим лучше лютого грешника, идущего по узкой дорожке меча в приют благоверных и богобоязненных.
Боязнь и Верность — вот стражи ворот светлого будущего. — философствовал Степан, подавив волну ничтожения. — И меч пламенеющий — марксистское слово. И Орден, и рыцари его… Ближе будущее — уже ворота. Это и есть общее уравнение мира. И опасна работа у ворот, и трудна, а порой, когда ждут тебя сотни единиц не выраженного ни в чем обывателя под типовыми папками «Дело» — откровенно скучна. Вот если бы и впрямь сознание греха или, шире, непригодности в деле строительства светлого будущего само расправлялось с его носителем, или хотя бы приводило с повинной, вопя из погребенной на дне преступной личности души с требованием справедливого наказания… «Да… — мечтал Чубак. — И наказания как таковые исчезли бы навсегда — осталось бы исправление. Ведь Управлять лучше, чем наказывать. А неисправимые?.. — продолжал Философски вопрошать Чубак. — От неисправимых должно со всей Решительностью защищаться. И шире внедрять меру ’’высшей социальной защиты». Идиллическая картина Грядущего, выросшего из сумевшей защититься революции, возникла у Степана перед глазами. Светлый город с остроконечными башнями, башни, увенчанными пятиконечными звездами, звезды, плывущие на знаменах идущих по воздушным переходам пионеров: барабанный бой слышен в том городе, звуки горна, призывы Коммунистической партии мягко кроют землю с расцвеченных репродукторов, нарядные дружинники чеканят шаг на чистых улицах — не с полицейскими целями, а так — старушке помочь, и просто — для красоты; с покоренного неба лицезрят Основоположники в окружении небесного воинства сверкающих дирижаблей, острокрылых планеров. Ах, — кольнуло Чубака в сердце, — планеры. А грешники? Грешники сами собой — темной идут полосой, отдельно, дабы не омрачать, за высоким забором, к черной реке… кануть. Как реку-то звали? Лета, кажется. Сами! — вот главное.
Как-то в одном учебном фильме (кажется, в кинозале номер три под Центральным переходом крутили его) увидел майор Чубак отдаленный прообраз своей исправительной системы.
Как ни странно, на самом дне социальных совершенств, у диких племен Южной Америки и Западной Африки лежало сокровище правосудия.
«Органы» племени поте из Верхнего Мараньона, например, удачно совмещали следствие с судом, приговором и наказанием. Вначале курандейро, местный шаман, на короткой стадии предварительного расследования путем расспроса духов через экстатический транс определял круг подозреваемых — в него, кстати, могли попасть целые роды — и велел им явиться на испытание. Вечером у большого костра собиралась вся деревня, подозреваемые и, само собой, преступник. Категория бегства была незнакома хитрым во всем остальном дикарям. Призвав духов, под неистовый барабанный бой и рычанье трещоток курандейро, он же местный лекарь, давал яд всем подозреваемым. Обычно яду варилось много, но после суда не оставалось ни капли — жители в порыве поддержки и одобрения выпивали весь котел зловонной жидкости и впадали в настоящее буйство — песни, пляски не смолкали до утра. Об осужденном на время мистерии забывали. Утром, пробудившись, находили труп — это и был совершивший преступление. Остальным яд ничего, кроме веселья, не приносил.
Суд был праздником, казнь — ритуалом, вина — палачом.
Но все же в «правосудии» поте к чистой вине было подмешано зелье. Вина все еще прибегала к палачу, пусть и был он только спусковым крючком в работе смерти.
У африканских коллег потейских судопроизводителей наказание виной проходило в более чистом виде. Там, в деревне бапенде, нгомбо — это была женщина-ведунья — устраивала что-то вроде очной ставки подозреваемых и жертвы, заставляя подследственных поочереди коснуться трупа рукой. Потом она внимательно осматривала у всех ладони и оставляла троих. Всех троих сажали в темную хижину, хижину опечатывали, ведунья читала заклинание над ней и вместо напутствия говорила, что через трое суток из чрева Правды выйдут только двое, преступник умрет и впоследствии будет сожжен на месте. Дальше фильм шел без комментария, но и без слов все было ясно: двое насмерть испуганных и, кажется, побледневших в полной темноте аборигенов, щурясь, выходили из хижины, камера на мгновение ныряла в щель (с обратной стороны пришлось на время снять сплетенный из лиан и пальмовых листьев щит), там, на полу в позе насмерть испуганного эмбриона лежал виновник — это был молодой, сильный юноша с обезображенным страхом лицом, который совсем недавно, раньше всего тремя минутами во времени экранном и тремя днями в глухом времени африканской первобытности, весело, как в какую-то игру, входил в хижину…
Здесь уже не было грубых подтасовок. Конечно, вина все еще прибегала к посторонней помощи: нужно было ограничить количество подозреваемых, потом изолировать в хижине вместе с виной и, дав ей указание (в этом судебном процессе — умертвить), ждать…
В идеальном государстве Степана Чубака не судьи, а преступление будет вершить правосудие, и станет оно его источником, его составной и неотъемлемой частью. «Посовершению преступления преступник должен сообщить в местные органы власти о месте, времени и, если таковые имеются, о соучастниках и жертвах, далее преступнику надлежит заполнить лист убытия (в случае совершения тяжких преступлений, караемых виной высшей степенью социальной защиты вместо листа убытия заполняется свидетельство о смерти), после соблюдения всех необходимых формальностей преступник препровождает себя в место наказания», — возникал под рукой Чубака проект нового правосудия. Роль «органов» в этой новой Утопии Степана Чубака (быть может, Чубании?), несмотря на успехи в борьбе с преступностью, должна была неуклонно возрастать, перерастая из карательной в демиургическую — на их плечах лежала тяжелая забота о создании и воспитании человека нового типа, того самого типа, который давал бы новый тип преступника. Ведь майор Чубак был умным человеком с материалистическим мировоззрением и классовым чутьем, и принцип партийности чтил как Устав внутренней службы — ужель ему не знать, что в виденной им дикарской идиллии не шаман, колдун или ведунья были центром судилища, и даже не сама по себе варварская вера — а люди, выведенные ей, те самые аборигены нового, или точнее старого, позабытого типа, — вот откуда, из веры, но из веры без темного мистицизма (Чубак чувствовал, что не будет нравиться слово вера человеку нового типа, — залапанное попами, в церковной копоти, пусть пока отбеливается в лучах Правды), из светлой убежденности в могуществе Неотвратимости, из благоговейного трепета перед ее носителями следует выводить нового человека. Светлым, кристалльно чистым, как чекистская честь, покровом ляжет новая вера на новых людей, и сама она будет другой, не безрадостной и темной, а ясной, праздничной и строго научной, и немеркнущие идеи революции озарят путь в царство Грядущего. И вот тогда-то в этом царстве света, дружбы, равенства и братства, на чистом их покрове, счастливым бременем лежащем на людях, не останется незамеченным ни единого темного пятнышка… Клякса, упавшая на листик драгоценной в эпоху ликбеза бумаги, выгорает без остатка сама… Кому чернила плохие, а кому стыд за содеянное…
И тогда в этом, как казалось Чубаку, недалеком будущем, на вопрос «кто ты?» он ответит с достоинством и честью — «Убедитель».
«Ах ты! — вдруг вспомнил он о деле Чайкиной. — Если бы Лиза… А так… — пятерка», — определил ей Степан срок пребывания в одном из северных санаториев с трехразовым питанием, трудотерапией и карантинным режимом.
12
В санатории, как и на фронте, все пять лет Чайка была медсестрой и удивляла лагерных пьяниц-фельдшеров, выдающих себя за врачей, безошибочным чутьем на болезни.
Здесь же она нашла и свое прошлое, Екатерины Ивановны Чайкиной. А началось оно с того, что заполняя анкету под присмотром сонного здоровенного детины, работавшего здесь за писца, и дойдя до графы «родители», Чайка замешкалась, парубок понял это по-своему, подошел, сунул в ее большемерную «спецу» руку и… отскочил, как-будто наткнулся, шаря в бюстагальтерс, на холодный бок мины… А Чайка даже не шелохнулась и знать не знала, чего же испугался писарь. «Так ты что, детдомовская?» — спросил, глядя куда-то в сторону, борцеподобный писарь. «Детдомовская», — неожиданно согласилась Чайка и почувствовала, как сразу стало легко на душе.
Открыв эпитетом амбарный замок на складе прошлого, Чайка теперь без труда могла пройти в него, чтобы выбрать там себе подходящее барахло — биографию. И прошлое, как пряжа из рыхлого облака шерсти, росло у нее прямо на глазах: из книг о суровом детстве первых лет социализма, из фильмов о беспризорниках и из трудов Макаренко пряла его Чайка. И вскорости выпрялось у нее вполне типичное детство, проведенное в одном из образцовых детских учреждений и крепко связанное с революционными преобразованиями, и юность выпрялась — в помощи партии через комсомольскую работу, и молодость — в добровольном содействии армии, авиации и флоту. Чего-то, конечно, не хватало в прошлом, особенно в детстве, какой-то плотности воспоминаний, их мерности что-ли, но тогда много чего не хватало, и приходилось мириться: и с нехваткой мирились, и с излишествами, была бы убежденность. Без нее — никуда, точнее, без нее — Колыма.
Жила Чайка одна: и замуж не выходила, и детей ни с кем не прижила, — все из-за того, что не складывалось с мужчинами то простейшее множество фигур, которое приводит либо в комнату при исполкоме с нависшим гербом и спящей на ходу сочетательшей, либо тайком в чужую постель, либо на узкую скамью в тесном зале с дамой на высоком кресле, под тем же гербом и с теми же оборотами речи. Она лечилась, лечение, не знающее что лечить, разумеется, не помогло — и вновь при каждой попытке сближения тел, ее и того другого, что обещал ей, лживо или правдиво, крепкую семью с умеренно пьющим, Чайка вместолюбимогои любящеголица, видела падающего на нее красноармейца, в шинели, с красным окровавленным штыком. Какое уж тут наслаждение, когда не коитус, а прямо штыковая атака!
Так бы и состарилась Чайка в сонном мирном существовании, регулярно получая в больнице грамоты и знаки почета, время от времени — юбилейные медали, еще реже — премии и отпуска, участвовала бы себе в вечном круге социалистического соревнования, помогала бы, шефствовала, боролась и дисциплинировала, и состояла бы членом десятка тайных обществ, невидимо и неслышимо прядущих свою всесоюзную деятельность, и скромными вкладами помогала бы им бороться за охрану природы ли, памятников ли, а то и за все на свете, за мир и Советскую власть, — так бы и стоять ей в обществе со-стоящих, стоять да так ничего и не выстоять, не окажи она мизерной в мастштабах страны помощи соседскому сорванцу Кольке Семихвостову.
На пыльном чердаке, среди высохших тел голубей, нашла она Кольку. Привел ее в это таинственное место, наполненное запахами старины, смерти и тления, приятель Кольки — шустрый полненький Славик. Конечно же, она ничего не поняла из его лживого и умоляющего рассказа. Но у нее сразу защекотало в носу — верный признак. И она покорно пошла вслед за пионером.
Их встретило хлопанье множества еще живых крыльев на мертвом ковре птиц — том, что лежал на чердачных перекрытиях и придавал этим интерьерам вид декораций к приключенческому фильму. Когда птицы уселись, она услышала тихое постанывание и мальчишеский, уже отдающий баском, плач… Колька напоролся на гвоздь, растущий из полузасыпанной битым шифером и голубиным пометом балки, да так и сидел, стараясь не глядеть на ржавое острие, торчащее из шнуровки.
Его никак не удавалось снять с гвоздя. При малейшем прикосновении этот храбрец закатывал глаза и по-бабьи голосил. Чайка применила верное средство — кольнула его в пятку, от испуга он дернулся и через мгновение был у нее на руках.
У себя в комнате Катерина Ивановна тщательно промыла рану, потом приложилась к ней губами — Колька замер — дунула, перебинтовала, сразу стало не больно.
Он просил ее не рассказывать родителям и объяснил — планеры переломают. Это он за планером на крышу лез…
Чайка при слове «планер» вздрогнула. «Планер…» — прошептала она. Что-то знакомое было в этом слове, какой-то особенный запах, и почему-то только при белобрысом этом мальчишке. «Чепуха, возраст, наверное», — сбежала в привычное Чайка.
Однажды она встретила его на улице с двумя авиамоделями, и снова что-то защекотало у нее под переносицей. Спросила, как нога?
Колька ответил, что все о’кей, зажила быстро и не болела почти.
Они уже собирались прощаться, как Чайка ни с того, ни с сего сказала:
«Дай, брошу», — и кивнула на птичку, что покачивалась у него в руке.
Колька с видом знатока усмехнулся, но дал…
Она взяла в руки планер, машинально проверила на баланс и, резко подавшись вперед, бросила.
«Здорово», — с восхищением сказал Колька.
Ей и самой стало интересно, как это так. Вдвоем они следили за устойчивым плавным полетом. Колька стоял чуть сзади и смотрел больше на ее профиль, чем на модель. И чувствовала она горящий в юном авиамоделисте вопрос. Вопрос явно относился к ней, но слова, как ни старалась она выхватить их из мальчишеского волнения, оставались неясными. И тогда кто-то в ней, знающий толк в планерах, сказал:
«Хорошая центровка, а концы — разогнуть… пижонство», — и сразу же исчез в медсестре.
Колька тут же, нарушая данный родителям обет не вступать в контакты с одинокой соседкой, в особенности же избегать всяческих разговоров о ее молодости, отважился спросить:
«Скажите, Катерина Ивановна, а не было ли у Вас сестры, Лизы Чайкиной?»
Чайка, не зная что ответить, промолчала, но Колька был из той породы следопытов, ответы для которых не самое важное в жизни.
«Я еще, знаете, и в кружке следопытов состою, — продолжал он, упоенный нарушением родительского табу. — Да вы знаете, наверное, это наши ребята черепа за насыпью нашли. Много. И в затылок все. Говорят, немцы зверствовали, а чтоб следы замести, для провокации, значит, из трофейного советского оружия стреляли. Нам военрук сказал, потому что и пуль много находить стали, а пули наши, советские… Так вот, я о Чайкиной, о знаменитой летчице нашей, ну той, что Зигфрида сбила. Она, оказывается, и до войны летала в аэроклубе, и чемпионкой была, правда, в планерах. Это я узнал… сам, — Колька гордо вскинул голову. — И заметка есть, с фотографией. Вот, — протянул ей ксерокопию газеты юный авиамоделист. — Чем-то на вас похожа, дай, думаю, спрошу, может, сестрой будете?..»
Чайка разглядывала газету. Девушка на фотографии была, действительно, похожа на нее, но не буднично-внешним сходством, на которое и обращают обычно внимание, а скорее той мистической схожестью с собой, когда человек, не избалованный фото и киновниманием к собственной персоне, вдруг видит себя в виде движущейся копии, скажем, в хронике, и тогда, в те короткие мгновения, когда еще не включен мистификатор узнавания, и тот мелькающий в кадре человек не выделен из толпы мифом исключительности, вот тогда и наступает для него маленький страшный суд: поделенный надвое целлулоидной пленкой, выносит он себе приговор: «что там за плохиш бежит», или «ну, плоскодонка, размахалась руками», — или что-то совсем обидное, унижающее того невзрачного человечка из толпы, до тех пор пока не протянется нить узнавания между снисходительным гигантом, по эту сторону экрана наблюдающего жизнь лилипутов, и одним из целлулоидиков, скорбно растворенным в толпе… Дальше описать невозможно. Сравнить это с внутренним ядерным взрывом или с чувствами сомнамбулы, узнающей в ходе судебного расследования о совершенных ей при свете Луны кровавых злодеяниях? Да что толку тащить это в тину сравнений: встречаются «Я» и «я», — нет на Земле катастрофы ужасней. Ребенок, которому наскучили родители, закрывает глаза и говорит: «мамы нет и папы нет».
— «Я» моргает — и целлулоидный мир выворачивается наизнанку.
Воспоминание о небывшем… Крылья, скалы, стая белых кричащих птиц… Да мало ли откуда, из кино, может быть.
«Может, и была, — отрешенно сказала Чайка, чувствуя досаду от неудачи пройти в то неясное, что прикрывала фотография, — до сих пор неизвестно, как я попала в детдом».
«А планеры… откуда знаете?» — спросил Колька.
«Планеры? И кто ж его знает, откудова знаю, — шутливо, в ритме известной песни пропела ответ Чайка. — От бога, наверное», — добавила она и вдруг посерьезнела.
13
Так, через Кольку Чайка приобщилась к авиамоделированию. Некоторая неловкость, гостившая первое время на занятиях в кружке, быстро ретировалась — Чайку приняли в стаю кружковцев, этих, порой внимательных и не по годам серьезных мальчиков, а порой отъявленных шкодников, насмешливых и невинно-жестоких. Она быстро стала для ребят своей, пройдя нелегкий путь от Катерины Ивановны до Чайки, умудряясь остаться при этом образцом преподавательских сравнений.
Вскоре руководитель кружка стал доверять ей проводить занятия самой: в последнее время этого полного, с тяжелой отдышкой человека преследовали болезни, часто прямо на занятиях засовывал он под левую мышку ладонь и шевелил в неслышном заклинании губы и, если дальше бежала по лицу серая тень, лез в карман за блестящим цилиндриком.
Однажды — то было последнее его занятие — он пришел веселый и даже подтянутый, в той, разумеется, степени, которую дозволяла его полнота. Какой-то необычный запах исходил от него. Чайка вдохнула воздух, но вместо «шипра», в изрядном количестве вылитого на их наставника, она учуяла иной запах, тот самый, от которого у нее зудела переносица.
Вглядываясь в Василия Трофимовича, она еще больше сузила глаза, крупная фигура преподавателя изменилась — стала тоньше и сгорбленней, и вдруг глаза у нее сами собой закрылись — но Трофи- мыч не исчез, только теперь он был совсем другим — голым, с провалившимися глазами и большим серым пятном на левой половине груди.
Она ничего не сказала ни ему, ни ребятам, занятие прошло весело, в радостном предвкушении грядущих побед на районных соревнованиях.
Когда на следующий день к ней прибежал заплаканный Колька, она ничуть не была удивлена. Инфаркт… А предупреждать было бесполезно — слишком широко расползлось губительное пятно по Василию Трофимовичу.
По просьбе ребят ее назначили руководителем кружка.
Соревнования они выиграли.
Еще и еще.
И опять ей стали вешать на грудь какие-то крашеные алюминиевые бляшки, делавшие ее то почетным членом ДОСААФ, то лауреатом кружковой работы, — люди, сходившие с трибун, больших и маленьких, не умеющие ничего, даже ровно прицепить награду, и оттого говорящие лживо и много, с фальшивым блеском невидящих глаз. Скучно и неуютно чувствовала себя Чайка на собраниях.
Только в тесной мастерской с привешенными к потолку самолетами да на пустыре, за конечной остановкой трамвая, была близка она к тому, что искала…
Что же искала Чайка в дремоте мирной жизни? Она бы не смогла ответить на этот вопрос словами — чего-то не хватало в ее существе, того, быть может, чего она никогда и не знала, но что проступало в ней то в виде необъяснимой симпатии к самолетам, то в виде столь же необъяснимой антипатии к крепким, полным брюнетам. И хотя ее биография, сочиненная по рецептам становления человека нового типа, была практически безупречна, ее она не удовлетворяла — чего-то не хватало в ней, быть может ярких картин памяти во всей полноте деталей или сладостно-запретного приобщения к тайнам взрослой жизни, — чего-то такого, что выдавливало бы из человека нового типа просто человека Чайкину.
Но выдавливать из общего человека «как все» какого-нибудь «больше всех надо» было не принято в стране, строившей ускоренный вариант счастливого будущего, до того не принято, что мыслей и слов не находилось для этого, и даже осудить было трудно — чего °суждать-то? Считалось, есть чему радоваться — ракетам, первому космонавту, преодолению культа личности и личности культа, — было и беспокоиться о чем: тут и угроза миру со стороны империалистических государств Запада и недостаточные темпы повышения производительности труда.
Чайка и не чувствовала, что за ней по пятам крадется пенсия. А пенсия подкралась, ударила первым и единственным банкетом в ее честь и ушла, оставив на завоеванной для своей Госпожи земле мытаря, что появлялся регулярно по первым числам каждого месяца и, выдав очередное подтверждение в виде мятых купюр, состригал с нее положенный месяц и уходил, обзывая на прощание бабкой.
И только простившись с госпиталем, смогла Чайка понять, кем была она там, в больничных палатах и мрачных коридорах.
Ее нашли. Бывшие пациенты и будущие, и вскоре маленький филиал районной больницы, правда без методистов и партактива, разместился в крикливой коммуналке.
А тут еще на волне какого-то нового почина, брошенного Партией, пионеры устроили настоящую облаву на оставшихся в живых фронтовиков. Не избежала сетей внимания и Чайка. Ее выловили и, определив в ячейку с длинным номером, составленном по уличногнездовому принципу, стали регулярно досаждать расспросами, активной помощью и вызовами в ближайшую школу на уроки политвоспитания, где от нее после долгого сидения в качестве живого символа веры во время идеологических литургий в оставшиеся пять минут требовали «все-все рассказать».
Чайка поверила в искренность детского интереса и в первых беседах еще пыталась передать пионерам то исчезнувшее в книгах и фильмах ощущение множества страдающих тел, страшное и одновременно притягивающее — такое, словно видишь перед собой поле красных маков, и не в силах устоять на краю, входишь в него, раздвигая тяжелый, пьянящий аромат крови. Она пыталась передать неожиданность смерти и ее требовательность, эгоизм раненых, с его нетерпением, завистью, а бывало и злобой, и благородство их, и стыд за такое не рыцарское положение — ехать на спине девушки, — о многом могла рассказать Чайка, но со временем, после напряженного невнимания десятков ребячьих глаз, после идеологической обработки методических центров по дележу опыта ветеранов войны, она обнаружила в себе странную немоту, когда касалась действительно неизвестной войны, и почти физиологическую болтливость, стоило войти ей в категории «всемирно-исторического подвига советского народа в Великой Отечественной». Она остро ощущала тогда, что от нее, медсестры Кати Чайкиной, остались одни уста, отданные ею на время патриотического урока духу усредненного, обжатого словесными штампами фронтовика.
Главное — глаз во время таких мероприятий бывшая медсестра Чайкина старалась не закрывать. Однажды — это вышло совершенно случайно при встрече в коридоре — Чайка слушала слишком затянутую, переполненную возвышенным пафосом тираду директрисы школы, одновременно депутата, секретаря парторганизации и профсоюзного лидера. Эта сирена воспитания как раз говорила о переполняющей ее любви к подрастающему поколению. Чайка, устав от небесной чистоты собеседницы, неосторожно прикрыла веки — и вместо детолюбивой матрессы жуткий монстр, вырезающий на лакомство детские сердца, появился перед ней. Даже для фронтовой медсестры, близко видевшей чудищ войны, зрелище было столь непривычным, что она едва не упала в обморок. Хорошо, рядом проходили ее кружковцы. Забыв о возрасте и степенстве ветерана, Чайка почти вприпрыжку побежала за ними. Монстр, оставшись наедине со своим недоумением, успел, однако, оценить деликатесы ее ребят и даже облизнулся, и с досады рыкообразно зевнул — не в его полях паслись эти овцы.
14
К ее великому удовольствию всесоюзный шмон фронтовых воспоминаний совпал со шмоном детского творчества. Что была бы она без ребяток и оазиса Тушина в холодном склепе Университета, похожем на гигантское четырехлапое чудище с щербатой пастью главного входа и клоаками лифтов? Однажды, во время обеда, в столовой с потолками, расточительно взнесенными на готическую высоту, под люстрой, неуютно висящей над головой, к ней подсел лысеющий молодой человек и быстро стал выхлебывать суп, потом так же быстро выковыривать вилкой второе, время от времени бросая на нее осторожные взгляды. Что-то неуловимо знакомое было в этом человеке на бегу. Что-то такое, что…
«Вы случайно не летали в молодости на планерах?» — пряча взгляд, отрывисто спросил молодой человек.
Чайка рассмеялась. Семихвостов…
«Коля, ты опять обознался… Что, не дает покоя однофамилица?»
«Катерина Ивановна, спасительница?» — с благодарственным разочарованием произнес бывший авиамоделист.
«Она, а ты что здесь делаешь? Лысеешь?»
«Лысею… и живот отращиваю».
«Знаешь, я почему-то думала, что все ребята после кружка летчиками станут, или авиаконструкторами».
«Я в своем роде тоже летун… Летаю с кафедры на кафедру».
«Чего ищешь-то, попутного ветра?»
«Тему ищу для диссертации».
«Тоже мне, нашел сокровище!»
«Сокровище не сокровище, а лишний полтинник и в штатном расписании — дырка… пожизненно».
«Да ты никак уже о пенсии думаешь?»
«О непрерывном стаже я думаю, Катерина Ивановна, а самое главное, она о нем думает… И свадьба скоро…»
«Профессорская дочь?»
«Завкафедральная».
«А как же ветер, Коля?»
«Ветер, Катерина Ивановна, в поле, а наука — неволя, я ее раб».
«Разве это наука, Коля, не то муки, не то мука».
«Зато мельница какова! — механически пошутил Коля и впервые взглянул Чайке в глаза, — Вы оглянитесь, — он патетически воздел руки, — это не мельница даже — всесоюзный элеватор!» — и сделал губами так, будто улыбнулся.
И тут Чайка поняла, что не с бывшим кружковцем разговаривает она, а с анкетными данными ассистента Семихвостова, вот почему у ее собеседника мертвые глаза — это не Коля, а его личное дело смотрит на нее фотографией три на четыре с правого верхнего угла и говорит нумерованными графами, те даже пошутить силятся — и исторгают из себя «смешные слова».
Ей стало тревожно; так бывало, когда щекотка одолевала переносицу и слипались тяжелевшие веки. Нехорошие предчувствия терзали ее в этом мельничном зале, но она поддалась искушению — веки сомкнулись — и мраморный мир профессорской трапезной исчез, уступая место пыльному помещению, действительно похожему на цех, с огромным жерновом посредине и длинной вереницей людей, стоявших в очереди к вертящемуся колесу.
Она услышала стоны и увидела множество человеческих фигур, вставленных в стены, колонны и перекрытия, большинство из них было абсолютно бездвижно, только самые низы, на которых покоился фундамент, еле-еле шевелились в безнадежной попытке выскользнуть из-под своего тысячетонного каменного надгробия, что звалось в верхнем мире храмом советской науки. И оттуда, с последних глубин, мешаясь со стонами и скрипом, доносился еще один звук, низкий, почти неразличимый гул работающей машины Леонтьева, поставленной человеком для усмирения «заложенных». «Как нет пятилетки без плана, так нет без „заложенных“ храма», — донеслась из угнетенного низа строка заунывной песни… И вдруг ей стало безумно страшно в чреве этого каменного чудовища, добывающего муку сомнительного происхождения. Она выпорхнула из-за стола и полетела к двери, дверь была заперта, тогда, развернувшись, несколькими мощными взмахами она достигла окна, за окном — небо! Экономь боезапас, Чайка! Помни, на обратном пути могут и с тыла появиться… Хорошо, Коленька… Эфир, скорее эфир! Да поймайте вы наконец эту птицу! Боже! Что делается? Людей травят, антисанитария такая, что скоро не только чайки, кабаны в ногах тереться начнут… Ей же больно! И осторожней несите, кровь с нее капает! Скатерти запачкаете, не отстираешь! Смотрите, и у ветеранши кровь носом пошла! Платок, скорее! Вот, все… Слава богу, очнулась… «Положите вместо них камни», — сказала Чайка и вновь впала в забытье. Кровь промочила платок, и большие ее капли часто забарабанили по столу. Врача, срочно врача, сильное кровотечение из носа… да, рекой! Быстро!
Пока везли, кровотечение прекратилось. Но целых два дня ее продержали в больнице, искололи за это время все вены и под странное нашептывание отправили в институт крови, чтобы промучить еще два дня и там. И промучили, и крови вытянули, наверное, не меньше, чем вытекло по причине болезни. А влить обратно — ничего не влили. Сказали, что с такой кровью жить человеку нельзя, куриная кровь какая-то, нечеловечья, и странно, что она вообще жива… Наблюдать, сказали, будут постоянно, пока не выяснят точный состав. Наблюдатели… Из-за них проморгала она соревнования, хорошо, мальчики ее выступили удачно.
Перед отъездом счастливые моделисты-конструкторы решили устроить ей показательные выступления.
Когда садились в переполненный автобус, ей показалось, что все это было уже — солнечный день, в руках хрупкие самолетики, ситцевое платье, мороженое на остановке…
В автобусе было так душно, что она испугалась, как бы снова не пошла носом кровь, тем более, что переносицу прямо жгло от нестерпимого зуда. И руки заняты… Она едва сберегла победные крылья — две атлетического вида женщины рвались к выходу. Когда, наконец, исчезли их спины, она прикрыла на мгновение глаза и увидела лысого красноармейца, сидящего на заднем сиденье, затылком к ней, у окна — винтовка с окровавленным штыком. У нее, как у охотника в решающий миг, остановилось дыхание. Она посмотрела на свои руки. Правая сжимала копье, левая — поручень. Осторожно раздвинув толпу, пробралась Чайка к красноармейцу… тихо занесла руку… и прямо в основание шеи… Уже падая, заметила, как ломается у острия тонкое древко.
15
Почему же он ничего не сделал, почему сидел, не вставая, прижав Уши, как заяц? — лежа в постели, задавал себе вопросы Степан Демьянович, недавно возвратившийся в родной город со всесоюзного слета ветеранов. И почему так болит позвоночник? Не падал, не простужался. Врачи — мразь, ни черта дельного сказать не могут. А болит, зараза… Да, странно, какая-то полоумная старуха с игрушечными самолетиками… Конечно, полоумная, где видано, чтобы старухи с моделями в автобусах ездили! И чего это он испугался? Фанеры? От те раз, и глаз не поднял, кто и чего. И слет этот какой-то дерганый был, ветераны — наглые. Пехота, понимаешь, окопы! Всё разобраться хотят! Чего разбираться — победили и баста! Каждый на своем месте был… А то по их, пехотному, выходит, что не с лютым врагом воевали, а на речку выходили биться — стенка на стенку. С честью и по правилам. Надо быть круглыми идиотами, чтобы не понимать: «по-правилам» стухло давно и ток кой-где еще лежит-пованивает. И какой дурак сейчас за перчаткой полезет! Умный — ударит, и не по чести станет бить, с выкрутасами, а по выгоде. О-о!.. И без вас обошлись бы!.. Ну, пехота, попадись ты мне в сорок третьем, показал бы, как контрразведку шельмовать.
Лежи, говорят. А чего лежать-то, когда болит и болит. Не думай, отвлекись, — что за советы, лекари, мать их…би! Мысль она же, как яма — ты из нее, она — из тебя… Допрыгались со своей демократией, вот уж и старухи с планерами… А там, глядишь, и мужики с топорами… Помереть не дадут спокойно. Планера эти, разлетались!
Вспомнив планеры, Степан Демьянович разгневался еще больше… Не мог он терпеть этого слова, и самолетов не любил, когда служил — летал, приходилось, разве откажешься, а как на пенсию вышел — все, ни шагу на борт, даже в Сибирь поездом ехал — трое суток тряс в вагоне свое грузное тело, как какой-нибудь половик.
От те и Сибирь, и чего подался? Там и застудил, видать, в поезде… купе, мать их ети, называется, щели в палец толщиной. Сыновей мирить ездил, тоже, чего удумал, мирить. Что один — ковыряло, забрался за Урал, инженерит, что другой — как отдал его в дело, так до сих пор из статистов не выберется. Вроде сыновья, а вместе собрать, что ни слово — разлад и злоба, злоба, мать ее, нечеловеческая, тут и драка приключится может, и до Каинова греха недалеко. Ну ладно, тот инженерит, с голоду не мрет, ни позора, ни славы, а младший, младший-то, если раньше его хоть в «адидасах» на рок-концертах кривляться заставляли или майку цеплять с лапой куриной, ну ладно там, козу делал, или марафон мира бежал, а сейчас шабаш какой-то, — псалмы учить заставляют, и молитву, и креститься на ходу, а служат кому, наших, попов, что ли мало? — из-за океана выписывают, параноиков каких-то… Нет, не выбраться из оцепления Яше, раз на роду так написано, вовек не выбраться, запалу нет, а судьба и на том свете хозяйка, дело известное, не успеешь умереть, а уж, глядь, выряжают тебя в униформу и опять в оцепление — рай от грешников охранять. Рай?..
Ох, так вот ничего вроде, а чуть подумаешь — ну прямо гвоздь в спине. Может, опухоль там, что ж они, гады, ни черта не делают. Какое-то психосоматическое расстройство твердят, покой, ванны… Кривошеев советует бросить докторов и к знахарке. Говорит, знает одну старушку, лет уж тридцать как знает. Попал он к ней в первый раз, когда она еще в госпитале работала, со старым ранением лежал, руку у него тянуло — двигать не мог, а в непогоду ныла так — на стену лезь, ну примочки там, магниты — туфтовые все были затеи, а она придет, ладонь приложит — и все, лес валить можно. С тех пор, чуть прихватит — только к ней, а вообще-то практику свою она не афиширует, особняком живет, на лавочках у подъезда не высиживает…
16
Полумрак, никого, старая мебель, голос из-за шкафа:
«Садитесь лицом к окну, не оборачивайтесь, мне позвоночник ваш нужно разглядеть, а физиономия ваша ни к чему, помеха только… так, хорошо, значит шея ноет, — не то спрашивала, не то утверждала знахарка. — Сидите, не шевелитесь, я посмотрю, всели на месте», — говорила она, в то время как пальцы ее больно давили на позвонки…
Внезапно она убрала руки и замолчала. Боль утихла, Степан улыбнулся. Сильна оказалась старушенция. Он пошевелил головой — шевелится, надо же, а раньше чуть в сторону, и тут же красный туман в голове и пузыри…
Он хотел с благодарностью посмотреть на лекаршу, но она предупредила его движение — крепко взяла голову в руки и сказала:
«Ты все увидишь, Степа, только будь осторожен, наконечник там еще и сидит крепко-крепко, не выдернешь».
Она убрала руки — Степан сидел, не шевелясь. Все его члены опять, как тогда в автобусе, сковал страх. И снова виной старуха. Та была полоумная какая-то; эта, хуже того, колдунья. А этот резкий крякающий голос? Он был явно знаком ему. Чайкина? — отчего-то вспомнил он твердую, как полено, девицу, лежащую под ним.
«Лиза», — сказала старушка и вышла из-за спины своего пациента.
Боже, она снова была той молодой, красивой и в чем-то похожей на артистку Орлову девушкой. Откинув назад волосы, девушка рассмеялась. Степан Демьянович похолодел.
«Ну вот что, Степушка, вижу я, ты и Катюшу Чайкину знавал. И за что ты ее в северный пансионат тогда услал?.. За однофамилицу?.. Жестокий ты, Степушка, бога не боишься. Дай-ка погляжу на тебя… Вот те раз, да ты не только в санатории посылал, и подальше случалось, и не так чтобы редко… Говоришь, диагноза поставить не могут. Кровь брали и анализы всякие… Не то брали, вот нашли бы ту жилку, где совесть твоя сидит, да вытянули бы потихоньку иголочкой, да на просвет бы и померяли… Вот бы диагноз и вышел. А что до болезни твоей, вот что скажу тебе, Степа… Вторник у нас сегодня. Через три дня будет пятница. Жди пятницы, Степа, сыновей позови, да смотри, не поругайся с ними за эти дни, ни к чему теперь… А как наступит пятница, ляг в постель, жди. Кровать лучше двуспальную приготовь и часы вспомни свои, красноармейские. В четыре шестнадцать, Степа, придет к тебе Холодная Лиза, видом будет как я, разве похудей покажется, ты не бойся ее, ласковая она… И не жмись, место подле себя освободи, лучше с правой стороны, и не вздумай брыкаться, вот кричать можешь, только незачем это, мужик ты, Степа, бабы, те и то помалкивают… Главное, Степа, не струхни, когда она коснется тебя, холодной Лиза прийдет, такой холодной, снег жарче ее. Ты, Степа, ее и отогреешь… Так вот, чуть коснется она тебя, ты ее в охапку сразу — и жми, что есть мочи жми, да ну ты и сам помнишь, чего я говорю-то тебе… И не отпускай, до четырех восемнадцати не отпускай. Удержишь — пройдет болячка твоя, и все хвори, какие есть, выйдут, а выпустишь — на себя пеняй, тогда во всем мире не сыскать врачей на тебя. Понимаешь, Степа, врачи, они на людей натасканы, а ты, товарищ Чубак… нет, не стану говорить, кто ты есть, сам все сегодня и узнаешь…»
Степан Демьянович осторожно поднялся. Шея не болела. Он незаметно оглянулся — нет ли сообщников у знахарки. Нет, никого в комнате не было. Ворожейка снова обернулась старухой и, едва заметно усмехаясь, стояла перед ним… Отслоившись от нее на безопасное расстояние, полковник в отставке Чубак произнес свое ответное слово:
«Я, гражданочка колдунья, вас не знаю, и какую-то там Лизу, холодную там или горячую тоже знать не желаю. Вы, бабусечка, видно, не в своем уме, раз фронтовика, полковника, задумали пугать всякой чертовщиной… Лечили бы лучше свои радикулиты с ревматизмами, а в провокаторов играть — это, я вам скажу, дело опасное.»
«Да ты, Степушка, не пяться, — перебила его речь знахарка, — и слов мне твоих не надо, запомни лучше: пятница, четыре шестнадцать. Я бы для наглядности и часики твои с красноармейской засадой показала, да не сберегла. Знатные были часики…»
«Часики, гражданочка, вы при себе оставьте, на понт меня не возьмешь, я сам кого хошь понтярой притараню, а понадобится, мы вас и к ответственности привлечем за шантаж и незаконную медицинскую практи… к-ку!» — в сдавленный крик переросла тирада Чубака и оборвалась тяжелой одышкой.
Степан Демьянович, боясь сделать малейшее движение шеей, как будто в позвонке у него снова зашевелился гвоздь, повернулся всем корпусом — посмотреть, где дверь, чтобы как можно скорее выбраться из этой ловушки.
«Нет уж, погоди», — сказала Чайка и одним прыжком настигла его у шкафа — Степан беспомощно прикрыл голову руками — Чайка же ничего плохого делать не собиралась, она только приложила ладонь к заросшему салом позвоночнику и прошептала заклинание, не для дела, а так, для эстрады: — «Хрящ, хрящ не боли, Степу в страх не заводи, ждет Степана пятница, мертвая соратница!»
Если бы Степа был ребенком, он непременно бы наложил в штаны. Но Степан Демьянович давно был взрослым, а по возрасту так даже и стариком, и процесс оправки складывался у него не настолько легко и безболезненно, как в беззаботное, пукающее годами, детство.
Степан Демьянович пукнул не годами — газами, басисто и пахуче поэтому, пукнул, оправился и пошел вниз по лестнице.
Внук, прийдя из школы, с восторгом начал рассказывать о новом учителе биологии. «Зверь мужик! — хлюпал он школярским восторгом. — Так про глисты загнуть, это, дед, знаешь!.. — Слышь, дед, глисты, они совсем не такие простые, как мы думаем. Как бы это сказать, ну они… в общем, удивительные создания. И не глисты они вовсе, а как их, гельминты по-правильному, названия, дед, вообще, атас, Пушкин! — трематоды, сосальщики, короче, цестоды, нематоды — те на червей похожи, только белые, — а подними… ну подними, это означает, что класс есть такой, нематоды… ну что, класс не слыхал что такое? — класс, а в классе — отряды, все как у людей, только с поэзией! — там и аскариды тебе, и власоглавы, и трихинеллы. Знаешь, они ведь не просто соки тянут, из животных, скажем, или человека, не просто, понимаешь, паразитируют, они же, гады, понимают, что кормильца нельзя обессиливать, и тоже, представь себе, работают, — ферменты выделяют, а ферменты, это у них вроде языка, вот они и убеждают, голодна ты коровка, работаешь мало, больше надо работать, а коровка, дед, слышишь? за чистую монету все, ну и давай жрать, чтоб, значит, удои в норме, ты ж знаешь, дед, если у коровы удои не в норме — ее сразу на мясо. А глист наш сидит, облизывается, да лавры жнет: кто, как не он, причина повышения производительности труда. Тут, — учитель говорит, — от глиста одно требуется, не жадничать — пережмешь с аппетитом, когда кормов нет, все, в худость коровка пойдет, а то и в загиб, если на мясо раньше не кокнут. Представляешь, а, дед? Если он про кишки такие байки знает, что дальше-то будет, а, дед? Ты чего молчишь, дед?..»
Степан Демьянович очнулся. Ни единого слова не пропустил он из сбивчивого рассказа внука. Кряхтя, подошел к нему и хорошо так, со всего размаху приютил в ладони стриженый его затылок.
«Ты что ж, погань, перед обедом байки про глистов рассказываешь. Бегом руки мыть!»
Степан Демьянович попытался представить себе, как пойдет он завтра на рыбалку, поймает леща, завялит его, потом с пивом… Вот бы шея…
Степан Демьянович позвонил снохе.
«Валюха, как там с анализами?»
«Говорят, все в порядке. У вас, Степан Демьянович, кровь, как у пороза, сто лет жить будете».
Чубак положил трубку. Улыбнулся, попробовал повращать шеей. Не болит. И чего это старуха Чайкиной прикидывалась? Та Лиза, говорят, погибла, охотясь за одним германским асом. Недаром, знать, эта ведьма сказывала, что Холодная Лиза прийдет. Бр-р… А может, фамилия такая, Холодная? И чего они с этой Чайкой прицепились к нему? Подумаешь, ну пошалил в молодости… А непроста, видать, старуха, вон как в молодицу обернулась. И шея… не болит… Ну шея шеей, а над смертью, надо думать, никакая знахарка не властна. И сноха говорит, сто лет… Пятница, ишь ты, четыре шестнадцать! О часах вот откуда знает? Надо бы расспросить Кривошеева, может ему что известно…
Чубак набрал номер Кривошеева. На том конце долго не снимали трубку, затем старушечий голос сказал: «Кости нет, он на рыбалке, до субботы».
Степану Демьяновичу стало завидно. Надо же, на рыбалке человек. Может и ему… Он встал с кресла, пошел собирать удочки. С полдороги вернулся к телефону…
«Валюха, сделай-ка мне местечко в ветеранской палате, обследоваться хочу по полной форме».
Он почувствовал, как на том конце провода сноха неприязненно, почти брезгливо зыдышала в трубку:
«Опять вы с фокусами, Степан Демьянович. Вы же здоровы, как бык. И далось вам, в постели валяться… (не отвечая, он тяжело сопел в трубку), — сноха замолчала и прислушалась, — ладно, ждите, приеду с работы, тогда и поговорим».
Степан в сердцах бросил трубку на рычаг, по белой пластмассе потек тоненький ручеек трещины.
Ну и чего он дергается, от чего ему, здоровяку, который, кроме как желудочными газами и геморроем, ничем в своей жизни не болел, помирать? Да он по здоровью еще и с молодыми потягается… Чубак задумался, подыскивая в памяти годный экземпляр для сравнения. Какое-то смуглое тело мелькнуло перед глазами, ему стало интересно, что это за экспонат выплыл, и только разглядев курчавую голову, Степан Демьянович понял, что натворил. Это был тот самый насильник из деревни бапенде, крепкий и веселый юноша, скорченный труп которого он видел в проеме хижины для вышаков… Он весь оцепенел, потом миллиметр за миллиметром повернул голову — шея не болела, зато мириады иголочек кололо в руках и ногах. Надо же, так испугаться…
Он снял трубку. Телефонные сигналы были с протяжными хрипами, как при… агонии. Негнущимися пальцами набрал номер снохи. Незнакомым голосом трубка ответила, что Валентины нет. Чубак повернулся к дверному проему и крикнул внука. Никто не отзывался… Еще и еще кричал он. Тишина. Боясь, что сигналы умрут раньше, чем он дозвонится, Степан набрал двузначный номер.
«Умираю», — сообщил он трубке для краткости, назвал адрес и повалился на диван.
«Скорая» приехала через тридцать минут. В состоянии бешенства «умирающий» Степан чуть не смахнул кулаком врача, отборнейшими ругательствами покрыл сестру.
В машине «умирающий» безумно хохотал и грозился всех уволить.
17
В больнице его поместили в отдельную палату, сняли кардиограмму, повезли на рентген и томограф. Видя вокруг себя суету, Степан улыбался.
Взволнованная и раздосадованная сноха нашла его только под вечер и с клятвенными обещаниями под три расписки забрала его в ветеранскую клинику.
И там его поместили в одиночку с телевизором и торшером для чтения.
За ночь он довел до слез двух медсестер-студенток, пока, наконец, Дежурный врач не решился поставить ему пенсионерку — той, в отличие от девчонок, терять было нечего, и она своим меланхоличным равнодушием к терзаниями экс-полковника несколько его успокоила.
Весь следующий день Степан Демьянович пытался решить сложную для себя дилемму: умирать ему вроде как не от чего, значит нечего и бояться, а он боится, чего тогда? Старухи? Но ее здесь нет, и никто не пустит ее в этот охраняемый от простых смертных госпиталь. А от чего вообще умирают? — вышел на метафизический уровень Чубак. Он знал, от ран и болезней умирают люди. Когда-то он мечтал, чтобы люди умирали от совершенных ими злодеяний. Но он сам же и рассчитал, что это может случиться только в результате полной и окончательной победы социализма во всем мире или же в глухой изоляции от него. Скажем, в африканской деревне, или же в другой, отдельно взятой стране… Такого до сих пор не случилось и в обозримом будущем не предвидится. Получается, ни под одну из этих категорий Степан не попадал, жизнь он прожил честно, долгие годы служил Партии и народу, виниться ему не в чем. Ну а если случались ошибки — не его была на то воля.
«Подумаешь, увлек эту саму Лизу, а что, хорошенькая была, и какая в том вина?» — все чаще и чаще задавал себе Чубак этот вопрос. — «Сама же, по доброй воле… еще и хлопца ее спас, болтлив был не в меру. А за всяких германских асов ответа он не держит. Это пусть разведка асами занимается, он — контр…»
«Ну и хватит, решили и баста», — убеждал себя Степан, уже на слове «баста» зная, что так на самом деле не будет.
«Помещенный со своей виной один на один в замкнутом помещении, виновник проигрывает схватку».
«Сестра! — дико заорал Степан Демьянович. — Сестра!»
«Что случилось, Степан Демьянович?»
«Посиди немного».
«У меня, Степан Демьянович, еще двадцать больных».
«А я тебе кто?» — рявкнул Чубак.
Глаза у сестры покрылись инеем.
«Имеются жалобы?» — процедила она.
«Жалобы?.. — задумался Степан Демьянович. — Зовут-то тебя как?»
«Лиза», — ответила медсестра и, поправив подушку, вышла.
Вечером он звонил по телефону и умолял приехать сноху.
Сноха, подумав, что он просит передачи или свежих газет, согласилась, но когда узнала о его маразматической просьбе остаться с ним на ночь из-за того, что сестрички черствые, мигом вспомнила, что у нее много дел, а ему посоветовала либо возвращаться домой, либо, по меньшей мере, успокоиться — ничего у него не нашли, зря он всех изводит. «Извожу!» — взвился оскорбленный свекор и бросил трубку. Больничные телефоны были крепче гражданских и трещинами после всяких истерик не шли.
Сестричек сноха все же предупредила, и сестрички, достав конспекты, еще раз перечитали «правила по теплому обращению с пациентами».
После нескольких сеансов «теплого обращения» Степан уже представлял, как будет выглядеть Холодная Лиза.
Всю ночь он прислушивался к малейшему шороху в себе и снаружи, всматривался в темноту, гадал, откуда покажется Холодная Лиза. И вдруг услышал тихий скрипучий зов: «Лиза, Лиза…» — и смолкло все, потом снова: — «Лиза, Лиза», — только тише; Степан привстал на локте, намерился было посмотреть, кто там Лизы захотел, но тут сама собой приоткрылась дверь его одиночки, Степан Демьянович замер… и полез с головой под одеяло. Высунув затвердевшее от напряжения ухо, услышал в коридоре быстрые приглушенные шаги, шепот, тихое постанывание каталки… Хлопнула в конце коридора дверь, забулькал чайник, ординаторская…
«Лиза, а кто… один жит», — донесся до Степан Демьянычева уха разговор, он выпростал из-под одеяла второе, звуки стали отчетливей.
«Да пень один старый, удушила бы его, сам здоровый, как черт, а ты, то утку ему подай, то посиди, то унеси… Неженка, ну неженка, прям аскарида из Афедрона, глист с…сосучий!»
В темной, распиленной лучом света палате, появились серые контуры, светлый прямоугольник окна оторвался от стены и завис прямо над его кроватью. Степан пятками подобрал одеяло, так он чувствовал себя в большей безопасности… снова послышались шаги… Лиза?.. Дверь приоткрылась шире, он увидел в проеме санитара, идущего по коридору в позе бурлака, за ним — каталка; до самых ручек торосящийся лед простыни, и нигде — привычного утеса лица.
Утром он почему-то с койки не поднялся, потребовал утку и градусник.
Долго выбирал блюда на завтрак, ел с аппетитом, просил добавки.
До обеда не вставал, опять потребовал утку, все время смотрел в потолок.
Обедал тоже плотно, добавки не просил.
После обеда позвонил сестре.
«А библиотека у вас есть?» — спросил.
«Разумеется», — ответила сестра.
«А эта, как ее, Библия, есть?»
«Не знаю, — честно призналась сестричка, — может и есть, только никто не спрашивал еще».
«Ну а я вот спрашиваю, — воодушевился Степан Демьянович, — принесите».
Библия оказалась толстой, непонятной, написанной на каком-то тарабарском наречии книгой.
Степан Демьянович позвонил сестре еще раз.
«А чего в ней читают-то?» — почему-то смущаясь, спросил он.
«Да что хотите, то и читайте», — вежливо ответила сестра и улыбнулась.
Степан Демьянович привстал на локте, покряхтел, прочищая горло, и как о чем-то привычном спросил:
«А перед смертью чего обычно читают, чтоб душе, значит, того… легче… на том свете?..»
Сестричка, против ожидания, так же привычно обронила:
«Я сейчас», — и выбежала в сестринскую за конспектом. Конспект ссылался на инструкцию, инструкция хранилась в шкафу, ключ — в столе… Выписав из рекомендуемого Минздравом списка закорючки книг, глав и стихов, прибавив от себя Песнь Песней и Притчи Соломона, сестра вручила персональному пациенту листочек, и, выстояв несколько утвержденных секунд, ушла, на прощание подбодрив больного улыбкой.
18
С половины четвертого он стал трезвонить каждые пять минут, и все спрашивал, не стоит ли кто в углу. Сестра взбивала подушку, давала таблетку, подносила стакан, старик покорно глотал лекарство… через пять минут все повторялось…
В один из вызовов старик спросил о Лизе, знает ли сестра Лизу? «Конечно, как не знать, — бойко отвечала сестра, — вот моя смена закончится, Лиза и заступит. Да скоро уже, в четыре… У нее сегодня вне очереди дежурство, завотделением лично просил, сложные больные поступили».
«А я, я сложный больной?», — медленно спросил старик.
«Да какой же вы больной, вы у нас курортник», — безмятежно тараторила сестра.
«А вы можете не уходить, пока?» — робко спросил Степан Демьянович.
Ответ у сестрички обычно следовал за вопросом без паузы, но на сей раз она открыла рот, лишь сделав несколько дежурных движений: смела мусор с тумбочки, поправила салфетку, сунула в кассету градусник.
«А чего это вы удумали, Степан Демьянович? Лиза — сестра опытная, — ее тут больше всех любят, а у меня — коллоквиум завтра».
Степану Демьяновичу хотелось заплакать, но вместо слез из глаз его выкатилось злое выражение и уставилось на сестру.
«Я умру… Я, быть может, уже умираю…»
Сестра не дала ему закончить.
«Ну, эти песни мы знаем! Учтите, Степан Демьянович, капризы мы даже от больных номер один не терпим… Все, отдыхайте, лечитесь, мне пора», — и ушла, а он — один, и сейчас придет Лиза и…
Тихо-тихо было в Степане, ни ветерка, ни какого другого шума не было в его большом теле.
И смех в коридоре. Слова.
«Ух, Лизка, ты чего бледная такая и холодная, как смерть прямо?»; «Да в холодильник на четвертой паре водили, хоть бы предупредили, что мороз, я в кофточке одной, холодрыга, а на мертвяков поглядишь — прямо пляж, лежат себе мирненько, греются. Им-то оно, может, и тепло, а меня ж их солнце не греет».
«Не страшно было?»
«Не, говорю же тебе, как на пляже… Голые они все. Да ладно, бог с ними, с мертвецами, как солитер-то наш, все сосет?»
«Остаться просил, представляешь?.. Ты с лаской к нему, он — за уши тянет».
«Погоди, сделаю я ему обхождение по всей форме! Не повадится больше чужие места занимать!»
«Он там чего-то про смерть талдычит, Библию просил».
«Из-за него, гада, проморгали под утро инвалидика, замотал он меня».
«Ну да ладно, Лизка, побежала я, коллоквиум завтра».
Надев на лицо строгое выражение, Лиза вошла в палату персоналщика. Больной почему-то лежал на краю и молча смотрел в потолок.
«Свалится», — подумала Лиза и пошла поправлять. Неприятная гримаса пробежала по лицу больного да так и застыла.
Ей пришлось наклониться. Тело было тяжелым, неповоротливым, больной ничем ей не помогал.
Намучилась Лиза с ним изрядно, зато озноб прошел, вспотела Даже.
Все ее раздражало в этом больном, а теперь и молчание.
«Степан Демьянович», — сказала она.
Тишина.
«Степан Демьянович!» — громко.
Нет ответа. Издевается, — решила Лиза.
Гримаса на лице старика не менялась.
«Степан Демьянович!» — взяла она его за вялую руку, заглянула в глаза.
Глаза не шевелились, пульс не прощупывался. Лиза провела ладонью по векам больного… Помедлила, вспоминая, что по инструкции делают в таких случаях идеальные медсестры… «Поднять веки, внимательно рассмотреть зрачки…»
Поднимать ничего не пришлось — глаза «скончавшегося» недовольно заморгали: длинные, совсем не стариковские ресницы защекотали ладонь; сестра убрала руку: и реакцию зрачков проверять было излишне — страх и злоба сами смотрели из их глубины. Такой злобы Лиза еще не видывала. Тут уж не до инструкции было Лизе, она по-настоящему испугалась и выбежала в коридор, оглашая гулкие своды условным криком «вторая!»
Из далекой светящейся щели вверху раздается голос: «Сколько это может продолжаться, не знаю. Двигательный паралич — полный, но органы работают. Жизнедеятельность сохраняется. Питание только принудительное. Выделения — неконтролируемые», — и откуда-то сбоку: — «А Лизка как в воду глядела: был человек, а теперь что? — Глист, да еще с соской… Уж лучше бы сразу».
«Фуюшки! — свистит откуда-то из жизнедействующих глубин Степана Демьяновича и еще раз, весело так, нараспев, — фуюшки!»
19
Почтальонша Нюра, пожилая, раздувшаяся на тяжелых работах женщина, замиряя одной рукой растопавшееся сердце, другой всердцах колотила дверь Катерины Чайкиной.
«Катерина…ёна мать! Чё молчишь, али нету тебя?.. Так знай, ёна мать, не понесу больше тебе пенсию, хоч ты и ветеранка-поганка! Ты, он, с пионерами шаришь, а мене на третий этаж — как в могилу ложиться… Слышь, чи не?.. Все, сама пенсию свою выручай!» — Нюра тяжело переставила распухшие, негнущиеся ноги, сунула конверт в сумку и пошла по длинному, едва освещенному коридору коммуналки. По обе стороны от ее гневной тяжелой поступи врезались в косяки любопытствующие лица: Тимофея Валериановича и Глафиры Полуэктовны, супругов Докучаевых и сатрапа кухни Газаряна, последним выглянул сам предводитель комдворянства — Корифей Корифеич, инвалид детства, войны и труда, известный своими баснями и мифологизированной летописью подъезда, — «Эй, коммунальные! — ругнулась почтальонша, — куда ваша полоумная делась? Оставлю без пенсии, авось пионерия не накормит».
Заскрипели засовы и цепочки, хмурые соседи, старательно кривляясь друг перед другом для вящего недружелюбия, высыпали в коридор.
За пятнадцать минут стояния ноги у Нюры отекли окончательно. Узнать ей удалось многое: и что Глашка — манда, дочь не лучше ее — дурындой-дурында, Тимофей — вообще чем-то бей, а на прошлой неделе, какая-то…зда наложила в подъезде, известно, не просто, а из чувства родства; также довелось ей узнать, что соседи во всем винят чью-то мать, и еще много всего узнала в этом коридоре Нюра. О соседке, конечно же, больше не поминали; видно, желание не видеть друг друга было так сильно, что временное исчезновение одного из жильцов мнилось хоть и крошечным, но шагом к божественному порядку, низвергнутому вакханалией подселений…
Екатерина Ивановна за пенсией так и не пришла. Не открыла она дверь и в следующем месяце. Пыль на дореволюционной еще ручке почему-то сильно напугала почтальоншу. Взломав вдвоем с Тимофеем Валериановичем хлипкие запоры, Нюра, как заправский следователь, в сопровождении понятых переступила порог пыльной комнаты пенсионерши.
Сладковатый, едва различимый запах ударил в ноздри вошедших. Нюра откровенно испугалась и остановилась у шкафа, не решаясь заглянуть — за шкафом стояла койка Чайкиной.
Решив, что первым должен быть летописец двора, компания соседей вывалила обратно в коридор и через несколько мгновений вкатила в комнату Корифей Корифеича. Корифеич поначалу было запротестовал, но сопротивляться не мог — на мгновение в квартире воцарилась гробовая тишина. Томление, к счастью, было недолгим: «От же, паскуды, пихаются!» — выкатилось из-за шкафа мирное ворчание летописца. «Порядок», — вздохнула с облегчением инспекция и ввалилась в спальный уголок.
На койке ничего, кроме устилавшего ее пуха, не было. «Видно, подушка надорвалась», — решили соседи. А тот сладковатый, перепугавший всех запах источал обыкновенный птичий помет, курганчиками растущий из подоконника. «Голуби», — и тут нашлось объяснение.
Дремотно зевая, коллегия разошлась.
Пришли из ЖЭКа, и комнату временно опечатали. Пенсию депонировали.
А на другом конце города, в трамваях, идущих на бывший Зосимов пустырь, уставленный ныне двенадцатиэтажными ящиками, стала часто ездить худющая старуха с редким каре под солому и немигающими желтыми глазами. Она проходила по вагонам с дикарскими притопываниями и завываниями, могла и без задержек пройти, а бывало, останавливалась внезапно и требовала пощупать лопатки; «крылышки мои», — причитала, носильно не липла… случалось, что кого-то, кому долго улыбалась, просила вместе с ней полетать. Над старухой, конечно же, смеялись, особенно, когда она начинала предсказывать судьбу, неуклюже, сбиваясь и переходя местами на какой-то тарабарский язык, то петухом могла закричать, то замурлыкать, то басисто, по-медвежьи, взреветь, — кто-то негодовал, иных это развлекало, но никто не принимал ее выходок всерьез. До тех пор пока все предсказанное сумасшедшей старухой не сбывылось с точностью, исключающей совпадения. В ответ на такое коварство — судьбу предсказывать — пассажиры маршрута № 23 заявили о шарлатанке в милицию. Дом отдыха для подобных сивилл был в городе хорошо известен, и имел поэтичное название «психушка». Забор высокий, санитары жестокие, решетки частые… Решетки частые и прутья толстые, а на третий день старухи в заведении уже не было… Радостными улыбками встречала она на известном маршруте своих давних знакомых. Ей стали давать деньги едва она подходила, давали много: бывало, что и рубль и три. Она ничего не просила, возвращала деньги обратно, роняла, но бумажки все равно оказывались у нее в ладони. «Бери-бери, милочка, говорить только ничего не надо, знаю я все, без тебя знаю», — спасался пятеркой очередной клиент. «Да погоди, милок, дай сказать-то, камень в тебе…» Камень в тебе, во мне, камни в нас — и пациент был уже на выходе с гримасой злобы и бешенства на пожеванном работой лице.
Сумасшедшую старуху по жалобам трудящихся забирали в «психушку» еще несколько раз, и особый контроль устанавливали, но через три-четыре дня гроза пассажиров как ни в чем ни бывало снова ходила по вагону, только голос ее раз от разу звучал все крикливее, неразборчивей и как-то жальче. Слов вскоре стало не разобрать, пророчества, само собой, сделались неопасны, деньги полоумной старухе давать тоже перестали, она становилась все суше и злей, пока однажды раз и навсегда не исчезла…
Пассажиры вздохнули с облегчением. И жизнь бы заладилась и потекла бы мирно и сонно, если бы пустырь, уже со всех сторон сдавленный домами, не облюбовали крикливые вороны.
Была среди них одна, белая, скандалистка и забияка.
А в двенадцатиэтажных гнездах иное племя, тоже крикливое, тоже на двух ногах, только без перьев, усиленно готовилось к зиме. Суматошная жизнь пустыря, трудящимся, как водится, мешала.
И полетели, полетели на длинных крыльях сложноподчиненных предложений настоятельные просьбы с требованием всех и немедленно…
Навстречу просьбам еще до первого снега приехала машина с пиршественными угощениями пернатым.
Потом в числе жертв пира обнаружили несколько бездомных собак и двух домных: плачущие и негодующие хозяева четвероногих тут же, над телами любимцев, принялись сочинять реквием — коллективное письмо с жалобами, угрозами и привычной просьбой всех расстрелять. А ворон, как ни странно, среди трупов не было — снявшись, стая временно эмигрировала в лес.
Только белая ворона никуда не эмигрировала. Еще не успела уехать городская зондеркоманда, а ее пронзительные, не похожие на воронье карканье выкрики, многократно отражаясь от стен, уже пролезали сквозь подъезды, щели и перекрытия — и настигали кою у холодильника, кого в кровати, кого за дурными помыслами; скорбно и неуютно делалось сонному обывателю от птичих центурий и вновь сворачивались, подобно змеям, вдвое и вчетверо письма, и летели они…
По распоряжению властей из общества любителей природы прислали члена с берданкой или же просто берданку, а члена подобрали из местных — в общем стрельнули: заваливаясь на левое крыло, белая ворона, крича совсем уже нестерпимо, полетела в сторону домов. Смелости у члена стрелять в направлении жилья не хватило, и птица, шумно хлопая крыльями, исчезла в свистящих ветром ущельях…
20
Комната Екатерины Ивановны Чайкиной простояла опечатанной до Нового года. Потом из вздохов и стенаний супругов Докучаевых материализовалась комиссия по распечатыванию — из трех членов и местных понятых.
Печати сняли, Анри Докучаев смело шагнул в брошенное жилище.
Из жарко натопленной комнаты тянуло душновато-сладким запахом голубятни.
Взглядом расставив мебель, год уже томившуюся в темнице прихожей, Анри двинулся за шкаф.
Сделав шаг, супруг Докучаев остановился. Розовый цвет воодушевления быстро спадал с его лица. На кровати, выставив вверх сухой птичий нос, лежала пенсионерка Чайкина. Счетчик квартирного метража в глазах Докучаева, дойдя уже до отметки 20, издевательски мигнул и ухнул в обратную сторону. Анри хотел было выругаться да уйти, предоставив понятым разбираться в антиобщественных деяниях пенсионерки, но глаз его случайно остановился на не сходящей с лица старухи улыбке это при закрытых, а пожалуй, и запавших глазах. На всякий случай крякнув и не получив ответа, Анри подошел к старухе вплотную. Он вздрогнул — еще испуганно, когда из-под одеяла выскользнула первая мышь, вторую он встретил радостным глубоким вздохом, а третью так и расцеловать был готов, если бы в руки далась. «Пи-пи-пи», — запищал он в восторженном унисоне с хозяйкой щелей.
«Описывайте!» — выпрямившись, голосом пророка воззвал к комиссии



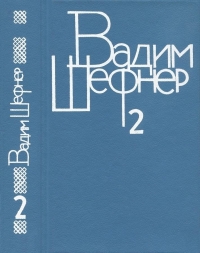
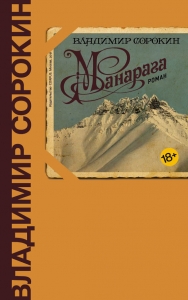

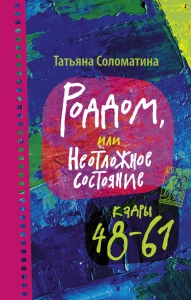



Комментарии к книге «Чайка», Альберт Егазаров
Всего 0 комментариев