М. Гордышевская. Предисловие
Чем ближе конец двадцатого века, тем заметнее в искусстве и литературе стремление охватить взглядом всю его панораму, обрисовать в целом, подвести итоги, соотнести со всем ходом истории человечества. Многочисленные автобиографические романы, документальные хроники, многотомные серии и циклы романов не только запечатлевают наш век, но в меру таланта автора философски осмысляют и оценивают его.
«Танец под музыку Времени» — так озаглавил свой двенадцатитомный цикл романов известный английский писатель Энтони Поуэлл. Из романа в роман насмешливо и грустно рассказывает автор о судьбе своего поколения — поколения тех, чье детство пришлось на первую мировую войну, юность — на двадцатые и тридцатые годы, кто уже зрелыми людьми встретил вторую мировую войну, а в шестидесятые годы с изумлением и испугом увидел поколение своих внуков — с его анархизмом, «новым мистицизмом», «сексуальной революцией» и прочими непонятными вывертами.
Центральное место в этой двенадцатитомной серии занимают романы о времени второй мировой войны. Роман «Поле костей» (1964) принес Поуэллу настоящий, большой успех, высокую оценку критики и признание самых широких кругов читателей. Именно этот роман выдвинул Энтони Поуэлла в ряд ведущих английских писателей нашего времени. Следующий роман, «Искусство ратных дел» (1966), также был встречен с большим интересом. Каждая из этих книг — самостоятельное произведение и в то же время часть общей системы цикла «Танец под музыку Времени».
Энтони Поуэлл родился в 1905 году. Отец его был кадровым военным. Поуэлл учился в Итоне, окончил Оксфордский университет и рано начал литературную деятельность. Пять романов Поуэлла вышли еще в предвоенные годы (1931–1939). Во время второй мировой войны Поуэлл был офицером английской армии. После войны он вернулся к литературе.
К своему главному труду, циклу романов «Танец под музыку Времени», Э. Поуэлл приступил уже сложившимся мастером. Создание всего цикла заняло двадцать четыре года (1951–1975). Неудивительно, что не все в этом большом цикле равноценно, не все в равной мере удалось автору. Удивительно, что в конечном счете он воспринимается как единое целое.
На первых же страницах первого романа цикла («Вопрос воспитания», 1951) Поуэлл объясняет смысл заглавия. Образ «танца под музыку Времени» навеян аллегорической картиной французского художника XVII века Никола Пуссена из серии «Времена года»: старец Время играет на лире, а Времена года, взявшись за руки, ведут хоровод. Писатель XX века находит у художника-классициста XVII века близкую ему идею всемогущества времени, трагическое ощущение бренности жизни и философский стоицизм.
Уже сама заставка говорит и о другом значении этого образа, связанном с давней традицией английской сатиры, с аллегорией жизни как театра, спектакля, кукольного представления. Романы Поуэлла — социально-психологическая комедия. В этом прежде всего их своеобразие, их отличие от художественной истории поколения, воссозданной другими романистами. Линия сатиры и юмора никогда не прерывалась в английской литературе, но Поуэлл ближе к классическому английскому комическому роману, чем его современники.
«Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено» — этими словами заканчивается «Ярмарка тщеславия» Теккерея. Можно сказать, что через сто лет Энтони Поуэлл открывает ящик и показывает новое кукольное представление — «Танец под музыку Времени».
Кто же они, главные фигуры в этом долгом — длиною в жизнь — танце?
Первым появляется ученик выпускного класса привилегированной школы Кеннет Уидмерпул. Неуклюжий, нескладный, в очках, он упорной, ровной трусцой бежит по мокрой дороге под моросящим декабрьским дождем. Вслед за ним на сцену выступают три товарища: Николас Дженкинс, Чарлз Стрингам и Питер Темплер, ученики той же школы, все трое немного моложе Уидмерпула. Жизненный путь этих четырех героев пройдет в романах цикла либо до конца, либо почти до конца.
Кеннет Уидмерпул — постоянный и, пожалуй, основной сатирический персонаж комедии Поуэлла. Это человек, устремленный к самой верхушке социальной лестницы. На протяжении двенадцати томов читатель наблюдает, как он движется к своей цели. В заключительном романе («Тайные гармонии», 1975) он уже член палаты лордов. Вершина как будто бы достигнута. Но для неуемного честолюбия Уидмерпула этого мало. Жажда успеха и популярности приводит его в молодежную «коммуну». Дикие обряды, унижения, издевательства — все терпит почти семидесятилетний Уидмерпул в надежде вырвать лидерство у молодого главаря «коммуны». И вот седой старик бежит впереди толпы обнаженных, одурманенных наркотиками юнцов и с криком: «Я — первый, я впереди» — падает мертвым. Странный конец? Да, но вспомним название цикла. Трагический гротеск вполне уместен и логичен в художественной системе комедии Поуэлла.
Антипод Уидмерпула, красивый, умный, ироничный Чарлз Стрингам, излучает обаяние, подобно юным героям Шеридана. Но какой-то червь точит его. Периоды глубокой меланхолии чередуются у Чарлза с приступами странного озорства. В нем есть какая-то внутренняя нежизнеспособность, обреченность. Поступив в университет, он вскоре бросает его. Служба в Сити, так же как и женитьба, кончаются для него крахом. Стрингам становится алкоголиком. Дальнейшая жизнь его — чередующиеся периоды запоя и лечения. После окончательного излечения он идет в армию рядовым. В этом качестве мы увидим его в романе «Искусство ратных дел». Позднее Стрингам погибнет в японском лагере для военнопленных в Малайе.
Совсем иначе чувствует себя в жизни несколько фатоватый, очень красивый и самоуверенный Питер Темплер. Этому «слишком хорошо одетому» молодому человеку абсолютно все ясно и в настоящем и в будущем: цель и смысл жизни — деньги и женщины. Его устремления однообразны, мысли стандартны, поступки запрограммированны. Поэтому быстро исчерпывается его дружба с Николасом Дженкинсом.
Николас Дженкинс, от лица которого ведется повествование, после окончания школы поступает в университет, затем работает в издательстве и становится писателем. Во время войны он вступает в армию и на шесть лет прерывает литературную деятельность, а в послевоенные годы возвращается к занятиям литературой.
Николас Дженкинс, несомненно, во многом похож на автора и близок ему. И все же отождествлять героя с автором не следует, во-первых, потому, что автопортрет художника всегда образ, а не фотография, во-вторых, роль рассказчика неизбежно трансформирует этот образ, а кроме того, Николас Дженкинс — персонаж комедии. В первых частях повествования он выступает в роли «простака»: подчеркнутая и гиперболизированная наивность героя-рассказчика позволяет читателю увидеть странное в обычном, открыть комические противоречия мира, в который вступает юный Николас Дженкинс. Но чем дальше, тем больше наивность наблюдателя сменяется проницательностью, способностью почувствовать глубину мотивов за поверхностью поступков. А в последних томах жизнь предстает с точки зрения человека, умудренного годами, умеющего понять, но далеко не всегда и не во всем склонного простить своих современников. Его трезвый, ироничный и в то же время гуманный взгляд на мир Поуэлл утверждает как справедливый.
Профессия Николаса Дженкинса вводит его в круг людей искусства. На страницах книг цикла появляются композитор Хью Морланд, его жена актриса Матильда Уилсон, музыкальный критик Маклинтик, художники Дикон и Барнби, журналист Куиггин, издатель Крэггс, писатель Трэпнел и многие другие. Некоторых персонажей этого круга мы увидим в романе «Искусство ратных дел».
Николас женится на девушке из аристократической семьи Изабелле Толланд. В «Танец под музыку Времени» включается многочисленное семейство Толландов. С частью этого семейства читатель встретится в романе «Поле костей».
Социальный диапазон комедии Поуэлла довольно широк — от углекопа до промышленного магната и принца в изгнании (всего в цикле более двухсот персонажей). Но большинство действующих лиц принадлежит либо к различным слоям «среднего класса», либо к артистическим и литературным кругам. В поведении «танцующих» под музыку Времени фигур проступают определенные закономерности, а за ними просматриваются свойства того общества, к которому они принадлежат.
Не случайно два из романов о молодости главных героев цикла озаглавлены «Рынок» и «Кредит». Молодые люди определяют свою цель на «рынке» жизни, пути ее достижения и цену. Они стараются подороже «продать себя» за место на служебной и социальной лестнице. Оправдается ли полученная ими профессия или должность, они заранее не знают, потому-то это не просто «рынок», но еще и «кредит» — но так или иначе это купля-продажа. То же самое происходит на балах — ярмарке женихов и невест. Нет, речь идет не только о деньгах — красота, обаяние, привлекательность тоже имеют свою цену. Во всяком случае, брак предстает как «дело», в конечном счете — сделка. Постепенно из множества деталей, реплик, диалогов, комических эпизодов складывается картина этого торжища.
Какой тип человека формируется этой средой? Кто побеждает, кто терпит поражение, кто выигрывает, кто теряет?
Среди победителей — Кеннет Уидмерпул. Среди тех, кто терпит поражение, — Чарлз Стрингам.
Уидмерпул — тип современного буржуазного дельца и политикана, сатирический символ хваленой «динамичной личности», всех тех свойств, которые нужны, чтобы преуспеть. Ирония Поуэлла, в сущности, ставит под сомнение шкалу ценностей буржуазной морали.
Чарлза Стрингама тяготит его окружение, его среда. Плоть от плоти, кость от кости «среднего класса», он не выдерживает его хищного эгоизма, не приспособлен к нему. Стрингаму всюду плохо — в привилегированной школе, в богатом доме матери, в Сити, в фамильном замке жены, в роскошных апартаментах знаменитой по обе стороны Ла-Манша любовницы. Почему? В чем причина его «меланхолии»? (Поуэлл употребляет это слово в том широком смысле, какой придавал ему английский писатель и философ XVII века Роберт Бертон, автор знаменитого трактата «Анатомия меланхолии», который не раз упоминается в цикле.) Только ли в нем самом причина? По-видимому, нет, если хоть какое-то душевное равновесие и спокойствие он находит, вступив рядовым солдатом в армию.
В сатире Поуэлл предпочитает внешнюю сдержанность, ювеналов бич — не его метод. Поуэлл умеет почувствовать драматизм человеческих отношений за как будто бы незначительными поступками, словами, событиями. Ирония, как проявитель, делает видимыми эти скрытые конфликты, в первом приближении комические, по мере углубления в их сущность — драматические или даже трагические. Такова история отношений Чарлза Стрингама и его матери.
Искусством иронии Поуэлл владеет виртуозно. Ирония — способ проникнуть в человеческий характер, ирония освещает взаимозависимость психологии людей и их места в обществе. Так, мать Стрингама Эми Фокс с головы до пят — очень богатая женщина. Ее деспотизм, властность, своеволие — проекция «больших денег».
В одной из книг цикла Поуэлл как бы вскользь замечает, что «обладание деньгами может стать такой же неотъемлемой частью человека, как нос на лице». Ни авторского комментария, ни оценки людей, для которых деньги стали частью их личности, в тексте, разумеется, нет, но читатель может «своими глазами» увидеть, каковы они, эти люди.
Мастерски сделан портрет промышленного магната сэра Магнуса Доннерса. Ничего плохого о нем как будто бы не сказано: красив, умен, энергичен, — но почему-то чем дальше, тем больше этот человек вызывает страх и отвращение. Какие-то детали внешнего облика и поведения, поначалу даже не зафиксированные сознанием, заставляют читателя почувствовать внутренний холод, презрение к людям, скрытую жестокость сэра Магнуса. И вот что важно: большинство этих примет обесчеловеченности воспринимаются как атрибут «капитана индустрии», то есть как непременное, необходимое условие для того, чтобы стать и быть «магнусом».
Автор несколько раз замечает, что было бы ошибкой не видеть силу воли, силу характера, энергию людей Сити. Но он показывает ограниченность этой силы, ее механическую однолинейность. Сити иссушает душу, даже люди от природы одаренные что-то безнадежно утрачивают, лишаются каких-то важных свойств личности.
Людям Сити в романах цикла противостоят люди искусства. Противопоставление это, разумеется, не новое, но ни в какой мере не утратившее своей оправданности. Автор хорошо знает этот круг и не скрывает его теневых сторон. Но люди искусства у Поуэлла при всех их слабостях сохраняют истинную человечность. Художники Дикон и Барнби, писатель Трэпнел и особенно композитор Морланд воплощают для автора творческое начало. Работа — всегда, при любых обстоятельствах, творчество как смысл и цель жизни — вот в чем великое преимущество художника перед людьми бизнеса.
Враждебность современного «общества потребления» искусству раскрывается в романе «Книги для мебели» (1971). Именно здесь Поуэлл скажет, что даже в то время, когда имя писателя повторяется во всех газетах, он может быть вынужден выпрашивать деньги взаймы, чтобы не умереть с голоду до следующей книги.
Не обходит ирония Поуэлла и опасность «соблазнов» коммерческого искусства, разрушительного для таланта художника стремления угождать читателю или зрителю. В том или ином виде, в той или иной мере противоречие бизнес — искусство присутствует почти во всех книгах цикла.
Над героями комедии Поуэлла, что бы с ними ни происходило, возвышается грозная фигура Времени. Понятие Времени у Поуэлла многозначно: это и рок, управляющий людьми, определяющий их судьбы, и естественная смена «времен года» в жизни человеческой, и конкретно-исторические обстоятельства. Жизненные судьбы героев цикла прямо или косвенно связаны с историей Англии на протяжении более полувека. Людей одного поколения, утверждает автор, сближает дух времени, Zeitgeist. Поуэлл пользуется немецким словом, подчеркивая тем самым важность этого историко-философского понятия.
Связь времен — один из важнейших мотивов цикла Поуэлла. Все повествование строится как глубоко продуманная многоступенчатая система воспоминаний, как система перемещения во времени. В романах Поуэлла — и это естественно при его понимании истории и времени — множество исторических реминисценций и ассоциаций, художественно оправданных и по существу актуальных. Особенно притягателен для автора «Танца под музыку Времени» семнадцатый век. Художники этого века очень остро ощутили могущество Хроноса. И снова о Времени и его могуществе задумались художники века двадцатого.
Время конкретно-историческое и время в масштабе космическом, жизнь поколения и жизнь человечества, диалектика частного и общего в истории и во времени — все эти вопросы пульсируют в искусстве нашего века. Их художественное исследование, поиски их решения мы находим и в «Танце под музыку Времени».
В начальных романах цикла главным историческим событием для его героев остается первая мировая война. На рубеже двадцатых — тридцатых годов между теми, кто участвовал в войне 1914–1918 годов, и теми, кто «опоздал», пролегла пропасть, они старше или моложе «на войну». Но по мере приближения второй мировой войны разрыв между поколениями постепенно сходит на нет. Первая мировая война на глазах у поколения героев Поуэлла уходит в историю.
И все же прошлое не исчезает, не тонет в Лете, из прошлого вырастает настоящее и будущее. Примечательно, что начало первой и второй мировых войн описано у Поуэлла в одном романе («Эвмениды»). Время между войнами как бы сгущено. Однако история не предстает в романе Поуэлла как вечный круговорот одних и тех же событий — ничто не повторяется так, как было.
В отличие от мировой войны 1914–1918 годов вторая мировая война не обрушивается на героев Поуэлла внезапно, она надвигается медленно, ее свинцовая тень нависает над Англией задолго до ее начала.
Можно ли было предотвратить войну? Автор не дает однозначного ответа на этот вопрос. Если одни герои книги утверждают, что колесницу Марса остановить невозможно, то другие убеждены, что Гитлера можно было своевременно обуздать. Существенно уже то, что этот вопрос вообще ставится, что он дискутируется. Противоречие между фатализмом и реализмом в понимании исторических событий, трезвой и проницательной их оценкой видно во всех романах цикла.
И вот наступает пора испытаний и тягот войны. Время действия романов «Поле костей» и «Искусство ратных дел» — начальный период (1939–1941) второй мировой войны. Место действия — Англия и Северная Ирландия, отделенные морем от полей сражений. Романы Поуэлла нельзя назвать военными романами в собственном смысле слова: в них нет войны как таковой, в них представлены люди во время войны, но не люди на войне.
Конец 1939 — лето 1940 года. Николас Дженкинс — второй лейтенант территориальных войск. Учения, марши, инспекции, переброска в Северную Ирландию, появление в части новых людей, перемещения и назначения — будничная жизнь батальона. А заглавие романа — «Поле костей» — взято из Библии, из легенды о том, как из мертвых костей по воле бога встало могучее войско. Этот библейский текст, который приводит в своей проповеди полковой священник, иронически контрастирует с прозой армейских будней, описанных в романе.
Однако ирония автора имеет и более глубокий смысл: как случилось, что английская армия оказалась «полем костей»? Поуэлл не дает прямого ответа на этот вопрос, да вряд ли и мог его дать. Но вот что говорит один из персонажей: «…еще могут нас послать на помощь Финляндии, не с немцами драться, а с русскими». Действительно, правительства Англии и Франции в это время готовили экспедиционный корпус для участия в советско-финляндской войне, вместо того чтобы вести решительные боевые действия против фашистской Германии. Короткая реплика приоткрывает истинные причины того, с чем столкнулись герои романа. Если правительство все еще колеблется, против кого вести войну, армия становится «полем костей».
Правда, рядовые солдаты (и это совершенно ясно в книге Поуэлла) не сомневаются в том, кто их враг. Но они находятся в армии, которая по-настоящему не воюет. В романе передана гнетущая атмосфера «странной войны», войны без активных боевых действий, которая была продолжением мюнхенской политики реакционных правящих кругов Англии, Франции и США. «Странная война» сбивала людей с толку, тяготила и в то же время расслабляла. И все-таки убежденность рядовых англичан в том, что фашизму надо дать отпор, не только сохранялась, но и усиливалась. Но пока в правительстве Англии берут верх реалистически мыслящие политики, пока происходит смена офицеров — высших и средних, пока армия переучивается, время идет. На континенте фашистские армии захватывают одну европейскую страну за другой.
Напряжение этого трагического времени подспудно нарастает в романе Поуэлла. Известия о вторжении немецких войск в Норвегию и Данию, об оккупации Голландии, капитуляции правительства Бельгии, о Дюнкерке зловещими аккордами прерывают линию батальонного быта. Оканчивается роман сообщением о вступлении немцев в Париж.
В рамках всемирно-исторической трагедии разыгрывается «локальная» комедия. Это частный эпизод в процессе превращения английской армии из «поля костей» в войско — замена малокомпетентного, оказавшегося не на своем месте офицера другим. Случайное выступает как некая проекция необходимого, комический конфликт порожден историческими обстоятельствами. В то же время эта комедия — часть «человеческой комедии» Поуэлла. Как и в других книгах цикла, автора прежде всего интересует психология людей.
Перед нами командир роты капитан Роланд Гуоткин. Само несоответствие между поэтическим именем и прозаической фамилией уже заключает в себе иронию. Роланд Гуоткин — своего рода «романтик армии». Бывший банковский служащий, он видит в армии избавление от рутины повседневности, путь к славе, воплощение всего яркого и блестящего. В его представлениях об армии, да и о жизни, большая доля наивности. Единственная книга, с которой Роланд никогда не расстается, — сборник рассказов Киплинга; единственные стихи, которые он помнит, — стихотворение из рассказа о римском центурионе. Требовательность Гуоткина к подчиненным, вера в святость приказа, устава, субординации доходят до фанатизма. Но настоящей силы характера у него нет, эмоции захлестывают его. Когда в Ольстере Гуоткин влюбляется в дочь владельца пивной, в его романтическом сознании она превращается в новую Дульцинею. В конце концов он терпит сокрушительное поражение и в любви, и в карьере.
Как во всякой хорошей комедии, комическое переходит в драматическое. Крушение Гуоткина неизбежно и неотвратимо. Иллюзии — вот что в первую очередь губит его. Но именно романтические иллюзии, благородный идеализм делают Роланда Гуоткина личностью незаурядной. Автор прямо говорит об ограниченности, односторонности приземленного реализма. В своем идеализме герой книги и не прав — непосредственно, и прав — в более широком, более общем философско-этическом плане. Роланд Гуоткин Поуэлла пополняет галерею английских донкихотов, излюбленных героев английского комического романа.
Как обычно у Поуэлла, сюжетный стержень скрыт в толще романа, среди множества эпизодов, сцен, диалогов, в которых с иронией, часто с комической стороны представлена жизнь батальона.
Ироническая деромантизация условного, ложно возвышенного образа армии в конечном счете связана с отрицанием милитаризма. Этой же цели служат исторические реминисценции. В романе, настойчиво повторяясь и усиливаясь, звучит мотив средних веков. Война возвращает людей к «тоске средневекового быта», а может быть, и шире — к жестокости и варварству средних веков. С другой стороны, война, армейская жизнь, по мысли автора, своего рода доказательство того, что средневековье, увы, еще не кончилось.
Ирония писателя «снимает», разрушает любую поэтизацию войны и милитаризма. Однако война против гитлеровской Германии предстает в романе как безусловная и абсолютная необходимость.
Автор ни в какой мере не ставит под сомнение необходимость выполнять воинский долг — стоически, трезво и без иллюзий. В этом плане особенно важны в романе образы людей из народа.
Если офицеры части в большинстве своем — бывшие банковские служащие, то солдаты и сержанты — шахтеры. Капрал Гуилт, сержант Пендри, капрал Гиттинс, «непутевый» Сейс, Глухарь Морган, ротный старшина Кадуолладер — очень разные, живые и убедительные характеры. Эти персонажи не лишены слабостей, но авторская ирония по отношению к ним никогда не становится жестокой и язвительной, а холодновато-остраненные интонации рассказчика сменяются теплыми, сочувственными. Особое уважение вызывает у рассказчика ротный старшина Кадуолладер. Человек долга, человек большого внутреннего достоинства, всегда готовый взять ответственность на себя — таким предстает в романе Поуэлла простой человек, рядовой труженик.
Вот эти надежные, без романтической позы и фраз выполняющие свои нелегкие обязанности люди вынесут на своих плечах всю тяжесть предстоящих Англии испытаний. Не случайно впоследствии майор Дженкинс встретит свою бывшую часть во Франции во время наступления союзников. Библейский образ, приведенный в романе, имеет у Поуэлла и позитивный смысл как символ Англии, символ мужества и стойкости ее народа.
Герои романа «Поле костей» не сталкиваются с врагом, не видят его. Германский фашизм непосредственно предстает в книге только один раз, в виде пропагандистской передачи немецкого радио на Англию. В этом отрывке видно, сколько ненависти и презрения может содержать в себе внешне сдержанная ирония писателя.
Впервые в повествовании герои Поуэлла оказались вместе с народом. «Как миллионы других, я…» — говорит о себе Николас Дженкинс. В этой книге писателю удалось воплотить чувства великого множества людей, ощутить «дух нации». Именно поэтому роман «Поле костей» стал одной из тех книг, которые читала «вся Англия».
1941 год. Николас Дженкинс — командир взвода противовоздушной обороны при штабе дивизии и одновременно секретарь и помощник майора Уидмерпула. Снова он испытывает то же, что пережили в то время миллионы людей в Англии, — беспощадные, опустошительные бомбежки фашистской авиации. Небо над Англией долгое время оставалось грозным. Велики были разрушения, велики были жертвы, особенно среди гражданского населения. Но велики были в это трудное время выдержка и твердость английского народа. Вот это время звучит в романе «Искусство ратных дел».
Герои книги находятся вдали от театра военных действий в Западной Европе. Но сама метафора — «театр военных действий» — приобретает в романе Поуэлла особое значение. «…Снова поднялся над миром занавес этого исстари любимого спектакля под названием „Война“», — с невеселой иронией замечает рассказчик. В дальнейшем автор не раз вернется к образу войны-пьесы, войны-театра.
В этом зловещем «спектакле», по мысли автора, проявляется трагическое неразумие человечества. Поуэлл, однако, не становится на точку зрения абсолютного, абстрактного пацифизма. Убежденность в необходимости разгрома фашизма постоянно чувствуется и в этом романе.
Роман «Искусство ратных дел» оканчивается в тот момент, когда герои его узнают о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Реакция персонажей на это известие совершенно различна. Николаса Дженкинса охватывает чувство громадного облегчения и уверенности, что «все будет хорошо». Эти чувства героя-рассказчика вызваны не столько мыслью о том, что война с Россией отвлечет основные силы немецкой армии, сколько сознанием того, что теперь, когда Советский Союз вступил в войну, поражение фашистской Германии неизбежно. Не все разделяют уверенность Дженкинса. «Немцы управятся там в три недели», — говорит кадровый офицер полковник Педлар.
Отточенная ирония Поуэлла здесь снова глубоко проникает в суть вещей. Речь идет, конечно, не только о проницательности автобиографического героя романа и слепоте его оппонента. Такие представления о Советском Союзе и Красной Армии, как у полковника Педлара, были в то время распространены не только среди военных, но и в английских правящих кругах. Вот что пишет в своей известной книге «Секрет Черчилля» греческий журналист Э. Дзелепи[1]: «Вначале Черчилль полагал, что выигрыш Англии в военном отношении в результате вступления в войну Советского Союза будет, скорее всего, кратковременным. Он считал (как почти все в тот период), что Красная Армия едва ли выдержит натиск вермахта более нескольких недель».
Однако рядовые англичане верили в Советский Союз, в его способность разбить войска агрессора. Чувства героя Поуэлла были чувствами большинства его соотечественников.
Война в романе Поуэлла вырывает людей из нормальной жизни, заставляет их выступать в совершенно несвойственной им роли. В новых обстоятельствах встречаются три постоянных героя «Танца под музыку Времени»: Николас Дженкинс, Чарлз Стрингам, Кеннет Уидмерпул. В этих критических обстоятельствах — хотя речь идет не о предельной ситуации, на грани жизни и смерти, — выявляется подлинная сущность человека, обнажается сердцевина характера.
Для писателя Николаса Дженкинса роль командира взвода, конечно, необычна и непривычна. Но Дженкинс оказывается хорошим офицером, ибо в его характере есть основа для такого поворота судьбы. Но кто бы мог подумать, что нескладный, нелепый Уидмерпул станет штабным офицером, а утонченный Чарлз Стрингам — официантом в офицерской столовой!
Однако Стрингам относится к своей новой роли совершенно спокойно и не считает себя униженным. Он вступил в армию без всяких эгоистических целей, с единственным желанием — быть полезным. А вот для Кеннета Уидмерпула война — этап карьеры, возможность сразу перескочить через несколько ступеней.
В названии романа обыгрываются строки из Роберта Браунинга:
Должна ведь мысль предшествовать удару — Так нам велит искусство ратных дел.Смысл заглавия не однозначен, но все-таки ирония заключается в том, что в первую очередь «мысль предшествует удару» у расчетливых карьеристов вроде Уидмерпула.
«Искусство ратных дел» предстает в романе Поуэлла в двух аспектах — и как всепоглощающее служение делу, и как искусство карьеры, мастерство интриги, хитросплетения бюрократизма. Второй, сатирический, аспект преобладает.
Чем выше поднимается герой-рассказчик по служебной лестнице, тем больше простора открывается для его иронии. Проза армейской жизни на уровне штаба дивизии вызывает более язвительную насмешку, чем жизнь части в предыдущей книге. Сатира Поуэлла в этом романе набирает силу.
Пробивные дельцы Уидмерпул и Фэрбразер, с успехом применяющие в армии те же методы, что и в Сити, самодур и тупица полковник Хогборн-Джонсон, озлобленный грубиян Бигз, алкоголик Бител, бюрократ Диплок, подхалим и лизоблюд Коксидж — все они написаны по-разному и в то же время в одном ключе. В центре этого хоровода масок, смешных и жутковатых, — Кеннет Уидмерпул. В сатирическом образе Уидмерпула сконцентрирована обесчеловеченность рвущегося к власти честолюбца и интригана.
Одна из самых комических сцен романа — обед командования во время учений. Примечательно сравнение его участников с изображениями древнеегипетских божеств, жрецов, рабов, прислужников.
Внутренний ток сюжета возникает между двумя сатирическими полюсами — Уидмерпулом и Хогборн-Джонсоном. Одна из линий конфликта комична уже по своей бессмысленности: и тот и другой безуспешно добиваются назначения «своего» кандидата на вакантную должность, не имеющую к ним никакого отношения. Вторая линия конфликта — разоблачение любимца Хогборн-Джонсона мошенника и казнокрада Диплока.
За мелкими стычками открываются психологические мотивы. Успешно пробивающийся к большой карьере Уидмерпул презирает неудачника Хогборн-Джонсона, а тот в свою очередь отвечает ему ненавистью, в значительной мере оправданной. Сквозь комический конфликт проступает драма жизни, смешное наводит на грустные размышления.
Как и в предшествующем романе, это комедия в рамках исторической трагедии. «Франция разбита; Европа оккупирована; мы под непосредственной угрозой вторжения; Лондон подвергнут „блицу“ — усиленным бомбежкам».
В начале романа Поуэлл рисует картину бомбежки, озаренную мрачными отсветами ада. Эти зловещие отблески царства Плутона освещают все повествование. Читатель видит трагический парадокс действительности того времени: в городах Англии война чувствуется сильнее, чем в армии. Особенно остро ощущает Дженкинс, что такое война, во время отпуска в Лондоне.
Лондон во время налета фашистских бомбардировщиков написан скупыми красками, лаконично и сдержанно. Но за этой сдержанностью чувствуется боль и горечь. И уважение к людям, единственное оружие которых — сила духа.
В главе о Лондоне появляются старые герои цикла: композитор Морланд, миссис Маклинтик, эстрадный певец Макс Пилгрим, свояченица Дженкинса Присилла, ее муж Чипс Лавелл, известный по предыдущему роману Одо Стивенс. Критические ситуации и здесь выявляют характеры. Любимец публики, автор и исполнитель легкомысленных шлягеров Макс Пилгрим в минуту опасности оказывается человеком незаурядного мужества и хладнокровия.
В событиях романа все явственнее выступает трагическая ирония судьбы: желание Дженкинса избавить прежнего школьного товарища от издевательств капитана Бигза приводит к роковому для Стрингама назначению, а сам Бигз почти в то же самое время кончает с собой; решающий разговор Присиллы и ее мужа так и не состоится — по странному совпадению оба почти одновременно погибают во время немецкого налета; знаменитая «львица» Бижу Ардгласс празднует свое сорокалетие — и она и ее гости убиты прямым попаданием бомбы; наконец, заключительная фраза книги сообщает о гибели художника Барнби.
Все эти совпадения и случайности в конечном счете не случайны — они определяются Временем. В музыке Времени звучат трагические мотивы, подчиняя себе человеческие судьбы. Однако Время у Поуэлла не лишает человека свободы выбора, не снимает с него ответственности. Время ставит человека перед выбором, испытывает его нравственную стойкость.
Вера в достоинство человека, в его способность сохранить человечность во всех превратностях жизни, выдержать жестокую игру Времени — в этом гуманистический пафос книги Энтони Поуэлла. В то время когда на Западе усиливается дегуманизация искусства, слово писателя-гуманиста особенно важно и ценно. Гуманизм определяет антифашистское и антимилитаристское звучание романов «Поле костей» и «Искусство ратных дел».
И проблемы, и структура, и язык романов Поуэлла очень современны. В то же время его книги успешно продолжают традицию английской классики. Э. Поуэлл — подлинный художник, причем художник четко очерченной индивидуальности. Он принадлежит к тем писателям, которых можно узнать по одному абзацу, одной фразе. В цикле «Танец под музыку Времени» в особом «поуэлловском» ракурсе предстает страна, история, люди. Энтони Поуэлл по-своему увидел Время, услышал шаги Времени.
М. ГордышевскаяПоле костей
Anthony Powell
The Valley of Bones
London 1964
1
Снег, выпавший вчера, местами не стаял еще, и воздух утра был студён. Улицы были пусты в этот час. Кедуорд и ротный старшина шли в полумраке бодрым шагом, как в строю, один справа, другой слева от меня. Несколько лет назад — в ином, давнем, дальнем, более привольном земном существовании — я побывал уже в этом городе, заезжал сюда с ночевкой, чтобы взглянуть на местность, где мои деды жили столетье-полтора назад. Один из них (порядочный, должно быть, шалопут — не от него ли дядя Джайлз унаследовал свои шальные качества?) спустился сюда, к морю, в западный Уэльс, чтобы жениться, а в приданое взял небольшое поместье над бухтой на этом пустынном, глухом берегу. Годы и непогоды оставили от дома один фундамент. Я постоял там; внизу, под обрывами, волны Атлантики беспрестанно гасли на каменных нагромождениях взморья и беспрестанно набегали снова, дымясь зеленоватой пеной. «Все вновь и вновь накатывает море», — как любил, бывало, мой друг Морланд цитировать из Поля Валери; по-моему же, этот вид накатывающих валов слишком эффектно-театрален для повседневного потребленья. Затем мои предки переселились на травянистый полуостровок неподалеку, где море, сужаясь эстуарием, вдается глубоко в сушу. Мохом и плющом покрыло там разрушенные стены, густой дождь застилал от меня лишенную крыши развалину. В окрестной церкви белела мраморная мемориальная доска. Вот и все вещественные памятки. Сам город мне почти не запомнился. Улицам его, легшим на разных уровнях по косогору, не откажешь сейчас в хмурой прелести — мерещится, будто идешь по зимнему Толедо в одной из картин Эль Греко или по тосканскому холмяному городку, какие бывают изображены — без особого почтения к перспективе — на заднем плане портретов кватроченто. И все время неотвязно почему-то чувствуется близость моря. Строка о вечном набеганье морских волн вызывает в мозгу тысячу бегучих образов, обрывки стихов, фрагменты живописи, забытые мелодии, пеструю сумятицу воспоминаний — все что угодно, кроме лишь того, что тебя сейчас должно заботить. Пытаешься встряхнуться, и снова забываешься, шагая.
Хоть жили здесь всего лишь два или три поколения нашего рода, но есть некая уместность, даже перст судьбы, в том, что я, со звездочкой второго лейтенанта, прибыл теперь на те самые берега, откуда отчаливал не один мой юный родственник, чтобы стать безвестным офицером морских войск или отрядов Ост-Индской компании, весьма рискуя в свои двадцать лет упокоиться на кладбище Бомбея иль Майсура. Я был не слишком удивлен, когда сам попал в ту же упряжь — я готов к ней, так сказать, потомственно и военную лямку надел с определенным облегчением. Однако какие бы традиции ни связывали меня со здешними местами, а ничем не опровергнуть высказанного Бонапартом убеждения (опять мысль моя оперлась на французскую цитату): «После тридцати способность воевать слабеет в человеке». Вот именно, в точности относится ко мне. Возможно, и у моих родичей бывали на военном поприще препоны. Во всяком случае, за четыреста — пятьсот последних лет никто из них не блеснул карьерой. В средние века воевалось им успешнее; каким невероятным ни кажется это теперь, сквозь сумбур кельтских родословных, а даже и поцарствовал наш род в седую старину в здешнем южноваллийском королевстве, столько раз переходившем из рук в руки. Любопытно, что за люди были эти мои пращуры; под настроение способны были, уж конечно, и выколоть глаза, и оскопить. Бледное, загадочное солнце отсвечивает на золотых венцах, окольцевавших боевые шлемы, — а сами царственные воины становятся все зыбче и бесплотней и уходят в светлую мглу, в облачное обиталище таких совсем уже геройски-легендарных личностей, хоть и вроде бы исторических, как Ливарх Старый — недовольный гость за Артуровым Круглым столом — и Кунедда (с ним, правда, родство у нас всего по женской линии), чья конница стояла стражей на валу Адриана. Почему-то именно британский кельт Кунедда приходил сейчас на ум. Он изгнал ирландцев, побив немалое число их, — возможно, по прямому повеленью полководца Стилихона, вандала, едва не севшего на римский трон. Я задумался над этой возможностью, а мы всходили уже, не сбиваясь с ноги, на крутой и скользкий мощеный бугор. Там, за остриями пик ограды, стояло здание из серого камня — храмина, молельня, спящая в ледяном полусумраке. Между тяжких колонн портика — высеченный в камне свиток с надписью:
САРДЫ
1874
Четко приставив ногу, Кедуорд остановился у входа. Остановились и мы со старшиной. Улицей пронесся шумный порыв ветра. В льдистом воздухе взвыли, приглушенно и вместе тревожно, боевые рога Кунедды, летящего в далеких тучах.
— Здесь разместили нашу роту, — сказал Кедуорд. — Сейчас представим вас Роланду.
— Он не спускался ужинать вчера вечером?
— Заходил после вас. Он был занят поверкой — эту неделю он дежурит.
Вслед за Кедуордом я прошел грозный портал молельни (Сарды — одна из семи перечисляемых в Апокалипсисе малоазийских церквей, вспомнил я) и точно в пещере очутился — тут было темней, чем на улице, хотя чуть потеплее. Старшина скомандовал «смирно» безлюдно-тихому и жутковатому сумраку помещения, где не развеялся еще спертый дух солдатского ночлега, сдобренный запашком неисправных газовых горелок.
— Вольно! — в свою очередь скомандовал неясно кому Кедуорд. Он уже говорил мне, что роту, «как обычно, черт подери, на неделю заняли на хозработах». Трудно было разобрать, что окружает нас в этом мире теней, угрожающе косых, как на рисунках Домье. Мерцали посреди два тусклых язычка голубоватого, едко пахнущего газа и беспрерывно искажали и ломали очертания у мглистой массы каких-то пирамид и кубов. Постепенно ближние к нам контуры оформились в неровные ряды двухэтажных коек, толсто застланных бурыми одеялами. Затем из глубины пещеры — точно с невидимого клироса заславословив — звучно взреял густой мужской голос в щемящей душу жалобе:
Влюбился я, когда Вечерняя звезда Уже лучилась. А нигде ведь не было Ковбою веселей, Чем за рекою, в Мексике, На земле твоей…Я понял, что поет казарменный дневальный; второй дневальный, вынырнувший из мглы в шаге от меня, подхватил «Чем за рекою…», рьяно орудуя шваброй, как дирижер палочкой, и, кончая припев, грохнул ею по деревянным ножкам койки.
— Полегче там, полегче, — гаркнул старшина, к пению отнесшийся терпимо. — Разгромыхались!
Глаза уже привыкли к сумраку, и на стенах проступили громадного размера готические буквы, рдея, чернея, золотясь в мерцании горелок, — возник словно бы сам собой разворот гигантского тома высоко над каменным полом, как роковые письмена на Валтасаровом пиру:
Впрочем у тебя в Сардах есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
Откр. III. 4— А койки не все застланы как положено, — сказал Кедуорд. — Так ведь не годится, старшина.
Он говорил строго, как бы в тон апокалипсическому осуждению недостойных. Хотя Кедуорд заверил меня, что ему скоро двадцать два, но он походил на мальчугана, который потехи ради вырядился офицером и для пущего эффекта намазал себе жженой пробкой усики. По виду он годился старшине в сыновья, почти во внуки. Но в то же время был в Кедуорде мальчишеский форс, детская важность, по-своему внушительная и заставляющая подчиняться.
— Это из новеньких, не все они учены застилать по-нашему, — осторожно пояснил старшина.
— Взгляните вот на эту. И на те.
— Думалось, ребята уже поднаторели.
— В жизни не видел такого непорядка.
— Персидский базар, прямо скажем, — согласился старшина.
Бритолицый, с сурово-пуританской внешностью «железнобокого» кромвелевского ветерана, как их рисовали в прошлом веке романтические иллюстраторы авантюрно-исторических повествований, ротный старшина был на деле не так уж и стар, да к тому же (как я выяснил со временем) вовсе не таких уж пуританских убеждений. Но валлийская его фамилия — Кадуолладер — звучала как имя вождя из тех полумифических времен, где я бродил мыслью минуту назад[2]: ни дать ни взять воин-герой с благородно-суровым лицом встал из гроба под древнее знамя с изображением дракона — явился на подмогу родной армии в военную годину. Как и все солдаты и сержанты батальона, он был шахтер. Гладкий его череп, совершенно безволосый, замысловато изузорен синей угольной пылью, въевшейся в кожу за годы подземного труда, — точно средневековый гороскоп (его же собственный, возможно) вытатуировали на этом охряного цвета темени. Грудь украшена ленточкой коронационной медали и еще одной, желто-зеленой, за долголетнюю службу в территориальной армии. Мы втроем не спеша пошли вдоль строя коек.
— Продолжайте уборку, — бросил Кедуорд дневальным. Те поняли окрик старшины как приказ вообще прекратить работу, покуда мы здесь, и стояли у стены, переминаясь и перешептываясь. Потом я их узнал поближе. Одного, невысокого, звали Джонс, а поскольку Джонсов, как и Уильямсов, имелось много, то прибавляли инициал Д. Он был совершенно белес, что составляло редкость в батальоне. Второй был Уильямс У. X. — брюнет, высокий, с пятнистым лицом. Снова энергично заработав швабрами, они сочли, что и петь разрешено: когда мы отошли в глубь помещения, Джонс Д. вернулся к роли запевалы, но запел уже сдержанней, подчиняясь, быть может, настроению куплета:
Ты, с кротостью в очах, Вся в белом, при свечах Христу молилась…Протяжные, грустные звуки оборвались. Я оглянулся, и мне показалось, что сам певец молится в склоненной позе, но это он нагнулся подмести под койкой. Потому он и песню прервал — или, возможно, сделал эту краткую паузу, залюбовавшись мысленно виденьем юной девушки в легких одеждах, блистающе белых, как у сардийских праведников; мир, чистоту, близкую радость сулил этот образ, такой далекий от казарменной угрюмой затхлости. Джонс выпрямился, и голос взлетел с обновленной и страстной тоской:
А колокол гнал меня: «Уходи, не смей Оставаться в Мексике, На земле моей…»Горестный тон певца подчеркивал жестокость колокольного запрета, неумолимость жизненного распорядка, призрачность любви и наслаждения. Еще звучал припев, а уже в другом конце зала раздались тяжелые шаги, точно силы властей предержащих надвигались, чтобы изгнать несчастливца влюбленного из церкви, из сладостной Мексики. От дверей шли к нам два человека. Нагнувшись над одной из коек, Кедуорд и старшина критически оценивали многообразье безобразия ее застилки. Я повернулся, вгляделся в идущих. Офицер в сопровождении сержанта. В чине капитана, небольшого роста, черные усики, как у Кедуорда, но значительно гуще. Сержант молод, высок, широкоплеч, мясист, блондинист — несомненно, еще один образчик бритта-воина; своими ярко-синими древнебританскими глазами напоминает моего знакомца Питера Темплера. Пение стихло опять, но маленький капитан уперся негодующим взглядом в койки.
— Старшина, почему не командуете «смирно», когда входит ротный командир? — спросил он резко.
Кедуорд и Кадуолладер поспешно вытянулись, поприветствовали. Я — тоже. Капитан жестко отдал нам честь, подчеркнуто задержав руку у козырька.
— Виноват, прощенья просим, — гаркнул старшина ретиво, но не слишком, видимо, пугаясь рассерженного своего начальника. — Не углядел вас, сэр.
Кедуорд сделал шаг вперед, как бы на выручку старшине.
— Капитан Гуоткин, это мистер Дженкинс, — сказал Кедуорд. — Он прибыл вчера, назначен в роту.
Гуоткин сердито вперил в меня свои небольшие черные глаза. С виду он — возмужалая и слегка уменьшенная копия Кедуорда. Моего примерно возраста, на год, на два моложе… Поначалу почти все офицеры батальона мне казались на одно лицо: когда я накануне вечером явился в канцелярию, то сидевшие за столом рядышком Мелгуин-Джонс, начштаба, и Пэрри, его помощник, были неотличимы друг от друга как близнецы. Просто не верилось потом, что в людях таких разных могло хоть на минуту примерещиться мне какое-либо существенное сходство. Если внешне Гуоткин чем-то и напоминал Кедуорда, то как личности они очень разнились. Уже с первого знакомства на меня повеяло от Гуоткина чем-то новым, хотя и трудно определимым. Взять уж то, что была в его характере незаурядность. В повадке и движениях был некий стиль, проглядывало некое отличие от серой людской нормы, да только существует ли эта пресловутая серая норма?
— В банковском служащем или в трамвайном кондукторе серой нормальности столько же, сколько в Бодлере или Чингисхане, — заметил как-то Морланд. — Просто так сложилось, что кондукторов и служащих на свете больше.
Досыта насмотревшись на меня в мутной полутьме казармы, Гуоткин протянул мне руку.
— Ваша фамилия значится в распоряжениях по штатному составу, мистер Дженкинс, — сказал он неулыбчиво. — Начальник штаба также осведомил меня о вас. Добро пожаловать в нашу роту. Она станет у нас лучшей ротой батальона. Еще пока не стала. Я знаю, вы включитесь в наши общие усилия.
Свои весьма официальные слова Гуоткин произнес чуточку монотонно, голосом грубовато-повелительным и в то же время не вполне уверенным.
— Мистер Кедуорд, — продолжал он. — Что новоприбывшие бойцы — застлали свои койки как положено?
— Не все, — сказал Кедуорд.
— Почему не все, старшина?
— Сразу их не обучишь, сэр. Они не все еще приноровились. А ребята они славные.
— Славные или нет, а должны застилать как положено.
— Так точно, сэр.
— Проследите, старшина.
— Проследим, сэр.
— Осмотр оружия давно был?
— На построении в получку, сэр.
— Винтовки в роте все проверены?
— Проверены у всех, сэр, кроме Уильямса Т. — он убыл на курсы водителей-механиков и винтовку свою взял с собой, а также у Джонса Э. стригущий лишай, а Уильямс X. в увольнении, а те две, что я докладывал, что сержант-оружейник хочет посмотреть, и третью с заевшим затвором держу пока на ротном складе, как вы велели, и доведу до порядка. Да еще Уильямс Д. И. послан в бригаду на неделю, и винтовка с ним. Вот, пожалуй, и весь сказ, сэр.
Гуоткина этот сказ, должно быть, удовлетворил.
— Ротную ведомость кончили? — спросил он.
— Нет еще, сэр.
— К шестнадцати ноль-ноль должна быть подана мне, старшина.
— Подадим, сэр.
— Мистер Кедуорд.
— Сэр?
— У вас кокарда не вровень с верхним швом.
— Вернусь к себе днем — подровняю, сэр.
Гуоткин повернулся ко мне.
— Офицеры нашего батальона звездочки носят бронзовые, мистер Дженкинс.
— Начальник хозчасти сказал мне вчера, что к вечеру сегодня достанет нужные звездочки.
— Не забудьте взять их, мистер Дженкинс. Офицеры, одетые не по форме, подают дурной пример… Кстати, вот сержант Пендри. Он эту неделю дежурит со мной. Он будет вашим взводным сержантом.
Сержант Пендри улыбнулся широко и сердечно, его синие глаза блеснули, отразив огоньки газа и еще сильней напомнив мне молодого Питера Темплера. Сержант протянул руку, я пожал ее, не совсем уверенный, согласуется ли такая фамильярность с понятиями Гуоткина о дисциплине. Но в данных обстоятельствах Гуоткин, по-видимому, допускал рукопожатие. До сих пор он держался тона сурового — подчеркнуто сурового, хотя не слишком убедительного. Теперь же заговорил дружелюбнее.
— Ваше имя, мистер Дженкинс?
— Николас.
— Мое — Роланд. Как говорит наш командир, официальность хороша в строю. Мы ведь собратья-офицеры, одна семья. Так что вне службы я для вас — Роланд. А вы для меня — Николас. Мистер Кедуорд сказал вам, конечно, что его зовут Идуол.
— Сказал. Я так и зову его. Я вообще-то откликаюсь на сокращенье Ник.
Гуоткин прищурился на меня, как бы сомневаясь в значении слова «откликаюсь» и в том, годится ли младшему офицеру употреблять его в разговоре с ротным командиром, но промолчал.
— Идемте, сержант Пендри, — обратился он к своему спутнику, — хочу проверить ночные ведра.
Мы откозыряли, и Гуоткин отправился дальше исполнять свои обязанности дежурного по части — по части ночных ведер, непочтительно сострил я про себя.
— Прошло благополучно, — сказал Кедуорд так, как если бы исход знакомства мог быть и неблагополучным. — Не думаю, чтоб вы ему пришлись против шерсти. Что еще осталось показать вам тут? Ах да, умывальную нашу.
Такова была моя первая встреча с Роландом Гуоткином, встреча чрезвычайно характерная, так как он предстал мне именно в той роли, какую назначил себе: командир, придирчивый службист, с подчиненными не запанибрата, но и не бессердечный сухарь, и прежде всего человек воинского долга. Образ, ясно и твердо очерченный, но вжиться в него до конца Гуоткину не удавалось почему-то. Само уже имя — Роланд Гуоткин было ни то ни се, разнобой поэзии с прозой. Роланд — отзвук песни о Роланде, о рыцарских подвигах:
…Когда Роланд, отважный пэр, Когда бесстрашный Оливьер Под Ронсевалем пали!А Гуоткин значит ведь попросту «маленький Уолтер», «Уолтеренок», что в данном случае не лишено уместности.
— Роланд способен быть чертовски неприятен, — сказал мне Кедуорд, когда мы встали с ним на дружескую ногу. — Больно высоко, знаете ли, себя ставит. У Лина Крэддока отец управляющим в отделении банка, где Роланд, и Лин слышал от своего отца, что Роланд в банковском деле слабак. В инспектора ему вовеки не подняться. Да он, по-моему, и не очень туда рвется. Он полководцем себя воображает. С ним надо ухо востро. Если взъестся — беда.
Именно такое впечатление от Гуоткина и сложилось у меня — что мнения он о себе высокого и что весьма способен омрачить жизнь тому, кого невзлюбит. Вместе с тем он меня странным образом заинтересовал, даже привлек. Было в нем что-то грустное, даже смутно трагическое. Своим чрезмерно-уставным рвением он, уж конечно, далеко превосходил других офицеров батальона. В те сравнительно безмятежные дни начала войны у нас хватало еды и напитков и не исчезло еще в людях благодушие. Если вам было за тридцать, то для зачисления в строй требовались с вашей стороны усилия; и все держали себя почти так, словно прибыли на учебный довоенный сбор (часть наша относилась к территориальной армии), чтобы поразмяться и через несколько недель вернуться домой. Гуоткин вел себя иначе. В нем ощущалась не простая увлеченность штатского своей новой офицерской ролью, не жажда преуспеть на непривычной должности. Высокая решимость чувствовалась в нем, сознание судьбоносной своей призванности. Мне думается, он смотрел на вещи как стендалевский герой — не стендалевский любовник вроде моего приятеля Барнби, отнюдь нет, а юноша честолюбивый и мятущийся, освобожденный наконец войной из тесных рамок жизни в провинциальном городке и приготовившийся к лихим подвигам на фоне военных жанровых картин в духе Месонье, с кирасами и плюмажами, где драгуны, спешась, ведут лошадей через поле пшеницы, где гренадеры гуляют в таверне и девушки подносят им вино в кувшинах. Для подобного почтения к армии — у нас оно никогда не считалось, как на континенте, общераспространенным выражением национальной воли — нужна известная наивность. Кедуорд тоже надеялся выдвинуться, но отнюдь не по-гуоткински. Кедуорд, как выяснилось, военными или иными грезами не занимался. Мы с ним шли уже из казармы к нашему жилью. Кедуорд теперь держался со мной так, будто мы пуд соли вместе съели, — не то чтобы вовсе игнорируя нашу разницу в возрасте, но считая ее, во всяком случае, основанием для благосклонности ко мне.
— Вы, Ник, надо думать, в одном из наших больших пяти?
— Каких больших пяти?
— Я про пятерку наших банков говорю.
— Я не служу в банке.
— Вот как. Тогда вы в батальоне исключение.
— Разве наши офицеры сплошь банковские служащие?
— Все, кроме трех-четырех человек. А где же вы работаете?
— В Лондоне.
Поскольку к банковскому делу я оказался непричастен, в Кедуорде тут же угасло любопытство к тому, как именно я добываю хлеб насущный. Он спросил только:
— Ну и как живется в Лондоне?
— Неплохо.
— А не бывает тошно жить в такой громадине?
— Подчас бывает.
— Я был два раза в Лондоне, — сказал Кедуорд. — У меня там тетка в Кройдоне, я у нее гостил. Пару раз прошелся по Вест-Энду. Магазины чертовски шикарные. Но жить и работать там — благодарю.
— Привыкаешь со временем.
— Не думаю, чтоб я привык.
— Кому где нравится.
— Вот именно. Мне там нравится, где я родился. Отсюда неблизко, но места довольно схожие со здешними. Вам бы у нас понравилось, я думаю. Офицеры батальона в большинстве оттуда. Между прочим, вчера, кроме вас, еще один должен был прибыть, но так и не прибыл.
— Новопроизведенный в офицеры?
— Нет, он из запаса территориальных войск.
— Как фамилия?
— Бител. Брат у него — кавалер Креста Виктории[3]. А здорово бы оторвать такой.
— Тогда Бител должен быть на много лет моложе брата. Тот получил свой крест, командуя на фронте кадровым батальоном в девятьсот пятнадцатом или шестнадцатом году. Мой отец упомянул об этом как-то. Теперь тому герою седьмой десяток по меньшей мере.
— Ну что ж, значит, этот намного моложе. Мне сказали, он раньше играл в сборной Уэльса по регби. Вот тоже здорово. Но вы правы. В смысле — этот Бител не больно молодой. Наш батальонный командир жаловался, что ему все старых присылают. Ужасался, какого вы давнего года рождения. А Бител, вероятно, еще даже старей будет.
— Неужели.
— Всякое бывает. Кто-то слышал, будто ему чуть ли не тридцать семь. Надо же, такой старый, а? Его ж придется убирать со строевой должности, административную подыскивать какую-нибудь, когда дивизию двинут отсюда.
— А нас собираются двигать?
— И, говорят, очень скоро.
— Куда?
— Никто не знает. Военная тайна, само собой. Кто говорит, в Шотландию, кто — в Северную Ирландию. Роланд считает, в Египет или в Индию. У Роланда всегда замах гигантский. Но, конечно, и туда могут послать. А хорошо бы за море. Папа мой в ту войну служил в нашем батальоне, их послали в Палестину. Привез мне оттуда молитвенник в переплете из дерева, из ливанского кедра. Тогда меня еще на свете не было, конечно, но он взял для сына, который будет у него, — конечно, если самого не убьют раньше. Тогда он маме даже предложения еще не делал.
— И вы по воскресеньям молитесь по этой книге?
— Тут, в армии? Ага, как же. Чтобы спер кто-нибудь. Я ее дома берегу — для моего собственного будущего сына. А у вас есть невеста?
— Была. Теперь — жена моя.
— Вот как. Ну да, в вашем возрасте — конечно. Янто Бриз — он у Роланда третьим комвзвода — тоже теперь женат. Свадьба месяц назад состоялась. Ну, ему двадцать пять скоро стукнет. Как зовут вашу жену?
— Изабелла.
— Она в Лондоне?
— Теперь у своей сестры живет, в сельской местности. Ребенка ожидает.
— Счастливый вы, — сказал Кедуорд. — Интересно, сын будет или дочь. Мне бы дочурку хотелось. У меня есть невеста. Хотите взглянуть на фото?
— Разумеется.
Кедуорд расстегнул нагрудный карман. Вынул бумажник, извлек оттуда любительский снимок. Вручил мне. От постоянных любований и показов черты лица — различимо женского — почти стерлись. Я выразил одобрение.
— Чертовски хороша ведь, а? — сказал Кедуорд.
Он поцеловал блеклое очертание, спрятал фото.
— Присвоят капитана — поженимся.
— А когда, по-вашему, присвоят?
— Лет через сотню, — ответил он со смехом. — Но впрочем, могут и повысить, почему же — если война не кончится и если проявлю усердие. Может, и вас повысят, Ник. Всякое бывает. Правда, надо сперва эти чертовы полтора года пробыть младшим, прежде чем получите вторую звездочку. Но война же не завтра кончится? Французы будут держать линию Мажино, пока наша страна не укрепит воздушный флот. А потом, когда немцы поднапрут, тут-то мы с вами и вступим в дело. Конечно, и до этого еще могут нас послать на помощь Финляндии, не с немцами драться, а с русскими. Так или иначе, а решающий род войск — пехота. На этом все сходятся — только Янто Бриз говорит, что войну решат танки.
— Поживем — увидим.
— Янто уверен, что так и протрубит войну с двумя звездочками. Ему все равно. Янто лишен честолюбия.
Вчера вечером я уже познакомился в нашей комнате с Эваном Бризом, которого обычно называли Янто (валлийское уменьшительное от Эвана). Длинный, безусый, с неуклюжей походкой — фигура отнюдь не военная; он служил бухгалтером, но не в банке, и, стало быть, подобно мне, был отклонением от стандарта. Как выяснилось позже, Гуоткин недолюбливал Бриза. Вернее, терпеть его не мог, и Бриз молча платил взаимностью. Антипатию объясняли тем, что Гуоткину досаждала неподтянутость Бриза, его нежелание усвоить армейскую повадку и манеру речи. Из-за этого Бризу и впрямь доставалось от Гуоткина и прочего начальства. Вдобавок Бриз всегда производил такое впечатление, будто он подсмеивается над Гуоткином — втихомолку, не давая внешних поводов к обиде. Однако дело было, видимо, еще и в другом. Кедуорд потом по-дружески открыл мне, что Гуоткин до своей женитьбы влюблен был в сестру Бриза, и та обошлась с ним неласково.
— Роланд если уж влюбится, то втрескивается со страшной силой, — сказал Кедуорд. — Он до того втюрился в Гуэнлиан Бриз — подумать можно было, корью заболел.
— И что же в итоге?
— Она и глядеть на него не хотела. Вышла за профессора из Суонси.
— А Роланд женился на другой?
— Само собой. На Блодуэн Дэвис, что всю жизнь жила в соседнем доме.
— Ну и как у них?
Кедуорд взглянул на меня непонимающе.
— Что — как? Да как полагается. Они давно уж поженились; правда, детей нет. Та история с Гуэн Бриз — давно прошедшая. Янто и забыл уже, наверно, что они с Роландом чуть не породнились. Вот бы получились свояки. Вечно бы шерсть дыбом. Роланд всегда умнее всех. Командовать любит. А Янто человек иного сорта, но тоже любит поставить по-своему. Ему бы приаккуратиться. А то вид как у старой курицы, надевшей форму.
Тем не менее пусть у Бриза и не было бойкости Кедуорда, его честолюбивой, энергичной исполнительности, но я убедился со временем, что Бриз неплохой офицер в своем роде, несмотря на затрапезный вид. Солдаты любили его; Бриз разбирался в людях, к его совету стоило прислушаться.
— За сержантом Пендри приглядывайте, Ник, — сказал он, услышав, что Пендри у меня взводным сержантом. — Сейчас-то он держится браво, но хватит ли его надолго, не знаю. Его повысили, и он пока усердствует. Но он побыл у меня во взводе капралом и оставил во мне неуверенность. Как бы не оказался он из тех сержантов, что в две-три недели выложатся, а затем скисли. Таких немало встретите. Снимать их с должности — единственный выход.
Вечером того дня, когда Кедуорд водил меня, новичка, по батальону, Бриз зашел со мной в бар гостиницы, в которой был расквартирован наш офицерский состав. Пообедав, младшие офицеры оставляли вестибюль в распоряжение майоров и капитанов, а сами шли в бар, где можно и поговорить свободней, и угостить друг друга. Там было накурено и очень людно. Много штатских посетителей, кой-кто из наших полковых, несколько офицеров из дивизионной роты связи, размещенной в городе, а также двое-трое летчиков. У стойки — Памфри, один из наших младших офицеров. Облокотился, разговаривает с двумя военными священниками и незнакомым лейтенантом, из наших тоже, судя по знакам различия. У лейтенанта большое, одутловато-круглое лицо; спутанные клочковатые усы блестят от пива. В толстых губах — окурок сигары. Несмотря на усы и на изрядную лысоватость, он, как и Кедуорд — но совсем по-иному, — напоминает подростка, вырядившегося офицером. В отличие от Кедуорда у этого вид поразительно какой-то виноватый и потому-то именно подростковый: словно школьник наклеил себе усы (а не просто намазал жженой пробкой) и минуту назад сотворил что-то прегадкое и сейчас ждет, что вот-вот его разоблачит директор, который уже не раз ловил его на разных гадостях. Углубить диагноз помешал мне Кедуорд. Он вошел и присоединился к нам.
— Кружку пива, Идуол? — предложил Бриз.
Кедуорд кивнул.
— В новостях передали, Финляндия продолжает отбивать Красную Армию, — сказал он. — Нас, возможно, еще пошлют туда.
Памфри — он тоже не из банковских служащих, продает подержанные автомобили, — махнул нам рукой, приглашая в свою компанию. Рыжий, шумный, задиристый, Памфри всем заявляет, что хочет перевестись в ВВС.
— Нашего полку прибыло, Янто, — крикнул он нам. — Тут лейтенант Бител. Отметился в канцелярии только что и койку получил. Теперь отмечает прибытие со мной и с нашими падре.
Мы протолкались к стойке.
— Илтид Попкисс, наш англиканский пастырь, — сказал Бриз. — И Амброз Дули — он спасает души католиков и такими угостит вас анекдотами, что только держись.
Попкисс щупл и бледен. Заметно сразу, что ему нелегко тягаться с отцом Дули в непринужденно-сердечном общении с паствой. Дули, рослый брюнет с маслянистым, словно бы чуть недобритым лицом, благодушно выслушал отзыв о себе как об отчаянном анекдотисте. Он, видимо, в отличных ладах со своим протестантским коллегой. Лейтенант же Бител робко улыбнулся мне, обнажив под мохрами усов два ряда удивительно плохо подогнанных вставных зубов. Неуверенно протянул мне вялую руку. От его воровато-пугливой манеры делалось как-то не по себе.
— Я рассказываю вот, какая кавардачная у меня получилась поездка из дому сюда, — заговорил он торопливо. — Еще спасибо, начштаба отнесся с пониманием. И как обычно, весь кавардак на совести Военного министерства. Но как бы ни было, а я уже снова в родном полку и рад запить пивом всю передрягу.
Он, возможно, коммивояжер по профессии — привык завязывать знакомства с помощью доверительной скороговорки. Но слишком уж неуверен в себе. Частит, быть может, просто от стеснения. Лацканы френча в пятнах — яичных, что ли; штаны старенькие, мешковатые. Порядком уже выпил. Он, несомненно, старше меня — и это слава богу. Если он и был когда-то в сборной Уэльса, то с тех пор страшнейшим образом одряб — это также несомненно. И горько сознает свою одряблость и потертый вид; вот смотрит виновато на свой френч, отстегнул мятый клапан кармана от потускнелой пуговицы, демонстрирует нам.
— Дадут мне денщика, надо будет выутюжить. Не надевал с тех пор, как вернулся с лагерного сбора пятнадцать или больше лет тому назад. А сейчас по пути сюда пролил на брюки стакан джина, сам не знаю как.
— Предупреждаю вас, от денщика ни черта не добьетесь приличной обслуги, — сказал Памфри. — Ему привычнее рубать уголь, чем утюжить форму, и вам повезет, если он хотя бы сумеет навести блеск на эти пуговицы, а их надраить не мешало бы.
— Время военное, конечно, многого требовать не приходится, — сказал Бител, как бы извиняясь (а вдруг не годится теперь упоминать об утюжке мундира). — Но не повторить ли нам? Мой черед угощать, отче.
Он обращался к англиканскому священнику, но откликнулся, и энергично, отец Дули.
— Это пиво, если не умерить пыл, мне перебунтует кишки, — сказал он. — Но так и быть, из уважения к вам, друг мой.
Бител неловко улыбнулся — очевидно, ему резнуло слух это «перебунтует кишки» в устах священнослужителя.
— От еще одной вреда не будет, — сказал он. — Я в гражданской жизни потребляю порядочно пива, и ничего худого не случается.
— К тому же брюхо дрыхнуть не должно, — не унимался Дули. — Великое дело — ежедневная промывочка. Ничего нет здоровее.
Он поднял кружку, как бы оценивая на свету слабительные свойства содержимого.
— Пей не пей, а от армейской пищи вечный бунт в кишках, — продолжал он с веселым, зычным смехом. — Как мобилизовали, так почти не знаю передышки от поноса.
— А у меня от этой пищи запор, как у сыча сидячего, — сказал Памфри. — Как у сидячего сыча.
Дули одним большим глотком допил пиво и опять засмеялся — этакий развеселый монах — при мысли о пищеварительных превратностях людских.
— Понос ли, запор, а всегда ношу с собой щедрый запас туалетной бумаги, — сказал он. — Непременно. Это мое правило. В армии может схватить в любую минуту.
— Идея ценная, — сказал Памфри. — Всем бы нам надо последовать совету его преподобия. Принять меры на случай, как припрет. Вы, Илтид, вероятно, тоже обеспечились, а? Церковь учит предусмотрительности.
— Ну разумеется, а как же, — сказал Попкисс.
— За кого вы принимаете Илтида? — сказал Дули. — Он у нас воин бывалый.
— Как же, как же, — продолжал Попкисс, видимо обрадовавшись случаю показать себя рубахой-парнем. — И можете представить, что за штуку подстроили мне в части, где я служил до этого? Как-то вечером в бильярдной разоблачился я, чтобы сыграть партию, и — надо же! — ребята мне в карман, между листков туалетной бумаги, сунули резиновое изделие.
Раздался дружный смех, к которому присоединился и Дули, хотя на лице его прочлась озабоченность тем, что перекозырять Попкисса будет непросто.
— И что же изделие — выпало на молитве при всем народе? — спросил Памфри, нахохотавшись.
— Нет, благодаренье небесам. Я утром обнаружил его на столике рядом со своим воротничком. Бросил тотчас в унитаз и спустил воду. И легко воздохнул, когда наконец унесло его. Пришлось дергать цепочку раз пять или шесть, представляете.
— А вот послушайте-ка, что со мною приключилось в бытность мою во втором полку четырнадцатой… — начал отец Дули.
Я так и не дослушал этой истории, несомненно рассчитанной на то, чтобы грубой прямотою языка и повествовательной силой затмить Попкисса бесповоротно — вчистую переплюнуть, одним словом. Дули явно вознамерился отстоять свою репутацию непревзойденного рассказчика, и жаль, что не удалось дослушать. Помешал Бител.
— Душа не лежит что-то к таким разговорам, — пробормотал он, отводя меня немного в сторону. — С отвычки, должно быть. Да и вам они вряд ли по вкусу. Вы не из толстокожих. Вы ведь университет кончали?
Я не стал отрицать этого.
— А который именно?
Я сказал, который именно. Бител нагрузился в этот день уже солидно. От него несло спиртным даже в густо алкогольной атмосфере бара. Он глубоко вздохнул.
— Я и сам в студенты собирался, — сказал он. — Но отец раздумал посылать. Дела в то время пошатнулись. Он аукционы вел, ну и попал как раз в передрягу. Ничего серьезного, хотя в округе много циркулировало клеветы. Люди чего не наскажут. Он умер вскоре. Я бы, наверно, и сам, так сказать, мог себя послать в университет. Денег в обрез бы, но хватило. Да поздновато уже как-то показалось. С тех пор жалею. Большая разница — с высшим образованием и без. Стоит только поглядеть на окружающую публику.
Он покачнулся слегка, ухватился за край стойки.
— Устал за день, — сказал он. — Выкурю еще сигарку — и на боковую. Успокаивает нервы сигара. Закурим? Они дешевые, но неплохие.
— Нет, спасибо.
— Да берите. У меня их целая коробка.
— Большое спасибо, но я их не курю.
— Университетский, а сигар не курит, — произнес Бител обескураженно. — Вот не подумал бы. А снотворных таблеток? У меня есть отменные, хотите попробовать? Перепьешь — без них нельзя. Жуткая вещь — проснуться ночью в перепое.
Я и сам чувствовал теперь сильную усталость и, чтобы уснуть, в таблетках не нуждался. Бар уже закрывали. Все расходились по спальням. Бител наспех хватил еще порцию в одиночку и шатко ушел куда-то искать свою шинель. Остальная компания наша, включая священников, направилась на лестницу. Я спал в одной комнате с Кедуордом, Бризом и Памфри.
— Старине Бителу чердак достался, — сказал Памфри. — Тоскливо ему там будет одному. Надо бы устроить ему какой-нибудь сюрприз на сон грядущий. Развеселить как следует.
— Да ему сейчас хочется тихо лечь, и больше ничего, никаких дурачеств, — сказал Бриз.
— Почему же, — возразил Кедуорд. — Бител — парень вроде бы хороший. Он от шутки не прочь. Справим ему новоселье. Покажем, что своим считаем, любим.
Хорошо, подумал я, что мне вчера не устроили такого новоселья, что обошлось без розыгрыша, — просто выпили вечером по паре кружек. Видимо, есть что-то в Бителе, предрасполагающее к подшучиванью. Стали обсуждать, какую форму придать шутке. Кончилось тем, что всей компанией поднялись на верхний этаж гостиницы, где поместился Бител в одной из мансард. И священники пошли с нами, особенно Дули зажегся идеей розыгрыша. Я позавидовал было уединению Битела, но, когда мы добрались туда, увидел, что за эту роскошь Бителу придется заплатить полным отсутствием прочих удобств. Мансарда довольно большая, потолок косо снижается к окошку. Вдоль стены — глубокие полки: вероятно, в мирные времена здесь помещалась бельевая. Обоев нет. Сильно пахнет мышами.
— Так что же учудить? — спросил Кедуорд.
— Кровать перевернуть, — предложил Памфри.
— Нет, — сказал Бриз, — это уж будет просто глупо.
— Сотворить штрудель из постели.
— Старо.
Обоим священникам хотелось поглядеть на спектакль, но не слишком в него впутываясь. Следующее предложение — всем залечь на полках и, когда Бител ляжет, явиться сонмом привидений — было отвергнуто как неосуществимое. Затем кто-то подал мысль сделать чучело. Она была одобрена, и Памфри с Кедуордом принялись сооружать на раскладушке Битела подобие спящего человека — чтобы Бител подумал, что произошла путаница с комнатой. Свернули парусиновый саквояж Битела, под одеялом он произвел впечатление туловища. Приладили снизу пару ботинок так, чтобы они торчали из-под одеяла; на круглый несессер надели пилотку и примостили на подушке вместо головы. Еще что-то, должно быть, приспособили — забыл, что именно. Получилось недурно — если учесть, что времени было в обрез, этакая легкая шутка, совершенно беззлобная; всю бутафорию можно будет убрать в две минуты, когда Бител захочет лечь. И только закончили, как на лестнице послышались тяжелые шаги Битела.
— Вот и сам бредет, — сказал Кедуорд.
Мы вышли на лестничную площадку.
— О мистер Бител, — встретил его Памфри громогласно. — Пойдемте поглядите. Там у вас неладно.
Бител медленно всходил, цепляясь за перила и все еще дымя своей сигарой. Слов Памфри он будто и не слышал. Мы расступились, пропуская его в дверь.
— Вашу кровать толстый такой офицер занял, — проорал Памфри, еле сдерживая смех.
Бител ввалился в комнату. Постоял, пялясь на койку, как бы не веря своим глазам, своему счастью — по лицу его расплылась улыбка невыразимой радости. Он вынул изо рта сигару, аккуратнейше вставил ее в большую стеклянную пепельницу с налепленной сбоку разноцветной пивной рекламкой — единственным украшением комнаты. Пепельница помещалась на столике, был еще побитый стул и эта койка, и больше ничего. Затем Бител вскинул руки над головой и всплеснул ими, пускаясь в пляс.
— О боже, — вырвалось у Бриза. — О боже.
С причудливыми жестами Бител не спеша обошел вокруг койки, делая коленца то с правой, то с левой ноги, словно следуя фигурам ритуальной пляски.
— Песнь любви… — курлыкал он нежно. — Песнь любви…
Время от времени он делал резкий выпад головой вперед и вниз, точно порывался обнять чучело, но удерживал себя в последний момент, стыдясь выказать свое влечение — или даже страсть — при посторонних. Вначале все вокруг, включая и меня, смеялись от души. В самом деле, зрелище было из ряда вон, полностью неожиданное, захватывающе странное. Лицо у Памфри побагровело, словно вот-вот его хватит удар; Бриз и Кедуорд тоже хохотали. Да и священники не отставали от других. Но плясовые корчи Битела становились все гротескней. Он все быстрей кружился около раскладушки, извиваясь телом, колебля руки волнообразно, на восточный лад. И понемногу закралось в меня чувство, что пора бы кончать. Какая-то неловкость стала ощущаться. Шутка продлилась уж довольно, даже чересчур. Пора было Бителу завершать свой комический номер. Пора, подумал я, всем нам ложиться спать. В то же время я мог лишь восхищаться тем, как Бител на розыгрыш ответил встречным розыгрышем, сто очков дав шутникам вперед. Я бы на месте Битела не сумел так мастерски выйти из положения, где уж там. Однако пора и прекращать. Спектакль затянулся. Хорошего понемножку. Ну, вот сейчас он остановится… Напрасные надежды. Не было и признака, что близится конец. Бител то складывал ладони молитвенно, то бурно раскачивался из стороны в сторону в религиозном экстазе, то несся в пляске чуть ли не вприсядку. И неустанно бормотал нежные слова чучелу на раскладушке.
Кажется, вторым — после меня — отсмеялся Попкисс.
— Идемте, Амброз, — сказал он. — Завтра воскресенье. Трудовой день. Время ко сну.
В этот момент Бител, потеряв равновесие от хмеля и от исступленного кружения, рухнул плашмя на чучело. Раскладушка затрещала зловеще, но выдержала. Бител бурно сжал в объятиях покрытый одеялом саквояж, осыпал поцелуями пилотку.
— Любовь моя… — бормотал он. — Любовь моя…
Я глядел, чем он еще нас угостит, и тут обнаружил, что остался уже с Бителом один. Остальные внезапно ушли — наскучило им, или неловко стало, или просто усталость взяла свое. Последнее вероятней всего. Утомление подсказало им, что шутка кончилась, что пора спать. Бител лежал лицом вниз, поглаживая чучело и ласково курлыча.
— Как самочувствие, Бител? Мы спать уже уходим.
— Чего?
— Спать уходим.
— Счастливцы, баиньки идут…
— Спокойной ночи, Бител.
— Спокойной ночи, — ответил он. — Баю-бай. Жаль, не кончал я университета.
Он повернулся на бок, протянул руку за чучело, к пепельнице. Недокуренная сигара уже погасла. С трудом вытащив из кармана брюк зажигалку, Бител яростно ею защелкал. Хоть бы не наделал ночью пожара… Я прикрыл дверь, сошел к себе. Соседи по комнате уже ложились.
— А потешный старичина этот Бител, — сказал Бриз, укрываясь.
— Чудика такого поискать, — сказал Кедуорд. — В жизни не видел подобной пляски.
— Он ее порядком затянул, — сказал Памфри, прекращая на минуту чистить зубы. — Всю ночь протанцевал бы, чего доброго, если б не упал.
Но хотя все были согласны в том, что пляска ненужно затянулась, сама личность Битела отнюдь не произвела плохого впечатления. Напротив, приобрела несомненный престиж… Усталость оборвала мои мысли. Несмотря на непривычную обстановку, я тут же уснул крепким сном. Утром, одеваясь, мы говорили о построении на молитву, о прочих воскресных делах. За разными этими разговорами Бител оказался забыт. Бриз и Памфри, одевшись, спустились вниз завтракать; направились и мы с Кедуордом туда же, но в коридоре к Кедуорду подошел солдат. Он был у Памфри ординарцем. Солдат улыбался во весь рот.
— Разрешите обратиться, сэр.
— Что вам, Уильямс?
— Я приставлен для обслуги к новому офицеру, покуда у него нету собственного ординарца.
— К мистеру Бителу?
— И он сегодня не того.
— Что с ним такое?
— Взгляните сами, сэр.
Уильямс И. Г. (так его именуют) не в силах был скрыть удовольствие.
— Что же, поглядим, — сказал Кедуорд.
Мы снова направились в чердачную мансарду. Кедуорд открыл дверь. Я вошел следом, и меня обдало тошным сигарно-пивным перегаром. Я почти ожидал, что увижу Битела спящим на полу и в одежде, а увенчанный пилоткой несессер так и будет лежать на подушке. Однако, как это бывает с теми, кто давно привык засыпать напившись, Бител ухитрился раздеться и расположиться на койке с некоторым даже комфортом. Форму свою он не бросил, а сложил рядом на полу, как заведено у старых алкоголиков, которые знают, что повесить костюм на стуле — задача для них непосильная. Чучело он с койки скинул. Укрытый бурым одеялом, он лежал в желтой пижаме, линялой и грязной, подтянув колени к подбородку. В этом положении он был похож на ископаемый труп, извлеченный целиком из первобытного могильника и выставленный под стеклом в музее. Он свирепо храпел, щеки вздувались, опадали — цвет их тоже говорил о смерти. На колченогом стуле рядом с койкой помещались часы, портсигар, снотворные таблетки. И красовался еще один экспонат — от него повеяло на меня особым ужасом. Сперва я не мог понять, что это такое. То ли скульптурка, то ли сложное механическое устройство. Я вгляделся. Механизм или предмет дикарского искусства? И вдруг я понял. Прежде чем уснуть, Бител выложил в пепельницу искусственные свои челюсти. Вынул изо рта все сразу, вместе с окурком сигары, зажатым в зубах. Впечатление этот агрегат производил необычайное, ознобно-мрачное, сюрреалистическое. Мерещились раскопки через тысячу лет после нас и восхищение археологов, нашедших эту окаменелую утварь рядом со скрюченным скелетом Битела и строящих догадки о культурно-бытовой ее значимости. Кедуорд приподнял Битела, потряс. Никакого эффекта. Бител даже глаз не открыл, только прекратил на минуту храпеть. Не зря, как видно, хвалил он свои таблетки. Как только голова его упала опять на подушку, он снова захрипел, заурчал, заклохтал — и никаких иных признаков жизни. Кедуорд повернулся к Уильямсу И. Г., стоящему в дверях все с той же широкой улыбкой.
— Уильямс, доложите дежурному капралу, чтобы занес мистера Битела в списки заболевших, — сказал он.
— Слушаю, сэр.
Уильямс пустился вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки.
— Я зайду еще потом, погляжу, как он тут, — сказал Кедуорд. — Сообщу ему, что записал его в больные. Все равно сегодня утром ничего особенного от него не ожидалось. Воскресенье, притом накануне только прибыл.
Это был разумный выход из положения. Кедуорд явно знал, как поступать в непредвиденных случаях. Боюсь, что Гуоткин в такой ситуации поднял бы скандальный шум. Оценив рассудительность Кедуорда, я указал ему затем на челюсти, вцепившиеся в сигару, но он остался холоден к их красочному ужасу. Мы пошли завтракать. Приходилось признать, что свою военную карьеру Бител возобновил не самым удачным образом.
— Перебрал старый Бител кружечку вчера, — сказал мне Кедуорд за столом. — Я сам однажды выпил больше положенного. Мерзейшее состояние. А вам случалось, Ник?
— Случалось.
— Мерзко было, а.
— Мерзко, Идуол.
— Выйти следует сейчас пораньше — примете взвод, поведете на построение.
Мы условились встретиться на плацу. Не успел я еще выйти из гостиницы, как в вестибюле, против всех ожиданий, появился Бител. Увидев меня, он конфузливо улыбнулся.
— Неохота что-то завтракать по воскресеньям, — сказал он.
Я предупредил его, что он записан в заболевшие.
— Мне сказал этот Уильямс, временный мой ординарец, — ответил Бител. — Уже вычеркнули. Я в разговоре с ним узнал, тут служит Дэниелс, паренек из моего родного города, и не прочь будет ко мне в ординарцы, Уильямс его и привел тут же. Дэниелс понравился мне.
Мы пошли улицей вместе. На Бителе была пилотка — та самая, вчерашняя. На размер меньше, чем надо бы; напялена строго вертикально, согласно инструкции, которой сейчас не придерживались, носили набекрень. И необычно высока (как кепи у прустовского Сен-Лу, подумалось мне), так что Бител смахивал в ней на чертенка в колпаке; или, верней — если учесть его возраст, массивность, усы, — на комическую куклу, на помесь моржа с плотником. Мятое лицо Битела напоминало ноздревато-рябую поверхность швейцарского сыра, но других следов вчерашний вечер не оставил, если не считать некоторой одышки. Бител заметил, как я покосился на его пилотку, и улыбнулся заискивающе.
— Устав разрешает пилотки, — сказал Бител. — Они удобнее фуражек. Притом дешевле. Купил эту за семнадцать шиллингов. Два скостили, потому что у нее пятнышко сверху. Его ведь не заметно?
— Ничуть.
Он оглянулся, понизил голос.
— Других университетских у нас никого, — сказал он. — Я нарочно справлялся. Вы чем занимаетесь «на гражданке», как говорят в армии?
— Пишу статьи в газетах, — ответил я, умолчав о своих книгах, поскольку писательство — в неписательском кругу — предмет для разговора неловкий. Вдобавок писатель как профессия звучит неубедительно. А скажешь «журналист», и на этом расспросы пока что кончались: журналистика — общеизвестный способ пропитания, хотя и не совсем понятный.
— В этом роде я и предполагал, — сказал Бител с уважением. — Меня самого готовили к интеллигентному труду — в аукционщики тоже. Но мне отцова работа не нравилась. Так я и не кончил даже обучаться. Меня всегда к театру более менее тянуло. Был статистом раза два. Но я не актер, сам это понимаю. Да и вообще, люблю менять работенки. Не терплю постоянной обузы. Служил одно время, например, в нашем кинотеатре. Приходил туда вечером в смокинге, вот почти и вся работа.
— А оплата на таких должностях достаточная?
— Не весьма, конечно. На этом капитала не составишь, но я обхожусь — прежние крохи кой-какие завалялись. Притом я холостяк. Вы-то женаты?
— Женат, не скрою.
Бител спросил так, словно женатость — состояние, требующее неких оправданий.
— Так я и предполагал, — сказал он. — А я — нет. Не нашлось как-то подходящей девушки.
Бител произнес это с видом донельзя неуютным. Последовала пауза. Я не нашелся, что ему сказать. Девушки определенно не по его части; хотя кто знает… Взамен я задал безобидно-естественный вопрос:
— Как вы оказались в запасе территориальной армии?
— Я в молодости отслужил в территориалах, — сказал он. — Вроде модно было. И уж не думал снова когда-нибудь надеть форму. А теперь вернулся и даже рад, что будет постоянная копейка. Я фактически сейчас ведь без работы, а одних прежних крох не хватает. Вчера слыхал, нам еще и полевую надбавку платят. Вы это уже знаете, конечно. Недурной привесок к жалованью. А то у меня, честно говоря, финансы пели романсы. Затрат столько всяких. На книги, скажем. Вы, наверно, книгочей заядлый, раз вы журналист. Вы какие дайджесты глотаете?
Он о желудочных пилюлях, что ли? В духе вчерашних пищеварительных разговоров отца Дули? Но тут я вспомнил, что дайджестами называются популярные сборнички отрывков и выжимок из книг. Я признался, что не потребляю дайджестов. Битела мой ответ разочаровал.
— Я-то сам их не так уж часто покупаю, — сказал он. — Надо бы, наверно, чаще. Там бывают интересные статьи. По вопросам пола, например. Психология пола. Слыхали?
— Слышал кое-что.
— Я не про дешевку с броскими картинками, с ножками женскими. Я про ненормальности, каких и не ждешь. А это надо на ус мотать, ведь надо?
— Надо.
Бител на ходу придвинулся ко мне, опять понизил голос. На этом близком, слишком близком, расстоянии от него попахивало ароматичным кремом для бритья.
— До моего приезда обо мне тут ничего не говорили вам? — спросил он с беспокойством в голосе.
— Кто?
— Вообще в батальоне.
— То есть?
— О моих, скажем, родственниках.
— Говорили, что брат у вас — кавалер креста Виктории.
— Так и сказали?
— Да.
— И что вы им на это?
— Что, судя по возрасту, он вам скорее дядей должен приходиться, чем братом.
— Совершенно верно. Мы не братья.
— Вы ему племянник, значит?
— Я этого не утверждал. Но не будем об этом. Я еще о другом хотел спросить. Насчет игр ничего не говорили?
— Каких игр?
— Ну, что я играю в спортивные игры какие-нибудь?
— Был разговор, что вы играли в регби за Уэльс.
Бител замычал страдальчески.
— Играл за Уэльс? — переспросил он, как бы еще надеясь, что ослышался.
— Да.
— Так я и знал, что выйдет недоразумение.
— Недоразумение?
— Да что я регбист. Знаете, как оно бывает, когда выпьешь. Очень легко можно создать преувеличенное впечатление. Должно быть, я переборщил, когда звонил в отдел запаса территориальной армии. Наболтал о местных знаменитостях, о спорте, об однофамильцах моих и так далее.
— Значит, кавалер креста вам не родня и вы не играли за Уэльс?
— Я не сказал, что уж вовсе не родня. В наших краях никогда нельзя сказать наверное, родня или нет. Но, во всяком случае, не брат и не дядя. Видно, я совсем запутал офицера в том отделе, раз он так меня понял. По телефону он мне показался не слишком толковым. Я так и подумал тогда: старый Блимп[4], наверно. Из отставных тупиц. Но крест Виктории — еще не так. Меня больше заботит недоразумение с регби.
— А все же как оно возникло?
— Бог его знает. Явный телефонный кавардак. В уэльской сборной один год играл, кажется, коммерсант по фамилии Бител. Или, возможно, какой-то Бител играл в крикет за Гламорган, а я спутал. Там или тут, но Бител играл, по-моему. Дело давнее, во всяком случае. И по телефону я приплел для чего-то.
— Ну, это пустяки.
— Не такие уж пустяки, если нам придется играть в регби.
— Теперь — вряд ли.
— Я ведь в регби не играл ни разу в жизни, — сказал Бител. — Не имел такой возможности. Да и не тянуло. Считаете, значит, играть не придется?
— Думаю, что боевая подготовка не оставит на это времени.
— Дай-то бог, — сказал Бител почти с отчаянием в голосе. — К тому же ходят слухи, нас не сегодня завтра двинут отсюда.
— Куда, не слышали?
— Да будто в Северную Ирландию. А далековато наш этот плац. Хоть бы начальство не стало вплотную приглядываться — я не так уж чисто выбрит. Порезался сегодня. Рука почему-то дрожала.
— Пляска вам удалась блестяще.
— Какая пляска?
— Вчерашняя ваша, вокруг чучела на койке.
— Но-но, меня не проведешь, — засмеялся Бител. — Я воробей стреляный — знаю, как наутро морочат новичка, будто он накануне дурака свалял. Я, собственно, рад был, что из бара все тихо-мирно пошли спать. Я опасался, будет розыгрыш, а я устал с дороги. В территориальном, помню, лагере любили розыгрыши. А мне это всегда было не по душе. Не по характеру. Но вернемся к бритью — вы каким кремом пользуетесь? Я сейчас пробую новый. Прочел рекламу в «Здоровье и силе». Решил испытать. Люблю менять мыльца-кремы. Это человека взбадривает.
Тем временем мы подошли к плацу. Там уже дожидался Кедуорд. Он проводил меня ко взводу, доставшемуся мне под начало. Бител ушел в другую сторону. Кедуорд объяснил мне, как и что; мы прохаживались с ним взад-вперед, покуда офицеры не встали по команде в строй. Литургия совершалась в одной из здешних приходских церквей. Затем Попкисс — сейчас отнюдь не выглядевший вчерашним бледным, смущенным священничком — заговорил с амвона в непринужденной, громко-энергичной манере, какая вообще свойственна офицерам и солдатам батальона. Тема проповеди взята была из пророка Иезекииля. Попкисс прочел весь кусок:
«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: „кости сухие! Слушайте слово Господне! Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас — и оживете. И обложу вас жилами и вырощу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь“. Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я: и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище…»
Попкисс смолк, поднял глаза от Библии, широко развел руки. Солдаты сидели, притихшие, на сосновых скамьях.
— О братия мои, подумайте об этом поле костей, вообразимте его вместе… оно видится мне у ствола выработанной шахты, где под темною горой вознеслись конуса терриконов, — в таких полях, в таких долинах вы и сами обитаете… Перенесемтесь, братья, в долину эту вместе со мною… Разве не знакомы вам сии сухие кости?.. Очень знакомы… Кости без плоти, без жил, кости без кожи, без духа… Это наши с вами кости, братья мои, и кости сии ожидают шума и великого движения, ждут дыхания от четырех ветров — как поведал ветхозаветный пророк… Не время ли сплотиться всем нам, о братья, как сблизились кости на том древнем поле, кость с костью своею, плоть с плотью, и ожить, исполнясь духом… И, если я не исказил пророчества, стать весьма, весьма великим полчищем…
2
Приказ о нашей передислокации пришел через неделю с небольшим — не успел я и отряхнуться от этого сна, от видений, сквозь которые несло меня; здесь Лондон сделался так же далек для меня, как для Кедуорда, и одни только письма от Изабеллы напоминали о мире дел иных, чем обучение взвода или вывод караула. Словно оглушенного наркотиком или загипнотизированного, меня втолкнуло в эти сновиденья и гнало сквозь них неумолимо-грозно (как, бывало, доктора Трелони и его собратьев-магов уносили заговоры и заклятья из земного мира в астральную область). Но теперь я наконец завертелся шестеренкой военной машины, перестав быть инородным организмом, существующим отдельно и все более отчужденно. Теперь за взводными делами некогда стало и подумать о своем. Целый день прошел в лихорадочных сборах. Затем весь батальон построили. Раскатились команды. Мы двинулись походной колонной, оставив позади Сарды — одну из семи азийских церквей, — где белы одежды на немногих праведниках, не поддавшихся скверне. Солдаты, хоть и расставались с родиной, были настроены довольно бодро: что-то начиналось наконец-то! Они негромко пели:
Помоги, великий боже, Утоли тоску и боль И могучею рукою Проведи через юдоль. Хлебом вечным, Хлебом вечным Душу слабую насыть…Что бы ни пели на марше, но всегда речь тут идет о жизненных превратностях, о переменах, которые так часто к худшему, так неминуемы, особенно в армии, особенно в войну. Затянули затем другую песню, но и в ней звучали привычные темы невзгод, неизвестности, унынья, устали, усилий тщетных — мысль о неизбежности чего служит такой опорой солдату.
В солдаты взят, В солдаты взят, И тянешь лямку в армии Белиши. Носи сукно И жри… халву, А ноги твои в волдырях давно. В солдаты взят, В солдаты взят И тянешь лямку в армии Белиши. Садись в быльё И чисть ружье, А в пе́ред и в зад поползет паучье. В солдаты взят — в солдаты взят — В солдаты взят — в солдаты взят…Гуоткин был взбудоражен нескрываемо. Он орал команды точно в мегафон, то и дело поверял Кедуорда, Бриза и меня по всяким мелочам. Впереди, поодаль, маячил Бител, взводом своим замыкая соседнюю роту. Бител явился в строй с кожаным зеленым чемоданчиком, весьма замызганным, и так и брел с ним сейчас.
— Не рискнул его отправить с тяжелым багажом, — сказал он, одергивая потертый непромокаемый чехольчик, когда мы остановились у вокзала. — Единственное, что осталось из маминых вещей. Она отбыла уже в лучший мир.
Поезд повез нас на север. Начался длинный путь куда-то. Смеркалось. Высадили нас среди кромешной тьмы. Мы оказались в порту. Чернели суда на смоляно-черных водах как на адском озере. За устьем бухты плескал прибой. Старый пароход, куда погрузили батальон, еле смог нас вместить. Наконец люди уселись, улеглись впритирку, как рабы на невольничьем судне. Пароходик отвалил пыхтя от пристани, вошел в открытое море. Дул ветер. Нас качало на зыби. В такую ночь не разоспишься. Еще много было офицерской и сержантской суетни; но вот сержант Пендри доложил, что все в порядке. С ним подошел капрал Гуилт, один из ротных балагуров, — миниатюрный, почти карлик, с большущей черно-курчавой головой — несомненно, потомок древнейших валлийцев, которых покорили высокие светловолосые кельты. Не слишком исполнительный, Гуилт был тем не менее приемлем в роли капрала, поскольку болтал и пел без умолку, своей назойливой персоной помогая взводу как-то коротать армейскую нуду.
— Все получили порцию какао, сержант Пендри?
— Все до одного, сэр, и выпито в охотку.
— Кой-кто не выпил, мутит кой-кого, сэр, — сказал Гуилт, считавший долгом ввязаться в любой разговор.
— И многих укачало во взводе?
— Я велел, чтоб лежали спокойно, и пройдет, — сказал сержант Пендри. — Много шуму из пустяков подымают некоторые.
— Вчистую укачало кой-кого, — откликнулся в свою очередь Гуилт на манер хора в греческой трагедии. — Белесого этого, Джонса Д., — вчистую.
Пароход шел сквозь ветер и волну. Иль это плывем мы в ночи по морю снов, исполненных скрытого значения? Наше плаванье никак не менее таинственно, чем сонные ночные странствия. Под утро я сошел вниз, побрился — и вернулся на палубу оживший. Небо посветлело, впереди очертилась суша. Когда причалили, дул бриз с востока, обдавая дождиком. За гаванью протянулся поселок, серые дома, фабричные трубы. В отдалении — горы, заволочены тучами. Вид у всего убогий, неказистый. Прибытие сюда ничем не радовало.
— Командирам взводов свести людей на берег сразу же, когда услышите приказ, — сказал Гуоткин. — Без валанданья. Порасторопней. Веселей.
Сам он был отнюдь не весел — зеленоват лицом, как если бы и его, подобно Джонсу Д., укачал переезд. Роты гуськом сошли по сходням, затем выстроились у железнодорожной линии. Как обычно, не обошлось без задержек. Дождь, кидаемый ветром в лицо, усиливался, густел. Батальон стоял вольно, дожидаясь комендантского распоряжения. Шли мимо на работу девушки, покрывшись платками. Остановились под дождем, глядели на нас с обочины, сгрудясь в кучку, переговариваясь, пересмеиваясь.
— Ау, Мэри, — крикнул им капрал Гуилт. — На чужачков пришли полюбоваться?
Девушки ответили многозначительным смехом.
— Что же вы вёдро нам не привезли? — отозвалась одна.
— Каких тебе ведер, милая?
— Что ж вы, говорю, дня ведренного нам не привезли? У нас заненастилось тут с воскресенья.
— Какого, какого тебе дня нужно, родненькая?
— Да ведренного. Чтоб распогодилось, нам нужно.
Гуилт повернулся к сержанту Пендри, ошарашенно развел руками, поражаясь такому искажению языка.
— Ведренный день? Слыхал, сержант Пендри?
— Слыхал, капрал Гуилт.
— Чудной говорок здесь.
— Чудной.
— Судя по говорку, в далекие края нас занесло.
— В этих краях много тебя ожидает чудного, — сказал сержант Пендри. — Уж будь уверен, парень.
— А чудное меня здесь тоже ожидает?
— Вот уж не скажу.
— Да скажи уж, сержант Пендри, — шутливо заюлил, заклянчил Гуилт. — Наверно, ждет меня здесь чудная, пухлявенькая, чтоб согреть солдата ночью.
Тут же обретался ротный старшина Кадуолладер, как вездесущая заботливая хлопотунья экономка школьного мужского интерната. В Кадуолладере жил дух шахтерской спайки и надежности, и сочеталось это у него с весьма необычной тягой к несению ответственных обязанностей; такой старшина — клад для ротного командира.
— Мы тебя согреем, капрал Гуилт, — заговорил старшина. — Будь спокоен. Работой обеспечим по завязку, скажу прямо. Сон гарантирую крепкий. Тебе не до пухлявых будет и не до костлявых — только б до койки добраться.
— Но хочется ж пухлявенькую, старшина. А старшине разве не хочется?
— Ты старшину не морочь, капрал Гуилт, — сказал Пендри. — Не суй старшине свои грязные мысли.
— Да я же не грязненькую предлагаю, — сказал Гуилт. — Я — чистенькую.
— Никаких не суй, понятно?
— Неужели ему никаких не нужно? — притворно изумился Гуилт. — Даже и чистеньких? Ты серьезно это, сержант Пендри?
— Серьезно говорю тебе.
— Да как же так?
— Не знаешь разве, старшина человек женатый.
— Выходит, старшина, что девушки для одних только молодых, как я? Это меня радует.
— Рано радуешься, капрал.
— Старшина счастливый человек, — сказал Пендри нравоучительно. — Вот доживешь до его лет, тогда обрадуешься, что кончил дурить и за девками бегать.
— Ах, боже мой, неужели сержант Пендри правду говорит, что старшина уже свое отбегал? Ах, ах, я сочувствую.
Старшина Кадуолладер скупо улыбнулся.
— А слыхал ты, капрал Гуилт, поговорку, что старый конь борозды не испортит? — произнес он снисходительно.
В это время появился комендант перевозки с пуком бумаг в руке. Батальон двинулся дальше. Капрал Гуилт наспех послал девушкам воздушный поцелуй, а те яро замахали нам, засмеялись громче. Рота, топоча, направилась к составу на запасном пути.
— Эй там, задние ряды, — громыхнул старшина. — Взять ногу! Левой — левой — левой, раз — два…
Нас повезли унылой, скудной местностью, мимо разлогих полей, белых лачуг, низких огорож из камня, вересковых пустошей на фоне дальних гор.
— Здесь просторней будет проводить учения, — заметил Гуоткин. Он уже оправился от морской болезни и был не взбудоражен, как в начале пути, а сравнительно спокоен. — Здесь обстановка будет более солдатская, — прибавил он с удовлетворением.
— А по прибытии нас хоть накормят, Роланд? — спросил Бриз. По обыкновению своими вопросами он как бы нажимал в Гуоткине уставной рычажок.
— Нас упреждает второй эшелон дивизионного снабжения, — отрубил Гуоткин.
— И что же?
— К нашему прибытию продовольствие будет готово к распределению по ротам. Заглядывайте чаще в полевой устав, Янто.
Выгрузили нас у небольшого, серого промышленного городка. Батальон снова построился. Люди уже устали. Песня, под которую вошли в городок, была заунывна:
На сердце печаль, я отвык улыбаться, О будущем я и мечтать позабыл. Лишь тени былого навстречу теснятся — Все те дорогие, кого схоронил. Листвой шелестят, что-то шепчут и ропщут, Глядят на меня из-за темных ветвей. О ясеневая родимая роща, Одна ты осталась у грусти моей.Гуоткин прав был, говоря, что новая обстановка будет более солдатской. Под казармы дали нам бывшую полотняную фабрику — длинные, узкие сараи, где раньше подвергали обработке лен, так что декорация получилась аскетически-нагая, точно из фильма про Иностранный легион в пустыне. Офицеры разместились на окраине города, в заброшенном особнячке, некогда принадлежавшем, надо думать, состоятельному местному дельцу. От казарм особнячок был удален на милю с лишним. Меня и здесь поместили в одной комнате с Кедуордом, Бризом и Памфри — ему не удалось еще перевестись в ВВС. И пятого поселили к нам жильца, тоже младшего офицера, Крэддока (сестра его — невеста Кедуорда). Крэддок, энергичный толстяк, заведовал пищеблоком, и, значит, по нескольку раз на неделе возвращался домой среди ночи и либо включал свет, либо же слепо спотыкался о чужие раскладушки в поисках своей, в обоих случаях мешая спать. Да и при свете трудно было не задеть чью-нибудь койку в этой тесноте. Но не только полночные приходы Крэддока составляли неудобство. Бриз имел обыкновение бросать использованные бритвенные лезвия где попало, и Памфри как-то утром порезался, наступив босой ногой. Кедуорду снилось ночи напролет, что он командует ротой.
— На месте! На-пра-во! — кричал он во сне. — Повзводно — в сомкнутую колонну стройсь!..
Памфри, взбалмошный по натуре, швырялся полотенцами и губками. Стекло в окне было разбито, а вставить никто в хозчасти не заботился, и ночью гулял ветерок: от пола несло холодом сквозь парусину раскладушки. Снова уже выпал снег. Я упоминаю обо всем этом не как о чем-то трудновыносимом в ту военную пору, но чтобы пояснить, почему я сменил жилье, когда представилась возможность. А она представилась, и неожиданно — благодаря Гуоткину. В течение первых недель на новом месте я узнал его ближе. Он больше подходил мне по возрасту, чем младшие офицеры, исключая Битела. Даже среди капитанов становилось все меньше наших с Гуоткином ровесников — немолодых за нерасторопность перемещали постепенно из строевых рот в запасные батальоны или в учебный центр.
— Избавляемся от балласта, — комментировал Гуоткин. — И слава богу.
Он говорил все в той же отрывистой манере, был все тот же придира-аккуратист. Вместе с тем он явно желал бы сдружиться, но боялся, что дружба с подчиненным, хоть и со сверстником, будет не в армейских правилах. В Гуоткине обнаруживались неожиданные стороны — внезапные промельки неуверенности под весьма уверенным фасадом. Некоторые свои обязанности он исполнял отлично, к другим же не имел природной склонности.
— Ротный командир, — сказал мне Дикки Амфравилл, с которым я встретился позднее в тот год, — должен сочетать в себе качества инспектора манежа в первоклассном цирке и опытной няни в многодетной семье.
На такое-то блистательное сочетание талантов претендовал Гуоткин — он тянулся в военные святые (как выразился позже Пеннистон). Но все как-то не дотягивался. И не потому, что щадил себя. Напротив, одной из основных помех у Гуоткина была как раз его неспособность перепоручать обязанности: он непременно все, важное и неважное, стремился делать самолично. Скажем, учредил он ежедневное дежурство по роте, и дежурный офицер был обязан среди прочего проверять, как люди обедают, — вещь излишняя, поскольку дежурный по батальону обязательно заглядывал в столовые, нет ли где «жалоб», и вдвойне излишняя, так как Гуоткин сам то и дело являлся проверить в обед, не филонит ли дежурный по роте. Гуоткин, в сущности, не оставлял себе почти никакого свободного времени. Он, однако, смутно сознавал, что вся эта дотошность не ведет в конечном счете к требуемым результатам; он ощущал, что чего-то недопонимает. Ко всему прочему не было у Гуоткина способности, столь необходимой в армии, принимать выговоры начальства — даже несправедливые — спокойно и невозмутимо. Он ужасно удручался в таких случаях.
— Не давай армейским делам пригнетать тебя, — говаривал Мелгуин-Джонс, начальник штаба. — Если сегодня инспектирует генерал, помни, что и этот день придет к концу, как прочие.
Сам Мелгуин-Джонс не всегда следовал своему правилу. Это был дельный и вспыльчивый кадровик; говорил он с легкой запинкой, а рассвирепев, становился форменным заикой. Он не прочь был бы вернуться в свой кадровый батальон, где имелось больше шансов на скорое участие в деле и, стало быть, на выдвижение. Надежнейший офицер и усерднейший работник, он не разделял, однако, гуоткинского преклонения пред лучезарным ликом армии — он совершенно бы не понял Гуоткина. А Гуоткин, получив от Мелгуин-Джонса выговор за служебное упущение вроде запоздалой сдачи ротных пищевых отходов, падал духом, словно под сомнение ставили его личную честь, а затем горячечно кидался усилить боеподготовку, улучшить выправку и внешний вид солдат. В определенном смысле, разумеется, он поступал верно, да упущение-то не всегда при этом устранялось наибыстрейшим образом. Суть в том, что Гуоткину недоставало подлинного постиженья системы, которой он так восхищался. Недостаток этот был, возможно, как-то связан с поэтической жилкой в Гуоткине; стремясь найти исход наружу, поэзия становилась помехой в служебных делах. Романтический подход к жизни часто встречаешь именно у людей грубоватых. В известной степени это относилось и к Гуоткину. Грубошерстность его проявлялась в том, что, получив нагоняй, он непременно искал, на ком бы отыграться. Козлом отпущения служил обычно Бриз, хотя и любой другой из роты мог пострадать. Безотказную мишень для разносов представлял Бител — он вечно в чем-то был повинен, — но Бител служил в другой роте. Тем не менее, хоть и не подначальный, Бител тяжко действовал Гуоткину на нервы своим видом и поведением. Как-то под вечер Бител, возвращаясь с учебного поля и щеголяя криво застегнутой гамашей, попался нам на глаза.
— И это называется офицер, — возмутился Гуоткин. — А еще брат героя.
— А действительно ли брат? Может быть, только дальний родственник?
Я не был уверен, что вправе разглашать то, чем поделился со мной Бител: судя по тону, он говорил доверительно. Притом Бител мог и вернуться внезапно к легенде, которую первоначально распространял, облегчая себе зачисление в армию; по крайней мере мог и не желать, чтобы эту легенду опровергали с прямой ссылкой на него. Впрочем, так или иначе, Гуоткин не стал копаться в родословной Битела.
— Если даже дальняя родня, все равно Бител марает честь героя, — сурово сказал Гуоткин. — Стыд и позор. Такое родство должно бы вселять в Битела гордость. Пусть бы мой родственник был кавалером креста Виктории — или хотя бы Военного креста. И скажу вам, Ник, я убежден, что никакой Бител не регбист, пустой только треп.
На это возражать теперь уже не приходилось. Всякому, кто разок увидел, как Бител движется беглым шагом, делалось ясно, что футбольными доблестями Бител никогда не блистал.
— На прошлой неделе Идуол дежурил, — продолжал Гуоткин, — и, представьте, наткнулся в столовой на Битела — сидит в халате и слушает патефон вместе с подавальщиками. Спустился, мол, вниз в поисках Дэниелса. Тоже фрукт этот его ординарец. После чего изволь крепить дисциплину в батальоне.
— Этот чертов патефон горланит день и ночь.
— Вот именно, и я больше не намерен там квартировать. Сыт по горло. Мою постель сегодня утром перенесли в ротную канцелярию. А то полдня теряешь, мотаясь взад-вперед между жильем и казармой. Удачно к тому же, что рядом с канцелярией ротный склад. На день раскладушку можно туда.
Мы подошли к развилке. Отсюда дорога поворачивала на казармы, другая вела к офицерскому особнячку.
— А почему б вам тоже не переселиться в канцелярию? — решительно сказал вдруг Гуоткин — тоном жестким, точно выговаривая за неисполнение приказа.
— А место найдется?
— Места с избытком.
— В комнате у нас людно; сейчас Иудол на антигазовых курсах, но даже без него тесно.
— Спать в канцелярии, конечно, не так весело.
— Обойдусь без веселья.
— Зато там ты всегда на месте. При солдатах. Где и надлежит быть офицеру.
Я был польщен предложением Гуоткина. Кедуорда послали в корпусную школу химической войны (называемую у нас кратко антигазовой), так что младших офицеров осталось у Гуоткина двое — Бриз и я, — а работы хватало. Как я уже сказал, спать в особнячке было мало радости. В ротной канцелярии будет, во всяком случае, не хуже. Жить при казармах удобно уже тем, что сократятся расстояния.
— Мой скарб перенесут сегодня же вечером.
Так началось у нас с Гуоткином что-то вроде дружбы. Совместные ночевки в канцелярии изменили не только взаимоотношения наши, но и весь ритм отдыха и подъема. Вместо ежеутреннего одевального ералаша с участием Кедуорда, Бриза, Памфри и Крэддока, вместо болтовни, телячьей возни, пения — нечастые, жесткие, серьезно-деловые реплики Гуоткина, его сосредоточенное молчание. Спал он как сурок, и засыпал мгновенно — еще, бывало, и свет не выключен, и не сняты с окна листы затемнения; я же лежал порой, прислушиваясь к разговору в ротном складе. Перегородка между канцелярией и складом не достигала потолка, так что бывали слышны разговоры, которые после отбоя велись там вполголоса (а не на зычных дневных тонах, отличающих наш батальон). Ночевать в складе полагалось только кладовщику, младшему капралу Гиттинсу, но обычно тут же спали и другие — из числа полуофициальных помощников Гиттинса, родственников, дружков, выдающихся ротных личностей вроде капрала Гуилта. Они собирались на складе вечерами, свободными от караульной службы, и слушали радио, а затем кое-кто и заночевывал между кипами одеял и ящиками, в особенном, затхловатом складском запахе, отдающем не то москательной лавкой, не то музеем естествознания. Младший капрал Гиттинс был свояком ротного старшины Кадуолладера. Гиттинс не всегда склонен был признавать армейскую табель ранга и повиновения, искусственную и временную.
— Но ты должен понять, Гарет, — как-то услышал я убеждающий голос старшины за перегородкой. — В мирное время — в шахте — ты поставлен надо мной и над сержантом Пендри. А здесь — нет. Здесь не шахта. В роте мы над тобой поставлены. Не худо бы тебе помнить это, Гарет.
Гиттинс пользовался в роте престижем, не только как хозяин вещевого довольствия, но и за свою твердохарактерность. Смуглый, приземистый (отчетливо докельтский тип, подобно Гуилту), он мог бы, вероятно, без труда стать сержантом, даже старшиной, если бы желал повышения. Но, как и многие другие, он предпочитал не брать на плечи ответственность за людей, а правил складом, где стерег каждый предмет инвентаря, точно свою личную собственность, обретенную долгим трудом и жертвами. Сложней сложного было добыть у него самую пустяковую вещь взамен утерянной или изношенной.
— Говорю тебе, на то нужен прямой приказ командира роты, — отвечал он обычно на просьбы. Такая прижимистость вызывала почти всеобщее уважение. Выманивший что-нибудь у Гиттинса глядел настоящим триумфатором.
Одной из приманок склада был радиоприемник; иногда по нему слушали пропагандные передачи из Германии. Начинались они в полночь.
— …Говорит Гейрмания… Говорит Гейрмания… Работают радиостанции Кёльна, Гамбурга и ДИА… Передаем новости на английском языке… Еще пятьдесят три британских самолета сбиты над Килем за прошлую ночь… Итого со вторника сбито еще сто семнадцать самолетов… Сто семнадцать британских самолетов потеряны за двое суток… Британский народ хочет знать от правительства, почему гибнут британские пилоты… Хочет знать, почему британская авиация уступает гейрманской… Британцы задают себе вопрос, почему проиграна война в воздухе… Британский народ хочет знать, например, что случилось с авиалайнером «Аякс»… Почему вот уже три недели его напрасно ждут из рейса… Мы можем ответить… Лайнер «Аякс» Имперских авиалиний лежит на дне моря… Среди обломков британского авиалайнера «Аякс» резвятся рыбы… Авиалайнер «Аякс» и его самолеты прикрытия сбиты гейрманскими истребителями… Британцы проиграли войну в воздухе… Проиграли и на море… Британское адмиралтейство не знает, где «Находчивый»… В адмиралтействе беспокоятся, что с ним… Больше могут не беспокоиться… Сейчас мы сообщим о «Находчивом»… «Находчивый» находится на дне моря вместе с авиалайнером «Аякс»… «Находчивый» пущен на дно гейрманской подводной лодкой… Гейрманское владычество над морем повергает в отчаяние британское адмиралтейство… Британия проиграла войну на море… За прошлую неделю пущены на дно британские суда общим водоизмещением в сто семьдесят пять тысяч тонн… Британское правительство в отчаянии от таких потерь в воздухе и на море… Но не только это повергает британское правительство в отчаяние… Отнюдь не только это… Британия уже испытывает острую нехватку пищевых продуктов… Эвакуированные женщины и дети бедствуют… Вместо продуктов их кормят ложью… Правительство лжет… Только Гейрмания может сказать вам правду… Гейрманское радио говорит правду… Гейрманское радио сообщает самые последние и самые правдивые известия… Гейрмания выигрывает войну… Подумай над этим, Британия, подумай над этим… Гейрмания выигрывает войну… Слушай, Британия… Повторяем для всех слушателей на Дальнем Востоке… Слушай, Южная Америка…
Кто-то из слушавших выключил радио. Насмешливо-ехидная, докучно-неотвязчивая речь оборвалась, точно диктору, изловчась, накинули мешок на голову, и сразу почувствовалось облегчение. Наступила длинная пауза.
— И как это он помнит все, — разбил молчание голос — вероятно, Уильямса У. X., одного из певунов-дневальных в «Сардах» (теперь он был в моем взводе вестовым).
— Да он по написанному шпарит, — отозвался другой голос — очевидно, капрала Гуилта.
— И цифры ему тоже пишут?
— Ну ясно.
— Вот оно как.
— А ты как думал, парень.
— Сколько он наговорил всего.
— За то и деньги получает.
— И так уверен, чертов сын, что Германия победит. А почему он говорит: Гейрмания? Чудно даже слышать.
— Возможно, немцы все так произносят.
— Если Гитлер победит, будем ишачить в шахте за шесть пенсов в день, попомнишь мое слово.
Никто не стал этого оспаривать. Опять помолчали, покашляли. Трудно было сказать, сколько именно человек ночует сейчас за перегородкой. Сам Гиттинс, видимо, уснул; только Гуилт и Уильямс все не могли угомониться. Я уже решил, что они тоже задремали, но неожиданно Уильямс заговорил опять:
— В самолете летать не хотелось бы, Айвор?
— Да уж не слишком хочется.
— А что как заставят?
— Что ты, парень, мы же не в воздушных силах.
— Мне тоже ни капли не хочется.
— Не бойся, не посадят тебя в самолет.
— Кто их знает. Сажают же парашютистов.
— Ты мне напомнил, как два друга, Дей и Шони, летали на воздушном шаре.
— А как они летали?
— Они двух женщин с собой взяли.
— Да ну?
— Поднялись, а из того шара как начал вдруг воздух свистать, и Дей перепугался насмерть, говорит своему другу: «Слушай, Шони, дело дрянь, жуткая утечка воздуха, надо спасаться, прыгать вниз». А Шони спрашивает: «Но с бабами как быть?» «На… баб!» — отвечает Дей. А Шони ему: «А успеем?»
— Так мы до рассвета не уснем, если всю ночь будете чесать языки, — раздался третий голос — несомненно, Гиттинса, кладовщика. — Сколько сот бардачных анекдотов я слышал уже здесь, и все почти от одного тебя, Айвор. Не выходят шлюхи у тебя из мыслей.
— Да ведь и от тебя, Гарет, о шлюхах можно слышать, — возразил Уильямс. — Ну-ка, что ты вчера моему штейгеру говорил про Кэт Пендри?
— А что я говорил? — сердито огрызнулся Гиттинс.
— Про нее и Эванса, учетчика.
— Это я не для твоих ушей.
— Расскажи мне, Гарет, — сказал Гуилт.
— Отстань, Айвор.
— Ой, наверно, интересное такое что-нибудь.
Слова Гуилта остались без ответа. Еще покашляли, покашляли, отхаркнулись, затем — тишина. Должно быть, все уснули. Я тоже засыпал, ушел уже в полусознание, как вдруг от койки Гуоткина донесся до меня какой-то возглас. Гуоткин вскинулся, зашарил, ища свой электрический фонарик. Нашел наконец, слез на пол, принялся опять закрывать окно листами затемнения.
— Что случилось, Роланд?
— Включите свет. Я затемнил уже.
Я включил свет — мне было ближе дотянуться.
— Вещь одну проверить, — сказал Гуоткин возбужденно. — Помните, я говорил, что спущены новые кодовые обозначения для связи внутри бригады?
— Да.
— И куда я положил эту бумагу? — продолжал Гуоткин все так же возбужденно, точно во сне.
— В несгораемый ящик, конечно.
Все бумаги, ежедневно поступающие в канцелярию, Гуоткин штемпелевал ротной печатью и в центре лилового круглого оттиска ставил свои инициалы. Он совершал этот обряд над любой пустяковой «входящей», замечая нередко с усмешечкой: «В привычку уже входит у меня». Стук печати на служебном документе и завитушечный росчерк «Р. Г.» давал, видимо, Гуоткину ощущение того, что дело взято под контроль раз и навсегда, вселял легкое, но отчетливое чувство полновластия. Бумаги, обозначенные грифом «Секретно» или «Для служебного пользования», он прятал в несгораемый денежный ящик, ключ от которого носил при себе. Туда же Гуоткин клал ротную «Книгу подотчетных сумм» вместе со всем иным, в чем померещилась Гуоткину важность. Сам ящик в свою очередь хранился в зеленом стальном шкафу, тоже всегда запертом; правда, ключ от шкафа был уже менее священен.
— Вы уверены, что в ящик положил?
— Уверен.
— Код — крайне важная вещь.
— Я знаю.
— Лучше уж проверю.
Он надел шинель поверх пижамы — ночи еще довольно холодны. Затем завозился с ключами, отпер шкаф, вынул ящик. Простора в канцелярии немного, когда же обе раскладушки расставлены, то и вовсе почти нет, так что поместить ящик удобней всего оказалось в ногах моей койки. Гуоткин стал вынимать верхний слой бумаг, раскладывая их стопками на шинели, которой я укрываюсь поверх одеяла. Сев в постели, я глядел, как он устилает мне ноги документами и учебными брошюрами. Он клал их аккуратно, словно развлекаясь среди ночи замысловатым пасьянсом. Чем дальше углублялся он в ящик, тем тщательней раскладывал свой военно-бумажный пасьянс. Среди прочего вынут был томик в выцветшей коленкоровой красной обложке. Эта очень потрепанная книжица легла у меня под рукой. Я раскрыл ее. На форзаце надпись: «Капитан Р. Гуоткин» и обозначение полка. На титульном листе: «Пэк с Пукского холма». В это время Гуоткин удовлетворенно хмыкнул — бумажка отыскалась.
— Вот она. Ну, слава богу. Теперь я вспомнил. Положил в конверте в специальное местечко — в самый низ.
Он принялся класть бумаги обратно в ящик — одну за другой, в предначертанной сложной последовательности. Я подал ему «Пэка». Он протянул руку не глядя — все еще, видимо, не успокоившись от сонного переполоха. Затем осмыслил, что я ему подаю. Сунул томик торопливо под «Словарь военных терминов и тактический справочник». На секунду слегка смутился.
— Это Редьярд Киплинг, — сказал он, как бы оправдываясь.
— Вижу.
— Читали Киплинга?
— Да.
— Эту читали?
— Читал когда-то.
— Ну и как?
— Понравилась.
— Вы, должно быть, уйму книг читали.
— Приходится, профессия такая.
Гуоткин запер ящик, поставил в шкаф.
— Гасите, Ник. А я сниму затемнение.
Я погасил свет. Он снял картонные листы. Слышно было, как лег, накинул сверху на себя шинель.
— Вы вряд ли помните, — сказал он, — но там есть рассказ про римского центуриона.
— Помню, отчего же.
— Вот этот мне понравился больше всех.
— Да, он, пожалуй, лучший там.
— Я его иногда перечитываю.
Гуоткин натянул шинель повыше.
— Много раз уже перечитал, признаться. Нравится центурион. Остальные не так.
— Норманнский рыцарь тоже неплох.
— Центурион сильней.
— А другие книги нравятся?
— Чьи?
— Киплинга.
— Ну да, конечно. Я знаю, он много еще написал. Я одну начал. Не увлекла как-то.
— Вы какую имеете в виду?
— Не помню названия. Да и о чем там, не запомнилось, правду сказать. Не понравилась попросту. Странным языком написана, непонятным. Я мало читаю. Некогда. Вы — другое дело, вас ремесло вынуждает читать.
Он замолк и тут же уснул, засопел. Итак, в первый раз обнаружилось, что кто-то в батальоне прочел хоть одну книгу ради удовольствия (разве только еще Битела могли завлечь «дайджесты» в библиотеку — в поисках чего-нибудь по сексуальной психологии). Интересная открылась в Гуоткине черта… За перегородкой теперь храпели. Я повернулся к стене и тоже заснул. Утром Гуоткин не упоминал уже о книгах. Возможно, забыл весь ночной разговор. А вечером произошел небольшой случай, показывающий, как удручала Гуоткина любая неудача. Он, Кедуорд и я шли из казармы мимо запаркованных бронетранспортеров с пулеметной установкой.
— Поводить бы такую машину, — сказал Кедуорд.
— Дело нехитрое, — сказал Гуоткин.
Он вскарабкался на ближний транспортер, завел двигатель. Но, когда включил сцепление, машина не тронулась с места, только затряслась на своих гусеницах. Маленькая голова Гуоткина, черные его усики затряслись вместе с машиной, точно Гуоткин был деталью шасси, орнаментальной фигурой или даже верхней частью бронированного кентавра. Было также какое-то сходство с громадно увеличенным шахматным коньком, которого вдруг оживила изнутри некая таинственная сила. Минуту-две Гуоткин протрясся так, словно на стоячей карусели, декорированной на военный лад, затем, признав, что побежден машиной (возможно, неисправной), он медленно слез наземь — вернулся к нам.
— Напрасно я это, — проговорил он устыженно.
Подобные происшествия все же не убавляли в нем уверенности в своих командирских качествах. Гуоткин гордился тем, какой у него контакт с рядовым составом. Он не хвастался словесно, но давал это понять всей своей манерой. Наглядным примером служили его отношения с Сейсом — еще даже до кульминационной сцены, происшедшей между ними. Сейс был ротный «непутевый». Вместе с еще двумя-тремя разгильдяями он был переведен к нам из кадрового батальона. Там, должно быть, с немалой радостью освободились от него. Тощенький, желтолицый, гнилозубый, он был неистощим на прегрешенья и проступки. В строй опоздал, бритвенный прибор потерял, носки грязные, расчетная книжка пропала, винтовка нечищена, у самого вид безобразный — сверх этого всего, уже привычного, Сейс повседневно учинял какую-нибудь новую и неожиданную скверность. Неряху, грубияна, скандалиста, его дружно не терпели в роте. Почти уголовник, он, однако, не обладал ни каплей той привлекательности, которую знакомый мой критик, Куиггин, любил выискивать у преступников, пишущих мемуары. В противоположность им Сейс, хотя и неумеренно тщеславный, был туп и неприятен в общении. Время от времени, чтоб вытянуть его из беды, Сейсу поручали что-нибудь нетрудное, простое, но дающее возможность несколько поправить репутацию. Сейс неизменно портил порученное дело, и неизменно наивозмутительнейшим образом. Ему определенно была на роду написана тюрьма.
— Не миновать Оранжереи паршивцу Сейсу, — часто говорил сержант Пендри, умевший ладить почти со всеми прочими солдатами.
Можно бы поэтому ожидать, что, в своей любимой роли строгого службиста, Гуоткин подвергнет Сейса серии взысканий и Сейсом в конце концов займется командир батальона; и действительно, Сейс заработал у Гуоткина немало казарменных арестов. В то же время нельзя сказать, чтобы Гуоткин относился к Сейсу с совершенной антипатией. Дело в том, что Сейс задевал в Гуоткине романтическую струну. Стилизованные картинки армейской жизни, какие любил воображать себе Гуоткин, не исключали солдат вроде Сейса. В какой же армии нет «непутевого»? В соответствии с этим Гуоткин готов был проявлять к Сейсу терпимость, которую многие ротные командиры сочли бы чрезмерной, — даже собирался не шутя заняться исправлением Сейса. Гуоткин не однажды говорил мне, что хотел бы перевоспитать Сейса, — и наконец объявил, что намерен безотлагательно пробудить в Сейсе совесть.
— Потолкую с ним по душам, — сказал он, когда с Сейсом в очередной раз стало невтерпеж. — Хочу, чтобы вы присутствовали, Ник: он из вашего взвода.
Гуоткин сел за походный стол, застланный армейским одеялом. Я встал позади. Старшина Кадуолладер и капрал-конвойный ввели Сейса; головного убора на Сейсе не было.
— Вы с конвойным можете выйти, старшина, — сказал Гуоткин. — Я хочу побеседовать с этим солдатом один на один — то есть я и его взводный командир, мистер Дженкинс.
Старшина и капрал удалились.
— Можете стать вольно, Сейс, — сказал Гуоткин.
Сейс стал «вольно». На желтом лице его было недоверчиво-подозрительное выражение.
— Хочу потолковать с вами по-серьезному, Сейс, — продолжал Гуоткин. — Как человек с человеком. Вы понимаете меня, Сейс?
Сейс буркнул что-то невнятное.
— Я вовсе не желаю постоянно вас наказывать, — произнес Гуоткин с расстановкой. — Поймите меня, Сейс. Мне это вовсе не по душе.
Сейс опять что-то буркнул. Навряд ли он поверил Гуоткину. А тот взволнованно подался всем корпусом вперед. В Гуоткине явно пробуждались глубинные залежи чувства. Он заговорил тем странно воркующим тоном, какой употреблял в телефонных разговорах.
— Вы же можете быть славным парнем, Сейс. Можете ведь.
Под буравящим взглядом Гуоткина Сейс тревожно завращал зрачками.
— Сердце ведь у вас хорошее, а, Сейс?
Все это начинало уже действовать на Сейса. Должен признаться, что и мне бы самому на месте Сейса был трудновыносим этот задушевный разговор. Бесконечно бы предпочтительней неделю пробыть под арестом. Сейс судорожно сглотнул.
— Вы же хороший — верно же? — напирал Гуоткин еще неотступнее, словно истекал уже для Сейса крайний срок раскрыть свою неожиданно хорошую душу и тем спасти ее.
— Да, сэр, — сказал Сейс чуть слышно. Пробубнил весьма неуверенно — не потому, чтобы внутренне сомневался в своих высоких качествах, но он, видимо, побаивался, как бы такое прямое признание не оказалось опасным, как бы еще работать не заставили.
— Ладно же, Сейс, — сказал Гуоткин. — Я вам поверю. Поверю, что вы славный парень. Вы ведь знаете, для чего все мы здесь.
Сейс молчал.
— Вы знаете ведь, для чего все мы здесь, Сейс, — повторил Гуоткин уже громче, и голос его слегка дрогнул от глубокого чувства. — Ну же, Сейс, знаете ведь.
— Не могу знать, сэр.
— Да ну же, Сейс.
— Не знаю, сэр.
— Да ну же, парень.
Сейс сделал могучее усилие.
— Чтоб влепить мне арест за провинность, — проговорил он горемычно.
Догадка была вполне резонной, но Гуоткина крайне огорчило такое отсутствие взаимопонимания.
— Нет-нет, — сказал он. — Я не спрашиваю, для чего мы сейчас собрались в канцелярии. Я спрашиваю, для чего нас собрали всех в армию. Вы, конечно же, знаете, Сейс. Нас собрали, чтобы защитить нашу страну. Чтобы отразить Гитлера. Вы ведь не хотите попасть под иго Гитлера. Не хотите же, Сейс?
Сейс опять глотнул растерянно.
— Не хочу, сэр, — согласился он без особой убежденности.
— Все мы, каждый из нас должен выполнить долг, — сказал Гуоткин, уже взволнованный донельзя. — Я не щажу сил на посту ротного командира. Мистер Дженкинс и другие офицеры роты не щадят сил. Сержанты и солдаты не щадят сил. Неужели вы один, Сейс, не выполните долга?
Сейс был уже взвинчен почти в той же мере, что Гуоткин. Он то и дело сглатывал слюну и диковато поводил глазами, как бы в поисках избавления.
— Будете впредь выполнять свой долг, Сейс?
Сейс яростно зашмыгал носом.
— Буду, сэр.
— Обещаете мне, Сейс?
— Обещаю, сэр.
— Значит, договорились, что вы славный парень?
— Да, сэр.
Сейс и вправду чуть не до слез растрогался от мысли, что такой он всегда был славный, а хоть бы кто догадался о том.
— Мне в полку всю дорогу шанса не дают, — выговорил он.
Гуоткин встал со стула.
— Давайте же пожмем друг другу руку, Сейс, — сказал он.
Гуоткин вышел из-за стола, протянул ладонь. Сейс принял ее опасливо, словно все еще ждал подвоха — скажем, что его электрическим током внезапно ударит или просто Гуоткин развернется с левой и врежет по уху. Но Гуоткин ограничился сердечным пожатием руки. Точно завершая спортивную встречу, он тряс Сейсу руку секунд десять. Затем вернулся за стол.
— Теперь позовем конвоиров, — сказал он, — так что станьте смирно, Сейс. Вот так. Попрошу вас, мистер Дженкинс.
Я открыл дверь, позвал. Старшина с капралом вошли, встали по бокам у Сейса.
— Подконвойный получил дисциплинарное замечание, — сказал Гуоткин командным голосом.
Услышав, что Сейс вышел сухим из воды, старшина не сумел скрыть досаду — сжал губы слегка. Он-то ожидал, что на этот раз дело дойдет до батальонного.
— Конвой с подконвойным — направо кругом — шагом марш — левое плечо вперед…
И они скрылись четко и отлаженно, как эстрадные комики по окончании номера — не хватало только музыкального аккомпанемента. Выходя последним в коридор, старшина Кадуолладер с привычной ловкостью закрыл за собой дверь, не останавливаясь и не оборачиваясь.
Гуоткин откинулся на спинку стула.
— Ну как прошло? — спросил он.
— Хорошо. Отлично.
— Вы считаете?
— Конечно.
— Пожалуй, надо ждать в Сейсе перемены, — сказал Гуоткин.
— Будем надеяться.
Этот разговор по душам подействовал и впрямь благотворно — не на Сейса, а на самого Гуоткина. Сейс каким был, таким примерно и остался; но Гуоткина разговор взбодрил, с ним стало легче работать. Гуоткину требовалась в жизни мелодрама. Сейс на краткое время утолил гуоткинскую жажду театральных эффектов. Однако это драматическое восприятие жизни способно было как воодушевлять Гуоткина, так и повергать его в уныние. Гуоткина удручали не только собственные неудачи, но и все ложившиеся, с его точки зрения, пятном на батальон. К примеру, случай с Морганом — действительно, весьма прискорбный — был воспринят Гуоткином как личное бесчестье.
— За такое расстрелять кого-то надо было, — отозвался Гуоткин об этом инциденте.
Когда мы прибыли сюда, Мелгуин-Джонс провел с личным составом беседу касательно внутренней безопасности.
— Здесь совсем не то, что у нас дома, — сказал он. — Здесь ведет войну с Германией только север, Ольстер. В немногих милях отсюда граница, а за этой границей — нейтральная Ирландия, где изобилуют немецкие агенты. Там, да и на нашей стороне, существуют элементы, враждебные Великобритании и ее союзникам. Отмечены случаи, когда вооруженные банды отнимали винтовки у одиночных наших солдат или пытались добыть оружие хитростью. Даже в здешней округе вы могли заметить на себе враждебные взгляды уличных зевак и слышали, наверно, как дети поют, что на линии Мажино только белье вешать — не на немецкой укрепленной линии Зигфрида, а на французской, Мажино.
Понятно, что оружие в батальоне проверялось и перепроверялось, и у Гуоткина, большого любителя ораторствовать перед ротой, появилась новая богатая тема для речей.
— Дайте команду «вольно», старшина, — начинал он. — Отставить разговоры. Задние ряды — поближе, чтобы всем были отчетливо слышны мои слова. Вот так. Теперь слушать меня внимательно. Командир батальона приказал еще раз предупредить всех вас, чтобы берегли винтовки как зеницу ока, ибо винтовка на войне — лучшая подруга; солдат без винтовки — уже не солдат. Он как мужчина, потерявший то, что делает его мужчиной; он унылый калека и бесполезней, чем шахтер без рудничной лампы или фермер без плуга. Вы знаете, что мы воюем против гитлеровских орд, и поэтому рота должна показать, из какого она теста, и должна блюсти винтовки, как один человек, а ротозеи предстанут у меня перед командиром батальона. Вокруг затаились мерзавцы, которые рады похитить винтовки для своих гнусных целей. Утрата винтовки — дело нешуточное, это вам не то, что не подстригся или пуговицы не начистил. В Олдершотском учебном лагере есть место, именуемое Оранжереей, куда сажают не уберегших винтовку — и вторично им туда уже не хочется. Но я не в угрозу это говорю. Я не под страхом кары хочу вести вас за собой. Я хочу, чтоб вы о чести полка помнили и берегли винтовку, как жену или младшую сестренку. Причем, возможно, не весь еще сержантский состав проникся ответственностью за винтовки и остальное. Капралы, прочувствуйте мои слова. Все винтовки будут проверяться еженедельно, на построении при выплате жалованья. Каждый подходит к столу с винтовкой и, не забудьте, встает как штык по стойке «смирно», глядя прямо и не шевелясь. Таким путем мы все сплотимся, и пусть скажут о роте, как преподобный Попкисс, наш священник, читал нам с кафедры в прошлое воскресенье: «Восстань, Варак! И веди пленников своих, сын Авиноамов». Так берегите же свои винтовки, станем же лучшей ротой батальона и в строю, и в бою. Старшина, дайте команду…
Речь произвела на меня впечатление, хотя моментами я ждал, что слушателей насмешит гуоткинский образ мужчины, потерявшего то, что делает его мужчиной, или сравнение винтовки с подругой, которую нужно беречь, как сестренку. Но, напротив, рота слушала завороженно, и при упоминании о военной тюрьме все шумно вздохнули, как кинозрители, когда им щекочут нервы особенно жуткими кадрами фильма ужасов. Мне вспомнилось, что Брейси, денщик моего отца, вот так же называл свою винтовку лучшей подругой солдата. Четверть века прошло, а простенькое чувство устояло под напором времени и новых, усовершенствованных видов оружия.
— Ребятам полезно выслушать такое, — сказал потом старшина Кадуолладер. — Капитан умеет с ними говорить. Отменный бы из него проповедник.
Даже Гиттинсу — прирожденному скептику, каких поискать в батальоне, — понравилась речь Гуоткина. Я зашел к нему на склад проверить запас тканого снаряжения.
— Хорошую речь сказал ротный, — одобрил Гиттинс. — Уж после этого ребята глаз не должны спускать с винтовок. И с прочего своего имущества, а не приходить ко мне и клянчить замену, как рождественский подарочек.
Кедуорд отозвался более критично.
— Роланда хлебом не корми, — сказал он, — только дай разглагольствовать. А вот интересно, каким он окажется в бою со своей нервностью. Не растеряется ли?
В свою очередь и Гуоткин выражал относительно Кедуорда некоторые сомнения.
— Идуол во многом хороший, надежный офицер, — говорил он мне доверительно, — только я не уверен, способен ли он повести бойцов.
— Солдаты его любят.
— Любить они могут и офицера, неспособного их воодушевить. Янто мне на днях сказал, что солдаты любят Битела. Что ж, по-вашему, Бител способен вести их за собой?
Антипатию Гуоткина к Бителу еще усилил случай с Морганом, происшедший вскоре после проповеди о винтовках. Морган, по прозванию Глухарь, был, в полном соответствии со своим прозвищем, мало сказать тугоух — глух как пень. Лет ему было тридцать пять, от силы тридцать семь, но, как зачастую шахтеры его возраста, он казался много старше. Притом глухота выключала Моргана из солдатского шумного быта и придавала его лицу мягкое, даже благостное выражение, словно бы вовеки не тревожимое ни смятением души, ни беспокойной мыслью. Правда, Глухарь Морган вообще вряд ли страдал изобилием мыслей, беспокойных или же спокойных, так как не блистал умом, хотя обладал всевозможными иными похвальными свойствами. Коротко сказать, Глухарь был полной противоположностью Сейсу. Всегда безупречно опрятный, он готов был днем и ночью выполнять работы из разряда утомительных и нудных — в истинно христианском безропотном духе. А даже у хороших солдат готовность эту сыщешь нечасто. Вот Глухаря и не отослали в дивизионный тыл при передислокации — хотя, как нестроевика, перевод в тылы ожидал его рано или поздно. Но не только и не столько за редкостную и безотказную старательность его держали у нас, сколько потому, что все его любили. К тому же он прослужил уже в территориальном нашем батальоне дольше всякого другого рядового и не хотел уходить от товарищей (говорили, что дома его поедом ест жена) — и у начальства не подымалась рука заполнить на него уж не знаю какую там переводную форму. Морган служил у Битела во взводе.
Самого Битела незадолго перед тем назначили ведать стрелковой подготовкой. Не потому, что Бител отличился в этом деле, просто батальон был недоукомплектован офицерами, да еще нескольких откомандировали на курсы. К тому времени мне стала уже ясней индивидуальность Битела. Он был провинциальный неудачник, перебивался до войны случайным заработком — предпочтительно на театральных задворках, — живя одинокой, пьяной жизнью вечно в двух шагах от беды, но неизменно ухитряясь избежать серьезных неприятностей. Здесь, в батальоне, он уже не повторял любовной пляски вокруг чучела, не позволял себе ничего в столь экзотическом духе. Тем не менее чувствовалось, что эти проявления его натуры не полностью подавлены, а дремлют в нем. Держался он всегда смирно, почти подобострастно, однако под смиренностью ощущалось самомнение — быть может, даже болезненное.
— Вас не увлекало движение бойскаутов? — спросил он меня как-то. — Я увлекался одно время, служил у них организатором. Для мальчиков бойскаутство — чудесная вещь. Дает им такие возможности. Но в конце концов я бросил. Среди них свинята, знаете, встречаются. Вы не можете себе представить, что от них услышишь. Я был поражен, о каких они знают вещах. А слова какие употребляют между собой. Вы просто не поверите. Мне говорили, там потом очень сожалели о моем уходе. У них большие трудности с подбором подходящих кадров. Туда суются всякие мерзкие типы.
Нет места хуже для эгоистов, чем армия, — и нет места лучше. Так, Бителу служить было прескверно: им вечно помыкали, с него взыскивали; Гуоткину же было превосходно, поскольку он обладал — в определенных пределах — желанными чином и властью. Однако в армии, как и везде, ничто не вечно. Справедливо говаривал Мелгуин-Джонс: «И этот день придет к концу, как прочие». Пусть честолюбие Гуоткина было на время удовлетворено (осуществлен его «личный миф», как сказал бы генерал Коньерс), но ведь всегда есть опасность, что переназначат, повысят неудачно, обязанности перераспределят — и все изменится. Даже и у Битела могли перемениться полностью или частично обстоятельства, мешающие ему заниматься любимым своим суетливым бездельем. К примеру, чрезвычайно обрадовало Битела назначение на стрельбище — и по нескольким причинам. Бител не без оснований считал, что это укрепляет его шаткий статус, хотя ведать стрелковой подготовкой, пожалуй, легче, нежели вести повседневные занятия со взводом. Вдобавок на стрельбище нес постоянно службу Дэниелс, ординарец Битела.
— Он мой бесценный клад, — говорил Бител. — Вы знаете, как трудно найти себе здесь ординарца. Не идет никто, не хотят, несмотря на льготы. А Дэниелс — золото мое. Пусть он иногда непунктуален, забывчив — и даже весьма часто. Но что я в нем люблю — при любой погоде он встречает вас веселым словом. И к тому же чистенький, как стеклышко. Просто залюбуешься, когда он утром делает зарядку, а это не про каждого солдата скажешь. Что ни говори, а Дэниелс не такой, как вся эта шахтерская молодежь, хоть они и славные ребята. Он недаром прослужил три месяца коридорным в «Зеленом драконе» в нашем городке — навидался всякого, наслышался, пообтесался.
Другие отзывались о Дэниелсе менее лестно; он ловко жонглировал учебными гранатами, но был, по общему мнению, хитроват и вороват. Я знаю, нет ничего необычного в том, что лейтенант так носится со своим ординарцем; правда, это скорее свойственно старшим офицерам. В холоде военщины возникает любопытная теплота, интимность, в которой нет, однако, ничего выходящего за установленные рамки приличия и дисциплины. Ничего, даже слабо отдающего половым извращением или нарушеньем воинского порядка; люди нормальнейшие, офицеры добросовестнейшие часто дают тому разительные примеры. Вспоминается, что даже у моего отца было почти мистическое единение с Брейси — человеком, впрочем, незаурядным. Непросто объяснить, как возникают эти отношения; быть может, они неизбежны в условиях сугубо мужского общества. Бывает, что кадровый, старый офицер тратит большие усилия на то, чтобы избавить ординарца от незначительного и заслуженного наказания. Так что хвалы, которые возносил Бител Дэниелсу, не вызывали у меня удивления. И, во всяком случае, не из-за Дэниелса, а из-за Глухаря Моргана загорелся весь сыр-бор.
— За каким чертом приспичило Биту отсылать Глухаря одного? Винтовку можно бы и позже на час починить, — недоумевал потом Кедуорд.
Это так и осталось неразъясненным. Возможно, Бител хотел беспрепятственней насладиться общением с Дэниелсом. Но и допуская это, я уверен, что между ними не произошло ничего непозволительного — ведь на стрельбище оставались другие солдаты. Заняться вещами недозволенными было бы крайне трудно, даже если Бител и готов был пойти на риск. Гораздо правдоподобнее, что — поскольку Морган служил у него во взводе — Бител хотел без промедления устранить дефект, обнаруженный в винтовке Глухаря, и тем избежать нагоняя. Так или иначе, но Бител отослал Глухаря с винтовкой в казарму, к сержанту-оружейнику. Стрельбище расположено на пустыре в двух или трех милях от города, если идти по шоссе. Полями дорога короче. В ненастье полевая тропка размокает. Но день был не дождливый (что здесь большая редкость), и Глухарь Морган решил пойти тропкой.
— Надо было мне, наверно, приказать, чтобы шел по шоссе, — говорил позже Бител. — Но пока этому глухому втолкуешь, горло надорвешь.
Засада ждала Моргана в перелеске, невдали от городской окраины. Глухого, его без труда окружили четверо молодых людей — двое схватили, угрожая пистолетами, другие двое отняли винтовку. Морган сопротивлялся, но безуспешно. Нападавшие скрылись бегом за изгородь, где, как позже сообщила полиция, ждал их автомобиль. Глухарю не оставалось ничего иного, как пойти в казарму и доложить о случившемся. Дежурил по батальону сержант Пендри. Он проявил примечательную расторопность. Связался с Мелгуин-Джонсом, который в тот день объезжал местность на джипе, готовя учебное тактическое задание. Тут же сообщили полиции, к чьему ведению относилась подрывная деятельность гражданских лиц. Глухаря Моргана, разумеется, посадили под арест. Скандал получился порядочный. Ведь именно от этого предостерегал Мелгуин-Джонс в своей беседе о безопасности. Полиция, привычная уже к подобным засадам, подтвердила, что в округе отмечены были четверо подозрительных лиц, ушедших затем за рубеж. Происшествие огорчало тем более, что Глухарь был всеобщим любимцем. Как я уже упомянул, особенно переживал бесчестье Гуоткин. Свое раздражение он обратил на Битела.
— Теперь уже батальонный от него непременно избавится, — сказал Гуоткин. — Так продолжаться не может. Он недостоин носить звание офицера.
— Не вижу, что тут мог старина Бит, — заметил Бриз, — даже если малость неосмотрительно было посылать Глухаря одного.
— Пускай здесь нет прямой вины Битела, — возразил сурово Гуоткин, — но если с подначальным случается такое, то офицер должен пострадать. Это, может быть, несправедливо, но пострадать все равно должен. А в данном случае, по-моему, и справедливо будет. Я даже не удивлюсь, если сместят самого полковника.
Это верно, смещением пахло. Командир батальона и впрямь приготовился к худшему, и сам не однажды говорил об этом в офицерском клубе. Обошлось, однако, без столь крутых мер. Глухаря судил военный суд, но он отделался внушением и переводом в тыл, на съеденье жене. Он, как-никак, сопротивлялся нападавшим. При данных обстоятельствах едва ли можно было Моргана посадить в тюрьму за утрату оружия и незадержание четверых молодцов, застигших его врасплох, — по глухоте своей он ведь не услышал их приближения, как ранее не расслышал толком предостережений Мелгуин-Джонса. Объявили приговор военного суда, и тут же приказали нам готовиться к полуторасуточным дивизионным учениям — первым, в которых предстояло участвовать батальону.
— Это новый командир дивизии дает себя знать, — сказал Кедуорд. — Он, говорят, намерен встряхнуть всех основательно.
— Как его фамилия?
Для тех, кто служит в батальонах, даже командир бригады — особа сиятельная, а уж дивизионный командир — заоблачная, богоподобная фигура.
— Генерал-майор Лиддамент, — сказал Гуоткин. — Надо думать, он подстегнет людей.
Учения начались с побудки в 4.30 (в этот день нам предстояло, кстати, опробовать новые термоса-контейнеры) — и тут-то я заметил, что с сержантом Пендри происходит неладное. Он не построил взвода вовремя. Это было совсем на него не похоже. До сих пор Пендри ничем не подтвердил опасений Бриза, что сержант сникнет после первых нескольких недель кипучей деятельности. Напротив, Пендри продолжал рьяно исполнять свои обязанности и жизнерадостностью напоминал капрала Гуилта… Поднявшись ни свет ни заря, особенно бодрым не будешь, но у сержанта Пендри лицо во время завтрака отливало зеленью, как у Гуоткина после морской переправы, и ночным подъемом это не могло быть вызвано. Быть может, он сглупил — выпил накануне? Вообще-то в батальоне пили очень мало — жесткая программа обучения не давала поблажки, — но Пендри славился в сержантской столовой уменьем пропустить пинту-другую без последствий. Быть может, исполнялось предсказание Бриза: Пендри внезапно достиг точки, за которой наступает крах. Таким образом, день начался скверно; Гуоткина справедливо рассердило то, что взвод замешкался и потому осталось мало времени для тщательной проверки роты перед построением всего батальона. На место учений, удаленное от города, нас доставляли взводные машины.
— Эх, и люблю машинку быструю, — сказал капрал Гуилт. — Большое удовольствие мотать дорогу на колеса.
Сержант Пендри, обычно шумней шумных, тихо сидел сзади, и вид у него был, словно его одолевала тошнота. По обыкновению лил дождь. Мы ехали пустынной равниной под бескрайним серым небом; часа через два прибыли к месту назначения. Гуоткин в своем ротном джипе отправился туда до нас. Он стоял у дороги, нетерпеливо ожидая.
— Людей снять с машины без промедления, — сказал он, — и построить за дорогой. Зенитную оборону и химразведчика по местам. А машины развернуть к проселку, в направлении вон того дерева, и головной поставить машину второго взвода, а не как теперь. Исполнить немедленно. Затем послать вестового в роту «Б» для отмены прежнего приказа, по которому разведываем местность на левом фланге между ротами. Теперь приказ — разведать на правом фланге. И еще, прежде чем отбыть на батальонный инструктаж командиров рот, хочу предупредить всех взводных командиров. Хочу, чтоб уяснили, что я совершенно недоволен началом. Никто из вас не проявил пока энергии. Смотреть стыдно. Подтянитесь, если не хотите неприятностей. Уяснили? Вот так. Можете вернуться к взводам.
На нем накинута была резиновая плащ-палатка на манер старинной епанчи, и, в своей каске с плоскими полями, он выглядел фигурой из позднего средневековья, офицером Столетней войны или летучих отрядов Оуэна Глендауэра. Я вдруг понял, что именно там место Гуоткину, а не в современной армии, столь его пленяющей. Усы Гуоткина, смокшие от дождя, обвисли по углам рта, как у изображений на гробницах или на мемориальных медных досках. Те, кто в раздоре с окружающим, часто кажутся пришельцами из прошлых исторических эпох. Гуоткин был не то чтобы в разладе с миром. Во многих отношениях он вел себя «как принято», был воплощеньем шаблона. В то же время он, общаясь, не умел подойти по-житейски, встать на точку зрения другого. Возможно, людям была в Гуоткине ощутима и неприятна грандиозность его воинских грез.
После многих понуканий и команд взводы вышли нехотя из уюта машин под проливной дождь и теперь угрюмо строились.
— Роланд в дряннейшем настроении, — сказал Бриз. — С чего это он такой кусачий?
— Нервы взвинчены, — ответил Кедуорд. — Он чуть не забыл взять карты местности. Хорошо, я напомнил. Почему вы запоздали с построением взвода, Ник? Это обозлило Роланда с самого начала.
— Сержант Пендри замешкался. Он сегодня нездоров.
— Вчера старшина что-то говорил о Пендри, — сказал Бриз. — Что именно, Идуол, не слышали?
— Что сержанту надо в отпуск, — сказал Кедуорд. — Вечно невпопад заводит эти разговоры. Роланд подготовкой к учениям занят, а старик Кадуолладер морочит ему голову.
Гуоткин вскоре вернулся; прозрачная слюдяная крышка его планшета, прикрывающая карту, была вся расцвечена карандашными обозначениями дислокации подразделений.
— Рота обеспечивает поддержку, — сказал он. — Командиры взводов, попрошу поближе — к карте.
Он принялся объяснять нашу задачу, начав с общих принципов, которыми руководится рота поддержки, и затем перейдя к конкретным требованиям момента. Эти две стороны дела сплелись в комплекс распоряжений и соображений, основанный, без сомнения, на здравой военной доктрине, но пропущенный через голову Гуоткина и оттого порядком подзапутанный. Гуоткин, очевидно, загодя штудировал теорию поддержки по «Боевому уставу пехоты». Вдобавок наизусть запомнил выражения, употребленные во время инструктажа командиром батальона: исходный рубеж… места встречи… районы сосредоточения… эшелон «Б»… Исполнение этих различных фаз маневра зависит, конечно, от местности и прочих обстоятельств — короче, во многом отдано на усмотрение низших командиров. Но не так трактовал вещи Гуоткин. Хотя он любил повторять, что ему нужна свобода для собственных тактических ходов, на деле он предпочитал следовать букве учебника и словам старшего офицера. Когда Гуоткин кончил говорить, стало ясно, что роте предстоит проделать все виды маневрирования, какие только мыслимы для групп поддержки.
— Вот так, — сказал Гуоткин. — Вопросы есть?
Вопросов не было — главным образом потому, что трудно было расчленить этот ералаш на отдельные вопросы. Мы сверили ориентиры, сверили часы. Дождь уже перестал. День и теперь хмурился, но потеплело. Когда я вернулся к своему взводу, там шла перебранка — между Сейсом, нашим полууголовником, и Джонсом Д., таскавшим противотанковое ружье. Как всегда, Сейс был, по совести, не прав, хотя формально и прав на этот раз, если только Сейс не лгал, а он, скорее всего, лгал. Препирательство касалось патронной гильзы. В другое время сержант Пендри разобрал бы дело мигом. Но сержант сник, и пришлось мне вершить суд. В итоге обе стороны остались разобижены. Взвод двинулся по открытой местности. Вначале я строго следовал распоряжениям Гуоткина; потом, видя, что мы не поспеваем за взводом Бриза, ускорил продвижение. Но все равно когда ближе к полудню достигли поля, где был намечен сбор роты, то из-за формальностей маневрирования оказалось уже потеряно много времени. Бойцам скомандовали «вольно», затем разрешили прилечь на траву, подостлав плащ-палатки.
— Ждать приказа на месте, — сказал Гуоткин.
Он по-прежнему был в том напряжении, в какое всегда приводила его жажда отличиться. Но повеселел заметно. Он хвалебно отозвался о хитроумии тактической системы, как она изложена в уставе и осуществлена сейчас ротой на практике.
— Уложились минута в минуту, — сказал он.
Отошел не спеша и стал в бинокль оглядывать окрестность.
— Напортачили чертовски, — вполголоса произнес Кедуорд. — Нам бы надо продвинуться еще хоть на милю, чтобы в нужный момент от нас была польза на переднем крае обороны.
Не имея твердых мнений на сей счет, я был, однако, склонен согласиться с Кедуордом. Все перепуталось. Я затруднялся уже разобраться, что происходит и какую роль должна теперь по справедливости играть рота. Хотелось прилечь, как солдаты, и вытянуть ноги, а не стоять, настороженно ожидая гуоткинских приказов и следя за всяческими мелочами. Немного погодя прибыл вестовой и вручил Гуоткину послание.
— Господи боже, — сказал тот, прочтя.
Блин, по-видимому, вышел комом. Гуоткин снял каску, стряхнул капли дождя. Огляделся потерянно.
— Не так получилось, — сокрушенно проговорил он.
— Что именно?
— Поднять и построить людей, — сказал Гуоткин. — Тут пишется, что нам давным-давно пора занять рубеж поддержки.
Нам надлежало находиться вплотную за ротой, в поддержку которой мы были назначены, а мы все еще топтались в нескольких милях от рубежа, выполняя, видимо, очередную предварительную эволюцию в гуоткинском тактическом лабиринте. Кедуорд оказался прав. Нам следовало двигаться быстрее. Гуоткин «напортачил». Теперь он начал спешно отдавать приказы направо и налево. Но тут же прибыл второй вестовой с приказанием Гуоткину не трогать роту с места, а пропустить другую роту, приближавшуюся к нам. Как игроки в гольф, потерявшие свой мяч, мы, расчленив строй, пропустили эту роту. Она проследовала, чтобы выполнить задание, порученное нам. Прошел мимо и взвод под командой Битела. Бител шагал торопливо, весь красный, одышливо хватая воздух ртом. Поравнявшись со мной, он остановился, спросил:
— Таблетки аспирина не найдется?
— К сожалению, нет.
— Забыл прихватить.
— Сочувствую вам.
— Ну да ладно, — сказал он, сдвигая на минуту каску со лба. — Я подумал, может, аспирин помог бы.
Зубы его металлически лязгнули. Он пустился догонять своих солдат, и догнал, когда взвод скрывался уже из виду. Мы продолжали томиться «в готовности», ожидая приказа.
— Можно бойцам опять присесть пока что? — спросил Бриз.
— Нет, — отрезал Гуоткин.
Глубоко униженный случившимся, он стоял молча, нервно поправляя кобуру. Наконец пришел приказ. Роте было велено следовать дорогой — к батальонному командному пункту. Самому Гуоткину предписывалось тотчас явиться к командиру батальона.
— Я весь батальон подвел, — пробормотал Гуоткин, идя к своему джипу.
Того же мнения был и Кедуорд.
— В жизни не видал такого копошенья, — сказал он. — Я не стал выполнять и половины напридуманного Роландом — и то с опозданием вывел взвод. А если бы выполнял все, то не кончили бы за неделю. Не добрались бы и до этого поля, где хоть передохнуть смогли.
Мы зашагали к батальонному КП. Когда я привел туда взвод, день начинал клониться к вечеру. Снова падал дождь. Командный пункт был на лесной поляне, там расположились и походные кухни. Наконец можно будет поесть: солдаты проголодались, да и сам я тоже. Завтрак был ведь в начале шестого, во времени давнопрошедшем. Я почему-то не захватил с собой шоколада — возможно, потому, что трудно уже стало его доставать. Гуоткин ждал нас на поляне. По лицу его было ясно, что командир батальона продрал Гуоткина с песочком. Лицо было мелово-бледное.
— Взвод сейчас же вывести на патрулирование, — сказал он мне.
— Но люди еще не обедали.
— Пусть поторопятся, если хотят успеть перекусить. А вы не успеете. С вами я займусь картой. Взводу предстоит произвести разведку, а затем непрерывно патрулировать. Уж придется вам не евши.
Он, видимо, рад был сорвать на мне свою досаду. Иначе не подчеркнул бы дважды, что мне предстоит голодать до особого распоряжения. Взбучка, заданная начальником, никак не улучшила Гуоткину настроения. Он был растерян и взбешен. У него тряслась рука, когда он водил карандашом по карте.
— Приведете взвод к этому пункту, — сказал он. — Тут будет ваш КП. А здесь — канал. У этого ориентира саперы перебросили канатный мост. Вы лично пересечете канал по мосту и произведете разведку того берега отсюда и до этого места. Затем возвратитесь и будете со взводом вести непрерывное патрулирование, как изложено в боевом уставе, а перед тем пришлете ко мне вот сюда вестового с указанием координат вашего КП. В надлежащее время я прибуду, осмотрю позицию и приму ваш рапорт. Уяснили?
— Да.
Он передал листок с ориентирами.
— Вопросы есть?
— Нет вопросов.
Гуоткин ушел сердитыми шагами. Я возвращался ко взводу нимало не обрадованный. Не поесть — вещь в армии обычная (и офицеру ли роптать на это), но приятней она от этого не становится. Когда я пришел в участок леса, отведенный взводу, Пендри выстраивал уже людей. Они ворчали, что не удалось толком и пообедать и что тушеное мясо пахло термосом. Один был просвет на общем темном фоне — что проедем часть пути в грузовике. Погрузка или сгрузка тридцати солдат — дело не секундное. Вскарабкиваясь в кузов по колесу, Джонс Д. поскользнулся и уронил противотанковое ружье — этот непомерно тяжелый, уже устаревший вид оружия — на ногу Уильямсу У. X., взводному вестовому, чем на время вывел Уильямса из строя. А Сейс затянул длинную жалобу на тошноту от тушеного мяса: у него, у Сейса, болезнь, подтвержденная военным врачом. Об этих неполадках скептически и нехотя доложил мне капрал Гуилт. Я был не в настроении нянчиться с Сейсом. Если Сейса тошнит от обеда, то все же он хоть пообедал — таков был мой ответ. Со всем этим мы провозились минут десять. Я опасался, что вернется Гуоткин и распушит за промедление, и будет прав; но Гуоткин исчез, отправился портить жизнь кому-нибудь другому или же попросту ушел искать укромный уголок, чтобы, кратко отстрадавшись там, восстановить воинский свой дух. Сержант Пендри по-прежнему был вял. Бриз верно оценил Пендри, подумал я, или, возможно, у Пендри это не с похмелья, а нездоров он, приболел? Он не шел, а волокся, и команды кричал чуть не шепотом. Когда люди разместились в кузове, я отвел его в сторону.
— Как самочувствие, сержант?
Он взглянул непонимающе.
— Самочувствие, сэр?
— Пообедать успели со взводом?
— Конечно, сэр.
— Поели как следует?
— Поел, сэр. Да не естся что-то.
— Вы нездоровы?
— Да не так чтобы здоров, сэр.
— А что с вами?
— Не знаю толком, сэр.
— Но как же это не знаете?
— Ошарашен я домашними делами.
Вникать в домашние дела сержантского состава было не время сейчас — когда наконец-то все готово и водитель ждет моего приказа ехать.
— Вернемся в казарму, подойдите ко мне — поговорим.
— Хорошо, сэр.
Я сел рядом с водителем. Мы проехали несколько миль, до пересечения дорог. Там сошли, и грузовик вернулся на базу. Взводный КП мы устроили в ветхом коровнике; остальные строеньица фермы виднелись неподалеку, за полями. Уладив дело с КП и выбрав там даже место для воображаемого двухдюймового миномета, будто бы приданного нам, я пошел к каналу. Нашел канатный мост без особого труда. К мосту был приставлен капрал. Я объяснил свое задание и спросил, надежен ли мост.
— Вихляется он, мостик этот.
— Я перейду, а вы побудете тут рядом.
— Слушаю, сэр.
Сделав шагов пять-шесть, я упал с моста в воду. Она оказалась не столь уж холодной для этой поры года. Кончил переправу я вплавь, а вымок я порядком и до этого, под дождем. На том берегу я побродил по местности, отмечая детали, долженствующие быть важными. После чего вернулся к каналу и, разочаровавшись уже в мостике, опять пустился вплавь. Берега довольно круты, но капрал помог мне выбраться. Он, казалось, вовсе не был удивлен тем, что я предпочел воду переправе по мосту.
— Шатучие они, мосты эти канатные, — только и сказал он.
Уже стемнело, дождь не утихал. Я возвратился в коровник. Там ждал меня восхитительный сюрприз. Оказалось, что капрал Гуилт, вместе с Уильямсом У. X., сходил на ферму и выпросил у хозяев кувшин чаю.
— Мы оставили вам кружечку. А и промокли же вы, сэр.
Я чуть не обнял Гуилта. Чай был «доброй старшинской заварки», как говаривал когда-то дядя Джайлз. Он был вкуснее любого шампанского. Выпив, я помолодел лет на десять, и даже одежда словно обсохла на мне.
— А крупная бабища эта фермерша, что чаю нам дала, — сказал капрал Гуилт, обращаясь к Уильямсу У. X.
— Да, крупного размера, — согласился Уильямс тугодумно. Легкий на ногу и голосистый, он в других отношениях не отличался талантами.
— Я ее прямо забоялся, — продолжал Гуилт. — В маленькой кровати такая может задавить.
— Такая может, — подтвердил Уильямс очень серьезно.
— А тебе не боязно бы, сержант Пендри, с бабищей вдвое крупней тебя?
— Да замолчи ты, — воскликнул Пендри с неожиданной силой. — Не надоест тебе вечно о бабах?
Капрал Гуилт и бровью не повел.
— А в большой кровати с ней бы еще боязней, — задумчиво сказал он.
Мы допили чай. Часовой привел в коровник вестового с приказом от Гуоткина. Мне надлежало через полчаса встретить Гуоткина; координаты такие-то. Место встречи оказалось ближним перекрестком.
— Мне отнести кувшин обратно, капрал Гуилт? — спросил Уильямс.
— Нет, парень, я сам отнесу, — сказал Гуилт. — Разрешите отлучиться, сэр?
— Валяйте, но не заночуйте там.
— Я быстренько, сэр.
Гуилт ушел с кувшином. Небо прояснялось. Луна светила. Посвежело. Когда подошло время, я отправился встречать Гуоткина. С деревьев капало, но, мокрому, терять мне было нечего. Я стал у дороги; Гуоткин наверняка опоздает. Но нет, джип показался вовремя. Остановился в лунном свете около меня. Гуоткин вышел из машины. Велел водителю передать то-то и там-то и вернуться в такое-то время сюда. Джип уехал. Гуоткин медленно зашагал по дороге. Я шел рядом.
— Все в порядке, Ник?
Я доложил ему о действиях взвода и о результатах разведки на том берегу.
— А почему так промокли?
— Упал с моста в канал.
— И переправились вплавь?
— Вплавь.
— Отлично, — одобрил Гуоткин, точно решение плыть было на редкость остроумным.
— Как развертывается учебный бой? — спросил я.
— Все окутал военный туман.
Это была любимая фраза Гуоткина. Он, должно быть, черпал в ней поддержку. Помолчали. Гуоткин порылся у себя в полевой сумке. Извлек внушительную плитку шоколада.
— Это я вам привез.
— Спасибо громадное, Роланд.
Я отломил порядочный кусок, протянул ему остальное.
— Нет, — сказал он. — Это все вам.
— Вся плитка?
— Да.
— А себе?
— Она вам предназначена. Я подумал — вы, возможно, не захватили шоколада.
— Не захватил.
Он заговорил снова об учениях, разъясняя — насколько позволял ему «военный туман», — какой стадии достиг бой, каковы будут наши ближайшие передвижения. Я поглощал шоколад. Я и забыл, как он бывает вкусен. И почему я до войны так мало ел шоколада? Точно сильный наркотик, он совершенно изменил мое восприятие мира. Я вдруг потеплел к Гуоткину сердцем — почти в той же мере, что к капралу Гуилту, хотя первый глоток чая из кружки оставался не сравним ни с чем. Мы с Гуоткином остановились на обочине взглянуть на карту в лунном свете. Затем он сложил и застегнул планшет.
— Мне жаль, что я отослал вас без обеда, — сказал он.
— Приказ того требовал.
— Нет, — сказал Гуоткин. — Не требовал.
— То есть?
— Времени хватило бы с избытком, чтобы вам поесть, — сказал он.
Я не нашелся что ответить.
— Мне надо было отыграться за фитиль, что мне полковник вставил, — сказал он. — А кроме вас, не на ком было — во всяком случае, вы первый попались под руку. Командир батальона меня в порошок стер. Я бы всю роту послал в поле без обеда, но только я знал, что получу новый фитиль, еще даже похлеще, если обнаружится, что по моему приказу люди зря остались голодны.
Признание делало Гуоткину честь: извинения он принес нескупые. Но куда им было до шоколада! Остатки налипли еще на зубах. Я слизал их языком.
— Конечно, если приказ, тогда уж обедал не обедал, а иди, — горячо сказал Гуоткин. — Кидайся, висни на колючей проволоке, чтоб пулеметами изрешетило, при на штыки, чтоб пригвоздило к стене, ныряй в ядовитое облако без противогаза, беги на огнемет в узком проулке. На все готов будь. Но — если приказ.
Я согласился, не видя в то же время особой надобности дольше толковать об этих, несомненно, важных аспектах воинского долга. Разумней всего переменить разговор. Гуоткин признал вину, стремясь ее загладить, — поступок редчайший для любого из нас, — и теперь следовало отвлечь его от дальнейшего перечисления неприятностей, коим подвержена жизнь солдата.
— Сержант Пендри что-то приуныл сегодня, — сказал я. — Болен, должно быть.
— Я хотел поговорить с вами о нем, — сказал Гуоткин.
— Вы тоже заметили его состояние?
— Он подходил ко мне вечером. Из-за всех этих учебных приготовлений я не успел сказать вам раньше — или просто забыл.
— А что такое с ним?
— С женой скверно, Ник.
— Что с ней?
— Сосед сообщил ему в письме, что жена спуталась с другим.
— Понятно.
— В газетах без конца трубят, что британские женщины не щадят усилий для победы. А по-моему, — продолжал Гуоткин со все той же страстностью, которая моментами вскипала в нем, — они не щадят усилий, чтобы спать с кем только могут, пока муж в армии.
Пусть в словах Гуоткина была доля преувеличения, но надо признать, что подобные письма мужьям приходили в роту нередко. Чипс Лавелл (мы с ним женаты на сестрах) заметил однажды: «Почитать нашу популярную прессу, подумаешь, что прелюбодействуют одни богатые. Вот уж вершина глупого газетного снобизма». И действительно, ведя ротные дела, через недельку-две лишишься всех иллюзий на этот счет. Я спросил Гуоткина, известны ли подробности семейного несчастья с Пендри. Подробностей Гуоткин не знал.
— Мерзость какая, — сказал он.
— Мужчины, надо думать, тоже рады позабавиться при случае. Не одни лишь женщины. Правда, находить на это время ухитряется здесь разве что капрал Гуилт.
— Мужчина — дело другое, — сказал Гуоткин. — Только нельзя из-за женщины забывать свой долг.
Мне вспомнился фильм, который мы с Морландом смотрели до войны. Русский полковник (действие происходит в царские времена) делает подчиненному выговор, употребляя именно эти слова о долге: «Женщиной, из-за которой забываешь свой долг, следует презреть». Насколько помню, там юный поручик, проведя ночь с любовницей полковника, опоздал к утреннему построению. Впоследствии мы с Морландом не раз возвращались в своих разговорах к этому суровому суждению.
— Это как взглянуть, — пожимал плечами Морланд. — Матильда, скажем, возразила бы, что следует презреть как раз женщиной, неспособной заставить тебя забыть о долге. Барнби же сказал бы, что следует презреть долгом, из-за которого забываешь о женщинах. Все тут зависит от точки зрения.
Возможно, Гуоткин смотрел фильм и запомнил фразу, милую ему. Но, вообще-то, вряд ли этот фильм, сравнительно «умственного» пошиба, дошел до провинциальных экранов. Скорее Гуоткин самостоятельно выносил в себе эту мысль — возвышенную, но не весьма оригинальную. К примеру, Уидмерпул, мой однокашник, после неудачной влюбленности в Джипси Джонс зарекся связываться с женщиной, из-за которой бросаешь дела. О собственной своей жене Гуоткин говорил редко. Упомянул как-то, что тесть его болен и, если умрет, теще придется перебраться к ним.
— Как же вы с Пендри поступите? — спросил я.
— Устрою ему отпуск поскорее. Боюсь, что придется вам побыть без взводного сержанта.
— Все равно Пендри положен отпуск рано или поздно. К тому же от него — теперешнего — мало пользы.
— Чем скорее Пендри съездит в отпуск, тем скорее покончит со всем этим.
— Если сможет.
Гуоткин взглянул на меня удивленно.
— Съездит домой — и все упорядочит, — сказал он.
— Будем надеяться.
— Разве, по-вашему, Пендри не сумеет обуздать жену?
— Не могу судить, не зная ее вовсе.
— То есть она может уйти к тому, другому?
— Все может случиться. Пендри может и убить ее. Кто знает.
— Помните ту книжку Киплинга у меня? — сказал Гуоткин, помолчав минуту.
— Да.
— Там перед каждым рассказом — стишки.
— Да, и что же?
— Один мне накрепко запомнился — некоторые строчки. Целиком я стихов не удерживаю в памяти.
Гуоткин опять замолчал. Неужели счел, что уже слишком раскрылся, и не назовет стишка?
— Какой же это запомнился вам?
— Там про бога римского, что ли.
— A-а, про Митру.
— Вы помните?
— Конечно.
— Уму непостижимо, — удивился Гуоткин, глядя на меня как на фокусника.
— Как вы сами выразились, Роланд, мое ремесло вынуждает меня много читать. Но что же вам запомнилось о Митре?
— Там сказано: «Митра, и ты ведь воин…»
Гуоткин замолчал. Посчитал, видимо, что я с полустроки пойму его.
— А перед тем упомянуто, что лбу жарко под каской и что от сандалий горят ноги? Вообразить не могу ничего тягостнее, чем шагать в античных сандалиях, особенно по булыжным римским дорогам.
Но Гуоткин оставил без внимания проблему пеших воинских переходов в сандалиях. Он был очень серьезен.
— «…нас до у́тра храни в чистоте», — подсказал он.
— Да, да.
— Как это понимать?
— Пожалуй, как весьма необходимую молитву для римского легионера.
Опять Гуоткин и не улыбнулся.
— Тут женщины имеются в виду? — спросил он, словно сейчас только додумавшись.
— Надо полагать.
Я подавил в себе соблазн пошутить насчет других, более темных, пороков, которым войско, столь разноплеменное, как римские легионы, было подвержено и для пресечения которых могло бы потребоваться спешное вмешательство Митры. Гуоткину было не до ученых шуточек. Не менее бесплодным, безнадежно-схоластическим делом было бы пуститься толковать о том, что римская оккупация Британии в действительности сильно отличалась от киплинговского изображения. В лучшем случае я жестоко запутался бы, объясняя соотношение фактов с поэзией.
— Многозначительные строчки, — медленно произнес Гуоткин.
— Зовут держать себя в узде?
— Поневоле обрадуешься, что женат, — проговорил он. — Что о женщинах не надо больше думать.
Он повернул обратно к перекрестку. Вдали стал слышен шум автомашины. Показался ротный джип. Гуоткин прекратил размышлять о Митре, снова обратясь в командира роты.
— Заговорились, и не успел осмотреть позицию вашего взвода — там ничего такого, что надо бы проверить?
— Ничего.
— Немедленно поведете бойцов к месту, указанному мной на карте. Заночуем там на ферме, в хозяйственных постройках. Это недалеко отсюда. Все смогут передохнуть до завтра. Ничего особого на нас не возлагается до полудня. Уяснили?
— Уяснил.
Он сел в машину. Джип снова укатил. Я вернулся к своему взводу. Сержант Пендри встретил меня, отрапортовал. Вид у него был все тот же, утренний, — не лучше, не хуже.
— Капитан Гуоткин говорил сейчас со мной о вашем отпуске, сержант. Устроим это, как только закончатся учения.
— Очень вам благодарен, сэр.
Он произнес это бесцветным голосом, как если бы отпуск совершенно не интересовал его.
— Постройте взвод. Ночевка будет на одной из ближних ферм. Сможем там поспать.
— Слушаю, сэр.
Как всегда, прошагать пришлось больше, чем рассчитали по карте. Снова уже лил дождь. Но, когда пришли, на ферме оказалось вполне сносно. Взводу отвели большую ригу под соломенной кровлей, было и внутри много соломы. Капрал Гуилт, как всегда, морщил нос от сельской обстановки:
— Ну и вонища тут кругом. Не терплю всех этих коров.
Я проспал эту ночь как убитый. Утром, вскоре после завтрака — я проверял как раз посты с сержантом Пендри, — спешно явился Бриз с важной вестью.
— Только что прибыл и стал на обочине штабной автомобиль с флажком командира дивизии, — сообщил он. — Должно быть, генерал проводит летучую инспекцию. Роланд приказал немедленно занять людей чисткой оружия или другим полезным делом.
Бриз побежал дальше — предупредить Кедуорда. Я прошел по риге, побуждая солдат к деятельности. Некоторые уже и сами счищали грязь со снаряжения. Тем, кто не трудился так явно и полезно, я нашел иные похвальные занятия. В несколько минут все упорядочилось — и как раз вовремя. Послышались шаги и говор. Я выглянул — через двор фермы, меся грязь, направлялись к нам генерал с адъютантом и Гуоткин.
— Идут, сержант Пендри.
Вошли в ригу. Пендри скомандовал «смирно». Я тут же заметил, что генерал Лиддамент в довольно дурном настроении. Это был мужчина серьезного вида, молодой для генерала, с бритым лицом, похожий скорее на ученого, чем на солдата. Приняв дивизию недавно, он уже дал себя почувствовать в мелких повседневностях службы. Хотя кадровики военные глядели на него как на педанта (так Мелгуин-Джонс отнесся о нем в разговоре с Гуоткином), но Лиддамент считался генералом думающим. Быть может, чтобы рассеять впечатление о себе как о педанте-формалисте — сознавая, возможно, этот недостаток и борясь с ним, — генерал Лиддамент позволял себе некоторые отступления от формы. Так, он ходил с длинной тростью, похожей на жезл соборного служителя, и носил клетчатый черно-коричневый, небрежно накинутый шарф. За борт походной куртки был засунут охотничий рожок. По словам того же Мелгуин-Джонса, иногда генерала сопровождали две небольшие собаки на поводке, грызясь между собою и внося этим немалый беспорядок. Сегодня собачонок не было — видимо, серьезность дела исключала их присутствие. А с собаками генерал еще больше походил бы на пастуха или охотника — на образ идеализированный, вечный, с какой-нибудь гравюры, из безмятежно пасторальной сцены. Однако манера речи у Лиддамента была отнюдь не пасторальная.
— Пусть продолжают заниматься делом, — велел он, указуя тростью на меня. — Как фамилия этого офицера?
— Второй лейтенант Дженкинс, сэр, — сказал Гуоткин, весь напряженно-натянутый.
— Давно вы в нашей части, Дженкинс?
Я ответил. Генерал кивнул. Задал еще несколько вопросов. Затем отвернулся, словно потеряв интерес ко мне, да и вообще к человечеству, и яро принялся ковырять тростью по углам риги. Обследовав углы, стал тыкать ею в кровлю.
— Солдатам сухо здесь?
— Да, сэр.
— Вы уверены?
— Да, сэр.
— А вон протекает.
— Да, сэр, в том углу крыша протекает, но люди спали в другом конце помещения.
Генерал с полминуты задумчиво потыкал тростью — без видимого результата. Затем пару раз ткнул в кровлю энергичней, глубже, и большой кусок подстила обрушился внезапно сверху, чуть-чуть не задев самого генерала и осыпав адъютанта с головы до ног пылью, соломой, глиной. После этого генерал прекратил зондирование крыши, как бы удовлетворившись наконец. Прекратил молча; молчали и все окружающие; улыбок не было. Адъютант, румяный молодой человек, густо покраснев, начал счищать с себя мусор. Генерал опять повернулся ко мне.
— Что было у солдат на завтрак, Дженкинс?
— Печенка, сэр. (Фамилию мою, однако, не забыл.)
— Еще что?
— Джем, сэр.
— Еще.
— Хлеб, сэр. С маргарином.
— А кашу овсяную ели?
— Нет, сэр.
— Почему?
— Не было сегодня каши, сэр.
Генерал свирепо повернулся к Гуоткину, который точно закоченел от усердия, но теперь весь так и вскинулся.
— Каши не было?
— Не было, сэр.
Генерал Лиддамент оскорбленно задумался. Он как бы взвешивал мысленно все качества овсянки, как хорошие, так и негативные. А взвесив, вынес окончательный вердикт:
— Каша должна быть.
Сердитым взором он окинул солдат, рьяно занятых чисткой, смазкой, протиркой. Рывком направил свою трость на Уильямса У. X., взводного вестового.
— Хотелось бы каши?
Уильямс вытянулся в струнку. Как сказано выше, он был голосист и легконог, но соображал туго.
— Нет, сэр, — гаркнул он, уверенный, видимо, что требуется именно такой ответ.
Этого генерал никак не ожидал. Не будет преувеличением сказать, что он опешил.
— Это почему? — спросил генерал тоном резким, но серьезно-вдумчивым; чувствовалось, что он готов посчитаться с неприятием каши по религиозным, допустим, мотивам.
— Не люблю кашу, сэр.
— Не любите каши?
— Не люблю, сэр.
— Глупы же вы — отменно глупы, — сказал генерал Лиддамент. Постоял молча, как бы охваченный душевным страданием, отставив руку с посохом, вонзая его все сильней в земляной пол риги. Генерал словно усиливался понять, без гнева и пристрастия, как это можно быть таким выродком, чтобы не любить кашу. Поза его напоминала позу святого, собственным страданием искупающего грехи своей паствы. Внезапно генерал повернулся к соседу Уильямса; им оказался Сейс.
— А вы кашу любите? — почти выкрикнул генерал.
На рябом лице Сейса, упрямом, нечестном, выражалось желание напакостить и одновременно неуверенность в том, что же будет пакостней — сказать «да» или «нет». С полминуты Сейс мялся; вот так он мнется, не вычистив ружейного ствола и придумывая увертку понадежней. Затем начал:
— Да я, сэр…
Генерал Лиддамент, не дослушав, обратился к Джонсу Д.
— А вы?
— Не люблю, сэр, — сказал Джонс, не менее Уильямса уверенный в том, что от него ждут отрицательного ответа.
— А вы?
— Не люблю, сэр, — сказал Рийс.
С лихорадочной быстротой, точно вылавливая ведьмовскую нечисть, генерал затыкал тростью поочередно в Дэвиса Дж., Дэвиса Э., Клементса, Эллиса, Уильямса Г., ни одному из них не давая времени ответить.
Перебрав весь ряд, генерал дошел до капрала Гуилта, надзиравшего за чисткой ручного пулемета, и сделал длинную паузу. На лице генерала написана была уже покорность судьбе; он стоял, наклонясь вперед и оперев подбородок о трость, так что голова его казалась странным и недобрым тотемом, насаженным на жердь. Вперив глаза в кокарду Гуилта, он как бы размышлял об истории полка, отраженной символически в эмблеме.
— А вы, капрал, — произнес он, на этот раз вполне спокойно. — Любите кашу?
По лицу Гуилта расплылась широчайшая улыбка.
— О да, о да, сэр, — сказал Гуилт. — Еще как люблю. Мне так хотелось каши утречком.
Генерал Лиддамент медленно выпрямился. Поднял трость, острым металлическим наконечником почти упершись в лицо Гуилта.
— Глядите, — сказал он, — все глядите. Пусть он в дивизии не самый рослый, но он крепкий духом, хороший боец. Он ест овсяную кашу. Не худо бы и прочим взять с него пример.
С этими словами командир дивизии вышел из риги. За ним последовали Гуоткин и адъютант, все еще покрытый соломенной трухой. По грязи они пробрались к штабной машине. Через минуту генеральский флажок скрылся из виду. Инспекция кончилась.
— Чудаковатый вид у нашего генерала, — сказал потом Бриз. — Но воробей он стреляный. Спросил меня, где выкопаны отхожие ровики. Я ему показал, и он велел впредь располагать их с подветренной стороны.
— Да, стреляный воробей, — сказал Кедуорд. — У некоторых моих рядовых осмотрел ботинки, не стерта ли подошва. Хорошо, я на прошлой неделе проверил.
Возвратясь с учений, мы узнали о немецком вторжении в Норвегию и Данию.
— Теперь война пойдет по-настоящему, — сказал Гуоткин. — Скоро и мы вступим в дело.
После неудачи с «обеспечением поддержки» он уже успел приободриться, так как в учебном марше по пересеченной местности рота поделила первое-второе места. А ко времени возвращения Пендри из отпуска Гуоткин определенно чувствовал себя на подъеме. Пендри же, уехавший домой почти сразу после учений, вернулся очень мало повеселевшим. Но гораздо более способным исполнять свои обязанности. Никто не знал, как он уладил — и уладил ли — свои домашние неурядицы. Мне еще не приходилось видеть, чтобы человек за несколько недель так изменился. Прежде широкий, дебелый, Пендри превратился в тощего и костлявого; синие глаза его, раньше ярко блестящие, теперь запали, потускнели. Но как на взводного сержанта на него стало опять возможно положиться. Силы к нему вернулись, хотя ушла вся жизнерадостность, делавшая его таким отличным унтер-офицером. Не было больше запоздалых построений и забытых приказаний, но не слышалось прежнего добродушно-бойкого подстегиванья солдат. Пендри нынешний отличался раздражительностью, угрюмел от неполадок. Однако нес обязанности исправно. Я сообщил Гуоткину об этом улучшении обстановки.
— Приструнил, значит, Пендри жену, — сказал Гуоткин. — Твердость — единственное средство с женщинами. Теперь-то Пендри будет в норме.
Я не был в этом так уж уверен. Но за другими взводными заботами перестал думать о Пендри. Он попросту как бы принял другой облик, и все мы постепенно привыкли к новому Пендри.
— Старшина Кадуолладер рано или поздно уйдет по возрасту, — говорил Гуоткин, — и тогда Пендри кандидат на его должность.
И тут случилось это происшествие у дорожно-заградительных дотов. Бетонные эти пулеметные гнезда были сооружены по всему военному округу, чтобы препятствовать продвижению врага, если немцы и впрямь решат высадиться в Ирландии. В дотах посты сидели круглосуточно, и дежурный офицер поверял их в ночное время. Обход кончался на рассвете, чтобы офицер мог еще поспать час-два до построения. В ту ночь объезжал посты Бриз, а сержант Пендри назначен был старшим в доты. По неувязке батальонных расписаний Пендри уже дежурил в части позапрошлой ночью, а затем были бригадные ночные учения, так что третью ночь подряд Пендри проводил почти или вовсе без сна. Такое получилось невезенье, и почему-то ничего нельзя было переменить — возможно, из-за постоянной нехватки сержантов. В разговоре с Пендри я посочувствовал ему.
— Это ничего, сэр, — ответил Пендри. — Мне теперь мало требуется сна.
Ответ поразил меня. В армии сон ценится выше всего — он дороже еды, дороже горячего чая. Я решил опять поговорить с Гуоткином о Пендри, выяснить, сочтет ли ротный командир, что и теперь все в норме. Я упрекал себя в том, что выпустил сержанта из виду. Быть может, он на грани нервного расстройства. Равнодушие ко сну — симптом серьезный. Надо вникнуть в дело, предотвратить возможную беду. Но я запоздал со своими мерами, какими бы благими ни были они. Конец этой истории разбирала следственная комиссия. В общих чертах дело обстояло так. Бриз проверил дот, где вел дежурство Пендри, все было там в порядке, и Бриз уехал в джипе к следующему посту. Минут через десять наблюдатель-часовой в доте заметил подозрительное движение поодаль у дороги, у полуразвалившихся сараев и заборов. Наблюдателю, возможно, примерещилось. Но случай с Глухарем Морганом показал уже, что враждебных действий здесь можно ожидать не от одних немцев. То, что часовой заметил в ночном сумраке, могло быть подготовкой к подобному же нападению. Сержант Пендри сказал, что сам пойдет проверит. Винтовка у него была заряжена. Он приблизился к сараям, ушел из поля зрения. Несколько минут в той стороне ничего не замечалось; потом через дорогу кинулась собака. Позже говорили, что собака-то и была виновницей «подозрительного движения», отмеченного часовым. Сержанта по-прежнему не было видно. Затем донесся отзвук выстрела; кое-кому послышалось два выстрела. Пендри не возвращался. Немного погодя двое бойцов из дота пошли на розыски. Сержант был обнаружен среди развалюх, в яме или канаве. Он был мертв. В винтовке оказался израсходован патрон. Так и не выяснилось окончательно, застрелил ли кто-нибудь сержанта, или Пендри, споткнувшись, упал в яму и винтовка выстрелила при падении, — или же, один в угрюмой темноте, угнетенный горем и бессонный, Пендри сам покончил с собой.
— Намерение у него и раньше было, — сказал Бриз.
— Форменное убийство, — сказал Гуоткин. — И на Пендри не кончится. Будут и другие.
По мнению комиссии, сержанту Пендри надлежало взять с собой солдата. Вряд ли также следовало ему заряжать винтовку без прямого офицерского на то приказа. Действующие инструкции для заградительных постов в этом отношении не отличались четкостью. Весь вопрос надзора за боепитанием постов подвергся пересмотру, вся система позднее изменена. Бриз немало пережил, давая показания перед комиссией. Он был признан невиновным; но, когда стали создавать отдельную противотанковую роту при дивизии, он вызвался служить там. Бризу, понятно, хотелось уйти из батальона, от неприятных воспоминаний. А возможно, и от Гуоткина хотелось уйти. Как в инциденте с Глухарем Гуоткин винил Битела, так и сейчас не был согласен с решением комиссии, очистившим Бриза от всякой вины.
— Янто виновен в смерти сержанта не меньше, чем если бы сам застрелил его из немецких окопов, — сказал Гуоткин.
— А что мог Янто сделать?
— Янто слышал, как и все мы, что Пендри намеревался наложить на себя руки.
— Я о таком не слышал, хотя Пендри был моим взводным сержантом.
— Старшина Кадуолладер знал, да при себе держал.
— А что знал старшина?
— Раз или два он заводил речь насчет Пендри, — хмуро сказал Гуоткин. — Я теперь только понял его намеки. Я и себя виню. Я должен был предвидеть.
Как обычно, Гуоткин казнился бедами батальона. Мелгуин-Джонс, у которого я оформлял похороны Пендри, смотрел на дело с более здравой и объективной точки зрения.
— Это случается время от времени, — сказал он. — Такова армия. Удивляться надо, что не чаще случается. Вот бумажка насчет салютной команды, передадите Роланду.
— Почти все солдаты роты просились в эту команду.
— Салютовать погибшим они любят, — сказал Мелгуин-Джонс. — Кстати, на будущей неделе вы едете в Олдершот на курсы. Скажете Роланду.
— На какие курсы?
— Общеучебные.
Вечером, ложась, я в разговоре с Гуоткином упомянул о том, что солдаты чуть не дрались за включение в салютную команду.
— Ничто так не сплачивает роту, как смерть, — сказал Гуоткин нерадостно. — А похоже, что и у меня в семье будет покойник. Мой тесть разболелся вконец.
— Кто он по профессии?
— В банке служит, как и все мы, — ответил Гуоткин.
Он был глубоко удручен происшествием с Пендри. А за перегородкой, на складе, еще не спал младший капрал Гиттинс. Когда я заглянул туда, он сортировал кипы армейских бланков; вероятно, и сейчас возился с этим. Его тоже донимали, видимо, мысли о смерти — слышно было, как он негромко напевает:
Дай мне веру и бесстрашье Пересечь реку Иордан. Смертью смерть поправший боже, Приведи нас в Ханаан. Вековечно, Вековечно Буду вечно петь тебе хвалу…3
Длинный, закопченный, битком набитый поезд шел со многими задержками на юг, на Лондон. В вагоне стоял спертый холод; синеватые тусклые лампочки, точно светящиеся моллюски в мутных аквариумных водах, мерцали над фотографическими видами Блэкпула и Моркамского залива — типичный вагонный интерьер военных лет. Сосед мой, офицер Ланкаширского фузилерного полка, направлялся в отпуск; на одной из остановок в центре Англии — за окном была ночь, черная, как в преисподней, — он, тотчас угадав свою затемненную станцию, поспешно собрал вещи и сошел. Это было кстати, просторнее стало ногам. Седоусый капитан (должно быть, интендант, судя по дубленому лицу и выставленным напоказ ленточкам медалей) сел привольней, подвинулся к моему углу, с ворчанием перекладывая из кармана в карман толстые пачки своих хоззаявок, стянутые резинкой. Теснота уменьшилась, можно будет подремать спокойнее — но, когда паровоз запыхтел снова, дверь отодвинулась, открылась. К нам заглянула фигура в военной форме.
— Найдется место?
Прямо отрицать наличие места никто не стал, но и сердечных приглашений не послышалось. В скаредном мерцании медуз-лампочек различимо было лишь, что вошедший высок, одет в короткую зимнюю шинель и не видно знаков различия. Голос уверенный, отчетливый, довольно музыкальный — этот голос вяжется в памяти с более приятной обстановкой, чем сейчас, даже с чем-то фривольно-вечерним. Он слышится из прошлого, из далека-далёка, как бы на фоне оркестра. Вспомнить, где я его слышал, совершенно не могу. Новый пассажир сбросил с себя шинель и стал решительно устраиваться — между прочим, заставив интенданта уплотниться (вещи его на сетке чересчур уж широко раскинулись). Интендант заворчал было, но наткнулся на неколебимую твердость. И уступил в конце концов, вещи подвинул. Устроив чемоданы, вошедший сел рядом со мной.
— Последнее незанятое место во всем поезде, — сказал он со смешком. Затем, видимо, задремал. Поезд, погромыхивая, вез нас сквозь медлительные часы ночи. Я тоже впал в дремоту, тревожимую взводными снами. В пятом часу интендант вышел и вернулся очень нескоро, по-прежнему бурча и бормоча себе под нос. Развиднелось, сквозь занавески забрезжил печальный, бледный свет. Невидимая рука угасила синие лампочки. В вагоне потеплело. Пассажиры стали потягиваться, сморкаться, откашливаться, закуривать, началось хождение в туалет для бритья и по надобности. Я стал разглядывать соседей. Кроме пожилого капитана, у всех на погонах одна звездочка; вторым лейтенантом был и мой новый сосед. Он спал еще. Лицо худое, горбоносое, довольно тонкое, волосы светловатые; петлицы общевойсковые. Двое других соседей — из войск связи; третий — артиллерист; и еще двое — офицер из Даремского полка легкой пехоты и гринховардец (в Гринховардском полку, мне вспомнилось, начинал прошлую войну Тед Дживонз). Горбоносый проснулся, протер глаза, покряхтывая.
— Подожду уж, в Лондоне побреюсь, — сказал он.
— Я тоже.
— Не будем возводить гладковыбритость в культ.
— Не будем.
Мы опять подремали. Когда стало светлей, он вынул из кармана книжку. Французская; название рассмотреть я не успел. Опять его манера показалась мне знакомой; опять я не смог припомнить, где встречался с ним.
— А есть тут вагон-ресторан? — спросил гринховардец.
— Чего захотел! — ответил пехотинец. — Гранд-отель вам здесь, что ли?
Один из связистов сказал, что следующая станция узловая, простоим там минут десять или больше, чаю напьемся и, возможно даже, подзакусим. Он оказался прав. На остановке мы дружно двинулись из вагона; я шел по платформе рядом с худощавым моим соседом. Вместе вошли мы в станционный буфет.
— От всенощного сиденья спину ломит, — сказал он.
— Да, понывает спина.
— Я как-то просидел от Праги до Амстердама и поклялся, что в последний раз. Где мне было знать, что впереди целая вечность подобных поездок.
— От Будапешта до Вены по Дунаю тоже утомительно плыть ночью, — заметил я, желая показать, что и мне знакомы неудобства континентальных путешествий. — Как считаете, наша здешняя оперативная позиция сулит нам чашку чаю?
— Пожалуй, нет. Давайте-ка пристроимся к второму кипятильнику. Может быть, та буфетчица подарит нас вниманием.
— И мясным пирожком, пока рядовой состав не очистил полностью подноса. Пирожки хоть и не пышут свежестью, но весьма еще аппетитны.
Мы сменили позицию на более выгодную.
— Кстати, о Вене, — сказал он. — Приходилось ли вам испытывать одно необычное ощущение в Художественно-историческом музее? В конце галереи там ширма, а за ней совершенно неожиданно видишь эти четыре ошеломительных Брейгеля.
— «Охотники на снегу» — почти что самая любимая моя картина.
Я очень люблю также «Двух обезьянок» в берлинском Музее кайзера Фридриха. Со мной сейчас в комнате жил офицер Эссекского полка, в точности похожий на левую мартышку: то же хитрое выражение. А мы не подвигаемся, однако.
После энергичных усилий мы в конце концов протиснулись к буфетчице, в награду получив, помимо чая, по большому пирожку.
— Не вернуться ли теперь в вагон? Как бы угловое место не заняли.
— Ну что же, съем в поезде.
В вагоне интендант снова уснул сидя; уснули и связисты с артиллеристом. Пехотинец же и гринховардец вынули суконки, щеточки, дощечки, жестянки с мастикой. Сняв свои мундиры, они усердно принялись надраивать пуговицы, ведя между собою разговор о жалованье.
— Мы с вами не встречались раньше? — спросил я соседа.
— Меня зовут Пеннистон — Дэвид Пеннистон.
Имя это ничего не сказало мне. Я назвался тоже, но мы так и не установили связующего звена, которое определенно подтвердило бы встречу в прошлом. Пеннистон сказал, что музыка Морланда ему нравится, но с самим Морландом он не знаком.
— В отпуск едете? — спросил он.
— На курсы. А вы?
— Я только что с курсов. Теперь в отпуск — до вызова.
— Звучит неплохо.
— Я вообще армеец странный. Единственное мое оправдание как солдата — это моя несколько особая квалификация. А свободная неделя-другая — вещь приятная, конечно. Попробую кое-что завершить. Соединить умственную пользу с заработком.
— А над чем работаете?
— Да скудоумствую над Декартом. Cogito ergo sum[5]и всякое такое. Хвалиться нечем. Стыдно и упоминать. Между прочим, читали вот это сочинение? Мне кажется, оно полезно в нашей нынешней профессии.
Он протянул мне свою книжку. Я взял ее, прочел на корешке: Servitude et Grandeur Militaire: Alfred de Vigny[6].
— Я думал, Виньи только поэзией занимался: «Dieu! que le son du Cor est triste au fond des bois!..»[7]
— Нет, он четырнадцать лет протрубил в армии. Дослужился до капитана, так что и у нас с вами есть надежда.
— В наполеоновских войнах участвовал?
— Виньи слишком поздно родился. Он не побывал в боях. Ему досталась самая что ни на есть гарнизонная нуда, слегка сдобренная гражданскими беспорядками. Знаете, когда приходится выстаивать в строю под кирпичами демонстрантов.
— Понятно.
— Гарнизонная служба в некоторых отношениях дает наилучшую возможность для изучения армейской жизни. Бои, сражения лишь запутали бы дело, ибо они слишком волнительны. В конечном счете именно волнительны, а не занимательны. Так вот, в этой книжке Виньи высказал то, что думал о воинской службе.
— К каким же он пришел выводам?
— Что солдат — человек жертвенный. Как бы монах, но не церкви, а войны. Разумеется, Виньи имел в виду профессиональные армии той эпохи. Однако он предвидел, что со временем вооруженные силы каждой страны отождествятся с нацией, подобно армиям античности.
— Это так. Когда здесь начнутся бомбежки, то ясно, что роль гражданских лиц окажется никак не менее опасной, чем солдатская.
— Конечно. Но и в этом случае Виньи сказал бы, что те, кто облачен в военную форму, пожертвовали бо́льшим — своей личностью; пошли на то, что он называет самоотрешеньем воина, его отречением от мысли и дела. Виньи говорит, что солдата венчает терновый венец и самый острый из шипов — пассивное повиновение.
— Сказано справедливо.
— Роль начальствующего видится ему как по существу искусственная, поскольку в армии необузданное рвение так же не к месту, как угрюмое безучастие. Пылким добровольцам приходится учиться уму-разуму не меньше, чем строптивым рекрутам.
Мне вспомнились ревностный Гуоткин и строптивый Сейс. Весьма резонный взгляд высказал Виньи… На наших двух скамьях теперь не спали только мы с Пеннистоном. Чистильщики пуговиц убрали свои принадлежности, надели мундиры и заклевали носом в лад с остальными. Интендант принялся храпеть. Вид у него был не особенно жертвенный и тем более не монашески-святой, хотя кто его знает. Вероятно, четырнадцать лет прослужив, Виньи разбирался в предмете.
— Тем не менее, — сказал я, — было бы неверно считать, как считает большинство, что армия по самой своей сути отличается от всех других сообществ. Воинская дисциплина и лестница рангов создают эту иллюзию отличия; но в армии такая же пестрота характеров, как и вне ее. Кто преуспевал в гражданской жизни, тот и в армии преуспеет.
— Конечно. Здесь и генералов встретишь слабовольных, и твердых волей рядовых.
— Возьмем хотя бы, как вы сами принудили вчера капитана передвинуть вещи.
Пеннистон засмеялся.
— А Виньи, пожалуй, склонен был бы романтизировать этого толстого жлоба, — сказал он, — но это между прочим. Виньи хоть и считал предсказанную им национальную армию уклонением и возвратом к древности, но согласился бы с вами, наверно. Он определенно сознавал, что в армии ничто не является безусловным — а повиновение приказу и подавно. Вот, к примеру, мне было велено ждать утреннего поезда, так как имеются жалобы на то, что военные переполняют поезда в выходные дни к ущербу для населения. Я навел справки, выяснил, что риск наказания невелик, и выехал вечером, сэкономив этим день.
— Иными словами, личность и в армии значима.
— Да, и в условиях, где — теоретически — исчезает индивидуальность, хотя сила воли сохраняет большую весомость.
— Что бы подумал Виньи о вашем неподчинении приказу?
— Я бы в оправдание сказал, что не выбирал армию своей профессией, что мой проступок вызван отвращением к военной форме, барабанам, шагистике, строевым ритуалам — что я на войне новичок, недостойный дилетант.
Затем мы оба задремали. Когда прибыли в Лондон, я простился с Пеннистоном — он ехал за город, домой, чтобы жить там до вызова на службу.
— Мы встретимся опять, возможно.
— Во всяком случае, давайте порешим встретиться опять, — сказал он. — Ведь мы согласились, что роль воли в таких вещах очень весома.
Помахав мне рукой, он исчез в вокзальной толчее. Среди всяких лондонских дел, которые надо было сделать за это короткое утро, мне вдруг стало припоминаться, где именно встретился я когда-то с Пеннистоном. Не на званом ли вечере у миссис Андриадис, на Хилл-стрит, лет десять-двенадцать назад? И я вспомнил. Пеннистон был тот молодой человек с орхидеей в петлице, с которым я завел под утро разговор. (Вот и в поезде мы вели с ним рассветную беседу.) Привез меня туда Стрингам. А Пеннистон сообщил, что дом принадлежит Дьюпортам. И что Боб Дьюпорт женился на Джин, сестре Питера Темплера. Именно Пеннистон в тот вечер — когда воцарился сумбур из-за ссоры между Милли Андриадис и Стрингамом — стал рассказывать Милли что-то скабрезное о принце Теодорихе и принце Уэльском, и она оттолкнула его от себя в кресло. К тому времени Пеннистон уже порядком выпил. Все это ушло в давнюю давность: принц Уэльский теперь — герцог Виндзорский; принц Теодорих — опора просоюзнических настроений в крае, которому грозит немецкое вторжение; мы с Пеннистоном — тридцатипятилетние вторые лейтенанты. Любопытно, что теперь поделывают Стрингам, миссис Андриадис и все прочие. Но размышлять об этом было некогда. Другие дела ждали. Я был в высшей степени рад, что вернулся в Англию хотя бы на месяц. С курсов будут отпускать на выходные, и я сумею, наверно, ездить к Фредерике Бадд, моей свояченице, в доме у которой живет сейчас и ждет ребенка Изабелла. Поток автомобилей в Лондоне иссяк, но улицы поражали все же глаз своей яркой столичностью (это было еще до блица); проститутки на Пикадилли казались ослепительными нимфами. Я знал теперь, что чувствовала Персефона, раз в год вырываясь из подземного мира… Навстречу мне по тротуару шел офицер-летчик неуставного вида; это был Барнби. Мы разом узнали друг друга.
— Я думал, ты служишь военным художником.
— Служил некоторое время, — сказал он. — Потом надоело, и сейчас я в летной части, занят маскировкой.
— Маскируешь аэродромы под тюдорианские усадьбы?
— В этом роде.
— Ну и как?
— Не жалуюсь. Раз нельзя писать картины так, как я того хочу, то камуфляж писать — самое лучшее дело.
— Я думал, военным художникам не чинят препон в выборе сюжетов.
— В определенном смысле это так, — ответил Барнби. — Но уж не знаю, предпочитаю почему-то маскировочное дело, пока идет война. Иногда меня берут в боевые вылеты.
Меня кольнула зависть. Я хоть и моложе Барнби на несколько лет, а ничем таким похвастать не могу. Странновато видеть его в форме: все тот же Барнби плотный, коренастый, точно по-прежнему на нем синий рабочий комбинезон художника.
— А ты где, Ник? — спросил он.
Я сказал ему, где я и что я.
— Не слишком увлекательно звучит.
— Не слишком.
— У меня новая подружка — замечательная, — сказал Барнби. (Как мало меняет война характер человека в этом отношении, подумалось мне.) — Ты надолго в Лондон? — продолжал он. — Хотелось бы рассказать о ней. У нее есть удивительная черта. Тебя это позабавит. Пообедаем сегодня вместе?
— Мне надо еще днем прибыть в Олдершотский лагерь. Я послан туда на курсы. А ты в Лондоне квартируешь?
— Нет, переночую только. Надо увидеться с одним человеком в министерстве авиации — насчет маскировочного оборудования. Как поживает Изабелла?
— Ожидает в скором времени ребенка.
— Передай ей сердечный привет. А как Толланды — ее братья?
— Джордж во Франции, с гвардейским батальоном. Он ведь числился в кадровом запасе; теперь капитан. Роберт всегда был фигура таинственная; он младшим капралом в полевой службе безопасности и, должно быть, скоро получит звание. Хьюго же не хочет производства в офицеры. Предпочитает служить канониром на южном побережье — теперь, кажется, уже бомбардиром. Говорит, что в офицерском клубе пришлось бы сталкиваться с отвратными типами.
— А что мужья Изабеллиных сестер?
— Родди Каттс, как член парламента, без труда получил назначение — по-моему, в свой же территориальный полк. Не знаю его звания; уже полковник, вероятно. Сьюзан от него не ушла. Чипс Лавелл в морской пехоте.
— Неожиданный для Чипса выбор рода войск. А Присилла живет с ним?
— Насколько мне известно.
Поговорив еще кое о чем, мы расстались. Встреча с Барнби усилила во мне чувство, будто я вырвался из тюрьмы, и в то же время породила новое ощущение — что я единственно для тюремной жизни гожусь. Слова и голос Барнби, как и всё вокруг, казались безнадежно нереальными. Конечно, громаднейшим облегчением было уйти хоть ненадолго от Гуоткина, Кедуорда, Кадуолладера, Гуилта и прочих; не заботиться о том, что скомандовать взводу — окапываться? атаковать высоту? — дать ли нашивку Дэвису Г., снять ли нашивку у Дэвиса Л. Но по сравнению с однополчанами Барнби и Пеннистон были образами призрачными, тенями, мелькнувшими на экране старинного волшебного фонаря. Мелькнул и растаял сам Лондон, ибо время уже было отправляться в Олдершот. В поезде я размышлял о высказываниях Пеннистона, о боевых полетах Барнби. Как бы я чувствовал себя в таких полетах? Возможно, как Дей и Шони на воздушном шаре. В моей армейской жизни опасность появится, наверное, в свой час, но пока что она прячется на заднем плане, а передний сплошь забит обязанностями, о которых трактовал Виньи. Позавидуешь Пеннистону — он способен без видимых усилий переключаться с войны на Декарта и обратно. А мне какой продолжительности отпуск ни предоставь, все равно не смогу написать ни строки, хотя сочинил до войны три или четыре романа. Во мне война подавила всякий писательский импульс. В этом один из многих неприятных аспектов войны. Мне от нее не уйти не только физически, но и духовно. А почему я завидую боевым полетам Барнби? Это вопрос интересный. Мне ведь никак не хочется попасть в число убитых, и вовсе не бушуют во мне доблести, необходимые для отличия в боях. Да и у Барнби не заметно этих доблестей. Вот потому, возможно, и завидую ему. Но нелепо же рассматривать войну как арену для соперничанья с Барнби. Захотел соперничать — в мирное время состязался бы. Многие и состязались, но это соперничество не в моем вкусе. Если спокойно вдуматься, на войне, которую хочешь выиграть, не важно, насколько ты эффектен и удал в чужих и собственных глазах, а важно получше содействовать работе военной машины. Стремленье — без нужных для этого талантов — победно повести в атаку эскадрон так же неразумно, как мечта финансовой бездари о грандиозном выигрыше на бирже, как попытка расщепить атом без научной подготовки. И тем не менее роль воли здесь очень весома, по выражению Пеннистона. Мне вспомнились слова доктора Трелони, профессионального мага; когда мы с Дьюпортом укладывали его вечером в постель после приступа астмы, он изрек; «Понять, посметь, нацелить молча волю — и это всё, что нужно». Вооружась таким дающим силу девизом, можно и неталанту повести за собой эскадрон и даже — кто знает? — сорвать куш на бирже и расщепить атом. Что ни говори, а скучен стал бы мир без мечты о славе. Морланд любил повторять слова Ницше о том, что без иллюзий невозможно действие… На этом я и кончил размышлять, сойдя в Олдершоте. Большинство пассажиров оказались офицерами, едущими на те же курсы, что и я. Мы явились в канцелярию, и нас, оформив, повели к нашему жилью — краснокирпичным небольшим домам, выстроившимся по четырем сторонам плаца. Внутренность жилья была малопривлекательна.
— Раньше здесь помещались семейные офицеры, — сказал хмурый нестроевик-капрал, наш провожатый. — Еще в четырнадцатом году домишки были назначены на снос, и туда б им и дорога.
Это верно. Именно в 1914 году, ребенком, я в последний раз видел этот уныло-кирпичный военный городок; полк моего отца расквартирован был в бараках под Олдершотом, и мы жили в таком вот захолустном домике с верандой и даже с привидениями. Помню, как батальон, начистясь, набелив ремни, в касках с шишаками, входил в Олдершот на какой-то парад — с барабанным боем, с зачехленным знаменем, маршируя по пыльным летним дорогам. Потом отец жаловался, что натер ботфортом пятку; так, с едва зажившей ссадиной, и ушел на войну. Из-за начавшейся войны и не снесли тогда, не заменили эти обветшалые дома. А когда война кончилась, не до них было. Мне и еще пяти курсантам отвели теперь нижний этаж — гостиную и заднюю комнатку. Двое прибыли из Североланкаширского полка, двое из Манчестерского; каждому из них уже под тридцать. Распаковавшись, они пошли искать столовую, Пятый младший офицер — из Мидландского полка — был гораздо моложе. Невысокий, квадратно-коренастый, кожа смуглая, серые глаза и кудрявые, очень светлые волосы.
— Тупая публика эти наши ланкаширцы, — сообщил он мне с улыбкой.
— Почему так думаете?
— Да им взбрело, что я из Бертона-на-Тренте. Говор мой провинциальным показался.
Он сказал это так, словно его приняли за китайца или эфиопа. В нем есть что-то от Кедуорда, а также что-то неуловимо общее с Чипсом Лавеллом. Но нет у него кедуордовских усиков-полосок, и натура чувствуется более сильная и привлекательная.
— Теснота здесь, как в курятнике, — сказал он. — Не возражаете, я займу вот эту площадь, а вам оставлю отсюда и до стены?
— Превосходно.
— Меня зовут Стивенс. Одо Стивенс.
Назвался и я. Выговор у него среднеанглийский; бывало, критик Куиггин во дни молодости щеголял сходной произносительной манерой, когда (из литературных или житейских соображений) желал подчеркнуть, что он провинциал и прост и прям душой. Я, признаться, не усмотрел ничего нелепого в том, что «наши ланкаширцы» посчитали Стивенса уроженцем провинциального Бертона. Однако я с улыбкой согласился, что ошибка эта смехотворна. Мне польстило, что он счел меня достойным доверия; я обрадовался, что соседом моим будет человек, по-видимому, приятный. В своей роте — плоха ли, хороша ли эта рота — чувствуешь себя сравнительно уверенно; а попадешь в чужую часть, где неизбежны впереди трения и столкновения, и уверенность тут же уступает место тоскливому армейскому унынию, когда то и дело чувствуешь, что, хоть подохни ты, никто ухом не поведет.
— А в действительности вы откуда?
— Из Брема, конечно.
— Из Бирмингема?
— Откуда же еще? — сказал он таким тоном, словно усомниться в этом означало чуть не оскорбление. — Уже по одному словцу «Брем» ясно. Но, слава богу, я в родном городе не засиживаюсь подолгу.
Не нравится там?
— Лучший город в мире, — засмеялся он опять, — но хочется жизни покипучей, поживей. Я перед армией месяцев до шести провел на континенте.
— Где именно?
— В Голландии, Бельгии. Даже до Австрии добрался.
— А в связи с чем?
— Обмен стажеров между фирмами — для изучения языков. Я с лету схватываю языки, как песик колбасу. Фирма уж решила, что пора мне вернуться домой, к работе, — а тут и война грянула.
— Вы в какой отрасли?
— Искусственные драгоценности.
— Продажей заняты?
— Папаша у меня в фирме, которая их делает. Туда же меня пристроил. У нас много иностранной клиентуры. Поэтому и удалось откомандироваться за границу.
— Дело неплохое.
— Да, работенка ничего, но не хотел бы убить на нее всю жизнь. Так что пошел в армию с охотой. А теперь в столовую жиманем?
За столом в тот вечер мы сидели рядом. Стивенс поинтересовался, чем я занимаюсь.
— Пишете? Повезло вам с профессией, — сказал он. — Я и сам пробую писать. Иногда тянет заняться, хотя и с камешками разъезжать недурно; убеждаешь девушку украсить платье — глядишь, и убедил, и победил.
— А в каком жанре пробуете писать?
— Статейки в местную газету — «Весна пришла в Черную Англию», «Закатные лучи Дня перемирия» — в таком духе. Пеку их с той же легкостью, как языки усваиваю.
А Стивенс далеко пойдет, подумал я, если уцелеет на войне. Он сознает в себе склонность к самолюбованию и готов подтрунить над собой. Журналистской жилкой он, возможно, и напоминает Чипса Лавелла — внешнего-то сходства между ними нет.
— В отдельные роты у вас не было желания зачислиться? — спросил он.
— Вряд ли я сгодился бы там.
Отдельные роты — позже наименованные отрядами «коммандос» — предназначались для десантно-диверсионных действий и обильно комплектовались офицерами. Роты эти были с некоторым успехом применены в Норвегии. Из многих батальонов собрали туда лучших молодых офицеров, и потому батальонные командиры не питали к десантникам особой приязни.
— Когда набирали туда, у меня с командиром вышли трения, — сказал Стивенс. — И он не дал нужной характеристики. Попросту я ему полезен, где я есть. Но все равно переведусь куда-нибудь. Наша часть — сплошное вахлачье. Им меня не удержать — я дорвусь до самых интересных дел военных.
Тоже грезы о военной славе, но совсем иного свойства, чем у Гуоткина. Посидев, поговорив, мы пошли спать. Утро началось со строевой подготовки на плацу. Нас разбили на группы под началом опереточных штаб-сержантов в шотландских шапках с лентами — еще со времен родезийской кампании раскатывающих команды с преувеличенно-горским акцентом и вращающих вареными белками глаз. Среди двух сотен курсантов я надеялся встретить знакомца, но накануне в клубе-столовой не приметил ни одного знакомого лица. Однако, маршируя сейчас по асфальту, я увидел в другой группе, шагавшей под прямым углом к нам, довольно высокого толстяка в очках — и узнал в нем Джимми Брента. Когда мы со Стрингамом были еще студентами, Питер Темплер как-то привозил его к нам. Брент мало изменился с той поры. Он мне тогда не слишком понравился. И вести, доходившие о нем потом, не побуждали, в общем-то, увидеться снова. Но здесь я был рад любому лицу из прошлого — особенно такого дальнего и милого. Отмаршировавшись, я подошел к Бренту.
— Мы встречались много лет назад — Питер Темплер привез вас в своем старом «воксхолле» и всех нас вывалил тогда в канаву.
Я назвал свое имя, фамилию. Брент явно не узнал меня. Да и с какой ему стати помнить меня столько лет. Однако то, что «воксхолл» перевернулся, он помнил, и ему, видимо, приятно было встретить человека из довоенного мира.
— В машине и девушки ведь были, — сказал Брент, и лицо его посветлело от веселого воспоминания, — и Боб Дьюпорт тоже. Я помню, Питер вез нас познакомить со своими двумя школьными друзьями, но их самих уже не помню. Вы, значит, один из них? Какая у вас хорошая память. Что ж, рад встретить давнего приятеля в этой богоспасаемой дыре.
— Вы с Питером видаетесь? Интересно бы знать, как он теперь.
— У Питера все в порядке, — сказал Брент довольно сдержанно. — Он умней нас с вами и в армию не полез. Устроился на государственную должность. Консультантом по финансовым вопросам. Думаю, сэр Магнус Доннерс приложил к этому руку. Странно, что Доннерс еще не в министрах. Благоразумный Питер всегда к нему подлизывался. Питер знает, перед кем хвостом вилять. Он сумел неоднократно прислужиться Доннерсу.
— Я как-то встретил Питера в замке у Доннерса, в Сторуотере.
— Знакомы, значит, с Доннерсом? Я и сам обделал с ним одно дельце. Я ведь по нефти. Служил до армии в южноамериканском филиале. Вы знакомы с Джин, сестрой Питера? В Южной Америке я с ней не раз встречался.
— Знавал ее когда-то.
— Она вышла за Боба Дьюпорта, — сказал Брент. — Того самого, что вместе с нами побывал тогда в канаве.
У Брента перед войной был роман с Джин; мне рассказал сам муж, Дьюпорт. И сейчас я чувствовал едкую приятность в том, что Брент и не догадывается о моей осведомленности. Я сам раньше любил Джин — мысль о ее связи с Брентом даже теперь вызывала некоторую боль, но было и странное ощущение власти в том, что я знаю секрет Брента.
— Я случайно встретил Дьюпорта накануне войны. Особенно близко знаком я с ним не был. По-моему, они теперь в разводе.
— Совершенно верно, — сказал Брент ровным голосом, как бы без малейшего интереса. — Я слышал, у Боба в делах каша вышла, — продолжал он. — Боб хромитом занимался, кажется. Не поладил с Уидмерпулом. Этот Уидмерпул — тоже приспешник Доннерса и парень дошлый. Наступать ему на мозоль не рекомендуется. А Боб наступил. Теперь, мне говорили, Боб при министерстве торговли. Не знаю, верны ли эти сведения. Меня-то министерство хотело оставить в Южной Америке.
— Там вам было бы спокойней.
— Так получилось, что я рад был уехать оттуда, хотя неплохо зарабатывал.
— А здесь как очутились, в армии?
— Удалось зачислиться через посредство тамошнего нашего военного атташе. В его собственный полк. Я и не слышал про этот полк раньше.
Я подумал, что Брент ухватился за эту возможность уехать после того, должно быть, как Джин бросила его. От огорчения и в армию пошел, чтобы полностью сменить всю обстановку. Он ведь на несколько лет старше меня и по возрасту, пожалуй, мог бы уже не бояться упрека в увиливании от военной службы; тем более что, по его словам, работа его в Южной Америке официально считается имеющей государственную важность. Я вспомнил теперь четко, что рассказывал мне Дьюпорт. Помирившись, они с Джин уехали в Южную Америку. Брент плыл вместе с ними. В то время роман его с Джин был, по-видимому, в самом разгаре. Из слов Дьюпорта выходило даже, что начался этот роман еще раньше, чем Джин объявила мне о своем возвращении к мужу. Так что Джин и меня обманывала, не только Дьюпорта. К счастью, Брент об этом не подозревает.
— Как вам в армии — нравится?
— Чертовски скверно, — сказал Брент. — Но предпочтительней все же служить в ней сейчас.
— Я того же мнения.
Наш курсантский набор ничем особенным не отличался — тут был почти полный набор обычных армейских типов. Мы муштровались на плацу, слушали лекции о германской армии, воздвигали заграждения из колючей проволоки, водили грузовик-трехтонку, упражнялись в чтении карты. Как-то вечером — перед ночным учением, в котором половине курса предстояло вести бой с другой половиной, — Стивенс повернулся ко мне новой гранью характера. Ожидая начала операции, наша сторона залегла широким полукругом на вересковой поляне, в сосновом лесу. Мы со Стивенсом лежали на правом фланге полукруга, с самого края. Кто-то из залегших на левом фланге, как раз напротив нас, швырялся не переставая горстями камешков.
— Это Крокстон, наверно, — сказал Стивенс.
Крокстон был мускулистый неврастеник, каких немало: раз начав болтать, петь, шуметь, они неспособны уняться. Крокстон непрестанно и безрадостно дурачился, не обладая ни одной из черт (присущих, скажем, капралу Гуилту), которые делают эти дурачества приемлемыми. Вечно он задирался, розыгрыш учинял, скандалил. Определенно это он сейчас швырялся галькой, осыпая нас со Стивенсом. Луна зашла за тучи, надвигался дождь. Ожидание длилось нескончаемо.
— Я его успокою сейчас, — сказал Стивенс.
Он отполз назад, к деревьям, и скрылся в темноте под ними. Прошло несколько минут. С левого фланга донесся вскрик — явно крик боли. Прошли еще минуты. Затем Стивенс вернулся.
— Это Крокстон там, — сказал он.
— И что же вы предприняли?
— Дал ему пару раз в ребра прикладом.
— А он?
— Съел и сморщился.
— Драться стал?
— Да нет. Ему дух захватило.
На следующий день, на лекции о структуре германских дивизий, я увидел Крокстона. Он сидел несколькими рядами ближе к доске и то и дело потирал спину. Стивенс, видимо, угостил его довольно крепко. Этот случай показал, что при желании Стивенс может быть весьма агрессивен. Он также обладал большой способностью отключаться от окружающего. Надо признать, что лекциям, знакомившим нас с германской армией, недоставало яркости изложения. Из всего их цикла я запомнил только ту орнаментальную деталь, что германская войсковая разведка имеет в своем составе сабельный эскадрон. Так что задремать под монотонный голос лектора было нетрудно. Но выпрямясь сидеть на жестком стуле и продолжать, как Стивенс, спать младенческим сном под топот курсантских ног, дружно спешащих из аудитории, — для этого нужно изрядное уменье наглухо отключаться. Другим средством самосохранения у Стивенса была его невозмутимость под нагоняями начальства (в противоположность Гуоткину). Как-то мы вдвоем с ним копали без особого успеха одиночную ячейку. Подошел инструктор и заворчал:
— Кому такое нужно? Тут и драной кошке не укрыться.
— Глубже тут камень, сэр, — сказал Стивенс, — но могу заверить, что честь труду мы отдали.
Инструктор ухмыльнулся и ушел, не проверив грунта.
Развязно-хладнокровная манера Стивенса не всем приходилась по вкусу. Не одобрял ее и Брент.
— Вот увидите, этого молодца отошлют обратно в часть, — говорил он. — Больно нагловат.
Когда весь курс разбили на тройки для «тактического упражнения без войск», Брент и я сумели записаться в одну тройку. Такие задания легче выполнять с напарником, тебе знакомым; правда, третьим партнером пришлось взять Макфэддана. Но хотя Макфэддан, до войны учительствовавший, из кожи лез, чтобы отличиться перед курсовым начальством, рьяность эта означала также, что он готов взять на себя большую часть задания. Почти сорокалетний, он всегда вызывался участвовать в так называемых «показах», как ни малоприятна была перспектива ползти, скажем, целые мили по грязи или демонстрировать на себе трудности преодоления проволочных спиралей. Выполняя письменные задания, Макфэддан без конца детализировал, исписывал горы бумаги или же усердно резюмировал — смотря по тому, каким путем рассчитывал вернее выделиться из курсантской массы. Макфэддан был столь неутомим, что к концу дня, когда мы выработали уже втроем решение тактической задачи и у нас осталось немного свободного времени, он и это время пожалел на передышку.
— Послушайте, ребята, — сказал он, — а что, если вернуться опять в лес и разработать другой вариант? Мне тут, например, не очень нравятся районы сосредоточения. Неплохо будет подать командиру два плана действий на выбор, причем оба плана отменных.
Макфэддану явно досаждала бригадно-безымянная система троек. А второе, дополнительное решение могли поставить ему в личную заслугу, если своевременно объяснить в штабе, каким образом оно разработано. Для Брента, как и для меня, был прозрачен расчет Макфэддана. Мы ответили ему, что нам довольно первого варианта; если желает подать и второй, это его дело.
— Дуйте, Мак, если хотите, — сказал Брент. — Мы подождем здесь. С меня хватит на сегодня.
Когда Макфэддан ушел, мы прилегли под засохшими деревьями — их довели до гибели вечные здешние военные учения. Вокруг расстилалась унылая тундра Лаффанова поля — поля бесчисленных учебных битв. Повсюду в небе низко летали самолеты диковинного вида и цвета — возможно, их раскрасил Барнби под веселую руку. Мирно жужжали среди кучевых облаков неуклюжие аэропланы-разведчики, выисканные бог весть в каких хранилищах списанного инвентаря и снова поднятые ввысь в годину отчаянной нужды. Небеса были точно с давнишней картинки — так изображалось фантастическое будущее в старых журналах для подростков. Брент, повернувшись на спину, глядел на этот вычурный авиакарнавал.
— А Боб Дьюпорт — не нам чета, — сказал он вдруг. Сказал так, словно много уже думал над характером Дьюпорта, и вот теперь мое присутствие позволило ему наконец прийти к серьезным выводам. Темплер и сам Дьюпорт всегда считали Брента «тютей», особенно в отношении женщин; однако Брент за своей внешностью таил любопытную житейскую практичность. Вот и здесь на курсах он, не в пример Макфэддану, ловко умел избегать заданий, связанных с риском ответственности.
— В каком смысле не чета?
— Боб мозговит по-настоящему, — сказал Брент очень серьезно. — Отнюдь не хочу преуменьшить ваши или даже свои умственные способности, но Боб — истинный вундеркинд.
— Я недостаточно его знал с этой стороны.
— Таланты поразительные.
— Давайте-ка подробней.
— За что Боб ни примется, все способен осилить. Как бизнесмен он чародей. Любое дело в пять минут освоит. Будь он с нами здесь, стал бы звездой курса. А девушки? Просто падают перед ним.
— Так-так.
— Но его интересы не сводятся к делам и женщинам.
— А что еще?
— Вы не поверите, как он разбирается в искусстве и так далее.
— Он не казался мне знатоком искусства.
— Надо войти к нему в дружбу, чтобы он раскрылся. Надо крепко к нему приглядеться. Вам случалось бывать в доме у Дьюпортов, на Хилл-стрит?
— Много лет назад; они тогда сдавали этот дом кому-то. Я там был на званом вечере.
— Дом великолепно был обставлен, — сказал Брент. — Абсолютно безупречно, по-моему. Боб обладает вкусом. Вот я какое знание имею в виду. И свое знание искусства он скромно держит при себе — не станет изливаться перед каждым.
Я не сразу понял, чем вызваны эти топорноватые хвалы Дьюпорту. Но они проливали на Боба новый свет. И не были выдумкой. Напротив, многое в Дьюпорте делалось теперь ясней. За профессиональной грубостью его манеры и впрямь могли крыться душевные тонкости, которые он прятал от посторонних. Предположение весьма резонное. Теперь понятней, что влекло Джин к Дьюпорту (хотя еще странней становится связь ее с Брентом). Правда, мне припомнился откровенный отзыв моего вагонного спутника, Пеннистона, на том званом вечере:
— …эти ужасающие псевдоитальянские светильники… а картины! Бог мой, что за картины…
Но у каждого ведь свое мнение. Вопрос не в этом, а в общей оценке Дьюпорта: является ли он — если отвлечься от индивидуальных пристрастий — «человеком вкуса», как говаривал сэр Гэвин Уолпол-Уилсон? Вопрос занятный. Джин никогда не блистала декоративными вкусами, так что Брент, вероятно, прав; не Джин, а Боб Дьюпорт обставил и украсил дом на Хилл-стрит. Это неожиданная грань Дьюпорта. Очевидно, я проглядел в Бобе важные стороны.
— В последнюю вашу встречу с Бобом, — заговорил Брент тише, — он не упоминал ли обо мне?
— Сказал, что вы с ним были вместе в Южной Америке.
— А обо мне и Джин ничего не говорил?
— Признаться, говорил. Как я понял, ситуация была сложная.
— Да, сложная, — сказал Брент со смешком. — Так я и думал, что Боб не удержится. Узнаю Боба. Это его единственная слабость. Не умеет держать язык за зубами.
Он сокрушенно вздохнул, словно вконец отчаиваясь в человеческой натуре, если уж и Дьюпорт оказался столь бессердечно-болтлив. Мне вспомнилось, как Барнби, разозленный поведением какой-то женщины, воскликнул: «Знайся после этого с чужими женами!» Оглушительный рокот «лизандра», по-стрекознному реющего над нами, прервал наш разговор минуты на две. Раздумав приземляться, самолет отвернул прочь, и Брент опять начал:
— Так говорите, вы знавали Джин?
— Да.
— Она — чудо в своем роде.
— Да, очень хороша.
— Мы одно время любили друг друга.
Брент произнес это тем сладким голосом, каким мужчины говорят о старых связях — не столько информируя вас, сколько смакуя приятное воспоминание. Бренту ведь было уже ясно, что Дьюпорт рассказал мне обо всем.
— Я знаю.
— Боб сказал вам?
— Только он выразился грубее.
Брент засмеялся опять, весьма добродушно. Он, очевидно, приступал к рассказу о своем романе — и обнажал при этом самую малоприятную свою, слащавую сторону. Стремясь взглянуть на дело объективно, я вспомнил, что именно это одна из любимых тем Морланда: женское влеченье к тем мужчинам, в превосходстве над которыми женщины уверены вполне.
— Ты мерзок видом? Недоросток, недоумок? В сексуальном смысле недоносок? Весь в бородавках, хам отъявленный, с расщелиной в нёбе, с запахом изо рта? — вопрошал Морланд. — Так радуйся же, парень! Перед тобой открыта лучезарная карьера любовника. За ближайшим поворотом тебя ждет восхитительная девушка, которая сочтет тебя неотразимым. Да при одной лишь мысли о тебе трусики ее готовы тут же самовоспламениться.
— Но внешность всем известных сердцеедов не очень-то согласуется с вашим описанием. Они скорей были красавцами, в дополнение к множеству других полезных качеств.
— А Генрих IV?
— А что Генрих IV?
— Он был импотент, и от него воняло. Это в истории записано. И тем не менее он памятен как выдающийся любовник всех времен.
— Он был король, притом большой краснобай. Да и лично мы его не знаем, так что вести о нем спор затруднительно.
— А вспомните-ка тех, кого мы знаем лично.
— Но мир был бы просто ужасен, если бы в любви преуспевал только писаный красавец, который к тому же умник образцовый и спортсмен мирового класса. Вместе с тем мне и так уже кажется совершенно лживым утверждение, часто высказываемое женщинами, будто их не интересует мужская красота. При прочих равных условиях мужчина с внешностью витринного манекена преуспеет больше, чем человек, лишенный такой внешности.
— Прочие условия никогда не бывают равными, — возразил Морланд, как всегда неколебимый в своих теориях, — хоть я и согласен, что ум — лишь помеха в отношениях с прекрасным полом. Вы вдумайтесь сами. Вспомните Титанию с Основой. Шекспир знал, о чем писал.
Вот и успех Брента у Джин подтверждает теорию Морланда. А хочется ли мне слушать дальше рассказ Брента? Любовь моя к Джин — дело прошлое, но, даже отлюбив, не становишься непременно равнодушен к тому, что делили когда-то вдвоем. Притом, если любовь и умерла, тщеславие не умирает. Я знал, что сейчас услышу вещи неприятные. Когда тебе изменяют, лучше пребывать в неведении, но если уж повязка сорвана с глаз, то предпочтительнее видеть четко, чем неясно. Лучше уж знать, когда именно Джин решила бросить меня ради Брента, чем без конца рыскать воображением по просторам огорчительных предположений. Все же я смутно надеялся, что сейчас вернется Макфэддан, полный новых идей относительно местности и коммуникационных линий. Но Макфэддан не возвращался, выбора у меня не было. Хотел я слушать или нет, а Брент вознамерился рассказывать.
— Вы не поверите, — сказал он, как бы оправдываясь, — но не я, а Джин в меня влюбилась.
— А еще говорите, девушки падают перед Дьюпортом.
— Рассказать, как было дело?
— Слушаю вас.
— Питер Темплер пригласил меня обедать, сказал, что с нами будет супружеская чета — Тейлоры? Портеры? Он все путал фамилию, хотя впоследствии увез миссис Тейлор, но это впоследствии. Он пригласил также свою сестру Джин и некую леди Макрийт. Та мне показалась несимпатичной. Обедали мы в «Карлтоне».
Брент сделал паузу. Я тотчас вспомнил этот эпизод. Однажды мы с Джин проводили вечер в ресторане, и Джин сказала, что завтра обедает с братом. Именно упоминание о «Карлтоне» позволило мне соотнести это с рассказом Брента. Я подумал тогда — без злой зависти, — что Питер в результате своих финансовых трудов может уже приглашать в обеденные залы лучших клубов, а я обедаю у Фоппы или в «Страсбурге» — вот одно из нескольких уже определившихся различий между нами. Подумал так — и прекратил об этом думать. Но в следующую нашу встречу Джин принялась усиленно жаловаться на скуку, которую претерпела в обществе брата и его друзей. Вечер в «Карлтоне» оказался до того нуден, что она никак не могла о нем наговориться.
— Кто был там? — спросил я у нее.
— Два дельца, ты о них не слышал; у одного жена хорошенькая и глупа — Питер явно к ней неравнодушен. И еще женщина, много старше, я ее уже встречала; возможно, лесбиянка.
— Как ее зовут?
— Ее имя ничего тебе не скажет.
— Почему ты думаешь, что она лесбиянка?
— У нее повадка такая какая-то.
Джин прекрасно знала, что я знаком с леди Макрийт еще с той поры, как мальчиком гостил у Темплеров. Пусть Джин забыла это обстоятельство; но леди Макрийт в старой дружбе с семейством Темплеров, особенно с Бэбс, сестрой Джин. Нелепо было упоминать о Гуэн Макрийт как о полузнакомой. И Джин давно уже решила, разумеется, лесбиянка ли она. Всю эту ложь невозможно объяснить с разумной точки зрения. Быть может, туман о незнакомке с лесбийскими наклонностями Джин напустила, чтобы отвлечь мое внимание от второго, неженатого дельца — от Брента; ей хотелось говорить о «Карлтоне» просто потому, что она заинтересовалась Брентом, но инстинкт подсказывал ей, что об этом-то упоминать не надо. Удивительно, что Джин до тех пор ни разу не встречала Брента у Питера. Да хоть и упомяни она о Бренте, я ничего не заподозрил бы. Если Джин впрямь не хотелось называть Брента, а говорить о вечере хотелось, то она могла попросту сказать, что там была леди Макрийт, — и без экивоков поболтать о прошлом, настоящем и будущем этой леди. Короче, вся до крайности ненужная, абсурдная ложь представляла собой тайный удар по нашим с ней отношениям — намеренный обман, не имевший иного логического объяснения, как то, что ложь разом подрывала правду отношений между нами и неумолимо близила разлуку, мне тогда и не снившуюся еще. То был подготовительный удар, нанесенный ею по странному внутреннему побуждению.
— Бедный Питер, — сказала Джин, — какие у него серые знакомства. Один из обедавших не знал даже, кто такой Шаляпин.
Этим музыкальным невеждой был опять же, несомненно, Брент. Я решил непременно убедиться в его незнакомстве с миром оперных певцов, даже если мне придется с этой целью спеть ему «Дубинушку». Но это поздней, а сейчас меня занимало, насколько был «скучен» обед с точки зрения Брента.
— Я нашел миссис Дьюпорт весьма привлекательной, — сказал Брент, — но мне и в голову бы не взбрело углублять с ней контакт, если бы она не позвонила мне назавтра. Ясно же было, что Питер устроил этот обед только потому, что хотел пообщаться с той, второй, которую увез потом. А остальных нас пригласил для фона. Питер — старый мой приятель, вот я и сделал ему любезность — поболтал, как требовалось, о том о сем. В основном на деловые темы: миссис Дьюпорт ими интересовалась.
— А зачем позвонила?
— Спросила мое мнение насчет «Ампарос».
— Насчет кого?
— Это нефтяные акции.
— И только из-за этого звонила?
— Потолковали немного. Затем она предложила встретиться в ресторане и обсудить, куда верней вкладывать деньги. Она знает, что к чему на нефтяном рынке. Я сразу понял. У Темплеров это в крови, надо думать.
— И вы пригласили ее в ресторан?
— Сразу я не мог, — сказал Брент, — вся неделя была занята делами. Но на следующую пригласил. Вот так и началось у нас. Любопытно, как все перемены случаются сразу. Именно в тот момент возникла возможность моего перевода в Южную Америку.
Теперь для меня прояснилось тогдашнее поведение Джин. Со дня ресторанной встречи с Брентом она все серьезней начала говорить о своем возвращении к мужу — по ее словам, главным образом ради дочки. Мотив казался мне вполне весомым. Пусть Дьюпорт вел себя с Джин не слишком хорошо; это не значило, что я совершенно был свободен от ощущения вины.
— А как закончилось у вас?
Брент выдернул большой пучок травы, отбросил в сторону.
— На этот вопрос трудновато ответить, — сказал он так, словно вдумался еще далеко не полностью в причины, разлучившие его с Джин. — Нравиться-то она мне нравилась, — продолжал Брент, — и, само собой, мне крупно льстило, что она предпочла меня такому орлу, как Боб. Но тем не менее всегда мне было с ней как-то не по себе. Вам тоже приходилось, наверное, чувствовать это с некоторыми. Что они вам чуточку не пара. Джин слишком первоклассна для парня, как я, с простыми вкусами. Вот в чем преткновение вышло. Заговорит, бывало, о таком, где я совершенно не в курсе. Вы бывали когда-нибудь в ночном клубе «Старая плантация» — с цветной обслугой?
— Нет, но слышал о нем.
— Там продавщица сигарет была, мулаточка. Вот она больше в моем вкусе, хоть и пришлось на нее порядком подразориться.
— Так что с Джин Дьюпорт у вас попросту увяло дело?
— Но уж поверьте, что не без упреков с ее стороны. Думаю, она уехала бы со мной, предложи я ей. Только мне это не слишком улыбалось. И Джин однажды объявила, что не желает больше со мной встречаться. Мы, собственно, и не встречались уже довольно долго.
— Почему?
— Не знаю. Возможно, я не очень был активен. У нас на одной скважине пошли в то время неполадки. Суточная добыча упала с сорока — пятидесяти баррелей до двадцати пяти. Пришлось сплавать туда, вверх по реке, и поглядеть самому. Тоже и поэтому я от Джин отключился на время.
— Проще говоря, вам надоело.
— Джин, видно, так и подумала. Потому, должно быть, и грубила дико на прощанье. У нее, во всяком случае, то утешение, что она порвала со мной сама. Женщины это любят.
Итак, выходит, что причиной их разрыва не переменчивость Джин, а равнодушие Брента. Этого не знал даже муж, Дьюпорт. Он считал, что — как он выразился — Джин дала Бренту отставку. Ему никак бы не пришло в голову, что Джин сама бегала за Брентом, его прихвостнем, и сама получила отставку. Да и мне поздравлять себя не с чем.
— А как Дьюпорт узнал о вашей связи?
— От своей дочурки.
— Неужели! От Полли! Ей теперь, должно быть, лет двенадцать-тринадцать.
— Именно, — подтвердил Брент. — А вы и дочку его помните. Наверно, Боб о ней упомянул при встрече. Он ее любит без ума. И неудивительно. Прехорошенькая девочка. За ней скоро нужен будет глаз — а возможно, и теперь нужен.
— И Боб узнал обо всем еще до вашего разрыва?
— Незадолго перед этим. Он услышал от Полли о нашем с Джин свидании. И заметил жене, что приревновал бы, будь с ней не я, а кто-нибудь другой. Джин тут же взорвалась и рассказала ему все. Боб сперва не поверил. Где, мол, мне. Он всегда считал меня, понятно, недотепой в смысле женщин. Так что это его огорошило. Гордость задело.
Я вспомнил, как однажды сам в разговоре с Джин пренебрежительно отозвался о Джимми Стриплинге, и Джин, моментально вспыхнув, заявила, что он был ее любовником. Вот так и перед мужем вспылила. Как всегда, в сходных ситуациях все то же возникает поведение. Однако Брент молодец — нимало не тщеславится: Джин в него влюбилась, а он и после этого безропотно согласен с Дьюпортом насчет слабости своего мужского шарма. По каким бы побуждениям ни вступил Брент в эту связь, но — уж определенно — не было тут дешевого желания наставить мужу рога. Дьюпорт и теперь для Брента идеал мужчины.
— Думаю, это к лучшему, что Боб с ней наконец развязался, — сказал Брент. — Вероятно, найдет себе более подходящую жену. Освободит свой организм от Джип. Во всяком случае, теперь ему легче жить так, как он хочет.
Строевой топот и песня оборвали наш разговор. Мимо с ритмичным пением шагал отряд саперов; голоса звучали куда жестче и корявей, чем в нашем батальоне.
Наведу, наведешь, наведем с тобою, Наведем понтонный, понтонный, понтонный, С берега до берега наведем понтонный, Наведем с тобой понтонный мост. И пройду, и пройдешь, и пройдем с тобою На большое поле, на поле, на поле, Прямиком потопаем на Лаффаново поле То ли грязь месить, то ль месить навоз…В этих мощных, гипнотических, первобытно-заклинательных ритмах слышалась мне и боевая песнь воюющих племен, и (под влиянием слов Брента) вселенская глухая жалоба на вечное противоборство женщины с мужчиной. Саперы скрылись за горизонтом, ушла и песня. С другой стороны, из леса, торопился к нам Макфэддан. Подбежал, запыхавшись.
— Простите, ребята, что заставил дожидаться, — сказал он, переводя дух. — Но я нашел дивный новый район сосредоточения. Вот, взгляните на карту. Наш первый план менять не станем, просто пустим это вторым вариантом. Придется дополнительно сопоставленье сделать. Дайте-ка цветные карандаши. А вы запишите координаты. Побыстрей, побыстрей.
Тем временем проблема, как добраться в субботу до Фредерики, оставалась нерешенной. Я спросил Стивенса, поедет ли он в Бирмингем в конце недели.
— Бирмингем слишком далеко, — ответил он. — Наведаюсь к своим дяде-тете взамен. Не ахти, но все же в гости можно.
Он назвал провинциальный городок в немногих милях от Фредерики.
— Я и сам направляюсь в те места. Но трудновато будет успеть туда и назад. Поезда ходят мерзко.
— Поездом — безнадежное дело, — сказал Стивенс. — Весь уикенд убьешь в дороге. У меня вот есть старенькая машина: купил на гонорары от статеек. Вся цена разбитой таратайке десять фунтов, но дотрясет нас туда и обратно. Бензин тоже отыщется — на черном рынке. Вам куда именно?
Я назвал населенный пункт.
— Слышал о таком, — сказал Стивенс. — Этот дядя мой — агент по продаже недвижимости. Помнится, он говорил, что много занимался одним домом в той окрестности — возможно, домом вашей родственницы. Желаете, запросто могу подбросить вас туда. А в воскресенье заберу на обратном пути.
На том и условились. Подошел день увольнения. Легковушка Стивенса, двухместный «моррис», почихала, но завелась. Мы тронулись в путь. Хорошо было расстаться с Олдершотом хоть на сутки. В дороге Стивенс мне рассказывал о своей родне, своих девушках, своих видах на будущее. Я узнал, что дед его, детектив-инспектор, крепко пил, и пришлось деду уйти из сыскной полиции; что муж его сестры, учитель в средней школе, слишком заглядывается на мальчиков — и почему Стивенс так думает; и каким облегчением было для Стивенса услышать перед самым отъездом на курсы, что местная его подружка не беременна. В армии редка такая откровенность. Самовлюбленный, Стивенс в то же время не был, так сказать, узким эгоистом. Он интересовался всем вокруг, хотя в конечном счете все сводил и устремлял к самому себе. Он стал расспрашивать меня про Изабеллу. Собственную жену описывать трудно. Я перевел разговор на домоустройство Фредерики. Он слушал с живым вниманием.
— Хорошее имя — Фредерика, — одобрил он. — Я по крещенью Герберт, но за границей получил как-то письмо, а на конверте перед фамилией почтовая каракуля, похожая на «Одо», — и тут же решил, что так и буду зваться. Осточертело это «Берт, Берт».
Война отодвигалась куда-то, я словно уходил от нее в загородную Англию — вот только попутчик у меня неожиданный. Фредерика живет в этом доме уже года два; до нее там жил приходский священник. Фредерика — вдова, она переселилась из Лондона, экономя средства ради детей. Дом невелик, но скомпонован как-то неуклюже — словно владельцы, разобрав его на части, сложили затем снова, не соблюдая прежних соразмерностей. За белыми воротами — короткая подъездная аллея, окаймленная кустами роз. У всего вокруг тот же крайне респектабельный вид, что у самой Фредерики. Несмотря на войну, сад безупречно опрятен, и сразу чувствуешь, въезжая, что и от тебя здесь ждут безупречного поведения. Стивенс остановил машину перед крыльцом. Не успел я позвонить, постучать, как нам открыли — сама Фредерика.
— Я увидела, как вы въезжаете, — сказала она.
На ней брюки. Голова повязана косынкой. Я поцеловал ее, представил Стивенса.
— Входите, входите хоть на минутку, выпьете чего-нибудь, — сказала ему Фредерика. — Особой спешки нет ведь, я уверена.
Раньше Фредерика менее радушно встречала незнакомых; она и к знакомым частенько не так уж бывала радушна. Я ее не видел с начала войны. Должно быть, война встряхнула Фредерику — отсюда эта перемена. Брюки и косынка не в ее обычаях. А главное, в ней самой что-то сильно изменилось. Муж ее, Робин Бадд, расшибся насмерть, упав с лошади, лет десять тому назад. Теперь Фредерике под сорок; насколько ее родичам известно, о новом замужестве она с тех пор не помышляет и тем более не занимается любовными интрижками, хотя красота ее, устрашающе прочная, как броневая обшивка, притягательна для многих. Сестра ее, Присилла, рассказывала, что на скачках в Аскоте Джек Адни, вдовый пожилой придворный, солидно выпив в честь солидного выигрыша, сделал Фредерике предложение прямо во время кубкового заезда. Слова Присиллы остались не подтверждены; но Изабелла однажды отозвалась о Джеке Адни как о скучном человеке, и Фредерика горячо и резко возразила ей. Короче, самым примечательным свойством Фредерики всегда была ее «ужасающая благопристойность», как выражалась Молли Дживонз. Теперь же беспощадная война, видимо, пошатнула этот устой. Свидетельством тому — радушность, с какой она встретила Стивенса. А Стивенсу второго приглашения не нужно.
— С великим удовольствием, — сказал он. — Выпив, легче будет слушать причитания тетушки Дорис о карточной системе и нехватках. Секунду только — поставлю машину так, чтобы не загораживала вход.
Он снова включил двигатель.
— Что Изабелла?
— Все в порядке, — сказала Фредерика. — Отдыхает. Сейчас спустится к нам. У нас преизбыток народа. Мы буквально как сельди в бочке.
— А кто здесь?
— Присилла — с Каролиной.
— Какая это Каролина?
— Дочь Присиллы, племянница наша. Ты разве не помнишь?
— Ах да, имя только забыл.
— И Роберт неожиданно приехал в отпуск.
— Буду рад с ним увидеться.
Фредерика засмеялась.
— Роберт приехал с дамой.
— Неужели!
— Представь. Да еще из моих сверстниц, хоть я и мало ее знала.
— Как ее зовут?
— Она была замужем за американцем, теперь умершим, и фамилия у нее странная для наших ушей: миссис Уайзбайт. А девичья — Стрингам. Мы с ней на балах встречались.
— Это же Чарлза Стрингама сестра.
— Да, ты ведь знаком с ним. Вспоминаю теперь. Ну так вот, Роберт привез ее. Неожиданность, не правда ли? И у мальчиков моих каникулы, и еще кто-то у нас, тебе известный.
— Кто же это?
— Сам увидишь.
Фредерика опять засмеялась — звонко, с истерическими нотками. Это совсем не в ее стиле. Непонятно, что с ней. Обычно она очень спокойна, строго-сдержанна (за исключением моментов, когда сердится на сестру Нору); теперь же не то Фредерика встревожена, не то взбудоражена чем-то. Вряд ли приезд Роберта виною, хотя Фредерика блюдет семейную честь и к тому, что Роберт приехал со спутницей, безразлично отнестись не может. А и для меня сближенье Роберта с сестрой Стрингама — новость прелюбопытная. Мы с Флавией не знакомы, хоть я и видел ее много лет назад, на свадьбе Стрингама. Чипс Лавелл, муж Присиллы, всегда говорил, что у Роберта пристрастие к «хозяйкам ночных клубов, годящимся ему в матери». Миссис Уайзбайт, правда, не из ночного клуба, но, уж конечно, ощутимо старше Роберта… Между тем, сменив несколько стоянок и удовлетворившись наконец, Стивенс присоединился к нам. Мне вдруг пришла в голову новая догадка, объясняющая странную нервозность Фредерики.
— Неужели Изабелла родила, а мне и не сообщили?
— О нет, нет.
Но Фредерика, видимо, поняла по тону моего вопроса, что я озадачен ее волнением. Ведя нас через холл, она сказала уже спокойнее:
— Просто мне интересно, как ты, Ник, встретишь старого приятеля.
Значит, не Роберт причиной ее взвинченности. Мы вошли в гостиную, заполненную взрослыми и детьми. Детей было четверо (сперва мне показалось, что гораздо больше): двое сыновей Фредерики — десятилетний Эдуард и двенадцатилетний Кристофер — и двое малышей, играющих в кубики на полу. Одна малышка, надо думать, Каролина, дочь Присиллы. Сама Присилла, длинноногая блондинка, в своем роде красавица, тоже прилегла на полу, помогает строить башню из кубиков. Ее брат, Роберт Толланд, — на диване, рядом с рослой, миловидной женщиной лет сорока. Роберт в походной форме, в армейских ботинках, только гамаши снял. Сидящая с ним — Флавия Уайзбайт. Внешне она мало похожа на Стрингама; но, как и у брата, в глазах у нее оживление смешано с грустью. И, как у брата, грусть преобладает. В очертаниях носа и губ — что-то от гончей. Судя по всему, они с Робертом только что приехали сюда. У высокого, угловатого Роберта на рукаве нашивки капрала разведслужбы. Армия еще усилила голодное, даже хищное выражение на его лице. Мы вошли — он вскочил, точно ждал нас, не мог дождаться; благодаря этой его учтивой манере вскакивать навстречу каждому входящему, многие преувеличивают интерес Роберта к людям — на деле он к окружающим довольно равнодушен.
— Ник, — сказал он, — как чудесно совпал наш приезд. По-моему, вы с Флавией не знакомы, но она о тебе наслышана от брата.
Я представил им Одо Стивенса.
— Здравствуйте, сэр, — сказал Роберт.
— Да ну, какой там «сэр», — сказал Стивенс. — Оставим официальщину для строя. Мы корешки с капралом из разведслужбы, который при нашем батальоне. Беру у него постоянно мотоцикл. Вы где сейчас?
— В Мичете, — сказал Роберт, — но надеюсь в скором времени перевестись.
— А уж как бы я сам хотел перевестись, — сказал Стивенс. — В Мичете учебный пункт для разведкадров, так ведь?
Стивенс чувствовал себя как дома в этой весьма смешанной компании. Я обменялся несколькими фразами с миссис Уайзбайт; но тут из кресла встал человек весьма зрелых лет. Загорелое лицо, синие глаза, ухоженные седые усы. Свитер и защитного цвета брюки выглядят на нем очень естественно, с оттенком конноспортивного изящества. Это Дикки Амфравилл. Фредерика права. Его присутствие — определенно сюрприз.
— Что, старина, не ожидали встретить меня здесь? — сказал Амфравилл. — Думали, я сугубо ночное животное, обитаю только в ночных клубах?
Это верно, в прошлом мы встречались преимущественно там. По крайней мере две такие встречи помню. Давным-давно повез я как-то Джин Дьюпорт к Фоппе, поиграть на русском бильярде, и там оказался Амфравилл; а годом-двумя позже Тед Дживонз привел меня в клуб, управлял которым сам Амфравилл, — Макс Пилгрим пел там свои песенки, а за роялем сидела Хезер Хопкинс:
У нас Диана франтиком — Манишка, галстук бантиком…С тех пор я Амфравилла больше не видел, но сейчас он уверенно взял тон закадычного приятеля. Я стал припоминать, что знаю о нем: в первую мировую он служил в гвардейской пехоте, не помню, в каком именно полку; довольно известен как наездник-любитель; четырежды женат. Подобно многим весьма разгульным личностям, он к середине жизни приобрел элегантно-вальяжный вид — фигура стройная, глаза яркие, лицо покрыто бронзовым кенийским загаром. Этот загар и аккуратная седеющая шевелюра подчеркивают синеву глаз, блестящих, как у Питера Темплера, как блестели у сержанта Пендри, пока не постигла сержанта беда. Не помню, носил ли раньше Амфравилл усы; но, так или иначе, они мало его меняют. Когда лицо спокойно, в нем проглядывает застарелая печаль, часто свойственная лошадникам (ведь беспредельна ненадежность лошадей!). Я осведомился о его армейской должности.
— Служу в штате Лондонского округа, старина, — ответил он с преувеличенной важностью, выпятив грудь, расправив плечи. Фредерика, обнеся гостей вином, подошла к нам. Опять засмеялась беспомощно-неудержимо.
— У Дикки должность грандиозная. Правда, Дикки? — сказала она и взяла его под руку. Для Фредерики это неслыханная вольность, знаменующая как бы распад всех нравственных и светских норм, которые она так долго отстаивала.
— Должность, несомненно, узловая, — скромно согласился Амфравилл.
— Еще бы, дорогой мой.
— И чревата повышением, — добавил он.
— Конечно.
— Того и гляди, билетным контролером назначат.
— Дикки — военный комендант вокзала, — пояснила Фредерика.
Она никак не могла совладать со смехом — и, видимо, ее не столько забавляла мысль о том, что Амфравилл вокзальный комендант, сколько радовал и веселил он сам.
— У него уютный кабинетик на одном из северолондонских вокзалов, — продолжала она. — Все забываю, на котором именно, хоть я была у него там. Послушай, Дикки, ведь нужно сказать Нику.
— О нас с тобой?
— Да.
— Дело в том, — неторопливо и серьезно произнес Амфравилл, — дело в том, что мы с Фредерикой помолвлены.
В это время вошла Изабелла, так что впечатление от нежданной новости оказалось слегка ослаблено. Я сказал лишь несколько обычных поздравлений, Фредерика еще посмеялась своим возбужденным смешком. Изабелла бледна, но выглядит неплохо. Сколько уже месяцев мы с ней не виделись, и месяцы мне кажутся годами. Мы отошли в уголок.
— Ну, как ты здесь?
— Все в порядке. Дней десять назад была у меня ложная тревога, но быстро улеглось, и мы тебе не сообщили.
— Как себя чувствуешь?
— Большую часть времени хорошо, но уж пусть бы поскорее явился наш звереныш на свет.
Мы постояли, поговорили еще.
— Кто этот — на полу там, складывает кубики с Присиллой и детьми?
— Его зовут Одо Стивенс. Он на курсах со мной, привез меня в своей машине. Пойдем познакомлю.
Мы прошли на середину комнаты. Стивенс поднялся, пожал жене руку.
— А теперь, — сказал он, — надо ехать. Иначе тетушка Дорис забеспокоится, не случилось ли со мной чего.
— Не убегайте, мистер Стивенс, — сказала Присилла, по-прежнему возлежа на ковре. — Здравствуй, Ник, ты мне только издали изволил ручкой сделать. Как поживаешь?
К нам подошла Фредерика.
— Выпейте еще, — сказала она.
— Нет, большое спасибо, — сказал Стивенс. — Надо двигать.
Он обернулся, чтобы проститься с Присиллой.
— Эй-эй, осторожнее, — сказал он. — Так вы брошку потеряете.
Присилла взглянула себе на грудь — брошь висела, отстегнувшись. Серебряная с позолотой, изображает мандолину, украшенную с боков музыкальными знаками. Ранневикторианская по стилю, изящненькая, хотя особой ценности не представляет. Присилла эту брошь носила еще до замужества. По-моему, ее подарил ухаживавший одно время Морланд — отсюда музыкальный сюжет броши. Между тем брошь упала на ковер. Стивенс нагнулся, поднял.
— Застежка сломана, — сказал он. — Желаете, возьму ее сейчас и в два счета починю. А завтра вечером привезу, на обратном пути в Олдершот.
— Да, это будет замечательно, — сказала Присилла. — Вы специалист?
— Да, разбираюсь профессионально — в украшениях для платья.
— О, как мне хочется об этом послушать.
— Сейчас приходится ехать, — сказал Стивенс. — Уж в другой раз.
Он повернулся ко мне, и мы условились о часе, когда он заедет за мной в воскресенье. Затем Стивенс простился со всеми.
— Я провожу вас до дверей, — сказала Присилла. — Послушаю хоть чуточку об украшениях. Они моя страсть.
Присилла вышла со Стивенсом.
— Какой он милый, — сказала Фредерика. — В его обществе буквально молодеешь.
— Берегись, — сказал Амфравилл. — Вот таким и я был в его годы.
— Но, право же, это говорит лишь в его пользу.
— Двадцать лет едва исполнилось, — сказал Амфравилл задумчиво. — Пылал слепым энтузиазмом. Дрался как герой на полях Фландрии.
— Ну уж — едва, — сказала Фредерика. — Сам говорил, что на войну пошел в двадцать четыре года.
— Да все равно ведь, погляди на меня теперь. Много пользы мне принес мой патриотизм? Старая развалина, вокзальный комендант.
— Не грусти, мой котик.
— Так-так, — вздохнул Амфравилл. — Вчерашние герои — завтрашние коты.
— Ты мой котик, и все, — сказала Фредерика. — Так что замолчи и лучше выпей.
Потом, когда мы ушли наверх, Изабелла мне больше рассказала о себе. По мнению врача, все идет нормально, роды ожидаются недели через две. Говорить было о чем; сразу и не перебрать всего. Эта тысяча проблем обсудится и утрясется постепенно. А сейчас, вместо немедленного делового разговора о настоящем и будущем (если предположить, что впереди еще есть будущее), у нас пошла речь о новостях менее насущных, более курьезных.
— Ну, как тебе помолвка Фредерики? — спросила Изабелла.
— Идея недурна.
— Я тоже так думаю.
— Когда она тебе сказала?
— Не далее как вчера, когда он приехал в отпуск. Меня слегка ошеломила эта новость. Фредерика от него без ума. Я еще ее такой не видела. И мальчики с ним ладят — они, видимо, не прочь иметь его отцом.
Брак Фредерики с Амфравиллом демонстрировал мне новые возможности сочетания характеров. Помолвка эта показалась мне сперва нелепой, гротескной, но, подумав, я переменил мнение: скорее здесь пример того, что крайности сходятся, что человеческие взаимоотношения легче принять как они есть, чем разложить по логическим полочкам. Покойный муж Фредерики, Робин Бадд, вспомнилось мне, был бы сейчас немногим моложе Амфравилла. Я спросил жену, встречались ли когда-нибудь Бадд с Дикки.
— Видели друг друга издали, по-моему. Внешне Роб был немножко похож на Дикки.
— Где же Фредерика могла познакомиться с Амфравиллом?
— Через Роберта. Дикки знался в Кении с Флавией Уайзбайт. Тебе, разумеется, известно, что отец ее владеет там фермой — вернее, владел: он умер на днях.
— И ты думаешь, у Дикки с Флавией…
— Я бы не удивилась. Но, так или иначе, Фредерика с первого взгляда очаровалась им.
— Надо полагать, она знает, что прошлое у Дикки мутновато.
— Одна жена покончила с собой, вторая ушла к жокею. О третьей никто ничего не знает, и, наконец, Энн Степни — продержалась год, едва ли больше, а сейчас, я слышала, живет с Куиггином.
— Это жены, так сказать, официальные… Но вот где Роберт подцепил миссис Уайзбайт? Новость еще поразительней.
— У Роберта сплошные тайны. Расскажи мне о Флавии. Она — сестра твоего старого школьного друга, Чарлза Стрингама. А что еще о ней известно?
— Чарлз редко виделся с ней после школы. Первый ее муж был небезызвестный Флиттон. Потерял на прошлой войне руку. Игрок прожженный, тоже в Кении подвизался. Дикки, надо думать, знает его коротко. Флиттон увез Бейби Вентуорт от мужа, но, когда Бейби получила развод, отказался на ней жениться. У Флавии от него дочь, теперь ей уже восемнадцать или девятнадцать лет, наверное.
— Флавия сказала мне, что мистер Уайзбайт, ее второй муж, был родом из Миннеаполиса, а умер от пьянства в Майами.
— Она здесь в одной комнате с Робертом?
— Здесь-то нет. Негде. Слишком узки кровати. Но вообще-то они живут вместе, очевидно. А как тебе показалась Присилла?
— Выглядит недурно. Не очень что-то ласкова, только Стивенсу улыбалась. Кто был второй малыш там, на ковре? У Лавеллов ведь одна Каролина?
— Это Барри.
— Какой Барри?
— Внебрачный сынишка здешней горничной Одри. Она привезла его из Лондона с собой — война, не с кем оставить. Барри пришелся очень кстати — Каролине компания. Сам знаешь, как трудно с прислугой теперь, особенно в сельской местности.
— А кто у вас готовит — Одри?
— Нет, сама Фредерика. Она осталась без кухарки, и нанять негде. Фредерика ведь всегда любила готовить. Теперь она могла бы поступить поварихой в любой дом, кроме самых великосветских.
Судя по тону, всю эту речь о Барри и о кухонных уменьях Фредерики жена вела, чтобы не говорить о Присилле. Изабелла упомянула о Присилле бегло, но почувствовалось, что мысли ее заняты именно Присиллой — ее почему-то тревожит сестра.
— О Чипсе никаких вестей? — спросил я наводяще.
— Присилла отмалчивается. Где несет службу морская пехота? Чипс на корабле служит? Присилла в обиде на Чипса, что он не обеспечил их домом или квартирой. Не думаю, что надо винить Чипса. Виновата проклятая война. Вот поэтому Присилла здесь. Она очень неспокойна.
— Уж не беременна ли тоже?
— Насколько мне известно, нет. А вот Одри — да.
— Одри у вас прямо Мессалина.
— Вид у нее совсем не Мессалины. Плотненькая, в очках, добросердечная.
— Чересчур добросердечная, или же очки слишком розовы. Это отец Барри опять постарался?
— Отнюдь нет. Но, как надо понимать, на сей раз может кончиться законным браком.
— Теперь черед Фредерики ждать ребенка. А как Роберт с миссис Уайзбайт?
— Несомненно, прилагают усилия. Кстати говоря, Роберт в отпуске перед отплытием. Он лишь на короткое время приехал с Флавией. Чуть раньше вас.
— Куда его отправляют?
— Он не знает — или соблюдает военную тайну. Говорит, что предположительно во Францию.
— А как он смог зачислиться?
— Он настоял, чтобы его вычеркнули из списка кандидатов в офицеры — иначе бы нескоро удалось отплыть.
— Понятно.
— Кто бы ожидал подобного от Роберта, — сказала Изабелла.
В семействе Толландов Роберта относили к тем тихим себялюбам, которые окружают свою жизнь тайной, потому что так им необременительней, так меньше можно думать о других. Мало что известно было, скажем, о его службе в экспортной фирме, торгующей с Дальним Востоком. В общем и целом Роберт вроде бы преуспевал там, хотя сам о своих успехах не распространялся. Тем более естественно его молчание о таких вещах, как связь с миссис Уайзбайт. И в полевую службу безопасности он взят недаром. Туда ведь тоже надо ухитриться попасть. Любопытно, каковы были ступеньки, приведшие его в разведслужбу. Одно время он хотел во флот. И не менее любопытно это нынешнее решение Роберта отплыть на войну ценой скорого производства в офицеры.
— Одних война изменила неузнаваемо, других же только укрепила в их прежнем характере, — заметила Изабелла.
— Тебе такое имя не знакомо — Дэвид Пеннистон? Сейчас он в армии, я с ним разговорился в вагоне. Он сказал, что пишет статью о Декарте.
— Я, кажется, встречала рецензии, подписанные этим именем.
— Вот и мне мерещится. Нам с ним не удалось вспомнить общих знакомых, но мы, по-моему, когда-то встречались мельком на званом вечере.
— По-моему, Лавеллы упоминали о каком-то Пеннистоне, когда вернулись из Венеции. Помню, Чипс говорил, что поскольку фамилия пишется через два «н», то он не родня Хантеркомам. Пеннистон вроде бы живет в Венеции — мне припоминается какая-то история с итальянской графиней, красивой, но не очень молодой. Вот и я начинаю уже чувствовать себя немолодой.
— Да что там… Радостно увидеться, родная.
— Долго же мы не виделись.
— Чертовски долго.
— Долго, долго.
Утром я встретил в саду прогуливавшегося Амфравилла и услышал от него самого некоторые недостающие детали его биографии.
— Послушайте, старина, — сказал он, когда я подошел к нему. — Так как же вам и прочим улыбается перспектива заполучить меня в родственники?
— Превосходная перспектива.
— Не все такого мнения. Я ведь не в своем уме, если опять браком сочетаюсь. Полностью, абсолютно спятил. Но Фредерика спятила еще безнадежней. Вы представляете — пятой моей женой будет! Такая многоженатость ненормальна. Определенно ненормальна. Но я сражен был Фредерикой наповал. Этим ее строгим видом. Но она-то как могла согласиться! Невероятно, правда ведь? И притом фрейлина королевы. Теперь-то, конечно, прощай королевские горшки. Какая уж тут фрейлина — со мной на заднем плане. Где уж тут! Представим себе реакцию его величества: «Опять этот субъект объявился! Помню его. Бывший капитан моей гвардейской бригады. Пришлось от сквернавца избавиться. Как смеет он казать свою мерзкую физиономию в моем дворце! Не потерплю. Рубите ему голову». Вы согласны со мной, старина?
— Понимаю вас.
Амфравилл уставился на меня воспаленным взглядом. В первую нашу встречу у Фоппы я усомнился, вполне ли он здрав рассудком. И вот теперь его манера речи производит то же тревожащее впечатление, хотя одновременно и смешит. Он покивал, улыбаясь своим словам — упиваясь собственными качествами. Я вдруг понял, что Амфравилл совершенно прав, говоря о своем сходстве со Стивенсом. Та же у него самовлюбленность, и так же соединена с острой наблюдательностью и вкусом к жизни.
— Вы получаете в родственники профессионального блудодея, — продолжал он. — Уж можете на сей счет быть спокойны, старина. Чтобы показать вам, что я не зря себя так аттестую, поделюсь с вами секретом. Это я — в Кении, немало лет тому назад — лишил невинности нашу милую Флавию. Впрочем, будь это самым худшим из того, что ей выпало на долю, тогда бы еще грех Флавии жаловаться. А вот побывать в течение одной жизни замужем за Козмо Флиттоном и Харрисоном Ф. Уайзбайтом — не завидую бедняжке.
— Мы с Изабеллой уже гадали, не случалось ли вам спать с миссис Уайзбайт.
— Вот как! Проницательная вы парочка. Смышленая у вас жена. Что ж, отвечу: случалось. Вы, кстати, знакомы с Чарлзом Стрингамом, братом Флавии?
— Мы были друзьями. Я не видел его много лет.
— Я и с Чарлзом познакомился в Кении. Он приезжал туда совсем юнцом на месяц или на два. Очень мне понравился. Впоследствии стал крепко попивать — да и сколько славных парней вязнут в пьянстве… Флавия говорит, он не пьет уже, вылечился. Теперь он в армии. Чарлз рьяно ругал этого подлеца Фокса, за которого вышла его мать после развода с Бофлзом Стрингамом. Чарлз терпеть Бастера не мог.
— Бастер Фокс, капитан третьего ранга… Давно не приходилось его видеть.
— Я, слава богу, тоже давно не лицезрел Бастера, но слышал, он тут обретается поблизости. В особняке лорда Уорминстера, вашего шурина. И моего, в скором будущем. То-то обрадуется мне лорд.
— Но что может делать Бастер — моряк — в Трабуорте? Я полагал, там штаб армейского корпуса.
— Нет, Трабуорт занят и теперь, но уже не под штаб, а одной из этих страшно секретных межвойсковых организаций. И в ней-то Бастер окопался.
— А Эрриджу, Уорминстеру, и сейчас позволяют жить в другом крыле особняка?
— Не возбраняют, насколько знаю.
Когда в начале войны власти реквизировали Трабуорт, там обошлось без особых пертурбаций. Эрридж и прежде занимал лишь небольшую часть особняка (дворца, возведенного в семнадцатом веке, а в восемнадцатом облицованного камнем); хозяйство у Эрриджа ведет сестра его, Бланш. Хотя Трабуорт расположен всего в двадцати-тридцати милях от Фредерики, но между Эрриджем и остальными Толландами контактов никаких или почти никаких. По словам Изабеллы, с тех пор как началась война, Эрри меньше занимается практической политикой, все глубже уходя в книги об анабаптистах и революционных движениях средневековья.
— Бастер — мой сверстник, — сказал Амфравилл, — и сукин сын первого ранга. Я с вами не делился своим жизнеописанием?
— Нет еще.
— Когда породнимся, вам не раз придется его услышать, так что пока сообщу лишь фрагменты.
Опять он напомнил мне Одо Стивенса.
— Отец мой был коннозаводчиком, — начал Амфравилл. — Ненадежное занятие, притом отец был нерасчетлив. Однако у него хватило ума жениться на дочери довольно состоятельного фабриканта текстильных станков. Это позволяло отцу покрывать в какой-то степени убытки, что он терпел на чистопородных лошадях. Я в детстве обучился жокейской верховой езде; без этого не знаю, где б я сейчас был. Хотели было меня сделать агентом по продаже земельных участков — бред какой-то. Но тут в четырнадцатом — война, и я начал самостоятельную жизнь. Поступил в один из новосформированных гвардейских батальонов. Тогда численность гвардий страшнейше увеличили, не брезгуя ни мной, ни многими другими в моем роде. Среди моих собратьев-офицеров такие встречались подонки, каких вы отроду не видели. С тех пор у меня пошло гладко. Пока не подсек Бастер Фокс. Если б не Фокс, был бы я теперь генерал-майор и командовал Лондонским округом, а не прозябал в комендантишках — да и то еще слава богу.
— Вы и после войны остались служить в гвардии?
— Да, в кадровых офицерах. Слышали, наверно, про французского маршала Лиоте? Умиротворял Северную Африку и все такое. Знаете, что Лиоте считал необходимейшим, первейшим качеством офицера? Веселый нрав, веселость. А Лиоте знал свое дело. Возможно, сам он в понятие веселости не включал побед над прекрасным полом, но это другой вопрос. Ну а много вы веселости найдете у разбитых на ноги психопатов, под чьим началом служите? Очень мало, уж поверьте мне. Я вознамерился сделать военную карьеру, опираясь на подсказку Лиоте — не в смысле пренебреженья дамами, но во всех других смыслах. И дело у меня пошло весьма недурно.
— Но как же Бастер Фокс подсек доктрину Лиоте?
— Сейчас расскажу. Слышали когда-нибудь о Долли Брейбрук?
— Нет.
— Долли — моя первая жена. Сногсшибательной была красоты. Отец ее прежде командовал нашим полком. По всей армии гремел под кличкой Вампир, и недаром. Она сперва отказывала мне, и винить ли ее. Но я опять и опять делал ей предложение. И опять получал отказ. Затем вдруг согласилась, как это бывает у женщин. Теперь-то нет уже во мне былой настойчивости. Но оттого я лишь укрепляюсь во мнении, что чем я старше, тем притягательней для женщин.
— И вы определенно правы.
— Раньше звучало: «Нет, не сегодня, милый, — я тебя еще недостаточно люблю», потом стало: «Нет, не сегодня, милый, — я тебя слишком сильно люблю». О господи, всю эту гамму я прошел. Склонны иные дамы портить настроение любовнику, и в этом вся их верность мужу. Но это к слову. Суть же в том, что Долли вышла за меня в конце концов.
— И много лет длился ваш брак?
— Год или два. Счастливое было время — для меня по крайней мере. И старшим адъютантом был уже назначен. Но тут на горизонте появился Бастер Фокс. Он в то время служил в Гринвичском военно-морском училище и наезжал в Лондон. Я играл, бывало, в карты с ним и другими веселыми друзьями. И надо же стрястись такому, чтобы у меня под самым носом Долли влюбилась в Бастера.
Амфравилл вел свой рассказ в преувеличенно драматических тонах, так что неясно было, как вести себя слушателю. Трагедия в любой момент могла обернуться фарсом, и приходилось быть настороже… Помню, увидев Амфравилла впервые, я подумал, что он чем-то похож на Фокса, и теперь сходство разъяснилось — общенье в молодости делает людей схожими.
— Как раз в то время наш батальон перевели в Виндзор, — повествовал Амфравилл. — Понятно, пришлось и мне с ними, а Долли осталась в Лондоне, пока не подыщу жилья. Приезжаю как-то к ней. Вхожу — повеяло на меня холодком. И тут Долли сообщает, что хочет развода.
— Полная для вас неожиданность?
— Как обухом по голове, старина. Да оно и всегда так, конечно. Стал отговаривать ее — куда там. Вознамерилась за Бастера, и все. В конце концов я согласился. А что было делать? Положим, можно было прострелить Бастеру башку с близкого расстояния, хоть она у него и не больше ореха. Но какая в том, черт возьми, польза? Притом и виселицей дело очень пахло бы. У нас ведь не Франция, где мужу извиняют бурную реакцию. Так что я решил быть джентльменом и представить Долли основания для развода. Я довольно далеко уже зашел в своем намерении, но тут Бастер обнаружил, что Эйми Стрингам, мамаша Флавии, тоже горит желаньем выйти за него. А Бастеру сообразить недолго, что жена с кучей южноафриканских золотых акций и с пожизненной рентой от поместья, конефермы и загородного особняка — после первого мужа, лорда Уоррингтона, — что такая жена выгодней, чем Долли, у которой куча братьев и сестер, а денег шиш. Миссис Стрингам была, правда, постарше Бастера, но тем не менее красавица. Этого у нее не отнять. — Амфравилл помолчал. — И тут вдруг слышу — Долли отравилась снотворными таблетками.
— Дело о разводе уже началось тогда?
— Можно было еще дать ему обратный ход. Видимо, Долли сочла, что поздно заговаривать о возвращении ко мне, хоть я и рад был бы тому безмерно.
— Но почему это помешало вам дослужиться до командования Лондонским округом?
— Вопрос резонный, старина. Загвоздка вот в чем. Мне пришлось уйти из славной гвардии — распроститься с доблестным полком. Причину сейчас объясню. Видите ли, после того как моя бедная Долли отлетела к ангелам, мне было тоскливо и, естественно, хотелось утешения. Утешительницу я нашел, даже нескольких. Но утешнее всех была та, которую встретил в «Кавендише»; ее звали Джой Грант — по крайней мере под этим именем она подвизалась в ночном клубе и вполне оправдывала свое имя[8]. Я и решил на ней жениться. После чего, конечно, не могло быть речи о службе в полку. Взять хоть то, что мне трудновато было бы назвать среди собратьев-офицеров такого, который не вкусил бы радостей, даримых моей Джой. Я подал в отставку и откочевал за море со своей стыдливой невестой. Задумал обосноваться в Кении — стране широких просторов и настоящих мужчин, по выражению Чарлза Стрингама. Ну-с, не успели мы с Джой обжить номер в Найроби, как стало более чем ясно, что наш брак бракованный. Уже началось у нас, как у кошки с собакой. Коротко говоря, Джой вскоре ушла к некоему Каслмэллоку — по возрасту он был вдвое старше Джой, а по виду смахивал на конюха, страдающего триппером.
— Наша корпусная школа химической войны помещается в замке Каслмэллок.
— Да, он из рода Каслмэллоков, что жили там, пока не разорились с полвека назад. Но хоть и маркиз, а мой Каслмэллок был человечек вульгарный и — что для него гораздо еще хуже — оказался бессилен исполнять роль мужа. Посчитав, что виной тому кенийский высокогорный климат, он повез Джой назад в Англию — авось там пойдет дело живей или по крайности специалисты найдутся медики, чтоб делать впрыскиванья, взбадривать хоть на короткие периоды. Однако слишком долго он искал нужного специалиста, а тем временем Джой ушла к жокею по имени Джо Брин — его как-то в Челтнеме отстранили на год от скачек за то, что сдержал Мидлмарча на финише. Теперь они с Джой держат за городом пивнушку и обсчитывают безбожнейше, когда завернешь к ним потолковать о былых временах.
Амфравилл снова помолчал. Вынул портсигар, предложил закурить.
— Ну-с, вся эта карусель стала угнетающе на меня действовать. Исчезновение супруг начало уже входить в скверную привычку. Дай-ка, подумал я, сам займусь уводом чужих жен. И увел — у колониального местного чина. Нажил себе этим бездну неприятностей. Сам-то я в малодостойном положении брошенного мужа вел себя по-джентльменски. А этот чин отреагировал совсем по-иному. Я угодил в обстановку скандальнейшую.
Он закурил сигарету, вздохнул.
— И чем же кончилось?
— Мы поженились с ней, — сказал Амфравилл, — но через полгода она умерла от брюшного тифа. Не везет мне, как видите, с женами. А у Фоппы в тот вечер вы сами присутствовали, когда я познакомился с маленькой Энн Степни. И чем у нас кончилось, тоже знаете. Форменным безумием была эта женитьба на Энн. Но, так или иначе, скоро у нас оборвалось. И чем меньше о том вспоминать, тем лучше. Начинаю теперь новую страницу. Фредерика станет мне спасением. Будем с ней образцовыми супругами. Комендантскую лямку я сумею сбросить, снова нацелюсь в генералы, как до Бастеровой подножки. Из Фредерики выйдет первоклассная генеральша — вы согласны? Господи, снилось ли мне, что женюсь на одной из дочерей Хьюго Уорминстера. Да и ему вряд ли снился такой зять.
Время уже было идти к столу. За ленчем я сидел рядом с Флавией Уайзбайт. Повадка у нее спокойно-грустноватая; таких сдержанных, благонравных, твердохарактерных, сварливых жен часто видишь у флиттонов и уйазбайтов — у людей весьма разгульного пошиба. Сварливость эта не столько бывает вызвана поведением мужа, сколько присуща таким женщинам от природы — и привлекает к ним таких мужчин. Это, конечно, лишь предположение — я не вхож в семейные невзгоды Флавии; правда, Стрингам не раз давал понять, что сама сестра порядком виновата в них — знала же, кого брала в мужья. Впрочем, и Стрингам жену выбрал не слишком удачно. Я спросил Флавию, что нового у ее брата.
— У Чарлза? Он в армии — ведомство технического и вещевого снабжения. Вы знаете, конечно, чем они там ведают. Чарлз говорит, одеждой, башмаками, одеялами. Да?
— Совершенно верно. А в каком он звании?
— Рядовой.
— Понятно.
— И говорит, что так рядовым, вероятно, и останется.
— А он теперь… в порядке?
— О да, — сказала Флавия. — В рот почти не берет. Настолько излечился, что может даже позволить себе иногда кружку пива. Прогресс огромный. Я всегда считала, что у него не алкоголизм, а просто нервы.
Привыкнув иметь дело с алкоголиками, она говорила о прежнем состоянии брата по-деловому спокойно; так же спокойно говорила она и о теперешних его армейских обстоятельствах, не весьма завидных. Стрингам в роли снабженца-рядового — это даже вообразить трудно.
— Чарлзу нравится служить?
— Не слишком.
— И неудивительно.
— Ему там, по его словам, прескверно; но он непременно хотел в армию. А почему-то брали его только в это ведомство. Вот Роберту, я думаю, поинтереснее служить. Милый, тебе ведь славно в разведслужбе?
— Славно — слово слишком сильное, — сказал Роберт. — Но в Мичете не худо. Я вообще люблю совать нос в чужие дела, а служба безопасности для того и создана.
Обращение Флавии с Робертом почти материнское. Возрастом она ближе к Роберту, чем к Амфравиллу, но возникает впечатление, что она принадлежит скорее к поколению Амфравилла — при всех своих резких от Дикки отличиях. Можно бы сказать, что и она и Амфравилл представляют собой разные формы протеста против одних и тех же норм, а ничто так четко не относит человека к определенной эпохе, как те нормы, против которых он бунтует. Любовь Роберта и Флавии — если существует между ними это чувство — очень отличается от любви между Амфравиллом и Фредерикой. Роберт с Флавией вовсе не имеют сейчас вида счастливых влюбленных. Напротив, вид у них довольно минорный. Привезя Флавию в дом Фредерики, Роберт наконец раскрыл свои сердечные, так сказать, карты, чего прежде никогда не делал. Возможно, он и впрямь влюблен. Война всех нас вынуждает к действию. Старания Роберта быть посланным во Францию — понимать ли их как проявленье той же воли к действию или как попытку бегства? Может оказаться верным и второе. Мы вставали уже из-за стола, когда зазвонил телефон. Фредерика пошла, взяла трубку.
— Это тебя, Присилла, — сказала она, возвратившись.
— Кто звонит?
— Приятель Ника, мистер Стивенс.
— Ах да, конечно, — сказала Присилла. — Насчет броши.
Она явственно зарумянилась.
— Сражен Присиллой юноша, — сказал Амфравилл.
Я спросил Флавию, видается ли она с мисс Уидон, прежней секретаршей ее матери, нынешней женой генерала Коньерса (старого знакомца моих родителей).
— С Таффи? Она ведь моей гувернанткой была. Как же, я сделала им визит совсем на днях. У них все обстоит вполне хорошо. Генерал прочел нам вслух свою статью о сугубой роли гермафродитизма в религиозности ранних эпох. Он теперь гораздо больше занят психоанализом, чем игрой на виолончели.
— Что он думает о войне?
— Сказал, что со дня на день ожидает немецкого наступления — оно будет, вероятно, в нескольких местах сразу.
— Да, Норвегия и Дания — начало.
— По-видимому, так.
— Дела не очень-то блестящие, — сказал Амфравилл. — Надо думать, нам досталось на орехи.
Вернулась Присилла.
— Это относительно броши, — сказала она. — Мистер Стивенс сам не может починить — там камушек один выпал; но он договорился о починке со своим знакомым. Просто хотел предупредить меня, что не сможет привезти ее сегодня, когда заедет за Ником.
— Я ведь говорила, что он очень любезный молодой человек, — заметила Фредерика, бросив на сестру весьма холодный взгляд.
Остаток воскресенья миновал ужасающе быстро, растаял, как тают все военные отпуска, — казалось, только что приехал ты, а уже пора прощаться. Это слегка омрачило обед, сделало разговоры отрывочными: говорили главным образом о вечерних новостях.
— Как бы за усиленной бомбардировкой не последовало удара во Франции, — сказал Роберт. — Ваше мнение, Дикки?
— Именно последует.
К концу обеда раздался звонок телефона.
— Пожалуйста, Ник, возьми трубку, — сказала Фредерика из кухни, где она варила кофе. — Ты к дверям ближе всех.
Я вышел в боковой коридор к телефону. Мужской голос спросил:
— Это дом Фредерики Бадд?
— Да.
— Младшего капрала Толланда можно к телефону?
— Кто его спрашивает?
— Звонят из части.
Возвращаясь в столовую, я услышал стук в парадную дверь. Сказал Роберту, что его просят к телефону, и обратился к Фредерике:
— Мне пойти открыть?
— Это, наверно, приходский священник обнаружил щелку в затемнении, — сказала Фредерика. — Он у нас уполномоченный гражданской обороны и ужасный хлопотун. Если это он, пригласи его войти. Возможно, он не прочь выпить чашку кофе.
Однако, открыв дверь, я увидел высокого офицера-моряка, только что подъехавшего в машине.
— Здесь живет леди Фредерика Бадд?
— Да.
— Прошу извинить, что беспокою в столь поздний час, но, по-моему, здесь находится моя падчерица, миссис Уайзбайт.
— Да.
— Мне с ней надо обсудить весьма неотложное дело. Я слышал, она здесь в гостях на несколько дней, и подумал, что леди Фредерика не возбранит мне войти на минуту. Я обретаюсь по соседству, собственно, в доме ее брата, лорда Уорминстера.
— Входите. Вы капитан Фокс, не так ли? Я Николас Дженкинс. Мы уже встречались раза два когда-то.
— Да конечно же, — сказал Бастер Фокс. — Леди Фредерика ведь в свойстве с вами?
— Да.
— И вы с Чарлзом старые друзья. Как чудесно.
Судя по тону, Фокс ничего особенно чудесного не видел в том, что встретил меня у Фредерики, — хотя теперь его вторжение будет смягчено, но Фокс определенно предпочел бы кого-нибудь другого в провожатые, поскольку старые друзья Стрингама уж непременно слышали о Фоксе всякие нелестные истории. У Фокса манера держать себя так, словно все мужчины — его потенциальные соперники; но сейчас он учтиво улыбался мне. А я вдруг вспомнил, что рассказал мне Дикки Амфравилл. Вряд ли Дикки обрадуется Фоксу. Однако делать было нечего. Я провел Бастера в гостиную, куда уже перешло общество. Бастер, очевидно, рассчитывал войти эффектно.
— Прошу великодушнейше меня простить, леди Фредерика… — начал он еще в дверях.
Войдя следом, я тут же понял — в мое отсутствие случилось что-то огорчительное. Внимание всех обращено на Роберта. Он, видимо, объявил сейчас известие, переданное по телефону. На лицах у всех тревога. Флавия Уайзбайт чуть не плачет. Увидела Бастера Фокса, и глаза ее выразили сильнейшую досаду.
— Бастер, вы-то откуда к нам? — сказала она резко и рассерженно, на минуту даже забыв свое горе. Фокс, видя, что попал не ко времени, был явно озадачен. С неловкой улыбкой он стал обводить взглядом комнату, ища поддержку в чьем-нибудь знакомом, дружеском лице. И сразу же наткнулся на Дикки Амфравилла.
— Здравствуй, Бастер, — сказал тот, протягивая руку. — Давно мы не видались.
Когда двое ненавидят друг друга всерьез, то напряжение между ними подчас бывает ощутимо окружающим, точно воздушные волны — горячие вперемежку с холодными, — невидимо распространяющиеся в обоих направлениях и создающие атмосферическое возмущение во всей комнате. Вот такой вольтаж ощутился между Фоксом и Амфравиллом. Яростная, истребительная их вражда на минуту заглушила все иные местные взаимотоки. То, что ни Дикки, ни Фокс не намерены были открыто сейчас столкнуться, лишь усилило эти нервно-электрические волны подавленного чувства. А между тем если не знать, какая связывает их трагедия, то можно бы подумать издали — старинные друзья сошлись после долгой разлуки. Это впечатление еще усугублялось их явственным каким-то наружным сходством. Бастер радушно пожал руку Амфравиллу, и тут подошла к ним Фредерика. Бастер опять начал извиняться, объяснять, что он лишь на два слова с Флавией и тотчас же уедет.
— У нас сейчас сумятица, — сказала Фредерика, выслушав Фокса. — Брату моему, Роберту, сообщено, что его отпуск отменяется. Ему надо срочно возвращаться.
Бастер определенно прибыл с намерением уладить какие-то свои неурядицы — а тут изволь стоять и слушать о чужих огорчениях и заботах. Надо признать, внешность у него преимпозантная — даже аристократичней, чем у Амфравилла. Я Фокса не видел раньше в морской форме. Она ему идет. Голова украшена седыми, коротко стриженными, все еще густыми волосами и почти неестественно мала (прав Амфравилл). В молодости красота у Фокса была почти на кинозвездном уровне, теперь же, в зрелом возрасте, она умерена и сдобрена мощной солидностью — точно смотришь на античный бюст благородного римского сенатора. Среди наградных ленточек — крест «За отличную службу». Мне вспомнилась жалоба Амфравилла: «Вчерашние герои — завтрашние коты». Какая-то забота явно гнетет Бастера. Он пытается, без особого успеха, изобразить сочувствие в связи с отъездом Роберта. Не догадываясь об отношениях Роберта с Флавией, Бастер не понимает, чем так Флавия огорчена. А та, после первоначальной вспышки раздражения, уже забыла о Бастере и глядела на Роберта глазами, полными слез.
— Но, милый, можно же и завтра поездом, — сказала она. — Не обязательно сейчас вот, ночью. Какие здесь проходят поезда, Фредерика?
— С поездами здесь не слишком хорошо, — сказала Фредерика. — Но довезут рано или поздно. В самом деле, Роберт, ты бы поездом.
— Вы не слишком ли серьезно относитесь к армейским делам, Роберт? — сказал Амфравилл. — Вас только что отпустили и не могут рассчитывать на моментальный возврат. В части ведь не знают, что сюда заедет сейчас машина за Ником. Даже если слегка задержитесь, это ничем вам не может угрожать, раз начальство само так меняет свои приказы.
— Не в том дело, — сказал Роберт. Он почти взволнован; я его впервые вижу возбужденным. Он слегка постукивает правым сжатым кулаком о левый. — Если я не вернусь завтра днем, меня могут исключить из списка на отправку. Я и так с трудом добился включения. Если дать им повод, меня вычеркнут. Звонил наш старший писарь. Он со мной в дружбе и потому дал знать. Конечно, сказать напрямик он не мог, но дал понять совершенно ясно. Они могут послать вместо меня десять других капралов, если приказано немедленно отплыть. А именно так надо понимать его звонок. Притом я не хочу делать все сборы наспех, в последнюю минуту. Вот почему я бы поехал с тобой, Ник, если Стивенс меня поместит. Высадите где-нибудь поблизости Мичета, а там я пешком.
— В машине будет не весьма комфортабельно, но почему же не подбросить.
— Когда Стивенс заедет за тобой?
— Жду с минуты на минуту.
— Я пойду соберу вещи, — сказал Роберт.
Он ушел наверх. Флавия, свернув туго платочек, стала легонько касаться им глаз. Бастер разговаривал пока с Присиллой — вспомнил, должно быть, что знаком с ней с того званого вечера, на котором Эйми Стрингам потчевала гостей симфонией Морланда. Разговор этот Бастер затеял, возможно, чтобы не встречаться взглядом с Амфравиллом. Демонстрирует при этом массу зрелого мужского обаяния. То и дело косится на Флавию — успокоилась ли та, можно ли пришвартоваться. Сделав над собой усилие, проглотив слезы, Флавия сама направилась к Бастеру.
— Что случилось? — спросила она. — Я хотела позвонить, но была ужасно занята. И я только что приехала сюда. А теперь вот все перевернулось.
Слова эти не слишком вразумительны для постороннего, но у Бастера, вероятно, хватило уже догадливости понять обстановку.
— Я по поводу твоей мамы, — сказал он. — Получается чертовски нескладно. Я подумал — надо поскорее сообщить тебе. Еле тебя доискался. По счастливой случайности узнал, что ты сейчас неподалеку от Трабуорта, и решил съездить повидаться, пока опять не оборвалась связь надолго.
— Но в чем дело?
— Твоя мама ведет себя чрезвычайно странно. Начать с того, что возникли серьезные денежные затруднения. Они могут коснуться тебя и Чарлза. Я имею в виду ваши доли.
— В денежных делах мама всегда безрассудна. Пора уж это знать.
— Она безрассудна и в прочих делах. Я и представления не имел о том, что происходит.
— Где она теперь?
— Вот и об этом тоже. Она замкнула оба своих особняка и поселилась в каком-то батрацком домишке, чтобы находиться вблизи Нормана.
— Нормана Чандлера?
— Ну разумеется.
— Но я думала, Норман взят в армию.
— Да, взят. Послан в учебный лагерь, в Эссекс. Вот она и уехала туда. Но этого мало — хочет со мной разводиться.
Новость чрезвычайно удивила Флавию.
— Но…
— А где прикажете мне жить? — произнес Бастер с горечью. — В Лондоне прошлый раз пришлось остановиться у себя в клубе. А теперь еще огорошила этим разводом. Ведь уезжала — ни слова не сказала. Надо же сперва уладить множество вещей. Разве так можно.
— А она хочет выйти за Нормана?
— Откуда мне знать ее намерения? Со мной она никогда не считалась. Да и Норман повел себя недопустимо, раз позволил ей такое. Я всегда любил Нормана. Ничуть не ставил ему в упрек его положение при ней. Так и говорил ему не однажды. Я думал, он мне друг. На моем месте редкий бы муж не возражал, чтобы такой Норман хозяйничал в доме, украшал комнаты цветами, танцевал перед женой на задних лапках. Норман приятен твоей маме. А раз приятен, я его терпел. И в награду за мою терпимость она уезжает в Эссекс с Норманом и увозит все ключи, лишая меня доступа даже к моим собственным костюмам и рубашкам. А сверх того еще и огорошивает разводом.
В это время раздался снова громкий стук в парадную дверь — должно быть, Стивенс. Я пошел открыть. Амфравилл догнал меня в холле.
— Ну-ка, в двух словах — чем это Бастер так расстроен?
— У миссис Фокс есть приятель, Норман Чандлер, — объяснил я. — Этого маленького танцовщика она обожает, Норман вечно у них в доме. Он и актер очень недурной. А Бастером она, видимо, уже насытилась наконец по горло и вышвырнула его вон.
— Решено — Бастер меня устроит в свое секретное учреждение в Трабуорте.
— А как вы от него добьетесь этого?
— За Бастером давний должок, пятьсот фунтов. Проиграл мне в покер и так и не заплатил в дополнение к прочим своим подлостям. Я могу доставить Бастеру неприятности, если он быстренько меня не пристроит. Бофлз Стрингам сказал как-то: «Запомни мои слова, Дикки, придет день, и Эйми прогонит этого треклятого спортсменистого моряка». И день пришел. Бастеру предстоит рассчитываться еще и по другим счетам.
В дверь опять застучали. Амфравилл вернулся в гостиную. Я впустил Стивенса.
— Подзадержался я, — сказал он. — Придется нам жимануть.
— Здесь у нас порядочный ералаш. Моего шурина, Роберта Толланда, отзывают из отпуска. Он хочет еще этой ночью возвратиться в Мичет. Нельзя ли ему с нами? Мы проезжаем там недалеко, могли бы подбросить.
— Отчего ж. Втиснется сзади, доедет, если не боится раздавить яблочки. Он уже готов?
— Пошел собирать вещи. А тут еще морской некий офицер приехал жаловаться своей падчерице на судьбу.
— Давайте с ними покороче, — сказал Стивенс. — У нас времени в обрез. Я вот только насчет броши словечком перемолвлюсь с той леди.
Мы вошли в гостиную. Там было уже спокойней. В частности, к Бастеру вернулся его обычный апломб. Урегулировав, видимо, с Флавией все, что возможно, он разговаривал сейчас с Фредерикой. Флавия и Роберт сидели, обнявшись, на диване. Стивенс поздоровался с Фредерикой и тут же подошел к Присилле. Фредерика опять повернулась к Бастеру.
— Я рада слышать, что Эрри не доставляет вам хлопот, — сказала она.
— Не скрою, мы ожидали трений в контактах с лордом Уорминстером, — сказал Бастер. — Вышло же совсем напротив, брат ваш всемерно старается облегчить нам жизнь — по крайней мере лично мне. Он обладает, позволю себе так выразиться, обаянием, присущим всему вашему семейству, хоть и проявляет это обаяние иначе.
Амфравилл прервал Фокса.
— Потолкуем со мной чуточку о делах, Бастер, — сказал он.
Они отошли в угол комнаты; мы с Изабеллой отошли в другой. Пора уж было ехать. Если промедлить, мы не успеем вернуться вовремя. И тут Изабелла вдруг сильно побледнела.
— Ник, — проговорила она, — неловко в такую минуту заставлять всех заниматься мной, но я престранно себя чувствую. Пожалуй, пойду к себе в комнату, а Фредерика или кто другой пусть позвонит врачу.
Только этого и недоставало. Атмосфера тревожной сумятицы сгустилась до предела; наконец мы уехали и, доставив по пути Роберта, прибыли в Олдершот, что называется, впритирку.
— Не хочется снова с утра маршировать на плацу, верно? — сказал Стивенс. — А все ж я отменно провел уикенд. Местную одну девчонку обжал под кустиком.
4
В те нечастые, дурманно-сладкие часы уединения, когда, сев под окном в галерее замка Каслмэллок, я читал теккереевского «Эсмонда» или смотрел, как заходит солнце за крепостной кирпичный вал — ограду парка, в котором еще живы байронические отзвуки, — мне приходили на память строки:
Но я по вечерам в пустынном зале Брожу один и предаюсь печали…[9]В длинной галерее замка — ни ковров, ни мебели, кроме нескольких походных столиков и деревянных стульев; под окнами, вдоль всей правой стены, встроены сиденья. Во время дежурства можно было здесь уединиться, когда Каслмэллок на краткие сроки пустел до нового набора курсантов-«антигазовиков». Дежурили мы с Кедуордом поочередно, через ночь; это офицерское дежурство сводилось к тому, что вечером я оставался в замке, обходил перед отбоем строй охраны — выстраивалось обычно человек двести — и ночью спал у телефона. Нас, младших офицеров, у Гуоткина теперь было лишь двое, поскольку в каждой роте одним взводом командовал уорент-офицер[10] (позднее это отменили, эксперимент не удался). Когда же химшкола возобновляла работу, я и Кедуорд спали, чередуясь, у телефона в ротной канцелярии — на случай экстренного звонка из батальона. Часто я и за Кедуорда соглашался дежурить — он, после дневных занятий со взводом, предпочитал «тренировать глаз на местности» — отмечать подходящие места для пулеметных гнезд и противотанковых рубежей. Откинувшись на подоконном диване, я предавался ощущениям отцовства, вспоминал, как под конец пребывания в Олдершоте навещал Изабеллу и младенца сына. У них все шло нормально, но добираться к ним стало затруднительно — я не мог уже ездить в машине Стивенса. Как и предсказывал Брент, Стивенса отчислили.
— Завтра прощаюсь с Олдершотом, — сказал Стивенс однажды.
— Это почему?
— Отсылают в часть.
— За что?
— Не пошел на одну из этих треклятых лекций и попался.
— Сочувствую.
— Да чихал я на них, — сказал он. — Мне бы только в действующую армию попасть. А это, возможно, толчок к продвижению туда. Рано или поздно добьюсь своего. Вот что, дайте-ка мне адрес той вашей родственницы, надо же вернуть ей брошку.
В этом хладнокровии была определенная бравада. Угодить в армейский черный список — вещь нерекомендуемая и, как правило, не способствующая продвижению куда бы то ни было. Я дал Стивенсу почтовый адрес Фредерики, чтобы он мог отослать брошь. Мы простились.
— Встретимся еще, надеюсь.
— Конечно, встретимся.
До окончания Олдершотских курсов ничего особенного уже не произошло. В последний день был краткий прощальный разговор с Брентом.
— Приятно было с вами встретиться, — сказал он. — Я, признаться, рад был пооткровенничать насчет Дьюпортов. Сам не знаю почему. Все это останется, конечно, между нами?
— Разумеется. Куда вы теперь?
— В пехотно-учебный центр, за новым назначением.
Я вернулся за пролив, в Северную Ирландию. Возвращение, как и вести с войны, было безрадостным. Наш батальон передислоцировали южнее, ближе к границе; роты здесь несли службу раздельно. Оказалось, что рота Гуоткина стоит в Каслмэллоке; помимо корпусной химшколы, там — под башенками, башнями, за зубчатыми стенами — помещались окружные военные склады. Этот определенной важности объект и охраняла наша рота, а также, если требовался вспомогательный персонал, давала солдат для противохимических учений. Когда батальон действовал как целое, рота присоединялась к нему, в остальное же время жила обособленно, занимаясь своей боеподготовкой и обслуживая иногда химшколу.
Изабелла написала мне, что тетка ее, Молли Ардгласс-Дживонз, обычно далекая от геральдических занятий, дала ей почитать книжку о Каслмэллоке. Первоначальный владелец поместья, лорд главный судья (из графов произведенный в маркизы за поддержку ирландской унии с Великобританией), доводился дальней родней Ардглассам. Его наследник — Геркулес Мэллок, друг графа д’Орсе и леди Блессингтон — продал поместье богатому фабриканту льняных тканей, а тот снес старый, в классическом стиле, особняк и выстроил нынешний неоготический замок. Геркулес умер в Лиссабоне холостяком, дожив до преклонных лет и не оставив ничего, кроме титула, своему внучатому племяннику — отцу или деду того Каслмэллока, который увел у Амфравилла вторую жену. Как прочие громоздкие здания этого рода, раскиданные по Ольстеру, Каслмэллок последние лет двадцать-тридцать пустовал, пока не реквизировала его армия. В книжке цитируется, между прочим, письмо Байрона (верней, отрывок — и сомнительной подлинности) к леди Каролине Лэм, гостившей здесь; родня услала ее из Англии, чтобы разлучить с Байроном. Изабелла списала для меня этот отрывок:
«…хотя утехи Каслмэллока и могут превосходить собою лисморские, но Вам неизвестно, я вижу, одно обстоятельство; хозяин замка, к чьим „трудам“ Вы не остались равнодушны, был некогда знаком Вашему покорному слуге у целомудренных вод Кема. Так что обуздайте свой повествовательный талант, дорогая моя Каро, или хоть пощадите, не пересказывайте его заверений в любви; вспомните, что тезка Вашего хозяина предпочитал Гиласа пылким нимфам. Знайте вдобавок, что свидания в романтических рощах не манят человека, больного ангиной и насморком и к тому же несварением от недавней пытки обедом у лорда Слифорда…»
Поляна, до сих пор известная как «лощина леди Каро», и память о байроническом любовном эпизоде, несомненно, придавали очарования здешнему парку, мало задетому постройкой нового замка. Над заглохшими лужайками и тропками, над декоративными прудками, где уже не бьют замшелые фонтаны, как бы витал призрак страсти и разлуки. Однако воспоминания воспоминаниями, а жить здесь было скверно. В Каслмэллоке я узнал тоскливое отчаяние. Бесконечно множащиеся обязанности пехотного офицера — сами по себе простые, но, если исполнять их добросовестно, грозные своими мелочами — в военную пору издергивают даже тех, кому не привыкать к армейской лямке; адская скука постоянно мужского общества особенно томит, когда находишься вдали от войны, но под ее гнетом. Как миллионы других, я томился по жене, устал от окружающей военщины, чувствовал уже прямое отвращение к службе, не требовавшей даже храбрости от человека — не дававшей даже этого утешения. В Каслмэллоке не было того теплого ощущения локтя, которое дает служба в любом нерасхлябанном полку. Была здесь только ругань, ссоры, жалобы, бесцветное офицерье преподавательского и адмсостава да рядовые пониженной годности (за исключением нашей роты). Вот уж где полнейшее отсутствие веселости, о которой ратовал Лиоте; но зато какое поле для воинско-монашьего смирения, воспетого Альфредом де Виньи.
Была, однако, несомненная уместность в том, что эта поддельная крепость, памятник доморощенному безвкусному романтизму, стала теперь крепостью взаправдашней, — что в каменных стенах, под сводчатыми потолками раздается лязг оружия и ругань солдатни. Словно зодчие этого замка воссоздали не только средневековую архитектуру, но и тоску средневекового быта. Сэр Магнус Доннерс в своем Сторуотере (он построен в четырнадцатом веке и напоминает моей жене замки из «Смерти Артура»), — сэр Магнус куда меньше походил на владельца замка, чем начальник нашего Каслмэллока, серолицый кадровик, которому недавно удалили аппендикс; и, уж конечно, гости сэра Магнуса меньше похожи были на приспешников-вассалов, чем обтерханные химинструкторы, от которых были рады избавиться приславшие их сюда командиры. Складские офицеры глядели тусклыми сенешалями[11] и прекрасно вписывались в этот готический мир — особенно Пинкас, начальник хозчасти, напоминавший уродца-карлика из тех, что выглядывают сверху из бойниц, готовые напакостить любому, кто въезжает на подъемный мост замка Печальной Стражи. Впечатление это — что ты внезапно угодил во мглу истории, в средневековый кошмар — отнюдь не рассеивалось при вечерних поверках команд охранения. Бывало, обходя эти инвалидные шеренги, это сборище лепных химер в теплые летние вечера перед отбоем, я боялся неудержимо, бешено расхохотаться.
— В точности про них сказано — увечные, хромые и слепые, — не раз повторял старшина Кадуолладер.
Одним словом, атмосфера Каслмэллока действовала на нервы и офицерам, и рядовым. Как-то, сидя один в ротной канцелярии — бывшей кладовой, затерявшейся средь лабиринта задних переходов, — я услышал тяжкий топот в коридоре и раздирающе-детский плач. Я открыл дверь, выглянул. Стоит там молодой солдат, краснолицый детина; по щекам катятся слезы, волосы взъерошены, из носу течет — дальше, как говорится, некуда. Это один из подавальщиков офицерской столовой. Стоит обмякло и покачивается, точно вот-вот упадет. Подбежал сержант, тоже молодой, — настиг свою жертву, если вяжется слово «жертва» с детиной, который вдвое крупнее сержанта.
— Что у вас тут за гвалт?
— Он мне житья не дает, — судорожно прорыдал солдат.
Сержант стоял с неловким видом. Он тоже не нашей роты.
— Пойдем, — сказал он.
— В чем у вас дело?
— Ему дали наряд, сэр, — сказал сержант. — Пойдем, работу кончишь.
— Не могу, болит спина, — сказал солдат, размазывая слезы кулаком.
— Так доложи по форме, — сурово сказал сержант. — К врачу пойди, если спина болит. Такой порядок.
— Я ходил уже.
— Опять пойди.
— Начхоз сказал, если буду еще симулировать, новый наряд получу.
Лицо у сержанта было почти такое же несчастное, как у солдата. Сержант глядел на меня так, точно я способен был найти блестящий выход из положения. Но напрасно он ждал от меня избавления. Выхода я не видел. Да и не в моем ведении они оба.
— Следуйте к себе и не шумите тут больше.
— Виноваты, сэр.
Оба тихо пошли прочь, но только завернули за угол коридора, как снова у них поднялся шум и гвалт. Конечно, в нашей роте никто бы не позволил себе так раскиснуть, хоть и у нас случалось солдатам не сдерживать своих эмоций. До такого срама у нас не дошло бы. Происшествия этого рода повергали душу в глубочайшее уныние. Хотя здесь солдатам тягот было меньше, чем при батальоне, — не надо было, скажем, дежурить на дорожных заграждениях, — но негде было людям развлечься вечерами, разве что в пивнушках захудалого городка, расположенного милях в двух от нас.
— Нечем ребятам заняться, — сказал старшина Кадуолладер, глядя без улыбки, как группа солдат во главе с Уильямсом И. Г. исполняет военный танец краснокожих. (За эту затейную жилку, вероятно, и жаловал Уильямса дружбой младший капрал Гиттинс, ротный кладовщик.) Вместо индейских томагавков у каждого в руке колотушка для вбивания палаточных приколышей; плясуны медленно движутся, образуя кружок, то клоня головы к земле, то выпрямляясь, и постепенно убыстряют кружение. Как жаль, подумал я, что нет здесь Битела; вот бы кому вести танец.
— А занялись бы футболом.
— Не с кем играть, сэр. Одна здесь наша рота.
— Ну и что?
— Персонал химшколы сплошь нестроевики.
— Но в роте-то людей хватает. Можно же играть между собой.
— Ребята не захотят.
— Почему?
— Им бы интерес побить другую роту.
Что ж, выражено без обиняков. И без притворства, будто игра интересна сама по себе, а не как отдушина, выход для людской агрессивности и властолюбия. Играешь, чтобы показать, что ты сильней другого. Да и вообще много ли таких на свете, кто занимается любовью ради любви, искусством ради самого искусства, делом ради дела?
— А чем они развлекаются помимо индейских плясок?
— Кой-кто девушку себе подыскал, сэр.
Старшина сдержанно ухмыльнулся, словно и сам он в числе этих подыскавших.
— Вы имеете в виду капрала Гуилта?
— И капрал нашел себе, возможно, одну или там двух.
Между тем по возвращении из Олдершота я заметил перемену в Гуоткине, хотя и не сразу понял, что с ним происходит. Гуоткин, по словам Кедуорда, был крайне обрадован тем, что теперь командует более или менее независимо, и ревностно оберегал эту свою самостоятельность от посягательств начшколы, препираясь с ним, со скрипом выделяя людей для нужд химшколы. Но при всем том я заметил в Гуоткине какую-то рассеянность, даже как бы припадки лености. Он временами как-то вдруг забывался: сидит за столом в канцелярии, держа на ладони ротную печать резиновым штемпелем кверху, точно символ верховной власти, а взгляд ушел куда-то на булыжный двор, за пристройки, превращенные в казарму. На несколько минут вот так уставится за крыши, за двор и конюшни, будто провожает прощальным взглядом атакующую конницу, длинные пехотные колонны, уходящие в дым боя, скачущие артиллерийские упряжки. Так мне, во всяком случае, казалось. Думалось, что Гуоткин наконец прозрел, увидел армию в истинном свете и освобождает, очищает разум от мечтаний. Гуоткин сам, видимо, сознавал, что отвлекается порой от дела: после таких припадков отрешенности он еще пуще усердствовал — рьяно конфликтовал с начальником или вдруг, в приливе служебной энергии, продлевал часы ротных занятий. Но посреди всех этих стараний поднять боеподготовку опять находили на Гуоткина приступы летаргического забытья. Он также стал разговорчивей — расстался с одной из своих любимых ролей, с ролью немногословного воина. Но опять же, вспышки разговорчивости чередовались у него с полосами мрачнейшего безмолвия.
— Что Роланд, не болен ли? — спросил я Кедуорда.
— Да нет, по-моему.
— Он как бы слегка не в себе.
— Вроде все в порядке.
— Мне показалось, с ним что-то неладно.
— А что, Роланд придирается к вам?
— Не слишком.
— Придираться он, по-моему, стал теперь меньше. Но чертовски сделался забывчив, это верно. В последнюю выплату у нас было почти не на чем расписываться: Роланд сунул в ящик все заявки старшего сержанта насчет ведомостей — и забыл. Возможно, Ник, вы и правы, он не совсем здоров.
Эту перемену в Гуоткине ясно показал мне эпизод с сигналом тревоги. Из округа пришел очередной приказ всем частям и соединениям быть начеку ввиду возможности враждебных акций, подобных инциденту с Глухарем Морганом: такие акции за последнее время участились в связи с германскими успехами на фронте. В ближайшую неделю-две ожидались согласованные диверсионные вылазки в районе Каслмэллока. Поэтому каждой части вменялось в обязанность учредить свой местный сигнал тревоги — в дополнение к общему сигналу, который предполагалось дать в случае германского вторжения к югу от границы, бросая туда по этому сигналу наши войска. Чтобы держать солдат в готовности, закодированный сигнал общей тревоги передавался нам время от времени по телефону или радио — и тогда рота шла на соединение с батальоном. В случае же местных нападений, о которых предупредил округ, от частей потребовались бы другие действия и, стало быть, нужен был другой сигнал. Начальник Каслмэллока решил играть местную тревогу на трубе. Весь гарнизон построили для ознакомления с сигналом и усвоения на слух. Потом, придя с плаца, Гуоткин, Кедуорд, старшина и я собрались в ротной канцелярии для утряски деталей. Возник неизбежный вопрос — а как быть с теми, кто по своей немузыкальности не смог запомнить сигнал.
— У всех этих мотивов есть слова, — сказал Кедуорд. — Какие слова у сигнала тревоги?
— Вот именно, — подхватил Гуоткин: он не прочь был пустить в дело армейский фольклор. — Скажем, сигнал походной кухни:
Готовь, рота, котелки, котелки! Обедать команда. Офицерам — пудинги, пирожки. Солдатам — баланда.А тревога как поется, старшина? Должны тоже быть слова.
И тут единственный раз я увидел, как ротный старшина Кадуолладер покраснел.
— Грубые они, слова эти, сэр, — сказал он.
— А все же, — сказал Гуоткин.
Старшина продолжал почему-то мяться.
— Да рота уже, считай, знает этот сигнал, сэр, — сказал он.
— Считать не будем, — сказал Гуоткин. — Тут надо наверняка. Нельзя, чтоб хоть один боец не различал сигнала. Ему нужен стишок. Какие здесь слова?
— Вам обязательно нужны слова, сэр?
— Сколько раз повторять, — сказал Гуоткин, слегка раздраженный колебаниями старшины и вместе с тем теряя уже как-то интерес, глядя теперь куда-то в окно. Старшина еще помялся. Затем, скруглив губы, протрубил:
О-гром-ней всех у стар-ши-ны! О-гром-ней всех у стар-ши-ны!Мы с Кедуордом захохотали. Я думал, что и Гуоткин засмеется. Он обычно был способен оценивать такого сорта юмор, тем более что в смешном положении был теперь старшина — случай редкостный. Но Гуоткин точно и не слышал слов, не уловил их смысла. Я сперва решил, что этот полученный им грубо-комический ответ, возможно, задел его достоинство. Правда, непохоже это на него: державший себя важно, Гуоткин одобрял, однако, грубость языка, как черту, свойственную воину. Но тут я понял, что на Гуоткина опять нашло «забытье», что позабыто все вокруг: сигнал тревоги, старшина, Кедуорд, я, батальон, армия, сама даже война.
— Отлично, старшина, — встрепенувшись, точно просыпаясь, произнес Гуоткин. — Ознакомьте с этими словами весь состав роты. У меня все. Вы свободны.
Было уже лето, жара. Голландия занята немцами, Черчилль стал премьер-министром. Я прочел в газете, что сэр Магнус Доннерс получил министерский пост, как давно и ожидалось. Пришел приказ батальону выделить людей для посылки во Францию, в один из кадровых батальонов нашего полка. У нас ворчали — неужели мы годимся только на комплектованье маршевых команд. Особенно возмущался Гуоткин — унизительно, притом рота лишилась нескольких хороших солдат. В остальном шло в Каслмэллоке по-прежнему; шелестела листва старых больших деревьев парка; бассейны под фонтанами все высохли. Как-то под вечер в субботу Гуоткин предложил мне прогуляться в город, выпить пива. Химшкола пустовала между наборами; дежурил в этот вечер Кедуорд. Как правило, Гуоткин после обеда редко оставался в офицерском клубе. Никто не знал, как он проводит вечера. Возможно, уходит к себе в комнату штудировать устав полевой службы или иное воинское наставление. Никак бы не подумалось, что Гуоткин завел себе обычай отправляться в город. Но из его слов выходило именно это.
— Я нашел местечко — там получше, чем у Маккоя, — сказал он с неким вызовом. — Портер там хорош чертовски. Несколько раз уже ходил пить. Хочу услышать ваше мнение.
Я как-то зашел в бар Маккоя с Кедуордом — единственное мое посещение здешней пивной — и охотно готов был поверить, что нашлось местечко и получше. Но было непонятно, почему Гуоткин придает этому важность, говорит с таким серьезным видом. Да и вообще несвойственны ему вечерние выпивки. А приглашение я принял. Отказаться было бы не по-приятельски и весьма «неполитично». Прогуляюсь для разнообразия. К тому же порядком надоело уже перечитывать «Эсмонда». Пообедав, мы с Гуоткином тронулись в путь. По аллее к воротам шагали молча. Но, выходя на дорогу, Гуоткин неожиданно сказал:
— Трудновато будет снова корпеть в банке после всего этого.
— После чего?
— После армии. После военной жизни.
Я узнал от Кедуорда в первые же дни, что офицеры батальона в большинстве своем из банковских служащих. Эта общность сплачивает их, создает почти семейный дух. Даже на чужака вроде меня веет от этого тесного клана скорее родственным радушием, чем холодом. До сих пор никто из них не выражал при мне особой неприязни к банковскому делу — разве что поворчит слегка на свое ремесло, по свойственной людям привычке. Ощущалась как бы каста, четко оформленная, сильная своей укорененностью, — почти тайное общество, с полным взаимопониманием между членами. Они могли роптать на недостатки, но иной профессии не мыслили. Гуоткинский открытый бунт — новость для меня.
— Да не так и плохо в банке чертовом, — продолжал Гуоткин уже помягче, со смешком. — Но разница большая. В армии служить поувлекательней, чем вскрывать заевший домашний сейфик и записывать содержимое в книгу сбережений.
— Что это за домашние сейфики и почему их заедает?
— Копилки детские.
— И дети портят замки?
— Обычно сами родители. Когда в деньгах срочная нужда. Консервным ножом ковыряют. Возвращают нам эти чертовы копилки с расковырянным вдрызг механизмом. А кассир вскроет наконец и обнаруживает там три пенсовые монетки и одну полпенсовую и жестяную фишку.
— Но и пулеметы заедает тоже. Традиционный изъян пулеметов. «Станковый заело, полковник убит», — даже стихи написаны об этом. Можно и о банке написать: «Копилку заело, директор убит».
Мой трезвый довод не убедил Гуоткина.
— Пулемет — дело воинское, — сказал он.
— А еженедельная выплата по ведомости? А поверка вещмешков? Тоже воинские дела. Но они от этого ничуть не приятней.
— Приятней, чем в базарный день возить пособие в пригород и выдавать безработным из мешка в «зале» у старухи молочницы Джонс. Это ли жизнь для мужчины?
— Вы находите, Роланд, что в армии больше романтики?
— Да, — горячо подтвердил он. — Вот именно — романтики. Разве не ясно, что нельзя потратить жизнь на мелочь, на сиденье среди гроссбухов? Мне это ясно.
— Сидеть в Каслмэллоке и слушать по радио сообщения о продвижении немцев к портам Ла-Манша тоже не очень окрыляет — особенно если перед этим ты битый час обсуждал со старшим сержантом, как обстоит в роте дело с солдатскими носками, да искал подходящие штаны для Эванса Д., обладающего совершенно нестандартным задом.
— Да, но скоро и мы вступим в дело, Ник. Не вечно будут нас держать в Каслмэллоке.
— А может, и вечно.
— И не так уж плохо здесь.
Видимо, Гуоткину очень не хотелось, чтобы я ругал Каслмэллок.
— Согласен, парк красив. Вот и все, пожалуй, здешние плюсы.
— Мне Каслмэллок теперь дорог, — сказал Гуоткин взволнованно.
Выходит, я ошибался, полагая, что он охладел к армии. Напротив, пышет энтузиазмом сильней прежнего. Непонятно, отчего в нем вдруг так возгорелся пыл. Идя с ним рядом, я ни на секунду не подозревал, в чем разгадка. Мы подошли уже к пивной, расхваленной Гуоткином. Впрочем, снаружи у нее на удивление тот же вид, что у Маккоя, только находится она в проулке, а не на главной улице. Тот же обычный здешний двухэтажный дом, и нижний этаж оборудован под пивную. Я вошел вслед за Гуоткином в низкую дверь. Внутри сумрачно, запах неаппетитный. В помещении пусто, но из комнаты за стойкой слышны голоса. Гуоткин постучал монеткой о стойку.
— Морин… — проворковал он.
Вот так же воркует он, взяв телефонную трубку: «Алло-у… алло-у…» Это очень не вяжется с общей повадкой Гуоткина. «То, что мы зовем вежливостью, не проще ли будет назвать слабостью», — заметил он как-то. Но его собственное воркованье — по телефону и теперь вот — отнюдь не поражает беспощадным волевым напором. Никто не откликался. Гуоткин загулил опять:
— Мори-ийн … Мори-ийн …
Опять нет отзыва. Наконец из задней комнаты вышла к нам девушка. Низкорослая, плотная, с бледным лицом и пышными черными волосами. Красива какой-то животной, почти звериной красотой — такая звероватость привлекает некоторых. Барнби заметил однажды: «Викторианец в женщинах ценил утонченность, а меня неудержимо влечет их вульгарность». Девушка ему определенно бы понравилась.
— Да это ж капитан Гуоткин к нам жалует опять, — сказала она. Улыбаясь, уперлась руками в бока. Зубы весьма неважные; глаза разят из глубокой тени глазниц.
— Да, Морин…
Гуоткин смолк, словно в замешательстве. Оглянулся на меня, как бы ища поддержки. Такая ненаходчивость не в его стиле. Но Морин продолжала говорить сама.
— И другого офицера привели. Чем же вас нынешний вечер порчевать? Портером или капелькой виски? А, капитан?
Гуоткин повернулся ко мне.
— Что предпочитаете, Ник?
— Портер.
— И я тоже, — сказал он. — Две кружки портера, Морин. Я пью виски, только лишь когда невесел. А сегодня мы грустить не собираемся — верно, Ник?
Он говорил со странным смущением в голосе. Таким я Гуоткина еще не видел. Мы сели за столик у стены. Морин стала цедить черное крепкое пиво. Гуоткин не сводил с нее глаз. Морин сняла оседающую пену блюдцем, снова подставила кружки под кран, доливая дополна. Принесла нам пиво, подсела, но угоститься с нами отказалась.
— А какое будет у офицера имечко? — спросила она.
— Второй лейтенант Дженкинс, — сказал Гуоткин. — Он служит у меня в роте.
— Неужели. Как замечательно.
— Мы с ним в большой дружбе, — сообщил Гуоткин прохладным тоном.
— Так почему же не приводили его ко мне раньше? А, капитан Гуоткин?
— Понимаете, Морин, у нас ведь нелегкая служба, — сказал Гуоткин. — Не всегда удается к вам прийти. Эту радость можем себе позволить нечасто.
— Да ну вас, — засмеялась Морин зазывно, опять показывая черноватые зубы. — Сами-то небось часто приходите.
— Не так часто, как хотелось бы, Морин.
Гуоткин уже оправился от первоначальной скованности, говорил теперь свободно. По-видимому даже, он чувствует себя в женском обществе непринужденней, чем в мужском, а в первые минуты просто нервы подвели.
— Чем же это вы так заняты? — спросила она. — Солдат муштруете небось?
— И муштровать приходится, Морин, — ответил Гуоткин. — И всякой другой выучкой заниматься. Современная война — очень сложное дело, поймите.
— А то я непонятливая, — рассмеялась она снова. — Мой дед двоюродный служил в Коннотском кавалерийском полку, и уж какой был молодец. Первым красавцем слыл во всем Монаханском графстве. И храбрецом. Его немцы хотели взять в плен. Так он, рассказывают, дюжину их заколол штыком. Немцам в ту войну не в радость было с ирландцами встречаться.
— Зато в эту войну им такие встречи не грозят, — сказал Гуоткин неожиданно резко. — Даже здесь, в Ольстере, нет воинской повинности и сколько парней гуляет, не взятых в армию.
— А вы что, хотели бы взять у нас всех парней? — сказала Морин, играя глазами. — Нам одиноко будет, если все уйдут на войну.
— Возможно, Гитлер решит высадить свою армию вторжения здесь, южнее границы, — сказал Гуоткин. — Интересно, что тогда запоют все ваши парни.
— О боже, — сказала она, всплескивая руками. — И не упоминайте негодяя старого. Неужели он способен на такую подлость? Вы что, серьезно это, капитан Гуоткин?
— Высадка в Ирландии меня не удивит, — сказал Гуоткин.
— Вы сами родом с юга? — спросил я Морин.
— Откуда же еще, — ответила она улыбаясь. — А как вы догадались, лейтенант Дженкинс?
— Да просто подумалось.
— По говору моему?
— Возможно.
— Заметили тоже, что я не такая, как эти ольстерцы, — понизила она голос. — Черствые они все, до денег жадные.
— Пожалуй, заметил.
— Угадали, значит, где родина у нашей Морин, — сказал Гуоткин. — Я ей говорю, что мы должны ее считать неблагонадежным элементом и держать при ней язык за зубами — она ведь нейтралка.
Морин запротестовала; в это время с улицы вошли двое молодых людей в бриджах и крагах. Она встала, чтобы обслужить их. Гуоткин погрузился в очередное меланхолическое безмолвие. Должно быть, опечалился тем странным фактом, что Морин так же весело болтает и смеется с местными штафирками, как с удалыми офицерами (то бишь с Гуоткином и со мной). Во всяком случае, он изучающе уставился на вошедших, собою малопримечательных. И затем опять вернулся мыслью к нелюбимой довоенной профессии.
— Фермеры, вероятно, — сказал он. — У меня дед был фермер. Он-то не сидел в затхлой конторе.
— В каких местах фермерствовал ваш дед?
— На границе Уэлса со Шропширом.
— А отец ваш стал служащим?
— Вот то-то же. Поступил в страховое общество и послан был служить в другую местность.
— Вы бывали у деда на ферме?
— Как-то ездили туда на отдых. Вам, наверно, приходилось слышать о великом лорде Аберавоне?
— Приходилось.
— Ферма — на его земле.
Я не думаю, что лорд Аберавон (лордство которого на нем и началось, и кончилось) войдет в память потомства как великий, хотя своим арендаторам он, несомненно, мог казаться таковым. Мне лорд памятен разве тем, что оставил Уолпол-Уилсонам в наследство диконовскую картину «Отрочество Кира», висевшую у них в холле. В те доисторические времена, когда я был влюблен в Барбару Горинг, взгляд на «Кира» тотчас напоминал о ней. Лорд Аберавон приходился дедом Барбаре и Элеоноре Уолпол-Уилсон. Как поживает Барбара теперь? Взят ли уже из запаса муж ее, Джонни Пардоу (у них дом в той же местности, на границе со Шропширом)? Элеонора — давняя подруга Норы Толланд; сейчас они обе в женской вспомогательной службе, водят легковые машины. Да, всколыхнул Гуоткин во мне воспоминания… Он глядел на меня как-то смущенно, точно догадываясь, что я задумался о чем-то своем и далеком. Ему, видимо, хотелось продолжить разговор, но брало сомнение — не будет ли мне скучно его слушать, не окажется ли он назойлив. Гуоткин откашлянулся, глотнул пива.
— Помните, какая у лорда Аберавона фамилия? — спросил он.
— Постойте, ведь фамилия у него — Гуоткин!
— Да, как у меня. И звали его тоже Роланд.
Гуоткин произнес это очень серьезным тоном.
— Совсем как-то выпало из памяти. Он вам родня?
— Нет, что вы, — сказал Гуоткин с виноватым смешком.
— Отчего ж. Может быть и родней вам.
— Почему вы так думаете?
— Совпадение фамилий может быть и не случайным.
— Если и родня, то седьмая вода на киселе.
— Седьмая, но все же родня.
— Настолько дальняя, что уже и не родня, — сказал Гуоткин. — Дед-то мой, фермер, клялся, что мы из тех же именно Гуоткинов, если копнуть вглубь — в самый корень.
— Что ж тут невероятного?
Мне вспомнилось, что в одном из некрологов говорилось о глубочайшей древности рода лорда Аберавона, хотя сам лорд начинал жизнь скромным служащим ливерпульской судовой компании. Меня эти детали заинтересовали тогда.
— Род ведь очень древний?
— Говорят, древний, — сказал Гуоткин.
— И дал ему начало Вортигерн, вступив в связь с одной из собственных дочерей? Я определенно читал об этом.
Гуоткин опять взглянул с каким-то сомнением, точно разговор повернул куда-то не туда и обнаружилась недопустимая моя осведомленность о происхождении гуоткинского рода. Возможно, он и прав, так думая.
— Кто такой Вортигерн? — спросил он неловко.
— Британский князь, жил в пятом веке. Помните — призвал на помощь Хенгиста и Хорзу. А потом не мог от них избавиться.
Напрасный труд. В глазах у Гуоткина не зажглось ни искорки. Хенгист и Хорза для него пустой и мертвый звук — еще мертвее Вортигерна. Гуоткина не поражает мрачное великолепие его возможной родословной; попросту не интересует. Деловая сметка лорда Аберавона волнует его больше, чем взлет на королевские высоты древней кельтской Британии. Романтизм Гуоткина, хоть и врожденный, существенно ограничен недостатком воображения, как это часто бывает. Зря я упомянул о Вортигерне. Только прервал ход мыслей Гуоткина своим неуместным экскурсом в историю.
— Дед, по-моему, выдумал все в основном, — сказал он. — Просто хотел, чтобы думали, будто он в родстве с однофамильцем, нажившим три четверти миллиона.
Гуоткин, видимо, жалел уже, что разоткровенничался о своих истоках, — и замолк. Как странно, подумал я, и как типично для нас, островитян, что Гуоткин сделал только что заявку — и обоснованную, возможно, — на происхождение, мысль о котором и прельщает, и отталкивает вместе, и, однако, оборвал на этом разговор. Мудрено ли, что континентальным европейцам и американцам трудно понимать нас. Курьезно также (упорно думалось мне дальше), что кровосмеситель Вортигерн породнил Гуоткина с Барбарой Горинг и Элеонорой Уолпол-Уилсон. Возможно, исходной причиной всему тот неразумный сговор с Хенгистом и Хорзой. Да и меня это странным образом роднит с Гуоткином.
Мы выпили еще портера. Морин ушла всецело в обсуждение местных новостей со своими молодыми собеседниками и не обращала больше на нас внимания. К ним присоединился еще третий, постарше, того же фермерского типа, рыжеватый, с ухватками профессионального остряка. Раскатисто зазвучал смех. Нам пришлось самим ходить к стойке за пивом. Это повергло Гуоткина еще глубже в меланхолию. Мы безрадостно потолковали о ротных делах. Входили еще клиенты; все они здоровались с Морин весьма по-свойски. Мы с Гуоткином выпили порядочно. Настала пора уходить.
— В казарму двинем? — сказал Гуоткин. Слово «казарма» не прибавило очарования Каслмэллоку. Уходя, Гуоткин повернулся к стойке.
— Спокойной ночи, Морин.
Но та заслушалась острот рыжего весельчака.
— Спокойной ночи, Морин, — повторил Гуоткин погромче.
Она взглянула, вышла из-за стойки.
— Спокойной ночи вам, капитан Гуоткин, и вам, лейтенант Дженкинс, — сказала Морин. — И захаживайте оба почаще, а то как бы я на вас не осердилась.
Прощально помахав рукой, мы вышли. Гуоткин шагал молча. На окраине городка он вдруг глубоко вздохнул. Хотел было заговорить; решил, что на ходу выйдет недостаточно весомо; остановился, повернулся ко мне.
— Замечательная, верно?
— Кто? Морин?
— Ну конечно.
— Девушка приятная как будто.
— Не больше чем приятная? — произнес он с укором.
— А что, разве… Неужели вы серьезно увлеклись ею?
— По-моему, она совершенно чудесная, — сказал он.
Мы выпили, как я уже сказал, порядочно — до тех пор в армии пил я не больше двух-трех малых кружек за раз, — так что языки развязаться могли, но все же охмелели мы недостаточно для амурных галлюцинаций. Очевидно, Гуоткин выражал свои подлинные чувства, а не преувеличенное пьяное желание. И мгновенно разъяснились гуоткинские припадки мечтательного забытья с ротной печатью в руке и сделалась понятна привязанность его к Каслмэллоку. Влюбился Гуоткин. Каждый влюбляется по-своему — и в то же время схоже со всеми другими. Как говорил когда-то Морланд, любовь подобна морской болезни. Все кругом вздымается и падает, и кажется тебе, что умираешь, но затем, пошатываясь, сходишь на сушу и через минуту-две уже почти не помнишь ни своих мучений, ни причины их. Гуоткин был сейчас в разгаре заболевания.
— Вы что-нибудь предприняли?
— Насчет чего?
— Насчет Морин.
— То есть?
— Ну, приглашали ее куда-нибудь?
— Нет, конечно.
— Но почему же?
— А что это даст?
— Не знаю. Мне кажется, приятно будет, если у вас к ней чувство.
— Но пришлось бы сказать ей, что я женат.
— Непременно скажите. Играйте в открытую.
— Но вы думаете, она примет приглашение?
— Я бы не удивился.
— И что же — обольстить ее?
— Привести, пожалуй, дело к этому ориентиру — в должный срок.
Он глядел на меня изумленно. Я ощутил некоторую неловкость — как Мефистофель, вдруг наткнувшийся на безнадежную непонятливость Фауста. В опере такое могло бы послужить недурным основанием для арии.
— В армии встречаешь чудаков, что будто слыхом не слыхали о женщинах, — заметил как-то Одо Стивенс. — Сегодня рядом с тобой сидит, возможно, девятнадцатилетний сексуальный маньяк, а завтра — пожилой младенец, не ведающий фактов жизни.
Меня удивила щепетильность Гуоткина, хотя припомнилось теперь его отношение к случаю с Пендри. Вообще-то молодые офицеры батальона либо, как Кедуорд, обручены, либо, как Бриз, недавно женились. Они могут, подобно Памфри, вести весьма вольные разговоры, однако семейный престол прочно занят женой или невестой. Во всяком случае, до передислокации в Каслмэллок времени на женщин не было ни у женатых, ни у холостых. Гуоткин, разумеется, привык к тому, что Памфри готов ринуться на первую встречную официантку. И вроде бы не осуждал за это Памфри. Семейная жизнь Гуоткина неизвестна мне; я слышал лишь от Кедуорда, что Гуоткин знал свою жену с детства, а первоначально хотел жениться на сестре Бриза.
— Но я женат, — повторил Гуоткин чуть ли не с отчаянием в голосе.
— Я ведь не настаиваю, чтоб вы приглашали. Я только спросил.
— И Морин не из таких, — сказал он уже сердито.
— Почем вы знаете?
Он усмехнулся, поняв, очевидно, что «не из таких» прозвучало глупо.
— Вы видели Морин впервые, Ник. Вы не можете знать, какая она. Вы по ее разговору с клиентами судите. Но на самом деле она не распущенная. Я часто бываю у нее там, когда никого нет. Вы удивились бы, глядя на нее тогда. Она как ребенок.
— Бывают весьма искушенные дети.
Гуоткин не стал и возражать на это замечание.
— Не знаю, почему она мне кажется такой чудесной, — вздохнул он. — Но ничего не могу с собой поделать. Все время она у меня в мыслях — даже тревожно становится. Ловлю себя на том, что забываю должностные обязанности.
— Вы каждый вечер ходите к ней в пивную?
— Когда только могу. В последнее время не мог — то одно, то другое мешало. Скажем, этот окружной приказ о бдительности.
— А она знает?
— Знает что?
— Что вы влюблены в нее.
— Не думаю, — сказал он странно робким тоном. Затем вернулся к тону обычному, грубовато-служебному. — Я подумал — лучше будет, если скажу вам, Ник. Освобожу, может, мысли немного, если поделюсь с кем-нибудь. А то боюсь, как бы не свалять дурака в ротных делах. Такая девушка вытесняет из головы все остальное.
— Разумеется.
— Вы понимаете меня.
— Да.
Гуоткин все еще не успокаивался.
— Значит, считаете, нужно ее пригласить?
— Так многие бы сделали — возможно, уже и делают.
— О нет, определенно нет — я никого там из химшколы не видел. Я и сам попал туда совершенно случайно. Пошел напрямик переулками. Морин стояла в дверях, и я спросил у нее, как пройти. Ее родители — владельцы этой пивной. Она не простая подавальщица.
— Простая или нет, а попытаться можно.
На этом Гуоткин кончил разговор о Морин. Остаток пути он толковал о делах служебных.
— С завтрашнего вечера опять в столовой теснота, — сказал он на прощанье. — Очередной набор прибудет. Опять, конечно, станут требовать у меня людей для участия в их чертовых показах. Но что поделаешь.
— Спокойной ночи, Роланд.
— Спокойной ночи, Ник.
Я направился в конюшню, где вдвоем с Кедуордом занимал комнату конюха (примерно так же помещались в Стоунхерсте Алберт с Брейси). Сегодня Кедуорда не будет, он дежурит, и я в комнатке один, а это всегда радость. Напрасно я, однако, выпил столько пива. Но завтра воскресенье, дел сравнительно мало. Да, скверно должен чувствовать себя с похмелья Бител на утренних построениях, подумалось мне. И — легок на помине — назавтра Бител оказался среди слушателей нового набора. Собственно, и следовало ожидать, что Битела пришлют на химкурсы. Это был способ убрать его из батальона впредь до окончательного изгнания, которого, по словам Гуоткина, не миновать Бителу. Я сидел в галерее за столиком и надписывал конверт, когда в дверь заглянул Бител. Он пощипывал свои клочковатые усы и нервно улыбался. Завидев меня, тотчас направился к столику.
— Приятная встреча, — сказал он, по-всегдашнему робко, точно боясь, что осадят. — Не виделись с самой передислокации.
— Как поживаете?
— Начальство греет, как обычно.
— Мелгуин-Джонс?
— Ему я прямо поперек горла, — сказал Бител. — Но уже недолго мне терпеть.
— А что?
— Вероятно, уйду из батальона.
— Это как же?
— Переводят в дивизию вроде бы.
— В штаб?
— Должность скорее командная.
— Дивизионная служба?
— Вспомогательная, конечно. Если это дельце выгорит, жалко будет уходить из батальона в некоторых отношениях, но расстаться с Мелгуин-Джонсом будет не жаль.
— А что за должность, если не секрет?
Бител понизил голос, как всегда, когда говорит о своих делах — словно делишки эти не совсем чистые.
— Передвижная прачечная.
— И вас — начальником?
— Если выгорит. По слухам, есть еще две, а то и три кандидатуры из других подразделений, причем одна очень подходящая. Я, правда, служил по рекламной части в нашей местной прачечной, так что и у меня неплохой шанс. Весьма даже неплохой. Наш командир батальона очень за меня болеет. Не раз уже лично звонил в дивизию. Молодец прямо.
— Эта должность для какого звания?
— Для младшего офицера. Но все же в некотором роде повышение. Так сказать, ступенька вверх. А вести с фронта не блестящие, а? Бельгийское правительство капитулировало, дела пошли швах.
— Что в последних сообщениях? Я не слышал.
— Бои на побережье. Мне сказали утром, кадровый батальон нашего полка участвовал в бою. Потрепали сильно. Помните Джонса Д.? Довольно красивый, белокурый такой мальчик.
— Он из моего взвода — ушел с маршевой командой.
— Убит он. Мне Дэниелс сказал, мой ординарец. Дэниелс знает все новости.
— Значит, убили Джонса. А еще кого из наших?
— Проджерса знали?
— Косоглазый шофер?
— Он самый. Привозил в столовую продукты иногда, Курчавый, темноволосый, шепелявил. Тоже убит. Кстати, о столовой. Как здесь кормят?
— Вот уже полмесяца потчуют говядиной два раза в день. Тридцать семь раз подряд, по точному подсчету.
— Ну и как на вкус?
— Козлятина, примазанная заварным кремом.
И разговор переключился на армейскую пищу. Потом, при встрече со старшиной Кадуолладером, я спросил его, слышал ли он о гибели Джонса.
— Нет, не слыхал, сэр. Значит, нашла его пуля.
— Или мина.
— Вечно невезучий он был, Джонс этот, — сказал Кадуолладер.
— Помнишь, старшина, как его мутило в морскую переправу? — сказал капрал Гуилт, стоящий рядом. — Жутко мутило.
— Помню.
— Никогда не видел, чтоб так юнца выворачивало. Или взрослого.
Был канун дюнкеркской эвакуации, так что из моих знакомцев погибли в ту неделю не одни только Джонс и Проджерс. Среди павших был и Роберт Толлан, посланный во Францию с отрядом службы безопасности. Об этом написала мне Изабелла. Обстоятельства его смерти так и остались для нас темными. Погиб загадочно, как жил, и навсегда остался неразгадан, подобно многим молодым, скошенным войной. Был ли он и впрямь, как утверждал Чипс Лавелл, тайным любителем «хозяек из ночного клуба», годящихся ему в матери? Разбогател бы он в своей экспортной фирме, торгующей с Дальним Востоком? Женился бы на Флавии или не женился бы? Так в музыкальной детской игре пианино замолкает вдруг, и кто-то, не успев занять стул, навеки замирает в случайной позе. Итоговая черта подведена внезапно, и как уж кому повезло: смерть одних исполнена уместности и видимого смысла, другие же, как Роберт, гибнут на поле брани несколько несуразно. Но таково уж начертанье Рока. Или же Роберт решал здесь сам? Отверг возможность производства в офицеры ради того, чтобы пасть во Франции? Или это у Флавии так безнадежно несчастлива судьба, что достаточно было Роберту сблизиться с Флавией, и в дело тут же вступил Умертвитель Озириса (как сказал бы доктор Трелони), так что гибельно главенствовала здесь линия не его, а ее жизни? А возможно даже, Роберт умер, чтобы уйти от Флавии. Жизням тех, кто умер молодым, свойственна мистическая величавость безглавой статуи, поэзия таинственных отрывков из неконченной или полусожженной рукописи, что не испорчена пошлой или искусственной развязкой. Тревожные то были недели — и удушающе жаркие. Но Гуоткин почему-то повеселел. Война все больше выявляла и таких, кого бедствия не угнетали, а бодрили. Я подумал — возможно, Гуоткин из этой довольно многочисленной когорты. Однако у его бодрости оказалась иная причина. Открыл ее мне он сам.
— Я последовал вашему совету, Ник, — сказал он.
Дело было под вечер, мы сидели вдвоем в ротной канцелярии.
— Насчет хранения боевых гранат?
Гуоткин отрицательно качнул головой и поморщился, как если бы мысль о не пристроенных до сих пор ручных гранатах тотчас привела с собой сознание вины.
— Нет, я не про гранаты, — сказал он. — Я еще не решил, где их лучше хранить так, чтобы складские носа не совали. Я про Морин.
Что за Морин? Но затем я вспомнил тот вечер в пивной — буфетчицу, которой увлекся Гуоткин. А я было решил на следующий день, что это все же пиво подействовало так на него, и выбросил эпизод с Морин из головы.
— А что с Морин?
— Я ее пригласил.
— Пригласили?
— Да.
— И что же она?
— Согласилась.
— Я ведь говорил.
— Было чертовски замечательно.
— Вот и отлично.
— Ник, — сказал он. — Я не шучу. Не смейтесь. Я всерьез благодарен вам, Ник, за то, что подтолкнули меня к действию — а то бы я тянул волынку как дурак, Есть у меня такая слабость. Как на учениях, когда рота была назначена в поддержку, а я проканителился позорно.
— Ну и как впечатления от Морин?
— Она чудесная.
Больше Гуоткин ничего не сообщил мне. Я бы не прочь услышать подробности их рандеву, но Гуоткин явно рассматривал новейшее развитие своего романа с Морин как нечто священно-интимное и не подлежащее оглашению. Кедуорд вообще-то не большой психолог, но прав был, говоря, что если уж Гуоткин влюбляется, то втрескивается со страшной силой. История с Морин — определенно кара божья Гуоткину за легкодумное отношение к семейным проблемам Пендри. Теперь Гуоткин сам сражен Афродитой за гордый отказ воскурять фимиам на ее алтаре. Богиня вознамерилась его наказать. Впрочем, в этой истории мало удивительного: даже после изнуряющего дня взводных занятий походная кровать обращалась еженочно в дыбу пытки сладострастными воспоминаниями и мечтаниями самыми разнузданными. Сексуальная неутоленность, безусловно, делала людей сердитыми — взять хотя бы злое отвращение, с которым Гуоткин относился к Бителу.
— Господи, — сказал он, увидев Битела в Каслмэллоке. — И здесь этот подонок нас преследует.
Сам Бител совершенно не осознавал, какую ярость он возбуждает в Гуоткине. Во всяком случае, Бител ничем не выказывал того, что ощущает на себе ненависть капитана, и временами даже сам совался к Гуоткину общаться. Некоторых людей тянет к тем, кому они противны, — им по крайней мере хочется преодолеть враждебность. Возможно, и Бителу хотелось победить отвращение Гуоткина. Как бы то ни было, он при всяком удобном случае заговаривал с Гуоткином, не смущаясь ни резким ответом, ни уничтожающим молчанием. Однако отпор, которым Гуоткин встречал поползновенья Битела, имел в своей основе не одну лишь грубость. Дело здесь обстояло сложней. Воинский кодекс поведения, который выработал для себя Гуоткин, не допускал того, чтобы отношения с Бителом-офицером дошли до той степени вражды, какую Гуоткин выказал бы к Бителу-штатскому. Этот гуоткинский кодекс чести позволял — даже прямо побуждал — обрушивать на Битела град унижений, но в то же время не давал окончательно махнуть рукой на Битела как на презренную мразь. Бител был собратом-офицером и потому всегда в конечном счете получал от Гуоткина милостыню — обычно в форме назиданий и призывов исправиться, подтянуться. Вдобавок Гуоткин, вместе с многими другими сослуживцами, никак не мог полностью отрешиться от легенды о крестоносном брате Битела. Мифический этот престиж все еще окутывал слегка Битела. Такие легенды, однажды оформясь, ни за что не желают умирать. Притом я ни разу не слышал, чтобы сам Бител публично пробовал искоренить легенду. Быть может, он боялся, что если фигура героя-брата прекратит маячить на заднем плане, то Гуоткин и вовсе перестанет его, Битела, терпеть.
— Пришел вот посидеть с однополчанами, капитан Гуоткин, — произносил Бител, подсаживаясь к нам; затем конфиденциально прибавлял вполголоса: — Между нами говоря, заурядный народец собрался на курсе. Второсортный товар.
Бител никак не отваживался называть Гуоткина по имени. Гуоткин вначале протестовал раз-другой против церемонного обращения «капитан», но втайне, по-моему, он был доволен, что внушает такое почтение. Каким именем или именами был крещен сам Бител, никто не знал, не помнил. Все звали его Бит, Бити, но употреблять эти уменьшительные формы Гуоткин в свою очередь не мог себя заставить. На «посиделки с однополчанами» Бител приходил к нам в уголок галереи, неофициально закрепленный за Гуоткином, Кедуордом и мной как за постоянными стражами замка. Под окном там был диван, на котором я перечитывал «Эсмонда», и в этом алькове мы вечерами сидели иногда за стаканом. После памятного своего новоселья Бител хоть и пил, когда было что пить, но не напивался — разве что на рождество или под Новый год, когда перепить простительно. Обычно же бывал под градусом, не более того. Бител сам иногда хвалился своей умеренностью.
— Приходится следить, чтобы буфетный счет не выходил из рамок, — говорил он. — Рюмочка да рюмочка, а в итоге суммочка. Командир батальона делал уже мне выговор из-за этого счета. Приходится держать себя в границах.
Но в Каслмэллоке случилось так, что выйти из границ неожиданно подстрекнули Битела сами армейские власти. Во всяком случае, Бител именно так объяснял случившееся.
— Это все дурацкая инструкция виновата. Совершенно сбила меня с толку, а я в тот день устал.
Курсовая химподготовка включала прохождение через газовую камеру без противогаза. Все военнослужащие рано или поздно подвергались этой процедуре, но антигазовики, естественно, соблюдали ее строже остальных. В качестве противоядия от одного из газов рекомендовался, между прочим, последующий «прием алкоголя в умеренном количестве». В день, оказавшийся для Битела несчастливым, завершала расписание занятий именно газовая камера. Затем некоторые курсанты выпили, следуя наставлению, другие же — непьющие или экономные — ограничились горячим сладким чаем. Но и выпившие вняли предостережению инструкции, приняв это лекарственное средство в умеренной дозе, — все, кроме Битела.
— Старик Бити хлопает сегодня одну за другой, — заметил Кедуорд еще перед обедом.
Речь Битела всегда невнятна, и у него, как у большинства привычных пьяниц, разница между хмельным и трезвым состоянием вообще-то невелика. Только изредка уж до того допьется, что спляшет вокруг чучела. В тот вечер в Каслмэллоке он слонялся по галерее, надоедая то одним курсантам, то другим. В наш уголок он заявился уже под самый конец. Расходились антигазовики рано, так что Гуоткин, Кедуорд и я остались к тому времени одни. Темой нашего разговора было германское наступление. Гуоткин подвергал анализу боевую обстановку, длился анализ долго, и я собирался уже идти спать, когда подошел Бител, плюхнулся рядом — без обычных извиняющихся фраз, адресованных Гуоткину. Молча послушал разговор. Уловил слово «Париж».
— Бывали в Париже, капитан Гуоткин? — вопросил он.
Капитан Гуоткин метнул на него взгляд, полный крайнего неодобрения.
— Нет, — резко ответил капитан (что, мол, за нелепый вопрос, еще спроси, бывал ли Гуоткин в Лхасе или на Огненной Земле). И продолжал наставительно излагать Кедуорду принципы маневренной войны.
— А я в Париже был, — сказал Бител и, собрав губы, присвистнул этаким лихим гулякой. — Провел там как-то кончик недели.
Гуоткин взглянул свирепо, но промолчал. Подошел подавальщик, стал собирать стаканы на поднос. Это был тот самый краснощекий детина, что шумел и плакал в коридоре у дверей канцелярии, жалуясь на боль в спине. Теперь он выглядел веселей. На просьбу Битела принести еще напоследок порцию виски он ответил, что буфет закрыт, — ответил с тем удовольствием власть имущего, с каким официанты и бармены всегда оповещают о закрытии.
— Рюмочку ирландского, — сказал Бител. — Последнюю.
— Буфет закрыт, сэр.
— Да нет же, еще рано. — Бител воззрился на свои часы, но цифры, очевидно, расплывались у него в глазах. — Не верю, не закрыт.
— Сержант объявил только что.
— Еще одну рюмашку, Эммот, — Эммотом ведь звать?
— Эммотом, сэр.
— Ну пожалуйста, Эммот.
— Нельзя, сэр. Буфет закрыт.
— Но можно же открыть.
— Нельзя, сэр.
— Открыть на одну лишь секунду — налить одну рюмочку.
— Сержант не велит, сэр.
— Попросить его надо.
— Буфет закрыт, сэр.
— Умоляю, Эммот.
Бител встал. Я так и не уяснил четко, что произошло затем. Сидел я с той же стороны, что и Бител, и когда он встал, то оказался ко мне спиной. И качнулся внезапно вперед. Возможно, оступился, и не обязательно спьяну — половицы в этом месте прогибаются. А возможно, подался вперед, взывая к сочувствию Эммота, подкрепляя действием свои упрашиванья. Если так, то я уверен, Бител всего лишь хотел шутливым жестом положить руку на плечо Эммоту или взять его за локоть. Такие жесты можно счесть вредящими достоинству офицера, нарушающими субординацию — но не в тяжкой мере. Так или иначе, но Бител почему-то сделал падающее движение всем телом и — то ли чтобы не упасть, то ли вымаливая рюмку — обнял Эммота за шею. И на мгновенье так повис. Поза была, вне всякого сомнения, красноречивая — поза поцелуя, скорее прощального, чем страстного. Быть может, поцелуй и в самом деле состоялся. Во всяком случае, Эммот не то мыкнул, не то ахнул и уронил поднос, разбив несколько стаканов. Гуоткин вскочил на ноги. Он побелел весь. Он дрожал от ярости.
— Мистер Бител, — сказал Гуоткин. — Вы арестованы.
Бител рассмешил меня своим объятием, но тут стало не до смеха. Запахло серьезным скандалом. Глаза у Гуоткина блестели фанатически.
— Мистер Кедуорд, — продолжал он. — Подите наденьте фуражку и опояшьтесь.
Сидели мы поблизости от двери, выходящей в холл. Там, на крючках, вбитых в стену, мы оставляли фуражки и офицерские ремни, прежде чем войти в столовую, так что идти Кедуорду не пришлось далеко. Потом он сказал мне, что не сразу понял смысл гуоткинского приказания. Просто повиновался как ротному командиру, не рассуждая. Тем временем Эммот стал подбирать с пола осколки. Вид у Эммота был не особенно ошеломленный. Если вспомнить его склонность к истерической несдержанности чувств, то сейчас он вел себя совсем неплохо. Возможно, Эммот лучше понимает Битела, чем мы. Гуоткин, рьяно вошедший в свою властительную роль, велел Эммоту уйти — остальное стекло утром подберет. Эммот, натрудившийся за день, того только и ждал — тут же ушел с подносом и осколками. Бител остался стоять как стоял, как и следовало взятому под арест. Он слегка покачивался, на губах его блуждала глуповатая улыбка. Вернулся Кедуорд в фуражке, застегивая походный ремень.
— Мистер Кедуорд, отконвоируйте мистера Битела в его комнату, — сказал Гуоткин. — Покидать ее он может не иначе как с позволения и под конвоем офицера. Причем не должен иметь на себе ни пояса, ни оружия.
Бител обвел нас отчаянным взглядом, точно раненный в самое сердце этим запрещением носить оружие, но он вроде бы понимал, за что его наказывают, и подчинялся наказанию даже с неким мазохистским усердием. Гуоткин движеньем головы указал на дверь. Бител повернулся и медленно пошел, как идут на казнь. Кедуорд последовал за ним. Хорошо еще, что Гуоткин выбрал в конвоиры не меня, а Кедуорда, как старшего по званию (ведь и у Битела две звездочки). Когда они ушли, Гуоткин повернулся ко мне. Вспышка служебного гнева словно сожгла внезапно весь его запас энергии.
— Иначе поступить я не мог, — сказал он.
— Я не совсем понял, что произошло.
— Вы разве не видели?
— Не полностью.
— Бител поцеловал солдата.
— Вы уверены?
— Да неужели у вас глаз нет?
— Бител был ко мне спиной. Мне показалось, он споткнулся.
— В любом случае он пьян как сапожник.
— Это бесспорно.
— Посадить его под арест — мой долг. По-другому я не мог. Каждый офицер на моем месте поступил бы так же.
— А дальше что предпримете?
Гуоткин нахмурился.
— Сходите-ка в ротную канцелярию, Ник, — сказал он уже спокойнее. — Вы знаете, где там лежит «Военно-судебное наставление». Принесите его мне. Я не хочу отлучаться отсюда, а то Идуол вернется и подумает, что я пошел спать. Мне надо еще проинструктировать его.
Когда я вернулся с книжкой, Гуоткин уже кончал давать указания Кедуорду. Завершив инструктаж, он простился отрывисто с нами. Затем ушел со строгим лицом, унося наставление под мышкой.
Кедуорд взглянул на меня, зубасто улыбнулся. Он был хотя и удивлен, но не ошарашен случившимся. Для него все это в порядке вещей.
— Вот так штука, — сказал он.
— Чреватая неприятностями.
— Старик Бити напился порядком.
— Да.
— Я с ним еле поднялся по лестнице.
— Под локоть пришлось вести?
— Дотащил наверх с грехом пополам, — сказал Кедуорд. — Как полисмен алкаша.
— А наверху?
— К счастью, второй жилец уехал вчера с курсов по болезни. Так что Бити в комнате один, а то бы совсем конфуз. Тут же свалился на койку, и я ушел. Сам теперь спать пойду. Сегодня ваш черед ведь дежурить в ротной канцелярии?
— Мой.
— Спокойной ночи, Ник.
— Спокойной ночи, Идуол.
Нервы мои устали. Я рад был уйти на дежурство. Ночью не переставая мучили меня путаные, со стычками и спорами, сны. Я втолковывал местному строителю-подрядчику — он был в длинном китайском халате и оказался Пинкасом, каслмэллокским начхозом, — что хочу украсить фасад дома колоннадой по собственноручному эскизу Изабеллы, но тут проехала набитая пигмеями пожарная машина, яростно звоня в колокол. В мозгу звонило не стихая. Я проснулся. Звенел телефон. Звонок глубокой ночью — вещь экстраординарная. Гардин на окнах нет, а шторы затемнения я снял — и, открыв глаза, увидел, что небо уже начинает светлеть над дворовыми постройками. Я схватил трубку, назвал себя, обозначенье роты. Звонил Мелгуин-Джонс, наш начальник штаба.
— Котлета, — сказал он.
Я не совсем еще очнулся. И словно это продолжался сонный кавардак. Я уже упоминал, что Мелгуин-Джонс вспыльчивого нрава. Он тут же начал злиться, и, как оказалось, не без причин.
— Котлета… — повторил он. — Котлета… Котлета… Котлета…
Очевидно, это кодовое слово. Но что оно обозначает — вот вопрос! Память не дает никакого отклика.
— Виноват, я…
— Котлета!
— Я слышу. Но не знаю, что она значит.
— Котлета, говорят вам…
— Я знаю «Кожу» и «Мухомор»…
— «Кожи» нет уже, а есть «Котлета», а вместо «Мухомора» — «Баня». Вы что, с луны свалились?
— Я не осведомлен…
— Да вы забыли, черт возьми.
— «Котлету» впервые слышу.
— Вздор несете.
— Уверяю вас.
— Выходит, Роланд не сказал вам с Кедуордом? Я сообщил ему «Баню» неделю назад — сообщил лично, когда он приезжал с рапортом в батальон.
— Не знаю ни «Котлету», ни «Баню».
— Так вот как Роланд понимает бдительность! На него похоже. Я предупредил его, что новый код входит в силу через сорок восемь часов, считая с позапрошлой полночи. Хоть это он сказал вам?
— Ни слова не говорил.
— О господи! Такого дурака еще не было в ротных командирах. Бегите за ним, живо.
Я поспешил в центральную часть замка, в комнату Гуоткина. Он крепко спал, лежа на боку, вытянувшись почти по стойке «смирно». Нижняя часть лица, до усов, прикрыта бурым одеялом. Я затряс его за плечо. Как обычно, трясти пришлось долго. Гуоткин спит, точно под наркозом. Проснулся наконец, трет глаза.
— Звонит начштаба. Говорит — «Котлета». Я не знаю, что она обозначает.
— Котлета?
— Да.
Гуоткин рывком сел на койке.
— Котлета? — повторил он, как бы не веря ушам.
— Котлета.
— Но «Котлета» полагалась только после сигнала «Крючок».
— И про «Крючок» впервые слышу, и про «Баню». Знаю лишь «Кожу» и «Мухомор».
Гуоткин вскочил с койки. Пижамные штаны его спустились — тесемка не завязана, — обнажив половые органы и смуглые волосатые стегна. Ноги сухощавы, коротковаты, хорошей формы. В наготе их что-то есть первобытное, дикарское, но сообразное с натурой Гуоткина. Он стоит, подхватив штаны одной рукой, а другой чешет у себя в затылке.
— Я, кажется, напорол страшно.
— Что же теперь?
— Я не говорил вам с Идуолом про новый код?
— Ни слова.
— Черт. Вспоминаю теперь. Я решил для сугубой секретности сообщить вам в самый последний момент — а тут пригласил Морин и забыл, что так и не сказал вам.
— Однако надо к телефону, пока Мелгуин-Джонса не хватил удар.
Гуоткин, взъерошенный, босой, понесся по коридору, держа рукой спадающие штаны. Я припустил за ним. Вбежали в ротную канцелярию. Гуоткин поднял трубку.
— Гуоткин слу…
В трубке зазвучал голос Мелгуин-Джонса. Зазвучал, разумеется, очень сердито.
— Дженкинс не знал… — сказал Гуоткин. — Я решил, что будет лучше сообщить младшим офицерам в день вступления в силу… Я не думал, что сразу же последует сигнал… Намеревался сообщить им утром…
Такой ответ, должно быть, взбеленил Мелгуин-Джонса — в трубке трещало и хрипело несколько минут. Мелгуин-Джонс явно начал заикаться, а у него это признак ярости, дошедшей до предела. Гуоткин, слушая, снова как бы не верил ушам.
— Но «Баня» ведь вместо «Ореха», — произнес он в каком-то смятении.
В трубке опять зашумело. Гуоткин слушал и бледнел — он всегда бледнеет от волнения.
— Вместо «Мухомора»? Тогда, значит…
Новый взрыв гнева на другом конце провода. К тому времени, как Мелгуин-Джонс кончил говорить, Гуоткин несколько пришел в себя и ответил уже службистским своим тоном:
— Ясно. Рота выступит немедленно.
Послушал еще секунду, но начштаба уже повесил трубку. Гуоткин повернулся ко мне.
— Пришлось и этим оправдываться.
— Чем?
— Что я спутал код. Но, как я сказал вам, я забыл…
— Забыли сообщить нам новые слова?
— Да — причем не только кодовые слова теперь новые, а и сопутствующие предписания кое в чем изменены. Но я не лгал сейчас. Я частично и слова спутал. Голова не тем была занята. Боже, какого я свалял дурака. Но не время стоять и разговаривать. Роте приказано немедленно идти на соединение с батальоном. Разбудите Идуола, сообщите приказ. Пошлите дежурного сержанта к старшине Кадуолладеру, пусть старшина явится ко мне, как только люди будут подняты, — не важно, если не успеет сам одеться по всей форме. Выстраивайте взвод, Ник, и то же самое пусть Идуол.
Гуоткин побежал будить сержантов, отдавать распоряжения, дополнять и менять предписания. Заторопился и я, разбудил Кедуорда, вскочившего очень бодро, затем вернулся в канцелярию и поскорей оделся.
— Котлета получилась колоссальная, — сказал Кедуорд, когда мы шли с ним поверять построение взводов. — Как мог Роланд так схалатничать?
— Он решил держать код в секрете до последней минуты.
— Теперь будет вселенский скандал.
Мой взвод оказался в состоянии вполне приличном, если учесть обстоятельства подъема. Вид у всех бритый, чистый, снаряжение и обмундирование в порядке. У всех, кроме одного человека. Кроме Сейса. Это было видно уже издали, за целую милю. Сейс стоял на своем месте, и был вроде бы не грязней обычного, и даже снаряжен как надо — но без каски. Без головного убора вообще. Стоял с непокрытой головой.
— Где у солдата каска, сержант?
На место Пендри у меня назначен сержант Бассет, поскольку капрал Гуилт, при своих разносторонних склонностях, не мог серьезно претендовать на три нашивки взводного сержанта. Бассет человек вообще-то степенный и здравый, но соображает туго. Свиные глазки на широком, рыхлом его лице часто принимают озадаченное выражение; у него нет чутья надлежащих мер, свойственного Пендри. Сержант Пендри, даже в самую тоскливую пору разлада с женой, ни за что не позволил бы солдату явиться без каски, тем более встать в строй. Он бы раздобыл ему каску, велел бы сказаться больным, посадил бы под арест или нашел бы иной способ убрать солдата с глаз. Сержант же Бассет, набычив шею и наморщив лоб, принялся допрашивать Сейса. А время у нас на исходе. Сейс заскулил, что он не виноват, что не ругать, а пожалеть его надо по тысяче причин.
— Он говорит, каску у него унес кто-то, сэр.
— Пусть выйдет из строя и мигом за каской, иначе проклянет день и час, когда родился.
Сейс убежал. Хоть бы уже не возвращался. Поговорим с ним вечером. Что угодно, только не это. Солдат без каски в строю взвода — такое было бы последней каплей и для Гуоткина, и для Мелгуин-Джонса. Но, пока я обходил строй, Сейс внезапно объявился снова. И на этот раз в каске. Каска ему велика, но сейчас не до придирок и не до расспросов. Я привел взвод на место построения роты. Гуоткин с озабоченным лицом, но уже преодолев растерянность, быстро обошел роту и не обнаружил непорядков. Мы зашагали по длинным аллеям Каслмэллока, вышли на дорогу. Прошли городок. Минуя знакомый проулок, Гуоткин — я заметил — повернул голову к пивной, но Морин в такую рань не видно было, и вообще улицы были почти пусты.
— А жуткие здесь в городке девчонки, — сказал капрал Гуилт, не обращаясь ни к кому в особенности. — В жизни не видал таких повадок.
Когда мы пришли в расположение батальона, Гуоткина уже ожидал срочный вызов к начальнику штаба. Вернулся Гуоткин оттуда с каменным лицом. Запахло шишками для подчиненных, как в тот день, когда рота осрамилась с поддержкой. Но Гуоткин не обнаружил желания тут же выместить на ком-нибудь досаду, хотя «десятиминутка» с Мелгуин-Джонсом явно была у него малоприятная. Мы отправились выполнять тактическую задачу, совершая марши и контрмарши по холмам, вылазки на голые, без деревца и кустика, поля. Учения не ладились, нас от начала до конца преследовало невезение. Но, по присловью Мелгуин-Джонса, и этот злополучный день прошел, как все прочие в армии, и мы наконец вернулись в Каслмэллок, сердитые, усталые. Кедуорд и я шли к себе в комнату, чтобы сбросить поскорей ботинки со стертых ног, и по дороге столкнулись с Пинкасом, начхозом, — злоехидным карликом из «Смерти Артура». У него был довольный вид, не сулящий добра. Пинкас говорит ужасающе «культурным» голосом — должно быть, этот голос он отшлифовывал годами. (Сходной манерой обладает Говард Крэгс, книгоиздатель.)
— Где ваш ротный командир? — спросил Пинкас. — Его требует к себе начшколы.
— Должно быть, в комнате у себя. Распустил только что роту. Переодевается, наверно.
— Зачем это он посадил офицера-курсанта под арест? Начшколы рассержен не на шутку, могу вам сказать. К тому же у него пропала каска, и он подозревает ваших солдат.
— С какой стати?
— Ваш взвод строится всегда у коменданта под окном.
— Гораздо вероятней, это кто-нибудь из пожарного караула. Они ходят мимо его кабинета.
— Начальник иного мнения.
— Определенно караульные стянули.
— Начальник говорит, что не питает ни капли доверия к вашим солдатам.
— Это почему так?
— Да так уж.
— Если ему пришла охота ругать полк, пусть адресуется к командиру батальона.
— Советую разыскать каску, иначе будут неприятности. Так где же Гуоткин?
Пинкас ушел, делая губами культурные гримасы. Все понятно. В нервной суматохе, поднявшейся из-за несообщенного кода, Гуоткин и про Битела забыл. В поле сегодня, среди ратных трудов, я тоже не вспоминал о вчерашнем происшествии, не думал о том, как будем выходить из положения. А теперь проблема Битела нависла угрожающе. И сама по себе неприятная, она усугубилась тем, что была оставлена без внимания. Даже у Кедуорда не нашлось готового прописного решения.
— Черт возьми, — сказал он, — а ведь старика Бити надо было весь день держать под стражей. И нести охрану должен был я сам. Роланд не отменял же приказа.
— Так или иначе, Битела надлежало в течение суток препроводить к начшколы и предъявить формальное обвинение. Так ведь требуется по уставу?
— Сутки еще не прошли.
— Но поздновато все-таки.
— Роланду трудно будет расхлебать эту кашу.
— Ничем тут не поможешь.
— Вот что, Ник, — сказал Кедуорд. — Пойду-ка я взгляну, что происходит, пока не снял ботинок. О черт, как на воздушных шарах ступаю.
Кедуорд скоро вернулся и сообщил, что Гуоткин уже у начальника и утрясает дело Битела. Позднее вечером я увиделся с Гуоткином: он был тяжко хмур.
— Насчет Битела… — сказал он отрывисто.
— Да?
— Придется нам отставить это дело.
— Хорошо.
— Занятия на курсах уже кончаются.
— Да.
— Бител возвращается в батальон.
— Его, кажется, берут в дивизию.
— Битела?
— Да.
— Это куда еще?
— Начальником передвижной прачечной.
— Мне ничего такого не известно, — сказал Гуоткин. — А вы откуда знаете?
— Бител сам говорил.
Новость была не слишком приятна Гуоткину, но выражать свое неудовольствие он не стал.
— Командир батальона будет рад избавиться от него, — сказал Гуоткин, — в этом можно не сомневаться. Но я вот к чему. Бител вчера порядком насвинячил, но слишком хлопотно будет добиваться, чтоб он получил по заслугам.
— Понимаю.
— Бител уже, видимо, успел сговориться с подавальщиком. Они оба готовы клясться, что Бител обнял его, чтобы не упасть. Бител весь день сегодня пролежал — загрипповал, видите ли.
— Как узнал начшколы про арест Битела?
— Просочилось. Он считает, я суюсь не в свое дело. А по-моему, он просто ждал случая отомстить за то, что я препятствую ему отрывать моих людей от боеподготовки. Пусть Бител выпил, говорит начшколы, пусть даже перепил, но он же это после газовой камеры — причем, как оказалось, уже заболевая гриппом. И начшколы говорит, что не желает скандалов у себя в химшколе. С этим подавальщиком уже была история, и если, мол, дойдет до военного суда, то может подняться немалая вонь.
— Пожалуй, в самом деле лучше без скандала.
Гуоткин вздохнул.
— И вы тоже так считаете, Ник?
— Да.
— Тогда и вам, значит, чихать на дисциплину. Выходит, и вы как прочие. Да, мало теперь офицеров, болеющих душой за дисциплину — или хоть за то, чтоб люди вели себя прилично.
Он говорил без горечи, со спокойной грустью. Но все же и для него, возможно, — как для всех остальных — было облегчением, что не предстоит теперь возни с Бителом. Однако дело с самого начала получило слишком широкую огласку в Каслмэллоке, и слух о нем дошел до батальона и в конечном счете, несомненно, до ушей батальонного командира. Сам Бител не слишком огорчался случившимся.
— Сглупил я в тот вечер, — сказал он мне, уезжая из Каслмэллока. — По сути, надо бы держаться пива. Мешать джин с виски — всегда ошибка. Чуть не стоило мне дивизионной должности. Капитан Гуоткин — любитель горячиться. Никогда не знаешь, что от него ждать. А начальник оказался славным человеком. Вошел в мое положение. С войны вести не очень приятные, а? Как оцениваете вступление Италии в войну? По-моему, хлипкая публика, мороженщики.
Затем, в один душный день вернувшись со взводом с полевых занятий, где мы отрабатывали атаку под прикрытием дымовой завесы, я обнаружил, что произошли события, изменившие ход жизни. Когда я вошел в ротную канцелярию, то увидел там и Гуоткина, и Кедуорда. Они стояли, глядя друг на друга. Еще в дверях, козыряя, почувствовал я тревожность атмосферы. Какую-то резкую напряженность. Гуоткин был бледен, Кедуорд красен лицом. Оба молчали. Я сказал что-то касательно сегодняшних занятий. Гуоткин не ответил. Пауза. Что у них могло стрястись? Потом Гуоткин произнес самым своим холодным, самым воинским голосом:
— На будущей неделе ждите, Ник, новостей в распоряжениях по личному составу.
— Да?
— Вам интересно будет узнать их сейчас, до получения официального приказа.
Не понимаю, зачем эта торжественность, почему нельзя просто сказать, какие перемены ожидаются в составе. Можно подумать, Гуоткин собирается объявить мне, что британское правительство капитулировало и нам с Кедуордом предстоят немедленные приготовления к сдаче со взводами в плен. Гуоткин опять помолчал. Действуют на нервы эти паузы.
— Идуол — ваш новый ротный командир, — произнес Гуоткин.
Все разъяснилось в мгновение ока. И всякие слова мои излишни.
— В приказе будут и другие должностные повышения, — сказал Гуоткин (таким тоном сообщают о фактах в какой-то мере утешительных). Я взглянул на Кедуорда и заметил то, чего не видел раньше, — что его распирает сдерживаемая радость. Так вот почему у него этот напряженный вид. Напрягся, чтобы не улыбаться. Даже Кедуорд понимает, видимо, что Гуоткину несладко. Сейчас, с моим приходом, атмосфера несколько разрядилась, и Кедуорд позволил себе приулыбнуться. Улыбка стала шире. Он не мог уже сдержать ее. Заулыбался во весь рот, и усиков почти не стало видно.
— Поздравляю, Идуол.
— Спасибо, Ник.
— А как же вы, Роланд?
Неужели Гуоткина производят в майоры? Вряд ли. Тогда бы он глядел веселей. Быть может, назначат командовать штабной ротой — Гуоткин мечтает об этом. Только вот справится ли он: обязанности у штабников многогранные, а мне вспомнилось, как Гуоткин не сумел завести бронетранспортер. Но тут прозвучал ответ Гуоткина, неожиданный для меня — хотя сразу же подумалось, что такой финал давно уже навис над Гуоткином.
— Я направлен в пехотно-учебный центр.
— А там?
— А там — куда назначат, — коротко сказал Гуоткин с нескрываемой обидой. Уголок его рта дернулся. И немудрено… Не знаю, что ему сказать сочувственного. Гуоткина сместили с должности. Попросту сняли. И посылают в учебный центр, а оттуда направят, вероятно, в запасной батальон, предназначенный для подготовки маршевых команд. Кончилась гуоткинская карьера образцового военачальника, заглох гул будущих сражений и побед — но остались, возможно, воинско-монашеские идеалы. Гуоткину могут дать новую роту, а могут и не дать. Капитаном-то он останется, в звании не понизят, оно у него постоянное, а не военной выпечки. Но капитанство территориальных войск не обязательно поможет ему выкарабкаться из ямы. Капитана могут сунуть в какой-нибудь служебный тупик, где по должности положены три звездочки — к примеру, комендантом транспортного судна или начхозом вроде Пинкаса. Незавидная судьба для стендалевского героя, каким еще два-три месяца назад представлялся мне Гуоткин, — для молодого человека, нацелившегося в романтические полководцы; у Стендаля такая катастрофа была бы, пожалуй, приписана политическим козням масонов или ультра.
— А теперь обоим команда «разойдись», — сказал Гуоткин с деланной шутливостью. — Я тут подготовлю для вас ротные бумаги, Идуол. Мы завтра просмотрим их вместе.
— Как у вас книга подотчетных сумм, в порядке? — спросил Кедуорд.
— Я доведу ее до сегодняшней даты.
— А другая ротная отчетность?
— Ее тоже.
— Я упомянул об этом, Роланд, поскольку вы иногда запускаете отчетность. Я не хочу, чтоб потом пришлось тратить кучу времени на бумаги. Мне и без того предстоит достаточно работы с ротой.
— Мы все проверим.
— Нам уже вернули пулемет, который брала химшкола?
— Нет еще.
— Пока не вернут по всей форме, я не подпишу передаточного акта на оружие.
— Само собой.
— Теперь относительно капрала Россера.
— А что?
— Вы решили произвести его в сержанты?
— Да.
— И уже сказали Россеру?
— Нет.
— Тогда не говорите ему, Роланд.
— Это почему?
— Я еще погляжу на него, прежде чем давать третью нашивку, — сказал Кедуорд. — Я еще подумаю.
Гуоткина слегка бросило в краску. Роли переменились, и Кедуорд не стеснялся это подчеркнуть. Меня слегка удивила хозяйская бесцеремонность Кедуорда. Он мог бы и более тактично повести себя — хотя бы отложить эти вопросы до совместной разборки бумаг; но с другой стороны, как новоназначенный ротный командир он обязан печься об интересах роты — так считает и сам Гуоткин, — а не деликатничать и щадить чувства. Однако Гуоткину такое третирование не по вкусу. Он побарабанил костяшками пальцев по одеялу, кроющему стол; поиграл ротной печатью — своим любимым символом власти. Гуоткин глубоко унижен, хоть и сдерживает себя.
— А теперь хочу побыть один, ребята, — сказал он.
Зашелестел бумагами. Мы с Кедуордом вышли из канцелярии. Идя по коридору, Кедуорд был задумчив.
— Роланд сильно переживает, — сказал я.
Кедуорд изобразил удивление.
— Из-за того, что сняли с роты?
— Да.
— Вы думаете?
— Конечно.
— Он ведь знал, что к этому идет.
— По-моему, не сознавал ни на минуту.
— В последнее время деловые качества Роланда все ухудшались, — сказал Кедуорд. — Это и вам было видно. Сами же заметили, что с Роландом неладно, когда вернулись из Олдершота.
— Я все же не думал, что у него так разладится.
— Роту придется как следует встряхнуть, — сказал Кедуорд. — И в вашем взводе, Ник, тоже хочу кое-что переменить. Он далеко не на уровне. Когда взвод шагает с занятий, я не вижу в бойцах огонька. А это верный показатель. И стреляет ваш взвод хуже, чем оба других. Надо будет вам уделить особое внимание стрелковой подготовке. И еще, Ник, насчет вашего собственного внешнего вида. Надо же складывать как следует химзащитную накидку. Вы ее не по инструкции складываете.
— Я учту все это, Идуол. Кого ставят взамен вас на взвод?
— Лина Крэддока. Он, конечно, старше будет вас по службе. Думаю, Лин поможет подтянуть роту.
— Когда третью звездочку нацепите?
— В понедельник. Кстати, говорил я вам? Янто Бриза тоже производят в капитаны, дают роту службы регулирования. Мне днем сказал один из шоферов, что привезли боеприпасы. Это похуже, чем пехотная рота, но все же повышение.
— А Роланд знает про Янто?
— Перед тем как вы вошли, я ему сказал, что забавно получилось — сразу двое из его младших офицеров повышены в звании.
— И как Роланд воспринял?
— Без особого интереса. Роланд недолюбливает Бриза. Возможно, не зажила еще обида на его сестру. А знаете, Ник?
— Что?
— Я сегодня невесте пишу — в следующий мой отпуск справим свадьбу.
— Когда вы поедете к ней?
— Надо принимать роту, подзадержусь из-за этого, но скоро поеду. Кстати, у меня есть новый ее снимок. Хотите взглянуть?
— Разумеется.
— Прическу переменила, — сказал Кедуорд, глядя со мной на фотоснимок.
— Вижу.
— Мне прежняя нравилась больше, — сказал Кедуорд. Тем не менее, пряча в бумажник, он дал снимку положенный поцелуй. Производство в капитаны, невеста, скорая свадьба — все это для него факты жизни, а не ставшие явью мечтания, как для Гуоткина. Когда Гуоткин получил роту, она ему, наверное, казалась первым важным шагом на волшебном, блистательном поприще, а первое рандеву с Морин — вступлением в такую же волшебную любовь. Кедуорд же, конечно, повышение принял с восторгом, но без малейших романтических иллюзий, воинских или иных. Как говорил Морланд, все тут зависит от точки зрения… Мы вышли в холл. Навстречу из дверей явился Эммот, подавальщик. История с Бителом весьма его взбодрила. Прямо новым человеком стал. Трудно поверить, что всего лишь несколько недель тому назад он мог рыдать, как ребенок.
— Вас к телефону, сэр, — сказал он, улыбаясь мне, точно сообщнику, вдвоем с которым разделен весь юмор происшествия с Бителом. — Звонят из вашей части.
Я прошел в офицерскую дежурку к телефону.
— Дженкинс случает.
Звонил Мелгуин-Джонс.
— Подождите минуту, — сказал он. Я стал ждать. На том конце провода, в батальонной канцелярии, он завел с кем-то разговор. Я ждал. Наконец он сказал в трубку: — Алло, кто это?
— Дженкинс.
— Что вам?
— Вы меня вызвали к телефону.
— Вызвал? Ах да. Вот бумажка. Младшего лейтенанта Дженкинса… Вам предписано явиться в штаб дивизии, к начотдела личного состава, он же помначтыла, завтра в семнадцать ноль-ноль, захватив с собой все ваши вещи.
— Вы не знаете, для какой надобности?
— Понятия не имею.
— А надолго?
— И этого не знаю.
— Кто там этот начотдела?
— Тоже неизвестен мне. Новоназначенный. Прежний хрыч уволен в отставку.
— Как мне добираться до штаба?
— Завтра туда идет грузовичок, повезет людей в госпиталь. Я велю, чтоб заехал за вами в Каслмэллок. Полагаю, вы слышали уже о переменах в вашей роте.
— Да.
— Строго говоря, ваш вызов в штаб дивизии надо бы передать через вашего ротного командира, но я решил для верности сообщить напрямую. И вот еще почему звоню непосредственно вам. Если новый начотдела — человек, с которым можно разговаривать, то выясните у него насчет разведкурсов, куда меня намечают послать. А также насчет двух обещанных нам офицеров. Хорошо?
— Хорошо.
— Безотлагательно доложите о своем вызове обоим ротным — Роланду и Идуолу. Скажите им, что письменное предписание получат завтра. Ясно?
— Ясно.
Мелгуин-Джонс положил трубку. Уезжаю, значит, из Каслмэллока. Расстаюсь без сожаления, хотя в армии — как в любви — перемены всегда тревожны. Я вышел в холл к Кедуорду, сообщил ему новость.
— И едете туда немедленно?
— Завтра.
— А на какую должность?
— Не имею понятия. Всего лишь на временную, возможно. Я еще, может быть, возвращусь.
— Если поедете, то сюда не вернетесь.
— Вы считаете?
— Я уже говорил вам, Ник, что для младшего офицера в боевом подразделении вы староваты. Я хочу сделать роту более мобильной. Сказать правду, меня беспокоило, что придется с вами возиться.
— Ну что ж, Идуол, вот и не придется вам теперь возиться.
Слова мои — простая констатация факта. В них ни малейшей обиды на такую откровенно низкую оценку Кедуордом моих достоинств. Он реалист. А реалистический подход весьма полезен; нужно только помнить, что так называемые реальности, как правило, далеко не исчерпывают всей картины. Но в данном случае я с Кедуордом согласен целиком и полностью; мысль об отъезде даже слегка волнует, бодрит меня.
— Доложите, не откладывая, Роланду.
— Сейчас пойду к нему.
Я вернулся в ротную канцелярию. Гуоткин сидел, обложившись бумагами. Можно подумать, передает воюющую армию, а не роту, караулящую склады. Я вошел — он сердито взглянул: приказал же, дескать, чтоб не беспокоили. Я повторил ему слова Мелгуин-Джонса. Гуоткин встал, оттолкнув стул.
— Значит, тоже покидаете батальон?
— Надолго ли, не сказано.
— Уж если едете в дивизию, то не вернетесь, Ник.
— Идуол тоже так считает.
— На какую же это вас должность? Вряд ли на штабную. Вероятно, что-нибудь в духе Битела. Я слышал, его и правда ставят на передвижную прачечную. Надо думать, командир батальона провернул.
Даже скромное назначение Битела вызывает теперь досаду в Гуоткине, оставшемся без места. И мое непонятное перемещение тоже для него малоприятно.
— Идет, должно быть, общая перетряска, — сказал он хмурясь. — Старшина Кадуолладер тоже уходит из батальона.
— По какой причине?
— По возрасту. Непонятно все же, почему Мелгуин-Джонс не передал приказ о вашем вызове через меня.
— Он сказал, что звонит непосредственно мне, чтобы объяснить, какие вопросы я должен прозондировать у нового помнача.
— Полагалось передать через меня.
— Он сказал, что завтра вы получите письменное предписание.
— Если он сам дает распоряжения, минуя надлежащие каналы, то чего он может ожидать от других офицеров, — сказал Гуоткин. И засмеялся — видимо, находя облегчение в мысли, что весь командный костяк роты сломан, а не переходит цел и невредим в новаторские, так сказать, руки Кедуорда. Гуоткин явно предпочел бы сдать роту кому угодно, только не Кедуорду.
— Вероятно, Идуолу дадут на ваш взвод Филпотса или Пэрри.
Сказав это, он снова зашуршал бумагами. Я повернулся, чтобы уйти. Гуоткин поднял вдруг голову.
— Заняты сегодня вечером? — спросил он.
— Нет.
— Давайте прогуляемся в парке.
— После обеда?
— Да.
— Хорошо.
Я пошел укладываться, готовиться к завтрашнему отъезду. В столовую Гуоткин явился поздно. Я уже пообедал, сидел в галерее. Поев, он подошел ко мне:
— Двинем?
— Двинем.
Мы спустились по каменной лестнице на садовый газон, истоптанный солдатскими ногами, исполосованный нетерпеливыми косыми тропками. За садом, за линией кустов начинался парк. Мы вошли под деревья, и Гуоткин направился к лощине леди Каро. После жаркого дня хороши были прохлада и покой парка. Светила полная луна, небо яснело почти по-дневному. Теперь, когда я расставался с Каслмэллоком, мне стало жаль, что я так редко заходил в глубь парка. Все держался у дома, считал, что эти рощи и поляны лишь усилят каслмэллокскую мою грусть.
— Знаете, Ник, — сказал Гуоткин, — хотя рота значила для меня все, но еще хуже то, что вообще ухожу из батальона. Конечно, в учебном центре будут занятия по новейшим видам оружия и методам ведения боя, смогу там освоить все это досконально, а не как мы тут — наспех нахватался и тут же обучай солдат.
Что отвечать ему, я не знал, но Гуоткину ответа и не требовалось. Он просто облегчал душу.
— Идуол сияет от радости, — продолжал он. — Ничего, почувствует еще, каково быть ротным. Не так это, может, легко, как он думает.
— Да, Идуол расцвел от назначения.
— И еще — Морин, — произнес Гуоткин. — Ведь придется разлучиться с ней. Хотелось потолковать об этом с вами.
Так я и думал — для того и затеяна прогулка.
— Проститься время у вас еще будет, — утешил я.
Утешение слабое. Впрочем, разлука с Морин для него к добру, раз он так теряет голову от этой девушки; но легко быть рассудительным относительно чужих любовных дел и бед, зачастую эта рассудительность — лишь признак, что не понимаешь всю их глубину и сложность.
— Завтра постараюсь сходить туда, — сказал Гуоткин, — приглашу ее провести вечерок.
— Вы с ней виделись последнее время?
— Довольно часто.
— Да, не повезло с этой любовью.
— Я знаю, что врезался глупо, — сказал Гуоткин. — Но случись так снова — снова бы влюбился. Да еще и не конец.
— Чему не конец?
— С Морин.
— В каком смысле?
— Ник…
— Да?
— Она почти уже согласна… понимаете?..
— Согласна?
— Думаю, если смогу с ней завтра встретиться… Но помолчим об этом. Знаете, она не может решиться. Я ее понимаю.
Мне вспомнились слова Амфравилла: «Нет, не сегодня, милый, — я тебя еще недостаточно люблю. Нет, не сегодня, милый, — я тебя слишком сильно люблю…» Покормили уже Гуоткина этими завтраками. Мы шли по парку, и мысли Гуоткина все перескакивали от одного огорчения к другому.
— Если вторжение произойдет, пока буду в Англии, в учебном центре, то по крайней мере окажусь ближе к полю битвы. Не думаю, чтобы немцы высадились в Ирландии. Как считаете? Высадка здесь не составит труда, но потом пришлось бы им высаживаться еще раз.
— Да, расчета им нет, по-моему.
— А Идуол быстренько повел себя начальником.
— Да, быстро вошел в роль.
— Помните, я говорил, что вежливость проще бы называть слабостью.
— Помню отлично.
— Если это верно, тогда, выходит, Идуол вправе так себя вести.
— Прямота действий имеет немалые преимущества.
— Но я и сам всегда держусь этого в армии, — сказал Гуоткин. — А ничего путного у меня не вышло. Отсылают вот в учебный центр за негодностью. А ведь я работал усердно, не кое-как, — разве что забыл про чертов код, но и у других бывает же такое.
Он говорил, не жалуясь, а просто недоумевая и усиливаясь понять, почему у него вышло комом. От моих объяснений не было бы толку. Я даже не уверен, что у меня нашлись бы объяснения. Все, что Гуоткин сказал, соответствует истине. Работал он усердно. Гуоткин даже не чужд понимания таких духовных аспектов военной жизни, как то, что в армии правит и решает воля — и, следовательно, если слаба воля, слаба и армия. Но он явно путает слабую волю с вежливостью, а твердую с грубостью, и в этом одно из заблуждений, которые подкашивают его.
— Я обожал командирство, — сказал Гуоткин. — А вам, Ник, разве не нравится командовать взводом?
— В молодости, возможно, нравилось бы. Не знаю. Сейчас определенно поздновато. Тридцать человек лежат на тебе ответственностью и не дают ни малейшего чувства власти, которое вознаграждало бы за этот груз. Одни вечные заботы и хлопоты.
— Вы правда так считаете? — удивился Гуоткин. — Когда началась война, меня прямо окрылила мысль, что поведу солдат в бой. Может, еще и поведу. Может, это лишь временная неудача.
Он засмеялся невеселым смехом. Мы уже подходили к лощине, к окруженной кустами прогалине. С одного ее края — большая каменная скамья; по бокам скамьи — декоративные урны на цокольках. Неожиданно к нам донеслось пение:
Об руку с тобою, Как в прежние года, Шел я — и от счастья Был готов рыдать…Голос мужской, знакомый. Песня эта приводит на память старомодные мюзик-холльные песенки конца века, но появилась она недавно и нравится солдатам своей, что ли, тоской о прошлом и ритмичностью. Пение оборвалось. Послышался женский смешок, повизгиванье. Мы с Гуоткином остановились.
— Кто-то из наших, как будто? — сказал Гуоткин.
— Вроде бы капрал Гуилт.
— Пожалуй.
— Давайте взглянем.
Тропинкой, идущей среди кустов, мы стали огибать прогалину, без шума пробираясь сквозь подлесок. На скамье — солдат и девушка в полулежачем объятии. У солдата на рукаве две белые нашивки. Виден затылок огромной головы, явно принадлежащий Гуилту. Мы секунду постояли, вглядываясь. Вдруг Гуоткин вздрогнул, сделал резкий вдох.
— О черт, — сказал он едва слышно. Стал осторожно пробираться назад через боярышник и лавровые кусты. Я последовал за ним. Сперва я не понял, зачем он уходит и что с ним: я подумал, он оцарапался шипом или хватился, что не подготовил чего-то там к передаче роты. Когда мы отдалились от лощины, он ускорил шаг. Заговорил он, только выйдя на аллею, ведущую к замку.
— Вы разглядели девушку?
— Нет.
— Это Морин.
— Как, неужели!..
Всякие слова мои излишни сейчас еще более, чем при известии, что Гуоткина сместили. Человек влюбленный — а Гуоткин влюблен несомненно — способен узнать свою женщину с расстояния мили. То, что сам я не рассмотрел Морин в вечерних сумерках, ничего не значит; Гуоткин ошибиться тут не мог. Сомнения можно отбросить.
— С капралом Гуилтом, — сказал он. — Вот так так!
— Да, Гуилта я узнал.
— Ну что вы скажете?
— Комментарии излишни.
— Тискается с ним.
— Объятие определенно было тесным.
— Скажите же что-нибудь мне.
— Гуилту надо бы прилежней молиться богу Митре.
— То есть?
— Помните у Киплинга в стишке — «нас до у́тра храни в чистоте».
— О господи, — сказал Гуоткин. — Что правда, то правда.
Он засмеялся. Вот в такие минуты я чувствовал, что не ошибся — что в Гуоткине есть некая незаурядность. Молча подошли мы к дому и расстались — только Гуоткин все посмеивался вслух время от времени. Я взошел по шаткой лесенке конюшни. В комнате нашей темно, штора с окна снята, на полу белеет лунный свет. Обычно это значит, что Кедуорд спит. Но, когда я вошел, он поднялся на койке.
— Поздно вы сегодня, Ник.
— Прогулялись в парке с Роландом.
— Он все не в духе?
— Слегка.
— Не мог уснуть, — сказал Кедуорд. — В первый раз со мной такое. Наверное, от радости, что получил роту. Все новые мысли приходят насчет перемен. Думаю, получу на ваш взвод Филпотса или, возможно, Пэрри.
— С Филпотсом приятно работать.
— Зато Пэрри как офицер лучше, — сказал Кедуорд.
Он повернулся на бок и вскоре, должно быть, уснул, несмотря на нервное волнение, вызванное перспективой власти. Я полежал, думая о Гуоткине, Гуилте и Морин, затем уснул тоже. И настало прощальное завтра. К процедуре прощаний я приступил днем.
— Говорят, вы тоже покидаете батальон, старшина.
— Покидаем, сэр.
— Жаль, наверно, расставаться.
— И жаль, и не жаль, сэр. Приятно будет вернуться домой, да и место пора опрастывать для молодежи, им же продвигаться нужно.
— Кто будет вместо вас?
— Надо полагать, сержант Хамфриз.
— Дай бог, чтоб Хамфриз исполнял свою должность, как вы.
— Что ж, Хамфриз хороший сержант и, будем думать, справится.
— Спасибо вам за всю вашу помощь.
— Да мы с великим удовольствием, сэр…
Старшина Кадуолладер к таким прощаниям относится серьезно и говорил бы еще много, обстоятельно, долго — но тут подбежал капрал Гуилт. Откозырял наспех. Видимо, он не ко мне. Гуилт взъерошен, запыхался.
— Виноват, сэр, разрешите обратиться к старшине.
— Валяйте.
— Старшина, там кто-то мясной холодильник взломал и украл ротное масло, — негодующе заговорил Гуилт. — Замок весь к черту, проволока с дверцы сорвана, и капрал-повар думает, что это сукин Сейс решил толкануть масло налево, и говорит, чтоб сейчас же старшину позвать в свидетели — на случай дачи показаний, как с теми одеялами…
Старшина Кадуолладер оборвал прощальную беседу — ограничился рукопожатием и пожеланием всего хорошего. Оборвал с огорченным видом, но делать было нечего — долг для Кадуолладера важнее даже самого приятно-сентенциозного прощания. Вдвоем с капралом Гуилтом они поспешили на кухню. А тут и грузовичок подъехал. Сержант выстроил людей, направляемых на лечение. Подошел Гуоткин. Все утро он был занят, но, как и обещал, явился проводить меня. Мы потолковали минуту-другую о ротных материях, о затеваемых Кедуордом новшествах. Тон у Гуоткина опять был службистский.
— Возможно, и вас, Ник, направят в учебный центр, — заключил он. — Не навсегда, конечно, а транзитом, по пути к чему-нибудь получше. К тому времени я надеюсь уже отбыть на должность, но встретиться было бы приятно.
— Может, оба окажемся в одном штабе, — сказал я не очень всерьез.
— Нет, — ответил он серьезно. — Штаба мне не видать. И я не стремлюсь туда. Единственно хочу быть хорошим строевым офицером.
Он похлопал своим стеком по ботинку. Затем переменил тон:
— Получил утром худые вести из дому.
— Полоса невезения у вас.
— Мой тесть скончался. Я, кажется, говорил вам, что он болеет.
— Говорили. Сочувствую вам. Вы ладили с ним?
— Ладил, — сказал Гуоткин. — А теперь придется теще перебраться к нам. Мать у моей Блодуэн неплохая, но лучше бы нам врозь. А вы, Ник, не говорите никому о вчерашнем.
— Ну разумеется.
— Жуткий был сюрприз мне.
— Еще бы.
— Но урок хороший.
— Эти уроки не усваиваются. Это все басни, будто на ошибках учатся.
— Но я хочу учиться на ошибках, — сказал он. — А то что ж выходит, по-вашему?
— Что просто судьба время от времени угощает этими плюхами.
— Вы убеждены?
— Да.
— И что действительно у всех случается такое?
— По-разному, но у всех.
Гуоткин задумался.
— Не знаю, — сказал он. — Все-таки, по-моему, это мне за то, что врезался по-глупому в Морин и с ротой напорол. Я думал, солдат из меня неплохой, — но я крепко ошибался.
Мне вспомнился Пеннистон с его французской книжкой.
— Один француз-писатель, кадровый офицер, считал, что неотъемлемую сторону армейской службы составляет зеленая скука. А хлебнуть какой-то там романтики — это просто редкостная краткая удача.
— Вот как? — отозвался Гуоткин без малейшего интереса. И в десятитысячный раз убедился я, что литература освещает жизнь только людям, без книг не живущим. Книжная мудрость — это, говоря финансовым языком, актив необратимый, имеющий хождение только среди книгочеев. Я раздумывал, стоит ли напоследок еще попытаться растолковать Гуоткину, в чем здесь у Виньи соль, или это будет лишь пустой тратой энергии и нашего времени, но тут Кедуорд вышел к нам во двор.
— Роланд, — сказал он, — идемте-ка на кухню. Дело серьезное.
— Что там такое? — спросил Гуоткин, нахмурясь.
— Ротное масло украли. На мой взгляд, хранение ведется безалаберно. Хочу, чтоб вы присутствовали при моем выяснении дела со старшим сержантом и поваром. И еще — заливное только что доставили нам тухлое. Для списания нужна подпись офицера. А я должен прежде всего прочего урегулировать с этой покражей. Ник, сходите подпишите акт о заливном. Чистая формальность. Оно там у черного хода, возле умывальной.
— Ник уезжает сейчас в штаб, — сказал Гуоткин.
— А, уезжаете, Ник? — сказал Кедуорд. — Счастливого пути, но подпишите прежде акт, ладно?
— Ладно.
— Ну, прощайте.
— Прощайте, Идуол, и желаю вам успеха.
Кедуорд торопливо пожал руку и устремился к месту покражи, сказав:
— Так поскорей же, Роланд.
Гуоткин тоже пожал мне руку. Усмехнулся странно — как бы смутно понимая, что против судьбы не повоюешь и что, если взглянуть со здравой точки зрения, почти всегда можно разглядеть в замысле судьбы определенную красоту композиции, а порой даже и посмеяться можно.
— Не буду задерживать, Ник, вас ждет заливное, — сказал он. — Всего наилучшего.
Я отдал ему честь в последний раз, чувствуя, что он этого заслуживает. Гуоткин зашагал прочь, слегка нелепый со своими усиками и все же превозмогая, так сказать, эту нелепость. Я направился в другую сторону, где ожидало моей подписи свидетельство о смерти заливного. С небес палило солнце. Повар занят был масляным делом, и встретил меня капрал Гуилт. Для отдания последнего моего долга Каслмэллоку Гуилт поместил заливное — целую глыбищу в покрове оберток — на чем-то вроде погребального помостика, точно труп в морге. Рядом положил надлежащий армейский бланк и авторучку.
— Тухлота убийственная, сэр, — сказал он. — Лучше подписать не нюхая, ей-богу, сэр.
— Удостоверюсь все же.
Я с осторожностью приблизил нос и быстро выпрямился, отстранился. Гуилт совершенно прав. Смрад ужасающий, неописуемый. Всплыло в памяти мясо с червями из «Потемкина». Интересно, сдержусь или вырвет меня. Сделав несколько глубоких вдохов, я поставил подпись на документе, подтвердил гнилостное разложение.
— В последний раз видимся, капрал Гуилт. Я направлен в дивизию. Прощайте.
— Отбываете, значит, из роты, сэр?
— Отбываем, капрал. (Батальонные обороты речи заразительны.)
— Жалко, сэр. Желаю вам удачи. Хорошего места в дивизии.
— Будем надеяться. А вам желаю меньше бедокурить с девушками.
— Уж эти девушки, сэр. Нет мне никак покоя прямо.
— Утихомирьтесь, выслужите третью нашивку. Тогда будете как наш ротный старшина и позабудете про девушек.
— Постараюсь, сэр. Так оно бы лучше, хотя со старшиной мне равняться нельзя, ростом не вышел. Но вы не верьте, будто старшина не охоч до девушек. Шуточки это. Я знаю, нам в чай подбавляют охолодительное средство, но таким, как я, оно не помогает, да и старшине тоже.
На том мы и пожали друг другу руку. Пытаться разрушить вековую армейскую легенду о добавке в чай успокоительных лекарств было бы так же бесполезно, как развивать перед Гуоткином воззрения Виньи. Я вернулся во двор к грузовику, сел рядом с водителем. Мы прогромыхали через парк с его грустными дуплистыми деревьями, с его байроническими отголосками. В городке, на главной улице, стояла Морин, разговаривая с двумя какими-то праздношатаями. Она помахала нам рукой, послала вслед воздушный поцелуй — больше по привычке, думаю, чем в качестве лестного для меня привета, поскольку глядела она не на меня, а на солдат в кузове, шутливо загикавших, заулюлюкавших. Они запели:
У нее лилов чулочек, И всегдашний насморочек, И она Макгиллигана дочка, Мэри-Энн…Вдоль дороги нет селений, даже фермы и хибарки мелькают редко. Местность плывет однообразная, миля за милей; только однажды миновали мы пару каменных, сильно обветренных столбов с геральдическими полуорлами, полульвами наверху, держащими щиты. Это остатки усадебных ворот — грифоны со щитами, геральдика в стиле девятнадцатого века. Раньше ворота горделиво вели в парк, теперь же торчат одиноко столбы среди широкого пустого поля — ни ворот, ни ограды, ни аллеи, ни парка, ни дома-дворца. За столбами стелется к дальнему горизонту пахотная земля, поросшая бурьяном, и, точно шахматную доску, расчерчивают ее низенькие стены из камня вместо живых изгородей. Ворота распахнулись в Никуда. Не осталось ничего от бывшего поместья, кроме этих побитых щитов с чересчур замысловатыми дворянскими гербами, принадлежавшими, наверно, какому-нибудь лорду-законнику вроде первого Каслмэллока или дельцу-магнату вроде наследников Каслмэллока. И здесь тоже иссякли наследники — или предпочли переселиться прочь. Я их не виню. И север, и юг здешний не по душе мне. Но все же день сегодня солнечный, и огромно чувство облегчения, что не надо расследовать покражу масла или вести взвод на химические учения. Краткая, но желанная передышка. В кузове солдаты, едущие в госпиталь, поют:
Отвори источник чистый, Исцели и освяти. Столп спасительный огнистый Пусть ведет меня в пути. Боже сильный, Боже сильный, Будь всегда моим щитом…Гуоткин, Кедуорд и все остальные отодвинулись уже в прошлое. Я вступаю в новую фазу военного существования. А едем уже часа два. Вот и местность меняется. Домишки замелькали чаще, затем началась окраина города. Едем длинной прямой улицей между угрюмыми домами. Миновали перекресток, где сошлось полдюжины улиц, — на таком вот мрачном перепутье Эдип, не пожелав уступить дорогу, убил своего отца; не найти места лучше для междоусобных свар и уличных боев. Движемся дальше, въехали в жилой район повеселее. Здесь, в двух-трех смежных домах, расположился штаб дивизии. У одного из домов стоит на посту военный полицейский.
— Мне нужна канцелярия начотдела личного состава.
Меня провели к дежурному сержанту. Никто здесь вроде бы не ожидает моего приезда. А машине надо ехать дальше. Мои вещи сняли. Позвонили через коммутатор в канцелярию, и оттуда пришло мне повеление подняться наверх. Солдат-канцелярист повел меня лестницами, коридорами; на каждой двери обозначено тут имя, звание и должность обитателя, и на одной написано:
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЛИДДАМЕНТ, ЗБЗ, ВК[12]
Командир дивизии
Солдат привел меня к двери, на которой все еще значится старый помначтыла — «прежний хрыч», по выражению Мелгуин-Джонса. Изнутри слышен чей-то голос — монотонное гудение, речитатив какой-то, звучащий то громче, то тише, но не умолкающий. Я постучал. Никакого отклика. Выждав, опять постучал. Снова безрезультатно. Тогда я вошел, поприветствовал. Спиной к дверям сидит офицер в майорских погонах и диктует, а писарь с карандашом и блокнотом в руках стенографирует диктуемое. Спина у начотдела мясистым бугром, на загривке жирная складка.
— Подождите минуту, — сказал он мне, потрясши пальцами в воздухе, но не оборачиваясь.
Я стоял в ожидании, он продолжал диктовать.
— В соответствии с этим считаем… что дело офицера такого-то — дайте имя, фамилию и личный номер — уместнее будет рассмотреть… нет — правильнее будет потрактовать в согласии с директивой Высшего военного совета, упомянутой выше — укажите, где именно, — параграф II, пункты «d» и «f» и параграф XI, пункты «b» и «h» которой, с поправкой согласно письму Военного министерства за номером AG 27 дробь 9852 дробь 73 от 3 января 1940 года, предусматривают особые случаи этого рода… В то же время подчеркиваем, что данное войсковое соединение ни в коей мере не ответственно за безначалие — нет-нет, так формулировать не будем, — за определенные нарушения установленной практики, имевшие место в процессе разбора дела (смотри страницу 23, параграф XVII выводов следственной комиссии, а также параграф VII, пункт «e» вышеупомянутой директивы), — нарушения, которые, надо надеяться, будут надлежащим образом исправлены соответствующими инстанциями…
Голос — подобно столь многим начальственным голосам даже в тот ранний период войны — успел уже позаимствовать тоновую окраску и дикцию радиоречей Черчилля, их ритмические ударения, растягиванье гласных и глотание согласных. Эту речевую манеру можно слышать уже иногда и в батальонах. Например, с недавних пор внимательное ухо могло уловить в обращениях Гуоткина к роте некоторый отход от стиля храмовых проповедей и приближенье к речевым особенностям премьер-министра. Призывы Гуоткина к солдатам в немалой мере утеряли от этого свою былую прелесть. Если выиграем войну, ораторы еще лет тридцать будут подражать сочно-характерным черчиллевским тонам. Забавно, с какой рьяностью заимствуют эту манеру те, кому она как корове седло… Но тут писарь закрыл блокнот и встал.
— Подпись дать вашу, сэр? — спросил он.
— «За генерал-майора», — ответил помнач. — Подпишу «за генерал-майора».
Он повернулся на стуле.
— Здравствуйте, — произнес он.
Это был Уидмерпул. Он уставил свои большие очки на меня, как прожекторы, и протянул руку. Я пожал ее, крайне обрадовавшись встрече. Чувство, вызываемое в нас людьми, подчас зависит не столько от них самих, сколько от того жизненного круга, с которым наша память их связала: личные качества оттесняются более общими воспоминаниями. В эту минуту, хотя наши с Уидмерпулом отношения никогда не были теплыми, при виде его нахлынули на меня образы — все в большей или меньшей мере приятные — из времени, отрезанного от меня теперь целой вечностью. И как это мог раньше Уидмерпул со школьных наших общих лет представляться мне в неизменно неприглядном свете!
— Садитесь, — сказал он.
Я поискал взглядом, где сесть. Писарь сидел на жестяном ящике. Я предпочел край ближнего стола.
— Пусть в этом кабинете разница в чинах не разверзает между нами пропасти, — сказал Уидмерпул.
— Как вы, не оборачиваясь, знали, что это я вошел?
Уидмерпул кивнул на круглое зеркальце на его столе, незаметное между кипами бумаг. Возможно, мой вопрос показался ему чересчур уж посягающим на разницу в чинах, потому что он тут же погасил улыбку и забарабанил пальцами по коленке. Походная форма сидит на нем так же обтянуто, куце, как прежде гражданская одежда. Но в своей нынешней роли он фигура, бесспорно, внушительная.
— Сразу же введу вас в курс дела, — сказал он. — Прежде всего, я не рассчитываю засидеться в здешнем штабе. Это, конечно, между нами. Наша дивизия считается потенциально боевым соединением. Но для меня здесь захолустье и застой. К тому же на меня ложится почти вся работа. Начтыла — из кадровых офицеров, человек хороший, но копун ужасный. По снабжению он еще так-сяк, но в вопросах личного состава чутья и хватки нет.
— А как генерал?
Уидмерпул снял очки. Подался корпусом ко мне. Глаза моргают, лицо сурово.
— Генерал безнадежен, — сказал он вполголоса.
— Мне казалось, все им восхищаются.
— Совершенно ошибочное мнение.
— Неужели?
— Ошибочней некуда.
— Его считают знающим и деловым.
— Заблуждение.
— Его любят в полках.
— Люди любят шутовство, в том числе солдаты, — сказал Уидмерпул. — Между прочим, генерал Лиддамент тоже меня не обожает. Но это к слову. В делах у меня комар носа не подточит, и жаловаться генералу не на что. В итоге он довольствуется тем, что, когда обращаюсь к нему, отвечает в стиле ироикомических поэм. Весьма несолидно для сравнительно высокопоставленного офицера. Повторяю, я не собираюсь здесь засиживаться.
— А какая должность вам желательна?
— Уж это мое дело, — ответил Уидмерпул. — Но пока я здесь, работа будет исполняться как положено. А в последнее время мы завалены военно-судебными делами, особенного интереса не представляющими, но все они так или иначе требуют от начотдела большой работы. Учитывая прочие обязанности, один человек справиться с этим не может. Не мог и мой предшественник, как и следовало ожидать. Я-то работу приветствую, но тут увидел сразу, что даже мне потребуется помощь. Поэтому я получил «добро» от Военного министерства на откомандирование ко мне младшего офицера для помощи в таких делах, как составление сводок свидетельских показаний. В дивизии мне предложили несколько кандидатур. Я заметил вашу фамилию среди прочих. У меня нет причин предполагать, что вы будете исполнительнее всех, но поскольку остальные юридически подготовлены не больше вас, то я позволил возобладать узам старого знакомства. Выбрал вас — разумеется, под условием, что вы оправдаете выбор, — заключил он со смешком.
— Благодарю.
— Вы, полагаю, оказались не особенно на месте в качестве строевого офицера.
— Не особенно.
— Иначе вряд ли бы вас предложили мне. Будем надеяться, что для штабных обязанностей вы годитесь больше.
— Остается лишь надеяться.
— Вспоминаю, что в последнюю нашу встречу вы явились просить у меня содействия в поступлении на военную службу. Как все-таки вам удалось зачислиться?
— В конце концов меня призвали. Как я вам тогда говорил, я был в чрезвычайном резерве. Просто хотелось посоветоваться с вами, каким способом ускорить процесс зачисления.
Незачем посвящать Уидмерпула в подробности. Он мне ничуть не посодействовал. А сейчас успел уже с поразительной быстротой рассеять мое заблуждение, будто иметь в армии дело всегда лучше со старым, еще довоенным знакомцем. Невольно пожалеешь о Гуоткине и Кедуорде…
— Подобно многим другим частям и соединениям в данное время, — сказал Уидмерпул, — дивизия недоукомплектована. Пока вы здесь, вам придется выполнять подсобную-работу не только по личному составу. В полевых условиях, то есть во время учений, вы будете «на подхвате» — с этим популярным в армии выражением вы уже, несомненно, знакомы. Вам ясно?
— Вполне.
— Отлично. Жить и столоваться будете в корпусе «Эф». Это хотя и штабные низы, но еще не самое, как бы выразиться, дно. Начальник передвижной бани и ему подобные бытуют в корпусе «Е». Кстати, заведовать прачечной взят сюда офицер из вашей части, некто Бител.
— Мне говорили.
— Брат у него, как я понимаю, кавалер Креста Виктории, а сам Бител в прошлом выдающийся спортсмен. Жаль, что в части не умели найти ему лучшего применения, ибо такими не бросаются. Но работа не ждет, прохлаждаться нам некогда. Ваши вещи внизу?
— Да.
— Я велю, отнести их в вашу комнату — сходите туда, кстати, ознакомитесь с жильем. И сразу возвращайтесь. Я введу вас в круг обязанностей, просмотрим быстро бумаги, потом сходим, познакомлю кое с кем из штабных.
Уидмерпул поднял трубку, поговорил минуту-две о моем устройстве. Затем сказал телефонисту:
— Соедините меня с Округом, дайте майора Фэрбразера.
Положил трубку, стал ждать.
— Мой коллега по должности в штабе округа — некий Санни Фэрбразер. Знаю его по Сити — скользковатый делец. В начале войны был начальником оперотдела штаба нашей территориальной бригады.
— Я как-то познакомился с ним много лет назад, сказал я.
Уидмерпул промолчал. Зазвонил телефон.
— Ну, жмите, — сказал Уидмерпул. — Скорей туда — скорей обратно. Тут вас ожидает порядочно бумаг.
Он заговорил в трубку; я вышел из комнаты. Теперь я, значит, подвластен Уидмерпулу. И сердце у меня почему-то упало. А вечером по радио я услышал, что моторизованные части германской армии вступили в предместья Парижа.
Искусство ратных дел
Anthony Powell
The Soldier’s Art
London 1966
1
Начиная военную жизнь, я купил шинель — в одной из тех лавок вблизи Шафтсбери-авеню, где наряду с офицерским обмундированием и спортивными доспехами продают и дают напрокат театральные костюмы. Атмосфера там была насыщена неким риском, как на восточном базаре: пахло подпольной коммерцией, сделками скрытными, если не вовсе противозаконными, и это делало волнительной покупку, и без того необычную. Совершалась она в верхнем помещении, темноватом, таинственном, увешанном бриджами для верховой езды и лыжными куртками; а в глубине, за витринным стеклом, навытяжку стояли два безглавых торса. Один манекен одет был в трико арлекина, усыпанное наискось блестками, а второй в парадную алую форму какого-то пехотного полка — как бы две аллегорические фигуры, воплотившие контраст и несовместность продаваемых здесь товаров. Военное и Штатское… Труд и Забава… Участие и Отрешенность… Трагедия и Комедия… Мир и Война… Жизнь и Смерть…
Сутулый, пожилой, бородатый продавец с ухватками ближневосточного торговца, весьма подходящими к обстановке, вынес шинель откуда-то из сумрачного тайника и почтительно облачил меня в это двубортное, медно-пуговичное, безжалостно-жесткими складками легшее хаки. Костлявыми быстрыми пальцами застегнул на все пуговицы и отшагнул для оценки назад. Я тоже оглядел себя критически со спины в высоком трехстворчатом зеркале, сознавая, что скоро — в силу своего, так сказать, облачения — шагну в Зазеркалье не менее загадочное, чем то, где странствовала Алиса.
— Ну как, сэр?
— Хорошо, по-моему.
— Будто на вас шита.
— Сидит неплохо.
Расстегивая теперь — уже медленно — пуговицу за пуговицей, он словно бы призадумался, вгляделся в меня пристально.
— А мне ваше лицо знакомо, — сказал он.
— Разве?
— «Ночная вахта», не так ли?
— Что — ночная вахта?
— Вы ведь играли там?
Сценических талантов у меня ни малейших — этот врожденный изъян вредит, мне почти во всех житейских начинаньях; но, в конце концов, и среди актеров многие не блещут этими талантами. Так почему бы продавцу не предположить, что сцена — мое ремесло? Самолюбию моему больше бы польстило действо посерьезней, чем прошлогодний фарс из жизни мичманского кубрика, но спорить с такой трезвой классификацией моих творческих возможностей было бы скучно и не к месту. И я ограничился лишь отрицанием своего участия в той шумливой постановке. Он снял с меня шинель, заботливо расправил складки рукавов.
— Это для чего же предназначено? — спросил он.
— Что предназначено?
— Шинель, шинель — если смею спросить?
— Для войны.
— А-а, — произнес он вдумчиво. — «Война»…
Ясно было, что новейшие события в мире прошли мимо продавца; возможно, благодаря возрасту в нем поблек уже интерес к банальностям жизни, или же он так увлечен театром, что в газетах читает лишь колонку театральной критики, пусть плоховато написанную, не позволяя международным кризисам с других страниц замутить остроту эстетического восприятия. Можно понять и такой взгляд на вещи.
— Я запомню название спектакля, — сказал он.
— Сделайте милость.
— Разрешите адрес ваш.
— Нет, покупку я возьму с собой.
Времени у меня было в обрез. Теперь, когда снова поднялся над миром занавес этого исстари любимого спектакля под названием «Война», где мне, видимо, назначено играть статистом, — теперь дни, оставшиеся до отправки в часть, потребуются для вытверживанья роли, репетирования в костюме. Чем больше вдумываешься, тем уместней кажется сравнение с театром. Притом если вопреки пословице одежда еще не образует всего человека, то составляет существенную его часть — особенно одежда форменная. Через минуту мне был вручен довольно объемистый сверток.
— Упаковал как будто аккуратно, — сказал продавец. — Хотя театр ваш, наверно, тут же за углом.
— Театр военных действий?
Он поднял брови, но затем, решив, что слышит какую-то актерскую остроту, одобрительно покивал.
— Желаю долгого успеха и хороших сборов, — сказал он, складывая вместе старческие тощие ладони — как бы аплодируя.
— Спасибо.
— Вам спасибо. До свидания, сэр.
Я вышел, бросив прощальный взгляд на цветистую двоицу манекенов, возвышающихся в своей стеклянной клетке над хмурыми рядами плечиков-распялок с рубчатым габардином и твидом. А пожалуй, безглавые эти фигуры очень даже совместны друг с другом и символизируют собой Острословье и Честолюбие, которые «председают в аду», по словам Дьявола из киплинговской баллады. Правда, здесь они стоят, а не сидят, но не в позе дело. Главное, одеты соответственно; а обезглавленность — подобно повязке на глазах Эрота и Фемиды — вполне может обозначать фатальную неотвратимость обеих родственных судеб, которую даже война бессильна изменить. Напротив, война — предоставив Честолюбу и Остроуму широчайшее поле действия — усилит, скорей чем ослабит, их роковую обреченность. Шагая с этой мыслью под скудным, бледно-ласковым солнцем лондонского декабря, я миновал винный магазинчик, навеки памятный благодаря бутылке портвейна (если можно так назвать то пойло), которую Морланд и я давним воскресным днем купили с такими радужными надеждами — и оскандалились, не выпили.
В смятенной нужде настоящего те наши с Морландом дни кажутся блаженно-допотопными. Последние же доармейские, дошинельные недели озарены жутковатым ореолом начала войны — этого нависшего над миром верховного арбитра, как витиевато назвал ее премьер-министр в своей радиоречи. Теперь, четырнадцать месяцев спустя, покупка шинели кажется почти такой же давнопрошедшей, как гибель нераспитой бутылки. Изабелла упомянула в одном из писем, что Морланд поехал в Эдинбург за музыкальным заработком; других вестей я о нем не получал. Да и та весть уже давняя — относится к началу моего пребывания в штабе дивизии. С тех пор я целую вечность служу в этом штабе, и жизнь моя свелась к армейскому корпенью, и хозяином надо мной Уидмерпул, а сотрапезниками в офицерской столовой — Бигз и Соупер.
Между тем и война прошла различные фазы, в том числе весьма нерадостные: Франция побеждена; Европа оккупирована; мы под непосредственной угрозой вторжения; Лондон подвергнут «блицу» — усиленным бомбежкам. Мне сообщили (тоже Изабелла в письме), что прямым попаданием уничтожены фрески, которыми мой приятель Барнби расписал вестибюль здания «Доннерс-Бребнер», — фрески, столь же пожухшие в моей памяти, как сам Барнби, занятый теперь маскировкой самолетов и аэродромов где-то в летной части. С недавних пор военные дела пошли слегка веселей — например, в африканской Западной пустыне, — но вообще-то обстановке еще очень далеко до сколько-нибудь удовлетворительной. И оттого, что я сплю и столуюсь в корпусе «Эф», где «штабные низы, хотя еще не самое дно», по определению Уидмерпула, — лишь сильнее от этого чувство, что в мире большой непорядок.
Когда «блиц» докатился до нас и за один ночной налет в городе погибла тысяча человек — а на этой стадии войны подобная цифра считалась крупной для провинциального города, — наш командир дивизии, генерал-майор Лиддамент, приказал, чтобы по сигналу воздушной тревоги штабной взвод обороны (временно попавший под мое начало) выставлял у помещений штаба ручные пулеметы. Мера эта была скорей учебная, поскольку открывать стрельбу предписывалось лишь в исключительных случаях — если, допустим, немцы будут с бомбами пикировать на нас; штаб-квартира Округа располагает, разумеется, обычными зенитными батареями. Возвещаемые погребальным воем сирен, точно обрядовым плачем на варварской тризне, германские самолеты являются со своих неблизких баз почти уже к полуночи, дав нам с полчаса поспать. Они пролетают над городом на сравнительно большой высоте, затем снижаются, разворачиваются с зудливым рокотом, роняя иногда зажигалку-другую в нашем соседстве — так сказать, на счастье, — и приступают к более серьезному занятию: к сбрасыванию фугасных бомб на доки и верфи. И уж до конца налета кружат там над портом, бомбя. В такие ночи, покуда поставишь пулеметы на место в оружейную и отошлешь бойцов в казарму, времени для сна остается немного.
Последние придушенные, судорожно-замирающие взвывы тревоги очень напоминают мне плач и скрежет неискусного смычка — скажем, когда генерал Коньерс исполняет Гуно или Сен-Санса на своей виолончели или когда любимец Морланда (тоже склонный играть Сен-Санса) — схожий с пиратом нищий музыкант на старомодной деревянной ноге и с матерчатым черным кружком на глазу — терзает скрипку в улочке за Пикадилли-серкус. Еще сонный, начинаю одеваться в темноте, так как в комнате штор нет и, прежде чем зажечь свет, пришлось бы снова закрывать окно листами затемнения. Напрасно композиторы не сочиняют вариаций на темы воздушной тревоги. В местности, где живет сейчас Изабелла, приходский священник — в качестве уполномоченного гражданской обороны — самолично оповещает о тревоге по телефону. Для вящей ли внушительности или по вошедшей в кровь профессиональной привычке к распевной речи, но голосом своим он всегда подражает сирене, завывая то ниже, то выше:
— Воздушная тревога… Воздушная тревога… Воздушная тревога… Воздушная тревога… Воздушная тревога… Воздушная тревога…
Из комнатного мрака наплывают эти мысли, а с ними и надежда, что Люфтваффе учтет дальность возвратного полета и не станет сегодня длить свой ночной труд чересчур уж по-тевтонски добросовестно. Завтра у нас начнутся трехдневные окружные учения, и взводу обороны снова маловато придется спать. Одевшись, выхожу на улицу; там холодно, хотя скудные признаки весны уже заметны на полях, где вместо живых изгородей — полуобвалившиеся стенки из камней. В небе луна состязается с прожекторами и осветительными бомбами, чей искусственный свет, все усиливающийся, обращает затемнение в чистую формальность. Мне надо обойти отделения моего взвода, вставшие на постах. Зенитки уже хлопают вовсю. Жестяно, гулко щелкнула шрапнелька о сталь моей каски, точно пущенная из трубочки горошина. Последним проверяю пулеметный пост на углу стадиона; ствол «брена» уже задран в небо, и капрал Мэнтл признается, что они сейчас дали очередь.
— Надоело смотреть, как немчура спускает светящие бомбы, — говорит он покаянно, — и мы сшибли одну к шутам.
Очки придают ему ученый, эрудированный вид, не вяжущийся с таким нетерпеливым и резким действием. Капрал молод, энергичен, он кандидат на производство в офицеры, если только не вычеркнет его из списка полковник Хогборн-Джонсон, в последнее время чинящий помехи его производству.
— За патроны нам придется отчитаться.
— Отчитаюсь, сэр. У меня были ведь в запасе. Всегда полезно иметь лишек на случай неожиданной проверки боепитания.
В сумраке обозначилась идущая к нам бесформенная, грузная фигура в дождевом плаще почти до пят. Фигура оказалась Бителом. Непонятно, зачем он бродит ночью, под налетом. Как начальнику передвижной прачечной, ему вряд ли требуется присутствовать здесь. Бител приблизился вплотную.
— Разве уснешь при этом шуме, — сказал он.
Сказал ворчливо, как если бы начальству ничего не стоило устранить причину шума, да вот не устраняет.
— Снотворные таблетки мои кончились, — продолжал он. — Даже не знаю, достану ли теперь. Исчезли уже из продажи, вместе со многими другими полезными вещами… Счел вот благоразумным надеть каску. Да и устав требует. А я не знал, что вам или другим нашим штабникам приходится дежурить при налетах. Округ обеспечивает же зенитную оборону — эти их артустановки, кажется, шавками зовут. И потом, есть «бофорсы». Тоже ведь зенитное орудие. Шведское. Мне бы надо больше разбираться в пушках, в их боевом назначении. Но пехотинцу мало приходится сталкиваться; правда, здесь при штабе слегка уже поднахватался.
Он неловко улыбнулся, точно опасаясь, как всегда, что его тут же одернут и осадят. Несколько месяцев назад он сбрил свои клочковатые усы, с которыми прибыл в наш батальон, когда ему — унылому запаснику территориальных войск — удалось все же зачислиться в армию. Безусость лучше согласуется с натурой Битела; теперь на этом блинообразном лице еще резче выпирают вставные челюсти, поразительно неумело сделанные. Но еще поразительней, что Бител уже сравнительно солидное время удерживается на должности. Главная причина здесь в том, что передвижная прачечная придана штабу просто из соображений административного удобства, а штатно в дивизии не числится — и при первой надобности будет от нас взята. Поэтому дисциплинарного внимания на нее обращается меньше; притом Бителу повезло, что у него в помощниках сержант Эблетт, который, наверно, и ведет там в основном дела. И еще одна причина, возможно, отсрочила смещение Битела, в конечном счете неизбежное. Он не раз похвалялся своей причастностью к театральному миру; на поверку причастность эта свелась к тому, что он месяц-два ведал зрительным залом в театре того провинциального центра, где Бител одно время прозябал. Театр переоборудовали затем в кинотеатр, и служба кончилась, но сохранились у Битела остатки театрального престижа, так что когда начальник нашей походной бани, всегдашний постановщик дивизионных концертов, заболел посреди репетиции, то режиссуру передали Бителу, и концерт получился весьма сносный.
Тем не менее на должности Бителу не удержаться. Уидмерпул, как раз и ведающий личным составом, намерен снять Битела при первом удобном случае и, без сомнения, давно бы снял, если бы прачечная числилась у нас в штабе. Помимо понятных общих причин, неприязнь Уидмерпула вызвана и тем, что, обычно хорошо в таких вещах осведомленный, он принял на веру распространяемый Бителом миф, будто он брат офицера, его однофамильца, служившего в нашем полку в первую мировую войну и награжденного тогда Крестом Виктории. Вовсе не обязательно даже и брату героя быть отменным начальником прачечной; но почему-то легенда о героическом родстве пленила воображение Уидмерпула, и, выяснив, что это ложь, он обозлился. Теперь Бител стоит около меня и внимательнейшим образом оглядывает «брен», точно впервые в жизни видит ручной пулемет.
— Из штабного персонала только взводу обороны предписано занимать боевые посты в случае налета, — говорю я. — Просто очередная мера генерала для взбадриванья подчиненных.
Удовлетворенный этим объяснением нашего охранного присутствия на стадионе, Бител сосредоточенно кивает. Так получилось, что мы с ним почти не общались с того вечера в Каслмэллоке, когда он, по его выражению, «перебрал рюмашку» после пребывания в газовой камере химшколы. Прачечная ведь передвижная, и Бителу, как младшему офицеру, приходится почти все время странствовать с ней по дивизии; мои же обязанности хотя и будничны, но многочисленны и разнородны, и времени на общение со штабниками из других отделов остается мало. Разве что перебросишься с Бителом двумя-тремя словами, когда сидим соседями на периодически созываемом собрании штабных офицеров — слушаем лекцию или генеральскую накачку. В первый это раз теперь мы встретились с ним не в штабистской толпе.
— Досталась вам забота — ночь за ночью вот так вскакивать, — сочувствует он. — Давайте пройдемся стадионом, а?
В его сочувствии слышна нотка тоскливой жалобы. Вид у него самого на редкость не «взбодренный».
— Минутку — пулемет проверю.
Все оказалось в порядке на этом посту. Мы с Бителом не спеша зашагали по траве — мимо ветхого деревянного строеньица, раздевалки для игроков в крикет. Недавно из-за этой раздевалки были неприятности у Бигза, ведающего физподготовкой в дивизии: он затерял куда-то ключ, а владельцы реквизированного стадиона захотели как раз снести в раздевалку скамьи на хранение. Уидмерпул очень досадовал, что столько времени ухлопали из-за глупой неполадки, и учинил справедливый разнос Бигзу, который чуточку помешан на владении этим ключом. Любопытно, заперта ли дверь теперь, когда ключ наконец-то нашелся и скамейки внесли. Да, заперта — Бигзом, разумеется.
Канонада между тем усиливалась. Пахло дымом, сажей, а всего сильнее воняло тлеющей резиной. Над дальней частью города, над портом, быстро ходили взад-вперед узкие зеленоватые лучи прожекторов, чертя большие дуги вперехлест на восточном небосклоне — то выше, то ниже. Затем вдруг эти перекрестные лучи, сойдясь в одну точку вверху, образовав там светлый эллипс, ловили что-то крошечное, мечущееся в этом сжатом световом пятне, словно сердитая мушка в бутылке. Как бы слаженно, разумно откликаясь на ритмические колебания прожекторов, загорались в вышине и гасли облачные гряды, постоянно творя и меняя с полдюжины замысловатых пастельных композиций черного с сиреневым, шафранового с серым, розового с золотым. С этих роскошных небес, будто грозящих вот-вот разверзнуться мистическим господним откровением, медленно спускались, подобно японским лампионам праздничной иллюминации, два-три десятка осветительных бомб, сброшенных немцем на парашютах. Гроздями по две, по три плыли они, колышемые ветром, почти не снижаясь, точно светильники, подвешенные на безмерно длинных проволоках к невидимому потолку. Внезапно, как по сигналу, знаменующему полночную кульминацию зрелища, навстречу этим неровно горящим светильням снизу вспучились высокие облака густо-черного дыма. А на самой земле там и сям ярко вспыхнули огненные сгустки, словно скопление зажженных в ночи кузнечных горнов Черной Англии. Весь мир оделся синевато-багровым таинственным блеском, театральным, но грозным, — не светом дня и не свечением ночи, а инфернальным полусветом Аида. Запах паленой резины сгустился, став еще тошнотворней. Бител нервно подтянул пояс дождевика.
— С чеком тут петрушка получилась, — сказал он.
— У кого? У вас?
— Потому я и не сплю, наверно, а не только из-за отсутствия таблеток. Дело еще может уладиться — я заплатил потом наличными, занял немного денег у нашего почтовика, — но с чеками вечный кавардак. Отменить бы надо чековый порядок оплаты.
— Возможно, и отменят после войны.
— Для меня тогда уже будет поздно, — удрученно сказал Бител.
— Чек был на большую сумму?
— Всего на два-три фунта, но на моем счету не оказалось ни пенса.
— И нельзя это замять, чтобы без огласки?
— Уидмерпул пока еще не знает, думаю.
Деталь для Битела важная — Уидмерпул ведь только и ждет подобного случая. Я хотел было пособолезновать, но тут мерные хлопки зениток покрыл оглушительный взрыв, казалось расколовший землю, так что отозвались волнами гула и дрожи окрестные холмы. Бител покачал головой, на минуту отвлекшись от гложущих его забот.
— Должно быть, угодила бомба куда не надо, — сказал он.
— Похоже на то.
Он опять открыл рот, хотел спросить что-то, но замялся на момент. Видимо, решил иначе сформулировать вопрос.
— Вы говорили, что вы тоже книгочей, как я. Много читаете, да? — произнес он робковато.
— Да. Читаю я много.
Я уже не пытался скрывать эту свою постыдную привычку. По крайней мере сразу даешь понять, что относишься к разряду чудаков, от которых нельзя ожидать того же толка, что от людей нормальных.
— Люблю на досуге хорошую книгу, — сказал Бител. — Вот как роман «Поискать такое чудо» Сент-Джона Кларка. Чтоб серьезная вещь была, чтоб не с ходу прочесть.
— Не пришлось читать этот роман.
Но Бител не стал развивать тему «чуда». Очевидно, о романе он упомянул между прочим, а цель его пристрелочных выстрелов иная. Хотя трудно предугадать, чем подарит тебя Бител в задушевном разговоре, но излияния его всегда представляют интерес. На уме у него сейчас что-то есть. Следующий свой вопрос он задал с волнением в голосе.
— Вы в детстве покупали мальчишьи журналы — скажем, «Закадычные дружки», «Только для мальчиков»?
— Разумеется. Глотал, бывало, годовыми комплектами. А шурин мой и до сих пор глотает.
У Эрриджа, брата моей жены, это единственная греховная склонность, и он усиленно ее скрывает, чтобы не обвинили в несерьезности, в недостатке чувства общественного долга. Бител ответил что-то, но слова его покрыл зенитный грохот, усилившийся как нарочно.
— Что вы сказали?
Бител повторил.
— Опять не слышу.
Он шагнул ближе, прокричал что-то.
— …героем… — уловил я.
— Вы героем себя чувствуете?
— Нет… я…
Орудийный гром стал чуть слабее, но Бителу пришлось вовсю напрячь голосовые связки, чтобы я расслышал:
— …всегда воображал себя героем этих журнальных повестей.
Видимо, Бител считает, что делится со мной психологическим открытием беспримерной важности.
— Каждый мальчик так воображает, — проорал я в ответ.
— Каждый? — переспросил он огорченно.
— Я уверен, шурин мой по сей день отождествляет себя с этими героями.
Но Битела не интересовали ничьи шурья с их читательскими грезами. Это понятно — Бител ведь никогда и не слышал об Эрридже. И притом, очень хочет сейчас говорить о себе, и ни о ком другом. Но тон у него хоть и взволнованный, а все же извиняющийся.
— Я вот подумал — вечером недавно, когда немцы налетели в первый раз, — что переживаю как раз то, о чем читал мальчишкой.
— То есть?
— «Крещение огнем» — великую минуту в жизни героя, когда он впервые попадает под обстрел. Вы помните, конечно. Когда он показывает, что «сделан из храброго теста», как говорится в этих повестях.
Он засмеялся виноватым смехом — дескать, в какие высокие материи ударился, — обнажив при этом обе свои клоунские челюсти.
— «Винтовочное тах-тах-тах на дальних взгорьях…», «Струйка песка, взметенная с бруствера пулей…»?
Эти штампы из приключенческих детских рассказов я процитировал, чтобы побудить Битела к новым задушевностям. И душа Битела отозвалась на штампы.
— Вот именно, — сказал он, возбужденно встрепенувшись. — Именно об этом я. Как вы все помните! От ваших слов оживают в памяти все те истории. Я в детстве читал очень много. Задумчивым был мальчуганом. Так бы мне и продолжать потом.
Этим Бител слегка напоминает Гуоткина, бывшего моего ротного командира, — тот, бывало, тайком перечитывал киплинговский «Гимн Митре» у себя в канцелярии; но Гуоткина толкали к такой литературе довлеющие над ним мистические чары военной жизни, у Битела же дело совсем иного рода. Просто Бител, вспомнив запоем читанные в детстве рассказы о воинской доблести, весьма естественно удивлен, что наступивший час опасности не вселил в него особенного страха.
— Собственно говоря, мы уже подвергались воздушным налетам — «крестились огнем», если желаете, — в те времена, когда читали детские журналы. То есть во время первой мировой.
— Нет, я — нет, — ответил Бител. — В наши места не залетали цеппелины. Почему меня и удивляет, что я не очень-то трушу. У меня ведь нервы склонны шалить. Как-то пришлось мне давать показания в суде, по довольно мерзкому делу — меня оно, слава богу, не касалось, я был только свидетелем, и то тряслись поджилки. А сейчас вот вся пальба меня, по сути, не пугает. Самые худшие моменты — это когда сирена начинает завывать, верно ведь?
В военную пору неизбежно встает перед тобой подчас проблема страха. Не могут ли возникнуть такие неуютные обстоятельства, когда со страхом, с его воздействием на нервы, трудно будет совладать? подобно Бителу, и я задумывался над этим и приходил к весьма неокончательному выводу, что чувство страха менее связано с нависшей над тобой опасностью, чем это кажется первоначально; хотя при неограниченном росте опасности кривая страха — вероятно, даже несомненно — пойдет резко вверх. Ночью, в постели, ворочаясь в спальном мешке, я еще за несколько месяцев до «блица» ощущал порой какой-то малодушный страх, вызванный не чем-либо конкретным, а общей безнадежной вывихнутостью жизни. Так шалить нервы вполне способны и в мирное время (как шалили тогда они у Битела, по его словам); возможно, и у меня это случалось, но только я забыл — столь многое уже забылось из того утраченного мира. Вот так же иногда лежишь бессонно в муках неутоленного желания, и над раскладушкой витают разнузданные грезы вожделения — и кажется, что вызывает их именно безрадостно-казарменная обстановка. Часто приходится даже напоминать себе, что тревога, тоска, угнетенность не обязательно бывают связаны со службой в армии, с войной, в чью всеобъемлющую рамку ты их автоматически теперь втискиваешь.
Я согласен с Бителом, что налет сейчас скорее эффектно-красочен, чем устрашающ, — даже слегка бодрит тебя, уже вполне проснувшегося и одетого; только не надо вспоминать о нуде трехсуточных учений, предстоящих после бессонной ночи. Однако начни бомбы падать на стадион, и беззаботность наших впечатлений тут же улетучится, особенно если выведут из строя пулеметы, так что и ответить будет нечем. (Прибавлю, что на позднем этапе войны волнительная красочность налетов начисто для нас поблекла). Но Бител уже кончил размышлять о крещении огнем; и реплики мои были уже не нужны. Он вернулся к «петрушке», по-прежнему тревожащей его.
— Хоть бы сошло благополучно с этим чеком, — сказал он. — И все потому, что в тот месяц казначейство с опозданием перечислило полевую прибавку.
И действительно, такое случается время от времени — из-за отсутствия ли должной системы, по прямой ли некомпетентности в финотделе Военного министерства; возможно, корень зла надо искать в финансовом невежестве или закоренелом ненавистничестве «кучки человекоподобных обезьян с высшим образованием» (как позднее выразился Пеннистон), которая в конечном счете вершит этими делами. Во всяком случае, армейцам иногда задерживают жалованье, и потому периодически случаются «петрушки».
— Неприятность будет обязательно, — продолжал Бител, — но, может, повезет и обойдется без суда.
За тем оглушительным взрывом громыхнули еще два-три полегче. Шум ослабевал, заградительный огонь понемногу, но заметно, пригасал. Орудия вдруг разом смолкли — вот так собаки, полночи не дав тебе спать своим лаем, решают вдруг закончить концерт. Последовали миги мертвой тишины. Потом вдали отчаянно залязгал, зазвонил колокол пожарной или санитарной машины, и ветер унес грустно замирающие отзвуки. Вслед за звоном послышались возгласы, гам, заурчали моторы, засигналили гудки машин… «Весной в такой машине к девицам миссис Портер ездит Суини…»[13]. В сумраке гигантскими ночными мотыльками летали хлопья гари. Резиновый чад приобрел еще более химический характер — запахло вроде бы ацетиленом. Наконец раздалось утешительное и протяжное гудение отбоя. С первыми же его звуками, словно по сигналу, зашлепали крупные капли дождя. Минуты через две уже лило как из ведра, и запахи налета стали вытесняться свежим духом взмокшей травы.
— Веселей, капрал. Зачехлить пулемет.
— И убрать в помещение, сэр?
— Действуйте.
— Пожалуй, пойду и я спать, — сказал Бител. — Вот усну ли, не знаю. Хорошо, макинтош захватил. По сути, он тут нужней каски. Жуткий в Ирландии климат. Приходится хлестать этот их так называемый портер сверх всякой меры и сверх средств. Но надо же чем-то выгонять сырость из костей. Приходите в гости как-нибудь, в корпус «Джи». Вам у нас Баркер-Шоу понравится. Он ведает полевой службой безопасности, а сам он университетский профессор — философию, кажется, преподавал. Не помню где. Умное у него лицо. И санврач тоже толковый парень. Умора, как начнет поддразнивать зубного врача насчет стерильности.
Мы разошлись восвояси. Капрал Мэнтл повел своих бойцов в казарму. Я закончил обход отделений, отправил людей спать и сам пошел лечь.
От последнего из пулеметных постов до корпуса «Эф», где я обитаю, всего несколько минут ходьбы. Это кирпичный полуотдельный дом в улочке, отлого идущей к окраинам. Открываешь переднюю дверь — и окунаешься в кошмар запущенности и уныния, в наитоскливейшую убогость, присущую мужскому общему жилью, — это закон природы, ненарушимый даже в зданиях исторических, старинных. А наше здание отнюдь не историческое — во всяком случае, покамест. Днем из окон видны загородные холмы — серые, каменистые, гороподобные; в другой же стороне, где доки, на которых сосредоточился сейчас немецкий «блиц», встают краны и фабричные трубы, а за ними воды устья раздаются вширь, сливаясь с морем — с «неведомой, соленой, чуждой глубью». В полумиле от корпуса «Эф» в двух-трех многоэтажных домах разместился весь штаб дивизии, кроме вспомогательных служб. В этом же нашем, по преимуществу жилом, районе разбросано несколько зданий университета, но университетским духом район от этого не проникся.
— И так теснота чертова, — сказал Бигз, когда я впервые явился в корпус «Эф». — А теперь прибавились вы, Дженкинс: еще одного едока сажать за наш рахитный стол, еще одному телу обмываться наверху в жестяной лоханке, которую здесь именуют ванной. Учтите, в ванной комнате не бриться — категорически verboten[14]. Вы, собственно, для какой сюда надобности вызваны?
Капитан с ленточками наград за первую мировую войну, лысый как колено, Бигз в молодости, возможно, и был красив на тяжеловато-классический лад — по крайней мере уж сам-то считал себя красивым. Теперь же погрузнел, щеки воспаленно-багровы, глаза испуганно-сердиты, большой нос повис грушеобразно, сложенные сердечком губы маленького рта размыкаются-смыкаются, точно резиновый клапан. Грудь, плечи, ягодицы Бигза чрезмерно мускулисты и придают ему вид циркового силача (даже силачки) или гиревика-профессионала, пришедшего развлечь своим номером очередь у билетной кассы. Голос у него грубый и вместе неуверенный, нетвердый, ибо Бигза, как и многих армейцев, мучает мания преследования, вечная боязнь, что начальство, как сатана из театрального люка, выскочит вдруг и обнаружит упущение. В гражданской жизни Бигз был спортивным организатором на приморском курорте. Сейчас он разводится с женой; процедура это хлопотная и дорогостоящая, как я не раз услышу от него.
— Я прикомандирован к отделу личного состава, — сказал я.
— Надолго?
— Не знаю.
— Интересно, как этому майору Уидмерпулу удалось выбить себе подсобника?
— Разрешение военного министерства.
— На что именно?
— На помощь в разборе накопившихся дел — военно-судебных и претензий в связи с реквизицией.
— А у меня разве не накопилось дел? — сказал Бигз. — Чертова прорва. Однако мне помощника не выделяют. Ну, я вам не завидую, Дженкинс. Собачья у вас будет жизнь. Уж будьте уверены. Уж имейте в виду. Во всей треклятой армии никого нет ниже второго лейтенанта. У рядовых есть права, у однозвездочника — никаких. А особенно в дивизионном штабе; причем майор Уидмерпул из аккуратистов-зануд. Он уже как-то и ко мне придрался, нашел процедуральные неправильности. Процедурист лютый.
И больше Бигз не выказывал интереса к этой теме, и впрямь малоинтересной. Достойна, правда, уважения напористость Уидмерпула: нужно быть неутомимым изобретателем работы ради самой работы, чтобы понадобился в отделе еще и помощник, но, даже если б человек и требовался, его все равно не добиться. А Уидмерпул добился. Присылка сверхштатного младшего офицера оказалась в какой-то мере дополнительно оправдана тем, что Прозеро, командир штабного взвода обороны, упал перед моим приездом с мотоцикла и сломал ногу. Пока он лежит в госпитале, я несу часть его обязанностей в дополнение к своим канцелярским.
— Вы убедитесь, что работы здесь у вас будет порядочно, — сказал мне Уидмерпул наутро после моего прибытия. — По горло работы. Будем засиживаться чуть не каждый вечер.
Он не преувеличивал. Предстояло подготовить несколько дел для военного суда, а одно уже вынесенное решение не соответствовало закону, как считал Уидмерпул. Солдат, в приступе безумия, напал на двух штатских; суд оправдал его. Уидмерпул затеял в связи с этим сложную переписку с военно-судебным ведомством. И не скоро закончишь все это, поскольку большую часть недели приходится проводить на учениях. Хоть я со школьной скамьи знаю Уидмерпула и судьба нас сталкивает с ним периодически — весьма, правда, нечасто — вот уже на протяжении двадцати с лишним лет, но, работая сейчас у него под началом, я открыл в нем сравнительно незнакомые стороны. Как в большинстве случаев бывает, взгляд снизу, из подчиненности, позволил яснее разглядеть натуру человека. Этот новый ракурс показал мне, например, как трудно с Уидмерпулом работать, особенно из-за его скрытности, порождаемой вечным страхом, почти маниакальным, что выполненная им работа может быть приписана другому. В то первое мое утро в штабе Уидмерпул пространно объяснял мне свои методы. Я вошел — он сидел уже за столом. Сняв очки, он принялся энергично их протирать с этаким сердечным, добродушно-армейским видом.
— Не надо извинений, — сказал он, не дав мне и рта раскрыть. — Ваш хозяин приходит утром на работу первым из штабистов, а уходит вечером последний, если не считать ночных дежурных. Хочу кое-что вам разъяснить до того, как пойду на утреннее совещание к начтыла. Прежде всего знайте, что я никогда не отказываюсь от направляемых ко мне дел — ни в армии, ни вне армии. Уходить от дел — всегда ошибка. И вас я не хотел бы поймать на этой ошибке — если, конечно, работу не навязывает вам противозаконно другая инстанция, чтобы затем заслугу выполнения приписать себе. Мой коллега в Округе, Фэрбразер, — большой любитель присваивать чужой труд. Неприятен мне Фэрбразер. Скользок чересчур. И притом постоянно жаждет поквитаться со мной за одно заседание совета директоров, в котором мы с ним как-то участвовали в Сити.
— Я когда-то был знаком с Фэрбразером.
— Я уже слышал. Вчера вечером вы упомянули об этом факте. Даже дважды, кажется.
— Виноват.
— Надеюсь, коль вы с ним знакомы, то не попадетесь на удочку его так называемого обаяния, когда вам в качестве моего представителя придется иметь с ним дело.
Как я узнал потом, вражда у них, возникшая давно, обострилась в самом начале войны, когда Санни Фэрбразер был начальником оперотдела штаба в территориальной бригаде, где служил тогда Уидмерпул. Теперь, как помощник полковника Педлара, нашего начтыла, Уидмерпул ведает личным составом и «внутренним управлением и хозяйством» — и здесь Фэрбразер, видимо, уже не однажды чинил Уидмерпулу препоны, особенно в таких делах, как переводы из части в часть, направление на курсы и дисциплинарные взыскания. К примеру, Фэрбразер затруднил Уидмерпулу препирательство с военно-судебным ведомством. Есть много способов, какими корпусной или окружной коллега по должности может ставить палки в колеса дивизионному штабисту. Штаб округа находится в одном из армейских казарменных кварталов, в дальней части города, и я поэтому с Фэрбразером не встречался еще ни разу — иногда только, случается, он позвонит Уидмерпулу, а того нет в кабинете, и беру трубку я, — так что наше былое знакомство остается в забвении. Трудно сказать, насколько соответствуют истине слова Уидмерпула о Фэрбразере. В голосе Фэрбразера по телефону никогда не уловишь раздражения, каким бы ярым ни был спор о толковании того или иного приказа. Эта спокойная манера — характерная черта фэрбразеровской тактики. В общем же междоусобный счет побед у них примерно равный.
— Ладно, Санни, ладно, — поскрипывая зубами, бормочет Уидмерпул в случае поражения.
— На сей раз вышло, как желал Кеннет, — учтиво формулирует свое поражение Фэрбразер.
Что до моих собственных тревожных надежд и желаний, то хотя они теперь скромны донельзя, но все равно трудноосуществимы. Прежде всего я хотел бы расстаться с Уидмерпулом, в то же время, если это возможно, улучшив свои служебные обстоятельства. Однако месяцы идут, а избавления от должности чернорабочего при Уидмерпуле не видно, и тем более не пахнет повышением. В конце концов, говорю я себе, ты, как мольеровский Жорж Данден, сам того желал. Желал ты служить в армии, вот и служишь, лейтенантишка Данден. Ворчать нечего, ведь очень многие, кому сейчас хуже твоего, рады бы с тобой поменяться. Вспомни, что не так еще давно ты гордился своим проворством и удачей, добившись зачисления в строевики-офицеры в то время, когда столько твоих сверстников томилось в запасе… Но каждый человек волен смотреть на вещи сегодня так, завтра иначе. Нет, я, конечно, сознаю, что, возжаждав службы, пусть самой серенькой, в вооруженных силах, ведущих войну, я должен платить за это слабо-но-ощутимое удовольствие (раз мне давно за тридцать, а особых воинских способностей не обнаружено) — должен брать любую должность, какую дают. Утешение же если и может найтись, то во взглядах на солдатское «отрешение от мысли и дела», высказанных французским поэтом Виньи, — о взглядах этих поведал мне как-то в вагоне Дэвид Пеннистон.
Но пусть солдат и отрешается от самостоятельных мыслей и дел, однако никто еще не требовал, чтобы он отрешился от ворчания. Почему это я — один среди всех армейцев всего мира — не имею права думать, что армия должна бы дать мне службу интереснее, чин и оклад выше? Разве лишь потому, что неясно, каким путем это может осуществиться. Даже если Уидмерпул уйдет из штаба, чтобы заняться, по его выражению, «делами позначительней», то мои собственные дела не улучшатся, а почти определенно ухудшатся. Молодых офицеров прибывает все больше, и укомплектованному этой молодежью батальону уже не потребуются мои услуги в качестве взводного командира; роту мне тем более не дадут. Да и услуги эти мои в общем-то не столь уж ценны для батальона, совершенствующего боеспособность. Я готов сам это признать. А без причисления к лику спецслужб — без окончания, допустим, военно-разведывательных курсов — трудно рассчитывать на должность при нашем или другом штабе. Пока я здесь полезен Уидмерпулу, он меня ни на какие курсы не направит. Когда же перестану быть ему полезным, скажем, когда Уидмерпула призовут «дела позначительней», то буду, вероятнее всего, отослан в полковой ПУЦ (пехотно-учебный центр) — судьба малозавидная, чинов и славы не сулящая. Сам Уидмерпул, конечно, сознает все это. Как-то, расщедрясь, он нарисовал мне перспективу привлекательнее, чем лотерея пехотно-учебного центра, где не ты, а тебя самого тянут наудачу.
— Подначальных я не забываю, — сказал Уидмерпул в ходе перечисления своих достоинств. — Постараюсь вас устроить на приемлемую должность, когда сам шагну вверх. Полагаю, что ждать этого теперь недолго. Уж во всяком случае, пошлю вас на курсы, которые откроют вам дорогу к подходящему роду службы. Не беспокойтесь, дружище, за рамкой не останетесь.
Что ж, перспектива сносная и мною, кажется, заслуженная. «Рамка» — одно из любимых слов Уидмерпула. В первые мои штабные дни он употребил это немилосердно заезженное армейское словцо, вводя меня «в рамку», то есть в курс дела — давая беглые характеристики здешним штабистам. Начал он с самого генерал-майора Лиддамента.
— Эти его собаки на поводке и охотничий рожок, воткнутый в куртку, — все это чистой воды притворство, — сказал Уидмерпул. — Просто даже неприлично для генерала, я считаю. Тем не менее из пятнадцатитысячного состава дивизии я мог бы назвать еще лишь одного человека, способного ею командовать.
— Кто же он?
— Назвать его мешает мне скромность, — произнес Уидмерпул слегка шутливым тоном, но не ослабив, а усилив этим впечатление, что говорит он с полной убежденностью. Генерала он побаивается — частично из-за чудачеств Лиддамента, иногда и впрямь неизвинительных, частично же из-за склонности комдива к поддразниванию подчиненных офицеров, чего Уидмерпул не любит. Генерал, должно быть, ценит Уидмерпула как дельного и бесконечно усердного работника, хотя как человек Уидмерпул вызывает у него смех. Уидмерпул — отнюдь не единственная мишень генеральских шуточек. Генералов принято изображать тупицами, и вполне иногда обоснованно; но, как говаривал позднее Пеннистон, сама природа воинских обязанностей требует от военачальников самоуверенно-практического подхода, как раз и вызывающего часто обвинения в тупости. При таком подходе неизбежно выпячивается в генерале недостаток умственной гибкости — но и у людей, выдвинувшихся на мирном поприще, вряд ли эту гибкость встретишь чаще, особенно когда они выходят за пределы своей узкой компетенции. Я убедился потом, что у генерала Лиддамента начальственно-прагматическая ухватка хотя и главенствует, но смягчена незаурядной наблюдательностью. Он холостяк, всецело преданный своему делу; ему прочат большое будущее. В начале войны он был ранен, ведя в бой батальон, и, вероятно, только из-за этой раны его пока не ставят на фронтовой командный пост.
Животных Уидмерпул вообще не любит, но в присутствии генерала готов скрывать свою неприязнь к генеральским собакам, которые действительно способны раздражать, бегая по штабным коридорам и путаясь со своим спаренным поводком в ногах у офицеров и писарей. Когда рядом их хозяин, Уидмерпул не прочь даже подольститься к ним, сказать «гав-гав» и потрепать обеих с фальшивой ласковостью.
— Слава богу, генерал хоть не берет своих псин на полевые учения, — сказал мне Уидмерпул. — Хоть это приличие соблюдает. Полагаю, Хогборн-Джонсону они противны не меньше, чем мне. Кстати, с Хогборн-Джонсоном будьте осторожней. Субъект раздражительный, малосолидный, а работник не более чем средний, и никто его не любит — в том числе и генерал. Но я-то с Хогборн-Джонсоном умею обращаться.
Начштаба Хогборн-Джонсон, полковник с красными петлицами, в повседневной деловой текучке замещает генерала. Кадровый офицер, он был награжден в первую мировую Военным крестом; роста высокого, чуть ожирелый, с крючковатым носиком; губы надуты, углы рта опущены. Он несколько напоминает филина — сердитого, стареющего филина, который упустил из когтей полевую мышь и теперь высматривает другую мелкую добычу. Военный крест свидетельствует о его храбрости или по меньшей мере о длительном фронтовом стаже, делающем разговор о храбрости почти беспредметным. Уидмерпул не отрицал былых боевых качеств полковника.
— Но карьера у него не получилась, — сказал Уидмерпул. — Ранние надежды не оправдались. По крайней мере с его собственной точки зрения. В Сандхерстском училище был удостоен почетной сабли как лучший на курсе. А затем напорол где-то — в Палестине, что ли, — перед самой войной. Однако амбиции отнюдь не похоронены. Все еще думает, что получит дивизию. А по-моему, ждет его административный тупичок, и он спасибо скажет, если не уволят в отставку еще до окончания войны. Генерал избавится от него тут же, как только подвернется подходящий штабист.
— Штабистов хоть пруд пруди.
— Генерал почему-то не торопится с выбором. Хогборн-Джонсон склонен также хвастать тем, что служил в легкой пехоте. Правду говоря, я удивляюсь, как его терпели в приличном армейском полку. Хоть бы научили его там по телефону говорить с офицерами — не провозглашать, что «у телефона полковник Хогборн-Джонсон». Пусть Коксидж у нас, когда звонит младшему по рангу, то объявляет: «Говорит капитан Коксидж». Чего еще ожидать от Коксиджа. Но Хогборн-Джонсону так не пристало. Начальник нашей дивизионной артиллерии не титулует себя в трубку: «Бригадир Хоукинз», а говорит просто: «Хоукинз у телефона». Однако мне грех жаловаться. Я умею обращаться с Хогборн-Джонсоном, он у меня ручной. Это главное. А если он не научился до сих пор манерам, то уж и не научится.
Потом я убедился, что Хогборн-Джонсон охарактеризован верно. В армии малоуместны сложные характеристики. Офицер или солдат бывает толковый, усердный, подтянутый — или же увалень, лодырь, неряха. Его любят — или терпеть не могут. Армейский спектр оценок в самой своей основе прост и беден оттенками. И уже потому людей здесь делят на твердо установленные типы. Полковник Хогборн-Джонсон — один из таких традиционных армейских типов: брюзгливый и сварливый неудачник, приязнь к нему питает разве что Диплок, его главный делопроизводитель. В то же время хотя полковник может и сглупить, и затеять свару, но он не дурак. Как позже оказалось, Уидмерпул ошибался, считая, что Хогборн-Джонсон у него «ручной». В число изъянов Хогборн-Джонсона не входит полная умственная слепота — он довольно хорошо понял суть Уидмерпула и обнаружил это понимание во время их титанической схватки из-за Диплока, усугубленной обоюдными интригами вокруг кандидатур на пост командира дивизионного разведывательного батальона.
Разведбатальон тогда как раз формировался, и Хогборн-Джонсон сразу же проявил к нему особый, хотя и не вполне сочувственный, интерес.
— Разведбатовцы проводят те же операции, что мы, легкая пехтура, выполняли на своих двоих, — говорил он. — А им подавай целый парк бронетранспортеров и не жалей никаких расходов. Пустейшая шумиха поднята вокруг этого так называемого разведбатальона.
Разведывательный корпус, как со временем стали именовать эту разновидность войск, действительно был с самого начала яблоком раздора между армейскими властями. Одни мудрецы держались того же мнения, что и Хогборн-Джонсон; другие были мнения противоположного. Среди прочего спор шел о том, быть ли разведбатальонам (отчасти развившимся из сформированных ранее противотанковых рот), — быть ли им чем-то вроде прибежища для офицеров деловых, но почему-либо не совсем приемлемых в своем подразделении, или же, напротив, разведчасти должны стать армейской элитой, и зачислять туда надо отборнейших бойцов и командиров. Скажем, Янто Бриз перевелся из прежнего моего батальона в противотанковую роту после того, как погиб сержант Пендри (так и не выяснено, убит ли он или застрелился). Бриз был в ту ночь дежурным офицером, вот и вся его причастность, но тем не менее пришлось ему давать показания перед следственной комиссией, и он потом ушел из батальона, от неприятных воспоминаний. Офицер он хороший, хотя вида слегка затрапезного, и для противотанковой роты подошел вполне. Сторонникам же отборного разведкорпуса Бриз показался бы слишком непарадным офицером. Вот примерно о чем шли тут споры. Все это весьма привлекало Уидмерпула — с одной стороны, как дилетант-военный, он интересовался боевыми возможностями разведбатальонов, с другой же стороны, как профессиональный интриган, чуял здесь обширные возможности для личного вмешательства.
— Мне стало известно, что Хогборн-Джонсон ведет тут двойную игру, — сказал Уидмерпул. — Наш командир дивизии — большой энтузиаст разведбатальона. Командир же корпуса и командующий округом — совсем наоборот, и особо не спешат с формированием. Хогборн-Джонсон считает — и, по-моему, правильно считает, — что генерал Лиддамент собирается от него освободиться. Поэтому Хогборн-Джонсон всячески подмазывается к тем двум генералам. Поддерживает их политику — чтобы они потом ему помогли с устройством.
— Действует, как управитель неправедный.
— Какой управитель?
— В Евангелии есть такой. Дал должникам своего господина переписать расписки — убавил им долги, чтобы войти к ним в милость.
— Тут-то ничего неправедного нет, — возразил Уидмерпул, не любящий образных сравнений. — Хогборн-Джонсон, конечно, должен выполнять приказы своего командира дивизии. Я вовсе не говорю, что он не выполняет их, выходит за рамки субординации. А о разведчастях мнения могут быть разные, и кадровый офицер в чине полковника вполне может иметь свое мнение. Однако нашему генералу может не понравиться другое — а именно что Хогборн-Джонсон развил бурную деятельность, чтобы поставить на разведбатальон своего однополчанина.
— Откуда вам это известно?
— А я сам продвигаю кандидата.
— На должность командира разведбатальона?
— И, зондируя этот вопрос, я столкнулся с деятельностью Хогборн-Джонсона. Однако мы его обскачем.
Уидмерпул ухмыльнулся и покивал головой с видом лукаво-хитроумным.
— Кто же ваш кандидат?
— Он не из числа ваших знакомых. Превосходный офицер — Виктор Апджон. Знаю его по территориальной бригаде. Первоклассных качеств человек.
— Но они скорее назначат кавалериста, чем ваших с Хогборн-Джонсоном пехотных кандидатов.
— Назначат моего пехотинца — причем спасибо скажут.
— Но если генералу не понравится, что Хогборн-Джонсон за его спиной хочет распоряжаться назначениями в дивизии, то еще ведь меньше может ему понравиться ваше участие в этом.
— А он и знать не будет. И Хогборн-Джонсон не узнает. На Апджона попросту спустят сверху приказ. А до тех пор я готов честно потягаться с Хогборн-Джонсоном. В конце концов, если мне известен самый достойный кандидат в командиры разведчиков, то мой долг обеспечить ему этот пост.
Что ж, такая линия поведения не лишена резона. Если хочешь добиться своего — в армии ли, в гражданских ли делах, — то не слишком щепетильно держись правил: все великие военные карьеры, да и большинство гражданских, служат тому подтверждением. Но чего Уидмерпул, как оказалось после, не учел — это внезапного ухудшения своих взаимоотношений с Хогборн-Джонсоном. Недоучел отчасти потому, что служебно связан в основном со своим непосредственным начальником, полковником Педларом, и вероятность столкновений с другим, более взрывчатым, полковником обычно невелика. Уидмерпул, естественно, имеет служебные контакты с Хогборн-Джонсоном, но не такие повседневные и тесные, при которых Хогборн-Джонсон рано или поздно затеял бы конфликт в силу уже одной своей сварливости.
С полковником же Педларом, начальником тыла, проблем не возникало. Тоже кадровый офицер и тоже награжденный Военным крестом, он конфликтов из любви к самим конфликтам не затевает. Некоторая его служебная хмурость и жесткость вызывается не врожденной строптивостью, как у Хогборн-Джонсона, а, пожалуй, опасением, как бы от него не потребовали большего, чем он способен дать. Педлар словно бы сам удивлен, что дослужился до полковника; на бригадирский чин и на бригаду он не зарится — знает, во всяком случае, что не получит. Тугодумием он иногда раздражает своего подчиненного, Уидмерпула, хотя тугие умственные процессы Педлара и склонны завершаться благополучно. Если полковник Хогборн-Джонсон походит на филина, то полковник Педлар напоминает охотничью собаку — верную, крепкую телом, выносливую, готовую вцепиться по приказу в пса, вдвое превосходящего ее размерами, или же переплыть в паводок реку, если хозяин послал за подстреленной дичью, — но не одаренную особым чутьем и не всякий след способную взять.
Хогборн-Джонсон не напустился бы, вероятно, так на Уидмерпула, когда бы не случайное отсутствие Педлара в тот момент. Внезапная и бурная, вспышка была вызвана причиной куда менее значительной, чем тайное проталкивание своих людей на должность. Столь мелким и обыденным был этот инцидент, что я бы усомнился, как одна такая мелочь, без чего-то еще дополнительного и существенного, могла всерьез озлобить Уидмерпула, если бы сам не был свидетелем стычки благодаря тому редкостному обстоятельству, что обе части штаба, оперативная и тыловая, сошлись вместе на заключительной стадии трехдневных учений. Даже зная Уидмерпула столько лет, я недооценил, видимо, его громадного, почти патологического самолюбия.
В полевых условиях взвод обороны охраняет оперативную часть штаба. Так что, находясь при генерале, я на это время разлучаюсь с Уидмерпулом, чьи служебные обязанности связаны со вторым эшелоном штаба. В последний вечер трехдневных окружных учений боевой штаб расположился, как обычно, в небольшом доме на одной из ферм, разбросанных в угрюмой местности на северо-западном краешке Округа, как раз в левом верхнем углу оперативной карты. Пятьдесят шесть часов прошли весьма деятельно, и поспать нам почти не удалось, как я и предвидел накануне, в ночь налета. Однако к тому времени, когда генерал и штабисты сели ужинать, почувствовалось уже, что учебные действия в основном закончены и можно всем передохнуть. Сам генерал был в отличном настроении, поскольку бой с «синими» оказался, по существу, выигран.
Круг тусклого света от керосиновой лампы падал на обеденный стол, оставляя в густой тени почти всю зальцу, где ужинали, и придавая эффектность центральным фигурам трапезы. Группа ли это заговорщиков — скажем, участников Порохового заговора — с картинки, со старой гравюры? Похоже, но не очень. Однако же резкая светотень сообщает этому кружку голов таинственную, странную общность. Лица обоих полковников, совиное и песье, вносят намеренно гротескный, сюрреалистический оттенок — возможно, перед нами рисунок-сатира политического карикатуриста. Полковники сидят справа и слева от генерала Лиддамента, который восседает во главе стола, погруженный в задумчивость. У него худое, бритое, аскетическое лицо священника или учителя (ощутимо также сходство с сэром Магнусом Доннерсом) и кожа смугло-желтовата. Возможно, эта смуглота и прояснила образ — картинка сделалась понятна.
Передо мною — фараон, изваянный в нише храма, между двумя божествами-хранителями, ограждающими его от простых смертных. Теперь ясно. Полковник Хогборн-Джонсон и Педлар — древнеегипетские боги с головами животных. Хогборн-Джонсон — это, конечно, Гор; иногда ведь бог Утреннего Солнца изображается похожим не на сокола, а скорей на филина, причем сердитого. Песьеголовый же полковник Педлар, напротив, выглядит мягче, нежели обычно изображают Анубиса — этому богу с головой шакала подвластны были могилы и покойники, как раз и относящиеся к ведению начтыла. Другие фигуры фараонова окружения отожествить труднее. Под конец приходишь даже к выводу, что богов здесь больше нет, а всего лишь храмовые рабы. Например, Коксидж, начальник разведслужбы, с его бледным и рьяным лицом мальчугана (хотя Коксиджу уже под тридцать), — это, несомненно, нижайший из рабов, подметающий лишь внешнюю, менее священную территорию храма и выгребающий руками нечистоты из уборной жреца, если таковая предусмотрена. Рядом с Коксиджем сидит Грининг, адъютант генерала, — румянощекий, светловолосый, двадцатилетний, добродушный, — пожалуй, он иноплеменник, взятый в плен и предназначенный к закланию на алтаре этой богочеловеческой троицы. Прежде чем я смог продолжить классификацию, раздался голос полковника Педлара.
— Как прошел бой, Деррик? — спросил он.
До тех пор ужинали молча. Все устали. Притом, хотя полковники Хогборн-Джонсон и Педлар особой дружбы между собой не водят, они сходятся во мнении, что им не пристало точить лясы с подчиненными. За столом оба озабочены тем, как бы с ними не заговорили младшие по чину. Чтобы не дать к этому повода, не встретиться с кем-либо взглядом, они непрерывно смотрят через стол один на другого, точно жених с невестой, только что помолвленные и завороженные прелестью друг друга. Так они и глядели — полковник на полковника, — когда Педлар задал свой вопрос. Задал, разумеется, из простой вежливости, а не из пылкого интереса к тактическим сведениям, которыми и Педлар, и все остальные уже насытились по горло. Но полковник Хогборн-Джонсон счел нужным принять вопрос всерьез.
— Кровопролитно, Эрик, — ответил он. — Кровопролитно. Если интересуетесь, прочтите оперсводку.
— Я читал ее, Деррик.
Созвучие полковничьих имен всегда придает их диалогу некую эксцентричность.
— Перечитайте, Эрик, перечитайте. Уж будьте так добры. Там есть несколько пунктов, которые я вынесу потом на обсуждение.
— А где она, Деррик?
Полковник Педлар, видимо, затруднялся, не умел выразить словесно, что у него нет ни малейшей потребности и ни капли желания перечитывать оперативную сводку. А быть может, затронув тему, он считал себя обязанным ее продолжить.
— Коксидж вручит вам эту сводку, начертанную собственными его перстами. Разыщите-ка, Джек, оперсводку.
Под настроение — в частности, поддразнивая Уидмерпула — генерал склонен употреблять староанглийские обороты. Потому ли, что этот стиль речи ему также нравится, или, скорее, чтобы косвенно польстить генералу, Хогборн-Джонсон тоже щеголяет старинными речениями. Коксидж тут же вскочил, и, как всегда, на лице его изобразилось почтение к старшему чином. Глядя в такие минуты на Коксиджа, я вспоминаю шутливую фразу, услышанную от Одо Стивенса на Олдершотских курсах:
— С добрым утром, старшина, — вот вам воробышек для вашей кошки.
Коксидж постоянно, так сказать, занят добыванием воробышка для кошек — не старшинских, а штаб-офицерских. Подчиненным он грубит весьма банально, но в своем подобострастии перед вышестоящими бывает изобретателен до гениальности. У полковников и подполковников он на побегушках и выполняет эти побегушки с наслаждением; даже перед майорами он — само смирение и послушание. Он тщательно, почти научно, изучил вкусы Хогборн-Джонсона и Педлара, а уж генерала Лиддамента чуть ли не обожествляет. Так преклоняется он перед генералом, что даже слегка приглушает ту мальчишескую рьяность, с которой привык подхалимствовать, — как бы просит робко у генерала извинения за свою молодость и незрелость. Надо отдать справедливость Уидмерпулу — Коксиджа он презирает, а тот, низкопоклонствуя, прямо наслаждается этим презрением. Оба же полковника явно одобряют угодливость Коксиджа, им даже, видимо, приятна его преувеличенно «юная» манера. Надо также признать, что при всем том работник он толковый. Теперь он подскочил к Педлару со сводкой.
— Спасибо, Джек, — сказал Педлар. Уставился на сводку этим своим суровым бараньим взглядом, о котором часто упоминает, досадуя, Уидмерпул.
— Сведения мне уже знакомы, — сказал Педлар. — Все вроде бы в ажуре, Деррик. Положите на место, Джек.
— Рад, что и по-вашему все в ажуре, Эрик, — отозвался Хогборн-Джонсон, — ибо льщу себя надеждой, что штаб под моим началом неплохо справился с задачей.
Едковатость его тона должна была бы насторожить Педлара. Как обычно, Хогборн-Джонсон заключил свои слова характерным смешком: коротко шипнул левым углом рта — этим негромким шипом он подчеркивает уместность и остроумие своих высказываний. Когда настроен несердито, он всегда заканчивает речь таким смешком. Дело в том, что полковник Хогборн-Джонсон и не пытается скрывать свое чувство превосходства над собратом-офицером, который и должностью ниже, и мозгами жиже, и в полку служил не столь известном — и вдобавок не обладает знанием жизненной сферы, в которой блещут люди светские. Хогборн-Джонсон считает себя знатоком света и часто нацеливает стрелы своего интеллекта на медлительно соображающего Педлара, а тот, пытаясь состязаться на сей блистательной арене, совершает порой промахи. Так вышло и на этот раз. Обозрев оперсводку, Педлар вернул ее Коксиджу; Коксидж принял сводку с почтительным наклоненьем головы, как берут причастие или редчайшей святости реликвию. Сводка определенно укрепила Педлара в уверенности, что с учениями все обстоит уже в порядке. А в такие моменты уверенности Педлар как раз и склонен терять осторожность и шлепаться в лужу.
— Теперь, Деррик, когда труды наши подходят к концу, — сказал он, — не завершить ли нам ужин бокалом портвейна?
— Порт-вей-на, Эрик?
Тон переспроса был весьма многозначителен. В прежние времена мать Уидмерпула произносила, бывало, это слово, «портвейн», со сходной интонацией, но иной подоплекой — давая гостям понять, что портвейном здесь их будут баловать нечасто.
— Портвейна, Деррик.
— Не сегодня, Эрик. Портвейн вреден для печени. По крайней мере тот, которым потчует наш буфетчик. Я воздержусь от портвейна, Эрик, и вам советую.
— Воздержитесь?
— Воздержусь, Эрик.
— А я все же выпью рюмку, Деррик. Жаль, что не хотите составить компанию.
Полковник Педлар отдал соответствующее приказание. Полковник Хогборн-Джонсон неодобрительно покачал головой. Деньги он расходует экономно, говорят даже — скаредно. Принесли рюмку портвейна. Полковник Педлар — точно джентльмен с рекламы марочных портвейнов — поднял рюмку к лампе, повертел в пальцах против света.
— Мне перед войной рассказывал однополчанин, что дед завещал ему бочку портвейна ко дню совершеннолетия, — сказал Педлар.
Полковник Хогборн-Джонсон хмыкнул — что, мол, тут такого примечательного, в добропорядочном, мол, обществе иначе и не поступают, хотя, возможно, традиция эта малоизвестна в «тяжелой» пехоте, да еще в захудалом полку.
— Двенадцать дюжин бутылок, — мечтательно произнес полковник Педлар. — Неплохо укомплектовали погреб молодому человеку, которому исполнился двадцать один год.
Полковник Хогборн-Джонсон встрепенулся. Оскалил слегка зубы под светло-коричневой щетинкой усов, наморщил крючковатый носик.
— Двенадцать дюжин, Эрик?
— А что, Деррик? — встревожился Педлар, почувствовав, что слишком углубился в светские дебри и в очередной раз допустил какой-то ляпсус.
— Двенадцать дюжин? — повторил с нажимом Хогборн-Джонсон, словно сомневаясь, не ослышался ли.
— Двенадцать.
— Непопадание, Эрик. Далеко за рамкой мишени.
— Неужели, Деррик?
— Совершенно мимо цели, Эрик.
— Сколько же тогда бутылок в винной бочке? Я ведь не виноторговец.
— Не нужно быть виноторговцем, старина, чтобы знать емкость винной бочки. Это должно быть каждому известно. Виноторговля здесь ни при чем. Пятьдесят с лишним дюжин — вот какова вместимость винной бочки, Вы промахнулись. Абсолютно обсчитались. Угодили совсем не в тот квадрат карты. Попали пальцем в небо. Впросак попали. Опростоволосились.
— Пятьдесят с лишним дюжин?
— Так точно, Эрик.
— Выходит, я ошибся, Деррик.
— Еще бы, Эрик. Еще бы. Крупнейшим образом ошиблись.
— Я сокрушен, Деррик. Постараюсь исправиться.
— Постарайтесь, Эрик, постарайтесь, чтобы не уронить себя в наших глазах.
Генерал Лиддамент сидит, как бы не слыша их. Он словно погружен в каталептический сон или одурманен сильнодействующим наркотиком. После полковничьего диалога опять наступило молчание, одно из тех долгих молчаний, которые так характерны для офицерских столовых — для британских, во всяком случае, — когда все время, каждую минуту чувствуешь, что кто-то вот-вот разродится поразительной мыслью; но так и не рождается мысль почему-то и глохнет, не прозвучав, задушенная внутренним бессилием. Громко тикает на посудном шкафчике старый жестяной будильник, отсчитывая быстротекущие миги жизни. Полковник Педлар потягивает свой портвейн, но ошибка испортила ему все удовольствие. Коксидж ребром ладони тихонько, смиренно, манерно сметает крошки со скатерти в свою пустую тарелку, как бы показывая, что и за столом он неусыпно печется о вышестоящих, изо всех своих скромных сил стремится сделать обстановку чище и уютнее. Ранним утром сегодня на кухне я чуть не упал, наткнувшись в сумраке на Коксиджа — он сидел на корточках у огня и разогревал застывшее сливочное масло, чтобы генералу сподручней было мазать, когда он сойдет завтракать. Можно не сомневаться, что и во время всех этих молчаний, царящих за столом, Коксидж горячечно ломает себе голову, как бы оригинальней и ловчей лизнуть сапог начальства… Ужин кончен, ничего больше не подадут. Пора вставать из-за скучного стола.
— Разрешите, сэр, пойти взглянуть, как там взвод обороны?
Генерал Лиддамент будто не слышит. Точно обращаешься к одному из тел, лежащих на циновке в курильне опиума. Вот, сделав усилие, он очнулся наконец от своего оцепенелого самосозерцанья. Еще несколько секунд он приходит в себя, осмысливает мой вопрос. Отвечает — с почти библейской торжественностью.
— Идите, Дженкинс, идите. Боже упаси меня препятствовать моим офицерам в проявлении заботы о солдатах.
В комнату вошел сержант, доложил генералу:
— Нам только что радировали, сэр, — над городом опять вражеские самолеты.
— Что ж, действуйте, как предписано.
Сержант удалился. Я вышел за ним в узкий коридорчик, где на крючке висела моя сбруя. Надев пояс с подсумками, я направился во двор, к сеновалу. Там, на горе соломы, комфортно устроилась большая часть взвода; некоторые уже похрапывали. Старшина Хармер и сам собирался прилечь, сдав команду капралу Мэнтлу. Я проверил, как обстоит с часовыми. Все было в порядке.
— Сейчас сообщили, что опять они над городом, старшина.
— Снова, значит, налетели сволочи.
Хармер — человек солидных лет, с кустистыми бровями, крупнотелый, весьма неторопливый; он любитель поморализировать; мирная профессия его — мастер на сталелитейном заводе.
— Но раздетыми не застанут — сегодня мы наготове.
— Так и надо, сэр, быть наготове. Никогда ведь не знаешь, не тюкнет ли тебя.
— Это верно, — соглашаюсь я.
— Не знаешь, не знаешь. Бренная она, жизнь наша. Сегодня жив, а завтра тебя нет. В прошлом году легла моя жена в больницу. Иду туда, медсестру встречаю, спрашиваю, как прошла операция. Не отвечает, доктор, мол, с вами хочет говорить — и я уж понял о чем. А еще накануне вечером слышал в палате от жены: «Хочу себе зубы вставить новые». Не знаем ни дня, ни часа.
— Уж это так.
Более пространного ответа не нашлось у меня даже и в тот раз, когда я впервые услышал эту притчу о зубах.
— Посплю немного. Всё у нас в порядке; капрал Мэнтл подежурит.
— Спокойной ночи, старшина.
Капрал Мэнтл остался бодрствовать. Воспользовавшись тем, что мы наедине, он заговорил о своих усложнившихся делах. Полковник Хогборн-Джонсон решил всемерно препятствовать его производству в офицеры. Мэнтл — хороший капрал. Его не хотят отпускать. Более того, Хогборн-Джонсон планирует сделать его взводным сержантом, а при случае, быть может, и старшиной вместо Хармера, который уже немолод и энергией не брызжет, хотя и справляется с обязанностями. Уидмерпул, через которого идут эти назначения, относится к делу Мэнтла равнодушно. Он не мешает Хогборн-Джонсону проводить тормозящую тактику — частично из нежелания трений, частично же (как не устает сам Уидмерпул повторять) из тех резонных соображений, что армия не для создания удобств солдату предназначена, а для наиэффективнейшего и победоносного ведения войны.
— В настоящий момент есть множество курсантиков, обещающих стать хорошими офицерами, — сказал мне Уидмерпул. — Хорошие же капралы — всегда редкость. Ситуация легко может измениться. Если понесем крупные потери, то возникнет нехватка офицеров — хотя и хороших капралов тогда, несомненно, еще труднее будет найти. В конечном счете, разумеется, офицерский корпус количественно ограничен, ибо источником его служит немногочисленное меньшинство, обладающее нужными качествами, причем я отнюдь не хочу сказать, что этим источником непременно или главным образом является потомственное офицерство. Напротив.
— Мэнтл как раз и не принадлежит к потомственному, как вы говорите, офицерству. Его отец — владелец газетной лавки, а сам Мэнтл — мелкий служащий местной управы.
— И прекрасно, — ответил Уидмерпул. — И на здоровье. Мэнтл — парень неплохой. В то же время не вижу причин для особо срочного решения вопроса. Как вам уже сказано, я невысокого мнения о штабистских способностях Хогборн-Джонсона — в этом пункте я согласен с генералом, — но Хогборн-Джонсон имеет право, и притом полнейшее, тормозить производство Мэнтла, если считает, что уход капрала причинит ущерб работе штаба.
На том и застряло дело. Мы пространно обсудили его с Мэнтлом у сеновала. Когда я вернулся в дом, все уже, по-видимому, там легли — по крайней мере зальца опустела, хотя лампу еще не потушили. Но перенесли со стола на шкафчик, стоящий справа от камина. Я направился мимо камина к лестнице наверх — и тут увидел, что генерал Лиддамент еще не ушел к себе в спальню. Он сидел на кухонном стуле, положив ноги на другой стул, и читал синюю книжицу — судя по виду, карманное издание какого-то классика. Он поднял глаза на меня.
— Спокойной ночи, сэр.
— Ну, как взвод обороны?
— В порядке, сэр. Часовые на постах. Спать есть на чем — на сене.
— Отхожие места?
— Вырыты два ровика, сэр.
— С подветренной стороны?
— Оба с подветренной, сэр.
Генерал одобрительно кивнул. Он, конечно, прав, что напирает на санитарию. Очевидно, у него еще не кончилось необычно хорошее настроение. Сегодняшняя победа над «синими» его, несомненно, порадовала… Но тут он вдруг поднял свою книжку, высоко взмахнул ею над головой. Сейчас, кажется, швырнет ее в меня. Но он лишь помахал книжицей, так что замоталась в воздухе тесемочка-закладка.
— Вы любитель книг, не так ли?
— Да, сэр.
— Как относитесь к Троллопу?
— Не увлекает меня Троллоп, сэр.
Мне с генералами не приходилось обсуждать литературу — разве что с генералом Коньерсом когда-то; он намного старей Лиддамента, и его умственные интересы простираются от психоанализа до сравнительной истории религий, охватывая многое другое. Долгий бивуачный и житейский опыт привил Коньерсу спокойную терпимость к чужим взглядам, в том числе и к литературным. Генерал же Лиддамент, видимо, не отличается терпимостью к тем, кому не по душе его любимые писатели. Мой ответ раздражил его. Он оттолкнул ногами второй стул с такой силой, что тот с грохотом упал набок. Опустив ноги на пол, генерал сидя поворотился ко мне.
— Не увлекает вас Троллоп?
— Не увлекает, сэр.
Генерал явно не верит ушам. Нехорошо как получилось… Длинная пауза; он смотрит на меня, сверкая взглядом.
— Но почему же? — сурово спросил он наконец.
Я попытался объяснить. Из прошлого всплыли обрывки, лоскутки давно сделанных и забытых критических оценок, и я наспех сметал их вместе на живую нитку, прикрыл ими хоть как-то наготу своего ответа.
— …стиль… то и дело повторяемые вычурные обороты… психология часто неубедительна… иногда взаимоотношения даны попросту неправдиво… женские переживания описаны не так, как это в жизни… по существу, рассудочность преобладает у автора над сопереживанием… конечно, владеет огромным повествовательным даром… и композиционным… доходит во всем этом до гениальности… определенное чутье характера, пусть стилизованное… и, разумеется, картина эпохи…
— Ерунда, — сказал генерал Лиддамент.
Сказал весьма гневно. Хорошего настроения не осталось уже ни следа — и все из-за моих неосмотрительных слов. Умней было бы мне ограничиться чем-то уклончивым, а не высказывать свои литературные предубеждения. Чего доброго, еще посадит под арест за такие крамольные взгляды. Генерал молчит, задумался — над тем, возможно, на какой срок сажать. Затем он поднял стул, боком лежащий на полу. Аккуратно, тихо поставил на нужном расстоянии от своего стула, в нужную позицию. Опять водрузил ноги на сиденье. С глубоким вздохом откинулся на стуле, наклонив его назад с громким скрипом. Физическое это успокоение придало генералу и духовного спокойствия — совсем для меня неожиданно.
— Скажу только, что вы много теряете, — произнес он мягко.
— Мне часто говорят это, сэр.
— Кого же вы любите, если не Троллопа?
На минуту в голове моей образовалась пустота. Ни одного романиста не вспомню — ни хорошего, ни плохого — во всей мировой литературе. Ну кто же там? Медленно пришли на память несколько писателей, которыми восхищаюсь: Шодерло де Лакло… Лермонтов… Свево… Не звучат как-то эти имена. Чересчур негромки, разнородны. Надо бы назвать такого, чтобы не слишком отличался от Троллопа материалом и манерой письма и в то же время был бы многосторонней, шире по размаху — а не только больше мне по вкусу. И вспомнилась внезапно «Человеческая комедия».
— Люблю Бальзака, сэр.
— Бальзака! — прогремел генерал Лиддамент. Нельзя понять, угодил ли я ему до крайности или крайне возмутил таким ответом. Но что-то из двух этих крайностей, судя по бурной реакции. Генерал выпрямился, опустив на пол передние ножки стула. На минуту задумался. Опасаясь допроса с пристрастием, я спешно стал припоминать сюжеты читаных книг Бальзака — а прочел я их не так уж много из всего цикла. Но следующий же вопрос генерала увел разговор прочь от литературной критики.
— На французском читали?
— Да, сэр.
— И не спотыкались?
— Иногда, на технических детальных описаниях — скажем, как рентабельно вести провинциальную типографию на взятые в долг деньги или чем лучше крыть овчарню на зиму. Повествование же обычно понимаю довольно неплохо.
Генерал перестал уже слушать.
— А скучно вам, должно быть, тут на вашей должности, — сказал он с расстановкой, как высказывают вещь основательно обдуманную. Я онемел от удивления; он снова заговорил — отнюдь не о книгах и не о писателях.
— У вас когда очередной отпуск?
— Через неделю, сэр.
— Вот как?
Я назвал точную дату, недоумевая, что последует дальше.
— Через Лондон поедете?
— Да, сэр.
— И не прочь бы сменить должность?
— Да, сэр.
Никогда бы не подумал, что генерала Лиддамента способна интересовать индивидуальность штабистов — что он способен замечать их склонности. Определенно, для генерала наблюдательность необычайная. Причем поступает вразрез с уидмерпуловской доктриной, что «армия не для удобств солдату предназначена». Следующие слова генерала поразили меня еще сильнее.
— Большое от вас требуется с нами здесь терпение, — произнес он.
Опять я не нашелся, что ответить. К тому же он, кажется, подтрунивает надо мной. С одной стороны, явно трунит; с другой же, хочет что-то предложить мне. Что именно, тут же начало проясняться.
— Видите ли, — сказал он, — люди вроде вас могут быть полезнее на других местах.
— Да, сэр.
— Дело не в личных удобствах.
— Нет, сэр.
— Но мы в этом мире живем так недолго — и жаль, если не удается делать ту работу, для которой подходим.
Это уже ближе к взглядам Уидмерпула — хотя гораздо разумней подано; а слова о бренности жизни созвучны с воззреньями старшины Хармера.
— Аукнусь-ка я с Финном.
— Да, сэр.
— Слышали о Финне?
— Нет, сэр.
— Мы с ним служили вместе в конце той войны. Вообще-то он штатский, конечно, — до армии подвизался в Сити.
— Понятно, сэр.
Генерал произнес «в Сити», понизив голос — с тем оттеночком не то почтения, не то отвращения, с каким кадровые военные (даже таких экстраординарных качеств, как Лиддамент) отзываются о подобных таинственных, черномагических ремеслах.
— Но в армии проявил себя неплохо.
— Да, сэр.
— Отменно себя проявил.
— Да, сэр.
— Крест Виктории получил.
— Понятно, сэр.
— После войны ушел из Сити. Занялся парфюмерией — в Париже.
— Да, сэр.
— Преуспел в этом деле.
— Да, сэр.
— Теперь вернулся к нам — служит по ведомству Свободной Франции.
— Понятно, сэр.
— Я слышал, Финн ищет подходящих офицеров. Загляните-ка к нему во время отпуска. Передадите от меня привет. Когда вернемся на базу, Робин снабдит вас нужными координатами.
Робин — это Грининг, адъютант генерала.
— Мне сообщить об этом майору Уидмерпулу, сэр?
Генерал Лиддамент подумал. На миг мне показалось, что он вот-вот усмехнется. Но губы так и остались в загадочно-спокойном положении.
— Подержите пока что под спудом… под спудом… разумней будет подержать под спудом.
Не успел я поблагодарить, как дверь рывком открылась и вошел, почти вбежал бригадир Хоукинз, начальник дивизионной артиллерии. Высокий, худощавый, энергичный, — это его хвалил мне Уидмерпул за уменье говорить по телефону, недостающее Хогборн-Джонсону. Уидмерпул прав насчет Хоукинза. Стараниями Хоукинза столовая у артиллеристов — лучшая в дивизии; Хоукинз — один из немногих наших командиров, исполняющих свои обязанности с той «веселостью», какую, по словам Дикки Амфравилла, французский маршал Лиоте считал необходимейшим из качеств офицера. Вот уж чего нет у обоих полковников, Хогборн-Джонсона и Педлара. А у генерала Лиддамента веселость эта в некоем чудаковатом роде ощущается; говорят, Лиддамент с Хоукинзом — старые друзья.
— Рад, что вы не легли еще, сэр, — сказал Хоукинз. — Не стал бы беспокоить в этот поздний час, но пришло только что донесение, не терпящее отлагательств. Решил сам сообщить вам для ускорения дела. Мы полагали, «синие» окружены, а они переправляются через канал малыми группками.
Генерал Лиддамент опять толкнул от себя стул, послав его стоймя в глубину комнаты. Схватил планшет, лежащий рядом, отгреб рукою в сторону табак, трубку и прочее, очищая место на столе. Троллопа — я не разобрал на корешке название романа — он сунул в боковой карман куртки. Бригадир Хоукинз стал излагать обстановку. Я шевельнулся было уходить.
— Погодите… — крикнул генерал. Черкнул несколько строк на листке блокнота, направил на меня повелительно палец. — Разбудите Робина. Пусть сейчас же ко мне, оденется после. Подымите затем по тревоге взвод обороны — выступаем немедленно.
Я взбежал по лестнице к Гринингу. Он спал. Я тряс его, пока он не проснулся. К таким пробуждениям Грининг привык. Он вскочил, как будто даже с удовольствием обрывая сон, приходя снова в движение. Передав распоряженье генерала, я направился на сеновал будить людей. Взвод поднялся с куда меньшей охотой, чем Грининг, — с ворчанием и ропотом. А тут и генеральский приказ пришел, перебрасывающий оперативную часть штаба на новое место. Любит генерал Лиддамент эти переполохи — неожиданные происшествия, требующие немедленных действий. Возможно, и мое перемещение генерал затеял как этакую крохотную передислокацию.
— Ни в какую не дадут бойцу поспать, — сказал старшина Хармер, — но это мы уже, считай, на пути в казарму.
Просачивание «синих» удалось остановить прежде, чем истекли сроки маневров. Короче, победа осталась за нами. Уже под утро оперативному штабу снова приказано было двигаться — на этот раз к сборному пункту, откуда намечен возврат на базу. Так что вопреки обычаю первый эшелон штаба соединился со вторым — обе части дивизионного штаба сошлись в большом не то коровнике, не то амбаре, ожидая там команды на движение. И там-то произошел инцидент, коренным образом изменивший отношение Уидмерпула к Хогборн-Джонсону.
Возвратные маршруты наших грузовиков и джипов проходили по неширокой дороге, лежащей за вспаханным полем, за дождевой моросью. Но чуть раньше с базы сообщили, что шоссе повреждено ночным налетом. Полковник Педлар тут же отправился на место для внесения нужных перемен в маршруты. Оставайся Педлар в штабе, его присутствие, возможно (но отнюдь не обязательно), смягчило бы хогборн-джонсоновский наскок на Уидмерпула, происшедший перед самым нашим отправлением. Уидмерпул с двумя другими штабистами, в одной машине с которыми ездил, уже выходил из коровника, где мы торчали, сонные, зевающие, — как вдруг полковник Хогборн-Джонсон явился в проеме ворот. Его распирала ярость. Он и всегда сердит, но сейчас был рассержен особенно.
— Где помначтыла? — рявкнул он.
Уидмерпул выступил вперед с этим своим сосредоточенно-важным видом, который как-то оглупляет его внешне и зачастую лишь сильнее раздражает ведущих с ним дело.
— Я здесь, сэр.
Хогборн-Джонсон так и накинулся на него — казалось, он сейчас ударит Уидмерпула.
— Вы что это себе думаете? — рявкнул он опять.
— Сэр?
Уидмерпул никак не ожидал такого нападения. Еще только минуту назад он во всеуслышание похвалился успешным выполнением своей роли на учениях. Теперь он стоял и таращился на Хогборн-Джонсона, окончательно выводя полковника из себя.
— Маршруты движения! — орал Хогборн-Джонсон. — Это называется разработка маршрутов? Она что, не входит в ваши чертовы функции? Да знаете ли вы свои функции? Вы не способны организовать и девичью вылазку в прицерковный садик. Штабу дивизии предписано немедленно возвращаться на базу. Известно вам это?
— Конечно, сэр.
— Приказ на передвижение читали? Хоть его-то прочли вы?
— Разумеется, сэр.
— И установили нужный распорядок?
— Да, сэр.
— Тогда почему среднекалиберный артполк пересек нам только что путь следования? Но этого мало. Мне доложили сейчас, что батальон связи со всем своим техоборудованием задержан на той же дороге, у перекрестка полумилей дальше — там санитарная автоколонна, сделав петлю, выезжает на магистраль у них перед носом.
— Относительно пересечения маршрутов, сэр, я обговорил с начальником дивизионной полиции… — начал Уидмерпул.
— Я не желаю знать, с кем и что вы обговаривали, — чуть не взвизгнул от бешенства полковник. — Я желаю получить немедленное объяснение той дикой каши, которую вы сотворили по своей безрукости.
Если Уидмерпулу нельзя было упомянуть о соображениях, выдвинутых капитаном военной полиции Кифом, ответственным за регулировку движения, то как мог он дать ясную картину согласования маршрутов? Существуют, по мнению бригадира Хоукинза, две превосходные армейские фразы для отражения всех вопросов недовольного начальства: «Не знаю, сэр, но выясню», и вторая, еще более волшебная: «Офицер/солдат, ответственный за это, переведен в другую часть». Но обе эти всемирно-эффективные магические формулы на сей раз не годились — неприложимы были к данному безотлагательному делу. Однако Уидмерпул, как оказалось, и не нуждался в отговорках, пусть даже магически действенных. У него наготове был точный ответ. Пока полковник шумел и кипятился, он молча извлек из нагрудного кармана пухлый блокнотик. Раскрыл, бегло глянул на листок, опять уставил очки в Хогборн-Джонсона и тут же начал наизусть детальный перечень маршрутов одной воинской части за другой, по всему району действия дивизии.
— …Среднекалиберный артполк, выступив из… двигаясь по… должен уже достичь… фактически, сэр, уже двадцать минут назад должен был пройти это пересечение дорог… санитарная автоколонна… никак не должна впутаться в маршрут батальона связи… поскольку следует на базу по одной из дорог, идущих южнее магистрали и параллельных ей… сейчас я покажу на карте, сэр… единственное, что могло ей помешать там двигаться, — это какая-то, возможно, неувязка на узком железном мосту через канал. Этот мост предназначен не для тяжелого транспорта. Я немедленно пошлю мотоциклиста…
Подробности эти свидетельствовали о достойном похвалы знании транспортной обстановки. Уидмерпул еще многое перечислил в том же духе — видимо, держа в уме расклад движения всей дивизии, что весьма похвально для помнача. Это должно было бы убедить Хогборн-Джонсона, что в случившихся непорядках нельзя винить Уидмерпула — по крайней мере с ходу и сплеча. Однако полковнику Хогборн-Джонсону было не до резонов и разумных рассмотрений. И полковника можно понять. Если воинская колонна попала в дорожный затор, то философствовать некогда. Требуется действие, а не рассуждение. Действие это может лежать за гранью логики. Тому немало исторических примеров. И в этом оправдание полковничьей резкой методы, оправдать которую иначе было бы трудно.
— Вы создали позорный беспорядок, — сказал в ответ полковник. — Стыдитесь. Я знаю, в штабах приходится теперь мириться с нашествием дилетантов, почти лишенных опыта и начисто лишенных способности усвоить азбуку воинского дела. Но все равно, нельзя же докатиться до такого. Сейчас же ступайте разберитесь в происшедшем. И доложите мне об исполнении. Причем без проволочек.
Лицо Уидмерпула было темно-багровым. На Уидмерпула также тяжело было смотреть, как в тот давний день, когда Бадд шлепнул его с размаху между глаз перезрелым бананом. Или вспомнить тот — еще более знаменательный — эпизод на балу, когда Барбара Горинг высыпала ему сахар на голову. Оба раза на лице Уидмерпула тогда, под краской унижения, было мазохистское приятие обиды — «это рабское выражение», как заметил Питер Темплер по поводу случая с бананом, расквашенным на лбу. Но полковничью головомойку Уидмерпул принял совсем иначе. Возможно, просто потому, что Хогборн-Джонсон — недостаточно высокая персона в сравнении с Баддом (тогдашним капитаном школьной нашей футбольной команды); полковник в глазах Уидмерпула — фигура значения всего лишь местного и временного. Ведь у честолюбья Уидмерпулова замах до Армейского совета и еще дальше. А Барбара вызвала в нем ту любовную страсть, при которой мазохистская покорность объяснима. Все же стоит отметить эту разницу реакций Уидмерпула.
— Слушаю, сэр, — сказал он. Козырнул, повернулся четко на каблуках (чем не журнальный герой Битела?) и, тяжко топая, вышел из коровника. Осыпав градом упреков еще нескольких присутствующих — впрочем, градины были уже помельче, — полковник Хогборн-Джонсон отправился шуметь еще куда-то. Не без задержек, но «кашу» расхлебали. Вернулся связной-мотоциклист, посланный Уидмерпулом, и сообщил, что это одна из санитарных машин, забуксовав во взрытой танками грязи, засела задними колесами в глубокой выемке. Машину же аварийной техслужбы, выполнявшей в нескольких милях оттуда ремонт гусениц пехотного бронетранспортера, не пустили, как слишком тяжелую, на упомянутый Уидмерпулом железный мост. Так что пришлось аварийникам, посланным на ликвидацию пробки, сделать порядочный крюк. Пробка вызвала несколько других заминок движения. Когда мотоциклист прибыл на перекресток, затор был уже устранен. Винить тут никого особенно не приходилось, и менее других — Уидмерпула: это обычные издержки одновременного движения чуть ли не всех военных машин Округа по местности, где дорог мало и дороги эти плохи.
С другой же стороны, такая незаслуженная головомойка — вещь в армии самая естественная и повседневная. Впоследствии мне приходилось видеть, как генералы на внушительных постах получали жесточайшие, наигрубейшие разносы от еще более высокопоставленных генералов — и это в сфере, астрономически возвышенной над мирком Хогборн-Джонсона и Уидмерпула. Правда, полковник Хогборн-Джонсон переборщил в бурности обвинений, слишком уж облил Уидмерпула презрением, вышел из границ служебного выговора. К тому же Хогборн-Джонсон прежде, как правило, бывал вполне доволен Уидмерпулом — сам Уидмерпул не раз этим хвалился.
Так или иначе, Уидмерпул был крайне обозлен. Сравнительно мелкий этот инцидент задел его так же больно, как бывшего моего ротного командира — Роланда Гуоткина — задевали нагоняи батальонного начальства. Из полковничьего сторонника (хоть и насмешливо-снисходительного в частных отзывах) Уидмерпул превратился в его злейшего врага. А возможность мести представилась сразу же по возвращении с учений. Была Уидмерпулу поднесена, так сказать, на блюдечке. Связана была она, эта возможность, с мистером Диплоком, главным делопроизводителем полковника.
— Пусть Диплок старый шельмец, — отозвался о нем однажды сам полковник, — но дело свое может выполнять с закрытыми глазами.
Повторив потом эту фразу полковника, Уидмерпул позволил себе даже саркастическую остроту:
— Что шельмец и что с закрытыми глазами, всем нам известно. Но вот не закрываем ли мы сами глаза на его шельмовство. Диплок, я считаю, представляет одну из основных помех динамическому совершенствованию дивизии.
Мистер Диплок был призван в начале войны из запаса кадровых войск. Хотя он уорент-офицер, ему платят жалованье выше лейтенантского, форма у него из офицерского сукна (хотя с сержантским воротом) и полуботинки вместо грубых ботинок. Его шерстистые иссера-седые волосы, коренастенькое тельце и вечно занятой вид придают ему сходство с деловитым гномом, взятым в помощь войску и злорадно гадящим людскому племени — всячески запутывающим любое идущее через Диплока дело. Диплок наглухо одет панцирем армейской косной канцелярщины. Баркер-Шоу, начальник полевой службы безопасности (а в миру, по словам Битела, университетский профессор), как-то воскликнул возмущенно, что дай лишь Диплоку образование, и он смог бы потягаться в крючкотворстве со всем государственным чиновным аппаратом. Он всех бы их заткнул за пояс — и порознь, и вместе взятых — в педантичном соблюдении регламента ради регламента, в ущерб требованиям жизни. На подобную критику у Диплока неизменный ответ — что иначе, мол, эти дела не делаются. Заполнение бланков и форм, весь процесс документации как бы заменяет ему религию. В хитростях армейского делопроизводства он искушен настолько, что может сорвать или по меньшей мере до бесконечности тянуть почти всякое дело, неугодное ему или его дражайшему начальнику — то есть в данном случае Хогборн-Джонсону; и в то же время если надо провести что-либо административно-необычное, то Диплок всегда берется провести. Такая уверенность в себе, в общем-то обоснованная, является, пожалуй, главной причиной приязни Хогборн-Джонсона к своему делопроизводителю. Другая причина заключается в подчеркнутом почтении, которым Диплок платит полковнику, — подчеркиваемом гораздо тоньше и умнее, чем это делает перед начальством Коксидж. Проволочки Диплока всегда раздражают Уидмерпула, хотя и сам Уидмерпул порядочный формалист.
— Я напрямик сегодня утром сказал Хогборн-Джонсону, что оперативности не жди, пока у него ведет дела эта старая баба. Знаете, что полковник мне ответил?
Хотя Уидмерпул гордится пониманием армейской жизни, он так и не смог совершенно избавиться от штатского взгляда на вещи — что будто бы начальство тебе платит за твои мнения и советы как специалиста и советы эти надо давать в самой прямой и убедительной форме. Он так полностью и не усвоил армейскую традицию, по которой подчиненный держится тише воды, ниже травы, особенно при выражении спорных мнений.
— Что же он ответил?
— Что старых баб Военной медалью не награждают.
— Это как сказать. Бывают старые бабы крепкие, как дуб.
— Я возразил со всей почтительностью, что Диплок получил свою медаль весьма давно, — продолжал Уидмерпул, игнорируя мой шутливый тон. — И что я имею в виду его нынешнюю возню с постановлениями и указаниями и всевозможными иными бумажками — особенно нетерпимую, когда дело спешное. Но Хогборн-Джонсон только издал свой шипящий смешок. Видимо, решил, что Диплок меня в чем-то щелкнул по носу.
Легкое это препирательство произошло еще до полковничьего грозного разноса и свидетельствовало не только о неискоренимо штатских взглядах Уидмерпула на свои обязанности, но и о непонимании кое-каких очевидных вещей. Даже в гражданской жизни была бы ошибкой лобовая атака столь прочных и тесных деловых отношений, какими привязал к себе Диплок полковника. Прямым наскоком их не разорвать. Но, с другой стороны, тот факт, что Уидмерпул прямо критиковал Диплока перед полковником, сделал позднее невозможным обвинение, будто Уидмерпул, нападая на Диплока, косвенно и коварно метит в Хогборн-Джонсона. Уидмерпул еще прежде решил, что Диплок не удовлетворяет требованиям должности. Конечно, и насолить полковнику было приятно теперь, но затеял это Уидмерпул не из одних лишь злобных побуждений. Раз уж возникли подозрения насчет Диплока, то сама служба обязывала Уидмерпула их расследовать.
Казалось невероятным, что могут возникнуть — пусть самые легчайшие — подозрения в деловой нечистоплотности Диплока, а тем более в присвоении казенных средств. И однако, именно этим запахло. Быть может, чрезмерно щепетильное соблюдение Диплоком буквы канцелярского закона потребовало, так сказать, отдушины — нещепетильности в ином отношении. Генерал Коньерс любил, бывало, толковать о психологической компенсации такого рода. Как бы то ни было, история началась вот с чего. Однажды, вскоре после трехдневных учений, Уидмерпул сказал мне, что недоволен финансовым учетом в штабной сержантской столовой.
— Что-то тут не так, — сказал Уидмерпул. — И чувствуется за всем этим Диплок. Сколько раз я велел казначеям учитывать вино в буфете, а не в кладовой. Но они словно никак понять не могут. А Диплок, по-моему, не хочет понять.
Недели шли, а сомнения не рассеивались. Вскоре исчезли небольшие суммы из нескольких денежных ящиков.
— Я велел привинтить теперь ящики к полу, — сказал Уидмерпул. — Чтобы по крайней мере они оставались на месте. Диплок затеял было волокиту, но я настоял.
— Вы сообщили начальству об этих пропажах?
— Педлару я сказал, но он не разделяет моих подозрений; а с Хогборн-Джонсоном я теперь как можно меньше контактирую. Я отлично понимаю, что поддержки у него не найду. Если мои догадки оправдаются, это уж действительно будет ему щелчок по носу.
Затем обнаружилось, что не только с учетом в сержантской столовой, но и с деньгами, выдаваемыми взамен натурального довольствия, дело вроде бы не совсем чисто.
— Помяните мое слово, — сказал Уидмерпул. — Все это звенья одной цепи. Мне бы только улики собрать. Начнем с того, что завтра вы съездите в батальон продснабжения и, возьмете у них кое-какие сведения. Мне нужны факты и цифры. А раз уж поедете в ту сторону, то кстати разъясните и в других транспортных подразделениях инструкцию, которая вот тут для них составлена. Из батальона заезжайте в роты снабжения боеприпасами и горючим. Возьмите с собой сухой паек, поскольку подразделения эти неблизко друг от друга и на сбор сведений тоже уйдет время. Давать их будут, возможно, со скрипом. Начальник транспортной службы со мной в конфликте после случая с грузовиками, которые я, собственно, использовал тогда на вполне законном основании.
Уидмерпул успел уже побывать в конфликте с большинством офицеров дивизионного штаба. Ссора из-за грузовиков имела корень в том, что Уидмерпул и подполковник, ведающий дивизионным транспортом снабжения, по-разному толковали директиву об их использовании. Спор этот шел пока вничью, подобно конфликту с Санни Фэрбразером. Ершистость Уидмерпула не так уж портит ему репутацию, как могло бы показаться. Его считают дельным офицером скорее как раз потому, что с ним трудно ладить, а не по той, гораздо более веской, причине, что он допоздна корпит ежевечерне над серой, будничной работой у себя в кабинете. В практических делах слыть хорошим парнем — не всегда преимущество. Иногда это даже помеха. Жесткость Уидмерпула в служебных взаимоотношениях, зачастую доходящая до прямого нежелания идти навстречу, в конечном счете не вредит ему. Но история с Диплоком, пожалуй, иного разряда.
Из расспросов в батальоне продснабжения выяснилось, что дело впрямь нечисто, как и предполагал Уидмерпул. Сведения мне давали с неохотой — тут явно сказалась вражда Уидмерпула с их начальником. Уезжая от снабженцев, я уже яснее понимал, почему мой отец так критически отнесся когда-то к переходу дяди Джайлза в дивизионную службу снабжения и транспорта. Но все же мне удалось добыть некоторые существенные детали. Не подлежало теперь сомнению, что в сержантской столовой учет ведется спустя рукава — это в лучшем случае; а возможно, там творится что-то посерьезнее, и замешан в этом Диплок. Под вечер я привез требуемые материалы Уидмерпулу.
— Так я и думал, — сказал он. — Сейчас же иду доложить начальству.
У полковника Педлара Уидмерпул пробыл долго. Мне он не велел уходить — на случай, если понадобится еще и другая собранная информация. Когда он вернулся, я по лицу его увидел, что результатом своего доклада он недоволен.
— Придется копнуть поглубже, — сказал он. — Педлар все не верит, что происходят вещи криминальные. И зря не верит. Ну-ка, послушаю еще раз ваши сведения.
Вечером я отлучился к себе в корпус «Эф» пообедать. Переодевшись, присоединился внизу к остальным нашим, входящим в столовую.
— Веселей, Дженкинс, — встретил меня Бигз, — а то не достанется вам вкусных хрящиков, что Соупи полдня вылавливал для нас из помойных ведер. Хватает у человека нахальства потчевать людей таким добром.
Бигз сегодня в шумливом настроении. Когда Бигз весел — что бывает у него нечасто, — он любит шумно валять дурака. Обычно это выражается в шуточном задиранье Соупера, ведающего дивизионными пищеблоками. Соупер — тоже капитан с ленточками наград за первую мировую, это бровастый коротышка с бегающим взглядом глубоко посаженных глаз, с выгнутыми колесом ногами, и обезьяньей своей внешностью он смахивает на эстрадного комика. В мирной жизни он заведует снабжением цепи провинциальных ресторанов, а сейчас всецело погружен в свои дивизионные обязанности, и я ни разу от него не слышал ничего, что хоть сколько-нибудь соответствовало бы его многообещающе-балаганной наружности, даже шутки ни одной не слышал. В неслужебные часы Соупер редко о чем говорит, кроме как о жалованье и довольствии. Застольные взаимоотношения у Бигза с Соупером примерно такие же, как у полковника Хогборн-Джонсона с полковником Педларом, — пусть на уровне пониже, на капитанском, то есть они так же действуют друг другу на нервы, но и так же ощутима у них ветеранская грубоватая спайка, дополнительно скрепленная тыловой природой их должностей (так что обоим капитанам приходится блюсти свое достоинство перед штабистами оперативной части). Однако у этих капитанских взаимоотношений одно важное отличие от тех полковничьих: хотя задиристый и резкий Бигз является, так сказать, стороной нападающей (подобно тому как Хогборн-Джонсон «нападает» на Педлара), но именно Соупер играет перед Бигзом роль человека, искушенного и умудренного в светской жизни. К примеру, Бигз, хоть и неохотно, признает авторитет Соупера в делах и тонкостях кухни — пусть в данное время всего лишь армейской кухни.
— Ну, как меню сегодня, Соупи? — спросил Бигз и рыгнул, усаживаясь. — Хотелось бы узнать, когда вы собираетесь поразнообразить его приличным бифштексом.
Соупер без интереса выслушал вопрос — да и то сказать, вопрос этот ответа вряд ли требовал. Соупер был занят тем, что сковыривал ногтем с вилки присохший кусочек гарнира.
— Хотелось бы узнать вам, — вяло отозвался он и, обращаясь ко всем сидящим, прибавил: — А допустим, я пожалуюсь на плохое мытье посуды. Мы просто услышим в ответ, что воды не хватает.
При налете, которому подвергся город, пока мы были на окружных учениях, повредило одну из линий водопровода, так что в нашей столовой нехватка воды, и это служит у них теперь универсальной отговоркой.
— А вы как, доктор? — повернулся Бигз в другую сторону. — Не отказались бы умять сочный ростбиф с капелькой крови на срезе? Я-то не отказался бы. Слюнки текут при одной только мысли. Так бы и стрескал.
Костлявый, хмурый, угрюмый Макфи — помначмедслужбы дивизии, кадровый майор, до войны трубивший в Индии, — за столом, да и вообще, неразговорчив. Взглянув на Бигза с каким-то отвращением, он промолчал, только подергал слегка головой и снова стал перелистывать напечатанный на машинке отчет. Не откликнулись и остальные двое-трое сотрапезников.
— Да ну, док, бросьте вы хоть за столом свою статистику венерических болезней, — продолжал Бигз, перебравший, видимо, пива. — Чертовски в животе сосет. Пустота как в барабане.
Он затопотал ногами по голым доскам пола, загрохал кулаками по столу.
— Веселей там, подавальщик! — заорал он. — Сколько еще ждать эту черепаху божью!
— Мне бы завтрашним ночным дежурством поменяться, — сказал Соупер. — Не желаете, Дженкинс?
— Я дежурю в пятницу.
— Меня это устроит.
— А расписание дежурств не сменят снова?
— Если сменят, все равно отдежурю за вас.
— Тогда ладно.
Соупер раз уже поймал меня вот так — воспользовавшись переменой расписания, не стал за меня потом дежурить. Он в этих делах ловок. Вторично попасться на тот же прием не хотелось. Бигз перестал тарабанить по столу.
— Весь день не мог добиться в штабе машины, — сказал он. — Вот возьму и подам рапорт Педлару на это безобразие.
— Много будет вам пользы от рапорта, — сказал Соупер.
Удовлетворившись состоянием вилки, он положил ее рядом с тарелкой. Занялся очисткой ложки.
— На будущей неделе встреча по боксу, и возни с ней дьяволова куча, — сказал Бигз. — Мне бы вашу легкую жизнь, Соупи, старый вы сластена. Разъезжаете себе по частям и дегустируете пироги с десертами. Если эта треклятая говядина такая же будет сегодня жесткая, как вчера, то несдобровать вам, Соупи. Ну и денек сегодня. Педлар знай долбит о боксерской встрече, а Хогборн-Джонсон холку мылит из-за вороха новых учебных брошюрок, которых я в глаза не видел. Уж я и сейф запер; сейчас, думаю, хоть выпью кружку — а он тут как тут, звонит по телефону. Осточертело мне, скажу вам. Ходил сегодня к Бителу, начальнику прачечной. Субъект из самых странных. Хлопнули с ним тем не менее. Он хлещет портер будь здоров. Ходил к нему по делу — там у него один рядовой занимался раньше боксом. Можно бы его выставить от штаба, если вес подойдет. У нас есть шанс выиграть встречу. Я бы умилостивил этим Хогборн-Джонсона. Лучший во втором полусреднем боксер Округа попал под бомбу позавчера ночью, когда угодило в казарму. Так что шанс у нас есть.
Солдат-подавальщик принес, поставил перед нами тарелки с мясом.
— Картофель, сэр?
Я отвлекся — замечтался о бутылке вина, пусть самого терпкого, самого кислого. Подавальщик протягивал мне блюдо с вареным картофелем. Я взял картофелину, поднял на него глаза невольно. Голос его, хоть и негромкий, проник сквозь винные мои мечты и сквозь назойливое гуденье разговорившегося Бигза. Я скользнул взглядом по лицу солдата, взял еще картофелину, чувствуя какую-то смутную неловкость. Солдат был длинен, худ, моего примерно возраста, с бледным, испитым лицом; лоб высокий, с залысинами, волосы темные, слегка седеющие. В воспаленных, с синеватыми веками, глазах блеск — но нездоровый, чахлый блеск, и солдатский воротник хомутом болтается на тонкой, длинной шее. Я положил ложку на блюдо, по-прежнему с чувством беспокоящей неловкости. Подавальщик поднес блюдо Бигзу; тот взял четыре картофелины, осмотрев изучающе каждую и скатив их одну за другой к себе на тарелку, причем на скатерть полетели брызги соуса. Подавальщик перешел к Макфи; я все глядел на этого солдата.
— Опять картошка несъедобная, — сказал Бигз. — Твердая как камень. Попросту недоварена. Вот и весь секрет. Эй, подавальщик, поклонитесь от меня шеф-повару и передайте, что он не смыслит в готовке ни уха ни рыла.
— Передам, сэр.
— И пусть эти картошины засунет себе в зад.
— Слушаю, сэр.
— Именно так и передайте.
— Передам, сэр.
— Куда пусть засунет картошины?
— В зад себе, сэр.
— Чешите, выполняйте.
Насчет картошки я полностью согласен с Бигзом. Но мне было не до кулинарных соображений: я утвердился только что во впечатлении тревожном, даже ужасающем. Да, сомнений больше нет. Предположение — мелькнувшее, затем отброшенное как полностью невероятное — оказалось верным. Подавальщик — Стрингам, мой давний друг и однокашник. Он повернулся идти в кухню, но тут его остановил Соупер.
— Секундочку, — сказал Соупер. — Кто накрывал на стол?
— Накрывал я, сэр.
— А где соль?
— Сейчас принесу, сэр.
— Почему не поставили сразу?
— Забыл, к сожалению, сэр.
— Впредь не забывайте.
— Постараюсь, сэр.
— Я не «стараться» велел. Я велел впредь не забывать.
— Не забуду, сэр.
— А что, разве в отеле «Риц» не ставят на стол солонку с перечницей? — спросил Бигз. — Там что, персонально каждому приносят соль и перец?
— Насколько помню, сэр, не соль и перец, а горчицу — французскую, английскую или, возможно, иную, менее известную разновидность, — сказал Стрингам. — Но соль и перец индивидуализировать — тоже хорошая мысль.
Он ушел на кухню — за солью и чтобы передать повару мнение Бигза. Соупер повернулся к Бигзу. Его явно обрадовала возможность осадить штабного спорторганизатора.
— Не выставляйте своего невежества, Бигги, — сказал он. — Раздача соли в «Рице». Еще что! Этак вы в «Савой» вопретесь, чего доброго, за тарелкой рыбной жарехи и стакашком чаю.
— И поэтому нам здесь без соли сидеть, да? — огрызнулся Бигз воинственно. Он на этот раз не расположен был покорно слушать наставления Соупера даже в деле столь тому знакомом, как ресторанное.
— А подавальщик явно не того, — продолжал Бигз. — Не все дома у парня. Видно же. Слышали его слова? И этот рафинированный голосок. Зачем здесь этот тип? Что такое с Роббинзом случилось? Роббинз видом не блещет, но хоть солонку на стол ставит.
— У Роббинза грыжа, лег в госпиталь, — сказал Соупер. — Этот прислан взамен. И по-моему, трудно подавать хуже Роббинза.
— Этому тоже прямая дорога в госпиталь, — сказал Бигз. — Я их со взгляда определяю, без ошибки. На кой нам эти психи, даже и в столовой. Нам нужны парни, годные к чему-то. Господи, ну и армия.
— Найти приличного подавальщика — всегда проблема, — сказал Соупер. — Перебирать не приходится. Берешь, кого дают.
— Не по нутру мне тип этот, — сказал Бигз. — В тоску вгоняет его дохлая физиономия. Смотреть тошно. Пьянчуга, должно быть. Вот и весь его секрет. Эту братию узнать нетрудно.
Сжав губы — образовав ими резиновый тугой клапан, — Бигз неожиданно выстрелил кусочком вареного жира себе в тарелку, причем попал точно на краешек, за несъеденную картошку. Меткость выказал в своем роде первоклассную.
— Когда он прибыл, новый подавальщик? — спросил я сдержанно. Распространяться здесь о нашей со Стрингамом дружбе совершенно незачем.
— Заступил днем сегодня, — сказал Соупер.
— Я его и раньше у нас видел, — сказал Бигз.
— Где, в штабе?
— Присылали их как-то, рабочую команду — ровнять ринг, — пояснил Бигз. — А туда же, благородного из себя корчит. «Индивидуализировать». Надо сбить с него спесь, я считаю. Потому я и закинул насчет «Рица». Он там не чаще моего бывал.
Соупер ответил не сразу. Он вдумчиво смотрел на выплюнутый Бигзом комок — то ли осуждая застольную невоспитанность Бигза, то ли оценивая — по долгу службы и профессии — потерянную зря калорийность этого кусочка, столь существенную в военное время. Макфи в свою очередь сурово покосился на Бигза и зашуршал осуждающе своим отчетом, прислоняя к графину с водой машинописные листы, чтобы удобней было вникать за едой в их содержание.
— Как подавальщик он сойдет, надо лишь держать его в струне, — сказал Соупер наконец. — Вечно вы ворчите, Бигги. То одно вам не так, то другое. А помолчать нельзя бы?
— Как же тут не ворчать, в вашей паршивой столовой? — возразил Бигз; рот его набит мясом и капустой, но воинственность еще не угасла. — Эту капусту, как всегда, тушили в мартышкиной поперченной моче.
Вернулся с солью Стрингам. Обед продолжался в обычном духе. Как ни плохо он приготовлен, но еда всегда успокаивает Бигза, и брюзжанье его стихло понемногу. Один раз я встретился взглядом со Стрингамом, и мне показалось, что он чуть улыбнулся — как бы про себя. Разговоров за столом почти уж не велось. Кончили есть, прошли в вестибюль. Возвращаясь уже в штаб, я видел, как Стрингам вышел с черного хода, из кухни. Вместе с ним шагал приземистый смуглый капрал — очевидно, повар, так резко раскритикованный Бигзом. В штабе Уидмерпул опять сидел у себя за столом, просматривая кипу бумаг. Я сообщил ему о появлении Стрингама. Он слушал — с нарастающим раздражением и беспокойством.
— С чего это Стрингам возник здесь у нас?
— Не имею понятия.
— Если с ним какая-нибудь история выйдет, можем вполне оказаться в неловком положении.
— Зачем же ему попадать в историю? А неловко мне уже и сейчас — смотреть, как он меня обслуживает с подносом.
— В школе Стрингам отличался плохим поведением, — сказал Уидмерпул. — Да вы помните. Вы его знали поближе, чем я. Он ведь с молодых лет пил. Мне вспоминается по крайней мере один весьма неприглядный эпизод, когда мне самому пришлось отвести его пьяного в спальню.
— Я вел его вместе с вами. Но я слышал, он теперь излечился.
— С алкоголиками никогда наверняка не знаешь.
— А нельзя ли подыскать ему работу получше?
— Но подавальщик — одна из лучших армейских должностей, — возразил Уидмерпул сердито. — Немногим только хуже капрала санслужбы. В этом отношении жаловаться ему абсолютно не на что.
— Он и не жалуется, насколько мне известно. Я лишь в том смысле, что помочь бы ему как-то…
— Как именно?
— Не знаю еще. Что-то можно придумать, наверно.
— Мне всегда внушали, и вполне резонно, что в армии, да и вне армии, было бы крупной ошибкой позволять, чтобы личная пристрастность к тому или другому индивидууму влияла на служебное его положение. Говоря о капрале Мэнтле, я уже подчеркивал вам это. Заниматься своими делами и не вмешиваться в чужие — вот золотое правило для штабного офицера.
— Но ведь и вы сами вмешиваетесь в вопрос, кому командовать разведбатальоном.
— Это материя иная, — сказал Уидмерпул. — В определенном смысле назначение комбата — именно мое дело, хоть вам того и не понять, возможно. Суть же проблемы вот в чем. С какой стати должны Стрингаму предоставляться льготы потому лишь, что вы и я учились с ним в одной школе? Именно на это жалуется народ — и с полным основанием. Вам небезызвестно, что такой взгляд на вещи — будто кое-кто имеет право на привилегированную жизнь, — что это вызывает большую враждебность среди менее счастливо рожденных. Война же дает каждому прекрасную возможность найти свой должный уровень. Я — майор; вы — второй лейтенант; Стрингам — рядовой. Не сомневаюсь, что меня и вас повысят. Вы-то так или иначе получите вторую звездочку автоматически по истечении полутора лет офицерской службы, и ждать вам осталось, полагаю, не столь уж долго. О себе же предположу с уверенностью, что вскоре перестану быть майором. А насчет Стрингама я не столь уверен. Теперь он рядовой, и рядовым, думаю, останется.
— Тем более стоит поискать для него подходящее место. Не так уж весело утром и вечером разносить тарелки.
— Мы не для веселья взяты в армию, Николас, — одернул меня Уидмерпул. И я замолчал. Ночью в постели, однако, я думал о Стрингаме, о его появлении здесь. Мы не видались уже много лет; в последний раз встретились на званом вечере, на котором его мать потчевала гостей симфонией Морланда; и там-то началось у Морланда увлечение Присиллой, сестрой моей жены. А о Присилле снова говорят. Ходят слухи, что она, разлученная со взятым на войну мужем, Чипсом Лавеллом, ведет себя не очень-то благоразумно. Ее будто бы часто видят с летчиком-истребителем, а по другой версии — с «командосом», как называют теперь десантников. Но это между прочим. О Стрингаме же последняя весть была от его сестры, Флавии Уайзбайт, — по ее словам, он вылечился от алкоголизма и служит в армии. Служит-то уж точно. Дай бог, чтобы и слова об излечении оказались верными. А о нашем с ним старом знакомстве определенно лучше будет помолчать. Сходного мнения оказался и Уидмерпул, когда на следующий день сам заговорил о Стрингаме. Видимо, он тоже думал ночью над этим предметом.
— Значит, считаете, Стрингаму надо подыскать что-нибудь иное? — спросил он ближе к вечеру.
— Да.
— Надо будет подумать, — сказал он уже без вчерашней раздражительности. — А тем временем нам требуется выполнять свои прямые должностные обязанности и отвлечься от всяких там тарелок. Ступайте-ка выясните у начальника военной полиции, начал ли он расследование махинаций Диплока. Да поживей. Мы не можем тратить дни на разговоры о Стрингаме.
В течение последующих дней никаких историй со Стрингамом не приключалось. Справлялся со своим официантским делом он в общем неплохо — и, уж конечно, лучше Роббинза; обслуживал меня без улыбки, иногда только приподымая брови. Так почему-то складывались обстоятельства, что поговорить нам с ним не удавалось. Я уж думал, что до отпуска так и не представится возможность для разговора. Но как-то вечером, возвращаясь из штаба домой, я увидел в сумерках Стрингама, идущего навстречу. Он козырнул, глядя прямо перед собой, и хотел пройти мимо, но я протянул руку.
— Чарлз.
— Здравствуй, Ник.
— Просто поразительно.
— Что?
— Твое явление здесь.
— А что в нем поразительного?
— Давай свернем с дороги.
— Изволь.
Мы свернули в узкий проход, ведущий к фабричным или конторским зданиям, уже запертым на ночь.
— Ну, что ты, как ты, Чарлз?
— Как видишь, служу в подавальщиках. Всегда хотел изведать, что за штука быть официантом. Теперь ведаю наиточнейше.
— Но как это все случилось?
— А как все случается в армии?
— Да в армии-то ты давно?
— С незапамятных времен — с самого старта этой столетней войны. Зачислился я в доблестную службу технического и вещевого снабжения; послужив у них на складе, перевелся кое-как в пехоту и был послан в эту меланхолическую дыру. Знаешь ведь, как солдатом затыкают задницу, по красочному армейскому выражению. Да и офицера, думаю, мытарят не меньше. Когда армия принимала меня в свое достославное лоно, я оказался нестроевиком — и стало понятно, почему так часто просыпался, бывало, в пресобачьем состоянии. И потому был я сплавлен на обслугу штаба; я — типичный образчик хлама, какой причаливает к этим пристаням. А услышав о вакансии подавальщика, написал заявление в трех экземплярах и был милостиво зачислен капитаном Соупером. Вот и вся моя история.
— Но ведь… мы, наверно, можем как-нибудь получше тебя устроить?
— Как именно? — повторил Стрингам вопрос Уидмерпула, не выказав при этом ни малейшего желания сменить должность. Просто полюбопытствовал, что я могу предложить.
— Не знаю. Что-нибудь можно подыскать, по-моему.
— Неужели, по-твоему, я не гожусь в подавальщики? — сказал Стрингам. — Ник, мне становится страшно. Неужели ты того же мнения, что капитан Бигз, которому я малосимпатичен? А я-то думал, что такие делаю успехи. С солью я тогда напорол, согласен. Полностью признаю свою промашку. Но ведь и у самых опытных служак бывают промахи. Вспоминаю, как герцог Коннотский обедал у моего бывшего отчима, лорда Бриджнорта, и дворецкий — с многолетним стажем не в пример мне, желторотому, — поднес светлейшему герцогу пармезан, не снабдив предварительно тарелочкой. Никогда не забуду лицо отчима, весьма румяное даже и в спокойном состоянии; второй муж моей сестры, Харрисон Уайзбайт, сравнивал это лицо с пейзажем «Осень на Гудзоне». А тут румянец сгустился до сходства с полем голландских багряных тюльпанов. Нет, ты уж прости мне эту соль, Ник. Все мы делаем ошибки. Я набью руку, исправлюсь.
— Я не про…
— Строго между нами, Ник, я чувствую в себе задатки первоклассного подавальщика. Скрытый дар чувствую. Надо лишь его раскрыть. Мне и не снилось, что во мне заложен такой талант. Чудесно ощущать, как он расцветает.
— Да, но…
— Тебе не нравится мой стиль? Лоску недостает, по-твоему?
— Я не…
— Согласись, в конце концов, что лучше поднести капитану Бигзу еду и уйти в кухню к капралу Гуизеру, чем сидеть рядом с чавкающим капитаном весь обед — и так день за днем. Гуизер же, напротив, сотрапезник восхитительный. До армии он был подручным штукатура, а теперь быстро овладевает поварской профессией, как бы ни хулил его капитан Бигз. К тому же, как я понимаю, сам ты служишь у нашего школьного коллеги Уидмерпула. Уж не хочешь ли ты, Ник, поменяться со мной службами? Если да, то упования твои напрасны. А как, собственно, попал ты к Уидмерпулу в пособляющие?
Я объяснил, что был переведен в штаб по желанию Уидмерпула, наткнувшегося на меня в списке кандидатов. Стрингам слушал, посмеиваясь.
— Вот что, Чарлз, — предложил я, — давай-ка пообедаем где-нибудь вечерком. Лучше в субботу, когда недельная порция бумажной канители уже размотана. Нам с тобой о стольком бы поговорить.
— Мой милый, ты забываешь нашу разницу в чинах.
— В неслужебные часы никому она не будет резать глаз. Пустяки это. В Лондоне рестораны набиты офицерами и рядовыми вперемешку, за одним столом. А иначе жизнь бы стала невозможна. У моей жены, например, братья в диапазоне от майора Джорджа до капрала-артиллериста Хьюго. А не хочешь в здешнем, с позволения сказать, гранд-отеле, так найдем место потише.
— Не о том я, Ник. Я прекрасно знаю, что совместная наша трапеза практически осуществима — только платить, пожалуй, пришлось бы тебе, поскольку с деньгами у меня туго в данный момент. Не в приличии дело. Просто не хочется мне. Обед с тобой сбил бы меня с ритма. Не скажу, чтобы я так уж бурно наслаждался своим делом — да ведь и вообще в жизни маловато сладостных минут. Но дело это я сам выбрал. И даже, представь, хочу его делать. Оно в какой-то мере мне подходит. Я ведь жутким чудаком сделался. Возможно, и всегда был чудаком. Но это в сторону. Что я все о себе да о себе. Ты вот о братьях жены упомянул; один из них убит, я слышал, — Роберт Толланд.
— Бедняга Роберт. В боях за ламаншские порты.
— Как это шикарно — быть убитым.
— Пожалуй.
— Высший шик. Да, да. Вершина элегантности. «Пал смертью храбрых». Всегда восхищает меня эта фраза. Но здесь шанса у меня ни малейшего, разве что капитан Бигз застрелит из пистолета за то, что подал ему брюссельскую капусту не тем боком или капнул ему соусом на плешь. А знаешь, до роковой отправки во Францию у Роберта Толланда была любовь с моей сестрой Флавией. Ты ведь не знаком с Флавией?
— Я их с Робертом встретил в прошлом году, когда ездил повидаться с женой.
— Флавии вечно не везет с мужьями и любовниками. Это надо же — получить в мужья Козмо Флиттона и сразу вслед за ним — Харрисона Уайзбайта. Они еще хуже меня как мужья. Кстати, ты слышал, конечно, что моя мать порвала с Бастером Фоксом. У нее безденежье сейчас. Одна из причин, почему Бастер смылся. Оттого я и сам на мели. На полнейшей мели. Отец всю свою скудную фортуну оставил второй жене, француженке, ошибочно сочтя, что у матери всегда хватит денег на нас.
— Она сейчас в своем Глимбере?
— О нет. Глимбер занят под какое-то министерство, эвакуированное из Лондона, так что хоть эта забота у матери с плеч. Она в Эссексе — поселилась в домишке рядом с военно-учебным лагерем, чтобы не разлучаться с Норманом — помнишь этого ее маленького танцовщика. Одно время она ежеутренне вставала в полшестого готовить ему завтрак. Вот это, я понимаю, преданность. Теперь Нормана послали на курсы младших офицеров. То-то эффектен он будет, когда перетянет осиную талию офицерским ремнем. Конечно, по суровой природе вещей отношения у них, скорее, матери и сына — причем роль сына он, увы, исполняет лучше меня. Во всяком случае, чем с Бастером жить во дворце, так уж бесконечно лучше с Норманом в лачуге, даже несмотря на ранние подъемы. А я начинаю говорить афоризмами. Теннисон любил закруглиться такой вот сентенцией. Кстати, я пристрастился к другому викторианцу — к Браунингу.
— А наш генерал читает Троллопа — в дивизии явная мода на литературу той эпохи.
— Это Таффи открыла мне Браунинга. Странноватое для такой женщины поэтическое пристрастие. Ты помнишь Таффи? Разговорился я с тобой, Ник, и прошлое всплывает.
— Как же, мисс Уидон я помню.
— Таффи вылечила меня от пьянства. А вылечив, потеряла ко мне интерес. Это и понятно, дальше был тупик. То есть тянуть меня опять в действительные члены цивилизованного общества было бы затеей совершенно гиблой. Взять хоть то, что я стал трезвенником; даже сам я понимал, что трезвость сделала меня несноснейшим занудой. А тут началась война, и во мне зародились честолюбивые воинские устремленья. Таффи их не одобрила, хотя одно уж то, что устремленья эти оказались мыслимы, — немаловажное ее достижение. Но она видела, что так или иначе я ускользну из ее цепкой хватки. Короче, я зачислился в армию, а Таффи вышла замуж за восьмидесятилетнего генерала — теперь, возможно даже, девяностолетнего. Самый полководческий возраст. Его, вероятно, назначат начальником генерального штаба.
— Ты отстал от жизни. Генералы теперь ужасающе молоды. Не сегодня завтра Уидмерпул получит генеральские погоны. А генерала Коньерса привлечь к делу было бы не так и плохо. Я его знаю много лет.
— Мой милый Ник, ты знаешь в обществе всех и всё. Сам-то я уже не в силах следить за рожденьями, браками и смертями. Ну, за смертями еще кое-как слежу, но за рождениями и браками — уволь. Тем-то и хорош чин рядового. С рядового взятки гладки. Никто не спросит, читал ли я в сегодняшнем номере «Таймс» о помолвке икса или о разводе игрека. Все эти светские новости стали почему-то угнетать меня. Утомлять. Но, возвращаясь к длинному и нудному повествованью о своей жизни, скажу, что я попросту наскучил Таффи, как и всем другим. Ей потребовалась новая арена для неутомимой целительной деятельности. Вот я и завербовался в армию.
Пошел я в уланы. Кому же Не лестно с отважными спать?.[15]Ты достаточно знаком с воинскими знаками различия и возразишь мне, что я, строго говоря, не улан — но это и хорошо, потому что я нынешний никак не смог бы гарцевать по-улански под музыку на военно-спортивных состязаньях… давным-давно не сидел в седле…
Оборвав свою речь, Стрингам замурлыкал пляшущий мотивчик из тех, под какие на конной выставке всадники скачут легким галопом по кругу:
В седло, роялисты! Ждет бой впереди. Скачите под знамя лихого Данди[16].Он округлил слегка, приподнял руки, точно держа поводья. Полностью отключился, забыв о собеседнике. «Вполне ли он теперь нормален?» — подумалось мне. Но тут он вдруг опомнился.
— …Так на чем мы остановились? Ах да, на Хаусмане… Он, собственно, не из любимых моих поэтов, но цитата подходит… хотя поспешу оговориться, что сплю я с отважными единственно в смысле прямом и невинном. Честно говоря, Ник, мне величайшего труда стоило завербоваться. Никто не заманивал меня, не вручал легендарного шиллинга. Не было великолепного вербовщика-сержанта в берете с пучком лент, а сидели в затхлой канцелярии какие-то обтерханные типы и пили чай. Но даже и они не хотели на меня глядеть, когда я впорхнул к ним впервые. Но потом дела на войне пошли худо — в Норвегии, в других местах, — и типы эти поняли, что без Стрингама все-таки не обойтись. А из службы тех- и вещснабжения я ушел потому еще, что старших техников у них зовут кондукторами, точно в автобусе, — и это раздражало. Так что я перевелся в пехоту. Восхитительное учрежденье — армия. До армии я думал, что если надо выстрелить, то совмести лишь мушку с целью и пали себе. А у них целый трактат об этом сочинен, толстенький такой томик. Но я несносный эгоист. Расскажи мне о себе, Ник. С тобой-то что происходило? Как ты к этому отнесся ко всему? Вид у тебя слегка задерганный, позволь тебе заметить. И не удивительно, раз ты служишь при Уидмерпуле.
У самого Стрингама вид болезненный, но вовсе не издерганный.
— А ко всему прочему, — продолжал он, — чувствую, что ужасающе старею. Как по-твоему, примут меня после войны в солдатскую богадельню в Челси? Я бы не прочь щеголять в этом их красном сюртучке, хотя вообще-то район Челси — обиталище богемы. А к богемной жизни я нимало не склонен. Но вполне могу этим кончить — и богадельней, и богемой. Знаешь, я в последнее время много размышляю о себе, когда мою полы — а я их даже с охотой нередко мою, — и пришел я к выводу, что до безумия самовлюблен. Потому и с женой не ужился. Я, по сути, страшно рад был нашему разрыву.
— А как сейчас насчет девушек?
— Потерял к ним как-то всякий интерес. Знаешь, как оно бывает. Главная моя забава сейчас в том, что стараюсь обдумать все и упорядочить. И — ты поймешь меня — на это уходит все время. Чем больше думаю, тем меньше знаю. Смешно, а? Кстати о девушках — как поживает наш старый приятель, Питер Темплер? Помнишь — вот уж кто за девушками ударял.
— Я слышал, Питер служит где-то в сфере государственных финансов.
— Он не в армии?
— Насколько мне известно, нет.
— Узнаю Питера. Всегда отличался здравым смыслом, хотя это не всякому сразу бросалось в глаза. Он женат?
— Первая жена сбежала; вторую, кажется, довел до сумасшествия.
— Вот как? — сказал Стрингам. — Что ж, и я бы тоже довел Пегги до сумасшествия, не разлучись мы с ней. Кстати, и с тобой сейчас придется разлучиться, вернуться в уют казармы, а то заработаю наряд. Поздно уже.
— Так пообедаем как-нибудь все же?
— Нет, Ник, нет. Предпочтительней будет воздержаться. Никто сейчас не видит нас, и я уйду без козырянья — уж прости эту вольность. Приятно было поговорить с тобой.
Он ушел, быстрыми шагами направился обратно к дороге. Я и проститься не успел, пошел следом несколько медленней. Когда вышел на дорогу, Стрингама уже не видно было в сумраке. Я повернул к своему корпусу «Эф». Разговор со старым другом не порадовал меня, напротив, расстроил, удручил. Я лишь отдаленно мог представить себе, каково приходится Стрингаму, — воображения моего хватало лишь на самые нетягостные, даже бодренькие детали его теперешнего быта… Хорошо, что хоть на неделю уйду от всего; хорошо, что впереди армейский краткий отпуск — не просто роздых, а странно-волшебный побег, нырок в иное земное воплощение.
Уидмерпул не любит, когда уходят в отпуск — тем паче его подчиненные. Но надо отдать ему справедливость: сам он свои отпуска использует главным образом для расширения и углубления контактов с лицами, способными содействовать его карьере, и в отпускное время трудится вряд ли менее усердно, чем в рабочее. И не мне критиковать его — я и сам надеюсь использовать отпуск для поправки своего положения, если только генерал Лиддамент не забыл того, что обещал мне. Но скорей всего забыл, ведь за нашим разговором последовала суматоха приказов и передвижений. Может быть, стоит напомнить ему? И если стоит, то как это сделать? Но и наутро после встречи со Стрингамом я все еще медлил, не предпринимая никаких шагов, и Уидмерпулу ничего не говорил; к тому же он был в дурном настроении.
— Когда этот ваш отпуск начинается?
— Завтра.
— Я полагал, послезавтра.
— Завтра.
— Если увидите свою родню, Дживонзов, то имейте в виду, что их невестка не возымела успеха в роли квартирантки у моей матери. Мать решила лучше держать эвакуированных у себя в коттедже.
— Ну и как?
— Продержала короткое время, а затем они вернулись в Лондон. И ни малейшей благодарности не выказали.
Он говорил о своей матери скупее, чем бывало; даже возникало временами впечатление, что ее проблемы начинают его раздражать, что миссис Уидмерпул виснет уже камнем на сыновней шее. Уидмерпул несколько дней не в духе из-за нежданных осложнений с делом Диплока. Тот мобилизовал все свои крючкотворские уменья, чтобы дочерна замутить воду, подобно спасающей свою жизнь каракатице, и собирать улики стало трудно. А полковник Хогборн-Джонсон не скрывает того, что расценивает намерение Уидмерпула упечь под суд его делопроизводителя как подкоп под свою собственную персону — ни больше ни меньше. Уидмерпул и впрямь не смог бы выбрать более язвящего способа мести полковнику — если только обвинения против Диплока подтвердятся. Если же окажется, что Диплок всего-навсего небрежно вел учет, то Уидмерпула ждут неприятности.
В это время вошел Грининг, генеральский адъютант. Вручил мне узкую бумажку, проговорив:
— Их генеродие сказали, что вы знаете, в чем дело.
Грининг легко краснеет, но вообще-то ничуть не застенчив. В речи своей он склонен прибегать к причудливому, устарелому школьному жаргону, словно из давней детской книжки позаимствованному. Возможно, эта черта Грининга импонирует генералу, который не прочь расцветить свое окружение. Генерал — сам любитель староанглийских оборотов, — вероятно, даже поощряет языковые причуды Грининга. На бумажке напечатаны слова «Майор Л. Финн, КВ.» и дальше название территориального полка и номер телефона. Я понял, что недооценил способности генерала Лиддамента удерживать в памяти детали обещанного.
— Память у него будь спок, — сказал Грининг и спросил с простодушным любопытством: — А зачем это он?
Об адъютантах в армии принято отзываться нехвалебно. Но в офицерской среде они не хуже других и лучше многих; а должность адъютанта — самая подходящая тренировка для всякого, кто хочет высоко подняться. Впрочем, Грининг не из тех, кто очень высоко взлетит.
— Просто позвонить велел в Лондоне.
Уидмерпул, старательно вписывавший что-то в раскрытую папку, поднял глаза на меня.
— Что там за бумажка?
— Поручение от генерала.
— Какое?
— Позвонить одному офицеру.
— Кому?
— Майору Финну.
— О чем позвонить?
— Передать привет от генерала.
— И дальше?
— Услышать, что Финн скажет.
— Странное поручение.
— Так велел генерал.
— Дайте взглянуть.
Я передал записку.
— Финн? — произнес он. — А номер телефона правительственный.
— Да, я заметил.
— КВ — кавалер Креста Виктории.
— Да.
— Фамилия вроде знакомая — Финн. Определенно знакомая. Когда генерал дал вам это поручение?
— Во время окружных маневров.
— А точнее?
— В последний день учений, после ужина.
— Что он еще сказал?
— Поговорил о Троллопе и о Бальзаке.
— О писателях?
«Нет, о генералах», — хотелось мне ответить, но рассудительность возобладала.
— Вы, я вижу, на короткой ноге с командиром дивизии, — кисло сказал Уидмерпул. — Ну так позвольте заверить, что по возвращении из отпуска вас ждет кипа работы. У вас, Грининг, ко мне что-то?
— Генерал велел напамятовать вам, сэр, лепыми словами о маршрутах следования.
— Что за тарабарщина?
— Не знаю, сэр, — сказал Грининг. — Я передаю точные слова генерала.
Уидмерпул не ответил. Грининг ушел. Здесь в штабе это один из самых приятных офицеров. Я с ним редко вижусь, разве что на учениях. В конце войны я узнаю окольным путем, что, вернувшись в свой полк и став потом ротным командиром, он — тяжело раненный под Анцио — будто бы умер в госпитале.
2
Зловещие громыханья и раскаты — немецкий «блиц» над Англией, захват Греции — вот какие шумы слышались теперь за сценой; и хотелось, чтобы пришла для нас к концу канитель репетиций и началось объявленное представление, каким бы грозным оно ни было. Однако дата премьеры не от нас зависела; а пока не приходилось сомневаться, что требуется еще репетировать и репетировать. Веселого в этих мыслях было мало. Но, когда поезд достиг лондонских предместий, я ощутил прилив радости. А ночью перед тем, при морском переезде, нас трепала весенняя волна; потом — в переполненном, как обычно, вагоне — улиткой двигались мы сквозь тьму на юг, время от времени оказываясь в зоне воздушной тревоги: вползая — останавливаясь — уползая прочь.
В окна вагона видны опустелые дороги и разрушенные бомбами дома окраин, точно перед нами город-призрак. Тем не менее я полон надежд. Надо обдумать, как успеть повидаться со всеми. Вчера пришло письмо от Чипса Лавелла, и это ставит под вопрос намеченную мою встречу с Морландом. Лавелл, муж Присиллы, узнал, что я еду в отпуск, и хочет потолковать о семейных делах. Желание вообще-то резонное; но в данный момент, если учесть слухи о «загулявшей» Присилле, оно чревато огорчениями. Лавелл служит в морской пехоте. Зачислен туда офицером в начале войны (тогда корпус морской пехоты сильно расширился) и вскоре послан на восточное побережье Англии. Видимо, его уже перевели оттуда, так как в письме Лавелл дает лондонский служебный телефон (через коммутатор, с добавочным номером), хотя не упоминает, что за служба у него теперь.
Первым долгом я позвонил по номеру, обозначенному в генеральской записке. Зазвучавший в трубке голос майора Финна оказался негромким и низким, убедительно-учтивым, но твердым. Я начал объяснять, кто я. Финн тут же остановил меня, будучи уже осведомлен, очевидно, — еще одно свидетельство того, что генерал Лиддамент умеет претворять мысль в дело. Финн велел мне днем приехать к нему в Вестминстер. Таким образом, у меня сейчас окошко свободного времени. Это хорошо — ведь надо сотню разных дел переделать в Лондоне до отъезда за город, к жене. Я сразу же позвонил Лавеллу.
— Смотри ты, я и не ждал, Ник, что ты так быстро со мной свяжешься, — сказал он, едва услышав первые мои слова. — А у меня небольшое преткновение — впервые за несколько месяцев приглашен на обед в одно место, но тем еще важнее повидаться с тобой. Днем я завален работой — минут на двадцать только отлучусь поесть, — но ближе к вечеру мы сможем распить бутылочку. Давай встретимся там, где ты обедаешь сегодня, поскольку раньше семи я никак не смогу.
— Я обедаю в «Кафе ройял», с Хью Морландом.
— Постараюсь подойти сразу же.
— Хью сказал, что явится к восьми.
Мне казалось нужным подчеркнуть, что если Лавелл засидится за нашим столиком, то встретится с Морландом. Предупреждение это я делал, скорее, ради Морланда. Лавелла мало волнуют прежние отношения Присиллы с Морландом. Сказала ли Присилла мужу, что ухаживанье Морланда так и кончилось ничем, что физической близости не было? И поверил ли ей Лавелл? В любом случае это его не слишком заботит. Я-то уверен, что Морланд с Присиллой не спал, — сам Морланд мне это открыл в одну из нечастых у него минут душевной распахнутости. Но Морланд в таких делах чувствителен, даже болезненно чувствителен, и, возможно, не хочет встречи с Лавеллом. Да и Лавеллу, встревоженному сейчас поведением жены, может быть неприятна встреча с ее бывшим поклонником, с которым у Лавелла к тому же мало общего во всех иных смыслах. Но последняя моя догадка оказалась неверна. Лавелл и не думает избегать Морланда. Напротив, огорчен, что мы не сможем пообедать втроем.
— Как утешительно повидать снова старых знакомцев вроде Хью Морланда, — сказал он. — Жаль, что должен буду уйти. Поверь, с вами бы мне обедать веселей, чем там, куда я зван. Но подробнее об этом при встрече.
Лавелл являет собой странную смесь реализма с романтизмом; точнее говоря, он, подобно весьма многим людям, романтизирует свой реализм. Если, скажем, омрачило когда-либо его душу подозрение, что Присилла вышла за него с досады на неудачную свою любовь к другому, то Лавелл утешился тем романтическим штампом, что «досталась девушка все-таки ему». Разумеется, его мог утешить и довод, что выходящие замуж «с досады» переносят иной раз на мужа всю неутоленную прежнюю страсть. Особенно же романтичен Лавелл в том смысле, что смотрит на вещи, так сказать, всегда с фасада — это одно из качеств, делающих его хорошим журналистом. Ему и в голову не приходит, что кто-то может думать и действовать по мотивам иным, чем самые банально-очевидные. На практике это значит, что Лавелл не склонен верить в реальность чего-либо, что не «провентилируешь» на газетной полосе. В то же время, хоть он и не способен видеть небанальные стороны жизни, Лавелл готов, если нужно, менять свою точку зрения на другую, но непременно столь же очевидную. Этой сравнительной гибкостью он обязан отчасти своему пресловутому реализму, отчасти же тому своему воззрению, что любая перемена в личной, политической, общественной жизни является и очень важной, и необратимой — такое убеждение тоже полезно журналисту.
Внутри же этих своих узких рамок Лавелл может проявлять известную тонкость подхода. Обладая к тому же красивой внешностью и напористостью, он перед войной достиг известного успеха в своем ремесле. Правда, сочетавшись с Присиллой, он не осуществил своего замысла «жениться на богатой», но этот замысел всегда ведь оставался у него в области фантастики, лишь иллюстрируя другую романтическую черту Лавелла — романтизацию денег. Лавелл сильно увлекался Присиллой еще в те времена, когда мы с ним сообща работали над киносценариями (так и не пробившимися на экран), и неудивительно, что они с Присиллой поженились. Вначале ему не удавалось устойчиво устроиться, так что денег не хватало. Но Присилла любит жить рискованно, и полосы безденежья ее не удручали. Лавелл и сам, оказываясь на мели, внешне бывал невозмутим, хотя внутренне чувствовал себя, конечно, виноватым. Денежную необеспеченность он считал постыдным изъяном и у себя, и у всякого другого. Временами его романтизм принимал высоконравственную или интеллектуальную окраску, хоть и не слишком убедительную. К примеру, он принимался осуждать материальные блага и всех, кто к ним стремится. В такую пору его ум, случалось, питали сборники философских обрывков и выжимок — скажем, «Мудрость Востока» в одном томе, «Маркс без слез», «Сокровищница великой мысли». Как и все ему подобные, он писал пьесу, безнадежно застрявшую на вступительных страницах первого акта.
— Никак нет времени засесть за серьезное писание, — говорил он, тем самым как бы официально объявляя о своем вступлении в легко распознаваемую категорию несостоявшихся литераторов.
Такими мыслями о Лавелле я занят был, сидя в холле — дожидаясь приема у майора Финна. Место в Вестминстере, куда мне было велено прийти, оказалось большим зданием, превращенным в воинскую штаб-квартиру. Немного погодя на скамью рядом со мной сел капрал из войск Свободной Франции, рука у него висела на перевязи. Затем к нему присоединились две француженки из женской службы этих войск. Вскоре они заспорили все втроем по-французски. Я перечел еще раз открытку Морланда — с портретом Вагнера в берете, — где Морланд подтверждал, что придет обедать в «Кафе ройял». Тон загадочный; в словах как-то нет живости, присущей этим обычным для Морланда открыткам.
Мы с ним не виделись с той встречи на первой неделе войны, вскоре после ухода от него Матильды. Затем Матильда вышла за сэра Магнуса Доннерса — почти без всякой огласки, что удивительно даже и для нынешних времен, когда всевозможные перемены — зачастую целые перевороты — в общественной и частной жизни совершаются втихомолку. Несомненно, тут и сэр Магнус привел в действие рычаги своего влияния, чтобы приглушить газетные отклики. Появились лишь две-три беглые заметки; между тем брак члена правительства с разведенной женой композитора, пусть не особенно преуспевающего, но весьма известного, заслуживает больше внимания, даже в пору бумажной нехватки. Говорили, что уход Матильды поначалу так расстроил и разладил Морланда, что он чуть не погиб — махнул на себя рукой, стал все усерднее глушить тоску вином. Но в начальный период войны, как это ни парадоксально, музыкальных заказов и дел не убавилось, а прибавилось; так что Морланд оказался завален работой хоть и не слишком его вдохновлявшей, но дававшей занятость и хлеб. Так мне по крайней мере говорили. Я ушел в армию, и контакты между нами не могли не оборваться. Дружба — в противоположность любви изображаемая популярно как вещь простая и прямолинейная — на самом деле, быть может, не менее сложна и требует не менее таинственно-замысловатых средств поддерживания и питания; как и любовь, она таит в себе семена распада, чье действие, пожалуй, разрушительнее, чем простой ход событий, всеразмывающий поток времени, разделивший, к примеру, меня со Стрингамом.
На этом мои довольно печальные раздумья оборвались. Дверь открылась, из комнаты вышел офицер Свободной Франции в форменном кепи. Средних лет, в очках, краснолицый. За ним следовал моложавый капитан английской разведслужбы без головного убора.
— И на прощанье еще об одном, капитан, — сказал француз, — теперь, когда мы покончили с делом Шиманского. Полковник договорился с членами командования о переводе нескольких младших офицеров в инженерные войска. Надеюсь, вы не усмотрите в том неудобства.
— Вы не воспользовались обычной процедурой, лейтенант?
— Полковник Мишле счел, что можно не проводить такую мелочь по всем инстанциям.
— Это чревато неприятностями.
— Полковник убежден, что обойдется.
— Ой ли?
— Так вы считаете, будут неприятности?
— Уверен. Следует немедленно представить список этих лиц.
— Хорошо, капитан, вы его получите.
Англичанин покачал головой сокрушенно — дескать, разве же так можно. Оба посмеялись, завершая свой французский разговор.
— Au revoir, Lieutenant.
— Au revoir, mon Capitaine[17].
Француз ушел. Капитан повернулся ко мне.
— Дженкинс?
— Да.
— Финн сказал мне о вас. Входите, прошу.
Я вошел в комнату, сел перед его столом; он раскрыл и залистал досье.
— В чем заключалась ваша служба с момента зачисления в армию?
Перечень моих военных дел прозвучал не особенно внушительно, однако удовлетворил, должно быть, капитана. Он слушал, время от времени кивая. Своей добродушной повадкой он напоминал скорее моих бывших коллег по батальону, чем недружелюбно-сдержанных штабистов. Я кончил, замолчал.
— Понятно. Сколько вам лет?
Я сказал сколько. Его, видимо, удивила такая моя древность.
— Ваша профессия в мирное время?
Я ответил, что пишу романы.
— Ах да. Я, помнится, читал один, — сказал капитан. Но отнюдь не проявил интереса к писательскому искусству, выказанного генералом Лиддаментом, и не стал углубляться в этот аспект моей биографии.
— А как у вас с французским языком?
Мне показалось проще всего повторить свой ответ генералу.
— Книгу, как правило, осиливаю, но спотыкаюсь на жаргонных выражениях или, скажем, на технических описаниях, как у Бальзака.
Капитан коротко засмеялся.
— Ну ладно, — сказал он. — Мы еще вернемся к этому. Вы женаты?
— Да.
— Дети есть?
— Сынишка.
— За границу готовы отправиться?
— Конечно.
— В самом деле?
— Да.
Его словно бы даже удивила эта моя — весьма естественная и скромная — готовность исполнить воинский долг.
— Нам нужны офицеры связи при войсках Свободной Франции, — сказал он. — На батальонном уровне. Найти подходящих не так-то легко. Приемлемое владение языком у многих почему-то сочетается с неприемлемыми склонностями.
Капитан улыбнулся мне — грустно и чуточку лукаво.
— А наши союзники ожидают от нас офицеров стопроцентно безупречных — и с полным на то правом, — продолжал он. Пристально глядя на меня, спросил: — Согласны на такую должность?
— Да. Но как я уже сказал, французским я не слишком-то владею.
Не отвечая, он выдвинул ящик стола, достал что-то печатное. Вручил мне. Затем встал, подошел к двери в глубине кабинета, открыл. За дверью оказалась комнатка — почти чуланчик, — уставленная вдоль стен темно-зелеными стальными сейфами. В углу был столик, на нем пишущая машинка в прорезиненном чехле. Рядом стул.
— Переведите-ка эту инструкцию на французский, — сказал капитан. — Продовольственные расходы именуются у них irais d’alimentation. Вот бумага — и машинка, если желаете. А если нет, вот la plume de ma tante[18].
И с дружеской улыбкой он прикрыл за собой дверь. Я вгляделся в текст. Это была снабженческая инструкция о выдаче или невыдаче продовольствия частям действующей армии. С первого взгляда в ней как-то мало улавливалось смысла; я сразу же понял, что вряд ли улучшит эту прозу мой французский перевод. Бальзаковское описание провинциальной типографии — пустяк перед этой инструкцией. Однако я сел и принялся за работу: уж очень хотелось мне быть принятым.
За окном, на парапетах и карнизах правительственных зданий, трещали и ссорились тысячи скворцов. В голове гулял очумелый сквознячок — этакое отпускное ощущение. Я опять прочел текст, стараясь собрать мысли, вдуматься. Точно в школе оставлен после уроков… «…предметы довольствия под рубрикой I получаются по требованию (форма 55), являющемуся обычной заявкой на довольствие… предметы под рубрикой III и другие предметы для добавки в рацион в целях разнообразия, посредством закупки сезонных продуктов и которые оплачиваются из пайковых сумм и денежного довольствия (см. выше рубрику III)… офицер, ведающий снабжением, представляет отчет (полевая форма 179) с указанием количеств и цен попредметно всего довольствия, выданного в часть за месяц, из чего исчисляется общая стоимость…»
Инструкция занимала две огромные страницы. Помнится, меня учили никогда не употреблять «и которые»; но писарская грамматика — отнюдь не самое здесь страшное. И не в словах трудность. Слова, в общем-то, довольно все знакомые. Проблема в том, чтобы перевести их как-то убедительно, передать этот особый тон канцелярских манифестов. Сквозь такие вот дебри и джунгли бюрократических словосплетений продирается Уидмерпул в упорной погоне за мистером Диплоком. Но побоку эти отвлекающие мысли… Я выбрал «перо моей тетушки», ибо машинописный шрифт делает речь, даже родную, ужасающе нагой. Попотев, я наконец сочинил нечто. Перечел несколько раз, внося поправки. Не очень-то по-французски звучит мой французский; но ведь и оригинал не звучит настоящим английским. Еще поправив напоследок кое-что, я приотворил дверь.
— Входите, входите, — сказал капитан. — Кончили? Я думал, вы задохлись. Там нечем дышать.
С ним сидел еще офицер — тоже в чине капитана, высокий, светловолосый, элегантный. На лежащей рядом синей его пилотке — общевойсковая кокарда, изображающая льва с единорогом. Я протянул перевод через стол капитану разведслужбы. Он взял листы, встал со стула.
— Сейчас вернусь, Дэвид, — сказал он своему собеседнику. — Я Финну покажу, вы посидите, — прибавил он, повернувшись ко мне.
Он вышел. Второй капитан кивнул мне, засмеялся, и я узнал Пеннистона. Я встретился с ним в поезде, в один из моих предыдущих отпусков. Разговор у нас в вагоне шел о французском поэте Виньи. И о многом другом, давно улетучившемся из моей жизни. Я вспомнил, что Пеннистон назвал свою армейскую квалификацию особенной. Очевидно, эта и подобные ей штаб-квартиры — вот мир, где Пеннистон обитает и действует.
— Прелестно, — сказал он. — Мы ведь порешили, что встретимся снова. К стыду моему, я и забыл об этом. Нацеленность же вашей воли делает вам честь. Поздравляю вас. Или, быть может, это просто один из вечных ницшеанских возвратов, с которыми так свыкаешься? Вы работать сюда прибыли?
Я объяснил причину своего прихода.
— Так что, возможно, присоединитесь к свободным франкам.
— А вы не при них служите?
— Я к полякам приставлен.
— Там тоже такое учреждение?
— О нет. С поляками обращаемся как с державой. У них посол, военный атташе и прочее. А с Францией та тонкость, что мы все еще признаем вишийское правительство. У других же наших союзников имеются здесь, в Лондоне, правительства в изгнании. Потому-то у свободных французов не посольство, а миссия.
— И вы наведались к ним по службе?
— Зашел обсудить кой-какие общие для нас проблемки.
Мы еще поговорили несколько минут. Вернулся мой капитан.
— Вас просит к себе Финн, — сказал он мне.
Мы прошли коридором в комнату, где за столом, сплошь покрытым бумагами, сидел майор. Назвав мою фамилию, капитан ушел. Фуражку я оставил у него и отдать честь, следовательно, не мог, но, по батальонной и штабной привычке, вытянулся смирно. Майор, казалось, удивился этому. Очень неторопливо он встал из-за стола и, прямо глядя мне в глаза, подошел, пожал руку. Роста он небольшого, тело почти квадратное, плечи широченные, большая голова, бритое лицо матового цвета, нос — не нос, а клювище. Глубоко посаженные серые глаза. Смахивает на представителя крупных пернатых, но отнюдь не семейства совиных, как полковник Хогборн-Джонсон, — на птицу незлобную и в то же время неизмеримо более сильную. Лет ему что-нибудь пятьдесят пять. На старом походном френче с кожаными пуговицами ленточки Креста Виктории, Почетного легиона, французского Военного креста с пальмовыми ветвями и еще каких-то иностранных наград.
— Садитесь, Дженкинс, — сказал он. Негромко, почти шепотом. Я сел. Он порылся в бумагах.
— Мне прислал записку ваш командир дивизии. Куда она тут задевалась. Да вы придвиньте стул поближе — я туговат на ухо. Как поживает генерал Лиддамент?
— Генерал в добром здравии, сэр.
— Приводит дивизию в божеский вид?
— Так точно, сэр.
— Дивизия ведь территориальная?
— Да, сэр.
— Скоро он получит корпус.
— Вы полагаете, сэр?
Майор Финн кивнул. Он слегка смущен чем-то. Хотя от него буквально веет физической силой и стойкостью, в манере его ощутимо что-то негрубое, мягкое, почти нерешительное.
— Вы знаете, зачем направлены сюда? — спросил он.
— Мне было объяснено, сэр.
Он опустил взгляд на бумагу — это мой перевод. Стал читать про себя, чуть шевеля губами. Прочел строчку, другую — и стало уже ясно, что мне скажут. Неясно лишь, сколько еще продлится эта мука. Майор Финн прочел все мое сочинение; затем, сделав благородное усилие, принялся читать заново — то ли ради пущей убедительности, то ли набираясь духу для отказа. Так по крайней мере объяснил я себе это чтение — ведь он почти наверняка просмотрел мой перевод сразу же, когда капитан принес ему. Я оценил это его желание показать, что он делает для меня все, что может, не щадя даже себя. Дочитав вторично, он поднял глаза от бумаги, покачал головой, вздохнул и усмехнулся.
— М-да… — произнес он.
Я молча ждал.
— Боюсь, что это нам не подойдет.
— ?..
— Ваша письменная речь нас удовлетворить не может.
Взяв карандаш, он постучал им по столу.
— Мы бы с радостью вас взяли…
— Да, сэр.
— Мэшам согласен.
Мэшам, видимо, фамилия капитана разведслужбы.
— Но этот перевод…
Голос Финна зазвучал так, словно я нанес ему, его мундиру намеренное оскорбление своим горе-переводом, но он великодушно согласен меня простить. Затем, как бы сожалея о своей минутной резкости, он встал и опять пожал мне руку, глядя куда-то в центр комнаты, — и, конечно, виделась ему картина явного провала.
— …недостаточно точен.
— Понятно, сэр.
— То есть абсолютно недостаточно.
— Я понимаю, сэр.
— Вы понимаете?
— Разумеется, сэр.
— Мне очень жаль.
Мы поглядели друг на друга.
— В иных же отношениях вы вполне подошли бы, я думаю.
Майор Финн помолчал, как бы еще раз взвешивая это свое утверждение. Вопрос вроде бы исчерпан. Хоть бы скорее это кончилось.
— Вполне подошли бы… — повторил он голосом, звучащим уже удаленно. Опять продолжительная пауза. Но затем он встрепенулся. Лицо озарилось.
— Но, возможно, только письменная речь у вас хромает?
Он наморщил свой широкий, цвета слоновой кости лоб.
— Давайте-ка вообразим, что девятый колониальный пехотный полк готов восстать против вишийских властей и перейти на сторону союзников, — сказал он. — Ну-ка, воодушевите их речью.
— На французском языке, сэр?
— Да, на французском, — ответил он живо, как бы ожидая услышать волнующий призыв.
— Увы, сэр, мне пришлось бы употребить английский.
— Я этого боялся, — сказал он, потускнев лицом.
Теперь уж провал полный. Вторично дали шанс, и вторично я сел в лужу. Майор Финн погладил свой носище.
— Вот что, — произнес он, — я вот что сделаю. Я запишу вашу фамилию.
— Да, сэр?
— В близком будущем произойдут, возможно, перемены. Не здесь, в другом месте. Но не слишком на это рассчитывайте. Вот все, что могу пообещать. Мнение генерала Лиддамента для меня непререкаемо. Но препона — язык.
— Благодарю вас, сэр.
Он улыбнулся.
— Вы в отпуске сейчас?
— Да, сэр.
— Я бы и сам не прочь в отпуск.
— Да, сэр?
— Передайте мой поклон генералу Лиддаменту.
— Передам, сэр.
— Это большой человек.
Я изобразил прощальную улыбку и вышел, удрученный и яростно-злой на себя. Собственно, провала следовало ожидать; но от этого не легче. Редчайшая ведь редкость, чтобы армейский чин, тем более генерал, проявил интерес к твоей судьбе. И шлепнуться на языковом барьере — именно в области, где ты (по крайней мере в глазах генерала Лиддамента) являешься профессиональным умельцем, — значит и генерала подвести. Жди уж теперь от него содействия. Станет он снова срамиться! И что бы мне освоить как следует французский — скажем, в детстве, когда жил у Леруа в Турени; да и множество других было возможностей. А от батальонного офицера связи требуется ведь порядочная беглость речи. Но, видно, так уж распорядилась Судьба. Что же до обещания Финна, то это просто отзвук штатской вежливости. Майор Финн — человек необычайно приятный — гордится не только Крестом Виктории, но и своей воспитанностью, и учтивый жест его — всего лишь жест.
Я вернулся к Мэшаму — капитану разведслужбы. Пеннистон еще не ушел. Он стоял, уже надев пилотку и говоря Мэшаму:
— Итак, с первого числа Шиманский выходит из французского ведения и поступает в распоряжение здешних польских вооруженных сил. Наконец-то вопрос разрешен.
Мэшам повернулся ко мне. Я сообщил, что дело мое не выгорело. Он и сам уже знал, разумеется.
— Жаль, — сказал он. — Ну, спасибо, что заглянули. Вы, я слышу, с Дэвидом знакомы.
Простившись с Мэшамом, Пеннистон и я вышли на улицу. Пеннистон поинтересовался, о чем беседовал со мною майор Финн, и я рассказал ему. Он внимательно выслушал.
— Финн к вам явно расположен, — сказал Пеннистон.
— Финн мне понравился. Кто он такой?
— С ним связан некий фантастический эпизод первой мировой; он получил за это Крест Виктории. Демобилизовавшись, занялся парфюмерией — духи, пудра и тому подобное, — самое неожиданное ремесло для такого человека. Он говорит на очень правильном французском — с дичайшим акцентом. Свободным французам он пришелся весьма по вкусу — де Голль его любит, а де Голль далеко не всех любит.
— Удивительно, что Финн всего только майор.
— Он с начала войны мог уже раз пять повыситься в полковники, — сказал Пеннистон. — Все отговаривается тем, что не хочет перегружать себя ответственностью. Крест Виктории и так обеспечивает ему уважение — и Финн любит поговорить о том эпизоде. Однако теперь, я думаю, он соблазнится наконец и примет повышение.
— Чем соблазнится?
— Это пока лишь прожекты. Скажу только, что вы еще, возможно, услышите о Финне скорее, чем ожидаете.
— А парфюмерия его — денежное дело?
— Достаточно денежное, чтобы он мог содержать жену и дочь где-то в укромном месте.
— Почему же в укромном?
— Не знаю, — ответил Пеннистон со смехом. — По некой причине. У Финна есть свои секреты и секретики. Система уж такая у него. Я это понял, еще когда познакомился с ним в Париже.
— Еще до войны познакомились?
— Встретился там с ним, как ни странно, когда служил по текстильной части.
— Текстиль — ваша специальность?
— Я оставил потом это дело.
— И чем занялись?
Пеннистон засмеялся опять, точно я задал несуразный вопрос.
— Да так, пустяками всякими, — сказал он. — Я много езжу — верней, до войны ездил. Кажется, я говорил в прошлую нашу встречу, что тщусь написать нечто о Декарте.
Из этого разговора я сделал вывод — и, как окажется потом, правильный, — что и у Пеннистона, как у Финна, есть свои секреты. Когда я познакомлюсь с Пеннистоном покороче, то узнаю, что для него важнее всего мыслительный процесс, идущий у него в мозгу. Он затруднился бы сказать вам, что делал в прошлом или что намерен делать в будущем, — перечислил бы только места, где побывал или хочет побывать, и книги, которые прочел или хочет прочесть. Зато он мог бы сказать весьма точно, над чем думал — что мыслил — в любой период жизни. Другие живут ради денег, власти, женщин, ради искусства или семьи; для Пеннистона же все это малосущественно, его привлекает одно только мышление, он старается обдумать все и привести в систему. К этому же стремится теперь, по его словам, Стрингам, но Пеннистон человек совсем иного склада и лучше оснащен для изощренных размышлений. Эта сторона Пеннистона выяснится для меня поздней.
— Дайте мне свои координаты, — сказал Пеннистон. — Воинскую часть, личный номер и так далее — просто на тот случай, если возникнет возможность и я смогу быть полезен.
Я записал ему все это. Мы расстались, согласясь на том, что Вечные Возвраты, о которых писал Ницше, вскоре сведут нас снова вместе.
Даже вечером, придя в «Кафе ройял», я все еще не мог вспомнить без стыда об утреннем провале у Финна. День прошел в разных делах, по большей части скучных. За столиками на банкетках сидели сплошь военные, и от этого просторный, безвкусно оформленный зал казался чужим. Ни одного знакомого лица вокруг. Я сел в ожидании Лавелла. Он пришел почти в половине восьмого. На погонах у него три звездочки — капитан. Все меня обогнали в чинах, и это невольно огорчает. Я поздравил Лавелла.
— Солидные деньги дает лишь майорство, — сказал он. — Вот на это нацелиться стоит.
— Безудержное у тебя честолюбие.
— Ненасытное.
— Где служишь сейчас?
— В Штабе десантных операций, — сказал он. — В той крепостце игрушечной, что на середке Уайтхолла. Тихая гавань для морской пехоты. А наша встреча очень кстати, Ник. Надо обсудить один-два пункта. Прежде всего, согласен ли ты быть моим душеприказчиком?
— Разумеется.
— Исполнить мое завещание не составит труда. Все, что имею — а можешь быть уверен, что имею мало, — останется Присилле, а после нее — дочке, Каролине.
— Звучит не слишком сложно.
— Никогда ведь не знаешь, что может на войне случиться.
— Да, конечно.
Того же мнения и старшина Хармер… Мы помолчали. Я вдруг почувствовал, что сейчас Лавелл заговорит о чем-то неприятном. Предчувствие меня не обмануло.
— И еще пунктик, — проговорил он.
— Да.
— Расскажи-ка мне об этом Стивенсе. В основном ведь благодаря тебе, Ник, он вошел в нашу жизнь.
— Если ты имеешь в виду некоего Одо Стивенса, то мы с ним были вместе на Олдершотских курсах год назад. Но разве он вошел в нашу жизнь? В мою не вошел. Я его с тех пор в глаза не видел.
Стивенса вернули тогда в часть, и я почти забыл о нем. Теперь ярко вспомнился весь его облик. А тон Лавелла не сулит ничего утешительного. Я начал уже догадываться, что могло случиться.
— Ты привез его к Фредерике, — сказал Лавелл.
Сказал спокойно, отнюдь не обвиняюще, но я по глазам его увидел, что готовится театральный эффект.
— Это Стивенс в субботу как-то подвез меня к Фредерике на своей разбитой легковушке. А в воскресенье вечером заехал за мной и доставил в Олдершот обратно. У Фредерики жила тогда Изабелла — перед родами. Как раз в ту ночь они и начались. Стивенса вскоре отчислили с курсов и отослали в часть. С тех пор я его не видел и не слышал о нем.
— И не слышал?
— Не знаю о нем ровно ничего.
— Присилла была тогда у Фредерики.
— Была, помню.
— И познакомилась со Стивенсом.
— Да.
— А недавно она в Шотландии жила со Стивенсом в отеле, — сказал Лавелл. — Жила более или менее открыто, так что утаивать мне нет смысла.
Я молча выслушал эту новость. Стивенс действительно тогда с ней познакомился. Вспомнилось, как он взялся починить ей брошку. Но как мог я предвидеть дальнейшее? Да, малоудачное оказалось знакомство. Теперь подтверждены те слухи о Присилле. Несомненно, Стивенс уже выдвинулся где-то, проявил себя в бою. Для этого достаточно бывает нескольких недель. Но мне и в голову не приходило, что Стивенс — тот именно пилот или десантник, с которым связывают имя Присиллы. Лавелл закурил сигарету. Густо дохнул дымом. Он явно желает обсудить случившееся, как если бы мы имели дело с сюжетом для нашего совместного сценария; от этого неловкость положения смягчается. Такой театрально-стилизованный подход соответствует его взглядам на то, как надо жить. И я благодарен ему — это облегчает разговор.
— Когда началось у них?
— Вскоре же после знакомства.
— Понятно.
— Я был все это время на восточном побережье. Там Присиллу негде было поселить. Я не виноват в нашей разлуке.
— Стивенс служит сейчас в Шотландии?
— Насколько мне известно. Он где-то отличился — в рейде на Лофотенские острова, что ли. Ко всему прочему еще и в герои попал. Должно быть, если б я где-нибудь геройствовал под пулями, а не сидел за списками оборудования связи, то сделался бы привлекательнее как муж.
— Нет, это не делает мужей привлекательнее, — возразил я весьма убежденно. Вот он, типичный пример упомянутой выше склонности Лавелла к банально-очевидному. Ведь такое мнение не может не вести его к целому сонму ошибочных выводов относительно супружеской жизни, своей и чужой.
— Возможно, ты и прав, — сказал он с немалым как бы облегчением.
— Взгляни-ка с противоположной точки. Вспомни, у скольких героев были нелады с женами.
— У кого же?
— У Агамемнона, к примеру.
— Да, с Еленой получился ералаш порядочный, — согласился Лавелл. — А что представляет собой Стивенс, помимо того, что герой?
— Внешне то есть?
— Во всех отношениях.
— Молод, родом из Бирмингема, коммивояжер — продает украшения для платья; пописывает в газетах, способен к языкам; телом приземист, весьма светловолос, легко сходится с людьми, охоч до женщин.
— Похож как будто на меня, — сказал Лавелл, — только я пока в коммивояжерах не служил и слегка еще горжусь своей фигурой.
— Да, в нем есть что-то твое, Чипс. Я заметил это сходство в Олдершоте.
— Ты мне льстишь. Но вот у моей собственной жены он добился большего успеха. Раз он охоч до женщин, то за Присиллой приударил, так сказать, с ходу?
— Пожалуй.
— Он тебе нравился?
— Мы сдружились.
— Почему его отчислили?
— На лекцию не пошел.
На этом интерес Лавелла к Стивенсу как-то сразу померк. И голос Лавелла померк. Ощутилось, как сильно Чипс расстроен.
— А вроде бы особых туч на нашем брачном горизонте не было, — сказал он. — Если б не послали меня в ту богомерзкую дыру на побережье, все осталось бы у нас в порядке. Мне так кажется по крайней мере. Я и теперь не слишком-то хочу развода.
— Встал уже вопрос о разводе?
— Мало будет радости жить с женой, которая любит другого.
— Весьма многие живут с такими женами — да и с мужьями такими.
— Былого не вернешь уже, во всяком случае.
— Былого вообще не вернуть. Все меняется — и брачные отношения в том числе.
— Мне казалось, по твоей теории все как раз остается неизменным.
— Все меняется — и вместе остается тем же. И быть может, это даже к лучшему.
— Ты серьезно так думаешь?
— Нет, всерьез я так не думаю.
— И я не думаю, — сказал Лавелл, — хотя понимаю, что ты имеешь тут в виду. Но я не уверен даже в том, готова ли она ко мне вернуться. По-моему, она хочет выйти за Стивенса.
— Она с ума сошла.
— Возможно, и сошла, но желание такое выражает.
— Где сейчас Каролина?
— У моих родителей.
— А сама Присилла?
— У Молли Дживонз — я лишь вчера случайно узнал. Она все кочует от родственников к родственникам, и, естественно, иногда ее адрес бывает туманен.
— Ты уже выяснял с ней отношения?
— В мой прошлый отпуск — прелестный получился отпуск.
— А с тех пор?
— С тех пор я не очень-то знаю, где она. И сейчас вот не знал, да случайно услышал, что у Дживонзов. Я надеюсь увидеться с ней сегодня вечером. Поэтому и не могу с тобой остаться обедать.
— Значит, обедаешь с Присиллой?
— Не совсем так. Помнишь Бижу Ардгласс, роскошную манекенщицу, бывшую подругу принца Теодориха? Я вчера столкнулся с ней нос к носу по пути на работу. Она теперь шофер, возит союзников наших — бельгийцев или там поляков. Служит в странной женской организации — у леди Макрийт. Бижу об этой леди, бывало, столько рассказывала пикантного. Так вот, Бижу пригласила меня на небольшой званый обед. Отмечает в «Мадриде» свое сорокалетие с пятью-шестью старыми друзьями.
— Бижу Ардгласс уже сорок лет?
— Бегут годы.
— Я ее видел лишь издали, но все же… И Присилла там будет?
— Бижу отыскала ее у тетушки Молли. Присилла, конечно, сказала Бижу, что я на побережье. Ведь последнее свое письмо я писал ей оттуда. Я объяснил Бижу, что переброшен только что в Лондон — это чистая правда — и не успел еще связаться с Присиллой.
— Ты ей не звонил еще?
— Я решил — не стану звонить к Дживонзам, встречусь с Присиллой прямо на обеде. Так будет лучше всего, потому что в «Мадриде» мы с ней праздновали нашу помолвку. В «Мадриде» же, чем черт не шутит, и помиримся.
Узнаю Лавелла. Не может человек без театральных эффектов. Но, возможно, он прав, и в самом деле все надо подавать театрально, это лучший метод решения житейских неурядиц. И что ни говори, а каждый ведь живет по-своему.
— Стоит же попробовать помириться, а? — продолжал он. — Как думаешь, Ник?
Он спросил таким тоном, точно вовсе не уверен в моем ответе — скорее даже ожидает, что я стану его отговаривать.
— Конечно, стоит. Все усилия употреби.
— Ты можешь представить, каково мне думать и думать непрерывно об этом, сидя над чертовыми списками всякого там оборудования для раций и десантных средств. Допустим, уйдет она к Стивенсу — сколько предстоит тогда переговоров о Каролине и тому подобное.
— Чипс, в дальних дверях показался Хью Морланд. У тебя нет больше ничего неотложного?
— Нет. Все выложил. Хотелось облегчить душу, понимаешь?
— Понимаю.
— Главное, ведь ты согласен, — стоит мне постараться снова наладить с ней отношения?
— «Согласен» — слабоватое слово.
Лавелл покивал головой.
— И будешь моим душеприказчиком?
— Сочту за честь.
— Великолепно. Я так и напишу поверенному… Здравствуйте, Хью, как поживаете, дружище? Вечность целую не виделись.
Без шляпы, в знакомом старом своем синем костюме — как всегда измятом, точно Хью в нем спит, — и в темно-серой рубашке с вишневым галстуком Морланд кажется персонажем довоенной жизни, непонятно как сохранившимся. Он запыхался, раскраснелся; вид болезненный. Лицо осунулось, и весь он похудел. Вот он узнал Лавелла, и краска стала гуще — должно быть, вспомнилась Присилла. Затем краска схлынула, но остались пятна нездорового румянца. Несмотря на радушные слова Лавелла, последовала минута неловкости. Морланд замялся у столика, не садясь, — как обычно, не решаясь действовать. Морланд и сам смеется над этой своей мешкотностью; вот так же никогда он не способен выбрать из меню, сделать заказ официанту.
— Сяду с вами обоими — и тут же буду принят за шпиона, — сказал он. — Почему-то я не ожидал увидеть тебя в форме, Ник, хотя и знал, что ты в армии. Должен сказать, на днях было у меня довольно мрачное переживание. Ко мне заглянул Норман Чандлер — узнать, что новенького в музыкальном мире. Он теперь тоже офицер. И мы с ним пошли поесть к Фоппе; с начала войны оба мы там не были ни разу. Нижний зал заперт, окно разбито взрывом бомбы, и мы поднялись наверх, в клубную. Там две какие-то линялые личности сказали нам, что ресторан закрыт. Мы спросили, где найти владельца. Ответили, не знают. Ответили недружелюбно. Чуть ли не враждебно. И я вдруг понял — они думают, что мы пришли за Фоппой, чтобы его увести, интернировать, ведь он итальянец. Один из нас в военной форме, другой в штатском — из контрразведки. Дело яснее ясного.
— Контрразведка сильно изменилась, если там сейчас носят такие костюмы, как на тебе, Хью.
— Не более изменилась, чем армия, раз там сейчас такие офицеры, как Норман.
— Да вы садитесь, — сказал Лавелл. — Что пить будете? Как протекают военные дни ваши, Хью? Вряд ли тоскливей, чем мои, — уж простите, что жалуюсь.
Морланд засмеялся; рассказав про свое «переживание», он почувствовал себя свободней: воспоминание об итальянском ресторанчике, хоть и закрытом сейчас, как бы вернуло нас троих на общую былую почву.
— Тяга к смерти у меня вроде бы приглохла, — сказал Морланд. — Воздушные налеты — недурное лекарство. А только что меня порадовала встреча с музыкантом на деревяшке и с черным кружком на глазу. Стоит за «Лондонским павильоном», исполняет арию Далилы. Весьма индивидуальная скрипичная трактовка. Теперь редко встретишь бродячих музыкантов, да и вообще бродяг — и это одна из худших черт войны. Давным-давно уже не вижу, например, певицу на костылях. Поскольку я и сам непригоден к воинским обязанностям, то уж подумывал, не заполнить ли пробел, не стать ли самому уличным музыкантом. К несчастью, из меня неважный исполнитель.
— У нас в отделе связи с печатью есть бывший музыкальный критик, — сказал Лавелл. — По его мнению, оркестр военно-воздушных сил — вот где теперь рай для музыкантов.
— Вряд ли меня туда возьмут, — сказал Морланд, — а сама идея флейт и барабанов, оркестровой тучей летящих в небесах, привлекательна. Где он сотрудничал, ваш музыкальный критик?
Лавелл назвал фамилию критика — это оказался поклонник музыки Морланда. Заговорили о музыкальных делах; Лавелл нахватался сведений о музыке — точней, о музыкантах, — когда помогал вести колонку светской хроники. По виду Лавелла никак не угадаешь, что его терзает сейчас душевная тревога. Напротив, это к Морланду, после начального прилива разговорчивости, вернулась тревожная неловкость. Что-то его беспокоит. Он все поерзывает нервно, поглядывает на входную дверь, как бы предвидя чей-то не слишком желанный приход. Мне вспомнился необычный тон его открытки. Что-то, видимо, у Морланда случилось, а сказать — не хватает у него духу.
— Вы тоже обедаете с нами? — спросил он вдруг Лавелла.
Вопрос сам по себе естественный, тон вполне дружеский. Тем не менее внезапность этого вопроса еще усугубила ощущение нервной тревоги.
— Чипс приглашен обедать в «Мадрид». Я думал, война закрыла эти рестораны-люкс.
— Большинство закрылось, — сказал Лавелл. — Во всяком случае, это единственный раз я зван в такое место. Наверняка все будет очень скромно в сравненье с былыми временами. Одно вот разве — Макс Пилгрим выступит со своими старыми песенками «Тесс из Ле-Туке», «Наша Хезер под хмельком» и тому подобное.
— Макс у нас жильцом сейчас, — сказал неожиданно Морланд. — После концерта он, возможно, заглянет сюда. Он ездит в составе гастрольной группы по воинским частям, развлекает солдат — по его словам, это и ему самому развлечение, — а сейчас отпущен поконцертировать в «Мадриде», передохнуть ненадолго.
Любопытно, как следует расшифровать морландовское «у нас». Тактичней будет спросить, когда Лавелл уйдет. По-видимому, есть уже у Матильды преемница. Лавелл не спешит кончить разговор о званом обеде, о Бижу. Ему словно бы не хочется уходить от нас.
— Я в «Мадриде» не сидел за столиком ни разу, — сказал Морланд. — Только однажды, много лет назад, зашел туда за Максом с актерского, так сказать, хода — он там пел, и я повез его оттуда ужинать. Помню, он говорил тогда о вашей знакомой, Бижу Ардгласс. Она, кажется, любовница какого-то балканского монарха?
— Теодориха, — сказал Лавелл, — но давно уже бывшая. Скандинавская принцесса, на которой он женился, держит его теперь в ежовых. И принцессе, и самому Теодориху повезло, что успели убежать от немцев. Он всегда был ярым англофилом, и в оккупации ему пришлось бы солоно. Тут у нас есть небольшой контингент его балканцев. Они проходили выучку во Франции, когда началась война, и в дни Дюнкерка переправились сюда… Надеюсь, хоть выпью чего-нибудь в «Мадриде». Со времени краха Франции с вином дела все безнадежней. Кто думал, что придется воевать, заправляясь изредка стаканом пива, да и за то еще спасибо говори. Ну, я рад, что повидал вас, друзья. Буду держать тебя в курсе, Ник, по тем обговоренным пунктам.
Простились. Лавелл ушел. Морланд тут же перестал ерзать. Мне показалось, что Лавелл неприятен был ему, как муж Присиллы, или просто наводил на него скуку, как наводит на многих чужих и близких. Но нет, нервировало Морланда другое. Что именно, стало ясно, когда я вознамерился подозвать официанта.
— Может, минутку подождем еще заказывать? — сказал Морланд, помявшись. — Одри сказала, что успеет, вероятно, прийти сюда после работы, присоединиться к нам.
— Какая Одри?
— Одри Маклинтик — ты ведь ее знаешь, — ответил он нетерпеливо, точно я задал глупый вопрос.
— Жена Маклинтика, что к скрипачу ушла?
— Да, жена — то есть вдова. Мне вечно кажется, что всем известна моя жизнь в основных ее убогих контурах. Ты, как доблестный воин, далек, видимо, сейчас от великосветской жизни. Я теперь с Одри — прочно.
— Под одной крышей?
— В моей прежней квартире. Оказалось, что можно ее снова снять — из-за «блица» она пустовала, я и вернулся туда.
— И Макс Пилгрим у вас жильцом?
— Живет уже несколько месяцев.
На Морланда давила прежде мысль, что надо объявить о своей связи с миссис Маклинтик; теперь он рад, что это позади. А без прямых вопросов обойтись было нельзя, и нельзя было полностью скрыть удивление. Он сам, конечно, понимает, что для любого, кто не знает его нынешних отношений с миссис Маклинтик, новость эта — непредвиденный и резкий поворот прежних чувств и обстоятельств.
— Жизнь стала несносна после ухода Матильды, — сказал он. Сказал виновато и в то же время как бы сбрасывая груз с души. Что без Матильды жизнь Морланда стала несносной, поверить нетрудно. Дни его полностью разладились, конечно. Раньше Матильда упорядочивала все его немузыкальные дела. В этом смысле вряд ли миссис Маклинтик, не изменивши коренным образом своей натуры, смогла заместить Матильду. В две-три прежние мои встречи с миссис Маклинтик она мне показалась женщиной до предела несимпатичной. Да и к Морланду в те времена она выказывала почти открытую неприязнь. Он и сам не лучше был к ней расположен, хотя, как старый друг Маклинтика, всегда старался их мирить. Когда она ушла от Маклинтика к скрипачу Кароло, симпатии Морланда были, конечно, на стороне мужа. Короче говоря, я теперь свидетель еще одного переворота, совершенного войной; но, возможно, если вникнуть, тут больше логики, чем кажется с первого взгляда. И действительно, по мере того, как я слушал рассказ Морланда, немыслимое стало (как это часто бывает) делаться убедительно-неизбежным.
— Одри сбежала с Кароло, и они прожили вместе до самой войны — постоянство поразительное для того, кто знает их обоих. Потом Кароло ее бросил, сойдясь с актриской. Одри осталась одна. Я наткнулся на нее в буфете — она и сейчас там работает. Придет сюда сегодня из буфета.
— Для меня все это новость.
— Мы с ней ладим, — сказал Морланд. — Я в последнее время похварываю. Это чертово легкое. Одри ходит за мной как нянька.
Морланд ощущает, видимо, необходимость еще каких-то объяснений или оправданий, но так же усиленно старается при этом подчеркнуть, что доволен новым жизненным укладом.
— Самоубийство Маклинтика меня страшнейше ошеломило, — сказал он. — Конечно, Одри тут отчасти виновата, ведь она бросила его. И однако, она по-своему любила мужа. Она часто говорит о нем. А знаешь, наступает в жизни фаза — особенно в военное время, — когда разговор о вещах давних и знакомых доставляет сердцу облегчение, а что говорят, все равно тебе, и кто говорит, все равно. Только бы шла речь о былом. Скажем, о той неудобопонятной книге по музыкальной теории, которую писал Маклинтик. Он так и не кончил книгу и уж тем более не напечатал. В последнюю ночь своей жизни Маклинтик изорвал рукопись в клочки и набил ими унитаз — прощальный жест отвращения к миру. А затем уж открыл газ. Ты бы удивился, услышав, как неплохо знает Одри детали этой книги — музыкально-технические детали, вникать в которые она не учена, да и неинтересно ей. И, как ни странно, мне приятно слушать. Словно Маклинтик еще жив — хотя, конечно, тогда Одри не была бы со мной. А вот и она, кстати.
Миссис Маклинтик шла к нам между столиками. На ней длинный жакет и брюки — весьма малоизящное женское убранство для непарадных оказий, популярное теперь. Я вспомнил, что возвестила эту моду Джипси Джонс — Пасионария из лондонского пригорода, как назвал ее Морланд; так была Джипси одета, когда на перекрестке с ящика держала речь перед коммунистическим антивоенным митингом, а мы с Уидмерпулом наблюдали. В этой одежде миссис Маклинтик похожа на цыганку куда больше, чем Джипси[19]. То-то у Морланда тяга к бродягам: так и кажется, что сейчас миссис Маклинтик предложит погадать — посеребри ей только ручку, — или станет нам навязывать защипки для белья, или как-нибудь еще начнет цыганить. Впрочем, хотя внешность у нее ворожеи-цыганки, но вкрадчивой цыганской обворожительности нет и в помине. Маленькая, жилистая и сердитая, миссис Маклинтик, как всегда, готова к ссоре; ее черные блестящие глаза и неулыбчивое лицо обращены сурово к миру, постоянно и явно враждебному. Нападешь — получишь сдачи, говорит ее вид. Однако, несмотря на воинственную видимость (а для всякого, кто помнит ее стычки с Маклинтиком, это не просто видимость), она сейчас вроде бы приятней, мягче настроена, чем в наши прошлые встречи.
— Морланд говорил мне, что вы придете, — сказала она. — Мы теперь нечасто бываем в ресторанах — средств на это нет, — но когда уж выбираемся, то рады посидеть с друзьями.
Слова звучат так, будто это я слегка нахально навязался им, а не сама она втесалась третьей в нашу условленную встречу. В то же время тон не сварлив, почти даже сердечен, если оценивать по стандартам довоенного моего с ней знакомства. Мне подумалось — для нее связь с Морландом, возможно, что-то вроде мести Маклинтику, так дорожившему дружбой Морланда. Маклинтик в могиле; а Морланд принадлежит ей, и она довольна. Сам же Морланд, нервничавший раньше, успокоился сейчас, когда явление ее за нашим столиком обошлось без бури и беды. И тут же пустился в рассуждения о жизни — это он делает всегда в неловких положениях. Бывало, сидя со мной и с Матильдой за столиком, он при опасном повороте разговора спешил переключиться с частного на общее.
— Все равно война препятствует серьезной работе, — сказал он, — и я теперь пытаюсь поразмыслить. Пошевелить моими вялыми мозгами. Эта тяга к раздумью у меня — следствие отхода от рафинированности. Притом надо же прийти к каким-то твердым выводам, когда, того и гляди, стукнет нам уже сорок лет. Я нахожу, что война прочищает мозги в некоторых отношениях. Отдадим ей в этом справедливость.
Мне вспомнилось подобное же стремление Стрингама «обдумать все и упорядочить». Откуда оно у Стрингама? Тоже ли вследствие отхода от рафинированности? Трудно сказать. Возможно, что и так. Одно из допустимых объяснений. А в отходе Морланда сыграла роль, конечно, миссис Маклинтик. Выбор такой спутницы означает не просто отход, а беспорядочное отступление и сдачу. Быть может, и сама миссис Маклинтик смутно почувствовала свою причастность к упомянутому Морландом «отходу» и, следовательно, необходимость возразить ему; она и возразила, хотя и не свирепо, — призвала Морланда к порядку.
— Война не очень-то прочистила тебе мозги, Морланд, — сказала она. — Витаешь в облаках по-прежнему, Угадай, где я нашла твою продуктовую карточку, после того как перерыла всю квартиру. В туалете, вот где. И то еще благодарение богу. Иначе пришлось бы мне несколько часов простоять в очереди в ратуше за новой карточкой — а интересно, где взять на это время.
Она точно с ребенком говорит. Миссис Маклинтик бездетна — помнится, она как-то выразила прямое нежелание отягощаться детьми — и, возможно, потому смотрит на Морланда как на ребенка: он, быть может, удовлетворяет ее материнский инстинкт — а Маклинтик удовлетворить не мог. И Морланд не протестует против такого к себе отношения, встречает ее слова не опровержением, а смехом.
— Я, должно быть, обронил ее, уходя на дежурство, — сказал он. — Какая скучища — эти ночные пожарные дежурства. Если нет налета, тогда еще скучней. В прошлое дежурство я стал даже набрасывать сочиненьице — «Пожарный марш» — с барабанами, ну, гобой и треугольник можно включить. Как-то особенно было тоскливо, не только от войны или социально-политических невзгод, а вообще тошно. Вот это глупцам трудней всего понять. Им вечно кажется, что некая решительная перемена способна сделать бремя существования более сносным. А тут вся-то надежда выжить связана с пониманием как раз того, что никакой такой перемены быть не может.
— Довольно уж нам слушать о твоих раздумьях на дежурстве, Морланд, — сказала миссис Маклинтик. — Ты закажи лучше обед. А то умрем с голоду под твое разглагольствование. Но и обед здесь будет не ахти, могу сказать заранее.
Вот и Матильда, бывало, осаживала Морланда, но не такими жесткими словами. А обедать вполне пора. Мы подозвали официанта. Опять Морланд не способен решить, что заказать — даже при весьма ограниченном выборе блюд. Но вот обед подали. Морланд, как бывало, разговорился о своей работе, о знакомых наших и друзьях. Миссис Маклинтик ворчала на бытовые трудности, но в общем вела себя мирно. Вечер складывался приятно. Одно лишь новое заметно было в Морланде. О недавних довоенных событиях он говорил так, словно не год-два назад они происходили, а в седую старину. Было ясно, что между нынешним и довоенным временем разверзлась у него непроходимая пропасть. Вспоминая о друзьях, о вечеринках, о забавах, он вдруг взволновывался, начинал до слез смеяться. Чувствовалось, что он близок к подлинным слезам, что дело тут не просто в ворошении веселых или гротескных воспоминаний.
— А согласитесь, забавные вещи случались в былые дни, — сказал он. — Помните рассказ Маклинтика о докторе Трелони и рыжей бесовке, говорившей только на древнееврейском?
— Ну вот, заладил, — сказала миссис Маклинтик. — Былое, прошлое да древнее — и мне уже кажется, что мне сто лет. Вернись-ка на минуту в настоящее. Вон бывшая твоя подруга садится там за столик, — мотнула она головой. — Разве тебе не интересно?
Мы поглядели в ту сторону. Совершенно верно — метрдотель ведет к столику невдалеке от нас Присиллу Лавелл и офицера в походной форме. Офицер — Одо Стивенс. Пока они усаживаются, заказывают, есть еще кусочек времени — подумать, как выйти из этой в высшей степени неловкой ситуации, надвигающейся на меня. Невероятное какое невезение, совершенно не заслуженное мной! Но нет, что же невероятного в этой встрече, особенно после того, что рассказал мне Лавелл. Стивенс, должно быть, в отпуске. Прийти сюда обедать естественно — если не боишься огласки.
«Прелюбодеи всегда просят суд о неразглашении тайны, — говаривал Питер Темплер, — а сами, как правило, и не думают ее блюсти».
Присилла считает, что муж ее на побережье, и, стало быть, не ожидает встретить его здесь. И почему бы ей не принять приглашение, не пообедать со знакомым, который в Лондоне проездом? Их появление здесь кажется мне безрассудным и бесстыдным лишь потому, что Лавелл сообщил мне подоплеку. Однако, если Присилла обедает, то, значит, не поехала в «Мадрид» к Бижу. Так непредсказуемо людское поведение, что она еще, чего доброго, заявится туда попозже со Стивенсом.
— Это муж с ней? — спросила миссис Маклинтик. — Не имею удовольствия знать его. Тебе он, верно, неприятен, Морланд, — ведь он тебе нос натянул.
Оказывается, она знает о былой влюбленности Морланда. Это, определенно, Маклинтик ей сказал. По замечанию Морланда, у нее с Маклинтиком бывали периоды и мирной близости — хотя со стороны никак бы не подумать. А возможно даже, Маклинтики видели Морланда с Присиллой где-нибудь на концерте. Так или иначе, миссис Маклинтик узнала Присиллу и, очевидно, знает кое-что об отношениях Присиллы с Морландом. Но и только. О Стивенсе ей неизвестно. Вся неприятность этой встречи проистекает, с ее точки зрения, лишь из прежней влюбленности Морланда. Но так развито в миссис Маклинтик (как и во всех женщинах ее типа) чутье скандального, что она явно чует и мое замешательство. Морланд же, перед тем встретившийся с Лавеллом, не может не видеть, что у Лавелла что-то неладно. Скрывать свои чувства Морланд не умеет, его опять бросило в краску — главным образом, от шпильки, пущенной миссис Маклинтик, но он также и о том догадывается, пожалуй, в каком я сейчас неуютном положении.
— Ты забываешь, что она — сестра жены Ника, — сказал Морланд. — А кто этот военный, я не знаю.
— Ах да, она ведь свояченица ваша, — сказала миссис Маклинтик. — Я вспомнила теперь. А она хороша собой. И разоделась к тому же.
Миссис Маклинтик не стала подробнее комментировать наряд Присиллы; та, действительно, одета параднее, чем сама миссис Маклинтик. Присилла, когда хочет блеснуть, может счесться красавицей. А сейчас она блещет, хотя и не в духе. Волосы ее длинней, чем в тот мой приезд к Фредерике; лицо худощавей. Что-то в линиях тела сейчас напряженное и вместе гибко-отдающееся — такая податливая гибкость позы бывает свойственна иным женщинам в разгар любовного романа, точно поза атлета-борца в перерыве между схватками. На щеках ее румянец. Стивенс что-то громко говорит ей — он в превосходном настроении. Встречи не избежать; а отчаянно не хочется встречи. Надо бы подготовить почву — пояснить хоть как-то их совместное присутствие. Но к этим пояснениям толкает меня скорее инстинкт, чем логика, — ведь сам Лавелл говорил об их связи как о чем-то общеизвестном.
— Военного зовут Одо Стивенс. Я был с ним на курсах.
— Так вы его знаете? — произнесла миссис Маклинтик. — У него вид немножко…
Она не кончила фразы. Но и так понятно, что она уловила уже основное в Стивенсе, общий его внешний тон. Для этого не нужно быть психологом… В эту минуту Стивенс заметил нас. Помахал приветственно рукой. Тут же сказал Присилле. Та взглянула, тоже помахала рукой. Начала что-то говорить Стивенсу. Не слушая ее, он вскочил и пошел к нашему столику. Теперь вся надежда на миссис Маклинтик, на ее бесцеремонные манеры — она может спасти положение, дав Стивенсу почувствовать, что он четвертый лишний, и если не прогнать его, то хоть сократить разговор до предела. Ей нетрудно обратить ситуацию из щекотливой в эксцентрически-причудливую. Я даже почувствовал к ней благодарность — за то, что она здесь. Но ей не суждено было проявить свои спасительные качества. Не дал этого сделать Стивенс. Я совершенно не учел происшедшей в нем перемены. Ему и раньше не занимать было самоуверенности, но в Олдершоте он еще не знал, как себя наилучшим образом подать, как выжать из своей личности, так сказать, максимальную стоимость. Козырей у него было несколько (я их попытался перечислить Лавеллу), и довольно крупных. И он подавал себя по-разному — то, скажем, провинциальным самородком, то честолюбивым юным бирмингемским коммерсантом, то перспективным журналистом, то искателем приключений, то профессиональным ловеласом. Все эти роли он исполнял с изрядной легкостью. Стивенс определенно сознавал и то, что можно пленять также загадочной смутностью облика и происхождения. Именно этим, возможно, очаровал он вначале Присиллу. Но теперь его напористое обаяние в огромной степени усилилось; по тому, как шел он к столику, видно было, что Стивенс готов с ходу взять на себя роль запевалы в нашей, да и в любой другой, компании. Уж его-то веселить не надо: он сам всех развеселит. На погонах прибавилась звездочка, и, хотя он и теперь лишь лейтенант, на груди у него лилово-белая ленточка Военного креста (а на той сравнительно ранней стадии войны такая награда была редкостью).
— Ну, дружище, — сказал он, — это ж надо — встретиться здесь! Вот удача. Ты что, в отпуске или перевели в Лондон?
Не успел я еще ответить, как подошла Присилла, почти тотчас последовавшая за Стивенсом. Но что ж ей было делать? Сама-то она, вероятно, предпочла бы, подобно мне, отдалить неминуемую встречу, отделаться кивком или коротким словом в конце вечера, но Стивенс не оставил ей выбора. Стивенс привык действовать по вдохновению — он рванулся навстречу приятелю, и его не остановить было. А раз так, то она, очевидно, сочла лучшей тактикой присоединиться к нему: надо же как-то выходить из положения. Притом лучше не выпускать Стивенса из-под надзора: мало ли что он может брякнуть.
— Да, Ник, почему ты здесь? — спросила она с вызовом, точно это я, а не она сейчас в сомнительной компании. — Я думала, ты за сотни миль, в Ирландии. И Хью тут — как чудесно. Мы так давно не виделись. На той неделе Би-Би-Си передавала твою музыку, я слушала.
Самообладание полнейшее. Она ведь сознает, какая ходит молва про них со Стивенсом, — а не поведет и бровью. Не знает эта парочка, конечно, что они чуть не встретились здесь с Лавеллом. Но, возможно, их и этим не смутить. А уж Лавелл утолил бы свою жажду театральщины, появись они тут часом раньше. Смущеннее всех выглядит среди нас Морланд. Он, как говорится, совсем не на высоте. Сильно развитая интуиция сразу же подсказала ему, что пассаж выходит некрасивый; а взволновать его способна уже сама неожиданность встречи с Присиллой, его бывшей любовью. Притом ему досадно, что придется обнаружить перед ней свою теперешнюю связь с миссис Маклинтик. Он пробормотал что-то невнятное о переданной по радио музыке и замолчал. Миссис Маклинтик взирала на Стивенса — без всякой дружественности, но с немалым любопытством; а Стивенсу и этого достаточно.
— Послушай, — сказал он. — Коль вы здесь не сугубо уединенно, то можно, мы к вам подсядем? Редкостный ведь шанс — провести вместе лондонский прощальный вечерок, и, может, последний у меня. Я перед отплытием отпущен, отсюда прямо на вокзал, возвращаюсь в часть.
Он обращался вначале ко мне, но затем повернулся к миссис Маклинтик, как бы взывая к ее добрым чувствам. Она не поддержала его ни словом, ни кивком, но в то же время и не отказала.
— Как вам угодно, — сказала она. — Я слишком устала, и мне все равно. Весь день на ногах, отпускала картофельную запеканку, где фарш пополам с черствой слойкой. Но не рассчитывайте, что платить будет Морланд. Из наших денег на хозяйство я дала ему, чтоб заплатил нашу долю — и по одной рюмке на всех, если здесь найдется вино.
Морланд несвязно запротестовал, полусмеясь, полуконфузясь. Стивенс, со взгляда оценив миссис Маклинтик (как Стрингам когда-то на рауте, где исполнялась симфония Морланда), громко засмеялся. Она сверкнула на него сердитым взглядом — так-то, мол, ты мне сочувствуешь, — но без особой неприязни.
— Мы полностью себя окупим, заверяю вас, — сказал Стивенс. — У меня у самого осталось два-три фунта, но Присилла днем получила по чеку, так что, если понадобится, выжмем из нее.
— Не так-то легко будет выжать, — сказала Присилла, тоже смеясь, хотя вряд ли довольная развязными словами Стивенса, из которых ясно, что они не сейчас только встретились. — В конце концов придется, наверно, Нику раскошелиться, как родственнику. А в самом деле — ничего, если мы к вам подсядем, Ник?
Она произнесла это тем же бесшабашным тоном, что и Стивенс, но без его напористости. Сама она предпочла бы, конечно, не подсаживаться. Но поворачивать вспять было поздно. Она решила поддержать своего любовника, показать, что сама не робеет. Она-то, без сомнения, надеялась провести вечер вдвоем с ним — тем более последний вечер. Но и помимо этого, зачем бы ей присоединяться к компании, включающей мужа ее сестры? Она уже, однако, поняла, должно быть, что Стивенса невозможно отговорить, сбить со взятой им линии. Быть может, также и этим своим упорством он выгодно контрастирует с Лавеллом, который обычно покладист. Самовлюбленному Стивенсу явно требуется постоянное внимание и подстегиванье публики, перед которой можно красоваться. Мужчины этого пошиба привлекательны для женщины, но держать в узде их трудно. Я бы рад не принимать эту пару в наше застолье; но как не принять? Выйдет, чего доброго, сцена. Даже если воспротивлюсь, возражу, это будет не только нелепо, но и неполезно с точки зрения интересов Лавелла, могу даже повредить ему этим.
— Ты, я ведь вижу, колеблешься, Ник? — засмеялась опять Присилла. Ей, конечно, мои мысли ясней ясного.
— Не выдумывай, Присилла.
— Минутку, — сказал Стивенс. — Пойду разыщу официанта, добуду еще стул. Не уместиться всем на банкетке.
Он ушел. Миссис Маклинтик, обращаясь к Морланду, стала производить какой-то сложный финансовый расчет. Они будут заняты этим несколько минут. Присилла села, но без Стивенса, по-видимому, чувствует себя менее свободно — нагнула голову, роется в сумочке, словно избегая моего взгляда. Я почувствовал, что должен вслух определить свою позицию — теперь или никогда. Кратко засвидетельствовать положение дел — именно в том смысле, как свидетельствуют перед полицией.
— Мы тут до твоего прихода выпили рюмку с Чипсом.
Она подняла голову.
— С Чипсом?
— Да, лишь час тому назад. Он рассчитывал встретиться с тобой в «Мадриде» — на обеде, куда пригласила Бижу Ардгласс.
Теперь Присилла по крайней мере не повезет Стивенса в «Мадрид», если намеревалась повезти. Но с другой стороны, едва ли теперь она поедет туда и сама, простясь со Стивенсом. Что ж поделать. Не поедет так не поедет. Да и вряд ли она собиралась в «Мадрид». Ведь к полуночи все закрывается, а то и раньше.
— Но разве Чипс в Лондоне?
В голосе Присиллы нескрываемое удивление.
— Он в Штабе десантных операций.
— Служит там?
— Да.
— Он мне писал об этом лишь как о предположении.
— Предположение осуществилось.
— Чипс думал, его переведут не раньше чем недели через две — если вообще переведут. Я только утром получила от него письмо. Странствовало за мной по всей Англии. Я сейчас у тетушки Молли.
— Я дам тебе коммутатор штаба и добавочный.
— В «Мадрид» я не смогла поехать — занята, — сказала она весьма спокойно. — Завтра позвоню Чипсу.
— Он так и полагал, что ты у Дживонзов.
— Тогда почему же не позвонил?
— Надеялся встретиться с тобой в «Мадриде» — сделать тебе сюрприз.
Но романтический порыв мужа остался не оценен Присиллой.
— У Дживонзов сейчас еще больший хаос, чем всегда, — сказала она. — Там живет Элеонора Уолпол-Уилсон; раньше тетя Молли не любила ее, но теперь их водой не разлить. И еще два польских офицера, у которых разбомбило дом и жить им негде. И девушка какая-то, забеременевшая от моряка-норвежца.
— Это кто же забеременел от норвежца? — спросил Стивенс. — Не из наших знакомых, надеюсь?
Он уже вернулся. Свое нехитрое «свидетельство» я сделал. И больше пока делать нечего. Приходится молча мириться с ситуацией — до нового благоприятного момента. Я мало что могу тут предпринять, и от этого факта не уйти. Последовала перемена мест за столиком, Стивенс сел на банкетке рядом с миссис Маклинтик, а меня усадил по другую ее руку. Присилла оказалась напротив Морланда. Рассаживал нас Стивенс, скорее всего, из простого желания утвердить свою волю. Я поздравил его с наградой.
— С крестиком этим? А шикарная вещичка, верно? — сказал он. — И вполне заслуженная — мы оба заслужили по кресту за доблестную терпеливость, проявленную на Олдершотских курсах. Ничего изнурительнее у меня уж потом не было, чем эти лекции о германской армии. До сих пор мне снятся, будь они неладны. А ты в военном министерстве или где?
— Я в отпуске — еду завтра за город к своим.
— Желаю тебе провести отпуск так же сладко, как я свой.
Ему и на мысль не приходит, что для родственников Присиллы — и для меня в том числе — слова его могут звучать неприлично; что неприятно мне слышать о сладости его адюльтера с Присиллой. Но дерзкое бесстыдство любого рода невольно внушает к себе уважение — и, быть может, не зря. А Лавелл и сам нахал не из последних. Кары обычно не бывает без вины.
— Куда отплываете? Тайна, конечно?
— По секрету скажу — нам выдана тропическая форма.
— На Ближний Восток?
— По-моему.
— А может, на Дальний?
— Может, и туда. Но думаю, на Ближний.
До сих пор Морланд хранил молчание — все еще, видимо, не мог или не хотел приладиться к перемене за столом. Эти заминки ему свойственны, дело тут вряд ли в том, что ему незнаком Стивенс и его разговорная манера. Подсядь к нам, скажем, двое пожилых музыкальных критиков, всю жизнь знакомых Морланду, и он бы тоже замолчал на время. Затем, конечно, ожил бы — и заговорил бы обоих насмерть. Так и теперь он встрепенулся вдруг и начал оживленно:
— О господи, как бы я хотел отбыть без промедления на Дальний Восток. Готов, как Брамс, таперствовать где-нибудь в борделе — играть там опусы самого даже Брамса; кое-что из «Реквиема» очень бы подошло. Но только бы перенестись в Сайгон или Бангкок, оставить позади Лондон и затемнение.
— Я в автобусе на днях разговорился с морским офицером, он только что из Гонконга и рассказывает, жизнь там презабавная, — сказал Стивенс. — Но позвольте, мистер Морланд, кое в чем безотлагательно признаться. Конечно, мне хотелось посидеть с Николасом, потому я и подошел, но другая веская причина заключалась в том, что я узнал вас. И потянуло сказать вам, какой я горячий ваш поклонник. День, когда я слушал вашу симфоническую поэму «Старый порт», стал одной из вершинных дат моей юности. Мне было тогда лет шестнадцать. Вы-то, наверно, забыли, что Бирмингем имел возможность слышать вашу поэму, что вы сами туда приезжали. Но я не забыл. Я всегда хотел увидеть вас и сказать, как она меня восхитила.
Неожиданный открылся у Стивенса козырь! Морланд никогда не хвастает своими сочинениями, но, естественно, с удовольствием выслушал эту пылкую и такую нежданную похвалу. Я и не подозревал, что Стивенс — любитель музыки. Очевидно, в его арсенале это еще одно оружие, и, быть может, очень действенное. Судя по всему, фронт его наступления на жизнь сильно расширился со времен Олдершота. Тут в разговор вмешалась миссис Маклинтик.
— «Старый порт» — любимая вещь Маклинтика, — сказала она. — Бывало, начнет хвалить и никак не кончит — я уж запретила ему и начинать.
— После бирмингемского исполнения Маклинтик был, пожалуй, единственным из критиков, кто отозвался одобрительно, — сказал Морланд. — Даже Госседж, эта старая киска, мурлыкнул холодно. Остальные же критики окончательно похоронили мою музыку и меня вместе с ней. А сейчас я точно Нерон, встретивший в царстве теней того неизвестного, что — один из всех — положил цветы ему на могилу.
— Ты еще не в могиле, Морланд, — сказала миссис Маклинтик, — и не в царстве теней, хотя ты все твердишь, что живешь в аду. Не видела еще такого нытика.
— Я не о своей могиле, а о погребении моей музыки, — сказал Морланд. — В тот год критики ее хоронили. И не обязательно быть мертвым, чтобы чувствовать себя как Нерон. Совсем напротив.
— Но только римскую оргию нам тут не устроить, — сказал Стивенс. — Не то что упиться, а даже объесться нечем. Вы согласны, миссис Маклинтик?
Теперь Стивенс направил свои чары на нее — этакий Нарцисс, решивший завоевать здесь, за столиком, всех до последнего.
— Судя по вашим словам, — продолжал он, — вы не из ярых любительниц Морланда. Как же так? Неужели можно устать от похвал «Старому порту»? Вы меня удивляете.
— Ну нет, я любительница, — сказала миссис Маклинтик. — Да еще какая. Вы бы посмотрели утром на него, небритого, в постели. Нельзя его не полюбить тогда.
Мы посмеялись, и сам Морланд громко засмеялся, хотя он предпочел бы, пожалуй, чтобы Присилла не услышала этих постельных подробностей. Правда, тон у миссис Маклинтик по-своему любящий. Насмешливым ответом она, намеренно или нет, помешала Стивенсу продолжить серьезный разговор о музыке Морланда. Но Стивенс еще усиленнее принялся оказывать ей знаки внимания — возможно, просто по привычке, — и она, видя себя привлекательной, смягчилась уже. Это ухаживанье Стивенса, пусть шутливо-ресторанное, вряд ли может нравиться Присилле: ей малоприятно сознавать, что Стивенсу все равно за кем приволокнуться. Неужели еще надо состязаться и бороться за него, вероятно, подумалось ей. Конечно, он ухаживает не всерьез, но в данных обстоятельствах она ведь вправе рассчитывать на все его внимание. По этой ли, по иной ли причине, но Присилла сидела теперь молча. И вдруг прервала говоривших:
— Вы слышите?..
— Что?
— По-моему, бомбят.
Все примолкли. С улицы доносится шум движения, взревывает мотор грузовика где-то тут во дворе, и за этим гулом только лишь мерещится слабая, дальняя зенитная стрельба. Кругом за столиками тоже никто не встревожен.
— Не думаю, — сказал Морланд. — У нас, лондонцев, ухо уже тонкое, распознавать налет научены.
— Когда в отпуске, налеты действуют на нервы, — сказал Стивенс. — В бою у тебя куча мелких обязанностей, об опасности некогда думать. И ты вооружен. А при чертовом налете кажется, что метят именно в тебя, и нечем защититься.
Я спросил, много ли раз он участвовал в рукопашном бою.
— Да нет, всего ничего.
— Ну и как в таком бою?
— Не так уж скверно.
— Нервы взвинчены?
— Описать затрудняюсь, — сказал он. — Перед самым боем взвинчены, конечно. Это как в школу или на службу в первый раз. Ощущение колючее, но волнительное.
— Как в школу? — сказал Морланд. — Тогда на войне еще тягостней, чем я думал. В школу я вовсе не хотел бы вернуться. Тут, в Лондоне, один уж вечный недосып угнетает. Однако в последние дни бомбежка значительно ослабла. Там, где ты служишь, Ник, тоже бомбят?
— Бомбят.
— Мне думалось, у вас там очень мирно.
— Не всегда.
— Под бомбами я ощущаю не то чтобы грубое физическое чувство страха — скорее острую неловкость, — сказал Морланд. — По крайней мере теперь, когда привык. Тебя как бы заставляют быть свидетелем ужаснейшего хамства. И как будто провалился вечер, на который ты созвал народ; и друг твой проявил предельную неделикатность; и оказалось внезапно, что потерял ты паспорт, бумажник, работу, девушку. Все это вместе, многократно умноженное.
— А позавчера ты напугался, Морланд, когда в ванной стекла из окна посыпались, — сказала миссис Маклинтик. — Дрожал как осиновый лист.
— Я отнюдь не записной храбрец, — поморщился Морланд. — Притом я только что взбежал на четвертый этаж к нам — и пожалуйте, осколки чуть не в лицо. Я лишь пытаюсь определить это чувство; ты согласен, Ник, что в нем главенствует неловкость?
— Полностью согласен.
— Тут зависит от многого, — сказал Стивенс. — От людей, с которыми ты рядом, от того, выспался ли ты, удалось ли поесть, выпить и так далее. Вот в нашем рейде…
Он не кончил — перебила Присилла. Она вся побледнела. Мы увидели на миг, какой она будет в старости.
— Ради бога, не надо без конца о войне, — сказала она. — Неужели нельзя хоть немножко о чем-то другом?
Все ее хладнокровие куда-то исчезло. Уступило место внезапному и полному отчаянию. Стивенс, которого так огорчительно перебили, не понял, что́ с ней. Он решил — совершенно ошибочно, — что Присилла трусит.
— Налета ведь нет, дорогая, — сказал он. — О чем же тревожиться?
Хотя, по своей обычной развязности, он вполне мог бы и к миссис Маклинтик обратиться со словом «дорогая», но в первый это раз послышалась в его голосе нежность, смешанная с раздражением, — интонация, способная вмиг приоткрыть всю интимность отношений.
— Я знаю, что налета нет, — ответила Присилла. — Мы давным-давно уже решили, что нет. Просто мне наскучил этот разговор.
— Ну что ж, мы сменим тему, — сказал Стивенс мягко, но еще не понимая, что дела не поправишь.
— У меня голова разболелась.
— О, прости, милая. Я думал, ты испугалась.
— Вовсе нет.
— Почему ж ты молчала о том, что голова болит?
— Сейчас только разболелась.
Вид у Присиллы теперь злой — крайне злой и удрученный. Я ее знаю достаточно и привык к частой смене ее настроений; но ее теперешнее поведение непонятно и мне. Возможно, решив, что сделала ошибку, когда позволила Стивенсу пересесть за наш столик, она сейчас хочет увести его под этим предлогом, раз нет иного способа.
— Ну и что же будем делать? — сказал он. — У нас почти час еще в запасе. Хочешь, пойдем куда-нибудь, где тише. Здесь душно и шумно.
Он явно готов сделать все, чтобы ее ублажить. До сих пор развязная манера Стивенса скорее затушевывала, чем подчеркивала их близость. Теперь же в голосе его звучат забота и досада любовная вместе. И Стивенс взял этот интимный тон вовсе не из желания выставить напоказ то, что Присилла его любовница, — хотя в другой компании он бы наверняка не прочь этим похвастать. Просто он озабочен и не понимает, что с Присиллой.
— А куда пойдем? — сказала она. Не спросила, а сказала безнадежно, ибо нет поблизости такого места, где можно бы найти покой и тишину.
— Поищем что-нибудь.
С минуту она глядела на него молча.
— Пожалуй, я домой отправлюсь.
— Но ты ведь хотела меня проводить — сказала, что проводишь.
— У меня голова трещит. И почему-то вдруг ужасно нехорошо мне. Просто ужасно.
— И не поедешь со мной на вокзал?
— Прости.
В голосе ее слезы. Стивенс явно сбит с толку. Не знаю и я, что стряслось. Расстроила ли ее сравнительная холодность любовника после нескольких дней встречи, несомненно страстной? Но хотя Стивенс и молод и непривычен обращаться с аристократками, опыта по женской части у него достаточно и выработались определенные принципы поведения. Во всяком случае, он произнес решительно:
— Тогда я отвезу тебя домой.
Он сказал это без особого пыла — ведь приходится бросать застолье, где он уже пробился в центр внимания, — но и без всякого притворства. Произнес вполне искренне, а не как вежливую формальность, которая тут же будет отклонена, поскольку Стивенсу пора на поезд. Он в самом деле намерен ее отвезти. Меньшего и не следовало ожидать от любовника; но, по меркам Стивенса (насколько я его знаю), это уже великодушие — великодушное снисхождение к внезапному капризу. Присилла, видимо, оценила безропотную готовность Стивенса.
— Нет, — сказала она твердо.
— Отвезу без всяких.
— У тебя все вещи здесь. Тебе надо их на вокзал.
— Отвезу — и заеду потом за ними.
— Ты не успеешь.
— Успею.
— Нет… — сказала она. — Не хочу я… Сама не знаю почему… как-то вдруг нехорошо мне… не пойму, что такое… и хочу быть одна… это необходимо…
Ситуация стала уже тягостной. Даже миссис Маклинтик безмолвствовала, оробев. Морланд зажигал сигарету, гасил в пепельнице, зажигал новую. Напряжение длилось нескончаемо.
— Ну едем же.
— Нет, я сама.
— Но…
— Я отвезу тебя, Присилла, — сказал я. — Ничего нет легче.
Это послужило ей как бы толчком.
— Не надо никому меня отвозить, — сказала она. — До свидания. — Помахала Стивенсу рукой. — Я напишу.
— Дай хоть в такси посажу, — пробормотал он, встав с банкетки. За соседним столиком как раз усаживались — и загородили ему дорогу. Присилла повернулась, быстро пошла к стеклянным дверям. У дверей оглянулась, послала поцелуй. И скрылась. Когда Стивенсу дали пройти, ее уже не было. Все же он двинулся следом.
— Какой переполох ни с того ни с сего, — сказала миссис Маклинтик. — Она и с тобой так вела себя, Морланд?
Возможно, хоть и не слишком вероятно, что Присилла отправилась к Лавеллу в «Мадрид». Такой порыв подходит больше для театра и крайне бы понравился Лавеллу — как сюжетный ход, безотносительно к его личным проблемам. Внезапно так, против всех ожиданий, рвануться на примирение к мужу? К счастью или к несчастью, но в реальной жизни это редко происходит.
Однако почему все же Присилла ушла, оставив Стивенса на бобах? Конечно, она, и любя Стивенса, способна проявить вдруг норов, раскапризиться — причин для этого немало. Стивенс, наверно, весьма трезво смотрит на их связь; хотя кто знает, ведь Лавелл говорил, что у них дело пахнет браком. И возможно, Лавелл прав. Сейчас-то Стивенс оплошал в ту самую минуту, когда высказал предположение, что Присилла трусит. Этим он ее определенно разозлил. В военное время бывают и приступы страха, но скорее не от боязни, а от нервов ей почудилась воздушная тревога. Обычно Стивенс проницательней в таких вещах. Быть может, нервы разыгрались у нее от небольшой любовной ссоры; быть может, начал уж ей приедаться Стивенс — или она опасается, что сама начинает ему прискучать; недаром она пришла сюда уже не в духе. В равной степени возможно, что ее давила мысль о разлуке, угнетала головная боль; а мы своим присутствием и вестью о том, что Лавелл в Лондоне, расстроили ее еще сильней. Растолковать поведение Присиллы так же трудно, как понять, почему она, собственно, отдалась Стивенсу. Если ей хотелось позабавиться, пока муж отсутствует по не зависящим от него причинам, то зачем эта скандальная огласка и весь тарарам? В конце концов, Лавелл как муж предпочтительней многих. Пусть он не такой живчик, как Стивенс, но по-своему и Лавелл энергичен. Или же Присилла не может без скандалов? У некоторых женщин есть потребность делать мужчину несчастным. Не в этом ли разгадка Присиллы? Есть у нее в лице этакое что-то. Возможно, она просто мучит сейчас Стивенса для разнообразия, так сказать. Ей ведь не привыкать — в том же духе мучит она Лавелла, а раньше мучила Морланда. Но Стивенс не из мучеников; вот он уже возвращается к столику с видом учтиво-встревоженным, но отнюдь не потрясенным.
— Нашла она такси?
— Должно быть. Я вышел на улицу — она уже канула в затемнение. И как раз отъезжают несколько такси.
— Крупная муха ее укусила, — сказала миссис Маклинтик.
— Ужасно получилось, — сказал Стивенс. — Беда в том, что меня вещи парализовали. В гардеробе у меня чемодан и еще куча всяческого барахла — ребята просили привезти, — и надо все это на вокзал.
Он взглянул на свои часы, сел снова за столик.
— Давайте-ка выпьем еще, — сказал он. — То есть, конечно, если принесут.
Короткое время затем он хранил встревоженный вид, беспокоился о Присилле, уверял нас, что перед вечером все было с ней в порядке. Упрекал себя вслух, что не смог проводить ее, желая услышать от нас подтверждение, что он сделал все возможное. В меру потревожась, наконец он успокоился на том, что такова уж женская природа.
— Я ей позвоню с вокзала, — сказал он.
Выходка Присиллы сильнейшим образом взбодрила миссис Маклинтик, буквально подняла ее жизненный тонус.
— Что это с девушкой произошло? — удивлялась она. — Зачем этот внезапный уход? По-моему, ей мое тряпье не понравилось. Но приходится надевать. Работа у меня такая, что нельзя мне разодевшись как на свадьбу. Ты ее давно знаешь, Морланд. С чего это она?
— Не имею ни малейшего понятия, — ответил Морланд, точно отрезал. Если раньше, глядя на него, мне вспомнилось, как он, бывало, ведет себя за столиком с Матильдой, то сейчас его тон вызвал в памяти застольные стычки супругов Маклинтик. Миссис Маклинтик поджала губы — то же самое, возможно, подумалось и ей.
— Куда это запропастился Макс? — сказала она. — Он должен бы уж подойти. В «Мадриде» спеть ему недолго, выход у него там рано.
— Вероятно, спать поехал, — сказал Морланд.
— Наверно, — согласилась миссис Маклинтик. — И в этом больше толку, чем сидеть вот тут, — прибавила она. — Особенно если надо рано вставать, как мне.
— Вы не о Максе ли Пилгриме? — спросил Стивенс.
— Он живет у нас сейчас, — сказал Морланд.
Стивенс выпрямился заинтересованно. Морланд пояснил, что они с Пилгримом давние приятели.
— Всю жизнь хочу побывать на его концерте, — сказал Стивенс. — А в «Мадриде» он как раз воскрешает свои старые песенки. Вы ведь с концерта его сюда ждете? Я прочел в газете и хотел пойти, но Присилла отказалась наотрез. Теперь понимаю — она весь день сегодня не в себе. Мне бы надо предвидеть, что назревает гроза. Надо наперед знать реакции любимой женщины. Да, тут во многом моя вина. Она сказала, что уже слышала Пилгрима и ее тошнит от него. А я возразил, что песенки его чудесны. Я, собственно, сам даже пробовал писать в этом стиле.
Я спросил, печатал ли он эти пробы пера в журналах.
— Они для приватного потребленья, — ответил он со смехом. — Тиснуть мне удавалось только сентиментальные вирши — в местной прессе. А стихи пилгримовского, так сказать, пошиба им бы не подошли.
— Почитайте-ка нам, — сказал Морланд.
Ему явно понравился Стивенс — своей энергичной и раскованной напористостью, хозяйски овладевающей застольем. Правда, одного начального напора тут мало, требуется неустанно закреплять успех. По мнению художника Дикона, ничто не наводит такого уныния на общество, как кипучее начало, вызвавшее ложные надежды и сникшее. Но Стивенс не сникает. У него есть чем подкреплять первоначальный натиск. Теперь же, после ухода Присиллы, Морланд еще больше надежд возлагает на Стивенса. Он хочет отвлечься от Присиллы, направить разговор в другое русло. А Стивенс это умеет. Его стихи — вот и новое русло. И видно сразу же, что Стивенс не заставит себя долго просить.
— К примеру, накропал я стишок о пехотной части, где начинал войну, — сказал он.
— Вот и прочтите.
Стивенс замялся слегка, засмеялся — но лишь для приличия. Он повернулся ко мне.
— Николас, ты был младшим офицером в батальоне?
— Был — целую вечность.
— И приходилось, значит, подымать тост за короля — на полковых приемах в честь офицеров союзных частей?
— Приходилось.
— «Мистер младший, двиньте верноподданнический тост» — и встаешь и предлагаешь: «Джентльмены, за короля!»
— А затем за союзные полки — за такой-то канадский, такой-то австралийский.
— Ты это в самом деле, Ник? — изумился Морланд. — Вставал и провозглашал: «Джентльмены, за короля»?
— Я обожал эти тосты, — сказал Стивенс. — Вкладывал в них все сердце. Это единственное, что мне нравилось в том пехотном шалмане. Я потому Ника спросил, что стишок мой так и называется: «Торжественный обед».
— Давайте. Слушаем, — сказал Морланд.
Стивенс откашлянулся и без намека на смущение начал негромко и выразительно:
В четверг пьем бурое вино, Обед торжественный даем. За короля — и заодно За австралийцев тосты пьем. Полковник взреял в облака. Но лейтенашки за столом В дыму дрянного табака Бубнят упорно о своем. Сломали в роте пулемет — Ты отдувайся, отвечай; Гроши за службу получай; У Джо с морячкой недолет… А над окурками цветут Тюльпаны восковые в ряд. Они, как ласка проститут- Ки, нам отрады не дарят. А сверху, на чужой волне, Немецким голосом долбя, Приемник вести о войне Накатывает на тебя.Стивенс замолк. Улыбнулся, откинулся на спинку стула. Он и не подозревает, что эти стихи заставили меня взглянуть на него совсем по-новому. Печаль, пронизывающая их, открыла мне совершенно иную сторону его натуры, обычно спрятанную за жизнерадостным нахрапом. Несомненно, печаль эта — логическое дополненье и противовес его жизнерадостности: при таком постоянном обильном расходе энергии грусть неизбежна. Но о подобных очевидных вещах всегда как-то забываешь. Возможно, Присилла с первого знакомства разглядела в Стивенсе контрастное сочетание веселья с грустью, и оно привлекло ее; в этом сочетании больше подлинной мелодрамы, чем во всех лавелловских эффектах. Мы похвалили стихи. Мне кажется, Морланда они удивили почти так же, как меня.
— А не сказал бы, что они уж очень в стиле Макса, — заметил он.
— Но вдохновлялся я Максом Пилгримом.
— Не слишком они веселые, — сказала миссис Маклинтик. — Вы, я вижу, нытик не хуже Морланда.
Она произнесла это своим обычным бранчливым тоном, но Стивенс явно победил и ее, потому что она тут же улыбнулась ему весьма тепло. От этой теплоты или, скорее, от собственных стихов Стивенс расчувствовался на минуту.
— Не слишком было мне весело в то время, — сказал он. — Тоскливо там было служить однозвездочником.
И тут же произошел в нем мгновенный скачок настроения, столь для него характерный.
— А хотите, прочту из похабных? — предложил он.
Мы не успели ответить; мимо нашего столика шел рослый армейский капитан, краснощекий, коротко стриженный, тоже в полевой форме. Завидев Стивенса, он зычно захохотал, ткнул в воздух рукой.
— Одо, сынок, — громыхнул он. — Подумать только, где привелось увидеть твою физиомордию!
— Надо же — Брайан, старый ты хрячище!
— Что, гульнул вовсю, наверно, а теперь, как и я, садись в ночной поезд и опять надевай треклятый хомут. Я, представь, второй день не просыхаю.
— Садись, Брайан, выпьем. Времени навалом.
— Нет, рисковать разжалованьем не хочу за самоволку.
— За что? — не поняла миссис Маклинтик.
— За самовольную отлучку, — пояснил Стивенс; характерно, что он не пропустил вопрос мимо ушей — не желает ни на секунду выпускать ее из силового поля своих чар. — Да ну, Брайан, время еще есть.
Но краснощекий капитан не поддался.
— Такси же искать надо. Притом вещи у меня.
Стивенс взглянул на часы.
— И у меня тоже, — сказал он. — Чемодан, вещмешок и еще рухлядь. Пожалуй, ты прав, Брайан. Надо и мне с тобой. Вдвоем и за такси платить наполовину меньше.
Он встал из-за столика.
— Придется мне проститься, — сказал он.
— Неужели? — сказала миссис Маклинтик. — Только-только завязали знакомство, и уже покидаете нас. Может быть, обиделись на что-то, как ваша подруга?
Впервые, наверно, в жизни она так усиливалась выказать сердечность. Полный триумф для Стивенса. Он засмеялся, радуясь такому своему успеху.
— Долг зовет, — сказал он. — Хотелось бы пробыть с вами до четырех утра, но нужно на поезд. Да и все равно здесь собираются уж закрывать.
Мы стали прощаться.
— Чудесно было с вами познакомиться, мистер Морланд, — сказал Стивенс. — Пью за следующее исполнение «Старого порта» в одной программе с вашим наиновейшим сочинением — и дай мне бог оказаться среди слушателей. До свидания, Николас.
Он протянул мне руку. Теперь он держится не так развязно, как бы вернулся к прежней олдершотской, менее самоуверенной манере. Вероятно, не решил, какой прощальный тон будет всего эффектнее. Возможно, начинает все же понимать, что неприятно и неловко было мне видеть его с Присиллой. Быть может, колеблется, не знает, упомянуть ли еще напоследок о капризном ее исчезновении. Решил, что лучше не упоминать.
— До новой встречи, — сказал он.
— До свидания.
— Желаю удачи в бою.
— Да идем же, рохля ты этакая, — сказал краснощекий. — Кончай нежные прощания, а то последнее такси упустим. Веселей действуй, Одо. Не забывай, нам еще предстоит треп с комендантом вокзала.
Хлопнув друг друга по плечу, они ушли.
— Забавный мальчик, — сказала миссис Маклинтик.
Несомненно, Стивенс произвел на нее сильное впечатление. Об этом говорит весь ее тон. Хотя встреча с ним здесь была малоприятна мне — да и сотрапезники мои не проявили особой радости, когда он подсел к нам, — но с уходом Стивенса ушло и оживление. Даже Морланд, ерзавший при прощальных сожалениях миссис Маклинтик, теперь сознает, что без Стивенса скучно.
Я сказал, что мне уже пора.
— О господи, зачем же сразу врассыпную, — сказал Морланд. — Мы ведь только лишь увиделись. Нам не дали еще поговорить о самом насущном — о смысле искусства и о том, как раздобыть печенье на черном рынке.
— Новую порцию вина уже не подадут.
— Зайдем тогда к нам хоть на минуту. У нас, возможно, осталось пиво. Старика Макса поднимем с постели. Он любит посидеть, поболтать.
— Ладно, зайду, но ненадолго.
Мы уплатили по счету, вышли на Риджент-стрит. В кромешной тьме помигивали электрическими фонариками проститутки — странная светящаяся разновидность ночных животных. Рекламируя себя, то одна, то другая бегло освещала свое лицо лучом фонарика, словно вспыхивала перед иконой свеча в сумраке церкви.
— Остроумно, — проговорил Морланд.
— Вот и Маклинтик похвалил бы этих тварей, — сказала миссис Маклинтик не без горечи.
Рядом остановилось такси, высадило пассажиров. Мы сели в него. Морланд дал адрес квартиры, где жил прежде с Матильдой.
— Я пришел к выводу, что нет для женщин ничего ненавистней в мужчине, чем бескорыстие, — сказал он.
Замечание не имело прямого отношения к предыдущему разговору: очевидно, это был просто итог длинной цепи умозаключений Морланда.
— Нечасто приходится женщинам сталкиваться с бескорыстием, — возразила миссис Маклинтик. — Я вот за сорок лет ни разу не столкнулась, но, возможно, мне повезло.
— Праведных средневековых королей страшно, должно быть, ненавидели их жены, — сказал Морланд. — Но, как ты верно заметила, Одри, тема эта теперь неактуальна.
Такси уже доставило нас и ушло, и Морланд отмыкал ключом парадную дверь дома, когда раздалась сирена воздушной тревоги.
— Как раз домой успели, — сказал Морланд. — Вот это тревога настоящая, не то что та, почудившаяся в ресторане. Теперь звучание доподлинное. Как у нас шторы затемнения, задернуты? Я уходил последним, а я всегда такие вещи забываю.
— Если Макс пришел, то задернул, — сказала миссис Маклинтик.
Мы поднялись по лестнице, одолев порядочное число ступенек — Морланд живет на верхнем этаже.
— Надеюсь, что Макс уже дома, — сказала миссис Маклинтик. — Беспокоюсь я всегда, как бы его не застигла где-нибудь тревога. Проведет ночь в убежище и захворает. Он все хочет испытать, как ночуют в метро, а я ему категорически запрещаю.
Если один ребенок у нее — Морланд, то второй, очевидно, Макс Пилгрим. Она вошла в квартиру, за ней и мы. Прежде чем включить свет, Морланд удостоверился, что все окна затемнены. В электрическом свете квартира предстала все той же, прежней, и по виду и по обстановке, — только неопрятнее, чем при Матильде.
— Макс!.. — окликнула миссис Маклинтик из спальни. В другой комнате прозвучал слабый ответный возглас. Слов не разобрать, а голосок этот, высокий и щебечуще-дрожащий, звучит столько лет с предрассветных эстрад бесчисленных и позабытых ночных клубов.
— Мы гостя привели, Макс, — опять крикнула миссис Маклинтик.
— Хоть бы пиво обнаружилось, — сказал Морланд. — Сомневаюсь я что-то.
Он ушел на кухню. Я остался в коридоре. Отворилась дверь в конце его, и показался Макс Пилгрим — высокая тонкая фигура в роговых очках и зеленом парчовом халате. Последний раз я его видел много лет назад — то ли на эстраде, то ли (и это вероятней) на рауте издали. Он одно время снимал квартиру вдвоем с Хьюго, братом моей жены. Но мы в тот период мало общались с Хьюго и ни разу не побывали у него. Пилгрим тогда, по слухам, собирался уйти со сцены и стать художником по интерьеру, примкнув к Хьюго. Даже в те времена песни Пилгрима начали уже устаревать. Но художником Пилгрим так и не сделался; и как бы ни критиковали Макса Пилгрима за старомодность, но спрос на него сохранялся до самой войны. Теперь же, разумеется, песни его воплощают для публики все былое и милое. Хотя волосы его взъерошены сейчас — а может, именно поэтому, — кажется, что он вот-вот запоет. Он сделал шаг-другой по короткому коридору, остановился.
— Наконец вы пришли, дорогие мои, — сказал он. — Вы не знаете, как я рад вам. Простите, что я в таком виде. Должно быть, краше в гроб кладут. Перед тем как лечь, я снял грим и являю вам теперь свое натуральное и неприкрашенное лицо — что я делаю всегда с крайней неохотой.
Он действительно бледен как смерть. Я счел сперва, что попросту он сильно постарел. Но оказывается, это он разгримировался. Я заметил также, что кисть правой руки у него забинтована. Голос тусклее обычного. Он всматривается неуверенно в меня, незнакомого в военной форме. Я напомнил, что женат на сестре Хьюго, что мы уже встречались в прошлом раза два. Пилгрим пожал мне руку своей левой.
— Дорогой мой…
— Как поживаете?
— Я пережил очень нерадостный вечер, — сказал он, продолжая сжимать мою руку. Я почему-то ощутил вдруг странную неловкость, замешательство, даже предчувствие чего-то скверного — хотя эта излишне пылкая актерская манера жать руку мне с давних пор привычна.
Я попытался высвободить пальцы, но он держит цепко, как будто боится упасть, если отпустит.
— Мы ждали вас к себе за столик после «Мадрида», — проговорил я. — Морланд мне сказал, что вы сегодня исполняли там старые добрые ваши песни.
— Исполнял.
— И задержались в «Мадриде»?
Макс Пилгрим выпустил мои пальцы. Скрестил руки на груди, смотрит на меня. Пожатие кончилось, но под этим взглядом мне по-прежнему как-то неуютно.
— Вы бывали в «Мадриде»? — спросил он.
— Бывал — нечасто.
— А нравилось вам там?
— Там всегда хорошо посидеть.
— Теперь уже — нет.
— Почему?
— Конец «Мадриду», — сказал он.
— Конец?
— Конец.
— Сезону конец или вашим концертам?
— Залу конец — зданию — столикам и стульям — танцевальному кругу — стенам — потолку — золоченым колоннам. Сегодня вечером в «Мадрид» угодила бомба.
— Макс… — ахнула миссис Маклинтик; этот вскрик ужаса вполне уместен. Слышал Макса и Морланд, вышедший из кухни с бутылкой пива и тремя стаканами. Он молча постоял с нами в коридоре; затем все вошли в гостиную. Пилгрим тут же опустился в кресло. Обхватил правую руку левой, здоровой, медленно закачался взад-вперед.
— Посреди концерта, — произнес он. — Мне шикали как раз. Такого шипа даже на гастролях не бывало.
— Значит, был все же налет, — сказал Морланд.
— Был, — сказал Пилгрим. — Был-был.
Пауза. Пилгрим сидит, смотрит куда-то перед собой, прижимая раненую руку. Мне надо задать ему вопрос, но язык мой не поворачивается. Наконец не я, а миссис Маклинтик задала этот вопрос.
— Убило кого-нибудь?
Пилгрим кивнул.
— Много?
Пилгрим кивнул опять.
— Я сам помогал выносить, — сказал он.
— Неужели столько жертв?
— Была безумная сумятица, как всегда в таких случаях, — сказал он. — Пандемониум. Как в дантовом аду. И все это — во мраке затемнения. Я с дежурными гражданской обороны вынес шестерых или семерых. А может, и больше. Убитых. Среди них и знакомые были. Ужас, говорю вам. Ну, кое-кто и уцелел, как я вот. Меня хотели в больницу, но, когда забинтовали руку, я только одного желал — домой, домой. Всего лишь царапина, и я добрался, лег в постель. Но я так рад, что вы пришли. Так рад.
Теперь надо спрашивать, выяснять дальше. Никуда от этого не уйти. Надо собраться с духом.
— Там была Бижу Ардгласс с друзьями, — начал я.
Пилгрим взглянул на меня удивленно.
— Вам это известно? — сказал он.
— Да.
— Она и вас приглашала? Если да, то ваше счастье, что не смогли принять приглашение.
— А они…
— Бомба пробила потолок как раз над их столом.
— И…
— И больше уж Бижу не угощать друзей.
Пилгрим отвернулся, провел забинтованной рукой по глазам. Жест невольный, ничего театрального в нем нет.
— А те, кто с ней сидел?
— Во всем том конце зала не уцелел никто. Самый центр разрушения. Где эстрада — не так. Потому я и сижу с вами.
— И никого в живых за тем столом?..
— Их-то тела я и помогал выносить, — сказал Пилгрим. Сказал обыденно и просто.
— И Чипс Лавелл…
— Он был в их числе.
Морланд быстро глянул на меня. Миссис Маклинтик взяла Пилгрима за руку.
— Ты-то как добрался домой, Макс? — спросила она.
— Подвезли на одной из пожарных машин. Представляешь?
— Возьми, — сказал Морланд. — Выпей пива.
Пилгрим взял стакан.
— Я Бижу знаю много лет, — сказал он. — Еще девочкой знал, она косу носила. И в кордебалет поступала — но безуспешно почему-то. Непонятно, ведь у нее от обоих родителей театральная кровь в жилах. Представьте, отец ее был Абаназаром в «Аладдине», где моя мать играла самого Аладдина. Но для Бижу этот неуспех обернулся успехом. На сцене никогда бы ей так не повезло, как в манекенщицах. Не удалось бы вращаться среди таких богачей.
Помолчали. Морланд неловко прокашлялся. Миссис Маклинтик траурно шмыгнула носом. Издалека донесся гул нежданно скорого отбоя. Минутой позже местная сирена повторила сигнал.
— Быстро кончился этот налет, — сказал Морланд.
— Сбросил бомбы — и прочь, — сказал Пилгрим. — Вошли в моду одиночные налеты.
— Налет на «Мадрид» тоже был одиночный?
— Да, бомбил один самолет.
— Я чаю сделаю, — сказала миссис Маклинтик. — Чай подкрепит.
— Да-да, именно, дорогая моя Одри, — сказал Пилгрим, вздыхая. — Я и забыл про чай. Не пиво, а именно чай.
Все же он допил свой стакан. Миссис Маклинтик вышла на кухню. Мне стало уже ясно, что предстоит исполнить тягостный и неизбежный долг. Безотлагательно известить Присиллу. Если позвоню Дживонзам сейчас, то, вероятней всего, трубку возьмет сама Молли Дживонз, и я скажу ей о смерти в «Мадриде». А уж она сообщит Присилле. Тяжело передавать такую весть даже через Молли. Тяжело и ей будет говорить Присилле — но по крайней мере у Молли, как всем известно, природная способность смягчать горестные вести: она отзывчива, чутка, но не слезлива, и она всегда знает, чем и как утешить. Молли возьмет это дело в надежные руки. Конечно, может и не повезти мне, может и Присилла поднять трубку. Приходится идти на этот риск. Я трусливо помедлил, дождался чаю. Выпив чашку, спросил, нельзя ли от них позвонить.
— Телефон в спальне, — сказал Морланд.
— Странно, что эти молодые летчики немецкие хотят меня убить, — пробормотал Пилгрим в раздумье. — Неблагодарные. В Берлине я всегда так хорошо концертировал.
В спальне было неприбранней, чем позволила бы себе Матильда. Сев на край постели, я набрал номер Дживонзов. Телефон молчал немо. Я снова набрал; опять никаких гудков. После нескольких безрезультатных попыток я стал звонить на телефонную станцию. Наконец станция ответила, и телефонистка сама набрала номер Дживонзов, но тоже без успеха. Телефон молчал. Линия не работала. Махнув рукой, я вернулся в гостиную.
— Не могу дозвониться. Придется отправиться туда.
— Вы оставайтесь ночевать, если хотите, — сказала миссис Маклинтик. — Будете спать на диване. Маклинтик часто на диване спал, когда мы жили в Пимлико. Едва ли не чаще, чем в кровати.
Приглашение неожиданное и почти трогательное при нынешних обстоятельствах. А она, пожалуй, и о Морланде способна заботиться лучше, чем я думал.
— Спасибо, но придется мне идти, раз не удалось по телефону.
— Присиллу извещать? — спросил Морланд.
— Да.
Он покачал головой.
— Боже, боже, — сказал он.
Макс Пилгрим плотней закутался в халат. Зевнул, потянулся.
— Скоро ли опять новая бомба? — сказал он. — Это еще хуже, чем ожиданье выхода за кулисами.
Я простился. Морланд проводил меня до дверей.
— Непременно тебе сейчас идти? — сказал он.
— От этого не отвертишься.
— Не завидую, — сказал он.
— Завидного мало.
Все ночные такси как сквозь землю провалились. Я пошел пешком; затем — негаданно-нежданно в этот поздний час — подошел автобус к ближней остановке. Шел он на юго-запад, в нужную мне сторону, и я сел, доехал до Глостер-роуд, а оттуда пришлось опять пешком. Улицы тянулись и тянулись, я брел по тротуарам, как бредут по нескончаемым дорогам сна. Беря кое-где напрямик переулками, я вышел наконец к скоплению темно-красных кирпичных домов ренессансного стиля. В одном из них вот уже двадцать с лишним лет обитают Дживонзы, обратив свое жилье в чудаческий очаг нещепетильного гостеприимства; именно Чипс Лавелл и привел меня туда впервые. У дома, что подальше от угла, стоят две пожарные машины. Светя фонариками, там входят и выходят пожарные, дежурные гражданской обороны. А ведь в этом доме и живут Дживонзы. Темно, не разглядеть почти ничего. Движутся, снуют смутные фигуры, как тролли в «Пер Гюнте», а в остальном все как будто в порядке: фасад цел, разрушений не видно. Один из дежурных, в каске и комбинезоне, остановился у крыльца, зажег сигарету.
— Что, сюда бомба попала?
— Час тому назад, — ответил он. — Одиночный самолет уронил.
— Есть жертвы?
Вынув сигарету изо рта, он кивнул.
— Я хозяев дома знаю. Где они?
— Знаете мистера Дживонза и леди Молли?
— Да.
— Вы только что подошли?
— Только что.
— С мистером Дживонзом мы на одном посту дежурим, — сказал он. — Его повели сейчас туда. Чаем напоить.
— Он ранен?
— Он-то цел. Она.
— И тяжело?
Дежурный взглянул, как бы удивленный вопросом.
— Так вы не знаете?
— Нет.
— Насмерть. Она и молодая с ней, — продолжал он торопливо, точно от неловкости, что приходится сообщать о смертях. — В задние комнаты угодило. С фасада вроде ничего и нет, но внутри поразметало крепко. Жуткая вещь. Я к Дживонзам каждый день почти заглядывал. Всегда такие приветливые. Я им почту ношу. Если вы знакомый ихний, то в доме там жилица вам расскажет, как и что.
— Сейчас пойду туда.
Он бросил окурок на землю, придавил ногой.
— До свиданья, — сказал он.
— До свидания.
Я вошел в холл. И верно, внутри было сильно разрушено. Люди убирали обломки, руководила ими женщина в какой-то военной форме. Вглядевшись, я узнал Элеонору Уолпол-Уилсон.
— Элеонора.
Она обернулась.
— Здравствуй, Ник, — сказала она. — Благодаренье богу, что ты пришел.
Она словно даже не удивилась моему появлению. Подошла ко мне. Сейчас ей лет тридцать пять, и внешность менее необычна, чем в юности. Форма определенно ей идет. И корпуленция ее, размеры не так бросаются в глаза; но все же вид остался «ни рыбы, ни мяса». Крупная, широкоплечая, она не то чтобы мужеподобна. Будь она мужеподобной, ей бы легче было жить на свете.
— Слышал, что тут у нас? — сказала она отрывисто.
Эта ее резкая повадка, так не идущая к нормальной мирной жизни, тоже сделалась теперь уместна.
— Молли…
— И Присилла.
— Господи боже.
— И один из польских офицеров — который симпатичней. Второй-то жив, отделался ушибом головы. Бедную девушку, что от норвежца забеременела, увезли в больницу лечить от шока. А так она тоже цела. Не знаю, удастся ли избежать выкидыша.
Ясно, что этой энергичной скороговоркой Элеонора стремится себя подбодрить. Через какую передрягу она сейчас прошла…
— Я с дежурным говорил здесь у крыльца; по его словам, Теда увели на пост к ним.
— Тед дежурил там во время взрыва. Теперь его уже в больницу повезли, наверно. А тебе кто сообщил? Я не знала, что ты в Лондоне.
— Я в отпуске, проездом.
— Как Изабелла, здорова?
— Да. Она за городом…
Объяснять подробней я не стал; трудно сейчас говорить с Элеонорой — она загородилась баррикадой быстрых действий и скороговорки, это ее старый прием защиты от окружающих. Вот так она, бывало, со свистком во рту дрессирует очередного из своих лабрадоров и будто не слышит, что к ней обращаются. Должно быть, она с детства выбрала этот успешный способ самоотключения от мира — употребляла это оружие против родителей, против ранних попыток заставить ее жить «как все». Говорит со мной, а сама движется по холлу, подбирает куски штукатурки. Руки ее в зеленых резиновых перчатках — и вспоминаются те белые длинные, что Элеонора натягивала на танцах.
— Нам с тобой придется составить список — кому сообщить и в каком порядке. Ты с Чипсом держишь связь?
— Элеонора… Чипса тоже убило.
Элеонора застыла на месте. Я рассказал ей, что произошло в «Мадриде». Она стала стягивать зеленые перчатки. Люди входили, выходили не переставая. Элеонора положила перчатки на инкрустированный верх комода, доставшегося Молли от покойной сестры: Тед Дживонз так и не убрал этот комод из холла.
— Идем наверх, присядем, — сказала она. — Я больше уже не могу. Посидим в гостиной. Передние комнаты не так разрушены.
Мы поднялись на второй этаж. Гостиная вся в известковой пыли, в кусках упавшей штукатурки; одна стена сверху донизу треснула зигзагом. Там, где висели картины Уилсона и Греза, темнеют два прямоугольных пятна. Картины эти, видимо, убрали куда-то для сохранности в начале войны. А заодно и большую часть восточных кувшинов и чаш, игравших такую роль в украшении дома. Возможно, цена этим чашам большая — а возможно, грош цена; Лавелл всегда держался второго мнения. Остались на стенах пастели, не знаю, чьей кисти, на марокканские темы. Висят вкривь и вкось; на той, где надпись «Дождливый день в Марракеше», раскололось стекло. Мы присели на диван. Элеонора заплакала.
— Слишком все ужасно, — сказала она. — А Молли такая была славная. Знаешь, она не любила меня раньше. Когда мы с Норой поселились вместе, Молли отнеслась неодобрительно. Она выдумала, будто я ношу зеленую мужскую шляпу и галстук-бабочку. Это неправда. Никогда я так не одевалась. А хоть бы и надела, если так мне нравится. Я все торчала в усадьбе, разводила лабрадоров и смертельно скучала, а у папы с мамой было одно желание — чтобы я вышла замуж, чего я нисколько не хотела. Тут приехала к нам в гости Нора и предложила мне жить с ней на одной квартире. Так и вышло у нас. Нору всегда охотно брали продавщицей в магазины, а мой опыт по собаководству тоже пригодился. Притом я всегда Нору обожала.
Я раньше недоумевал, как это получилось, что Элеонора сняла в Лондоне квартиру вместе с Норой Толланд. Никто не знал этого толком. Теперь ясно.
— Где Нора сейчас?
— В Шотландии, служит шофером — поляков возит.
Она вытерла глаза.
— Давай-ка составим план действий. Хватит мне сидеть. Надо найти карандаш и бумагу.
Она стала рыться в ящике стола.
— Вот, нашла.
Мы составили перечень — кому написать и что сделать. К нам поднялся один из дежурных гражданской обороны и сказал, что потолок пока что не обвалится и что они уходят по домам.
— Ты где будешь ночевать, Ник?
— В клубе.
— Вероятно, тебя могут подвезти. Уполномоченный ПВО ездит в машине.
— А ты сама как же?
— Обо мне не тревожься. У нас в подвале комнатка. Там поставлена кровать. Тед ночует, когда очень поздно приходит с дежурства.
— Тебе правда не нужна моя помощь?
Она сердито отмахнулась. Мы разыскали уполномоченного с машиной.
— До свидания, Элеонора.
Я поцеловал ее, чего прежде никогда не делал.
— До свидания, Ник. Сердечный привет Изабелле. Хорошо все же, что я оказалась здесь — много теперь предстоит дел.
Пожарных машин уже нет. Едем пустынной улицей. Для житейских катастроф Элеонора подходит как нельзя лучше. Молли тоже не терялась в подобных случаях. А с Тедом как же теперь? Поразительно, что с фасада, снаружи дом совершенно не тронут. Бумажку только соответствующую налепили дежурные на дверь, а в остальном ни признака бомбежки, гибели людей. Вот так и «Мадрид» разбомбили перед тем, а мы за ресторанным шумом-гамом не расслышали ни зениток, ни сирен. Тихо работает, «собирает свою грозную дань крови умертвитель Озириса», как выразился доктор Трелони. Жив ли еще сам доктор? Скоро ли дойдет до Стивенса весть о гибели Присиллы? Кто будет растить ее дочь Каролину? Родители Лавелла?.. А ведь, кажется, не так и давно это было — вез меня Лавелл с киностудии на своей странной машине и предложил заехать к Дживонзам. «Навестим тетю Молли. Главное, хочется опять полюбоваться Присиллой Толланд: она там часто бывает».
3
Впервые после отпуска садиться в корпусе «Эф» за обеденный стол всегда тягостно. Помещение, запахи, пища, сотрапезники — все по-старому, и все не радует. Сев за стол, я вспомнил, что подавать будет Стрингам, — и воскресло, нахлынуло чувство неловкости. За всеми происшествиями и делами я и забыл о Стрингаме. Однако тарелки нам принес какой-то рыжий долговязый молодой солдат с заячьей губой и притом заика. А Стрингама нет. И не будет больше? Или, может, лишь на время заменен: болеет, занят на стрельбах, куда-нибудь еще по службе послан? Возможность разузнать, что с ним, особо не подчеркивая своего интереса, представилась, когда Соупер стал жаловаться, что рыжий подавальщик даже не помнит, справа или слева от тарелки кладут нож и вилку с ложкой.
— Некоторые солдаты прямо как животные, — сказал Соупер. — А докладывать начнет, так оплюет тебя всего, прежде чем выговорит половину.
— А что случилось с прежним подавальщиком?
Прямой вопрос такого рода всегда пробуждает в Соупере подозрительность. Но, не узрев в моих словах ничего, кроме досужего любопытства, он сообщил, хотя и с неохотой:
— Переведен в прачечную.
— Вторично прошу, Соупер, передать мне графин с водой, — сказал Макфи.
— Пожалуйста, док. Таблетки уже прибыли?
Макфи ответил что-то неприветливым тоном; у Соупера тон просяще-убеждающий. Офицер-шифровальщик заметил, что грипп разгулялся. Другие согласились с ним; последовало обсуждение преобладающих симптомов. Пришлось мне начинать о Стрингаме опять сначала.
— Вы его отчислили?
— Кого?
— Прежнего подавальщика.
— А вам-то зачем?
— Просто любопытно.
— Вечером приказ из штаба — утром взят в передвижную прачечную. А столовая обходись как хочешь. Официант из него был вполне сносный, если б на него Бигги не взъедался. Говорю помначу, что остались без подавальщика, а он мне — приказ есть приказ.
Бигз сидит тут же за столом, но сегодня настроен угрюмо и молчит, не подтверждая и не отрицая своего участия в перемещении Стрингама. Прожевывает жесткий кусок мяса, глядя прямо перед собой. Соупер продолжает вслух рассуждать о неприязни Бигза к Стрингаму, ничуть не смущаясь присутствием Бигза.
— Он сидел почему-то у Бигза в печенках. Раздражал чем-то. И не только манерной речью. Действительно, вид у него наркомана. Непонятно, как он к нам попал. Видно же, что образованный. Мог и получше устроиться, чем подавальщиком. Судимость, надо полагать, была на гражданке.
Вряд ли Стрингам выхлопотал этот перевод, чтобы избавиться от Бигза, порядком портившего ему жизнь. Нет, от придирок Бигза Стрингам получал скорее даже некое мрачное удовлетворение — тут те же извращенно-сложные извивы чувства, что привели его в армию. Это сплетенье мотивов трудно распутать. Да и во всей жизни Стрингама нелегко разобраться — как и во всякой жизни, при углубленном ее рассмотрении. Стрингам мог бы не служить по состоянию здоровья и по возрасту (тогда еще не брали его возраст); но он не только пренебрег этими зацепками, а и преодолел сопротивление чиновников, добиваясь зачисления с несвойственным ему упорством. Определенно, одним из мотивов тут у Стрингама желание обрести вновь самоуважение, потерянное за те годы, что он был на попечении мисс Уидон; хотя, конечно, ей в немалой мере он обязан излечением от алкоголизма. Толкала Стрингама в армию и мятущаяся его натура, тяга к переменам, даже к приключениям; все это, видимо, слилось в смутный романтический патриотизм, особенно взманивший Стрингама как раз своей иронической окраской — полным отсутствием, так сказать, современного престижа. Мне вспомнились его слова: «Быть убитым — высший шик». У войны всегда, пожалуй, наготове этот приз — смерть. Вон Лавелл жаловался на сидячую штабную должность, но и его постигла гибель, и такая неожиданная, быстрая. Что же до перевода в прачечную, то, вероятно, Стрингам услышал о вакансии и потянуло его — добровольного ходока по армейским мукам — изведать новую, необычную область военной жизни. Возможно даже, Бител сам приметил Стрингама и решил, что он будет хорош в прачечной. Это, пожалуй, еще вероятнее… А за столом нашим все длится пауза — менее натягивающая нервы, чем за генеральским столом, но еще более унылая. Внезапно Бигз нарушил молчание, вернувшись ни с того ни с сего к теме Стрингама.
— Рад я, что этого хиляка убрали отсюда. Прямо скажу, неприятно было на него смотреть. А у меня и так хватает неприятностей.
В голосе его явно звучит большое облегчение. Признаться, и для меня перевод Стрингама — облегчение немалое. Но это чувство избавления, освобождения от камня на душе, умеряется определенным сознанием вины, поскольку я-то ничем не помог Стрингаму в переводе. Я заглушил этот упрек совести мыслью о том, что уж теперь в прачечной, ведущей под началом Битела цыгански-кочевую жизнь, дни у Стрингама будут проходить веселее. А если Бител вовлечет его в дивизионные концерты, то у Стрингама может и вокальный дебют получиться, о котором он мечтает еще с той поры, когда недолгое время пел в школьном хоре. Короче, проблема решена, и благородный, даже донкихотский порыв Стрингама завершился тем, что нашлась для него должность, наименее неподходящая. Но, конечно, это лишь мое предположение. Возможно, сам Стрингам стремится совершенно к иному, если вообще к чему-либо стремится.
— Что это вас гнетет, Бигги? — сказал Соупер. — Я вас не узнаю сегодня.
— Оставьте в покое, — проворчал Бигз. — У меня огорчений куча. Сволочи адвокаты обдерут меня дочиста.
Днем в разговоре с Уидмерпулом я упомянул о переводе Стрингама в прачечную.
— Это я его перевел туда.
— Очень разумная мысль.
— Выход из положения, — сказал Уидмерпул, не вдаваясь в детали.
Меня удивила, даже приятно поразила быстрота, с какой распорядился Уидмерпул, — особенно если вспомнить, что он первоначально хотел оставить Стрингама в столовой. Одумался, видимо, Уидмерпул и решил все же облегчить армейскую жизнь Стрингама — разок нарушить свой канон, гласящий, что в армию мы не для веселья взяты. Выходит, несправедлив я был на этот раз к Уидмерпулу: сложны побужденья людские, и за холодно-жестким фасадом у него могут скрываться иногда и добрые намерения, как вот сейчас в отношении Стрингама.
Предстояло еще доложить генералу Лиддаменту о неуспехе моей попытки зачислиться в свободные французы. Предмет это не настолько важный для командира дивизии, чтобы мне через Грининга проситься на прием к нему, — надо подождать, пока случай не сведет меня с генералом с глазу на глаз. И произошло это снова на учениях (в другие времена я видел его редко). Командуя взводом обороны, я вставал и завтракал обычно первым, даже прежде Коксиджа — самой ранней пташки среди штабных. Генерал же к завтраку сходил иногда рано, иногда поздно. В это утро он сел завтракать еще до Коксиджа, который то ли менял лопнувший шнурок у ботинка, то ли порезал, бреясь, свою резиново-тугую щеку. Когда генерал стал пить чай, я решил заговорить.
— Я был в Лондоне у майора Финна, сэр.
— У Финна?
— Да, сэр.
— Ну и как он?
— В полном здравии, сэр. Шлет вам поклон. Сказал, что я недостаточно знаю французский для службы батальонным офицером связи.
— Вот как, — только и сказал генерал Лиддамент. Сделал несколько больших глотков из чашки, рассматривая карту. Так что Коксидж, явившийся через минуту-две, вряд ли помешал нашей беседе. Генерал и так уже кончил разговор о моих судьбах и делах. Увидев, что завтрак комдива почти что завершен в его отсутствие, Коксидж крайне разволновался.
— Простите меня, сэр, но я вижу, вам дали чашку со щербиной. Я сейчас же сменю ее, сэр. Сколько уже раз я толковал сержанту об этой чашке, сколько раз велел не давать ее старшим офицерам, а тем более вам, сэр. Я прослежу, чтобы это никогда больше не повторялось, сэр.
Военные действия в Сирии сделали понятным, зачем потребовались дополнительные офицеры связи в заморских частях Свободной Франции. Я представил себе, как 9-й колониальный пехотный полк слушает зажигательную речь британского офицера, который лучше моего владеет языком и наделен большим сценическим талантом. Затем немцы высадились на Крите. Дела там, видимо, у нас пошли скверные. Тем временем дивизия продолжала боевую подготовку: подразделения сплачивались, обретали вид, порядок, навык; оружие становилось новей, инструктора — толковей. В командиры разведбатальона так еще никого и не назначили. Я спросил Уидмерпула, успешно ли проталкивает он своего кандидата. Уидмерпул нахмурился.
— Возникли трудности.
— Кто-то другой берет верх?
— Не вполне понятно, что происходит, — сказал Уидмерпул. — Мне теперь некогда этим заниматься. Дело Диплока отнимает массу времени. Чем глубже вникаю, тем тяжче становятся улики против Диплока. Заваривается большая каша. Хогборн-Джонсон ведет себя прескверно, держится со мной оскорбительно и делает все, чтобы выгородить Диплока и помешать расследованию. Его потуги совершенно тщетны. Я убежден, что смогу доказать не просто безалаберность, но криминальность действий Диплока. Педлар почти так же упорно не желает поверить в худшее, как Хогборн-Джонсон, но по крайней мере Педлар беспристрастен, хотя и туго соображает.
— А генералу доложено о Диплоке?
— Хогборн-Джонсон говорит, что доказательств еще недостаточно, чтобы сообщать генералу.
В деле Диплока, по-моему, Уидмерпул на верном следу. Мало бывает в людском поведении коленец диковинней, чем те, какие способен внезапно выкинуть (обычно из-за женщины) старый хрыч вроде этого штабного делопроизводителя. Вполне возможно, что и раньше Диплок жульничал по мелочам, но теперь пахло правонарушением посерьезней.
— Кстати о разведбатальоне, — сказал Уидмерпул. — Вам предстоит еще розыск пропавших штатных единиц офицерского состава. По меньшей мере одна из капитанских должностей, предусмотренных там штатным расписанием, все еще — по генеральскому капризу — занята где-то в другой части. Займитесь этим в числе прочего, что я вам оставляю на вечер.
— Штат личного состава без самого состава — это как в «Мертвых душах». Армейский Чичиков мог бы сперва набрать батальон штатных единиц, потом бригаду, наконец дивизию — и получить чин генерал-майора.
Я сказал это, поддразнивая Уидмерпула, ибо он наверняка не читал ни строки Гоголя, хотя вечно делает вид, будто понимает все литературные и прочие намеки. Он молча покивал головой, затем продолжал:
— Сам я сегодня против обыкновения прогуляю вечерок. Надо угостить обедом одного деятеля — не вспомню сейчас его фамилию — из управления военного секретаря: он здесь в служебной поездке.
— Это вы для поддержки кандидата?
Уидмерпул подмигнул — подмигивает он, когда бывает особенно в духе.
— Тут поважней, чем разведбатальон, — сказал он.
— Вас самого касается?
— Обед может оказаться завершающим аккордом в одном деле.
— Вас повышают?
— Не будем загадывать. Но нечто в этом роде назревает.
Уидмерпул редко позволяет себе провести вечер не за рабочим столом. Он трудится как автомат. Работа военная или иная — единственный его интерес в жизни. Да и помощника он загружает вечерами — выжимает из меня все, что может, и по-своему прав, конечно. В итоге отдел проделывает тьму работы — и полезной, и малополезной. Надо даже признать, что процент работы полезной не столь уж намного ниже процента различных бесполезных уидмерпуловских прожектов, на которые уходит время и энергия. Думая об этом, я складывал бумаги в сейф перед уходом домой. Закрыл сейф, запер. Было около десяти вечера. Зазвенел телефон.
— Отдел личного состава слушает.
— Ник?
Голос знакомый. Но чей? Никто в штабе здесь не произносит моего имени так дружески-интимно.
— Я слушаю.
— Это я — Чарлз.
Кто бы это мог быть? Насколько помню, никого из штабистов не зовут Чарлзом. Должно быть, кто-то новоприбывший из прежних знакомцев.
— Какой Чарлз?
— Рядовой Стрингам, сэр, простите за вольность.
— Ах, да, Чарлз, извини.
— Повезло, что застал тебя.
— Ухожу как раз. А ты как догадался, что я еще в штабе?
— Я позвонил сперва к тебе домой — якобы как адъютант генерала Фонсфут-Фритуэлла.
— Какого такого Фонсфут-Фритуэлла?
— Да просто подумалось, что подходящая будет фамилия для чина, которому положен адъютант. Так что ты не удивляйся, если капитан Бигз тебе сообщит, что звонили от этого генерала и ничего не передали. По-моему, именно Бигз взял трубку — и я произвел на него впечатление, он даже оробел. Сказал, что ты, вероятно, еще на работе или уже кончил и домой идешь. А мытарят вашего брата офицера, как я посмотрю.
— Но что случилось, Чарлз?
Пьян, должно быть, Стрингам; и как теперь с ним быть? Вот такие истории и предвидел Уидмерпул. Конфузно может получиться. В эту минуту — нечасто, но случались у меня такие минуты — я был в душе согласен с Уидмерпулом. Правда, голос у Стрингама совершенно трезвый, но трезвая эта видимость у него и тогда, когда он крепко выпьет. И особенно перед самым погруженьем на дно. Меня охватила тревога.
— Да, извини, отвлекся, — сказал он. — Ужасающе болтливым становлюсь на старости лет. Влияние казарменной жизни. Ты уж прости, что звоню в такой неположенный час, противно воинским порядкам и дисциплине. Дело в том, что на руки мои свалилась проблема.
— Что такое?
— Ты моего шефа знаешь, лейтенанта Битела?
— Конечно.
— Тогда тебе небезызвестно, что — как, бывало, я грешный — он временами поклоняется Вакху, по памятному выражению Ле-Ба, нашего школьного наставника.
— Бител напился?
— Вот именно. Навакханалился изрядно.
— До бесчувствия?
— Так точно.
— И где же он?
— Я шел сейчас к себе в казарму и наткнулся на его недвижное тело. Когда меня переметнуло из столовой к доблестному Бителу, он принял меня очень душевно. И до сих пор относится душевно. Так что я к нему исполнен благодарности. И я решил — во избежание дальнейших физических и моральных бед, грозящих Бителу, — обратиться к тебе, не подскажешь ли, как получше и побыстрей водворить его в постель. А то ведь полиция, гражданская или военная, вмешается и сочтет долгом взять Битела под арест. Я не знаю точно, где он квартирует. Кажется, в корпусе «Джи»? Но так или иначе, самому мне не дотащить его на закорочках, как поется в песне времен царствованья Эдуарда. Не присоветуешь ли, что делать?
Происшествие явно развеселило Стрингама. По голосу слышно. А делать остается лишь одно.
— Сейчас подойду. А сам ты? Тебе разрешено так поздно находиться вне казармы?
— Разрешено.
— Где ты сейчас?
Стрингам сообщил координаты. Это недалеко от места нашей с ним предыдущей встречи. Минутах в десяти ходьбы от штаба, а от Бителова жилья, от корпуса «Джи», несколько подальше.
— Я постою пока на страже над мистером Б., — сказал Стрингам. — Я втащил его на крыльцо разбомбленного дома, чтоб не валялся под ногами. Захвати фонарик, если есть. Тут темно, как в яме, и запашок куда похуже, чем от сыра.
Благодаря невероятно удачному стечению обстоятельств Бителу удалось все же избежать военного суда по тому скандальному делу с чеком, которое так тревожило его в ночь налета несколько недель назад. Однако теперь Уидмерпул заявляет категорически, что снимет Битела, как только согласует этот вопрос с инстанцией, в чьем ведении прачечная. Пусть приговор этот, по-видимому, окончателен, но надо же поднять и доставить Битела домой, нельзя бросать его на улице, на милость полицейских. Возможно даже, что напился Бител именно с горя, будучи оповещен о своем неминуемом снятии: до сих пор он ведь держал себя в границах. Ему, конечно, горько расставаться с прачечной: говорят, он даже неплохо ею управлял. Весть эта горька ему тем более, что снятие с должности почти определенно будет первым шагом к увольнению из армии. А Бител гордится армейской службой, и она дает ему кусок хлеба… Да и помимо всех этих соображений, надо поддержать Стрингама. Такие-то дела. Я окинул взглядом столы, не осталось ли где бумаг, которые надо убрать в сейф, затем вышел из штаба.
На дворе не было видно ни зги. Но с фонариком я без особых затруднений добрался до места. Стрингам стоял, сунув руки в карманы и прислонясь к стене дома, полусгоревшего недели две тому назад от зажигательной бомбы. Он курил сигарету.
— Здравствуй, Ник.
— Где Бител?
— На крыльце. Я его там посадил, убрал с дороги. Он минуту назад как будто стал опоминаться. А затем опять канул в забвенье. Пойдем посмотрим.
Поднявшись на крыльцо, я посветил фонариком — Бител сидит, привалясь к дверям и спустив ноги на ступеньки, а голову свесил на плечо. Сонно поборматывает что-то. Мы оглядели его критически.
— Где он живет? — спросил Стрингам.
— В корпусе «Джи». Отсюда не так далеко.
— Понесем его за руки, за ноги?
— Не весьма заманчивая перспектива в темноте. Может, разбудим, заставим идти? Время военное — каждый должен прилагать максимум усилий. Зачем делать для Битела исключение?
— Как ты всегда суров к человеческим слабостям, Ник.
Мы принялись трясти Битела; он вроде бы стал приходить в сознание — по крайней мере закряхтел, забормотал:
— Не тряси меня, друг… не тряси так… зачем ты это?.. Меня от этого мутит… блевать буду… ей-богу…
— Бити, возьмите себя в руки. Вставайте, домой надо.
— Не пойму, чего ты говоришь…
— Подняться можете? Мы вас под руки поведем.
— Не помню, как тебя зовут, дружище… В последней пивной тебя не было… вообще офицеров не было… и тем лучше… люблю потолковать с парнями молодыми и чтоб разные майоры не совали нос… держать единенье с бойцами… самый верный курс… вне службы тоже проявлять о них заботу… а тут стемнело… поздно… не найти домой дороги…
— Да, уже поздно, Бити. Вот и надо в постель. Это я, Ник Дженкинс. Мы домой поведем.
— Ник Дженкинс… однополчанин мой… А помнишь… Мистер младший — вернопон-н-ный тост… И ты…
— Да-да.
— З-за короля! — выкрикнул Бител, опершись на локоть и подымая воображаемый бокал.
— За короля, Бити.
— Люблю наш батальон… Выпьем за старый полк… Все как один… Не властно… что-то там такое… и не властны годы…
— Давайте, Бити, поднимайтесь.
— …на закате дня… дня… их память пронесем сквозь все невзгоды…
Он неожиданно запел тоненьким голоском, довольно похожим на голос Макса Пилгрима:
А мы все за Дэвисом, Дэвисом, Дэвисом — Куда он, туда мы, куда он, туда мы…— Ну же, Бити.
— Помнишь вечер рождественский… как по всему дому куролесили… когда жили в здании бывшем банка… гуськом за полковником Дэвисом… под столы… через стулья… теперь так не смогу, хоть заплати пять фунтов… не надо, ей-богу, сейчас меня стошнит…
Мощным рывком мы подняли его на ноги. Этот переход из сидячего положения в стоячее оказался слишком резок для Битела; он недаром за себя опасался. Ноги Битела подкосились, его обильно вырвало. Затем мы подняли его с четверенек, несколько протрезвевшего.
— Шагайте, Бити, поведем вас домой. Мне Стрингам поможет, один из ваших орлов.
— Стрин…
— Здесь, сэр, — откликнулся Стрингам сквозь одолевавший его смех, — Стрингам, боец прачечной, налицо и в готовности.
Услышав этот воинский рапорт, Бител слегка ожил. Возможно, «Стрингам, боец прачечной» прозвучало как название военно-приключенческой повести, читанной в детстве; странствования передвижной прачечной и впрямь могли бы дать сюжет для увлекательного чтива в духе повестей Хенти.
— Тот университетский, кого мне Уидмерпул прислал?
— Тот самый, сэр.
— Единственное доброе дело мне сделал Уидмерпул…
Стрингам так обессилел уже от смеха, что временно пришлось посадить Битела на тротуар.
— Мне-то знакомо ваше состояние, сэр, — сказал Стрингам. — Лучше, чем всякому другому.
— Стрингам, как и вы, Ник… университетский тоже… Вы не знали?.. Славный он парень… славные ребята у меня есть в прачечной… горжусь такими подчиненными… сержант Эблетт… превосходный человечина… Вы бы слышали, как он поет про игрока, который в Монте-Карло банк сорвал… прямо как в старом мюзик-холле… Но Стрингам один у меня университетский…
И расчувствовавшийся Бител стал уже опять опасно погружаться в пьяное забытье. Начал уже похрапывать. Мы снова принялись подымать его на ноги.
— Он мне еще и за то мил, — сказал Стрингам, — что между хмельным и трезвым состоянием у него так мало разницы. Хмель его не портит. Напротив. Как хорошо я знаю это чувство — выпьешь несколько двойных порций и начинаешь любить целый мир. Теперь я уж не пью — и больше не люблю весь мир, даже малую его частицу не люблю.
— Тем не менее ты принял сейчас на себя роль милосердного самарянина.
— В конце концов, мистер Бител мой командир и сердечно ко мне относится. Пусть я не чувствую больше любви к человечеству, но благодарность я еще чувствую иногда. А благодарность — хорошая вещь, это редчайшая из добродетелей и очень капризная. Например, к мисс Уидон я никак не способен питать благодарность в требуемой дозе. К стыду моему, я даже питаю к Таффи некоторую злость. А нынешний добрый поступок мне сам подвернулся. Я теперь до того возродился нравственно, что даже к Уидмерпулу ощущаю благодарность. А это ведь непросто ощутить. Знаешь, Ник, он не пожалел труда и самолично перевел меня из столовой в прачечную — просто по своей сердечной доброте. Кто бы счел Уидмерпула способным на такое? Я узнал это от мистера Битела, он и сам был изумлен, что Уидмерпул пожелал взять на себя заботу о персонале для прачечной. А меня мгновенно привлекла мысль расширить свой воинский опыт. Притом среди солдат прачечной есть люди — настоящий клад. Не знаю, чем, каким способом мне выказать свою благодарность Уидмерпулу. Наверно, тем, что не попадаться ему на глаза. Не понимаю я в мистере Бителе только его благоговения перед университетом. В ответ на его дифирамбы я ему объяснил, что дни ученья в колледже я отношу к самым сумрачным дням моей обильной сумраком жизни.
Все это время мы встряхивали, тормошили Битела. В конце концов нам удалось привести его в чувство и даже в движение.
— Теперь направляй нас, Ник, и скоро лейтенант окажется в постельке.
Подхваченный под руки, Бител одолевал дорогу довольно успешно, несмотря на густую, стигийскую темень. До корпуса «Джи» оставалось пройти всего сотню-две шагов, и тут стряслась беда. Полная катастрофа. Мы заворачивали за угол, ведя бубнившего себе под нос Битела, когда с нами столкнулась с разлету какая-то смутная фигура. От сильного толчка Стрингам выпустил локоть Битела; застигнутый врасплох, один я не мог удержать Битела, и тот мешком плюхнулся на землю. Фигура едва тоже не упала и, выругавшись, сверкнула мне фонариком в лицо, ослепив на момент.
— Что тут, черт подери, происходит?
Голос, несомненно, Уидмерпула — когда он сердит, голос его не спутаешь ни с чьим иным. Уидмерпул живет поблизости, в корпусе «Би». Это он возвращается домой туда — после обеда с министерским деятелем. Какая несчастливая встреча! Одно теперь спасенье — спешно придумать что-нибудь, поестественнее объяснить состояние Битела — а вдруг поверит.
— Этот офицер, видимо, оступился и упал в темноте, — сказал я. — Потерял сознание. Мы ведем его домой.
Уидмерпул осветил нас фонариком одного за другим.
— Николас… Бител… — сказал он. — Стрингам… — проговорил он удивленно и с неодобрением. Теперь, когда личности все установлены, не обойтись без дополнительных объяснений.
— Чарлз Стрингам наткнулся на лежащего без сознания Битела. Позвонил мне. Мы ведем его в корпус «Джи».
Быть может, это прозвучало бы убедительно, не вмешайся в дело сам Бител. Но падение если не вышибло из него хмель, то по крайней мере вывело из отупения. Самочинно поднявшись с мостовой, он ухватил Уидмерпула за рукав.
— Домой мне надо… — сказал он. — Домой надо… перепил… треклятый портер… ёрш получается, если мешать с джином и вермутом… еще на патруль напорешься, чего доброго…
Он опять запел, но уже менее пискливо:
А мы все за Дэвисом, Дэвисом, Дэвисом..Вторую строчку заглушила внезапная сирена воздушной тревоги. Для меня этот завывающий звук означает призыв к безотлагательным служебным действиям. Все беды Битела отступили на задний план — главное теперь обеспечить, чтобы взвод обороны незамедлительно занял посты, изготовил пулеметы к воздушной стрельбе. Есть шанс, что и Уидмерпула отвлечет эта сирена. Зачем ему оставаться под налетом? Аккуратненький его рассудок подскажет, что ему следует уйти в укрытие. Однако не тут-то было. Он только вырвал рукав, оттолкнул от себя Битела. Очевидно, Уидмерпул сразу же сориентировался в ситуации — сообразил, что первым делом надо Битела убрать с улицы. Уидмерпул, конечно, уже понял, по какой причине Бител валялся «без сознания»; но понял и то, что незачем экстренно подымать шум. Необходимые дисциплинарные меры последуют позже. Теперь не время и не место.
— Придется оставить Битела на ваше попечение, — сказал я. — Мне нужно без промедленья обеспечить пулеметные посты.
— Да, идите, — сказал Уидмерпул. — И поживей. А мы со Стрингамом доставим этого пьяницу на койку. Я постараюсь, чтобы он больше не позорил армию. И так уже увольняем его, я лишь ускорю процедуру. Беритесь справа, Стрингам.
Бител стоял, привалясь к стене. Стрингам снова взял его под локоть.
— Любопытно вспомнить, сэр, — сказал Стрингам, повернувшись к Уидмерпулу, — что в прошлую нашу встречу я сам исполнял роль бесчувственного тела. А вы с мистером Дженкинсом были так любезны, что отвели меня спать. Как видим, исправление возможно, роли могут меняться. Я начал новую жизнь. Стрингам вступил в ряды не только отважных, но и трезвых.
Я не стал ждать, что ответит Уидмерпул. Зенитная пальба уже началась. Надо еще каску сбегать надеть перед обходом постов. Снарядившись как должно, я поспешил к бойцам. В эту ночь взвод обороны благополучно справился с обязанностями.
— По средам обязательно прилетают, — сказал старшина Хармер. — Прямо хоть не ложись с вечера.
Но налет оказался из разряда терпимых. Немцы улетели сравнительно скоро. К половине первого мы смогли уже лечь.
— Наверно, по моему делу новостей нет, сэр? — спросил капрал Мэнтл, уводя свое отделение в казарму.
Я пообещал еще раз напомнить помначу. Утро оказалось занято делами взвода, и в штаб я пошел только днем. Это и к лучшему, подумал я. Уидмерпул успеет поостыть. Ведь после вчерашнего инцидента с Бителом он не в духе и способен расшуметься. Но мои опасения не оправдались. Войдя, я увидел на лице у начотдела выражение весьма — даже необычно — довольное. Он тут же отодвинул от себя бумаги, намереваясь, очевидно, сразу заговорить о вчерашнем, а не дожидаться конца рабочего дня, как он любит, когда настроен сварливо и хочет учинить разбирательство и разнос.
— Ну-с, — произнес он.
— Вы повели Битела дальше?
— Повел.
— Ну и как?
Мне было любопытно, как одолели они оставшуюся сотню шагов, как доставили Битела. Но Уидмерпул предпочел понять мой вопрос в смысле: «Чем же завершилась вся проблема Битела?»
— Сегодня утром обговорил с Педларом, — сказал он. — Бител отсылается в отпуск. В самом ближайшем времени будет уволен.
— Постановлением военного суда?
— Обойдемся без этого — короче и проще будет чисто административное увольнение из армии.
— А можно так?
— Бител сам согласен, что так будет лучше всего.
— Вы с ним говорили?
— С утра первым делом вызвал его к себе.
— Как он себя чувствовал?
— Не знаю. Меня не касается его самочувствие. Я просто предложил ему на выбор: либо пойти под суд, либо же согласиться с моим заключением о непригодности его к дальнейшей офицерской службе. Документация о незамедлительном увольнении его из армии уже проходит по инстанциям. Бител благоразумно выразил согласие, хотя и позволил себе странную выходку.
— Какую?
— Расплакался. Слезы потекли по щекам.
— Так сильно огорчился?
— По-видимому.
Эпизод явно не вызывает в Уидмерпуле интереса. Что ему Битела не жаль, это весьма резонно; но как, однако, мало интересуют его люди. Взять уж саму гротескность разговора, похмельные муки Битела — Уидмерпул их словно не заметил, не счел заслуживающими упоминания. С другой же стороны, четкие, решительные действия, предпринятые им, подчеркивают ту умелость, с какой он разделывается с бителами. Метод Уидмерпула противоположен подходу моего бывшего ротного командира, Роланда Гуоткина, тоже столкнувшегося с пьяным Бителом. Тогда в Каслмэллоке Гуоткин сгоряча посадил Битела под строгий арест. Но забыл соблюсти затем необходимые формальности, и в результате из ареста ничего не получилось. Правда, тут не всецело была вина Гуоткина; но тем не менее, даже с точки зрения самого Гуоткина, он «напорол» и провалил дело. Уидмерпул же, действуя без всякой мелодрамы, деловито, расторопно совершил захоронение Битела. Вот и все; с проблемой кончено. Чинить дальнейшие помехи военным усилиям страны Бител будет теперь уже в качестве гражданского лица.
— Жаль, помешала воздушная тревога, — хищно сказал Уидмерпул. — А то могли бы проволочь скотину мордой по грязи до самого жилья. Я видел, как это делается втроем.
— Кто примет начальство над прачечной?
— Уже отдано распоряжение. Новый офицер прибудет вечером — или уже прибыл. Надо его сразу же ко мне. Дело не терпит отсрочки.
— Почему?
— Передвижной прачечной приказано быть в сорокавосьмичасовой готовности к отправке. Так что требуется тут сугубое внимание, учитывая, что дела спешно принимает новый человек. Я ожидал, что приказ насчет прачечной придет через неделю-две, а не так быстро. Как обычно, придется все делать наспех.
— А Бителу так или иначе предстояло смещение?
— Конечно — отправка в ПУЦ. Теперь же будет вообще устранен из армии.
— Нашу дивизию передислоцируют?
— Приказ о передислокации касается лишь прачечной, а отнюдь не всего соединения. Потребовались где-то передвижные прачечные. Между нами говоря, у меня есть причины полагать, что наша прачечная поплывет на Дальний Восток; но, конечно, это военная тайна — и догадка моя, разумеется, дальше вас пойти не должна.
— Вы и раньше знали об отправке прачечной?
— Сообщение пришло, когда вы были в отпуске.
— И вы уже знали об этом, переводя Стрингама?
— Именно потому перевел его в прачечную.
— И его отправят на Дальний Восток?
— Если отправят туда прачечную.
Что и говорить, бесцеремонно обошелся Уидмерпул с прежним товарищем.
— А ему хочется туда?
— Не имею ни малейшего понятия, — ответил Уидмерпул, безучастно глядя на меня.
— Он, вероятно, по возрасту мог бы не ехать.
— Почему ж это ему не ехать?
— Судя по его виду, у него неважно со здоровьем. Как вы сами недавно сказали, он с молодых лет сильно пил.
— Но именно вы ведь предложили перевести его из столовой, — сказал Уидмерпул не без раздражения. — Я и это учел тоже. Обдумал, взвесил и решил, что вы правы и Стрингаму тут не место — вообще не место у нас при штабе. А теперь вы недовольны. Не ваша забота — и, уж конечно, не моя — нянчиться со Стрингамом, укутывать его и холить. Во всяком случае, вы сами понимаете, что он не может здесь оставаться после того, как вместе с двумя штабными офицерами, включая ведающего личным составом, препровождал в постель третьего офицера, валявшегося пьяным. Вы заверяли меня, что Стрингам не впутает нас ни в какую скандальную историю. А он именно впутал.
— Но для Стрингама укладывать пьяных в постель — вещь самая обычная и нескандальная. Как он вчера напомнил, мы с вами уже однажды его самого укладывали. Случай с Бителом никак не может отразиться на служебном поведении Стрингама — тем более что Бител теперь снят.
— Совершенно не в том дело.
— В чем же?
— Знакомо ли вам, Николас, такое слово — дисциплина?
— Но никто ведь, кроме нас, не знает — разве только Бигз или кто другой видел, как вы вели Битела.
— К счастью, обошлось без свидетелей. Но это нисколько не меняет ситуацию. После такого происшествия Стрингам ни в коем случае не мог быть здесь оставлен, Я радуюсь своей предусмотрительности — тому, что загодя перевел его. Чем дальше будет услан он от штаба, тем лучше для штаба. Добавлю, что все это — исключительно лишь вопрос принципа. Лично меня присутствие Стрингама уже не могло бы коснуться.
— Почему?
— Потому что я отбываю из дивизии.
Эта весть обдала меня тревогой. Я уже был раздосадован, даже возмущен черствостью Уидмерпула — его полнейшим равнодушием к судьбе Стрингама, засылаемого к черту на кулички. Но теперь нависло кое-что похуже. Забота о своей шкуре — звучит это некрасиво, да и суть некрасивая, но без такой заботы не выживешь на свете. Уже поэтому не стоит чересчур презирать инстинкт самосохранения. Все равно этот инстинкт подспудно всегда в действии. Услышав последние слова Уидмерпула, я мгновенно ощутил неприятный прилив «шкурных» мыслей. Если Уидмерпул уходит, то с чем он оставит меня? Неужели моя судьба так же мало волнует его, как судьба Стрингама?
— Вас повышают?
— В смысле немедленного повышения в ранге — нет. В смысле же перехода в сферу более высокую, неизмеримо более высокую, чем штаб дивизии, — да.
— В Военное министерство переходите?
С легкой усмешкой Уидмерпул чуть поднял руку, как бы отгораживаясь ладонью, — речь, мол, не о таком обыденно-прозаическом, даже низменном по своим функциям учреждении, как Военное министерство; тут человек воспаряет в стратосферные выси. Он скрестил руки на груди.
— Нет, — промолвил он, — благодаренье богу, не в министерство.
— Куда же?
— В Секретариат кабинета.
— Я не очень представляю, что это такое.
— Ваше неведение меня не удивляет.
— Это что же — самая уж ведомственная вершина?
— Можно и так сказать.
— А если детальней?
— Секретариат кабинета является, в частности, тем местом, где верхи министерства — начальники штабов, если конкретней, — входят в непосредственный контакт друг с другом и с правительством нашей страны — с самим премьер-министром.
— Понятно.
— Так что согласитесь — отсылаю я Стрингама отнюдь не из узкой корысти: мне-то уже все равно.
— Вы уезжаете незамедлительно?
— Мне сообщено пока что неофициально. Полагаю, что приказ последует через неделю, а то и раньше.
— А что со мной теперь?
— Не знаю и не ведаю.
Есть даже что-то внушительное в этом полнейшем отсутствии у него интереса ко всем, кроме себя самого. То есть отсутствие такого интереса встречается весьма нередко, но впечатляет тот факт, что Уидмерпул не старается даже прикрыться каким-нибудь лицемерным камуфляжем.
— Я останусь на бобах?
— Действительно, я сомневаюсь, чтобы моему преемнику разрешено было держать помощника. Мои особые методы, более энергичные, чем принято в отделах личного состава, позволяли выполнять объем работы, необычно большой для простого отдела. Но даже и на меня с недавних пор стали оказывать сверху давление, побуждая работать без помощника.
— Вы ничего для меня не придумали?
— Ничего.
— Вы обещали подыскать приемлемую должность.
— Не припоминаю такого — да и что бы я мог подыскать?
— Значит, предстоит мне пехотно-учебный центр?
— Полагаю, что так.
— Нерадужная перспектива.
— Армия редко открывает радужные перспективы, — сказал Уидмерпул. — Сколько месяцев я сам здесь киснул, убивая свое время и, если смею так выразиться, свои таланты. Мы в армии не для веселья. Мы ведем войну. Вы, я вижу, огорчены. Разрешите вам заметить, что как работник вы ничем особенно не блещете — ни старанием, ни способностями. На каком же я основании стану добиваться для вас хорошего назначения? Штабной офицер из вас самый посредственный — иной оценки дать вам не могу, — и вдобавок, вы не постеснялись вовлечь меня во всю эту битело-стрингамовскую катавасию. Могла бы выйти неприятнейшая для меня история. Нет уж, Николас, если по совести, пенять вам нужно лишь на самого себя.
Он вздохнул, то ли сокрушаясь о моей неблагодарности, то ли грустя о людской моральной слабости вообще. В дверях явился Коксидж.
— Начальник тыла вызывает вас к себе, сэр, — сказал он Уидмерпулу. — Срочно. Неотложное дело. У него там начальник дивизионной полиции.
— Хорошо.
— Я слышал, вы нас покидаете, сэр, — сказал Коксидж тоном, каким он говорит с майорами-штабистами: скорее приторно-угодливым, чем раболепным.
— Закружили уже, значит, слухи, — самодовольно сказал Уидмерпул.
Должно быть, сам же Уидмерпул и пустил эти слухи. Он вышел из комнаты. Коксидж повернулся ко мне, резко меняя манеру с нижесредне-подобострастной на более подходящую в обращении со вторым лейтенантом, не числящимся даже в постоянном штате.
— В последнее ваше ночное дежурство, Дженкинс, вы вступили в телефонный контакт с инженерной ротой на пять минут позже, чем указали в журнале дежурств.
— Я связался с ними в то же положенное время, что и с другими.
— Чем объясните разнобой записей?
— Возможно, дежурный в роте не записал сразу, или же часы у него шли неверно.
— Придется мне проверить, — сказал Коксидж угрожающе, как бы ожидая от меня еще объяснений. Я вспомнил, что действительно на несколько минут замешкался со звонком в инженерную роту по какой-то малозначительной причине. Но я не стал упоминать об этом. Дело не имеет никакой практической важности. Если Коксидж хочет насолить мне по мелочи, то ему придется потрудиться, докапываясь. Вряд ли он станет возиться. Коксидж вышел, хлопнув дверью. Зазвонил телефон.
— Внизу у нас майор Фэрбразер из округа, сэр. Хочет видеть помнача.
— Проводите его.
Впервые это Фэрбразер навещает штаб дивизии. В последнее время они с Уидмерпулом меньше конфликтуют — вообще реже бывают в контакте. Либо старая вражда пригасла, либо же оба заняты другими, более важными вещами. Уидмерпул-то занят, чему свидетельством весть о его новом назначении. Не отстает от него, вероятно, и Санни Фэрбразер, насколько я помню Фэрбразера. В это время он вошел, приостановясь в дверях и с парадной четкостью откозыряв. То, как офицер, входя, приветствует, в определенной мере отражает его психологию как воина. Старшие офицеры иногда не козыряют, видя, что в комнате всего лишь лейтенант. Я заметил, такие офицеры часто не справляются с делом посложней и посерьезней. Но и те, кто не пренебрегает отдачей чести, редко отдают ее так четко и щеголевато, как Фэрбразер. Когда он опустил руку, я объяснил, что Уидмерпул вызван к полковнику Педлару и, возможно, небольшое время придется подождать.
— Я не спешу, — сказал Фэрбразер. — Я в ваших краях по делу — и решил кстати заглянуть к Кеннету. С вашего позволения, я подожду.
Он сел на предложенный стул. Вид у него холодно-благодушный. Меня не узнает. Это и понятно — почти двадцать лет прошло с того дня, когда мы возвращались с ним после гощенья у Темплеров. Помню, как на вокзале в Лондоне загружено было его такси вещами и спортивным снаряжением: охотничьим ружьем в чехле, битой для крикета, удилищем; была, кажется, еще пара теннисных ракеток.
— Приходите, пообедаем как-нибудь с вами, — сказал он тогда на прощанье, даря мне одну из своих радушных, открытых улыбок.
Поразительно, как мало изменился он с той поры. Серебринки кое-где мелькают в его тщательно причесанных светлых волосах. Легкая проседь лишь усугубляет аристократически-высоконравственный вид, всегда ему свойственный. Эта личина самоотверженно-праведной жизни припахивает даже ханжеством, но только чуточку; воинская бравая подтянутость не дает испортить впечатление. Ему, надо думать, пятьдесят с небольшим. Вот так, должно быть, выглядел старый полковник Ньюком из теккереевского романа — только Фэрбразер житейски искушенней, предприимчивей. В Санни Фэрбразере всегда сквозит трезвая расчетливость, как он ее ни прячь. Это полковник Ньюком, но не финансовым банкротством кончивший, а по выходе в отставку сделавшийся энергичным дельцом — заседающий в правлении Ост-Индской компании, а не коротающий праздные дни в Чартерхаусе[20]. Но, конечно, Фэрбразер при случае сумеет в должных выражениях оценить и Чартерхаус или иную историческую достопримечательность, сентиментально памятную для него самого. В этом можно не сомневаться. Он не преминет козырнуть полезной картой. Главное же, Фэрбразер источает что-то ощутимо масляное — словно тихо плывет из строго регулируемого крана неописуемо скользкое смазочное масло и понемногу, но неудержимо растекается вокруг, захватывая неожиданно большую, даже огромную площадь.
— Можно узнать вашу фамилию?
— Дженкинс, сэр.
— Да, да, нам случалось говорить по телефону.
На нем форма Лондонского конного полка территориальных войск, и она, почти не меняя Фэрбразера, особенно к нему идет. Фуражка, брюки, френч — все такое же потертое, поношенное, как его штатские костюмы: должно быть, еще в ту войну походил он в этой форме. Сукно старо, местами вытерто до блеска, но отнюдь не выглядит недопустимо нищенски, а лишь придает Фэрбразеру некий оттенок доблестного равнодушия к вещам материальным — покрывает его благородной патиной оскудения, приобщает к аристократии духа. Его офицерский ремень утратил жесткость от бесчисленных чисток-лощений. Взглянув на его ленточки наград, я вспомнил слова Питера Темплера о том, что орден «За боевые заслуги» Фэрбразер «получил не зря»; а об Ордене Британской империи сам Фэрбразер выразился так: «Я им сказал, что должен бы носить его на заднице, поскольку он у меня единственный заработанный сидя». Действительно ли Санни сказал так при своем награждении или позднее придумал, но он и на сидячей, невоинственной, работе не ударит лицом в грязь, как не осрамился в бою. Что ж удивляться, если Уидмерпул его терпеть не может. Фэрбразер сидит, слегка подавшись корпусом вперед и морщась, точно и сейчас ему неприятно сидячее положение; неожиданно взглянул на меня с крайне удрученным выражением.
— У меня, к сожалению, весьма скверная новость для Кеннета, — сказал он, — но я уж лучше дождусь его. Сообщу ему лично. А то еще обидится.
Он произнес это почти горестно. Пожалуй, пора мне коротко напомнить, что мы с ним уже встречались. Фэрбразер выслушал меня, приподняв брови и лучась улыбкой.
— Это лет семнадцать или восемнадцать тому назад, — сказал он.
— Я как раз окончил школу.
— Питер Темплер. Опять это имя. Забавно.
— А вы слышали о нем что-нибудь?
— Встретил недавно. Я и до войны с ним часто виделся в Сити, разумеется.
— Он ведь служит консультантом при каком-то министерстве?
— При министерстве экономической войны, — сказал Фэрбразер, глядя на меня своим честнейшим голубоглазым взглядом. Что-то в этом взгляде мелькнуло странноватое.
— Он мне сказал, должность ему не особо нравится, — продолжал Фэрбразер. — И, услышав, что я сам перехожу на другой пост, просил меня помочь.
Чем может Фэрбразер помочь, неясно — должно быть, через свои прежние контакты, а не нынешние войсковые. Но тут Фэрбразер решил сменить тему — счел, быть может, что слишком разоткровенничался насчет намерений Питера.
— Старик-то, отец его, умер давно уже, — торопливо переключился он. — Сущий был дьявол. Настоящий дьявол во плоти.
Меня слегка удивил такой нелестный отзыв: помнится, в ту нашу встречу Фэрбразер восхищался «славным стариком» и растроганно превозносил его добрые качества, не говоря уж о том, что впоследствии присовокупил хвалебную о нем заметку к официальному некрологу в «Таймс». Мне хотелось вернуть разговор к Питеру, но Фэрбразер воспротивился.
— Я и так уже сказал больше, чем следовало. Вы столь внезапно упомянули о Питере, что у меня само собою выболталось.
— Значит, вы уходите из Округа, сэр?
— Что ж, коль я уж разболтался, придется продолжить в том же духе. Перехожу в одну из братий плаща и кинжала.
Время от времени у нас слышны шепотки о неких секретных ответвлениях армейских служб. В нашем штабном захолустье о них иначе как шепотом не говорят. Слова Фэрбразера о переходе в такое избранное и таинственное общество звучат страх как небрежно-равнодушно. Но тон его, хотя и скромный, отдает все же слегка самодовольством.
— И в чине повышаюсь, — прибавил он. — Пора уже в моем возрасте.
Ясно как день, что это одна из причин визита Фэрбразера к нам — ему не терпится сообщить Уидмерпулу о своем производстве в подполковники. Теперь, когда он признал во мне старого знакомого, из манеры Фэрбразера исчез весь холодок. Он почему-то даже хочет завербовать меня в союзники.
— Ну, как у вас отношения с нашим другом Кеннетом? — спросил он. — Трудновато с ним бывает ладить, вы согласны?
Я не стал отрицать это. Уидмерпул теперь сильно упал в моих глазах, и хвалить мне его незачем. Фэрбразеру приятно слышать мое подтверждение.
— Я не против, когда человек любит делать по-своему, — сказал он. — Но устраивать со мной потасовку по поводу каждой новой директивы Армейского совета — это уже слишком. Вы согласны? Тут Кеннет не умеет вовремя остановиться. И ко всему прочему я узнаю, что он втихомолку наговорил на меня вашему корпусному начтыла.
Вот не думал я, что закулисная деятельность Уидмерпула досягнула до таких служебных шишек, как генерал-майор, начальник тыла корпуса.
— Это я, конечно, между нами, — продолжал Фэрбразер, — и для вашей пользы. Кеннет подчас бывает невнимателен к своим подчиненным. Вы, я думаю, уже почувствовали это. Я отнюдь не хочу порочить Кеннета как человека или как штабиста. Во многих отношениях его способности пропадают у нас втуне.
— Его уже берут от нас.
— Вот как?
В голосе Фэрбразера не слышится особой радости, что талантам этим не дадут теперь пропасть «втуне». Слышится, однако, откровенное любопытство.
— Его назначение — уже не секрет, по-моему, — прибавил я.
— Если даже и секрет, то я умею хранить секреты. Куда же его назначают?
— Он мне сказал, в Секретариат кабинета, но, кажется, приказа еще нет.
Фэрбразер присвистнул — у него иногда прорываются эти грубые проявления чувства, которые не слишком вяжутся с общим достоинством его манеры. Вот так же он тогда у Темплеров присвистнул и прищелкнул пальцами, услышав в разговоре имя какой-то красавицы.
— Ух ты, Секретариат кабинета! И повысили в звании тоже?
— По-моему, он переходит туда майором, но рассчитывает на скорое повышение.
— Так-так.
Явно огорченный известием, Фэрбразер слегка успокоился, услышав, что Уидмерпул пусть ненадолго, но остается в майорах.
— Секретариат кабинета, — повторил он с нажимом. — Высоко взлетает. Могу лишь надеяться, что моя новость не повредит этому взлету. Но, как я уже сказал, лучше подожду, сообщу ему лично.
Он покачал головой. В это время вернулся Уидмерпул. Он вошел, нервно поправляя воротник — верный признак раздражения. Видимо, беседа с Педларом прошла не весьма успешно. Увидеть у себя Фэрбразера — тоже мало радости ему.
— А, здравствуйте, Санни, — сказал он кисловато.
— Я зашел проститься, Кеннет, а от Николаса слышу, что и вас тоже переводят.
Уидмерпул удивился было, что Фэрбразер назвал меня по имени, но тут же вспомнил, что мы встречались до войны.
— Я и забыл, что вы знакомы, — сказал он. — Да, меня переводят. Николас сообщил вам куда?
— Он был скуп на информацию, — сказал Фэрбразер.
Санни, как всегда, осторожен — и спасибо ему за это; но Уидмерпул вовсе не прочь объявить, куда переходит.
— В Секретариат кабинета, — сказал он, не в силах скрыть ухмылки.
— Куда махнули, старина!
Это почти пылкое восклицание Фэрбразера — настоящий шедевр притворства.
— Предстоит там трудиться с раннего утра до поздней ночи, — сказал Уидмерпул. — Но будут, несомненно, интересные контакты.
— Будут, старина, непременно будут — и повышение тоже.
— Возможно.
— Незамедлительное повышение.
— Да ведь в треклятой армии никогда наверняка не знаешь, — сказал Уидмерпул, заметно веселея и соответственно переходя на тон армейского рубахи-парня. — А вы, Сании, куда перебираетесь?
— В одну из секретных служб.
— В агентурную разведку?
— Вроде того.
— С повышением?
Фэрбразер скромно кивнул.
— Только потому и перехожу. Прибавка к окладу нужна. А иначе, конечно, предпочел бы служить там, где меньше требуется скрытничать.
Уидмерпула, понятно, не обрадовало, что Фэрбразера производят в подполковники, а сам он, хотя и на краткое время, остается майором. Возможно, его раздражает и само по себе повышение Фэрбразера. Однако — и это редкостное для него самообуздание — Уидмерпул ухитрился скрыть свою досаду; тон его даже умеренно-поздравителен. Отчасти здесь причиной обещанное ему самому весьма приятное назначение, отчасти же и то, что (как обнаружилось потом) он низко ставит спецслужбу, куда берут Фэрбразера.
— Орава мошенников и лодырей, так я считаю, — отозвался он о них позже.
Фэрбразер тоже не тупица, разумеется, и оценивает будущее их служебное положение со сходной точки зрения — то есть понимает, что хотя теперь он обскакал Уидмерпула в чине, но честолюбию Уидмерпула бесспорно открывается поле пошире. Фэрбразер так даже и выразился в краткой фразе. Он мог позволить себе так свеликодушничать, поскольку рассчитывал тут же побить карту Уидмерпула прибереженным козырем. И побил — поговорив минуту-две о должностях, предстоящих обоим.
— Вас известили, что на разведбатальон ставят Айво Динери? — пошел он внезапно в атаку.
Уидмерпул опешил.
— Впервые о нем слышу, — ответил он, уже опять с хмурым лицом. Сказал он это, очевидно, главным образом чтобы выиграть время.
— До этого он был начштаба моего территориального полка, — сказал Фэрбразер. — Парень энергичнейший, прямо землю роет. Перед самой войной получил Военный крест в Палестине.
Уидмерпул молчит. Ему малоинтересны молодецкие подвиги Динери. И по-видимому, он хочет утаить от Фэрбразера, что сам протаскивал кандидата на этот пост и что затея, стало быть, не удалась.
— Я знаю, вы были заинтересованы в этом деле, — произнес Фэрбразер небрежным тоном.
— Естественно.
— Я хочу сказать, особо заинтересованы.
— Ничего особого тут нет, — сказал Уидмерпул.
— Ах, вот как, — сказал Фэрбразер с озадаченным и сугубо огорченным видом. — А я в основном по этому делу и пришел.
— Послушайте, Санни, — сказал Уидмерпул, начиная уже злиться. — Я не знаю, к чему это вы. Как же я могу ведать личным составом дивизии и не интересоваться назначениями на командные посты в ее частях?
— Начальник тыла корпуса считает, что вы тут слишком интересовались, — сказал Фэрбразер с преувеличенной грустью в голосе. — Предстоит скандалище, старина. Втяпались вы на сей раз.
— То есть как это?
Уидмерпул теперь достаточно встревожен и напуган — и обуздал свою злость. Фэрбразер покосился на меня, вопросительно взглянул на Уидмерпула, подняв брови. Уидмерпул замотал головой.
— Говорите при нем свободно, — сказал он. — Он знает, что я намечал кандидата в командиры разведбатальона. В этом ничего неположенного. Естественно, мне жаль, что мой кандидат не прошел. Вот и все. Чем же тут недоволен начтыла корпуса?
Фэрбразер тоже покачал головой — но медленно и еще траурней, чем раньше.
— Из его слов я понял, что вы недавно являлись к нему в связи с кой-какими касающимися меня делами.
Уидмерпул побагровел.
— Понимаю, о чем вы, — сказал он. — Но дела эти и меня касаются не меньше.
— А не приличней ли было бы, старина, сперва меня уведомить, что идете к генералу?
— Зачем же было мне уведомлять вас? — ответил Уидмерпул с некой заминкой.
— Так или иначе, справедливо или нет, но начтыла корпуса считает, что вы сбивали его с толку разной своей неофициальной информацией, вдобавок не поставив его в известность, что проталкиваете в других инстанциях кандидатуру своего человека на этот тогда еще вакантный пост, — мягко промолвил Фэрбразер.
— Как он дознался?
— Я ему сказал, — ответил Фэрбразер просто.
— Но послушайте… — начал Уидмерпул и поперхнулся от ярости.
— Короче, начтыла корпуса сказал, что сообщит вашему генералу всю эту историю.
— Но я не совершил ничего неположенного, — сказал Уидмерпул. — Нет ни малейшей причины считать, что…
— Поверьте, Кеннет, я незыблемо уверен, что вы не сделали ничего предосудительного со служебной точки зрения, — сказал Фэрбразер. — Искренне в этом убежден. Потому я и решил, что лучше всего будет сыграть с вами в открытую. Начтыла корпуса склонен подчас горячиться. Сами понимаете, эти кадровые офицеры привыкли действовать в уставной колее, из которой наш брат, армеец-дилетант, не прочь иногда выйти. Мы с вами не любим уставных проволочек. Но только я огорчился, что вы пошли и насказали на меня корпусному. И решил, что ему следует побольше узнать о вас, о вашей собственной деятельности. Я уверен, что все обойдется в конце концов, но счел долгом без хитростей предупредить вас — раз уж пришел проститься, — что начтыла корпуса собирается снестись с вашим генералом.
Тихий, успокоительный тон Фэрбразера нисколько не успокоил Уидмерпула, а лишь сильнее встревожил. Фэрбразер поднялся со стула. Расправил плечи, улыбнулся добренько — он доволен (еще бы!) разрушительным действием этого краткого разговора, пошатнувшего планы Уидмерпула. Как я позднее убедился, Фэрбразер — деятель проворный, весьма даже проворный. Уидмерпул сделал ошибку, пытаясь перехитрить Фэрбразера. Следовало предвидеть, что Фэрбразер рано или поздно узнает о визите к генералу. Возможно, Уидмерпул недооценил противника, не ожидал, что тот прибегнет к опасному оружию. Однако теперь, с присущим ему реализмом, Уидмерпул понял — надо что-то тут же предпринять, чтобы ослабить надвигающуюся бурю. Терять время на упреки и укоры он не собирался.
— Я провожу вас к выходу, Санни, — сказал он. — Всю эту историю с корпусным я могу разъяснить. По существу, она вовсе не была направлена против вас, хотя теперь я вижу, что вы иначе и не могли расценить.
Фэрбразер повернулся ко мне. Кивнул прощально.
— Всего доброго, Николас.
— Всего доброго, сэр.
Они вышли вместе. Уидмерпул, кажется, попал в переплет — почти определенно попал. Одно следует все же заметить: кого бы ни выдвигал он в командиры разведбатальона, человек этот справился бы с должностью не хуже, если не лучше остальных кандидатов. Неподходящую кандидатуру Уидмерпул не выставил бы — пусть даже исходя из своих личных интересов. Просто по знакомству, просто среднекомпетентного человека он не стал бы проталкивать — только первоклассного офицера. В этом Уидмерпулу надо отдать должное, хоть я не имею причин одобрять его методы. Впрочем, и кандидат Фэрбразера, Айво Динери, оказался отменным, лихим командиром. Он возглавлял разведбатальон вплоть до германской капитуляции и за несколько дней до нее подорвался в своем джипе на немецкой мине. Но оба эти замечания мои — просто к слову. Существеннее сейчас то, что даже если Уидмерпул не вышел из так называемых рамок дисциплины, то все же, очень может быть, повольничал в смысле служебной иерархии, перемахнул через ступеньку-другую инстанций, что непозволительно для простого майора и оскорбительно для проведавшего об этом начальства. Вероятно, визит Уидмерпула к генералу — начтыла корпуса — был вызван каким-либо мелким препирательством с Фэрбразером; и лучше бы ему не делать этого визита, а тем более за спиной у Фэрбразера. Но Уидмерпул в этом отношении нещепетилен.
— Вредно быть чересчур джентльменом, — сказал он однажды.
Нетрудно догадаться, что произошло у генерала. Придя под пустяковым своим предлогом, Уидмерпул затем легко смог связать тему разговора с делами разведбатальона. Возможно, генерал был даже рад услышать парочку-другую полезных конфиденциальных сведений — Уидмерпул большой мастер копить их для таких именно бесед. Но затем что-то пошло не так. Фэрбразер узнал от генерала или догадался, что Уидмерпул строит против него козни. Как многие «не чересчур джентльмены», Уидмерпул недоучитывает того, что и противник может оказаться не джентльменом. Уидмерпул даже горько жалуется в таких случаях. А Фэрбразер как раз нещепетилен в равной с Уидмерпулом мере. Без сомненья, он не постеснялся обратить внимание генерала на то, что если исследовать пристальней действия Уидмерпула, то (возможно, лишь на придирчивый взгляд службиста-формалиста) обнаружатся черточки неприглядной интриги дерзкого подчиненного. Так по крайней мере и взглянул на дело начальник тыла корпуса. И, видимо, разгневался. Предстоит теперь, по выражению Фэрбразера, скандалище — и это в самый деликатный момент карьеры Уидмерпула. Он все еще толкует, должно быть, внизу с Фэрбразером. В дверь заглянул Грининг.
— Майора Уидмерпула нет?
— Сошел вниз — проводить коллегу из Округа. Сейчас вернется.
— Их генеродие требуют Уидмерпула к себе на полусогнутых.
— Я передам.
— Я лучше сам дождусь. Их генеродие сугубо недовольны. Рвут и мечут. Мне, как полицейскому в ковбойском фильме, приказано: «Скачи и без преступника не возвращайся».
— А что случилось?
— Не ведаю.
Видимо, начинается гроза. Мы с Гринингом сыграли в крестики-нолики. Вернулся Уидмерпул. Грининг передал ему генеральское веленье. Уидмерпул, и без того встревоженный, только дернулся молча. Грининг повел его в кабинет генерала. Вот так оно в армии: не происходит, не происходит ничего, и неожиданно вдруг вихрь, круговерть перемен. Все мы внезапно попали теперь в одну из таких круговертей. Следующим в комнату отдела явился полковник Хогборн-Джонсон. Это событие редкостное и, скорее всего, означает, что обуял полковника бешеный гнев и невмочь ему вызывать по телефону Уидмерпула и ждать, покуда тот придет. Чтобы не лопнуть от бешенства, приходится полковнику бегом нестись по коридору к нам… Однако моя догадка оказалась неверна. Полковник, напротив, необычайно хорошо настроен.
— Где помнач?
— У командира дивизии, сэр.
Полковник сел на стул, где сидел перед тем Фэрбразер. То, что он спокойно сидит и дожидается, не менее удивительно, чем приход его к нам. Несомненно, он чем-то донельзя доволен. Наверное, уже знает, что над Уидмерпулом гроза.
— Вы до армии сочинительством занимались? — спросил он, подергав свои щетинистые светло-коричневые усики.
— Занимался, сэр, — ответил я.
— Генерал на днях упомянул об этом. — И Хогборн-Джонсон шипнул углом рта; странный его смешок знаменовал на сей раз то, что полковник и сам с музами накоротке.
— Я тоже как-то сочинил недурную пародию, — сказал он.
— Да, сэр?
— На стихи Омара Хайяма.
Я изобразил учтивый интерес.
— Забавнейшая получилась, — продолжал полковник без всякого авторского смущения.
Я собрался уж просить его прочесть хотя бы несколько четверостиший этой, очень может быть, занятной стилизации, но тут возвратился Уидмерпул, не дав мне познакомиться с полковничьей музой.
— A-а, Кеннет, — сказал Хогборн-Джонсон самым елейным тоном, на какой способен. — Я решил отнять у вас крошечку вашего драгоценного времени.
Уидмерпул еще меньше обрадовался полковнику, чем раньше Фэрбразеру. Он уже в немалой степени подавлен сыплющимися на него ударами.
— Да, сэр? — произнес он тускло.
— Мистер Диплок… — начал Хогборн-Джонсон. — Нет, вы оставайтесь, Николас.
Полковник сидит на стуле, постукивая кулаками по коленкам, и не торопится продолжать. Он, видимо, затеял публичное посрамление Уидмерпула в связи с делом Диплока. То, что он назвал меня по имени, — признак на редкость хорошего настроения.
— Да, сэр? — повторил Уидмерпул.
— Боюсь, что вам придется признать совершение крупной ошибки, — сказал полковник Хогборн-Джонсон. Отчеканил громко, резко, как отдают приказание на параде.
Уидмерпул молчит.
— Опростоволосились вы, сын мой, — сказал полковник.
Уидмерпул сжал губы, поднял брови. Даже в нынешнем подавленном состоянии он все еще способен рассердиться.
— Вы возвели целый ряд обвинений на старого, испытанного солдата, — сказал Хогборн-Джонсон, — тем самым вызвав массу неприятностей, служебной разладицы и ненужной возни.
Уидмерпул открыл рот, но полковник не дал ему возразить.
— Я вчера обстоятельно беседовал с Диплоком, — сказал он, — и удостоверился, что он может полностью очистить себя от подозрений. С этой целью я разрешил ему отлучку на одни сутки — для сбора некоторых доказательств. Вы, как я понимаю, уходите от нас?
— Я…
Уидмерпул запнулся. Сделал усилие, сосредоточиваясь.
— Да, сэр, — сказал он. — Я действительно ухожу из дивизии.
— Перед тем, я считаю, вам необходимо будет принести извинения.
— Я еще не знаю, сэр, тех новообнаруженных фактов, которые могли бы опровергнуть улики, до сих пор неоспоримые. Днем сегодня я был у полковника Педлара, и он сообщил мне о разрешенной вами суточной отлучке. Он информировал начальника дивизионной полиции, с тем чтобы Диплока держали это время под надзором.
Уидмерпул произнес эти слова весьма строптивым тоном; но, видимо, мысли его по-прежнему заняты другим. Решается ведь собственная его судьба, и ему трудно, конечно, сосредоточиться на Диплоке. А полковник Хогборн-Джонсон — вознамерясь, очевидно, поиграть с Уидмерпулом, как кот с мышью, прежде чем сразить его своими новостями, — переменил пока что тему.
— И еще один вопрос, — сказал он. — О командных назначениях в разведбатальоне.
— Наш генерал сейчас поднял этот вопрос, — проговорил Уидмерпул.
Услышав это, Хогборн-Джонсон удивился. Ясно, что он не знает о грозе, бушующей на генеральском уровне по поводу интриг Уидмерпула.
— Поднял в беседе с вами?
— Да, — ответил Уидмерпул без уверток. — Генерал сказал мне, что командовать назначен майор — то есть теперь уже подполковник — Динери.
Если Хогборн-Джонсон рассчитывал посадить тут Уидмерпула в лужу, то в итоге сел в нее сам. Он покраснел. Он знал, несомненно, что Уидмерпул скрытно соперничает с ним в этом деле, но не знал, чем оно кончилось. Теперь оказалось, что не только кандидат Уидмерпула, но и собственный полковничий кандидат не прошел. А это для полковника несносно. Самоуверенная, ехидно-высокомерная его манера сменилась обычной — брюзгливой и злой.
— Айво Динери? — осведомился он.
— Кавалерист.
— Да, Айво Динери — кавалерист.
— Вот он и назначен.
— Понятно.
Слова у Хогборн-Джонсона иссякли. Он взбешен известием, но не может же полковник вслух признать, что тайные планы его потерпели крах. И наверняка вдвойне ему досадно услышать эту весть из уст того самого Уидмерпула, над кем он пришел насмеяться. Но минутой позже произошло нечто, куда более скверное для полковника — и гораздо более драматичное. Открылась дверь, и явился Киф, начальник дивизионной полиции. Он чем-то взбудоражен. Пришел он явно к Уидмерпулу, никак не ожидая встретить здесь полковника, и теперь озадачен. Киф — человечек хитровато-корявой наружности и неприятен, как большинство военно-полицейских чинов; но, по общему мнению, он умело управляет своим отрядом полисменов (а это народ трудный). Он помялся, видимо решая, объявлять ли то, с чем пришел, или же, измыслив другую причину прихода, отложить разговор до момента, когда Уидмерпул останется один. Решив, что лучше будет не откладывать, Киф стал почти по стойке «смирно» и обратился к полковнику, точно его-то и разыскивал. Причина колебаний Кифа тут же сделалась, увы, ясна.
— Прошу прощенья, сэр.
— Да?
— По телефону передали о серьезном деле, сэр.
— О чем именно?
— Диплок дезертировал, сэр.
Весть настолько неожиданна, что полковник, уже и так раздосадованный назначением Динери, онемел, точно не понимая слов Кифа. Наступила жуткая тишина. Киф первым не вынес ее и, по-прежнему вытянувшись, заговорил снова:
— Только что передали, сэр. Начтыла распорядился держать Диплока под надзором, но слишком поздно получилось. По сообщению, он уже пересек границу. Теперь на нейтральной территории.
Единственный, по-моему, раз в жизни случился у полковника Хогборн-Джонсона великодушный порыв — он поверил Диплоку, поддержал его, обвиненного в казнокрадстве. Конечно, я полковника знаю очень мало — только лишь по недолгой с ним службе. Быть может, вне службы он обнаруживает иные свои, скрытые от меня, качества. Но пусть это и не так, пусть и в общении с друзьями и семьей он столь же малоприятен, как на службе; пусть даже его сочувствие Диплоку продиктовано эгоизмом, пристрастием, тупым упрямством — все же фактом остается, что он доверял Диплоку, верил в него. К примеру, он одернул Уидмерпула, когда тот назвал делопроизводителя старой бабой, — одернул попросту из уважения к Диплоку, заслужившему много лет назад Военную медаль. И вот доверие его обмануто и предано. И не совсем даже по справедливости наказан полковник. Ведь он был прав, не считая Диплока старой бабой; хоть тот и копался по-бабьи с бумажками, но рванул через границу вовсе не по-бабьи. Однако так или иначе, а полковника Диплок предал. И полковник осознал это уже, пожалуй. Он встал, задев и сбросив на пол часть бумаг, заваливших стол Уидмерпула. Дернул головой, без слов веля Кифу следовать за собой, и вышел из комнаты. Шаги их застучали по голому паркету коридоров. Уидмерпул закрыл за вышедшими дверь. Затем нагнулся, старательно подобрал с пола сброшенные сводки показаний. Он даже не радуется победе над Хогборн-Джонсоном — слишком, видимо, угнетен своей собственной бедой. Таким расстроенным, доведенным до полного отчаяния я не видел Уидмерпула с того давнего дня, когда ему, безвинному, пришлось дать Джипси Джонс деньги на аборт.
— Какой поднялся шум, — сказал он.
— Шум?
— Генерал прямо синий от злости.
— Из-за того, что донес корпусному начтыла Фэрбразер?
— Этот проклятый начтыла полностью извратил мои слова, передавая их Лиддаменту.
— И что же теперь?
— Генерал Лиддамент говорит, что расследует дело и если убедится, что я вел себя предосудительно, то уволит из штаба. Конечно, это меня не беспокоит, я и так ухожу. Беспокоит то, что он может со зла расстроить мой перевод наверх, когда получит официальное уведомление. Теперь он вроде бы забыл, что я перевожусь.
— А он знает, что и Хогборн-Джонсон продвигал кандидата?
— Нет, конечно. Хогборн-Джонсон сможет теперь замести свои следы.
— А в деле Диплока?
— Ах да, — повеселел Уидмерпул слегка. — Я и забыл о Диплоке. Что ж, так я и говорил — хотя никак не предполагал, что он решится дезертировать. Возможно, он и не дезертировал бы, не будь граница рядом. Все это крайне огорчительно. Но ничего не поделаешь; а тем временем надо за работу. Что там на очереди?
— Снова всплыл вопрос о производстве Мэнтла в офицеры.
Уидмерпул подумал секунду.
— Ладно, давайте мне, — сказал он. — Пошлем на утверждение в обход Хогборн-Джонсона.
Он взял у меня бумажку.
— А Стрингам?
— Что Стрингам?
— Если, как вы считаете, передвижную прачечную усылают на Дальний Восток…
— К дьяволу Стрингама, — рассердился Уидмерпул. — Что вы все хлопочете о Стрингаме? Если не хочет плыть туда, то, наверно, сможет отвертеться, сославшись на возраст. Это его личное дело. Да, кстати, через час, а то и раньше, должен явиться офицер, назначенный на прачечную вместо Битела. Вы сводите его туда и ознакомите в общих чертах. Детальнее я потом сам. Его фамилия — Чизман.
Остаток штабного дня прошел без особых происшествий. Уидмерпул несколько раз вздыхал про себя, но вслух больше не жаловался. Как он сам сказал, ничего не поделаешь. Остается ему ждать, во что все это выльется. Никто лучше Уидмерпула не знает, что в армии все может случиться. Возможно, он и уцелеет. Еще возможней, что зашлют его куда-нибудь в Западную Африку — и прощай высшие сферы… Затем явился к нам Чизман, и тут же стало ясно, что отплывающая за море прачечная получает в начальники офицера, очень непохожего на Битела.
— Боюсь, что я оказался менее пунктуален, чем мне хотелось, сэр, — сказал он, — но я полон желания поскорее приступить к работе.
Чизман сказал мне потом, что ему тридцать девять лет. А по виду никак не определишь его возраста. Седоватые волосы и очки в стальной оправе очень вяжутся с его дотошно-обстоятельной манерой речи, насквозь штатской — ни малейшего намека на военную «отчетливую» сжатость. Словно представитель фирмы, прибывший по делу в смежную фирму. В обращении его к Уидмерпулу есть уважительность, с которой простой служащий адресуется к управляющему, — но ни следа воинских интонаций. Сам Уидмерпул хотя иногда ведет себя по-штатски, но гордится своей офицерской «отчетливостью» — и Чизман ему явно не по душе. Однако полученные отзывы о Чизмане дают ему, должно быть, основание считать, что тот справится с должностью. Обменявшись с Чизманом несколькими деловыми фразами, Уидмерпул велел мне отправить вещи Чизмана в корпус «Джи» и пойти с ним в прачечную. Разумеется, Уидмерпул хочет побыть один, обдумать свое положение.
— Я побеседую с вами завтра, Чизман, — сказал он, — после вашего ознакомления с персоналом и оборудованием в свете предстоящей отправки.
— Да, сэр, осмотреться предварительно не помешает, — сказал Чизман.
Вдвоем мы отправились на окраину расположения штаба, отведенную для наездов передвижной прачечной. Чизман сообщил мне, что по профессии он бухгалтер. Ему нередко приходилось иметь дело с отчетностью прачечных, так что, произведенный в офицеры, он попросил назначения в одну из передвижных прачечных.
— Их удивило такое мое желание, — сказал Чизман. — А по-моему, оно вполне логично. Начальник наших офицерских курсов покатился со смеху, когда услышал о прачечной. Но он вообще смеялся, только лишь заговорю с ним. Он был со мной согласен, что я стар для строевой должности, и хотел меня пустить по казначейской части или послать учиться шифрованию, но я настоял на прачечной. Тянуло командовать людьми. А к вам я переведен как неплохо поставивший дело в своей прачечной. Мне лестно было это слышать.
— Здесь у вас будет отменный помощник — сержант Эблетт.
— Мне приятно это слышать. Мой прежний сержант отнюдь не всегда отличался надежностью.
Сержант Эблетт был на месте, ожидал нас. Пьяный отзыв Битела о нем верен — Эблетт не только из ряда вон хороший сержант, но и ведущий комик в дивизионных концертах: он поет в них забытые песенки, отпускает допотопные остроты и лихо пляшет в одних подштанниках. Номер Эблетта пользуется у зрителей наибольшим успехом. Сейчас, однако, эстрадные таланты Эблетта укрыты под сдержанной, даже суровой повадкой старого воина; чисто выбритая верхняя губа и чуть-чуть отпущенные бачки придают ему сходство — возможно, нарочитое — с ветераном веллингтоновских кампаний. Я представил его Чизману и подумал, что, пока они заняты делом, можно будет повидаться со Стрингамом.
— Мне надо поговорить с одним вашим солдатом. Разрешите, пока сержант вас знакомит с матчастью?
— Пожалуйста, — сказал Чизман. — Личное дело какое-нибудь?
— Он мой довоенный приятель.
Чизману можно в этом довериться. Да и уплывает прачечная все равно. Сержант Эблетт подозвал капрала. Вдвоем с капралом я пошел на розыски Стрингама, оставив Чизмана осваиваться.
— Видел его в казарме, валялся Стринги на койке, — сказал капрал, добродушный парень с толстым красным носом, не придающий, очевидно, слишком большого значения воинским формальностям.
Он вошел в казарму. Я остался ждать во дворе, где стояли автомашины прачечной, диковинные на вид. Минуты через две капрал показался в дверях. За ним шел Стрингам без фуражки, с озабоченным лицом. Увидел меня, и лицо прояснилось. Встал смирно.
— Спасибо, капрал.
— Не за что, сэр.
Красноносый капрал ушел.
— Я даже всполошился, — сказал Стрингам. — Лежу на койке, читаю, думаю о том, какая Таффи странная. Читая Браунинга, всегда вспоминаю о ней. Говорил ли я тебе, Ник, что Браунинг — ее любимый поэт? Говорил, конечно. Я становлюсь безнадежно забывчив. А Браунинг всегда мне взвинчивает нервы. Я даже вздрогнул, когда капрал Тредуэлл сказал, что меня вызывает офицер.
— Я только что привел к вам нового начальника — вместо Битела назначен.
— Бедный Бити. Какой он фортель отколол вчера. Что теперь с ним будет?
— Уидмерпул его вышвырнул вон из армии.
— Ай-ай-ай. Армии-то, может быть, и лучше без него, а я буду по нем скучать. Что за человек этот новый?
— Зовут его Чизман. Ты с ним поладишь, если останешься в прачечной.
— Куда же я от нее. Я уже слит и спаян с прачечной. Теперь нутром понимаю смысл выражения esprit de corps[21] — а прежде был, увы, лишен такого чувства.
— Я хочу поговорить с тобой об этом.
— Об esprit de corps?
— Давай-ка несколько минут прогуляемся, пока Чизман занят с вашим сержантом.
— Вот и сержантом Эблеттом я восхищаюсь, — сказал Стрингам. — Стараюсь запоминать его остроты, чтобы после войны блистать ими на званых вечерах — если буду туда зван и если еще будут после войны званые вечера. У этих острот подлиннейшее звучанье конца века, они вливают мне в душу уверенность. Погоди, головной убор надену.
Он вернулся в пилотке, с потрепанным томиком в руке. Мы медленно пошли по бесконечной пустой улице, мимо невысоких домов из красного кирпича. Против обыкновения сегодня солнечно, тепло. Стрингам поднял руку с книжкой.
— На прощанье, Ник, я должен прочесть тебе цитату. Что она значит в целости, я толком не знаю, но она явно имеет касательство к армейской жизни.
— Чарлз, времени мало — мобилизуй мысли. Прачечная назначена к отправке.
— Мы знаем.
— Дошли уже слухи?
— До солдат они доходят раньше, чем до офицеров. Одно из преимуществ рядового. А куда пошлют?
— Конечно, это держится в секрете, но Уидмерпул полагает — не знаю, на веских ли основаниях, — что отправят на Дальний Восток.
— И это дошло до нас.
— Тогда вы знаете столько же, сколько и я.
— Вижу-вижу. Конечно, военную тайну могут блюсти так строго, что местом назначения окажется в конце концов Исландия. Всегда возможно и такое.
— Суть в том, что ты, вероятно — даже определенно, — мог бы остаться по возрасту и состоянию здоровья.
— Согласен, что я древней окрестных скал и умирал уже несчетными смертями, почище сказочного вампира. Но при всем том я очень не прочь повидать роскошный Восток — или, на худой конец, исландские гейзеры.
— Ты это твердо?
— Непоколебимо.
— Я счел долгом сообщить тебе просто по-дружески — в прямое нарушение всех правил.
— Об этом я не проболтаюсь. Можешь быть уверен. Надо думать, Уидмерпул знал об отправке?
— Думаю, знал.
— И устроил весь этот гуманный перевод из столовой, чтобы сплавить меня подальше?
— Пожалуй, что так.
— Большей услуги он не мог мне оказать. Моя цитата старине Уидмерпулу не в бровь, а в глаз. Как у всякой ценной мысли, у нее двадцать различных значений.
Стрингам залистал страницы книжки. Мы остановились на углу, возле почтового ящика. Найдя нужное место, он прочел вслух:
Как перед битвой выпивают чару, Так я воспоминаний захотел Испить веселых, светлых, чтоб сумел Мой дух бодрей противостать кошмару. Должна ведь мысль предшествовать удару — Так нам велит искусство ратных дел.— «И темную башню увидел Чайльд Роланд»?[22] — спросил я.
— В данном случае — Чайльд Стрингам.
— К Браунингу у меня какое-то зыбкое отношение.
— Его персонажи все словно в очень дорогих маскарадных костюмах. Тем не менее в строках его всегда немало стоящего. Не то чтобы я тянулся душой к моим веселым, светлым воспоминаниям. Сразу и не наскребу таковых. Но «должна ведь мысль предшествовать удару» — сказано хорошо.
— Будем надеяться, что наше высшее командование держится этого принципа.
— Странно, что Браунинг знал всю его важность для боя.
— Возможно, в Браунинге погиб выдающийся генерал.
— И высшим, и нижним чинам полезно помнить это изречение. Надо бы особый приказ дать по дивизии. Вот бы Уидмерпулу заняться.
— Уидмерпул тоже уходит из штаба.
— На повышение — в полковники?
— Командир дивизии, возможно, еще вставит ему палку в колесо. Он проведал кой о каких интригах Уидмерпула и разгневался; но так или иначе Уидмерпул уходит.
— Как драматично.
— До предела.
— А как же ты?
— Не знаю. Видимо, в ПУЦ направят. Чарлз, мне надо уже к Чизману. Но расскажу сперва, какая беда стряслась в Лондоне, когда я сейчас там был проездом.
Я торопливо рассказал ему о бомбах, попавших в «Мадрид» и в дом Дживонзов.
— Подумать только, «Мадрид» разрушен. Я как-то вскоре после свадьбы повел туда мою Пегги. Не вечер получился, а желтая точка. А в доме Дживонзов я жил — в квартирке наверху, под присмотром Таффи, — обучался трезвости. Таффи читала мне там Браунинга. И все стало пеплом?
— Отнюдь нет. С фасада не видно никаких разрушений.
— Бедная тетя Молли — лучше бы она так и жила в своем Догдине и пеклась об эвакуированных школьницах.
— Не по ней была такая тихая жизнь.
— И Тед бедняга. Неприкаян он будет теперь. Я любил, бывало, заглянуть с ним в пивную потихоньку от Таффи.
— Он никуда не уехал. Живет в разбомбленном доме, как на бивуаке, дежурит на посту гражданской обороны.
— А о Присилле я помню, что за ней очень ухаживал какой-то музыкант — им и его симфонией попотчевала однажды гостей моя мать. Ты ведь был на этом необычном рауте, Ник? Он связан в моей памяти со странной маленькой женщиной, кудрявой от оборок и рюшей, как овечка. Я слегка приударил за ней.
— Ты говоришь о миссис Маклинтик. Она теперь живет с этим музыкантом — с Хью Морландом.
— Да-да, Морланд. Она живет с ним, значит? Как распустились нравы. Влияние войны, должно быть. Уж как я стараюсь подавать целомудренно-монашеский пример, но никто ему не следует. А забавен был тот музыкальный вечерок. Явилась Таффи — тащить меня домой. Я довольно четко помню, хотя перебрал тогда сильно. Вот уж испил действительно. Любому кошмару готов противостать.
— Чарлз, мне надо идти. Значит, ты твердо решил оставаться в прачечной, куда бы ни направили?
— Quis separabit?[23] Таков ведь девиз Ирландского гвардейского полка? Таков же и у нашей прачечной.
— Ты сейчас в казарму?
— Прогуляюсь еще немного. Не хочется опять читать поэзию. Она всегда выводит меня из равновесия. Придется, видно, бросить и поэзию, как бросил пить. Развеюсь прогулкой. Я до девяти свободен.
— Прощай, Чарлз. До вашего отъезда, может, не увидимся.
— Прощай, Ник.
Он улыбнулся, кивнул мне и пошел прочь по улице. Вид у него такой, точно оборваны уже все связи с так называемой нормальной жизнью, армейской и всякой иной. Я возвратился к Чизману и сержанту Эблетту. Они явно нашли уже общий язык и оживленно толковали об уходе за машинами.
— Отыскали своего солдата, сэр? — спросил сержант.
— Отыскал, поговорил. Знал его до войны.
— Да, он вашего круга, сэр. Мог бы и в концерте тут принять участие, но, похоже, ввиду отправки отменяется концерт.
— Куда б вы ни поехали, сержант, всюду будете давать отличные концерты. А нам без вашей голоштанной чечетки будет скучно.
— Да, этот номер любят, — сказал сержант Эблетт без ложной скромности.
Я проводил Чизмана в корпус «Джи». Несмотря на свою мягкую манеру, он оказался упорным спорщиком.
— Это ваша точка зрения, — повторял он по всякому поводу, — но можно взглянуть и совершенно иначе.
Упорство пригодится ему на должности — ведь прачечная, как и каждая мелкая, более или менее независимая, войсковая единица, подвержена всяческим нажимам и давлениям извне.
— Минутку, пока не забыл, — сказал он. — Запишу-ка фамилию вашу, и сержанта, и помначтыла.
Извлекая записную книжку, он расстегнул две верхние пуговицы френча. Под френчем обнаружился жилет штатского покроя, хотя из того же материала, что и форма. Я выразил удивление.
— Вы не первый удивляетесь, — ответил Чизман без улыбки. — А я ничего ни вижу здесь странного.
— Как-то не приняты у нас жилеты.
— Я всю жизнь ношу. По какой же причине должен я в армии отказаться от жилета?
— Действительно, причин нет.
— А даже портной удивился. Говорит: «Мы обычно не шьем жилета к френчу, сэр».
— Да, война у нас портновская.
— В каком смысле?
— Просто так говорят.
— Почему?
— Бог его знает.
Чизман поглядел недоуменно, однако расспросы прекратил.
— Ну, пока — до утреннего построения.
По воскресным утрам надо, выстроив взвод обороны, маршировать в церковь вместе с отрядом военной полиции и различными другими подразделениями, приданными штабу дивизии. Эта маршировка — довольно хлопотное дело, поскольку «краснофуражечники»[24], в большинстве своем бывшие гвардейцы, привыкли к более медленному шагу, чем принятый в пехоте; легкие же пехотинцы, фузилёры, склонны, напротив, частить. Полковника Хогборн-Джонсона, чьи симпатии, естественно, на стороне «легкой пехтуры», всегда злит этот разнобой движения. Но на сей раз прошло гладко. Из церкви, не успев перекинуться словом с офицерами, я направился в штаб взглянуть, нет ли там срочных дел. Уидмерпула в комнате не оказалось; его и в церкви не было. Он нередко и по воскресеньям работает с утра — так что, возможно, уже отработал свое и вернулся домой. Я вошел, и почти сразу зазвонил телефон.
— Отдел личного состава — Дженкинс слушает.
— Говорит начальник тыла. Дайте майора Уидмерпула.
— Его нет в отделе, сэр.
В голосе полковника Педлара слышно возбуждение — неясно, радостное или сердитое.
— Придя из церкви, я не застал его, сэр.
— А помначмедслужбы был в церкви?
— Да, сэр.
Макфи сидел там несколькими рядами впереди меня.
— Его телефон молчит. Скажите дежурному на коммутаторе, пусть разыщет майора Уидмерпула и майора Макфи и пошлет их ко мне. И сами ко мне идите.
— Слушаю, сэр.
Когда я вошел, полковник Педлар шагал взад-вперед по своему кабинету.
— Велели разыскать Макфи?
— Да, сэр.
— Без врача нельзя приступать к делу. Случилось несчастье. Трагедия. Очень неприятная для нас вещь.
— Да, сэр?
— Капитан Бигз повесился в раздевалке для крикета.
— В той, что на стадионе, сэр?
— Да. От которой ключ теряли, — ответил Педлар, по-прежнему расхаживая взад-вперед. — Придется ждать врача и Уидмерпула, без них нельзя.
— Когда Бигза обнаружили, сэр?
— Сейчас вот — кто-то штатский пришел туда за скамейками и увидел.
Полковник Педлар остановился, постоял. Видимо, разговор принес ему некоторое облегчение. Зашагал опять.
— Ну, как вам новость сегодняшняя?
— Ужасно, сэр. Мы с Бигзом вместе…
— Я не про Бигза, — сказал Педлар. — Вы утром газету не читали? Радио не слушали? Германия вторглась в Россию.
И мгновенно, еще не успев и подумать о стратегическом значении этого события, я ощутил огромное, почти мистическое облегчение. Нахлынула внезапно уверенность, что теперь всё будет хорошо.
— Немцы управятся там в три недели, — сказал Педлар. — Раз вы не знаете об их нападении на Россию, то, наверно, не слыхали и о том, что генералу Лиддаменту дали корпус.
— Не слышал, сэр.
— Он утром сразу же и отбыл принимать свой корпус.
Полковник Педлар небывало разговорчив сейчас. Этим разговором и хождением по кабинету он, конечно, хочет отогнать от себя мысли о Бигзе.
— И майор Уидмерпул убывает из штаба.
— Да, я слышал, сэр.
— Правда, приказ еще не получен.
— Не получен, сэр.
Полковник Педлар перестал расхаживать. Сел за стол, приложил пальцы ко лбу.
— О чем-то я еще хотел вам сказать, — произнес он. — Но о чем?
Я стоял в ожидании. Полковник принялся перебирать бумаги на столе. Сейчас он особенно похож на охотничью собаку, ищущую потерянный след. Вот нашла — Педлар схватил какую-то бумажку.
— Ах да, — сказал он. — О вашем служебном устройстве.
— Да, сэр?
— Предполагалось направить вас в ПУЦ.
— Да, сэр.
— Но я сейчас получил вот это. Надо бы, конечно, пустить через помнача, но раз вы здесь, то уж прочтите.
Он протянул мне служебную телеграмму. В ней указана моя фамилия, имя, звание, личный номер; мне предписывается на этой неделе прибыть в Военное министерство, в комнату такую-то.
— Зачем этот вызов, не знаю, — сказал Педлар.
— И я не знаю, сэр.
— Во всяком случае, направлять вас в ПУЦ не придется.
— Не придется, сэр.
В это время вошли Уидмерпул и Макфи. Военврач угрюм, как всегда, или даже угрюмей. А Уидмерпул уже знает о назначении на корпус и отъезде генерала. Это видно по лицу Уидмерпула и по бесцеремонности, с какой он остановил Педлара, начавшего излагать обстоятельства самоубийства.
— Не думаю, чтобы Дженкинс был нам необходим, — сказал он.
— Да, пожалуй, — сказал Педлар. — Можете идти, Дженкинс. Не забудьте о полученном предписании.
Я вернулся к себе в корпус «Эф». Там Соупер обсуждал с Кифом случившееся, от волнения дергая густыми бровями. Сейчас он, со своими обезьяньими надбровьями, особенно напоминал комика-профессионала.
— Веселенькое дело, — говорил он. — Никогда не думал, что Бигги этим кончит. И причем в крикетной раздевалке. А он так любил крикет. По-моему, на него подействовала нервотрепка из-за ключа — еще сильнее, чем развод с женой. Как-то непривычно теперь будет без его ежедневных нареканий на еду.
На той же неделе был сбит самолет, в котором художник Барнби, мой приятель, летел разведать маскировочные методы противника.
Примечания
1
Э. Дзелепи. Секрет Черчилля. М., «Прогресс», 1975, с. 32.
(обратно)2
В VII веке был в Северном Уэльсе король Кадуолладер. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)3
Высший британский военный орден.
(обратно)4
Полковник Блимп — популярный комический персонаж, придуманный карикатуристом Д. Лоу, олицетворение косности и шовинизма.
(обратно)5
Мыслю — следовательно, существую (лат.).
(обратно)6
Альфред де Виньи. Рабство и величие солдата (франц.).
(обратно)7
«Боже! Как грустно рог звучит в лесной глуши!..» (франц.) — строка из стихотворения «Рог».
(обратно)8
Имя Джой буквально означает «радость», Грант — «дар».
(обратно)9
«Дон Жуан», V, строфа 58. Перевод Т. Гнедич.
(обратно)10
Категория командного состава, промежуточная между сержантами и офицерами.
(обратно)11
Сенешаль — замковый дворецкий.
(обратно)12
То есть кавалер орденов «За боевые заслуги» и «Военный крест».
(обратно)13
Из поэмы «Бесплодная земля» Т. С. Элиота. Перевод А. Сергеева.
(обратно)14
Запрещено (нем.).
(обратно)15
Из стихотворения «Улан» А. Э. Хаусмана.
(обратно)16
Отрывок из песни в драме В. Скотта «Судьба Деворгойлов».
(обратно)17
— До свиданья, лейтенант.
— До свиданья, капитан (франц.).
(обратно)18
Перо моей тетушки (франц.).
(обратно)19
Джипси по-английски значит «цыганка».
(обратно)20
Чартерхаус — дом для престарелых в Лондоне.
(обратно)21
Кастовый дух (франц.).
(обратно)22
Зловещая строка из «Короля Лира», которая служит заглавием и темой цитируемой здесь поэмы Браунинга. «Чайльд» означает «молодой дворянин».
(обратно)23
Кто нас разделит? (лат.).
(обратно)24
Прозвище военных полицейских.
(обратно)

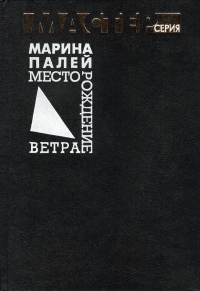

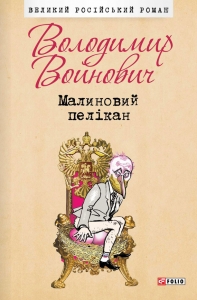



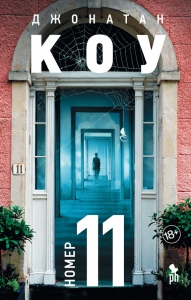

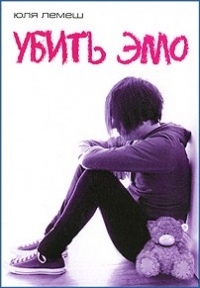


Комментарии к книге «Поле костей. Искусство ратных дел», Энтони Поуэлл
Всего 0 комментариев