Так [не] бывает Составитель Макс Фрай
Лора Белоиван Наследство
Вещи переносили уже в темноте. Мощный фонарь над соседскими воротами освещал чуть ли не полдеревни, но скорее мешал, чем помогал: возвращаясь к грузовику за коробками, приходилось щуриться или закрываться козырьком из ладоней. Усиленный отражателем луч хлестал по глазам, и еще несколько секунд нужно было приучать зрение к темноте крохотного, с блюдце размером, двора, в который едва удалось втиснуть Максов «Лансер»: капот машины нависал над тропинкой, ведущей к крыльцу, а свет из кухонного окошка стекал под колеса. Во двор выходили и два окна большой комнаты, но в ней не смогли включить лампочку: то ли перегорела, то ли выключатель поломался. Коробки ставили одна на другую прямо в коридоре, организовав там четыре башни. Работали очень быстро, очень четко, очень аккуратно и – почему-то – на цыпочках. Наверное, так работают воры: неслышно ступая, стараясь не разговаривать или перебрасываясь лишь короткими, сугубо по делу, фразами. Придержи. Здесь. Вот так. Сюда ставь. Когда все четыре башни стали одинакового роста, оказалось, что в кузове больше ничего нет.
Макс сразу сказал, что в город не поедет: останется ночевать в доме.
– Это ж теперь мой дом, так что, – сказал он.
Тоха и Серый разубеждать его не стали – не маленький. На его месте они бы тоже предпочти спать на коробках, но не ехать на ночевку к семейным корешам или, тем более, возвращаться в съемную квартиру, откуда уже вывез башни.
– Ну, звони.
– Ага, – кивнул Макс, – шашлык за мной.
– Ну еще бы.
– Давайте, до созвона.
– До созвона.
Макс стоя в проеме калитки и какое-то время наблюдал, как Тохин грузовик, разворачиваясь, ненадолго схлестнулся лучами фар с лучом соседского фонаря – сабли автомобильного света были острыми и тонкими, и их было две – они играючи победили фонарь, пронзили, распороли его толстый неуклюжий луч, но не стали добивать – бросили подранка, метнулись в сторону, царапнули чей-то забор, панибратски щекотнули небо и, посерьезнев, сосредоточились на дороге, а потом слились с ней. Макс завязал калитку проволокой и пошел домой. «Домой, – подумал он, огибая капот «Лансера», – надо же как».
В доме было две комнаты: большая, в которой не горел свет, и дальняя маленькая, в которой, как выяснилось, свет не горел тоже. Но зато она щедро освещалась недобитым лучом соседского прожектора: хоть книжки читай. Заоконного освещения вполне хватало, чтобы можно было в деталях рассмотреть весь интерьер комнаты: прямо напротив двери, у окна, железная кровать с облезлыми шишками; слева у стены шкаф-секретер – ублюдок, дитя мезальянса между советским сервантом и бюро дворянской фамилии; справа стол, застеленный клеенкой в горох. Бабка держала на этом столе ящички с рассадой, а дед хранил в секретере крючки и грузила. Поди, они до сих пор там лежат, в двух коробках из-под леденцов. Дед умер на этой кровати. Между рассадой и грузилами. Макс был еще маленький и, когда приезжал к бабке на выходные или на каникулы, все время боялся, что она уложит его на дедову кровать, но бабка стелила ему на раскладном кресле в зале. Макс не помнил, куда оно в конце концов делось: было и сплыло. Просто с какой-то поры стал ночевать на раскладушке. Раскладушки, кстати, тоже не видать.
Бабка прожила еще двадцать пять лет. За полгода до смерти стала видеть деда во всех мужчинах от пятнадцати до ста, а потом вдруг выздоровела на два дня, всех узнала, со всеми поздоровалась, расспросила о житье и последних событиях – и умерла в совершенно твердой памяти. Попрощавшись с бабкой, Макс простился и с этим домом: почему-то был уверен, что Господь – или кто там распоряжается душами и их имуществом – прибрав бабку, заодно отнял у него, Макса, право бывать в этом доме хотя бы изредка. Он был изумлен, когда нотариус сообщил ему, что бабка завещала дом именно ему. Не так уж и часто виделись в последние годы.
Макс постоял на пороге в маленькую комнату, потом шагнул было в темную большую, но передумал, развернулся и отправился во двор, в машину, спать. Умастившись на отодвинутом и откинутом переднем пассажирском сиденье – ноги в руль – прислушивался к ощущениям: тоскливо ли? Горько ли? Одиноко? – и слабо удивлялся, что вместо всего этого, ожидаемого, почти запланированного – чувствует только покой. И – пока не очень громко – голод. Но еды ни в одной из четырех башен не было, в бардачке «Лансера» могло заваляться какое-нибудь печенье, но не завалялось – да и черт с ним, и без печенья сойдет.
Проснулся внезапно. Ночь еще не кончилась. Его разбудил голос, сказавший доброжелательно, но твердо: «Завтра тоже спи тут». Было ясно, что голос приснился, так бывает иногда, когда просыпаешься вдруг от сказанной кем-то фразы, и этот кто-то – персонаж из сна, сюжет которого никогда не извлечь оттуда, где он остался. Несмотря на эту ясность, Макс приподнялся на локте и сквозь стекла машины оглядел двор. Двор был пуст. Посмотрел в боковое зеркало – тьма, заросли сорняков тенью вокруг багажника; никого. Попытался уснуть опять, но не получалось. Достал телефон, глянул время: пять утра. Вот-вот будет светать. Где-то вдали, а потом ближе, прокукарекали петухи. Можно было выходить на рыбалку. Если бы Макса хотя бы чуть-чуть интересовала рыбалка, он бы, может быть, на нее бы и вышел сейчас, зевая и ежась – как в детстве, когда дед поднимал его затемно и тащил с собой на лагуну; дед не спрашивал, нравится ли Максу рыбалка: в его, дедовом, мире все мальчишки должны были умирать от счастья, когда им дарят удочки и берут с собой рыбачить.
Как уснул второй раз, Макс не заметил.
Проснулся от духоты – солнце было уже совсем высоко, часы на телефоне показывали без четверти девять, хотелось пить, есть и в туалет – или в обратной последовательности, не важно: главное – быстро. И как-то уже надо устраиваться с вещами и вообще – лампочки заменить в комнатах или посмотреть, что там с проводкой.
Весь день прошел в суете. Съездил в продуктовый магазин, привез сухомятки и упаковку пива; вымыл в доме пол и окна, заменил лампочки, еще раз съездил в магазин – купил матрас, подушку, одеяло и два комплекта постельного белья; постелил матрас на полу большой комнаты (при бабке эта комната называлась залом), где из мебели был только пустой старый шкаф; в третий раз съездил в магазин – купил удлинитель и настольную лампу; соорудил возле матраса офис из настольной лампы и ноутбука – посмотрел на уют и решил, что это хорошо. До ночи еще оставались и время, и некоторые силы – Макс подошел к шкафу, прикинул, имеет ли смысл разбирать и выносить его прямо сейчас или отложить на завтра, – и решил отложить. Поужинал. Посмотрел какой-то детектив. Совсем уже было собравшись укладываться спать, вдруг вспомнил: «Завтра тоже спи тут». И, с сожалением поглядев на расстеленную на полу постель, отправился в машину.
В час, когда кричат петухи, а любители утренней рыбалки выходят из дому, Макс проснулся от фразы: «А им все похуй, понимаешь, да?» Сон не сразу отпустил его: вокруг фразы мгновенно образовался какой-то вполне осмысленный, но еще неплотный сюжет – внутри этого сюжета все было очень логично, хотя и досадно оттого, что им все похуй; Макс кивнул, соглашаясь с собеседником – мол, конечно, понимаю – и проснулся, не успев вытащить фабулу, которая распалась, растворилась в воздухе от кивка – оставив после себя лишь фразу про каких-то неведомых «их».
В тот день он опять не разобрал и не выбросил старый шкаф, про который почему-то решил, что непременно его разберет и выбросит – хотя шкаф и не мешал ему и не действовал на нервы: в конце концов, не в шкафу же умер дед, а на кровати в соседней комнате, ну так он, Макс, и не спал на той смертной кровати, а спал в машине уже две ночи, несмотря на уютный матрас на полу, возле ноутбука и настольной лампы, несмотря на одеяло, подушку и пахнущую текстильным принтом простыню. Макс строгал на кухонном столе сыр для ужинных бутербродов и решал, где ему спать сегодня, в машине, как бичу, или, как приличному человеку, на матрасе; хотелось спать на матрасе, но голос в предыдущем сне не дал добро на матрас, хотя и не повторил запрет, а лишь посетовал, что «им» – кому им? – «все похуй», что вроде бы не имело прямого отношения к ночевке ни в машине, ни на матрасе, но Макс почему-то знал, что решение спать на матрасе голос бы не одобрил. «Да им все похуй», – сказал Макс вслух и понес тарелку с бутербродами к матрасу.
Он уснул, посмотрев два фильма целиком и не досмотрев третий; отключился, не захлопнув ноутбук, поэтому фраза, услышанная им во сне этой ночью, вплелась в сюжет с ноутбуком – Максу было сказано, что «в деревне всегда надо закрывать», и он размышлял прямо там, во сне, почему в Овчарове такие порядки и что стало причиной тому, что здесь непременно надо держать неиспользуемый ноутбук в закрытом виде. В эту ночь голос не разбудил его. Но, что еще больше порадовало Макса, голос не стал ругать его за то, что он, Макс, без разрешения ночевал на матрасе. Макс, чтобы продемонстрировать голосу миролюбие, с готовностью пообещал, что в следующий раз обязательно сперва закроет ноутбук и только после этого уснет.
Четвертый день прошел в заботах по удалению прочь дедова одра. Макс занялся этой операцией сразу после завтрака, но провозился весь день, потому что одр заржавел, и все три его составляющие прикипели друг к другу насмерть. Макс колотил по железякам найденной в сарае кувалдой, ездил в автомагазин за жидкостью, разъедающую ржавчину, опять колотил кувалдой – а потом, кое-как успев убрать ноги из-под обрушившейся железной рамы с панцирной сеткой, долго смотрел на мощную рухлядь, напоминающую обломки авиакатастрофы. А потом выволакивал все это во двор, устанавливал стоймя к глухой стене дома – надо будет опять Тоху с грузовиком просить, чтобы отвезти в металлолом – и всерьез размышлял над тем, как отнесется дед к тому, что он поломал его кровать.
В ночь с четвертых на пятые сутки Максу приснился отчетливый и складный производственный сон – про учебную тревогу на судне, где он должен был заводить двигатель на шлюпке по правому борту – и в этом сне знакомый уже голос сказал совершенно не приделанную к сюжету фразу: «Тебе бы все сладкое да сладкое, а суп кто жрать будет».
Макс вряд ли бы смог объяснить, зачем он стал записывать эти фразы из снов. Вроде бы и ясно: чтобы не забыть. Но в чем необходимость этого запоминания, Макс не думал: просто купил тетрадку и записал: «Тебе бы все сладкое да сладкое, а суп кто жрать будет». Фраза казалась ему знакомой, она вполне могла быть адресованной ему в детстве, но бабка бы не сказала слово «жрать», а дед совершенно не касался вопросов детского питания. Да и голос во сне был чужим.
После того, как из маленькой комнаты была изъята дедова кровать, комната оказалась не такой уж и маленькой.
В бытовых хлопотах прошла вся первая неделя. Иногда Максу казалось, что он живет в старом доме гораздо дольше, а иногда – как будто лишь позавчера приехал. До официального вступления в наследство было еще четыре месяца, но Макс, уже обладая домом де-факто, не связывал с предстоящим статусом де-юре никаких дополнительных перемен. Каждый день он возился по хозяйству – что-то мыл, что-то белил, что-то красил, менял старые провода, рассыпающиеся в руках от ветхости – и к вечеру валился от усталости. Усталость его была умиротворенной, сытой, гладкой как кот, она мягкими лапами запрыгивала на него, когда он включал какой-нибудь детектив – и тут же засыпал. В тетрадке для фраз последовательно появились: 5) «Главное, не надо торопиться, все торопыги как торопыги, а ты нет»; 6) «На севере шашлык очень хорошо»; 7) «Когда черепахи придут, не спрашивай их, откуда».
В субботу Макс опять подступился к шкафу и опять не стал разбирать его.
Эти два навязчивых желания – разобрать шкаф и оставить его на месте – сменяли друг друга так часто, что Макс не успевал принять решение. Шкаф – огромный, трехстворчатый, пустой и странно уютный внутри – как будто врос в пол. Макс несколько раз примеривался к его весу: налегал плечом и пытался сдвинуть допотопную мебелину с места, но она ни разу не шелохнулась. В тот день, накануне приезда друзей, Макс все-таки решил разобрать шкаф, чтобы вывезти его на Тохином грузовике – вместе с останками дедова корабля, на котором тот переплыл Стикс. Макс честно подошел к шкафу с отвертками и – на всякий случай – с пассатижами, потянул за ручку дверцы и замер в крайнем изумлении: дверца не открывалась. Ни одна, ни другая, ни третья. Шкаф был заперт.
Макс поочередно провел ладонью по всем трем дверцам, как будто надеялся нащупать замочную скважину, но панели были такими же гладкими на ощупь, как и на взгляд.
Навстречу Антону и Серому он вышел с отвертками в обеих руках, долго не мог сообразить, куда их пристроить, в итоге положил прямо на крыльцо и сообщил друзьям, что шкаф выбрасывать не будет.
Кровать да, а шкаф пока нет.
Без кровати, прислоненной к стене дома, как будто стало легче дышать. Макс обошел свое имение, присматривая место для новенького мангала – такое, чтобы огонь от костра не опалил ветки старых яблонь. Такое место нашлось в десятке метров от задней стены дома. Макс установил мангал, настрогал щепок и мимоходом сообразил, что случайно выполнил рекомендацию голоса из своего сна: костровую площадку он, оказывается, организовал на севере. Что там еще было? Черепахи-торопыги?
Черепахи пришли на свет угасающего костра, за полночь; сперва одна – та была покрупнее, поамбалистее; за нею другая: помельче, пожиже в лапах и с более тонкой шеей. Они вышли из сорных зарослей, амбал остановился и вытянул мощную шею, как будто принюхиваясь к остаточному запаху жареного мяса; жидкая черепаха шла след-в-след и, не сбавляя скорости, ткнулась в хвост товарища. Макс засмеялся и протянул руку, чтобы толкнуть Тоху – мол, посмотри, что это, черепахи откуда-то, – но в тот же момент, когда рука его натолкнулась на пустоту, он вспомнил, что друзья уехали еще в сумерки, а сам он вернулся к костру и задремал.
Черепахи между тем двинулись в путь. Амбал уверенно пошел в обход костровища, держась кромки травы, а его более слабый друг следовал за ним, никак не проявляя интереса к местности. Макс провожал их взглядом до тех пор, пока они не скрылись за границей света, выкурил две сигареты, затушил костер из старой бабкиной лейки и пошел в дом, почти наверняка зная, что получит нагоняй за позднее возвращение.
Дед и бабка сидели за пустым кухонным столом, как сидели всегда, когда он прибегал домой с опозданием в добрые пару часов.
– Баб, деда, я тут был, за домом, уснул просто нечаянно, – сказал Макс, – а вы от…
– Тссс, – дед приложил палец к губам, – тихо.
– Да, Максик, ты чего шумишь-то, – сказала баба, – ночь ведь на дворе.
Макс остановился в дверях, не решаясь присесть за стол рядом с ними, и от этой невозможной возможности вдруг сделалось горячо глазам. Тут же вспомнил про кровать, вывезенную в металлолом.
– Дед, я твою кровать выбросил, – сказал он, – ты прости.
– Ну, выбросил и выбросил, – ответил дед, – ничего.
– А спишь на чем? – спросила баба, – раскладушку-то твои суханским отдали.
– Матрас купил, – сказал Макс и зачем-то уточнил: с пружинами.
Помолчали.
– Ну, мы пойдем пока, – сказал наконец дед и встал с табуретки.
Бабка поднялась следом.
Макс посторонился, чтобы пропустить их в дверь на улицу, но они направились в зал: первым шел дед, за ним семенила бабка. Макс, помедлив всего секунду, тронулся вслед за ними, но отстал непоправимо, безнадежно – когда он вошел в большую комнату, то едва лишь успел заметить, как закрывается за бабкой крайняя, левая дверца шкафа. Он в два шага пересек комнату и рванул дверцу на себя: в шкафу было пусто. Как всегда.
Он еще несколько раз встречался – в саду, или на дорожке к дому, или возле калитки – с черепахами, но каждый раз они делали вид, что не узнают его.
А потом настала зима, и Макс юридически вступил в права наследования шкафом. До этого момента прошло примерно две трети тетради, а потом она остановилась. Никаких фраз больше не было. Никаких черепах, никаких приказов, рекомендаций и тонких наблюдений.
Макс очень дорожит этой тетрадью. Он давно выучил ее наизусть, время от времени читая ее перед сном: наугад, с любой страницы, хоть с начала в конец, хоть с конца в начало. И он мог бы поклясться, что одной фразы, написанной вроде бы его рукой, он не писал никогда. Ее вообще не было в той тетради, но, тем не менее, вот она; и можно было попытаться сделать вид, что ее нету, или что в ней нет смысла, или еще что-нибудь, – но Макс понимает, что смысла нет в самообмане, а в этой фразе что ни слово, то смысл, и каждый раз, читая эту фразу, он чувствует, как становится горячо глазам.
Слов в ней, собственно, всего-ничего: «Не спеши итти в левую дверцу».
Он, Макс, написал бы: «идти».
Ася Датнова Спиритус
Дед Иван варил самогон на костре в скороварке, лежа на поляне в саду старого материного дома – сад густо заплел колючий терн, и никакой чужой не стал бы пробираться сквозь чащу, чтобы поймать деда, окруженного запахом дыма и браги. Тогда за это сажали. По улицам ходил милиционер Потап по прозвищу Плакся, принюхивался, входил в дом, отбирал аппарат, брал взятку продуктом. Каждый варил себе свой, кислый, злой, бормотуху выпивали, не давая дойти. Все пили, и боярку из аптеки, и метиловый, многие оставались живы. Потом снова в сельпо появились бутылки, Потап дослужился, ушел в администрацию. Продавали водку «Стрелецкая», где на этикетке был нарисован стрелец, в кафтане, с алебардой. В магазине просили: «Дайте две Плакси с шашкой».
Мутным самогон никогда не был, все смеялись, глядя телефильмы, в которых на столе стоит мутно-молочная, большая бутыль – такой бывает только у плохой, неряшливой хозяйки, когда брага сильно кипит.
В новые времена городской правнук Ивана Алексей, приехав в деревню, тоже стал гнать. За компанию с соседом, из баловства, достали с чердака старый аппарат из бидона с молочной фермы, с приваренным змеевиком, его остужали проточной водой из шланга. Потом съездил на поле, где бездомный жил зимой и летом в вагончике, сторожа поляну с металлоломом, купил яркий, красный огнетушитель и сделал себе аппарат, назвал «Космос». Ставил на сахаре. Со всей деревни несли ему бутыли, низачем хранящиеся в сараях – полуведерные, трехведерные, сделанные стеклодувами еще при царе, легкие и косенькие, тяжелые и голубоватые советских времен, зеленые, синие. Приносил, что получалось, на все праздники – приличный, душевно сидели, голова не болела, только обижались, что «головы» и «хвосты» выливал или тратил на разжижку. Жалко было, это бы тоже выпили. Приезжали городские гости на экзотику, увозили в город канистрами. Стал фильтровать, перепробовал древесный уголь, уголь активированный, фильтры противогазов, фильтр для аквариума.
Из голого сахара варить ему скоро показалось скучно, пробовал настаивать – горький терн, кровавая вишня. Чувствовался ему лишний привкус. Сделал сухопарник, отбирал только запахи, пошли в прозрачное ароматы укропа, аниса. Решил, мало градуса. Заказал новенький хромированный бак, со стеклянной колонной, в которой вода кружилась на металлических тарелочках, как инсталляция в музее современных искусств, взбираясь выше и выше. Спирт сам по себе тоже показался скучным, голым, хотя и сильным. Бродил по полям, собирал полынь во время цветения. Добавлял лимонные корки, то корень хрена, молодые веточки сосен, душицу. Ставил на яблоках, собранных на заре в августе. Смешивал, перегонял по три раза, прятал в погреб, зарывал на год в землю. Коптил на ольхе пророщенный ячмень, варил древесину дуба. Приезжать к нему перестали. Деревенские к его продукту привыкли, другого и пить не хотели, одно не очень нравилось, что бывало, сидели за бутылкой вроде со знакомым, ночь беседовали, а потом глядь, у собутыльника даже рта нет и головы.
Сам перестал совсем пить – попробует, сморщится, говорит, неинтересно, все я узнал, а хочется теперь только очень хороший продукт, на особый случай. Запирался в доме, зарастающем терном и хмелем, на недели, по улице ползли запахи, туман. Выносил, угощал для пробы. Что бы там ни было, все пили. Некоторые после пели для летучих мышей, купались в полнолуние, танцевали голыми для рыб. Он спрашивал, как было, и все записывал. Рассказывали старательно, что эту выпьешь – звезды гаснут, все вращается, чернота и холод, летишь куда-то, а другую – вспомнишь что-нибудь из детства, сидишь плачешь, так себя жалко. Сердился, говорил, не очень чистый продукт, на дне осадок. А на вкус, говорили, очень хорошо, хвалили, пьется легко, как вода, иногда как воздух, и на языке вроде как пыльный дождь. Или мед на солнце, только ты сам как пчела. Просили по-человечески – хватит, лучше уже не надо, и так Серый спьяну на тот берег по воде перешел. А он все – нет, еще не интересно, скучновато.
Пыхнуло ночью что-то, думали, пожар, прибежали – ни дома, ни бутылей, ни аппарата, ни его самого. Но сад стоит.
С этих пор не то что бражка кипеть, у хозяек даже молоко скисать перестало. Говорили, всю бродильную силу местности на одного себя истратил. Так только, если ягоды поздним летом спекутся на жаре на кустах, почти забродят, кто-нибудь пожует их горячими, чтобы вспомнить.
А потом в саду на поляне нашли все-таки одну зарытую бутыль. Выкопали, обтерли, даже нюхали – непонятно, на вид цвета местной ночи. Пахнет торфом. Пробовать побоялись – кто его знает, теперь, из какой это партии – вдруг из последней, удавшейся, на особый случай.
Ася Датнова Нигде никто Оксана
Горячий, носатый, он много смеялся, махал руками – в городе лютый холод, ему скоро ехать в Индию, уже весь был устремлен и не здесь – уезжал туда каждый год. Скоро сам стал похож на индуса, высох, потемнел. Конечно, йога, сурья, веганство. Много безделья. Оксана помалкивала. Зачем не есть животных, когда они жрут друг друга, микробы, бактерии. Звал с собой, все знаю, все покажу, сэкономим, она хотела, но, может, не проживешь зимы, весна и лето не будут сбивать с ног. Хотя она все время мерзла. Вежливо встречалась с ним в Джаганнате, ела острый чечевичный суп и выходила покурить на мороз. Нравилось смотреть на серебристое облако пара. «Когда бросишь? Когда займешься собой? Дыхательные упражнения! Вот у меня была випасана так випасана! Я целые сутки потом блевал».
Ей почти нравилось в заведениях, пропахших тяжелыми благовониями, свечным воском, все в амулетах, золоте, красном и синем, как крик, чужое. После еды пошли на сеанс реверсивного гипноза – он уже был, вдохновился, хотел узнать про все свои перерождения и карму. Она сомневалась и насчет множественности жизней, и насчет реальности путешествий. И всегда они узнавали себя Клеопатрами, Марками Аврелиями, на худой конец – Станиславским или фрейлиной при царской фамилии, викингом, одетым менее достоверно, чем в Голливуде, но никогда никто не рассказывал, что в прошлой жизни, надо же, был управдомом или вожатым трамвая, страдавшим катаром и лечившимся на водах в Сочи. Быть может, управдомы не перерождались. Но все-таки что-то ей надо было делать с собой, что-то надо. Всегда готовые поддержать подруги уже устали и были в растерянности, пытаясь выудить что-нибудь из ее жалоб, за что можно было бы зацепиться и умно ответить. Но трудно понять то, чего человек сам не знает. Грустно, и все.
Минус двадцать, влажность, ветер. Жесткий снег, забрызганный грязью, серый, все же посверкивал острыми искрами, особенно отвратительный в желтом свете фонарей, разлившимся по сугробам, как мутное масло из опрокинутой бутыли. Хорошо было в «Облаках» – тепло, душно, и хотя просили снять обувь, но дали думочки и пледы. В группе было человек десять – глядя на них, Оксана не могла придумать, кто они, чем занимаются и почему пришли – коренастый мужичок в темном пиджаке – водитель? Строитель? Развелся? Несколько девушек разной комплекции, свитерки, джинсы. Одна в цветных юбках, с розовой косичкой. Очень худой юноша… неважно. Завернулась в плед, легла и стала глядеть в потолок. Хотелось пригреться и поспать после обеда.
Ведущая опоздала. Брюнетка, брови, хриплый голос, назвала себя психологом – ну, это вряд ли. Включила музыку на старом магнитофоне. Сказала, что будет проводником. Начала отсчет, попросила спускаться по воображаемым ступенькам, потом что-то про золотой поток… песок… поток. Дотерпеть до конца. Может, это как сон, разговор с подсознанием, потом дешифруем.
И вдруг увидела снег.
Она тоже не была управдомом, ни вагоновожатой – она вообще не была человеком.
У него не было тела, не было формы, оно не ело, не ощущало, не могло умереть. Оно жило в пещере на заснеженных горах, поросших лесом. В лунные ночи свет проникал через щели вверху, и оно тогда подлетало повыше и смотрело на луну – тогда его почти форма была почти видна и слегка серебрилась, как сгусток пара на морозе. Очень старое, человеки, редко приходившие к пещере с дарами из нижней деревни, несколько раз меняли свой вид, одежды. Но не присматривалось – все равно. Равнодушие. Основным его занятием был снег. Надо устроить снегопад. Оно перемещалось в лесу. Когда находило труп лисы, с кровью из застывшей пасти, птицы или замерзшего охотника с остекленевшими глазами – оно долго смотрело, а потом равномерно покрывало их тела, морды, мех, перья, лица, глаза инеем. Это было красиво – инеем. С ним гораздо лучше.
Потом однажды этот. Черный жесткий волос, узкие глаза. Он рисовал. Черным по белому. Оно с ним ходило. Не убивать. Или просто тоже смотрел. Рисовал, сосна, иглы. Хребет горы. Красиво. У белой лисы есть черная лиса.
Сначала он не очень. Показать. Непонятно как, но получилось. И тогда оно всегда с ним ходило, не надо инеем – никто раньше не видел. Хорошо понимал. Стал лучше. Очень хорошо.
Оно когда с ним ходило – как будто начало потом чувствовать немного.
Рисовали вид с горы на нижние горы в соснах. Старый стал, волос белый. Оно висело над пропастью, показывало. Это был рисунок самый лучший, он сохранится. И вдруг открылась прореха – и туда засасывало, совсем втянуло быстро, оно успело посмотреть напоследок – а он тоже смотрел, и было ясно, что он глазами увидел. Оно подумало – мы что, разве тоже умираем? Но это было не больно. Грустно немного. Зачем?
Но оно все равно не умерло. Оно перешло, миры – тусклые, сияющие, большие, маленькие. Золотые в синей темноте. Они так не делали, обычно нельзя, но оно взяло свое грустно – все, что у него было – и смогло с ним опуститься к человекам. Больше не показывать, а самому. Так хочется.
– Эй, ты где?
– Что там в ваших буддизмах говорят, – спросила Оксана, одеваясь, – бывает, что типа духи перерождаются в человеческом мире? Я не разбираюсь.
Он тоже не разбирался.
– Я видел, что я был викингом, – кричал он, – меня убили в живот, и вот, теперь, конечно, проблемы с кишечником. А ты кем была?
– Никем, – поправилась, – ничего не видела.
Вышли на улицу, было еще морозней, двенадцатый час.
– Пожалуй, я не поеду. Что-то… Вспомнила, есть срочные дела. И начну рисовать, – сказала она. – Давно хотела, знаешь. Сначала – снег и ветки. И думаю, мне надо подобрать нескольких котиков. Да, думаю, нужны животные, для Москвы котики сойдут – пусть им будет тепло.
– С ума сошла. Только не тащи в дом, – как вегетарианец, он не очень любил животных, – на кого оставишь, а как же Индия?
– …может быть, удастся раздобыть ворону, хотя это сложнее, бездомная ворона… Черная, белая. Что касается людей…
– Уверена, еще четыре месяца в этом дубаке?
Как жалко, он думал, уговорил – одному все же скучновато, и ему нравились ее глаза – голубые, светлые, почти белые. Кажется. Не смог сразу проверить – она зажмурилась и принюхалась.
– Ничего, сейчас станет теплее. А там будет видно.
Пока дошли до метро – градусник и правда пополз вверх и сразу пошел снег, мягкий, белый, довольно, он подумал, даже приятный.
Татьяна Замировская Тот кто грустит на Бликер-стрит
Любовь моя, я пишу тебе из сумасшедшей старухи, в которую я пришла поработать, как в Старбакс. И там ровно такая же очередь: такая же долгая, как в Старбакс, и такая же сумасшедшая, как старуха. Она часами сидит на скамейке на Абингдон-сквер в самом маленьком парке в городе, и крошит голубей. Вокруг нее на подминающихся ножках скачет влажный хлеб, напитанный кровью и утробным воркованием. Это знание разрывает меня на липкие перья, будто я трепещущий голубь в ее пальцах, но без необязательного понимания данной пищевой инверсии или перверсии пребывание мое в старухе неполное, невозможное и ложное – лишь дрожь в правой ноге или похолодание хребта, а хребтом с моей задачей не справишься. Каждое утро я хожу в старуху, будто в писчий храм, и сегодня она у меня сделала успех, нараспев исчертив рекламную газетную рябь марокканской вязью – еще не почерк, но уже не одержимость неясностью, ненавижу быть неясностью, неясытью, ненастьем. Тут бы и остановиться: слабость, глоссолалия, аллитерация как тень иллитерации самой старухи (поверь, она сама удивлена открывшимся способностям; умение же рвать голубя на переливающиеся фрагменты сверхталантом она почему-то не считает). Но это уже которая по счету попытка. До этого я пыталась писать тебе из собаки, будто из подводной лодки, но во всякой собаке я затопленный подводник, наощупь пытающийся нацарапать успокоительное мироточение прощания, прощения, отмщения не на стене скорей, а не преграде или перегородке. Собака плохой сосуд, пишу я тебе из сумасшедшей старухи невозможностью артикуляции плавсредства, и ненавижу ее за эти лопнувшие сосуды в старческой ее голове, за эту мою таблеточную подъязыкость, безъязычие, vessel, lesser. Тут стоп.
Ненастье, случившееся со мною пару недель назад. Счастье прочь. Тут разорвано. Точность: ровно четырнадцать дней, кому я лгу своей небрежной парой, если тот день теперь как татуировка поверх всего – тринадцатое сентября, день, которого нет в календарях.
Меня ударило дверью вагона, когда я вбегала в поезд метро, разобранная на части /взвинченная/ хрупко-остроконечная, как очиненный архитекторский грифель, – точка, слом. Случилось то, что раньше снилось мне как невероятное, страшное и возможное – я поехала дальше в вагоне, а тело мое осталось лежать на платформе, ударившись о нее головой. Я успела подумать: желтые шары. Не знаю, почему я подумала про желтые шары. Да, это плохой жанр. Между собой и собой мы со мной его, этот жанр, называли «Я умер, и всем теперь стыдно про это читать». По ту сторону этого жанра, выходит, желтые шары – последнее, с чем соприкоснулась моя голова до того, как отпустить меня посещать старбакс старухи с ее голубиным крошевом. А читатель у меня только один, и стыд ему неведом.
Дальше все было как было, я ничего не пропускаю, все помню. Вышла на ближайшей станции, побежала обратно. Скорая, все как положено: айфон прикладывают к большому пальцу правой руки, и я кричу им, не надо, прошу, не надо, там ложные контакты, но кто меня услышит? Лучше бы я сгорела. Тем более, что человек как правило сгорает вместе с айфоном. Или таким, как мы со мной, некурящим параноикам, необходимо носить с собой зажигалку, чтобы на случай, когда есть свободная минута до неминуемой смерти, потратить ее всю целиком на большой палец правой руки.
Потом тоже честно все: в больнице пришла в себя, но ничего не помнит, сидит в белом, как муляж прибрежной птицы. Ест, пьет, задает вопросы. Я сижу рядом. Как в нее вернуться, не понимаю. Рассказываю схематично. Важна точность. Тут будет четко, как камни выплевывать: вот уже выросла целая горка леденцовых мшистых гладышей.
Я навещаю ее регулярно, но сил никаких нет, и как ей стать, не представляю. Манеры вроде бы те, интонации узнаю, но как туда попасть, неясно: она отдельно. Гуляю много последнее время, тренируюсь, вот стала к бабке ходить, бабка отлично получается, как видишь, покорна мне, как внутриутробный стилус, которым я себя в некоторые моменты представляю, задумываясь о том, что и кто теперь я. Опять же, дети до двух лет получаются отлично, особенно бессловесные. Болтливые билингвы обычно запертый гараж, за которым что-то надрывно пыхтит и вот-вот выломает стальную дверь, но тихие, молчаливые – это мой дом и прибежище; но какие же ватные, валкие у них лапки, эти пухлые булочные валики, липкие пышечки. Зато попадаешь туда моментально – это как учиться кататься на лонгборде. Запрыгнуть, пока он движется, и сразу же продолжить отталкиваться. Падаешь. Падаешь. Падаешь. Тридцать раз падаешь, спрыгиваешь, срыгиваешь собой в эту одуванчиковую пыль, потом едешь. С бабкой тяжелее, потому что она не движущийся, а как бы стоящий на песчаной равнине лонгборд, но все равно необходимо разбегаться, запрыгивать и толкать. И дальше тоже едет, только колес у нее как будто нет, поэтому тяжело.
Любовь моя, хочу написать тебе через бабку, чтобы ты приехал и забрал меня из больницы, я обязуюсь тебя узнать, хотя кого она может узнать, она же никого не помнит, и все время пытается позвонить тому, другому, но я будто хватаю ее за руку и этот приступ ложной памяти выпускает ее из объятий. Я не хочу, чтобы ее забирал тот, другой. Имени его я не помню, но ты вряд ли бы его забыл, ты вряд ли это забыл бы, поэтому приезжай и забирай обратно, я самый крошечный парк в этом городе, меня меньше квадратного километра пространства, и оно все твое за вычетом раскрошенных размокших голубей, которые схлынут, как коллоидный кровяной отлив, как только ты ступишь на эту священную территорию. Если ты боишься, что не отдадут, не выпишут, не поверят, уверяю тебя, все возможно – если подумать, я пишу это тебе фактически не только из бабки уже, но в некотором смысле и из главврача, и из парочки медсестер, самых немногословных. Протиснуться в кого-нибудь из них, как в заклинившую анисовой ржавью дверцу домашнего бара, на пару спасительных минут мне не составит труда, хотя более кровавого, отвратно составленного труда видеть и испытывать мне еще не доводилось. Хлеб, которому нас скоро наспех нарвут этими черными уличными руками, еще не испекли, поэтому ничего не бойся.
* * *
Ну и вот, короче, смотри. Я подхожу к этой бабке. Маленький сквер в самом начале Бликер-стрит, не знал даже, что он там есть, три дерева, вот и весь парк. Действительно, облеплена голубями, как известковая статуя. Сразу говорит: я ясновидящая, медиум, я всем такие письма рассылаю, знаешь сколько у меня таких, как вы, сотку гони. Я ей даю сотку, вдруг еще что скажет. Говорит, она в больнице сидит ждет. Адрес дает, я поехал.
Да, забрал, как-то удалось договориться, все почему-то мне поверили, но сама будто не узнала. Но пошла со мной, сразу пошла. На себя не похожа. Говорит так, как будто не до конца ожила. Все там не до конца, не знаю. Онемело все, говорит, как будто рука отнялась, только не рука, а другое. Тело чувствую, говорит, душу нет, надо помассировать, может, вернется кровь, ушла вся кровь. Плачет, пытается вспомнить, повторяет, что где-то меня видела. Спим в обнимку, но во сне не плачет, улыбается.
К бабке ходил, но она, сука, все время сотку требует. Голуби эти еще пристают, клюются, лезут на голову, свисают с шеи, как больные родственники.
Да нет, часто домой просится, плачет, пару раз с моего телефона звонила этому и говорила, что сбежала из больницы, но не понимает куда, просит приехать и забрать. Да нет, какая полиция, зачем, он, наверное, даже рад, что так вышло. Не понимаю, никогда не любила меня раньше, да и теперь не любит, я ее перед сном обнимаю, а она отталкивает и плачет. Спрашиваю, помнит ли что-нибудь, но говорит, что этого помнит, а меня нет, и от этого ей еще хуже. Ест все, что я приготовлю. Хотя я раньше никогда не готовил, но подумал, что раз она не помнит меня, то и не помнит, что я не умею готовить. Этот перезвонил потом, узнал меня, говорит: все ясно. Надо будет к нему потом за вещами заехать или бабку послать, за сотку, да.
Нет, не врет. Но так не бывает. Бабка потом еще письмо мне отдала, говорит, давай еще сотку, тут тебе записка на упаковочной бумаге из помойки шведского магазина за углом. Письмо душераздирающее, но да, это точно от нее. И тошно от нее, ну. Мучается, конечно. Мозг, пишет, бабкин, старый, никудышный, все там по накатанной, все эти колеи, борозды, повороты – тяжело внятно выражаться поэтому.
* * *
Любовь моя, спасибо тебе за все, что я до сих пор не могу ни принять, ни осознать; и снова я пишу тебе из этой бездонной, как водоворот, перенаселенной бабки. А ведь после всего, что так и не случилось здесь между нашими влажными душами, так мечталось написать резвое и скачущее по гулким чугунным улицам, как мяч, из собаки, из ручья, из воробья, ведь воробей здесь иной как категория, как пятеро, семеро воробьев, вся микропопуляция воробьев самого крошечного парка в городе. Воробья не нарвать, не накрошить, как ни пытайся, он ведь сам как кровь течет сквозь пальцы. Этими пальцами и пишу тебе внеочередное, и прости, что такое разорительное, мой старбакс преступен и отвратителен, и было бы проще написать тебе из пистолета, но слухи о вседоступности спонтанных пулевых ранений здесь сильно преувеличены. Я мечтала написать из напуганных иностранных студенток Новой Школы, испытывающих что-то вроде лингвистического шока, языкового заикания, вирусного грассирования – но дальше пары строк дело не дошло. Студентка моя безмозгла, как весло, которым хочется огреть ее по бархатному загривку, кормовой голубь мой безрук и пуглив, а податливая подлодка веселой белой собаки ловка лишь в поимке чугунного мяча из давно забытого мной зачина этого письма; крыса моя на удивление удачно оснащена ловкими, будто сувенирными пергаментными ладошками, но вложить в них резвое лезвие грифеля мне все же не под силу. Что до енота моего, то енот нынешних широт не мой: разумом он нынче значительно превосходит пороговое двухлетнее дитя, а внутренний тезаурус его так шокирующе развит, что проникновение в енота невозможно, как в большинство иных невидимых городских школьников. Как жаль, что мы с тобой, любовь моя, наконец-то встретились навсегда именно там, где меня во мне почти не осталось, но лишь выжатая, выкорчеванная из собственного сознания, я осознаю, насколько счастлива быть здесь с тобой, пусть и не здесь, пусть и не быть. Печально, но совсем не страшно. Вчера ночью, чтобы сэкономить тебе сотню, я пыталась написать тебе из тебя, но ты – как всегда! – тут же нежно выдавил меня из себя, как капсулу. Твое упрямство меня восхищает, пускай я вижу это лишь из собаки, из крысы, из дерева, из кричащего страшным воем китайского младенца. Ты так и будешь выдавливать меня из себя по капсуле, как отвагу, как осторожность, и мне в тебя не войти, но вдруг когда-нибудь выйдет наоборот, и я буду сидеть рядом? К тому другому, имени чьего я не помню – видимо, оно не передается с фатальным ударом двери и чугуна по голове – прошу, не отпускай ее – будет биться, но ты держи, ведь я всей своей широковокзальной, многонациональной бабкой люблю тебя, всем голубем, всей собакой, и даже та коричневая крыса, что шла к тебе вчера по проводам, искрясь в электрических переливах закатного света, тоже была я. Оставайся, мы будем любить тебя всем городом, все равно у меня пока что больше не получается никуда проникнуть. Хотя все это временно, поверь – и ее, наш беспамятный полупрозрачный пакетик, мы непременно вскроем, как квартиру, вскроем и обчистим. Она будет наша, мы ее завоюем в конце концов – как ты мне сам однажды сказал, это всего лишь туловище. Мы с тобой ключ, и мы же оковы. Не давай больше денег этой старухе, я хочу перейти на парки побольше, этот треугольник из куста и чугуна мне жмет, и я уже подыскала себе неплохого голубиного деда, похожего на благополучно состарившегося, не умершего Фрэнка Заппу. Он сидит на Вашингтон-сквер и его легко узнать по резкому отсутствию толпы вокруг. Помни, ты здесь не для того, чтобы меня спасти, меня все равно не спасти. Считай, что мы с тобой проводим мысленный эксперимент, но формулировать его мне нечем.
* * *
Ну что, снял пока квартиру, вывожу ее в парки гулять. Улыбается, крошит булку. К ней, знаешь, белочки всякие сползаются, собаки подходят, птицы слетаются всякие. Как Белоснежка, блять. Я тому другому позвонил потом сам, но он говорит, что не нужно, не хочет видеть, но может подвезти документы, потому что страховку можно получить или что-то такое, в суд подать, это важно, говорит, огромные деньги в перспективе, ну или он даже сам подаст, так удобнее. Иногда что-то вспоминает, да, но нечасто. Однажды сказала: шолтые шары, шол-ты-е, и я вспомнил, что это из письма, поцеловал ее, но она сразу строго так: кто ты? – забыла сразу. Когда вспоминает, лучше не прикасаться. Еще как-то стащила у меня зажигалку и подпалила себе подушечки пальцев, до пузырей, а я не успел переписать контакты с ее телефона, теперь все. Код не помнит, конечно, ты что. Да, получше. Говорит, пусто внутри, но хорошо, что я рядом. Если назовешь свое имя, назовет тебя по имени. Я хочу собаку купить или что-нибудь такое вроде собаки, пусть у нее будет, она к животным тянется и они к ней идут отовсюду, как на почту, в очередь становятся и ждут. Иногда у меня в голове что-то щелкает, и тогда она тянется ко мне, будто я сам животное на бесконечном поводке – но это на секунд десять, не больше. На Абингдон-сквер я больше не ходил, я так понял, что не нужно. Письма я выброшу в реку, когда буду уезжать из этого города, но пока что у меня хватает денег и я немного здесь поживу, пока она не наладится, не раскроется, пока не сработает этот засов; я всегда мечтал уехать хотя бы временно, просто сбежать куда-нибудь и потратить там все свои сбережения, чтобы не искушаться, не задумываться, не жить ожиданием жизни, от успешного стартапа с инвесторами господь сбереги, от бизнес-плана сбереги, от креативной индустрии подальше к пропасти безвластия над собой отведи. К бабке не ходи, к бабке не ходи, к бабке не ходи.
Анна Лихтикман Медленно-медленно
Бывает, что кто-нибудь из них никак не хочет уходить и требует, чтобы позвали Симу. И тогда к нему подходит Роман и объясняет, что представление окончено, Сима уехала домой, а он может прийти завтра, если захочет. Сима никуда не уехала, разумеется, а сидит у себя, и выследить ее проще простого. Но такие парни, к счастью, редко догадываются пройти несколько метров по пляжу, туда, где стоят наши вагончики. Иногда мне их жалко, этих парней. Сидел человек – никого не трогал, но Сима решила, что он будет с ней танцевать, и вот он уже идет за ней, как загипнотизированный. Нет здесь, конечно, никакого гипноза. Она просто спрыгивает со сцены и подходит к кому-нибудь из таких. Парень, один из тех, кого мне обычно жалко, не вполне понимает, что происходит, но встает как миленький. Сима тем временем отступает, протянув к нему руки и словно растирая в щепотях корм, который сыпется на песок. И вот уже этот чудак, похожий на изумленного голубя, идет по дорожке из невидимых хлебных крошек.
Если я сижу в этот момент рядом с Хаимом, то он обязательно говорит: «На коду пошло». Хаим – единственный среди наших, кто работал в настоящем театре. «На коду пошло» – это оттуда, это означает, что приближается конец. Забавно все-таки звучит, словно не о представлении речь, а о погоде. Так говорят: «Похолодало» или «Штормит». Словно не от нас зависит, что там происходит, на сцене. Я сказала «на сцене», но это не совсем сцена, лучше уж я сразу предупрежу, чтобы вы не навоображали всякого. Да и театр наш – не похож на настоящий театр. Это квадратный участок пляжа, огороженный фанерными щитами. По периметру тянется балкон, который поддерживают деревянные стропила. Там установлены усилители и прожектора и там же сидят музыканты. В середине огороженного квадрата установлен дощатый помост, на котором выступают артисты, а вокруг – стулья в три ряда – это наш зрительный зал. Поскольку настоящей сцены у нас нет, то того, что называют «за кулисами», у нас тоже нет. Закончив выступление, актеры попросту убегают за фанерные щиты, в темноту.
В середине представления Хаим обходит зрителей со шляпой, но стоит ему закончить, как заходят новые люди. «Как назло! – говорит Хаим. – Только пустил шляпу, и – волна». Опять словно о погоде. Среди новой волны находятся все-таки люди с принципами, которые во что бы то ни стало хотят заплатить, и тогда кто-нибудь из наших предлагает им купить диски с песнями.
Когда меня спрашивают, где работает моя мама, я говорю: «На Кошачьем Пляже». Пусть думают, что она официантка в кафе или продавщица там, на ярмарке. Про театр я молчу. Раньше говорила, как есть, но потом надоело. Вначале человек охает да ахает, как, мол, удивительно: мама в театре работает, а потом выспрашивает и обязательно начинает мне объяснять, что наш театр – не театр, актеры – не актеры, а сцена – не сцена. Как будто я ему врала, что у нас здесь Гранд Опера. Разумеется, все наши, кроме Хаима, пришли бог весть откуда. Вот хотя бы Роман. Он неплохо жонглирует, но больше все-таки чинит и строит, если нужно. И выпроваживает Симиных голубей, когда они слишком назойливы. И тащит, что потяжелее: декорации, прожектора. Раньше у него была другая профессия, но он ушел к нам. Я рассказала про это нашей новой классной и напугала ее тогда до полусмерти. Я сказала, что дядя Роман бросил свое прежнее ремесло, потому что ему надоело выжигать глаза. Училка эта новая аж затряслась: «Выжигать глаза? Господи, девочка, что ты говоришь такое?!» Мне, конечно, понравилось, что я ее так впечатлила, – люблю, когда само собой получается; но я представила, что это может плохо закончиться, и объяснила. Роман работал когда-то программистом, и ему надоело выжигать себе глаза кодом. Это он так говорит, когда его спрашивают, как ему живется. «Паршиво, конечно, живу, но поверь, это лучше, чем выжигать глаза кодом». Так что тогда, с новой классной, обошлось – она успокоилась.
Надо, конечно, думать, что говоришь, потому что Кошачий Пляж – то еще место, и совсем не для детей, если честно. Так что не удивительно, что время от времени сюда приползают социальные работники. Одно хорошо: теток этих за версту видно, и когда такая подходит к вагончику, то к ней выходит моя мама. Мама знает, как с ними говорить, она в юности тоже на что-то психологическое училась. А вот музыке мама не училась никогда, получается – она не настоящая певица. Зато она ведет весь вечер. Она сидит на балконе, рядом со скрипачом, аккордеонистом и барабанщиком. Да, у нас весь вечер живая музыка. И живые танцы. Сима, конечно, лучше всех. Иногда я ее за это ненавижу. В начале сезона они с мамой разучили «Босую» – вот тогда-то я ее и возненавидела. Стоило маме затянуть «Выходит босая» – как Сима запрыгивала на помост, на нашу сцену, которая не сцена, и начинала танцевать. И что-то в этом такое было, из-за того, что она как в песне, прямо вот так и выходила – босая. Мне в этот момент казалось, что я опускаюсь в горячую ванну. Не знаю, как объяснить… По-моему, так нельзя. Мы когда-то подобрали здесь, на пляже, котенка-подростка. Взяли его, чтобы подкормить, пока не наберется сил, очень уж тощим был. Так вот, котенок этот был жуть какой блохастый. Я набрала в тазик воды, развела там шампунь и окунула его в пену. Он вначале дико испугался и стал вырываться, но я придерживала его, так что только башка была снаружи, и постепенно почувствовала, что он обмяк: ему понравилась горячая вода, и он больше не царапался. Он вообще, кажется, балдел – так ему было хорошо. Блохи, кстати, начали спасаться и вылезли ему на голову, где было сухо, а я их ловила – получалось, что кот еще получал и массаж головы: двойной кайф. И тут я увидела его взгляд. Понимаю, что смешно звучит, но это был настоящий взгляд, и в нем было счастье и стыд. Тогда-то мне и показалось, что так нельзя. Человек, ну или там кот, сам должен добывать себе удовольствия. Нельзя никого силком окунать в горячую ванну, да еще и придерживать. Ну это я фигурально, конечно, – того кота надо было отмыть, ничего не поделаешь.
Так вот, я о Симе. Как-то раз, когда она закончила танец и спрыгнула вниз, на песок, то натолкнулась на меня. Обычно, когда Сима заканчивает выступать, и убегает за фанерные щиты, лицо у нее, как у тех деревянных скульптур, которые когда-то устанавливали на кораблях: улыбается, смотрит куда-то вперед, а не видит ничего. Потом уже, когда пробежит по песку несколько шагов, – начинает видеть. Так вот, Сима спрыгнула с помоста, но на этот раз почему-то меня сразу заметила. Говорит: «Ты что, Мышка, что случилось, ты почему так смотришь?» Ну и как я ей объясню про горячую ванну, котенка и все такое? Но вот что удивительно: Сима сама додумалась. Поняла, что это все слишком, и под «выходит босая» начала выходить в мягких черных туфлях, расшитых бисером, а дальше – все как и раньше: куча браслетов на ногах и руках, бусы с колокольчиками. И вот тогда все сразу стало как надо – идеально. Мама сердится, когда я говорю «идеально». Ну ладно, пусть будет «прекрасно».
Мама еще злится, когда я рассказываю чужим про наших. Я ведь могу увлечься и приврать для красоты, а ей потом приходится отбиваться от соцработников. Но про Симу я ни слова сейчас не придумываю, так вот: она много лет была замужем за змееловом. Никакой особой экзотики, кстати, не было в их жизни. Сима говорила, что там, где они тогда жили, змеелов – это что-то вроде сантехника. Заползла в дом змея – вызывают его, он приезжает. Мне все кажется, что Сима оправдывается, когда так об этом говорит. Словно разговаривает не с нами, а с родственниками мужа, которые до сих пор ее обвиняют. Они считают, что это из-за нее он погиб. Он ведь, как и Роман, когда-то работал в офисе, а потом, наверное, ему тоже расхотелось выжигать себе глаза кодом. При чем здесь Сима, чем она виновата – не понимаю.
Муж Симы любил пустыню. Он часто сажал в машину собаку и уезжал туда, побродить. Там он и встретил свою змею. Видимо, он пытался ее поймать, не наступил же он на нее, в самом деле? Теперь уже не узнать, а Бялка не расскажет. (Это собаку так звать: Бялка – она теперь живет здесь.) В общем, та змея его укусила. Ну укусила и укусила, казалось бы. Змеелова среди ночи разбуди – он без запинки перечислит, какая из змей как выглядит. Это очень важно: знать, какая именно тебя укусила, чтобы в больнице подобрали правильную сыворотку. Так вот, в том-то и дело, что Симин муж прекрасно разглядел ту змею. Это была какая-то супер ядовитая гадюка, самая опасная из всех. На самом деле она не ядовитей других. Тут дело вот в чем: она – очень редкая. Настолько редкая, что в больницах не хранят сыворотку от ее яда. Такой вот замкнутый круг. Так что даже если успеешь добраться до больницы, нет в этом уже никакого смысла. Сима говорила, что у ее мужа была очень хорошая голова. Это в смысле, что соображал он быстро и четко, не зря же работал когда-то программистом. В общем, когда змея его укусила, он достал телефон, позвонил спасателям и подробно объяснил, где его найти. Спасатели ему говорят: «Мы выезжаем, объясните подробнее потом, когда мы будем в дороге». А он им: «Нет уж, ребята, сосредоточьтесь как следует и слушайте сейчас. Не будет потом никакого «потом». Я объясняю вам, откуда забрать мое тело». И когда они приехали, то так все и было, как он сказал. Забрали тело и Бялку, которая сидела рядом. Вот такие дела с этими змеями.
Иногда на Симу «находит». Ей кажется, что где-то на задней скамье сидит мать ее мужа или кто-то из его родственников. Мы об этом довольно быстро догадываемся: она то и дело опасливо посматривает в дальний угол, и не спрыгивает на песок прикармливать своих голубей, а танцует, не сходя с помоста. И тогда кто-нибудь из наших пробирается на балкон, в том месте, где он нависает над «родственником», и начинает топтаться там, чтобы доски скрипели, а вниз сыпались опилки. Наш балкончик с виду довольно хлипкий, стропила начинают раскачиваться, так что «родственник» довольно быстро уходит, ворча что-то про дешевый балаган и технику безопасности. Но иногда Сима после этого все равно до конца вечера танцует плохо. Она становится жесткой, как доска. Сразу видно, что у нее широкие плечи и она совсем не красавица, и лицо у нее длинное, и глаза маленькие.
У меня есть подружка, Сиван. Она старше меня на целых два года. Так вот, она говорит, что я совсем ребенок и во многое не врубаюсь. Ну и во что это я не врубаюсь, интересно? Чего не вижу? Что Роман колется? Что гимнасты приторговывают дурью? Знаю об этом, конечно. Знаю и о том, что иногда кто-нибудь из Симиных зачарованных голубей выходит-таки наутро из ее вагончика и бредет по пляжу, стараясь не набрать песка в туфли. Ну и что? Тоже мне, новость.
Но, по правде говоря, я, конечно, сомневаюсь, так ли уж я разбираюсь во всем, как мне хотелось бы. И я имею в виду не какие-нибудь там леденящие душу тайны, а простые вещи. Вот, например, взгляды, которыми наши обмениваются во время выступления. Хаим иногда переглядывается с мамой, сидящей на балконе, и я понимаю, что это значит: «Внимание! Стараемся, друзья, среди публики большая шишка». А бывает наоборот: «Провернем по-быстрому, надоело все до чертиков». Или, бывает, мама переглядывается с Симой, когда та танцует с кем-нибудь: «С этим осторожней, не заводи его, он псих». Все эти их штуки я знаю, как змеелов – своих змей, но есть одна, которую никак не пойму.
Не могу точно сказать, когда это случается. Иногда даже, как ни странно, после команды «провернем по– быстрому». Вроде уже и вступление урезали, и Роман мотает головой, мол, сегодня жонглировать не буду, давайте уже на коду. И в мамином голосе, когда она запевает «Босую», слышится скука, и Сима вспрыгивает на помост, тяжелая и кургузая, как черная куропатка. Вроде всем ясно – не самый удачный вечер. Но потом что-то происходит. И вот мне интересно, как и когда они все договариваются, даже не переглядываясь? Как получается, что с этой минуты вдруг никакого «провернем по-быстрому», а наоборот, что-то замедляется, и, кажется, от движений Симы все вокруг сгущается, как заварка вокруг чайного пакетика. И медленно-медленно вся ночь заваривается – оранжевая, коричневая. И самое удивительное, что в голове у меня в такие моменты все очень четко и ясно, как у программиста, но как мне при этом удается пропустить момент, когда Сима скидывает туфли и оказывается босая? Она идет по песку, проходя между стульями, и сразу несколько зрителей – мужчины, женщины – встают со своих мест и начинают танцевать. И никого из них не жалко.
И еще одна странность вот в чем, и она происходит днем, когда наш театр был бы закрыт, если бы был театром, а не просто кусочком пляжа, огороженным фанерными щитами. Любой может зайти к нам, только смотреть здесь днем не на что: сцена пуста, стулья свалены в кучу. В общем, когда до вечернего выступления еще прорва времени, и все заняты своими делами, или сидят по вагончикам, тогда, случается, под нашим тентом появляется человек. Человек спрашивает, куда делись те певица и танцовщица, которые здесь выступали неделю назад. Чудесные исполнительницы старой песни, где они? – он хочет их видеть. И тогда к нему выходит Хаим и объясняет, что состав труппы в этом сезоне не менялся, все кто был, те и остались, и пусть приходит на выступление сегодня же вечером.
«Нет, – говорит человек, – я уже неделю сюда хожу: те артистки, которых я запомнил, – с тех пор их здесь не было».
И тогда к нему выходят мама или Сима и предлагают купить диск – на нем все наши песни записаны в настоящей студии, все в лучшем виде.
«Нет, – говорит человек, – я купил ваш диск и внимательно все прослушал – но там нет песни, которую у вас в тот раз пели».
И тогда к нему выходит кто-нибудь из гимнастов или клоунов – поболтать, покурить – и человек все твердит про песню, которой нет на диске, и никто с ним не спорит. А потом все пожимают плечами и расходятся. А он остается, Роман его не выгоняет. Жалко, что ли, пусть торчит здесь, сколько душе угодно, если ему делать нечего – кому он мешает? И человек этот сидит в тени стульев, собранных в кучу. Сидит себе и сидит, и тогда к нему выходит Бялка и кладет голову ему на колени.
Екатерина Перченкова Дом куплю, в котором страшно
Отпуск, вот он, родной.
Отпускает сразу, как только прощальный хвост электрички исчезает за солнечным сосновым поворотом. Дальше я пойду пешком. Через кусочек леса вдоль станции, потом через поле, большое-пребольшое, сначала по грунтовке, а после по тропинке; потом по краю деревни Анциферово мимо старого памятника с жестяной звездой наверху, мимо заросшего темного пруда, а потом еще по одной тропинке – и будет дом. Мой.
По правде – он чужой пока, но в будущую пятницу станет мой. Там уже живет мой чайник. И моя теплая кофта. И Янка моя, золото, тоже там живет уже с четверга.
Счастье мне будет сегодня, счастье нечеловеческое – открыть медленную калитку, снять рюкзак, бросить поверх рюкзака джинсы и пропылившуюся футболку – а во дворе жестяная бочка с дождевой водой, живой водой, мягкой, плывучей: окунусь в нее – и стану легкой, стану местной, переоденусь в бежевый мягкий сарафан, в дом войду босая по теплым ступеням в облупившейся зеленой краске, а дома Янка, и ужин, и вино молодое – кислятина, но забавная, к тому же можно водой разбавить; вот, везу две бутылки.
Господи, как я люблю, когда все получается согласно задуманному… Вот она, калитка. Вот подается упрямая пружина, и дверь открывается – медленно и тяжело. Вот бочка, и вода в ней как задумано – теплая, этой самой бочкой пахнет, и деревней, и летом. Я сажусь на корточки, чтобы погрузиться в воду с головой, голову там, в жестяной глубине, поднимаю, открываю глаза – и сквозь прозрачное вещество воды вижу круглые зеленые яблоки наверху. Такие яблоки, прямо как звезды со дна колодца.
Переодеваюсь во дворе, сарафан из рюкзака мятый – и бог с ним, что мятый, зато мягкий, зато ноги босые, и вода с волос течет между лопаток, и лето, лето мое драгоценное, и дом, и отпуск.
Ужином в доме не пахнет: Янка, понятное дело, привезла с собой немножко интернета и сидела всю ночь, а теперь дрыхнет до вечера. Я затаскиваю на веранду рюкзак и шмотки, оглядываюсь, и все мне нравится, и все здесь мое родное. И тканый серо-розовый половик, и два громоздких кресла, и старинный советский буфет, в котором за стеклом вместо посуды рядами стоят журналы – «Наука и жизнь», «Новый мир», еще один с черным корешком, не пойму какой. Не станет же хозяйка увозить их, когда продаст мне дом?
А на подоконнике живет бронзовый зеленый Пушкин. Не весь, а только бюст на подставке. Если хозяйка и его оставит – переселю в дом, на каминную полку. А сосед у Пушкина из породы суккулентов, в громадном керамическом горшке, заслуженный такой: уже одеревенел – или окаменел даже – по стволу и роняет в горшок темные круглые листья.
Я открываю дверь в комнату и вижу Янку.
То есть я вижу стол, на котором сидит Янка. У нее на голове белая косынка, а в комнате темновато – вот белая скатерть, вот косынка, а она между ними, сидит и не говорит ничего, только открывает рот, увидев меня – то ли для вдоха, то ли для всхлипа.
– Что? – спрашиваю я и сразу вижу пол.
На полу крохотные трехпалые следы – птичьи или вообще не знаю чьи, как будто через комнату вершился великий воробьиный поход. Прямо у моих ног валяется скалка, пол рядом с ней в мелких темных брызгах.
– Я как Мартин Лютер, – говорит Янка, и губы у нее дрожат, и подбородок, и секундой спустя я уже стою у стола и обнимаю ее, а она ревет и ревет и никак не может прекратить, и я снимаю с нее косынку и глажу по голове так старательно, будто хочу выпрямить густые ее черные кудри, и думаю про себя: я не могу, не могу, не могу больше, а сейчас надо будет собирать вещи, и кофту мою в рюкзак, и чайник в пакет, и Янкин ноутбук забирать, и на станцию, а я не хочу, совсем не хочу, мне не надо в город, мне не страшно, у меня немножко есть деньги, я вызову ей такси, а сама не могу, не хочу, не…
С ума я сошла, что ли.
Но Янка говорит: все – и выскальзывает из рук у меня, и слезает со стола. И говорит: я пирог хотела сделать. Картофельный. И говорит: я не знаю, кто это были. И говорит: давай пирог все-таки, а то есть хочется. А пока бутерброды можно.
Золотая, я сказала? Нет. Янка у меня, похоже, железная.
Мы ведем себя так, как будто ничего не случилось.
Это все город. Нам с Янкой пока что нечем особенно бояться: город нас выжал до капли, высосал и оставил две полупрозрачных оболочки, которые в ближайшие три недели только должны были наполниться заново – солнцем, лесом, полем, речным песком, стрижами, черникой, первыми грибами – колосовиками с бледными шляпками, первыми зелеными яблоками, красными закатами, дымной ночной росой, ложащейся на травы.
Или нет, это все дом. Теперь-то должно быть нормально, я же приехала. Янка здесь чужая, а я почти своя, потому что почти купила дом. Они же – кто бы ни были – не дураки своих трогать.
И даже спать мы разошлись по разным комнатам.
А ночью Янка наверху вскочила и куда-то побежала, хлопнула дверью, пронеслась по лестнице, вернулась и хлопнула дверью снова. Потом был такой звук, как будто на втором этаже открывают окно, а потом как будто что-то тяжелое рухнуло на пол. Потом такой, как будто что-то – тоже тяжелое – со всей дури впечатали в дверцу шкафа. И я схватила топор и побежала к Янке…
…а она спала. И ничего не слышала. И окно у нее было закрыто. И шкаф на месте.
И я не стала ее будить.
За ночь кто-то разрезал остаток картофельного пирога на четыре куска и разложил их по углам стола. А посередине стола вывалил банку аджики прямо на скатерть, а саму банку разбил у двери.
– Это точно не домовой, – уверенно сказала Янка, – было бы слишком глупо.
Я согласилась.
Мы навели порядок и пошли за черникой. Черный кот, неспешно перешедший нам дорогу сразу за калиткой, вызвал у Янки приступ истерического хохота. Потом она обнаружила, что забыла переобуться в сапоги – а мы собирались лазить через канаву, – и ей пришлось вернуться.
– Я в зеркало посмотрелась, – сказала она, догнав меня в поле, – и еще на ступеньки соли насыпала. Не знаю зачем. Просто подумала, что так надо. Понимаешь?
Я понимала еще как. Я сама утром наплескала колодезной водой в окна – сначала снаружи, потом внутри дома, потому что так было надо. Просто мы там были не одни. И надо было как-то учиться жить вместе.
Черники было мало, зато я нашла два здоровых и совсем не червивых колосовика, а Янка семейку маслят, на двоих с картошкой – самое что надо. На канаве мы нарвали зверобоя и иван-чая, а по пути обратно сделали крюк, зашли в магазин в Анциферово и купили торт «Чародейка».
А дома оказалось, что моя прекрасная дождевая бочка лежит на боку, и вся вода из нее утекла под крыльцо. И это было уже серьезно. Правда, серьезно: воды в нее помещалось – на две ванны хватило бы. И сила, чтобы повалить ее, нужна была нечеловеческая.
– Это ничего, – легкомысленно сказала Янка, – привыкнем.
Мы пообедали, убрали чернику в холодильник, замочили грибы в ведре и пошли в сад.
Янкино легкомыслие было всего лишь частным проявлением особой разновидности героизма: надо полагать, это она так – прямо на моих глазах – бросилась в омут с головой, думая, что как-нибудь само уладится и обвыкнется. Она всегда так делала. Например, имея тридцать лет от роду и восемь лет проработав в хорошей конторе, бросила все и решила стать художником. И стала, что удивительно. То есть научилась зарабатывать этим, хотя пахать ей пришлось чуть ли не вдвое больше, чем мне в офисе.
По этой самой причине весь остаток светлого дня мы совмещали приятное с необходимым: я приобретала красивый летний загар, а Янка сидела в яблоневой тени с планшетом, карандашом и горой бумаги, диктуя мне, в какую сторону повернуться, куда отвести руку и на сколько градусов приподнять подбородок.
Жизнь налаживается, – думали мы.
Янкин ноутбук лежал разбитый посреди веранды, а с кухни пропали все стаканы и чашки, мы пили вино из горла и думали: жизнь налаживается.
Подумаешь, чашки.
Подумаешь, ноутбук.
– А завтра, – сказала Янка особенным вкрадчивым голосом, – можно спать до двенадцати.
– Ага, – сказала я.
Но до двенадцати не удалось, я не знаю, сколько времени было – уже не темно, синева в окнах, – когда Янка почему-то оказалась в моей комнате внизу и трясла меня за плечи, и лицо у нее было белое и страшное; из всех ее слов я расслышала только «бежать!» – и потащила было ее за руку к двери, но Янка изо всех сил волокла меня наоборот, захлебываясь рыданиями и повторяя: нельзя, нельзя, туда нельзя! – и мы оказались на кухне, и Янка сказала: в подвал! – и я объясняла ей, что нет никакого подвала, есть крошечный погреб, а все остальное пустой фундамент, и вот мы уже спускались по лестнице в погреб, и вот оказались в подвале, которого вроде бы не было, и вот перед нами была деревянная дверь в стене, и я дернула ее на себя изо всех сил, потому что надо было бежать, – и тут в дверь впечаталась Янкина растопыренная ладонь.
– Бочку, – сказала она, – я гвоздем пробила. Когда переобуваться ходила. А потом вошла первой и просто набок ее положила, пустую. А остальное еще проще.
– У тебя получилось, – сказала она, – ты прости, пожалуйста, но мне очень надо было, чтобы у тебя получилось.
И отстранила меня от двери. И открыла ее. И захлопнула за собой.
Была половина шестого, за соседскими огородами чернел лес, трава у крыльца была мокрая, и крыльцо мокрое, но я все равно сидела на крыльце и мерзла, потому что потом можно было вернуться в дом и согреться, и надо было обязательно пойти и проверить, есть ли подвал; его, разумеется, нет, но проверить все равно надо еще раз, я проверяла четыре раза, это мало, он ведь у меня получился, и в пятницу я куплю дом, это будет мой дом, обязательно.
Потому что однажды Янка, может быть, вернется.
Екатерина Перченкова Знает птичка божия
Мы завели Эмиля, наверное, для красоты. Так люди заводят амадинов и орхидеи, когда у них достаточно места и нет сквозняков.
Был конец декабря. Я пошел греть машину, спустился на два лестничных пролета и увидел, как снизу прямо на меня, вздрагивая и покачиваясь, плывет большой салатовый комод.
Комод плыл. Под ним торчали две мужские, кажется, ноги, обтянутые узкими джинсами. По бокам его с мучительным усилием охватывали две мужские, кажется, руки. Почти достигнув лестничной клетки, он качнулся слишком сильно и начал медленно заваливаться назад. Но у меня хорошая реакция.
Дальше я волок комод на наш третий этаж, а Эмиль плелся за мной, растирая пальцы и рассыпаясь в благодарностях. Привлеченные шумом, Галка с Алисой открыли дверь. Я поставил комод на пол, а Эмиль высунулся из-за моей спины и нелепо сказал: «Познакомьтесь, я ваш новый сосед слева. Я не буду стучать и сверлить. Я вообще не умею делать ремонт, если честно».
Мы пожелали ему счастливого новоселья и поехали в Ашан.
Там Алиска – она влюбилась с первого взгляда – купила ему стеклянный подсвечник и пакет цветных леденцов, как я ни убеждал, что лучший подарок новоселу – пачка чая и батон колбасы.
Не знаю, досталась ли соседская квартира Эмилю в наследство (мы не водили знакомства с прежними жильцами) или была обретена путем сложных разменов и доплат. Одно ясно: раньше в этой квартире жила бабушка. Такая обыкновенная, невзрачная бабушка: сушила белье на балконе до морозного хруста, варила щи, раз в три года просила алкоголика Колю с четвертого этажа подновить лак на паркетном полу. Давно не переклеивала обои – было, наверное, уже не под силу, – только пришпиливала булавками к стенам фотографии, газетные вырезки, открытки и цветные картинки из календарей. И весь этот жалостливый эрмитаж кто-то однажды снес на помойку, чтобы новому жильцу остались пустые голубовато-зеленые прямоугольники на выцветших обоях.
Я помог ему поменять кран в кухне и наладил подтекающий бачок. Окна на зиму он заклеил сам. Но все равно остался холодноватый бабушкин неуют, вечный сквозняк угловой квартиры; и Новый год Эмиль, конечно, встретил у нас: было бы бессовестно бросить его в одиночестве.
Странный оказался человек. Хотя вернее было бы сказать, странное создание. Бестолковое, декоративное, существующее непонятно для чего. Из отборной породы неудачников: он не окончил института, перебивался случайными заработками, не встречался ни с кем, хотя явно должен был нравиться женщинам. Прописался на нашей кухне, не вызвав у меня ни малейшей тревоги, точно принадлежал к иному биологическому виду. Я оставлял жену и дочь с ним так же легко, как оставил бы со щенком или попугаем.
Небольшой толк с Эмиля, впрочем, вышел. На зимних каникулах дом наш наполнился душераздирающими завываниями: Алиска репетировала роль Офелии. Ее англичанка затеяла ставить отрывки из «Гамлета» на языке оригинала, и теперь дочь бродила по квартире, заламывая руки и напихав в распущенные волосы капроновых цветов. И некому было прочесть ей в ответ за Гамлета или Лаэрта; я пробовал, но мое произношение вызвало у ребенка вполне себе безумный хохот.
За этот хохот Эмиль и уцепился. Они всерьез репетировали три вечера подряд – и завывания сменились вдруг птичьим щебетом и диковатым хихиканьем. Офелия передвигалась мелкими кривыми шажками, обирая с себя невидимый мусор. Она запускала в роскошные свои волосы длинные сумасшедшие пальцы – и судорожно сжимала кулаки. И усмехалась половиной лица, оставляя другую без движения; и внезапно переходила на ультразвук. Галя даже обеспокоилась: очень уж естественно это все у Алиски выходило, а не надо вытаскивать такие вещи из человека, вдруг обнаружится склонность…
Но кончилось все хорошо: после выступления дитя наше приволокло домой золоченый диплом за актерское мастерство, подмороженную розу и приглашение участвовать в областном конкурсе чтецов.
Для конкурса выбрали неизбежного и беспроигрышного Пушкина. Ребенок вновь пытался многозначительно подвывать, но Эмиль вмешался и теперь. «Пора, мой друг, пора!» – произносила наученная Алиса легко и почти беспечно, но с какой-то невероятной печальной силой. Сила эта происходила от попытки не засмеяться: Эмиль сказал ей, что слово «глядь» Пушкин использовал как эвфемизм. «…А мы с тобой вдвоем предполагаем жить… И, *глядь* – как раз – умрем».
Это было похоже на правду. Он, сукин сын, мог.
Я смотрел на них, репетирующих, и думал, что веселая эта тоска – сердцевина и основа не только для нашего соседа слева, но и вообще для любого живого человека. Умрем же, блядь.
С Эмилем было легко и – несмотря на всю его несуразность – спокойно. Насыпать проса в кормушку, долить воды в поилку – и живи себе, птичка. Ложись спать под утро, просыпайся когда вздумается, приходи к соседям ужинать, обитай у них в кресле под торшером – вот, кажется, и рай.
То ли дело мы: с Алиской, с дедом в Кузьминках, который ни нас, ни внучку давно не узнавал; с Галкиными почками и двумя кредитами. Но Галка цвела, и Алиса пересказывала школьные хохмы, и дед иногда принимал меня за родного сына, умершего в младенчестве, и я брал работу на дом, чтобы расплатиться скорей, и мы были счастливы, а Эмиль – вряд ли, хотя со стороны могло показаться как раз наоборот.
Но и ему наконец выпала удача: пришли почтой какие-то материнские документы, а следом письмо из консульства. Минул год нашего соседства, пора и честь знать. Алиска вышивала ему напоследок ласточку, птицу о двух родинах, охранительницу эмигрантов, а мы тревожно ожидали новых соседей. Которые не будут отмечать с нами Новый год, но непременно станут стучать и сверлить.
Это был бы хороший конец. Все спокойные истории имеют свойство заканчиваться какой-нибудь стыдной нелепостью, а нам вот повезло…
Но здесь я поторопился. Уже собрав вещи, уже познакомившись с будущими хозяевами квартиры, Эмиль встретил меня по пути с работы и сказал, что у него очень неудобная просьба. Мы поднялись к нему поговорить.
Просьба оказалась не то что неудобной – безумной. Я должен был пойти вместо него на свидание. Потому что – так получилось – весной он отправил девушке, с которой переписывался, мою фотографию.
Чтобы осознать весь абсурд ситуации, надо видеть меня. И видеть Эмиля. Я человек, скажем так, не очень фотогеничный. И если судить по внешности (он горячо сказал: Таня никогда не судит по внешности!), то задавить могу скорее массой, чем интеллектом. И еще наша наследственная лысина…
Эмиль же на вид был чистый байронический герой (которого, впрочем, давно не кормили). Или латиноамериканский революционер (которого пару лет продержали в плену). В общем, мечта поэтической девы.
Короче, я ничего не понял.
И тогда он объяснил.
Девушке Тане Журавлевой было девятнадцать лет, и она нарочно приехала в Москву, чтобы увидеть его – после целого года сложного эпистолярного романа. Девушке Тане Журавлевой не был нужен стареющий мальчик Эмиль, хороший поэт («я не говорил? три книги…») и плохой человек, у которого таких тань может быть тысяча и одна штука. Можно было бы встретиться с ней. Можно было бы попытаться увезти ее с собой – но Эмиль жил такой жизнью, в которой перегоревшая проводка, больной зуб или копеечный долг выбивают из колеи на долгие месяцы вперед. И никто не обещал, что на новом месте будет легче.
Тане Журавлевой нужен был кто-то, выглядевший как я. Большой и неромантичный. Совершенно не поэтический. Человек, в чьей жизни она будет не неловкой девочкой, а снизошедшим совершенным ангелом. Единственной в целом свете. Единственным светом на всю жизнь. Не для любви, не для семьи, не для быта – а просто так: чтобы потом вспоминать, не мучая себя.
Мы немного перебрали в тот вечер, и я согласился.
Они условились встретиться в книжном магазине в Малом Гнездниковском переулке. Я нашел его сразу, хотя Эмиль обещал, что буду плутать. Свернул под арку, вошел в дверь, поднялся по неуклюжей лестнице.
Все люди внутри были чем-то неуловимо похожи на Эмиля. Такие же бестолковые, нескладные и красивые. И Таня Журавлева тоже была там – девушка в длинном сером пальто, маленькая и словно немного больная.
И она сразу меня узнала, и нужно было видеть это. Как озарилось бледное зимнее лицо. Как вспыхнуло, словно стремительная чахотка снизошла – сжечь ее в кратчайшие минуты.
– Вот и ты, – сказала. Голос был бесцветный, как будто она не привыкла говорить вслух.
Я протянул ей пакет с книгами, подобранными Эмилем, и ответил: да. У меня очень мало времени. Буквально несколько минут. Я уезжаю.
– Да, – сказала она, – пойдем. Я провожу тебя до метро.
Она тянула слова и прибавляла гласные между ними – должно быть, заикалась в детстве.
И когда Таня Журавлева взяла меня за руку, люди кругом вдруг ожили и потеплели, как будто посчитали за своего.
И вот начинается медленное праздничное путешествие, и длиться ему семь минут – если по часам. Мы идем сквозь медленный московский снегопад, темный оттепельный гололед, вдоль рождественских витрин; я придерживаю Таню Журавлеву за локоть, и она сияет, и мерцает, и так светится, будто сейчас, сию минуту, выгорает под своим длинным пальто до белых костей. Я теперь знаю, отчего обитатели малых этих гнезд всегда почти бесплотны, – потому что и сам с правого бока сейчас плавлюсь, как снеговик.
Мы плывем вниз на эскалаторе – еще две минуты – и Таня вглядывается в меня изо всех сил, явно решая – поцеловать или нет, и не целует в конце концов. Мы обнимаемся посередине платформы и расходимся по разным поездам.
Возле дома я обнаруживаю, что прижимаю ключ к замку левой рукой, потому что правую держу на весу, как обожженную.
Мне некому рассказать об этом. Некому в целом свете. Нельзя Эмилю. Нельзя Гале. И Алиска еще маленькая. А больше у меня никого нет. А ничего, собственно, и не было. Как рассказать о том, чего, собственно, не было? Как сказать Эмилю о том, что ему не нужно и не важно – иначе он не сделал бы из меня глупого самозванца, а поехал бы в книжный сам…
И жизнь просвечивает сквозь жизнь – иная, очарованная, поврежденная нашим опасным дыханием, нашими неуклюжими движениями, но все равно она светится, как иногда ранним утром начинает светиться воздух; и пройдет еще время, и еще одно время, но воздуха хватит на всех, и Гале больше не нужен будет диализ, и Алиска станет великой актрисой, и постаревшая Таня Журавлева вспомнит меня перед сном, улыбаясь; а потом мы все умрем, блядь.
Екатерина Перченкова Чара
Данечка никогда не думал, что мама на такое способна.
Мама ведь тишайшая женщина в пастельных тонах, робкая неженка, последние годы живущая в смиренном благоговении перед домашним устроенным бытом. Все кругом – ее собственный, ненаглядный, вымечтанный и вымученный рай, и в этом раю она властвует и прибирается, для всего имея необходимые инструменты и средства. Эти салфетки, к примеру, для зеркал и стекол, те для мебели, а в зеленой пачке – для хромированных кранов в ванной и на кухне. Для Данечки все они одинаково тряпки, иногда из-за этого получаются небольшие курьезы и даже скандалы.
Когда он впервые завел себе компьютер, мама замерла на пороге комнаты, издалека разглядывая непонятный электрический ящик, потом нерешительно подошла поближе и спросила: он точно… ну… не взорвется?
Данечка успокоил ее, а потом потекло время и поменялась жизнь: дом их непонятным образом перешел в категорию приличных, поменяли сантехнику, положили везде коричневый ламинат и бежевый кафель, маме купили большой телевизор с плоским экраном – и тогда она наконец смирилась с компьютером и поднесла ему дипломатический дар: антистатические салфетки для монитора и антибактериальные для клавиатуры. Что тут поделаешь: в приличном доме всегда есть компьютер, а в некоторых так даже два.
Маме решили завести ноутбук – она была недоверчива, но кое-как освоила простейшие функции; Данечка потом сменил его на другую модель, получше и полегче, еще через пару лет появился смартфон, потом планшет, а потом мама вдруг нашла с ними со всеми общий язык. И Данечка, и бабушка сперва посмеивались, потом высказывали тихое недовольство – ужина теперь приходилось ждать вдвое дольше, потому что мама должна была непременно его красиво сервировать, сфотографировать и выложить в инстаграм, – а потом привыкли. У бабушки с внуком никогда не было особенного взаимопонимания, но тут они сошлись: личную жизнь мама вряд ли уже устроит, характер у нее трепетный, склад личности интровертный, так что новых друзей и интересных компаний тоже не приходится ждать: пускай хоть так. И занята, и присмотрена, и довольна. Беспокойства мамино увлечение никому не причиняло: разве что иногда ей случалось купить через интернет какую-нибудь красивую и бесполезную штуку, очень нужную в хозяйстве по уверениям рекламодателей, и когда штуку привозили, она долго в задумчивости сидела над ней на кухне, всем лицом и телом выражая обреченное недоумение.
И вот однажды случилось: бабушка позвонила Данечке на работу так, что из трубки на него пахнуло корвалолом и большим скандалом.
– Приезжай немедленно, – слабым, но настойчивым голосом сказала она. – Мать твоя учудила…
Что она там могла учудить? – беспокойно размышлял Данечка в метро. – Может, робот-пылесос? Это ладно, его можно сдать, вернуть деньги. Может, заплатила где-нибудь кредиткой лишнего? Это тоже можно вернуть. В худшем случае…
И тут ему отчетливо представилась картина худшего случая. Цепкий смазливый провинциал лет сорока пяти, с которым – сейчас окажется – мать познакомилась в сети уже пару лет назад, у них любовь до гроба, и вот теперь мама поставила бабушку перед фактом: «Василий Петрович будет жить с нами». Сердце прижало не хуже, чем у бабушки: в малогабаритной двушке – принадлежащей к тому же матери по всем документам – только Василия Петровича и не хватало.
Но когда он пришел, в коридоре не обнаружилось никакой мужской обуви, кроме его собственных, Данечкиных, кед и ботинок. Корвалолом пахло так, что хоть святых выноси. И чем-то еще – смутно знакомым, острым и едким, но, кажется, приятным.
Бабушка вышла к нему стремительно, стала рядом, скрестив на груди руки, и громко, чтобы на кухне было слышно, сказала: ты гляди, гляди, Данечка, до чего мать-то твоя додумалась на старости лет!
Мама вышла из кухни одетая в тренировочный костюм, пятнистый и мокрый с груди до колен, морщась и держа во рту указательный палец.
– Укусила? – злорадно и одновременно возмущенно поинтересовалась бабушка.
– Даня, – сказала мама строго, как в детстве, – такое дело. Мы завели химеру. Ну, то есть я завела.
– Твою мать, – растерялся Данечка.
– Я ее помыла. На кухню пока не заходи. Пусть обсохнет, привыкнет. Я тебе поесть в комнату принесу, – тут на кухне довольно-таки крепко грохнуло, мама ойкнула и понеслась туда.
– Вот так! – заявила бабушка.
– Твою мать, – повторил Данечка и сел расшнуровывать ботинки, а потом, конечно, пошел прямиком на кухню: живой химеры он никогда не видел.
– Руками не трогать! – сразу предупредила мама. – Анна Ивановна сказала, если ее мокрую в руки брать, умываться перестанет.
– Не больно-то и хотелось, – поморщился Данечка, наблюдая, как устроившись на самом углу холодильника, склонив остренькую мордочку, химера быстро-быстро коротенькими передними лапками выщипывает что-то у себя из хвоста. Чудовище, конечно, пусть и мелкокалиберное, размером со среднюю кошку. А еще она была желтая. С мордочки до пят покрытая реденьким коротким пушком цыплячьего цвета.
– А чего она желтая?
– Маленькая потому что, – объяснила мама, – это у нее не постоянная шерстка, а пушок такой младенческий. Вырастет, будет цвета – она подтолкнула к Данечке по столу глянцевую брошюру – «сумеречный гранат», то есть серенькая, а ушки, лапки и хвостик слегка бордовые. Тут вот все подробно расписано, мне заводчик дал. А у Анны Ивановны Люся цветом как персидская кошечка, тоже очень мило.
– Люся?
– Зовут ее так. Кстати, надо думать, как нашу назвать. Анжелика? Мне вот нравится. Хотя длинно.
– Ну все, – сказал Даня, – назови в честь Анны Ивановны, ей будет приятно. А я хочу жрать и спать.
Назавтра в офисе Палыч заметил, что Данечка провел бессонную ночь, и сразу заинтересовался подробностями. Но молодой коллега был скучен и все больше зевал, поэтому по дороге с обеда Палыч догнал его в коридоре и напрямую спросил, что произошло и не надо ли чем помочь.
– Мать сдурела, – с готовностью пожаловался Данечка. – Химеру завела.
– Это дело, – неожиданно одобрил Палыч. – Давно?
– Да вчера вот. Домой прихожу, она ее моет. У бабки чуть ли не инфаркт.
– Да привыкнет потом. Химеры, они, знаешь, очень даже к старикам. И к детям. Моя вон с тещей живет душа в душу, телик вместе смотрят, из одной тарелки едят.
– А что они едят, кстати?
– Вообще корм специальный есть, – Палыч виновато вздохнул, – но на нем разоришься. Так что мы со стола даем. Яичный желток покрошить можно. Кефир тоже неплохо. Яблоки, только несладкие, зеленые, нарезать. Капусту там, огурцы. По чуть-чуть, для витаминов. Мясо когда даешь, кипятком ошпарь сначала, а лучше вообще отвари. Организм неисследованный, мало ли как он к паразитам. И главное это, много не клади и следи, чтоб до конца съела. У них когда еда остается, они нычки делают по всему дому, будете потом бегать, искать, что где протухло.
– Вот же ж блин, – с чувством сказал Данечка.
– Да ладно. Химера – животное очень интересное. Не гадит к тому же. Такая вот загадка природы. Перерабатывает сто процентов пищи в энергию. Мне бы так, – Палыч смущенно хлопнул себя по выпирающему пузу. – Кстати, как обереги заказывать будете, ты мне маякни, я тебе ребят посоветую. Мне на все двери уже год как поставили, жена не нарадуется.
– Какие еще обереги?
– Ну как же. В клетке ее держать нельзя, она от этого звереет быстро, начнет вырываться, поломается вся. Значит, пускают ее гулять по всему дому. А если ты спать, к примеру, ложишься, а на двери оберега нет, то ночью она придет и тебя задушит.
С работы Данечка ехал изумленный и притихший. Чувство было такое, словно кто-то умер. Или очень болен. Или пропал без вести. Нехорошее, короче говоря, чувство. Надо было, конечно, серьезно поговорить с матерью по поводу этого существа. Но, чем меньше оставалось пути до дома, тем отчетливее он понимал, что не сможет начать разговора.
Надо было собаку ей, – думалось с запоздалым раскаянием, – померанского шпица, пусть бы носилась с ним. А теперь-то что…
Но, входя, он столкнулся с пацанами в рабочей синей форме, и мать уже бродила по квартире зачарованная, прикасаясь к маленьким серебристым чипам, налепленным на дверные косяки примерно возле уровня глаз взрослого человека.
– Запоминай, – сказала, – вот тут, справа, включить. А слева выключить. Когда включено, видишь, оба немножко светятся. Не забудешь?
– Мама, – проникновенно и печально сказал Данечка, – я забуду обязательно, и эта тварь меня задушит.
– Они не душат, – возразила мама, – они вообще очень добрые, любят людей, поддаются дрессировке. Просто приходят спать, как кошки, на грудь.
– И чего, кто-то помер от этого?
– Вообще-то они очень тяжелые, когда спят. То есть даже не тяжелые, а…
Даня взял из ее рук какую-то тонкую и теплую серую газету, скользнул глазами по странице, прочел: «спящая химера может просидеть в человеке колодец» – и изо всех сил ущипнул себя за бок. Стало больно, но проснуться не получилось.
– Отнесла бы ты ее обратно, а? – безнадежно сказал он, – где взяла, туда и отнесла бы…
– У всех приличных людей давным-давно есть химеры, – обиделась мама. – Корм вот купила, разорение какое-то.
– Палыч говорит, надо яичный желток покрошить. И кефиру можно.
Вечером он задремал всего на полчаса, а когда проснулся, ужас накатил такой, что даже пошевелиться вышло не с первого раза: химера сидела на груди. Она была холодная, и это был приятный холод. Не особенно тяжелая, действительно как средняя кошка. Только Данечка открыл глаза, химера потянулась к нему, и он даже не додумал испуганное «укусит!» – когда она ткнулась своим сухим и холодным носом в его нос – и отвернулась.
– Хорошая, – неуверенно и заискивающе сказал Данечка. – Кис-кис-кис…
Химера взмахнула кожистыми серенькими крыльями, не удержалась и сверзилась сначала с его груди на кровать, а потом с кровати на пол. Было потешно.
По запросу «funny chimeras» роликов в сети оказалось без счета. Среди них были даже всемирно известные звезды: например, черная химера Яшка, теряющая волю от звуков игры на фортепиано, и золотистый химер Чжин, готовый немедленно завернуться во всякий попавшийся полиэтиленовый пакет.
Данечка быстро усвоил технику безопасности: угрозу представляла только спящая химера. Чара – так мама назвала ее в память чьей-то умершей собаки – однажды прикорнула у него на колене и в одно мгновение сровнялась весом с дедовой пудовой гирей. Больше он никогда не забывал потрогать оберег, заходя в комнату.
Поиск в сети выдавал ему восхитительные и страшные истории об этой особенности всеобщих любимцев. Так, спящая химера не просто тяжелела многократно, а переходила в иное состояние: заснув на груди хозяина, она погружалась в человеческое тело насквозь, до поверхности, на которой он лежал, при этом не повреждая внутренних органов и не причиняя травмы. И если она просыпалась самостоятельно и уползала или улетала – то есть если ее не пугали и не пытались согнать, – человек оставался невредим. Но стоило химеру спугнуть, вынудить дернуться с места – и то, что оставалось от хозяина, уже не могло стать ночным кошмаром травматолога, потому что попадало сразу к патологоанатому.
А потом на Данечку навалилась депрессия. Сам-то он поначалу думал, что просто приболел, но интернет оказался неумолим в оценке его состояния. Все как по учебнику: он просыпался в пять часов утра, проводил весь день полусонный, все время ходил на кухню и что-то ел, не чувствуя вкуса, с трудом заставлял себя принять душ, выдумывал причины не появляться на работе, и только к вечеру иногда удавалось немного развеселиться. И все время болела спина, заклинило позвонок, должно быть, и расклинить его обратно никак не удавалось. Причины для депрессии не было. Та острая печаль, от которой Данечка просыпался в неподвижной утренней темноте, была беспричинна и бесплотна. Каждый раз он смутно помнил, что видел сон. Какой и о чем – не мог вытащить из памяти, как ни пытался. Более того, он даже не мог определенно сказать, был ли это мучительный кошмар, вытянувший за ночь все силы, или, наоборот, видение настолько чудесное, что явь в сравнении с ним оказывалась адом.
Здесь тоже помог интернет: он быстро обнаружил множество форумов, на которых люди делились схожими симптомами, недвусмысленно связывая их с появлением химеры в доме. Прочтя несколько обсуждений, Данечка понял, что проблемы с настроением и самочувствием возникают чаще не у владельцев химер, а у их родственников, не выбиравших разделять жизненное пространство с неведомой зверушкой, а просто поставленных перед фактом. И что объясняется все очень просто: химера – все-таки не кошечка, не собачка и даже не ящерка: чуждая и необъяснимая форма жизни, может быть даже внеземная, и нормальная реакция нормального человека на такое создание – ксенофобия. Но с тех пор как химеры вошли в моду, многие люди вынуждены скрывать свое отношение к ним, чтобы не расстроить родных, и это не проходит даром: такая депрессия по сути – конвертированная фобия.
Как следует начитавшись, он пошел на кухню, поставил чайник и сделал пару бутербродов. Чара взлетела на холодильник и принялась разгуливать взад-вперед, наклоняя голову и косясь желтым древним глазом. Он отщипнул несколько кусочков колбасы и протянул ей на ладони, отметив, что это машинальный, привычный жест и что, если бы он хоть немного боялся Чару или она была бы ему действительно неприятна, – разумнее было бы положить колбасу в ее миску. Всплыло воспоминание: он как-то уже кормил Чару с руки, наверное, ее специальной едой, мелкими янтарными горошинами, которые приятно было держать в горсти. Не поленился даже проверить: нет, специальный корм для молодых химер представлял собой темные кусочки вяленого мяса с вкраплениями сушеной зелени и мелких семечек. Может, были такие витаминки? Или это была чужая химера, у кого-то в гостях, например? Хотя если бы Данечка видел химеру до появления Чары, он бы точно запомнил.
Несколько дней спустя он обжегся крапивой у подъезда. Шел себе, шел – и вдруг привычно и уверенно сгреб горстью с колючего стебля тяжелые соцветия и молодые листья, обжегся, бросил на землю, выругался, остановился в удивлении. Так должны были бы расти янтарные горошины для Чары – на языке крутилось даже название растения, но никак не произносилось. Он собирал их вот так на ходу тысячу раз. Или не для Чары, для другой химеры? И что это за растение, в конце концов? И какая может быть другая химера, если всех, кроме собственной, он видел только на фотографиях?
А помнится другая. И собственная рука в тяжелой замшевой перчатке, собирающая эти светлые ягоды.
– Черт знает что, – сказал Данечка вслух. Поднялся домой, подержал руку под холодной водой, одновременно внимательно разглядывая себя в зеркале, зашел в свою комнату, выключил оберег и позвал: Чарка, иди сюда!
В коридоре неуклюже зашелестели крылья и зацокали когти.
– Иди сюда, говорю, – Данечка завалился на кровать и похлопал себя по груди, как будто подзывал кошку.
Чара приземлилась и умиротворенно сложила крылья.
– Будем спать, – сказал Данечка и затих, следя, как глаза химеры затягиваются мутной пленкой.
Было совсем не страшно. Он видел перед собой мордочку, похожую на лицо кошачьей мумии, опускающуюся все ниже и ниже; тяжело тоже не было. Примерно через десять минут оказалось, что химера сидит одновременно на его груди и на кровати, непонятным образом пройдя его тело насквозь. Если сейчас зазвонит телефон, – вдруг подумал он, – или грохнет что-нибудь за окном, то это конец. И тоже совсем не испугался, и тоже задремал.
Когда он проснулся, шел дождь и начинало темнеть, Чары не было.
Он осторожно потрогал место, где она сидела, ожидая нащупать провал или какой-нибудь внятный след, но не нащупал ничего, кроме собственных ребер. Сел, нашел ногами тапочки под кроватью. Прислушался – мама возилась на кухне. Спина больше не болела. Зачем люди вообще селятся в таких местах, где постоянно идет дождь, – недовольно подумал он.
По кухне плавали серые сумерки, мама сидела на табуретке, закутанная в плед, и кормила Чару с руки консервированной кукурузой.
Она очень изменилась в последнее время, понял Данечка.
Пропала ее робкая суетливость, исчезли неуместные для взрослой женщины детские повадки, она перестала втягивать голову в плечи, держась теперь расслабленно и величественно.
– Ты вспомнил, – не спросила, а утвердительно сказала мама, обернувшись к нему прекрасным лицом.
Данечке стало вдруг так легко и спокойно – всему сейчас должно было найтись объяснение, надежное и верное, хотя его, по правде говоря, устроило бы любое, – что он соврал: да. Да, почти.
Екатерина Перченкова Факинг кампус и его обитатели
Косинский пропал без вести шестнадцатого сентября. Следующая неделя была омрачена сознанием того, что я, возможно, последняя видела его живым.
К десяти утра Косинский явился на ресепшен в сиянии и славе. Он был облачен в легкое и белое, вид имел снисходительный и усталый; очки его золотились тонкой оправой, усы важно топорщились, за собою он влек дорожную сумку, густо усеянную цветными наклейками.
Девицы, коротавшие утро в холле за ноутбуком, принялись хихикать и шептаться: «Сам Косинский!» – донеслось от них. Тогда классику пришлось втянуть живот и расправить плечи.
Через полчаса он спустился из номера с мокрой головой, в очках-хамелеонах и сандалиях и громко сказал: «Пойду-ка я разведывать месторождения коньяка!», но девиц в холле уже не было, и мэтр удалился в одиночестве. Никто не знал, что одиночество это, вероятно, окажется роковым.
Я тоже не знала, в противном случае повела бы себя иначе, когда Косинский вдруг подошел на набережной и облокотился на меня. Он весил примерно восемьдесят килограммов. Может быть, восемьдесят пять. Разведка месторождений удалась: взгляд классика был блаженно расфокусирован, а дыхание раскрывалось легкими древесными нотками и слабыми тонами сухофруктов, ощутимыми даже сквозь убийственный запах метаболитов этанола.
– Фамилия кака! – убежденно сказал Косинский.
Я обиделась.
Его фамилия была вполне благозвучна – значит, речь шла о моей, а моя фамилия, между прочим, не такая уж и кака.
Обида была бы слабее, если бы я к тому времени не успела произвести собственную разведку месторождений. Но прошлого не отменить: объятия классика вдруг сделались тяжелы мне, я придушенно пискнула: «Да идите вы!» и вывернулась из его рук.
Укрытие мне нашлось за чахлой пролупрозрачной туей, не то чтобы надежное, но утративший фокус взгляд мэтра не мог более обнаружить меня, поэтому дальше я могла свободно наблюдать за поведением классика в курортной среде обитания. И вскоре выяснилось, что мэтра я интересовала не как женщина, но как навигатор.
Косинскому было плохо.
Вселенская бездомность и запредельная неприкаянность обрушились на него. Он забыл не только обратный путь в гостиницу, но и само ее название. Он мог бы прокатиться на катере, выпить еще коньяка, купить с лотка вкусную шаурму, выторговать скидку на десяток ракушечных бус для литературных девиц, но ему некуда было вернуться и негде приклонить тяжелую голову, поэтому Косинский метался по набережной и повисал на прохожих, мучительно вопрошая: «Фамилия кака? Факинг кампус?»
По правде сказать, я, куда более трезвая, запомнила название «Камелия-Кафа» отнюдь не с первого раза.
Здесь же стала очевидна трагическая разница между мною и классиком. Я бы на его месте робко трогала прохожих и спрашивала: «Простите, только что приехала, забыла, где остановилась, гостиница называется как-то вроде «Камилла». И никто, никто не дал бы мне верного ответа, ибо всякая дыра в стене была здесь входом в гостиницу, или в хостел, или, на худой конец, в уютное частное пристанище – свежие фрукты, удобства во дворе, душ в конце коридора: постучите в стену, кликните Васю, Вася вас из ведра обольет – олл практически инклюзив. Но Косинский на то и Косинский: он всегда умел читать лекции, давать развернутые комментарии и соблазнять женщин, не приходя в сознание. Вскоре юная блондинка в летящем платье уцепила его под локоть и повлекла в факинг кампус. По крайней мере, так мне тогда показалось.
И тогда кто-то сказал у меня за спиной: Камелия-Кафа.
Я обернулась.
– Ага, – обрадовался человек в солнечных очках с точно такой же сумкой в наклейках, как у Косинского, – вы знаете, где это!
Я неуверенно махнула рукой в предполагаемом направлении, а потом относительно внятно объяснила: вот по этой дороге вверх, дальше шлагбаум, дальше охранник, дальше еще метров пятьдесят и налево, седьмой корпус и будет искомая «Камелия».
– Давайте вы лучше меня проводите. Я здесь впервые.
И мы пошли в совершенном молчании. Я смотрела под ноги и пыталась решить странную задачу. Дело было в босоножках. Я купила их на местном рынке в прошлом году, соблазнившись ценою и нашитыми на тряпичные ремешки крупными деревянными пуговицами, носила все следующее лето, а в августе один ремешок почти оторвался сбоку – и пришлось оставить босоножки на даче, в такой специальной тумбочке, где доживает век разномастная непригодная обувь. Я, конечно, собиралась вот здесь подклеить и подшить вон там, но остановила себя: не хватало еще тратить время на вещь ценой в три поездки на метро.
Плохо, видимо, остановила. И подклеила, и подшила, и увезла в город, и вчера вечером запихнула в чемодан, и сегодня с утра надела… Такая вот жизнь на автопилоте. Интересно, сколько еще ненужного я сделала, не задумавшись ни на минуту?
Было бы вежливо завязать светскую беседу; я обернулась к своему спутнику и обнаружила, что он идет с закрытыми глазами. Что держится при этом ровно, ступает уверенно, что лицо у него спокойное, тихое, готовое к необязательной улыбке. Когда нужно было свернуть налево, я не сказала ему, но он повернул вместе со мною: наверное, подглядывал. И о ступеньке перед входом в «Камелию» я не стала предупреждать: он уверенно шагнул на нее и открыл глаза.
– Извините, – сказал. – Четыре часа утра.
– Вообще-то полдень.
– Конечно. Но иногда вот так идешь, идешь – и вдруг становится четыре утра, и ничего не поделать.
– Вы запомнили дорогу?
– Не то чтобы. Но попытаюсь в другой раз добраться сам. Увидимся вечером, на открытии?
– Открытие в восемь. Если у вас вдруг не случится полдень – увидимся.
И я пошла искать Оксану.
Внизу мне сказали, что Оксаны нет, вообще нет: вы извините, девушка, вот полный список: и наш, и административный корпус, и восемнадцатый. Нет, и не регистрировалась. Может, и ошибка, всякое бывает.
Оксана – человек фантастического и притом идиотского везения. И если я правильно понимаю ее сложные взаимоотношения с дорогим мирозданием, то сейчас она наверняка едет в такси, радуясь тому, что сбила цену до несущественной или вообще очаровала водителя до согласия на бесплатную поездку. А до этого ее рейс задержали на три или четыре часа. А зарегистрироваться она забыла – действительно, всякое бывает. Надо было бы взять куртку и пойти позвать кого-нибудь обедать.
На третьем этаже мы столкнулись с Димой Царицыным. Он показал почти полную бутыль «Старого Нектара» – и от обеда было решено отказаться. У меня в номере уже с утра завелась нечеловеческая гора фруктов, но гора-то завелась, а вода исчезла – и горячая, и холодная. А ротавирус, царствовавший в здешних местах, считался главной легендой писательского дома и был еще в предыдущие годы воспет во всех литературных жанрах, так что мы не стали есть немытых фруктов, а просто напились. Нормально так, без изысков, но с удовольствием.
Было самое время по-быстрому вымыть голову и собираться на открытие симпозиума, но вода в кране так и не возникла, к тому же отключили электричество. Если отключили везде, то открытие грозило превратиться в грандиозную пьянку: без колонок, микрофонов, проектора и прочей аппаратуры официальная церемония была бессмысленна.
Внизу на парковке сработала сигнализация – сначала мне так показалось, но Царицын выругался и принялся трудно подниматься из низкого кресла.
– Почапали в подвал, – сказал он со вздохом. – Опять началось.
Сигнализация подвывала на двух навязчивых нотах.
– Что началось?
Царицын взглянул на меня недоуменно и пожал плечами. Вряд ли происходило непредвиденное. Наверняка я пропустила с утра объявление об учебной тревоге или чем-то в том роде.
Коридоры и лестницы были полны людей: люди спокойно и сосредоточенно направлялись вниз, не выражая лицами особенной тревоги или страха, так что я равнодушно спустилась по лестнице следом за Царицыным, также следом ощупью пробралась в узком подвальном коридоре, оглядела сидящих на деревянных ящиках при свете двух свечей в стеклянных банках, обнаружила среди них свободное место и села тоже. Было неудобно, но это вряд ли надолго. Искала глазами в полумраке знакомые лица, нашла только Огарькову в дальнем углу; вставать и подходить к ней было лень. Все было лень, даже думать. Даже спросить кого-нибудь, что, собственно происходит. Разглядывала руки свои при свечах, обнаружила круглый шрам на тыльной стороне левой ладони, похожий на след от ожога, потрогала пальцем – не больно. Надо меньше пить. Нет, определенно, надо меньше пить. И больше спать.
– Если что-то случилось, – сказала я Царицыну, – то надо было постучаться к Косинскому. Он в стельку, его девица с набережной едва не на себе унесла. Спит, небось, и не слышит.
– Да он не приехал.
– Я его видела.
– Не. Он сразу сказал, что не приедет. Я тоже сначала не хотел.
– И разговаривала!
– Пить надо меньше.
Окружающий гул – четыре десятка разных шепотов слышатся сплошным человеческим гулом – вдруг стал внятен: речь шла о том, что открытие сегодня наверняка отменят, но мы же не лыком шиты, мы все тут молодцы, так что сейчас поднимемся в номера, возьмем выпить, свечки возьмем – и все равно пойдем, и проведем открытие, и пусть все знают, что мы никого и ничего не боимся.
– Я боюсь вообще-то, – уныло пробормотал Царицын, – но выпить при свечах… Не могу отказаться.
Мы потянулись нестройной и медленной, но веселой колонной по улице Ленина. Вечер стоял теплый, но от моря нехорошо сквозило; в сумерках снова нерешительно взвыла, но вскоре умолкла сирена; мы один раз остановились хлебнуть коньяка с Огарьковой и другой раз с незнакомым дядькой, чье лицо я смутно помнила по прошлому сентябрю. Я немножко свалилась в куст и потеряла пакет со свечами. И вообще все потеряла: шлепала себе, шлепала вдоль по улице, следом за темными фигурами своих, за сиреневой курткой Огарьковой, совершенно не думая – где мы, как меня зовут, что случилось, куда мы идем и когда придем; и что вообще там будет.
Дом-Музей встретил нас музыкой издалека.
Сад при нем светился фонарями и зеленел, зажатая длинная тетка в вечернем платье старательно и очень плохо выпевала в микрофон печальный романс, по белым рубашкам и галстукам в толпе опознавалась местная администрация, к дверям Дома жались дети из школы искусств в расшитых пайетками костюмах, а Огарькова оказалась самой шустрой, опередила нас всех и уже сидела за столом регистрации с бокалом в одной руке и сигаретой в другой.
– Вот и свечи не понадобились, – сказала я с облегчением.
– Где тебя носило? – спросил Царицын, – ждем, понимаешь, ждем…
– Добрый вечер, – сказал из темноты мой недавний спутник, тот самый, что шел в «Камелию» с закрытыми глазами.
С другой стороны темноты выскочил вдруг Толя Киреенко, бородатый, прищуренный и веселый, и нацелил на нас объектив.
– Смотри какое дело, – обратился он к моему собеседнику, – ты опять не получился.
Тот вежливо взглянул на экранчик.
– Бывает.
– Смотри, Царицын нормальный. Катька нормальная. А ты в самом фокусе – но мутный какой-то… к тому же тебя три. У тебя прям это… диссоциативное расстройство физического тела.
– У меня джетлаг.
– А, – поскучнел Киреенко, – тогда понятно. Ну, ты тогда много не пей, плохо станет.
– Не буду, – он проводил Киреенко взглядом и обернулся ко мне. – Знаете, нам сейчас действительно будет плохо. Вот от этого всего, – сцену тем временем покинул многословный грузный дядька в черном костюме, его место занял толстенький рыжий мальчик с аккордеоном, – пойдемте отсюда?
Мы нашли убежище у самой воды: любимое мое кафе, обустроенное вокруг маленького пирса, никто не закрыл, как оказалось. Фейсбук – ненадежное место, сплошные фейки, так фейком оказалась и фотография опустевшего пирса.
– Как твоя кошка? – спросил он.
Ума не приложу, когда успела рассказать про кошку. Может, в том же фейсбуке дело? Может, мы друзья там и давно на «ты»?
– Хорошо. Соскучится только без меня.
– Бабушка выздоровела?
– Насколько можно в ее возрасте, – я за сегодня устала удивляться. И вообще устала. Больше всего хотелось придвинуться ближе и уткнуться головой в плечо ему, как родному, и сказать…
…А что я, собственно, могу сказать, кроме «как тебя зовут»? Ну, допустим, что-нибудь нейтральное, поддержать беседу…
– А ты как?
– Нормально. Слушай, я что-то совсем сплю. Посидим еще немного и пойдем, ладно?
– Почему Киреенко не может тебя сфотографировать?
– Издевается. Все он может. У нас с ним давняя история, помнишь?
– Помню, – соврала я.
Или не соврала.
Дело в том – дошло до меня сокрушительно и внезапно – что собеседник мой не мог, ну совершенно не мог сейчас сидеть напротив.
Но ведь сидел, и это было хорошо, так невозможно хорошо, что слезы у глаз и комок в горле.
– Как тебя сюда впустили?
– Диссоциативное расстройство гражданства, – сказал он совсем не весело. – Дела у вас, конечно, творятся…
– Дела, да…
Мы просидели молча еще минут десять, мой собеседник клевал носом, я складывала лягушку из салфетки – и вдруг поняла, что упустила момент, заблудилась, потерялась: вот только что помнила его имя – а вот уже и не помню… Даже не то что не помню – не могу знать, мы впервые встретились сегодня утром на набережной, в пятидесяти метрах отсюда, вон там, возле бетонных шаров, облицованных голубыми стекляшками.
Нет мне прощения, потерялась я и еще раз, теперь уже на самом деле, на темной дороге между Домом-Музеем и «Камелией». Здесь отстала, там засмотрелась на лиловый фонарь – и вдруг осталась одна.
Но погоревать вдоволь не успела: нагнал меня веселый Царицын и сказал магические слова «пять звездочек». И сказал слова еще более магические: Ксанка приехала, тебя ищет, бегает по этажам, матерится ужасно. Она тебе, говорит, подарок привезла тяжеленный. Воооот такая коробка. А еще, говорит, у нее книжка вышла, вот прямо в пятницу, послезавтра презентация в административном корпусе. А еще, говорит, кто-то идет за нами, чуешь? Я вот прямо по духам чую, что это Огарькова.
Я так соскучилась по Ксанке, что не утерпела и совершила предательство: взяла Огарькову под локоть и завязала с ней длинный разговор о своем, о девочковом. У нее при себе тоже была заветная бутыль, так что от набережной до шлагбаума мы остановились несколько раз, и путь оказался долгим. У шлагбаума под фонарем собрались прощаться и расходиться, фонарь опять не горел.
– Да мы все виноваты. И ты тоже, – сказала Огарькова чужим бесцветным голосом.
– Что ты за меня говоришь?
– То, что я некоторые вещи знаю лучше тебя. И если ты не знаешь, это не освобождает…
– Ир, подожди. Ты сюда как попала?
– Головина помнишь?
– Ну.
– Он мне приглашение выслал. Я приехала в Азов. А там сели в машину – и через тоннель.
– А документы?
– На пароме всех проверяют, а после тоннеля через одного. Бардак потому что.
– Хоть какая-то польза от бардака. А обратно как?
– Так же, с Головиным. Катька, давай возьмем все слова обратно. Мы пьяные. Не хватало еще нам разосраться. Вы с Ксанкой так и не помирились с тех пор?
– Не помирились. Давай.
Мы обнялись и разошлись.
Путь к «Камелии» был темен и печален. Я прошла мимо пустой будки охраны, уловила из зарослей оживленные голоса, но никого по голосу не опознала и отправилась дальше. Спать не хотелось, ложиться было совсем тоскливо. Ксанка приехала, сказали. Нет здесь никакой Ксанки. Мы не разговариваем третий год. Переодеться, переобуться и обратно на набережную…
Переобуться, да. Надо меньше пить.
Я же все перепутала: не в прошлом и не в позапрошлом, а три года назад купила свои дурацкие босоножки. И как раз прошлым летом оставила на даче. А этим поехала и забрала. И подшила, и подклеила. И много чего еще подшила и подклеила из непригодного прежде.
Потому что дела у нас тут творятся.
Кто-то облюбовал комнату на первом этаже нежилого семнадцатого корпуса, в окне дрожал зыбкий и слабый оранжевый свет. Может быть, керосинка. Такие же слабые огни плавали в окнах «Камелии», значит, не было еще одиннадцати часов.
Электричество и воду дадут с одиннадцати до двенадцати, мне душ все равно не светит, до третьего этажа напор не тянет. Значит, переодеться, переобуться и на улицу. Или ткнуться к кому-нибудь в номер на звук, вдруг где сидят-разговаривают хорошей компанией…
В холле меня встретила рыжая Оксана. Рыжая, кудрявая, со свежей хитроумной челкой. Чуть с ног не сшибла, налетела, сгребла в охапку, расцеловала в обе щеки, сразу похвасталась и новым парикмахером, и книжкой, и тем, что Саню повысили, и тем, что у Михалыча скоро тоже книжка будет. Сразу пожаловалась, что у нее передача для Косинского, а его неизвестно где черти носят, вон на ресепшене уже беспокоятся; что ее поселили с Фейгиной, которая храпит во сне, что вай-фай только в холле и почему-то в туалете, что Фейгина к тому же попила некипяченой воды и теперь настроена всю ночь печально блевать.
– Ксанка, – обреченно сказала я, уставившись на разноцветную яркую люстру под потолком – у меня наверху коньяк.
Потом не помню.
Кажется, был четверг.
Мы с Ксанкой устали вспоминать всевозможные народные песни и стали сочинять их на ходу. Нас с нею, интеллигентных вообще-то женщин, местные обитатели знают именно как сочинительниц народных песен, а также частушек, матерных и не очень.
– На болоте две осинки, листья трепыхаются! Я иду, гляжу – Косинский под кустом валяется! —на всю набережную выводила Ксанка поставленным фольклорным голосом.
– Я, кстати, его не видела с понедельника.
– Это не из-за него менты были?
– Какие менты? – я поймала ее за сумку и остановила.
– Орги сегодня заявление писали. Я сама не слышала, но Киреенко говорит – человек пропал. Думаешь, он?
– Вот же ж блин… Он в понедельник с какой-то бабой ушел. Я думала, она его до гостиницы отведет. Надо было самой отвести…
– Да чего ему сделается. Баба, небось, местная. Бухают, небось.
– Вчера его книжку про Гоголя представляли. Он не пришел.
– Точно бухают. Не парься. Ужинать пойдешь?
Я решила, что пойду спать. Эйфория от коньячно-разведывательных мероприятий давно прошла, образ жизни я уже второй день вела вполне трезвый, но силы под вечер неумолимо кончались.
В холле сидел худенький рыжий пацан в клетчатой рубашке. Он представился участковым и заставил меня подробно рассказать, где и при каких обстоятельствах я в последний раз видела Косинского. Потом нехорошо прищурился:
– Похоже, вы последняя его видели.
– Я тоже видел, – сказал мой недавний спутник, спустившись по лестнице, – я видел, как они разговаривали и как Косинский ушел с девушкой. Синий сарафан до колена. Светлые волосы, длинные. Восемнадцать-двадцать лет на вид.
– Да вы чего, – подал голос юный драматург в здоровенных очках, похмельно дремавший в холле еще с утра, – какой, нахрен, Косинский? Вон, – он помахал в воздухе телефоном, – Косинский в фейсбуке скандалит. Он в Москве. И не приезжал. И никогда больше не приедет.
И мы втроем, вместе с участковым, обернулись к юному драматургу и страшным шепотом сказали: заткнись!
И он заткнулся.
– У этих замечательных людей, – сказал мой спутник, – кажется, можно попросить вскипятить чайник. Давайте никуда больше не пойдем и будем пить чай.
И мы пили чай, а потом и не чай, и просидели до пяти утра, попеременно жалуясь друг другу: я – на то, что к вечеру сил никаких нет, он – на то, что после долгого перелета не по себе; однако спать так и не легли.
– Нужно совсем немного, чтобы реализовать такую возможность, – увлеченно рассказывал он под утро, – собралась, к примеру, в одном месте сотня очень похожих человек… с неординарными, так сказать, способностями.
– Где вы возьмете столько экстрасенсов?
– Мне не нужны экстрасенсы. Я про нас. Или даже не про нас, а… Про Дом-Музей, например. Например, представьте: Марина…
– Которая?
– Которая не бывала здесь с семнадцатого года. Знаешь, я все думаю. Может быть, ей достаточно было приехать еще раз и переступить порог Дома. И, знаешь, к черту стихи. К черту учебники. К черту все. Что там за звук?
– Где?
– В ванной. Воду дали? С чего бы в пять часов.
– Тебе показалось.(Господи, почему я никак не пойму, мы еще четыре дня на «вы» или уже несколько лет на «ты»?)
– Значит, показалось. Так вот, нас здесь много и нам здесь странно. У тебя сейчас внутри, прости, два с хвостиком промилле. У Киреенко чуть побольше.
– А ты не пьешь почти.
– У меня внутри восемь часовых поясов.
– А у Ксанки?
– У Оксаны, по-моему, своей дури хватает. Так вот, иногда ты идешь по набережной. Или по тропинке на Золотую балку. Или в другую сторону, к холмам. И совершенно не понимаешь, где идешь, ты потерялась и заблудилась, потому что голова твоя занята, допустим, стихами, и затуманена, к примеру, вот этим волшебным напитком. И вот когда идешь…
– Когда?
Собирались мучительно.
Ни один черт не согласился везти нас до аэропорта за оставшиеся деньги. У Ксанки была золотая цепочка. Как-то договорились.
Солнечно было, и светло, и тихо, и под алычой во дворе «Камелии» спала черная собака.
Мы с Ксанкой оставили чемоданы в холле и пошли попрощаться. Выпили кофе на набережной. Постояли у воды.
– Наверное, я в следующем году не… – сказала Ксанка, – тяжело.
– Я, наверное, тоже.
– Но мы сколько могли…
– Да.
Надо было запомнить, все это запомнить и увезти с собой – и высоченные каштаны, и огромные вьюнки, заплетшие ограду Дома-Музея, и лиловый, нет, оранжевый Хамелеон в дымке на горизонте, и чувство, когда сжимаешь кулак в кармане, а в кулаке круглый гладкий камень.
Вернулись молча; нежилая снаружи «Камелия» привычно встретила нас веселой внутренней суетой, запахом глаженого белья и кофе.
Поперек кресел спал Косинский: брюки его были разорваны на коленях и перепачканы зеленоватой грязью, очки треснуты и перемотаны изолентой, футболка залита вином на манер теста Роршаха; на волосатой руке красовался трогательный ракушечный браслетик, а на измученном лице светилась блаженная улыбка.
– Надеюсь, не обманет, – сказала Ксанка, – он к десяти обещал подъехать прямо сюда.
– Уже десять.
– А на часах без восьми минут. Девять пятьдесят две, двадцать второе сентября, воскресенье.
– Восемнадцатое.
– Двадцать второе.
– Сегодня воскресенье. Восемнадцатое. Вот у меня в телефоне календарь.
– А вот, – Ксанка указала на стену, – тоже часы и тоже календарь. В том году воскресенье было двадцатое. В позапрошлом – двадцать первое. А воскресенье двадцать второе было, когда мы приехали в первый раз. В тринадцатом году.
Я крепко сжала в кармане круглую каменную подвеску, которую купила в четверг, девятнадцатого сентября, и через неделю потеряла.
– Ксанка, – сказала я, – я никуда не поеду.
Марина Воробьева Черная рука
Когда черная рука появилась на моем подоконнике, я допивал кофе и думал, встать ли мне, чтобы взять со столика у окна последнюю шоколадную конфету с целым орехом внутри, или полениться. Было субботнее утро, холодно, разреженное солнце и звуки с улицы лились так, будто их кто-то процедил через мелкое сито. Далекие и близкие измельченные звуки сливались в однородную субботнюю тишину. Я кутался в куртку, но окно не закрывал, я прислушивался и ленился встать и взять конфету, хотя очень хотелось горького шоколада.
Маленькая черная рука цеплялась за подоконник, подоконник у меня низкий, взрослый может достать его с земли, да и ребенок может, если догадается взять низкий табурет из цветника соседнего дома и придвинуть к моему окну. Маленькая черная рука повернулась розовой ладонью, стырила со столика конфету и исчезла. Теперь и вставать не надо, можно лениться дальше.
Я бы тут же забыл об этом маленьком событии, если бы не сон, который снился мне в детстве и повторялся довольно часто. Мне снился голос – не мужской и не женский, наверное, не очень человеческий, хотя и не звериный. Это был сон без изображения, только абсолютная темнота и голос, иногда я думал, что именно так чувствуют себя слепые, если не знают, кто к ним вдруг обратился из тьмы. Голос говорил всегда одно и то же: «Черная рука никогда не приблизится к твоей улице, никогда не войдет в твой подъезд, не поднимется по твоей лестнице и не зайдет в твою квартиру. Черная рука не подойдет к твоей кровати, не схватит тебя никогда».
Казалось бы, этот сон должен был успокаивать и ободрять, со мной никогда ничего плохого не случится, даже черная рука за мной не придет, но я просыпался каждый раз в слезах, потому что голос добавлял, помолчав немного в темноте: «Потому что дома у тебя нет, да и тебя нет!» После этого голос презрительно усмехался, рычал по-звериному и затихал вдали.
В детстве я чувствовал себя очень одиноко, родителям не было до меня дела, иногда они даже забывали меня покормить, а я боялся сказать, что в холодильнике ничего не осталось и шел спать голодным. Мои родители не были алкоголиками и даже богемными нищими они не были, просто они много работали и делали карьеру, а я был досадной ошибкой, я появился, потому что моя бабушка, которая давно умерла и я ее не помнил, сказала маме, что в семье должны быть дети. Мама была послушной дочерью, а думать о последствиях ей было некогда.
Я тоже был послушным сыном, я боялся спорить с родителями и вести себя плохо, чтобы их вера в то, что я ошибка, не укреплялась, я еще надеялся их переубедить. Но с каждой моей плохой отметкой или с каждым неудачным словом эта вера выпускала еще один корень и вырвать ее из земли становилось невозможно.
Друзей у меня тоже не было, я был счастлив, что в классе надо мной не смеются, хотя по всем правилам должны. Я старался быть незаметным, не пытался сблизиться с теми, кто мне нравился. Меня будто не было, да и дома у меня не было. Презрительная усмешка и звериный рык.
Как только мне исполнилось восемнадцать, я собрался и уехал. Уехал с улицы, уехал из города, из страны, из дома, которого не было, и поселился в Иерусалиме.
Я сразу оказался в этом доме в полуподвальной квартирке. Когда я много лет назад вселился в нее и разобрал немногочисленные вещи, наступила субботняя тишина. Сейчас она вызывает у меня лень и сонливость, а тогда разбудила во мне страх. Я понял вдруг, что я абсолютно один здесь, даже послушным сыном тех, кому до меня нет дела, я больше быть не могу, я совсем никто в этом непонятном пространстве. Я так испугался, что сам пошел сдаваться в армию, чтобы кто-то за меня решал, что мне делать каждую секунду. Меня не взяли, я только приехал и не знал языка, сказали, чтобы учил, а повестку пришлют через год сами.
Мне ничего не оставалось делать, я пошел учить язык, в том же году поступил в университет и как-то привык жить сам и решать самостоятельно. Страхи ушли, появились друзья и девушки, хотя первое время я уставал в их компании и всегда стремился быстрее попасть домой, сесть в свое кресло, открыть окно в любую погоду, читать книгу или делать что-то по работе, непременно прислушиваясь к звукам улицы – моей улицы.
Полгода назад тихие соседи сверху съехали и вместо них появилась большая эфиопская семья. Мать кричала на детей на амахарском, я не понимал ни слова, но знал, что она кричит не только от усталости, я понял по ее голосу, что она ошиблась шесть раз – ровно столько, сколько у нее детей.
Обо всем этом я думал, когда маленькая черная рука стырила мою конфету.
На следующее утро я купил еще конфет, на этот раз сосалок на палочке и разноцветных сладких червяков. Страшная гадость с точки зрения взрослого, но дети за них душу продадут.
Я положил две конфеты на столик у окна. Сначала хотел положить чуть подальше, чтобы увидеть не только руку, но и голову, но потом передумал – я не хочу видеть мальчика, пусть это будет Черная Рука из того сна. Она наконец узнала, что я теперь есть и у меня есть дом.
Черная рука появилась опять, взяла все, что для нее было оставлено, и даже присвистнула.
Кода конфеты кончились, я купил еще. Мне было достаточно и одного появления Черной Руки, но нельзя было ее разочаровывать и оставлять без сладкого.
Вскоре мне надоело просто выкладывать сладости у окна и я стал их прятать на улице, закапывая в секретик или подвешивая к дереву, а на окне оставлял записки, как их искать. Мои клады исправно опустошались и я стал писать загадками и ребусами, рисовал карты, придумывая на картах сказочные названия для знакомой местности. Конфеты прятались на улице Зеленых Гномов или в парке Бесконечной Пустыни Сахары. Черная Рука оказалась догадливой и все мои клады были разорены.
Тогда я стал покупать детские книги и отмечать в них буквы на разных страницах, чтобы Черная Рука могла прочесть мое послание. Я совсем не был уверен в том, что мальчик станет читать книги, но вдруг увлечется, отыскивая буквы.
Однажды я увидел его на лестнице. Он сидел и читал «Хоббита», читал с открытым ртом, меня даже не заметил.
Все это чуть не кончилось в один день – ко мне постучала соседка из дома напротив, за ее спиной стояла мать моей Черной Руки. Соседка говорила, что давно следит за мной, с тех пор как я приманиваю мальчика конфетами, а теперь я еще пишу ему записки, то есть я наверняка педофил и если сейчас же не перестану, она вызовет полицию.
Я понимал, что не смогу объяснить полиции, что Черная Рука такая же ошибка, какой был я, что мать на него кричит каждый день и не покупает ему конфет, что мальчик начал читать, в конце концов. Тем более я не смогу пересказать им свой сон и рассказать, как меня не было, а потом я появился, и как Черная Рука делает меня с каждым днем все более настоящим.
Я не рискнул положить записку на подоконник, да и Черной Руки в тот день не было. Мальчик не появился и на следующий день, и через неделю, соседка сверху кричала все громче и теперь ее крик звучал угрожающе. А через неделю в мой сон пришла тьма и далекий неразборчивый шепот, только «чччччшшшшоорррр», и усмешка, и рык.
Утром я встал и отнес новую записку в один из наших кладов, а в другой спрятал книги, а в третий конфеты. У Черной Руки ушло почти две недели на то, чтобы найти все три. Он не вскрывал все клады подряд, он догадался. Без всяких загадок и намеков, он просто как-то понял, о чем я думал.
Черная Рука опять появилась на моем подоконнике, кода я переезжал в другой город. Я нашел новую работу на севере и мне пришлось оставить Иерусалим, да и договор на квартиру мне больше не продлевали, мой дом и еще несколько рядом решили перестраивать, все сложилось одно к одному. Все, сейчас приедет машина и придут друзья помогать грузиться, а у меня еще последняя коробка не собрана.
Вместо того, чтобы собирать вещи, я сидел у открытого окна.
Сегодня будний день, довольно близко работает бульдозер. Все соседи позакрывали окна, бульдозер долбает с семи утра, головы трескаются, земля дрожит, иссякает запас обезболивающих таблеток, антидепрессантов, алкоголя и сигарет, это кому что.
И только я сижу и вижу, я вижу, как на город опускается большое ватное облако, оно спускается и разрежает звуки, и процеживает, и как через него проходят лучи солнца, на этот раз горячие, они жгут ноздри и сушат дыхание, трескается от сухости земля и дрожит беззвучно, это тяжелое желтое сито пропускает через себя и меня и я чувствую всем телом, уже не твердым, а плывущим через него, что я есть.
Тут на подоконнике появляется Черная Рука. Машет мне. За ней голова подростка. Наша игра прервалась примерно год назад, конфеты и детские книги подростку не нужны, да и кто ж знает, что нужно подростку.
– Можно я войду? – спрашивает Голова.
– Да, заходи.
И когда подросток лет пятнадцати появляется весь и говорит «Мы тоже сегодня уезжаем», я постепенно прихожу в себя, опять слышу грохот бульдозера и говорю:
– А знаешь, когда я был ребенком, мне снился сон.
Кэти Тренд Артефакт
Дождь – летний такой, ясно, что скоро кончится, но за ним в очереди стоят еще несколько, маленькие выходящие из-за горизонта темные тучки. Платформа пуста, а вот навес довольно-таки оживлен, в кассу даже небольшая очередь. Анна курит, высунув голову за стену кассы, чтобы не травмировать дымом бабушек. Сквозь ореховые кусты пробивается внезапный солнечный луч. «Не забыла я свет погасить? – думает Анна, – а газ перекрыть?» Не помнит Анна ни про свет, ни про газ, хотя вроде должен же быть рефлекс… Кажется, рефлекса хватило только не забыть ноутбук и камеру. И то не факт. Ноут-то вот, ощущается спиной, а камера может быть в нужном отделении рюкзака, а может и не быть. Страшней всего было бы оставить где-нибудь ребенка, американцы вон, так же загнавшись, забывают детей в машинах – спасибо тебе, милостивое время, что Люке уже одиннадцать, и она уже может переночевать одну ночь в гостях, а я пока отправлю фотографии, а завтра съезжу на этот чертов фест – и обратно, а потом вернемся вместе, а потом опять туда, а потом опять обратно… Надеюсь, Люка хоть черники успеет наесть. Хоть какая-то польза от ненавистного суетливого лета.
– Простите, сигаретки не найдется?
Внутренний панический поток словно наталкивается на стену этого голоса. Что-то в нем такое… Перед Анной стоит долговязый человек лет тридцати пяти с виду с очень внимательным взглядом. Словно он видит все это впервые – платформу, кассу, поток воды с крыши, солнечный луч в ореховых листьях, людей. Анна ищет по карманам пачку, только что ведь сама доставала, да где же она, а, вот; протягивает, приоткрыв – человек, словно заново узнавая, берет сигарету, обнюхивает, прикуривает от протянутой зажигалки – да, похоже, и вкус сигареты тоже ему внове, хотя курить он умеет.
– Спасибо, – говорит он прочувствовано, и Анна всем телом ощущает вес этого слова. В жизни ей приходилось слышать множество пустых слов – «Я тебя люблю», «Будешь плохо себя вести – в поликлинику сдам для опытов», «Я тебе сказала!» – и от одного этого полностью наполненного слова само воспоминание о них улетает из анниной головы, как связка совершенно пустых, лишенных даже воздуха, воздушных шариков.
Некоторое время Анна и долговязый курят рядом, молча прислонившись к бетонному парапету. Анне хочется встать поближе к случайному незнакомцу – ее грызет суетливая тоска, а от длинного незнакомца исходит запредельное спокойствие. Прямо человек-океан. Анна мысленно отбирает этот эпитет у виденного на днях толстяка с тачкой, вся поверхность тела которого колыхалась безостановочными волнами. Нет, глупости, внутренняя сущность важнее поверхности торса, вот он, человек-океан.
– Знаете что, – внезапно говорит человек-океан, – я тут подумал, может быть, вы согласитесь посмотреть на одну вещь. Я ее сегодня нашел.
– На помойке? – оживляется Анна. Помоечный спорт захватил и ее, хотя и маловато смысла тащить домой связку старых, с детства знакомых, журналов при полной невозможности их прочитать.
Незнакомец смущенно кивает. Ну, не очень смущенно. Словно легкая волна пробежала по поверхности океана – и все.
– Давайте вашу вещь, – охотно соглашается Анна. До электрички еще минут сорок, не меньше, – прямо интересно, что за вещь, о которой предупреждать надо.
Человек-океан достает из кармана разгрузочного жилета какой-то желтый камешек. На жилете этих карманов – куча кучинская, штук двадцать, не меньше, но он точно знает, откуда доставать. Протягивает Анне.
Янтарь. Неправильной формы, прозрачный, а внутри… Ой, внутри муха!
– С ума сойти, – говорит Анна, – и это вот на помойке? Впрочем, чему я удивляюсь, всякое бывает. Но все равно поздравляю. – Анна хочет уже вернуть артефакт владельцу, но какой-то отблеск в глазу мухи притягивает ее взгляд. Надо же, как живая, а глаза… глаза белые почти… и блестят, как новогодний снег.
* * *
Снег окружает со всех сторон. Бесконечная сияющая под солнцем равнина. Бесконечное синее сверху, белесое над горизонтом, небо. Бесконечное спокойствие со всех сторон. Кажется, по мне течет сок. И пальцы – почему их так много, и они такие острые? Нет, это не пальцы, это иглы, а кора грубая и темная на бедрах, нежная и рыжая на груди, нет, это ствол, я сосна? Или нет – я – это множество сверкающих кристаллов, это только кажется, что белых, на самом деле прозрачных. Или я – это очень много пронизанного солнцем январского воздуха? Или меня нет вообще. Тянется вечность, наполненная сверканием снега, шелестом игл сосны, молчанием ледяного безветренного неба – и нет, не тянется. Просто есть. Вечность может только просто быть.
* * *
Анна чувствует, как из ее рук забирают что-то, чувствует: это руки. Потом чувствует себя всю. Потом видит платформу, колонну, поддерживающую навес, поток воды с крыши, солнечный луч в ореховых листьях, рядом стоит человек, на нем разгрузочный жилет, бежевая клетчатая рубашка, у него соломенные волосы, серые очень внимательные глаза, прямой нос; за ним стоит таджик с невероятно миниатюрной собачкой в желто-зеленом жилетике, и нос у таджика в точности как у собачки; а дальше – дедушка с дочерью и внуком, внук белобрысый, совсем-совсем, наверное, человек в жилете в детстве тоже таким был, надо же, сколько подробностей оказалось в мире внезапно.
– Простите, что провел на вас этот эксперимент, – покаянно произносит блондин в жилете, – не мог поверить, что это и в самом деле было, можно ведь спятить и не заметить, но вижу по вам, что не спятил, было, без дураков.
– Да какое там простите, – улыбается Анна, – да, я помню, вы стрельнули сигарету, потом показали мне янтарь с мухой. Но это было вечность назад. Спасибо.
Анна и блондин в жилете – или женщина-снежная равнина и человек-океан – стоят у парапета, а вокруг них клубится ожидающая электричку небольшая толпа. Анна чувствует в себе бесконечное спокойствие, словно дом, работа и дача прекратили растягивать ее в три разных стороны, и она осталась здесь, сейчас, на мокрой платформе, посреди лета, и лето, надо сказать, совсем неплохая штука. У колонны переминается с ноги на ногу пожилая дама с тележкой, в руке – ведро черники, Анна окунается в ее настроение. Внуки, сахара купить, мясорубка на даче или в городе, электричку отменили, на троллейбус успеть бы, тоска какая… Как в зеркало посмотрела – в зеркало, отстающее на полчаса. Анна толкает незнакомого знакомца в жилете локтем и заговорщически шепчет:
– А вы могли бы показать вашу муху ей?
Кэти Тренд Хороший косплей
Город здесь был всегда. Только это были разные города.
Под тонким слоем пронизанной светом воды был город нежных существ в твердых панцирях, не нуждающихся в домах. Они строили другое: широкие платформы для общих собраний, невысокие башни для сна. Неверита была там уже тогда. На спиральных улицах, сходящихся к центральной площади, на вершине одной из башен, на краю платформ, незаметная в общей толпе.
Когда дно начало подниматься, Литориновое море отступать, песчаные отмели стали вылезать из воды, как большие лишенные панцирей слизняки и превращаться в острова, Неверита вышла на сушу и изменилась. Теперь на этих островах вырос город весенних песен. Когда в быструю реку входили косяки рыбы, на берега реки сходились разные народы. Одни приходили с севера со своими снастями, с оленьим рогом, с вышитыми лосиным волосом одеждами; другие – с юга, они несли на обмен каменные ножи и костяные флейты. Неверита терялась в толпе, слушала флейты и бубны, принюхивалась к коптящейся рыбе. Город был полон дыма, смеха, музыки, но, когда задували осенние ветра, город заканчивался, кочевники расходились, Неверита оставалась на низких поросших лесом островах и менялась. Зимой это был город зайцев и птиц.
Потом нужда меняться отпала. Теперь это всегда были города людей. То низкие и бревенчатые, то высокие и каменные, они сменяли друг друга, Неверита вливалась в каждое новое приходящее на берега племя и выливалась из него незамеченной. Когда пришло время пятиугольной крепости, она носила вышитую лапландскую красную шапку, у нее даже было стадо собственных оленей; когда пришло время другой крепости, шестиугольной, это были уже козы. Триста лет спустя потеряли смысл даже кошки, теперь Неверита снова была Неверитой, единой в одном лице. Такое уж снова наступило время, все поодиночке.
* * *
Джек гнал на велосипеде по Каменноостровскому проспекту. Его волновала шляпа. Шляпу капитана Джека Воробья, как известно, проглотил кракен, а потом удачно выплюнул, чтобы проглотить всего Джека целиком. Джек чувствовал, что его уже проглотили и выплюнули. Если мы дурацкие косплееры, почему же мы так много работаем?! То пиши квест, то делай пиратский кодекс, то вдруг соревнования по ушу, на которые больше некого послать, а стоят они бешеные тыщи, которые еще тоже надо заработать, то концерт, на котором нужно делать руками «вот так», пока тролли цитируют посреди песни тему из пиратов. И тут вдруг оказывается, что вот прямо завтра, ну, ладно, послезавтра надо подавать заявку на конвент, и не просто подавать, а с фотографиями костюма. Это значит – и в шляпе тоже. А шляпу-то кракен сжевал.
Ну, то есть свалять дреды, отрастить на подбородке невнятную растительность, подвести глаза черным и перевязать голову красной тряпкой любой справится. Про пятьсот джек-воробеев даже песенка есть. А вот пойди найди в Питере широкополую шляпу, чтобы сделать треуголку? А треуголка участвует в квесте, значит, нужна она, и вот прямо сейчас.
А между прочим, Хеллоуин на дворе. То есть он уже как-то раньше времени начался. Возле похожей на маяк часовни фотографировались прекрасные юные скелетики. То есть, одна скелетированная дева, в минималистичном корсете, это в плюс-то два, прижималась тонкими ручонками к холодному граниту, другая, в черном балахоне, фотографировала ее в свете оранжевых фонарей. Очень готично. Чуть дальше, возле мечети, стайкой шевелились какие-то полупрорисованные парни – у кого паук на щеке, у кого дурацкий карнавальный цилиндр на макушке, не о чем, в общем, говорить. Зато еще дальше, у Остеррейх-плац, Джека чуть не поймал чувак в черной мантии, с лицом, закрытым черной вуалью, весь в цепях. «Я твоя смерть, Джек Воробей!» – невнятно прошипел он из под вуали. «Капитан Джек Воробей!» – крикнул ему Джек, проносясь мимо. Пароль-отзыв всякий знает. Не всякий может шляпу из ничего создать.
И вдруг – о чудо – шляпа! Впереди двигалось в сторону площади Льва Толстого что-то высокое, но явно женственное, и как раз в широченной шляпе. Спросить! Спросить, где она такую взяла! Джек заехал чуть вперед высокой, напоминающей гвоздь фигуры, притормозил, чтобы поравняться с ней – но она странным образом оказалась опять впереди. Джек сморгнул, потому что голова на секунду закружилась. И поднажал на педали, потому что нельзя же вот так просто. Вот же шляпа, и какая шляпа! Широкая, с высокой тульей. В магазине такую не сыщешь, штучная работа. Может, мастера подскажет. Но обладательница шляпы, хоть и шла вроде бы не очень быстро, спокойным, праздничным прогулочным шагом, странным образом все время оставалась чуть впереди.
– Постойте! – наконец крикнул Джек, – Позвольте спросить! Про шляпу!.. – но расстояние до незнакомки в шляпе как бы даже и увеличилось.
Джек переключил скорость.
* * *
Неверита была обескуражена. Ее заметили впервые за… а ведь даже так сразу и не скажешь, за сколько времени. Вообще впервые с того момента, как планета вздрогнула, ушибленная каменным небесным пришельцем, спящий древний вулкан вздохнул во сне и исторг из себя мощный водный поток – и ее, Невериту.
Вообще-то, в здешних краях шансов быть замеченной всегда было полно. То древние бабушки с тяжеленными панцирями, замечающие любое движение воды, то шаманы, говорящие с духами, то романтически настроенные поэты, то юные художники с въедливым взглядом. Но как-то до сих пор бабушки чаще присматривали за потомством, шаманы выбирали в собеседники духов мелких и практичных, поэты замечали только свое отражение в многочисленных протоках, художники предпочитали копировать игру света на стволах и стенах. И на тебе. Какой-то юнец, игрок, театр одного актера. Вместо приличного пальто – какой-то дурацкий кафтан, дредастая голова красным платком перевязана, глаза черным подведены, это что-то из кино, такой у них нынче способ видеть сны, и велосипед как будто из кусочков собран. А ездит, между прочим, быстро. Вот уже впереди сад на берегу, а этот человек все не сдается.
Сад совершенно темный. Это удачно. Здесь можно расслоиться, скрыться, ну вряд ли этот тип настолько упорный.
* * *
Вожделенная шляпа нырнула в темный сад и как-то потерялась там среди деревьев. Джек, уже не настолько уверенный, что шляпа так уж ему нужна, все-таки по инерции последовал за ней, но спешился и повел велосипед в поводу. Впереди неприличной громадой темнела дача Громова, странно, днем она выглядит совсем небольшим домиком; на ее фоне периодически мелькало что-то, похожее на букву Т, устремился туда, в темноту. Хотя, конечно, не полную. В городе не бывает полной темноты. Хотя сейчас, здесь, в это поверить было трудно. Сзади вроде бы пробивался свет оранжевого фонаря с Каменноостровского проспекта, впереди в туманном небе мелькали отблески гирлянды телевышки, но у Джека все равно рябило в глазах от темноты и ползли мурашки по позвоночнику. Он поплотнее замотал на шее свою бурую арафатку и двинулся дальше, к крыльцу дачи, где ему мерещился намозоливший уже глаза силуэт.
* * *
Да что ж такое?! Он настолько упорный. Ну уж нет, хватит убегать.
И Неверита остановилась и обернулась.
* * *
На фоне огромного темного замка, которым в этот миг увидел дачу Громова Джек, посреди кривых и голых деревьев Лопухинского сада, стояла высокая черная фигура в приталенном пальто. Глаза на ее белом лице были, как и у Джека, обведены черным. Щеки прорезала нарисованная улыбочка скелета, кончик носа был вымазан черным. С краев огромной шляпы свисали десятки малюсеньких черепов. А подкладка у этой шляпы была красная.
Джек сморгнул – и моментально успокоился. Косплей. Ну конечно. Хеллоуин же на дворе. Еще одна карнавальная косплеерша. Дача как дача, сад как сад. Загнал, дурак, бедную девушку в мокрый сад. А шляпа-то не та.
– Извините, – сказал он. – Это не та шляпа. Мне нужна шляпа для Джека Воробья.
– Капитана Джека Воробья, – машинально ответила Неверита, сама не зная почему. Иногда приходится следовать потоку, смысла которого ты не понимаешь. Голос у Невериты оказался мягким, слегка пушистым. Приходилось ли ей когда-нибудь вообще говорить? Кто знает, если этого не знает она сама?
– И то верно, – засмеялся Джек, развернулся, оседлал велосипед и был таков.
* * *
За кого он меня принял? – думала Неверита, спускаясь к берегу и изменяясь в маленький черный буксир с красной трубой, – некоторое время надо будет быть чем-нибудь другим. А потом он все забудет.
* * *
Да ну нафиг, – думал Джек, крутя педали обратно, к дому, – куплю сомбреро в «Леонардо», размочу и переделаю. Все вроде так хорошо объяснилось, но что-то грызло. Да устал просто. Спать, спать!
И только дома уже, в своей норе, под шерстяным одеялом, Джек подумал было – свет! Темно же там было, на этом крыльце, хоть глаз выколи! Как же он так хорошо рассмотрел этот грим? Но додумать эту мысль как-то не было уже сил, из темноты под веками на него накатывала темная вода сна, на воде покачивался маленький темный буксир, труба у него была красная, штурвал закручивался улиточной спиралью.
Вера Кузмицкая Рыба моей мечты
Рубик звонит в дверь – звонок высоко, приходится прыгать, палец соскальзывает, поэтому трель выходит отрывистой, нервной, с одышкой («кто там – доставочка»). Дверь открывает худая хмурая блондинка с гигантской каменной грудью и понуро висящей на нижней губе сигаретой. Она неприветливо щурится сквозь дым и выжидающе молчит. Рубик воздевает вверх коробку и планшет с ведомостью – двумя руками, как в молитвенном экстазе, в каждой по дару. Блондинка выводит на планшете ряд резких узелков, ее ноздри хищно раздуваются, как капюшон кобры. В глубине квартиры что-то падает и бьется, на последнем узелке ручка с визгом рвет тонкую желтую бумагу, дверь с грохотом захлопывается перед носом Рубика. Рубик мечтательно думает: «вот бы там была бомба, да, да, маленькая бомба», тупо смотрит на облупившуюся краску, зачем-то ковыряет ее ногтем и тихонько говорит «ппааххх», затем садится на велосипед и едет дальше – вниз по улице. Впереди еще пять адресов, в корзине на багажнике – пять свертков.
Рубику нравится его работа: знай себе крути педали да стучись в двери, где тебе пусть и не всегда рады, зато всегда ждут, раздавай конверты, коробки, пакеты (большие и малые – как медведицы), и думай, что там внутри – в конвертах, конвертах, пакетах, а главное – за дверями, дальше которых его никогда не пускают. Каждая доставка – целая жизнь.
Вот дубовую дверь с номером сорок два распахивает гранд-дама, древняя, как ящер, сморщенная, как урюк; из-за двери тянет вишневым пирогом и сыростью. Гранд-дама степенно выводит величавую подпись с вензелями, снисходительно кивает и запирается в своем двухэтажном пенале с наверняка затертыми обоями и окнами, наглухо закрытыми бархатными портьерами, – там она дрожащими артритными пальцами вскрывает конверт и вытаскивает любовное письмо от такого же древнего ящера (да, да), с которым делит сладкую горечь невозможности будущего последние сорок лет. Рубик цыкает велосипедным звонком и лихо мчит прочь от ящеров, их усохших соблазнов и вишневого пирога.
Железную дверь без номера открывает слепой мужчина: ему приходится вставлять карандаш в пальцы и прижимать руку к планшету, чтоб подпись была ровной. Мужчина рассеянно улыбается, немигающе смотрит поверх Рубика и норовит неловко погладить его по голове («славный малый, ты очень славный малый»). Рубик не считает себя славным, прикосновения слепца ему неприятны, зато можно беззастенчиво заглянуть за спину и жадно рассмотреть прихожую: темно-серые стены, густо увешенные женскими портретами и трофейными рогами. Все рога разные, женщина – одна: яркая брюнетка с капризными наливными губами, изогнутыми в презрительной усмешке. Мужчина осторожно берет в руки тяжелую коробку в крахмалистой упаковке, нежно ощупывает ее и трясет, снова улыбается: внутри гулко катается что-то надежное. Рубик засовывает нос еще дальше за порог и видит огромный холл. Его стены также плотно покрыты портретами и рогами – словно безумный мох, они уходят вверх, на второй этаж. Рубику нравится думать, что в коробке лежит большой костяной шар для боулинга – хозяин будет запускать его в пустой холл и доверчиво идти за ним на звук, потому что куда же ему еще идти. Железная дверь тихо щелкает языком, Рубик стоит перед ней еще минуту и уходит – сегодня коробка не будет открыта, он это знает.
Железные двери, деревянные, обитые дерматином (с поролоном и без) и со стеклянными вставками, с почтовыми ящиками и мутными глазками, медными табличками с именами и неряшливыми безымянными цифрами, богатые, бедные, надежные, худые – каждый день они открываются Рубику ненадолго и лишь для того, чтобы жадно выхватить коричневые свертки из его рук. Конечно, ему хочется прежде заглянуть в них, но откуда-то он и так знает, что внутри, а то что кроется за дверями, интересует его гораздо больше. Рубик воображает себе, как его приглашают в дом, предлагают присесть, выпить чаю, принимают пальто и фуражку, спрашивают имя, учится ли он, где его родители, есть ли у него девушка и был ли он уже в новом кинотеатре на площади, но дальше «хорошего дня» он никогда не заходил.
(Впрочем, однажды молодая женщина улыбнулась ему, принимая большой хрустящий сверток, и Рубик долго кружил по кварталу, дрожа от возбуждения и ударов брусчатки по колесам, пытаясь успокоиться, и думал: «там должно быть платье, пожалуйста, длинное шелковое платье», а через три дня снова увидел ее, выходящей из дома. На ней было шелковое платье (новое ли – непонятно, не разглядеть) и длинные перчатки, за локоть ее цепко держал мужчина средних лет. И Рубик потом долго еще ждал посылки на их адрес, мстительно представляя себе, что в ней окажется мышеловка, которая сработает, как только один из них откроет пакет, но больше посылок не было; а еще – совсем недавно – он долго стоял в темной прихожей и мялся с ноги на ногу, ожидая, пока выйдет хозяин, и даже почти прокрался на свет из теплой кухни, где на него выскочила толстая женщина в черном платье и замахнулась на него тряпкой, но тут заметила коробку в руках и почти ласково вытолкала его на улицу громадным животом. Там Рубик твердо решил, что в коробке должны были быть чашки, тонкие дорогие фарфоровые чашки, и тут же услышал за дверью звон.)
Рубик крепко держит руль, под ним уютно стрекочут спицы, в корзине подрагивает последний сверток на сегодня, отвезет его – и можно будет отправиться к себе, перед сном представлять все дома, в которых так и не побывал. Библиотека в доме хмурого старика, которому привез складную удочку, нежная гостиная в мансарде непрерывно кашляющей женщины, расписавшейся за спортивный купальник, просторная кухня в доме толстухи, пахнущая корицей и дегтярным мылом – и везде он желанный гость и добрый друг. Рубик оставляет велосипед у шлагбаума и долго идет к тяжелой двери мимо железного забора, за которым с лязгом цепей и зубов мечутся породистые церберы. От коробки в руках неприятно пахнет – кажется, рыбой. Рубик думает о том, что рыбу посылают мафиози, когда хотят предупредить о скорой смерти за дело, слушает остервенелый лай псов и с нервным смешком думает, что посылка наверняка по адресу. Бронированную дверь открывает рыжая женщина в брюках, ее щеки и руки в муке. Из-за ее спины выскакивает кряжистый лабрадор и валит Рубика на пол, как кеглю. Женщина хохочет, поднимает его, скороговоркой выпаливает: «Простите, заходите, что же вы стоите, холодно, лорд, фу!» и затаскивает Рубика внутрь, ведет его длинным коридором в большую светлую столовую, усаживает за стол, спрашивает, будет ли чай (что за глупости, конечно, будете), и уходит, оставляя Рубика одного. Рубик ошалело осматривается (так далеко он еще не заходил), беспомощно моргает и не знает, куда себя деть: белокипенная скатерть на столе (впрочем, с деликатным рубиновым пятном – от вина или варенья), бесконечно длинные стеллажи с книгами (засунутыми кое-как – их явно читают), картины, пластинки, игрушки на полу, цветы в вазах – все это кажется Рубику таким живым, знакомым и одновременно далеким в своей несбыточности, что ему хочется упасть на пол и плакать, уткнувшись лицом в длинный мех шерстяного ковра. В столовую возвращается женщина, ее щеки все еще в муке, но руки чистые. Она несет поднос с фарфоровыми чашками (должно быть, точно такими же, как те, что разбились на кухне, куда Рубика когда-то не пустили). За чаем она спрашивает про родителей (нет), про девушку (нет), про учебу, дела и кинотеатр (нет, нет, нет). За стенкой хлопает в дверь, и в столовую входит смуглый мальчик лет шести, а за ним такой же смуглый мужчина, он говорит: «Всем привет, у тебя лицо в муке». «Правда?», – удивляется женщина и добавляет: «А у нас гости», тянет всех к столу и говорит: «Давайте пить чай, это Рубик, он принес нам посылку, кстати, где она, лорд? О нет, лорд», и снова убегает, а Рубик сидит за столом, тихо пьет остывший чай, шевелит пальцами наконец согревшихся ног и думает: «Какие к чертовой матери мафиози, господи», а через три дня он останавливается у газетного киоска, пытаясь выкорчевать из жирной цепи складку брюк, видит заголовок: «Молодой бизнесмен найден мертвым на берегу городского канала» и фотографию на первой полосе. Лицо Рубика пылает, он с силой рвет ткань, выкидывает из корзины конверты, коробки, пакеты, и бесконечно долго крутит педали, думая: «Там должна была быть ошибка, пожалуйста, большая, большая ошибка».
Вера Кузмицкая Наш усталый Валентин
От крыжовника на коже оставались частые мягкие занозы. Валентин задумчиво трогал их щетину – короткую, тонкую, словно игрушечную, и щекотно проводил пальцами по губам, воображая, будто те стали кактусами или крохотными ежами, в общем, чем-то нестерпимо нежным и чужим. Еще четверть ведра, и можно будет лечь в гамак, натянутый между двумя соснами, листать сырые страницы старой энциклопедии, а потом вздремнуть или даже пойти на речку, да что угодно можно будет, степенно рассудил Валентин. Через час от жары загудел воздух, по дороге вдоль участка понуро проплелся грузовик, гремя газовыми баллонами; «А нам вчера как раз поменяли», – зачем-то вслух сказал Валентин, с кряхтением поднял полное ведро слабыми руками и медленно, чтоб не развернуть, пошел к дому. Вечером нужно ехать в город: на вторник назначена комиссия в кардиологии, в очереди стояли с осени, как тут пропустить, а там уж посмотрим.
На крыльце сидел Лев – седой, худой, величавый, – и властно крутил ручки приемника, зажав зажженную сигарету в желтых пальцах. Приемник шумно свистел и завывал, как пушкинская вьюга – от этих звуков и запаха дыма Валентину сделалось сладко и уютно.
– Садись, – приветливо сказал Лев, подумал и строго добавил: – Закурить не предлагаю.
Валентин понимающе улыбнулся и примостился на ступеньках рядом. Лев наконец поймал волну – из динамика монотонно забубнил диктор.
– Сашка в семь за тобой приедет? – спросил Лев. – Ты уже собрался? Во вторник комиссия?
На все вопросы Валентин рассеянно кивал головой. На ступеньку перед его ногами уселся павлиний глаз и гипнотически заморгал крыльями.
– Ты боишься? – тихо спросил Лев.
Валентин пожал плечами. Павлиний глаз нехотя поднялся и улетел, через два метра неуклюже рухнув в клубничную грядку.
– Не бойся. Пойдем обедать, – сказал Лев.
И они пошли в дом.
На обед была окрошка, которую Лев делал по личному тайному рецепту и только на сыворотке (квас и кефир он отчего-то презирал). Валентин лихо расправился со своей миской и даже взял добавки, чего с ним не случалось давно (было видно: Льву приятно). Помыл тарелку, достал с полки увесистый том и понес его во двор, к гамаку, прочно ушедшему в тень.
Гамак скупо скрипел петлями, мягко укачивая Валентина на бурых анкерных крюках. Глаза слипались, читать не хотелось, и он просто листал знакомые страницы: анурия, аорта, апоплексия. Аппетит. Брыжейка. Выслушивание. Гипертоническая болезнь. Грануляции. Диатермия. На евнухоидизме Валентин заснул.
Проснулся он от холода и с ватным привкусом во рту. Солнце ушло вниз, на вечер – за частокол сосен. Валентин бестолково замотал тяжелой головой, чтобы согнать остатки липкого дневного сна.
– Валя. Валя.
Валентин вылез из гамака и осторожно пошел к дому: кто-то звал его голосом Льва, но каким-то слабым, странным, незнакомым.
– Валентин.
Валентин снял обувь (Лев ругался за обувь) и зашел на веранду. На диване сидел Лев и густо, нехорошо дышал.
– Нитроглицерин. Срочно, на кухне.
И Валентин побежал.
Дрожащими руками он вытащил аптечку, неловко опрокинул ее на себя – на пол хлынула блестящая лавина блистеров, бойко запрыгали пузырьки с настойками. Валентин упал на колени и стал мелкими быстрыми движениями переворачивать лекарства: аспирин, аскорутин, анальгин. Аллохол. Бетасерк. Борная мазь. Валерьянка. Валидол. Валентин старался не слушать собственное сердце, от ужаса ломающее грудную клетку изнутри (глицин, димедрол, звездочка).
Наконец он нашарил невзрачную пластиковую баночку, закатившуюся под буфет, и бросился к дивану, на ходу вытаскивая зубами тугую пробку. Холодными пальцами Лев взял два шарика, ловко бросил их под язык и закрыл глаза.
– Слушай, – сказал Валентин. – Я сейчас тебя вылечу. Ты сиди, а я буду лечить.
Лев молчал; было слышно, как во рту драже бьется о зубы.
– В общем, ты сейчас почувствуешь тепло, – подумав, решил Валентин. – Когда почувствуешь – скажешь.
Робко подошел ближе. Подышал на ладони, растер их до красноты, поднес к лицу Льва, как к печке, и стал ждать. Лев дышал тише, теплый воздух из его носа легко щекотал пальцы (как колючки на крыжовнике, подумал Валентин; пусть бы все прошло, пусть бы все прошло сейчас, пожалуйста). Казалось, что ладони по-настоящему раскалились, от них, как от двух утюгов, повалил жар, и теперь было важно не обжечь лицо Льва, которое наконец чуть-чуть порозовело (пожалуйста, пожалуйста). Валентин потерял счет времени и в принципе не очень понимал, что делает, но совершенно точно знал: сейчас все у него в руках.
– Ну, как? – через миллионы лет с надеждой спросил Валентин.
– Порядок. – Лев поднял большой палец – тяжело, будто кисть была чугунной.
За окном хлопнула дверь машины. В дом вошел мужчина и застыл на пороге с карикатурно вытянутым растерянным лицом.
– А вот и Сашка! – фальшивым бодрым голосом сказал Лев. – А ты знаешь, что Валентин у нас хилер? Ну, без полостных вмешательств пока, но надо же с чего-то начинать.
Валентин сжал щеки обожженными ладонями, сел на пол и разрыдался.
А потом – ночью, уже в городе, он лежал в постели, сонно ковырял вафельный узелок обоев и слушал, как за стенкой молодая женщина с мелким злобным стуком кромсала что-то хрусткое большим ножом и сдавленным голосом говорила – Саша, ты с ума сошел, что значит молодец, ему всего девять, а если бы что-то действительно случилось, и плакала – наверняка от лука, да, точно от лука, решил Валентин и немедленно уснул.
Александра Зволинская November Charlie
«На билетах» Чарли всегда стоял сам, хотя ему каждый раз предлагали найти билетера. Отказывался даже не потому, что клуб, в котором он выступал, был скорее музыкальным баром, настолько маленьким, что платить хоть кому-то лишнему было бы слишком дорогим удовольствием: всегда можно найти какого-нибудь студента, который за возможность пройти на концерт полчаса постоит на входе.
– Я должен сам встречать свою публику, – говорит Чарли хозяину клуба перед очередным выступлением, и, в общем, почти не врет.
Действительно, лучше встречать самому. Иначе запросто проглядишь, сломаешь статистику, бегай потом, ищи, переживай. Ну его. Лучше приехать пораньше, проверить инструмент, настроить звук, погонять чаи с бессменным звукачом Ленни, с которым знакомы уже три тысячи лет, порассуждать на философские темы с новеньким, но вполне толковым барменом, ожидая, пока начнет подтягиваться народ, а потом планомерно проверять одного за другим.
Лето, как и любой «широко известный в узких кругах», Чарли проводит на фестивалях, привозя с них в осенний город солнце, воздух и способность жить дальше, которой готов делиться. Городской же сезон он всегда открывает в последний день октября и всегда здесь.
– Ну наконец-то! Привет! – верная поклонница и давно уже подруга Гвен с разбегу повисает на шее, верещит что-то восторженное и только потом, успокоившись, протягивает заранее купленный билет, чтобы Чарли оторвал от него полосочку со словом «контроль». – Что-то я в этот раз еле-еле тебя дождалась. Долго ты.
– Это не я, это время, – без смешка отвечает Чарли.
Время нынешней осенью и правда идет очень трудно, еле-еле успеваешь в нем не теряться, да и то нельзя быть уверенным, что на самом деле успел, а не бежишь за ним, спотыкаясь и неумолимо отставая все больше и больше, а может и вовсе давно свернул не в ту сторону.
Зато чем труднее, тем легче пишется и тем больше можно принести тем, кто придет его слушать. Долгая вахта осенней ночи с песнями вместо сигнальных огней.
– Здравствуйте, – вежливо произносят за спиной, и Чарли, мгновенно навострив уши, тут же отправляет Гвен занимать столик. Потрепаться можно и после, сначала работа.
– Добрый вечер. У вас уже есть билет?
Гость, непробиваемо спокойный молодой мужчина, молча качает головой:
– Можно?
– Конечно. Сто пятьдесят.
Мужчина достает из кошелька сотенную купюру, долго копается в кармашке для мелочи, выуживая оттуда «десятки», толстые и золотистые, как из пиратского сундука. Последнюю монету, шестую, он достает из кармана брюк, завершая ей аккуратный столбик в ладони.
«Новенький», – понимает Чарли, принимая деньги. Верхнюю монету быстрым движением прячет в кулак, протягивает билет и кивает на зал, выбирайте, мол, место по вкусу. Поговорить пока не дадут – за спиной новенького уже маячит жизнерадостная физиономия горного эха по имени Гэри.
– Чааааа-а-а-арли! – грохочет обвал, и каменные глыбы, сметая все на своем пути, уносятся в пропасть.
– Привет, Гэри. Можно я не буду орать, как ты?
– Можно, – великодушно соглашается старый друг и протягивает горочку мелочи. – На вот тебе. Сдачи не надо.
– Сразу за прошлый год и за этот не выйдет. Пропустил – сам дурак.
– Ну Чарли, ну я же хочу в твой альбом!
– Ты пришел, значит, в этом году будешь. Не ной.
Одна из монет Гэри кочует из кулака в карман джинсов вслед за монетой новенького. Вторую такую же, с красивым диковинным реверсом, Чарли возвращает владельцу, остальное идет в кассу клуба.
Интересно, сколько их сегодня придет? В прошлом году было всего пятнадцать, и Чарли это изрядно пугало: с каждым годом все меньше. Черт с ней, с коллекцией, не в этом же дело. Дело в том, что не знать, почему они не приходят – страшно. Хорошо, если им это просто не нужно, потому что все складно. А если нет?..
Гэри на правах старожила шутить про альбом можно и даже нужно. Во-первых, его монет там уже больше десятка, а во-вторых, кроме прошлого года он не пропустил ни один. Много часов они просидели здесь же, за баром, после концертов и просто так, наперебой рассказывая свои и чужие истории о жизни без «той стороны». О том, кто как адаптируется и в чем находит себя, о тех, кто, разочаровавшись, уходит обратно. Таких на удивление почти не было до последнего времени, но, судя по тому, что некоторые куда-то запропастились, Чарли предстоит узнать много нового.
«Нового»! Точно, надо новенького порасспросить!»
Не сейчас, а уже потом, после концерта. Обычно те, кто приходит с монетой впервые, сами остаются поговорить.
В итоге из полного зала их всего восемнадцать. Лучше, чем в прошлом году, но намного меньше, чем, например, пять лет назад. Чарли бережно прячет монеты в карман гитарного кофра, к альбому, в котором их нужно будет вечером разложить по специальным ячейкам. Все подписать, подвести статистику, решить, кого уже нужно искать, а кого лучше пока не дергать. Иногда они не приходят просто потому, что опекун им больше не нужен, а дружбы не получилось. Чарли таким раскладом тоже вполне доволен: знать бы только наверняка, что все хорошо, а там можно скучать, сколько душе угодно, тихо, в углу, с бутылкой, гитарой или кем-нибудь из старинных друзей. Дело сделано, а уж если успел привязаться – это только твои проблемы.
Чарли глубоко вздыхает, запирает карман кофра на маленький замочек с кодом, зацепив его за сходящиеся бегунки молнии, и поднимается на сцену – крохотный помост в торце зала. Гитара, голос и очень тяжелое время – вот и все, что на самом деле у него есть. На сегодня, на полторы сотни горящих осенних сердец и, наверное, навсегда, но об этом совсем не обязательно думать прямо сейчас. Успеется.
* * *
– Скажи-ка мне, друг Йоханнес, а не знаешь ли ты, где у нас второй год пропадает Юджин?
Йоханнес, щуплый белобрысый буран на целую голову ниже Чарли, морщится и отхлебывает темного нефильтрованного из прозрачной кружки.
– Давай в другой раз, ладно? Я к тебе загляну через пару дней, тогда поболтаем, а сегодня здесь слишком людно.
Чарли кивает, усилием воли сдержав ехидный смешок: мрачные друзья поопасней врагов, лучше сейчас не лезть.
Йоханнес пришел к Чарли одним из первых. В тот вечер Чарли лениво попивал пиво за маленькой конторкой у входа в клуб, не рассчитывая на наплыв желающих послушать его еще никому не известную музыку. И билетера ему не предлагали, и вообще еле-еле терпели странного парня с пронзительным голосом, наводящим тоску и непонятную трескучую боль. Все, кроме хозяина заведения, который лично откопал пару выложенных в Сеть треков и пригласил «молодого и подающего надежды музыканта» в «молодой и подающий надежды клуб» играть время от времени концерты. «Вам для опыта, а мне для оживления обстановки». На том и сошлись. Уже потом грузный солидный Ник честно признался, что, случайно послушав одну из песен, впервые за долгое время сумел заплакать. «Мне это было так нужно, ты даже не представляешь, – говорил он, сильно нетрезвый, раскрасневшийся, отозвав Чарли в сторону после того первого выступления. – И сейчас я стоял в дверях, слушал и понимал, что наконец-то снова живой. Оставайся здесь, сколько захочешь, играй, что хочешь, только играй».
И Чарли играл.
Реверсом монеты Йоханнеса был волк, спящий в сугробе. Шерсть запорошена снегом, приоткрытые глаза смотрят внимательно и не очень-то добро, Чарли даже пробила дрожь. И тут же пробила еще раз, когда он разглядел эти глаза на сосредоточенном бледном лице нового гостя. Горло в тот вечер то и дело перехватывало промозглым осенним страхом, впрочем, это быстро прошло: объяснять Йоханнес умеет, как мало кто.
– Ты, значится, и есть новый Чарли?
Растерянный взгляд. Монета в кулаке раскаляется с каждым словом. Не нашел, что ответить, промямлил:
– Я Чарли, да.
– Наш? Новый? Чарли?
Все, что собирался сказать, очень больно прикусил вместе с кончиком языка.
– Понятно. И альбом тебе, конечно же, еще не отдали.
– Альбом?
– Да откуда ж вы все на мою голову, а? Сейчас вернусь, – пробурчал сердце бурана и хлопнул входной дверью так, что в баре звякнули друг о друга стаканы на полках.
Вернулся почти что сразу, протянул Чарли толстый альбом в переплете из коричневой кожи, громоздкий и ужасно тяжелый. Молча поднял брови: ну давай, открывай, мол, чего ты ждешь?
Держать альбом на весу было трудно, так что Чарли положил его на конторку с билетами и только после этого осторожно открыл на первой странице.
Там были монеты, совсем такие же, как та, что принес ему сегодня Йоханнес, а до него – еще несколько не менее странных гостей. Реверсы у всех монет разные: согнутое ураганом дерево, снежный барс, высокая штормовая волна, веточка земляники с россыпью мелких ягод, отпечаток медвежьей лапы, горящая ветка…
Рассматривая один разворот за другим, Чарли заметил, что время от времени на страницах попадаются метки из четырех цифр каждая. Самая первая – «1853», дальше – по нарастающей. Еще через несколько разворотов до него дошло, что это даты. Чарли растерянно пялился на первую незаполненную страницу, силясь понять, который из роящихся в голове вопросов следует задать первым, и в результате просто молчал.
А Йоханнес ждать не любил, иначе какой это был бы Йоханнес.
– Кулак разожми, – вкрадчивым голосом подсказал он, даже не пытаясь спрятать насмешку.
На ладони Чарли в сугробе лежал очень недобрый волк.
«Сердце бурана». А ведь это знание возникло из ниоткуда, стоило только посмотреть на беловолосого угловатого парня, полного ярости и демонстративного превосходства.
«Наш новый Чарли».
В голове всплыло школьное увлечение книжками про путешествия, плаванья, паруса и все, что имело хоть какое-нибудь отношение к морскому делу. Чарли тогда очень гордился, что среди сигналов, подающихся с помощью флажков, существует даже один, названный его именем: «November Charlie». Сигнал бедствия. Моряком так и не стал, хотя очень мечтал лет в тринадцать, но кто бы подумал, что кое-что из восхитительной чуши, накрепко застревающей в мальчишеской голове, может так неожиданно пригодиться.
Йоханнес ждет. Чарли смотрит на него, на монету. Дрожащей рукой, едва не уронив, вставляет золотистый кругляшок в первую пустую ячейку, снова смотрит на гостя. Тот ободряюще улыбается, и от этой улыбки Чарли снова становится не по себе.
– Год не забудь подписать, – скалится Йоханнес, явно довольный произведенным эффектом. – Остальное, так и быть, объясню уже после, а то ты такими темпами вообще ничего не сыграешь.
Язвительный смешок, острый взгляд, щуплая фигура у барной стойки. Весь концерт Чарли чудилось, что Йоханнес по-волчьи водит ушами, внимательно слушая каждое слово, хоть и делает вид, что песни его совершенно не интересуют.
«Объясню уже после» затянулось почти на всю ночь.
– Тот Чарли, что был до тебя, был поэтом. Стихи свои читал то тут, то там, и обязательно каждый год в последний день октября. Еще до него был художник, выставки делал. Того, что был до художника, я лично не знал, не было меня тогда еще тут, но говорят, что тоже музыку делал, как ты.
Альбом, как оказалось, Йоханнес забрал из какого-то тайника, где его оставил предыдущий Чарли, «будучи уже стариком, не способным на эту работу».
– Какая работа? А очень простая…
Пауза, до краев наполненная невыносимым ожиданием «нового» Чарли и кромешным ехидством Йоханнеса. К чести Чарли нужно сказать, что после той ночи он быстро научился отвечать на насмешки, чему скучающий дух был несказанно рад.
Работа и впрямь была легче легкого: живи себе, гори своим сердцем, как огнем в маяке, и раз в год в предназначенный для этого день появляйся где-нибудь так, чтобы к тебе можно было прийти и отдать монету. Вот, например, выступай.
– Хозяин-то здешний тоже из наших, – почти неслышно шепчет Йоханнес, стукнув кружкой по барной стойке, – только никогда не признается. Да он уже и сам забыл, так, осколки памяти бродят внутри, то тут кольнут, то там, пустят парочку алых струек, чтобы совсем не закаменел, и хватит с него. Ты не думай, он сам это выбрал. Хотел стать человеком – ну вот и стал. Вроде бы все у него хорошо, как считаешь?
Чарли внимательно вгляделся в Ника, сидящего за столиком на другом конце зала и хмурящегося в ноутбук. «Да, пожалуй, совсем человек, и все с ним в порядке. Интересно, откуда я…»
– Ты же Чарли. Конечно, ты знаешь. Именно за этим и нужен.
Чарли хотел было возразить, что вообще-то он нужен совсем за другим, но сказать оказалось нечего. Йоханнес с нескрываемым удовольствием понаблюдал растерянность на его лице, но потом смягчился.
– Та сторона выбирает тех, кто нужнее всего, просто не людям.
Несколько громких ударов сердца, пара секунд мрачного торжества, цепкий взгляд, виноватый вздох. Почти не пугающая улыбка.
– Ладно, ладно: не только им.
Что такое «та сторона», Чарли так и не объяснили, но через время он понял сам. По громогласному Гэри с его острыми, как скалы, словами и постоянному ощущению, что рядом с ним ходишь по краю, по холодному гневу в каждом взгляде Йоханнеса, по почти видимому огню на ладонях еще одного близко знакомого духа по имени Юджин…
Когда у Чарли появился альбом, его квартира тут же превратилась в проходной двор. Не бывало почти ни одного вечера, чтобы кто-нибудь новый не пришел познакомиться или кто-нибудь старый – поговорить. Свою роль во всем этом Чарли понял довольно быстро: он – что-то вроде смотрителя в заповеднике, с той лишь разницей, что выйти за пределы огороженной территории не может он, а не его подопечные. А им он нужен как раз для того, чтобы было с кем перекинуться парой слов, раз уж их все равно сюда занесло. Одни нарочно приходят, решив, что в человеческом мире им заживется лучше: чаще всего приживаются и остаются, иногда – ненавидят все вокруг, но не уходят, потому что дома совсем надоело. Обратно уходят редко, но и это бывает. Впрочем, случается, что демоны, духи и чудовища всех мастей попадают сюда случайно, чаще всего под конец октября, в самое зыбкое и ненадежное время. Не знают потом, как попасть обратно, мечутся, рычат на всех от отчаяния и обиды, и вот их-то прежде всего и должен отслеживать Чарли. Их тянет к нему как магнитом. Иногда обезумевших до такой степени, что, прежде чем разговаривать, приходится долго приводить в чувство хрупкую человеческую скорлупку, в которую для удобства обращается каждый переходящий. «И хорошо, что так», – с содроганием думал Чарли, слушая самый первый рассказ Йоханнеса и представляя, как ему пришлось бы успокаивать не человека, каким бы сильным он ни был, а, скажем, лесной пожар. Или солнечное затмение, или морскую ведьму.
Нужен тот, кто побудет рядом, к кому можно прийти с проблемами и новостями, эдакий мастер по адаптации и лучший друг в одном и том же лице. А если кто-нибудь очень нужен, он неизбежно так или иначе случится, и это не обязательно будет его добровольный выбор, но обязательно – единственно верный на данный момент.
Для удобства и учета у смотрителя есть альбом, переходящий от одного к другому, а у всех приходящих – монеты. Реверс у каждого свой, так что очень легко отслеживать, кто появляется каждый год и, соответственно, не нуждается в помощи больше, чем сам говорит, приходя, а кто так давно запропал, что пора бы проверить, все ли в порядке.
Еще в последние несколько лет работы предыдущего Чарли монет с каждым разом становилось все меньше и меньше.
– Тяжело становится, – мрачно вздохнул Юджин в тот последний раз, когда Чарли довелось его видеть. – Сам не пойму почему. То ли с людьми что-то не то, то ли с нами… Знаешь, как будто сбился какой-то необходимый ритм, и все пытаешься поймать его заново, но не выходит. Если бы я был человеком, сказал бы, что мир катится в тартарары. Но я родом почти что оттуда и знаю, что там его нет. Да и дома, говорят, тоже в последнее время не очень. Все притихли и ждут, сами не знают, чего.
Чарли тоже слышал, с каждым разом все четче. Слышал и тревожился: как там «его чудовища», все ли у них хорошо? Те, кто больше не может здесь, но не желает или не способен уйти, запросто исчезают в ничто, если вовремя не окажешься рядом. О том же, чтобы помочь кому-то вернуться обратно, Йоханнес, старожил среди местных, запретил даже думать.
– Ты человек, так что не лезь. Ничего не сделаешь, только сам зазря пропадешь, и с кем я тогда буду пить?
Нельзя сказать, что с людьми у Чарли совсем не сложилось. Вот Гвен, например, всегда ему рада, время от времени тащит пить кофе или смотреть кино. Есть коллеги-музыканты, есть, в конце концов, родители, которые давно отчаялись женить непутевого сына, но все равно любят его «таким, какой есть»: «неустроенным» «непонятным» «бродягой», целое лето пропадающим «черт знает где» и целую зиму «толкущимся» в «каких-то разнузданных кабаках». Про «разнузданный кабак» Чарли как-то в поисках сочувствия рассказал Нику, и тот пришел от комплимента в такой восторг, что чуть не заменил на него невыразительное «музыкальный клуб» везде, где только возможно. Насилу отговорили, хотя, кажется, на одном из меню очень мелкими буквами он это все-таки написал.
* * *
Отыграв концерт и дождавшись, когда публика разойдется (что-то много в последнее время стало людей; то ли забывшие вроде Ника, то ли и родившимся по эту сторону начинает становиться тревожно), Чарли подсаживается за столик к невозмутимому новенькому.
– Спасибо. Мне стало намного спокойнее.
Темно-серые глаза, волосы цвета позолоченной рассветом дымки, спокойный текучий голос: сама безмятежность. Сложно вообразить, что такой и вообще умеет переживать.
Нил, густой осенний туман. Ушел, потому что дома стало невыносимо.
– Знаешь, как будто все время куда-то гонят. Там, конечно, и вообще совсем не так спокойно, как здесь, все постоянно меняется, перетекает одно в другое. Не знаю, как правильно объяснить это человеку…
Нил морщит лоб, подбирая слова.
– Не объясняй, ничего не получится. Ты не первый, кто пробует.
– Да? Тогда хорошо, потому что я все равно не знаю, как это сказать. Так вот, может, это только у нас так, но я решил посмотреть, что происходит здесь. Говорят, некоторые бывают здесь счастливее, так, может быть, и я тоже?..
– Конечно, может, – улыбается Чарли. – Можешь пока пожить у меня, если хочешь, а когда освоишься, придумаем, чем тебе заниматься. Познакомлю тебя кое с кем. Один из старожилов у нас тут недалеко в музыкальном магазине работает, другой занимается системами противопожарной безопасности, один даже ведет программу на радио… В общем, найдем тебе дело по вкусу, в человеческом мире без этого скучновато, хотя и не всем. Со временем сам разберешься.
– Хорошо. Я тогда пойду еще поброжу, посмотрю, что к чему, ладно? Перед рассветом к тебе загляну. Или ты будешь спать?
Надо же, какой спокойный и самостоятельный, все бы так. Чарли улыбается, представив, как в дверь ему в пять утра звонит сонный туман, и где-то внутри разливается то самое тепло, которое «а вот теперь наконец-то все правильно».
– Очень постараюсь дождаться.
* * *
В просторной подсобке, заменяющей в том числе и гримерную, Чарли выставляет на замке цифры кода и достает альбом. Восемнадцать новых монет занимают свои места в прозрачных ячейках пластиковых страниц. На три больше, чем в прошлом году: один новенький и еще двое давно не ходивших. Неплохо. Только Юджина снова нет, и это Чарли беспокоит уже серьезно.
Многие появляются только раз в год, чтобы напомнить о себе, переброситься парой слов с остальными и снова пропасть по своим делам. Это обычно те, кто легко прижился среди людей и таким вот нехитрым и ни к чему не обязывающим способом поддерживает связь с «домом», просто на всякий случай, мало ли что. Так люди раз в год посещают какое-нибудь большое семейное сборище: семья же, надо хоть иногда отмечаться, мол, я где-то тут. Вроде бы.
Юджин же до недавнего времени принадлежал к тем, кого Чарли мог в любой момент обнаружить у себя дома читающим книжку из обширной библиотеки или попивающим пиво во время очередного концерта, которых «в сезон» у него случалось немало.
«Надо бы все-таки его поискать».
Достав из позапрошлого года монету с горящей веткой, Чарли убирает альбом, вешает замок и взваливает кофр на плечо. «Какой же он тяжеленный! Давно пора для альбома отдельный рюкзак завести, еще ведь в прошлом году собирался…» Прощается, выходит в уже откровенно морозную ночь и зажимает монету Юджина в кулаке.
«Ты очень мне нужен».
Тишина.
Обычно, когда зовешь хозяина монеты, в течение пары минут понимаешь, куда тебе нужно пойти, чтобы его обнаружить. Может привести и на другой конец города, и вообще черти куда, но вне зависимости от расстояния направление всегда очевидно.
– Ты не Юджина ищешь? – Йоханнес застал сосредоточенного Чарли настолько врасплох, что тот вздрогнул и выронил монету. – Так он еще в прошлом году исчез.
Юджин, дух кострового пламени, вечные метания между правдой и правдой. «А может, домой? Или остаться? Кажется, никому я здесь, кроме тебя, не нужен. А там, наверное, и совсем никому». Сколько ночей они пробродили по всем окрестным лесам, сколько костров Юджин зажег от руки, чтобы согреть озябшего друга. Чарли давно задавался вопросом, есть ли разница между умершим духом и умершим человеком. Теперь он знает ответ: техническая может и есть, хотя бы в том, что совсем ничего не осталось, а вот моральной лично для него – никакой.
– Почему ты ничего не сказал? Я же спрашивал.
– Не хотелось тебя расстраивать.
Йоханнес впервые не смотрит Чарли в глаза. Не насмехается, не язвит. Йоханнес стоит, сжав кулаки, и молчит.
Дружить с теми, кто не похож на людей, по большей части намного проще. Им не нужно объяснять, что ты чувствуешь – они и сами все видят, и часто лучше, чем можешь увидеть ты сам. Они не знают, что может быть «уместно» и «неуместно», «прилично» и «неприлично», «вовремя» и «невовремя». Со временем учатся различать и учитывать, но, если знают, что тебе это так же не важно, как им, чувствуют себя только лучше. Один минус: они совсем не принимают человеческой привычки по кому-то скучать.
– Понятно.
Чарли подбирает монету, прячет ее в карман и не садится в как раз подошедший автобус, рассудив, что сорок минут пешком по морозу – ровно то, что ему сейчас нужно, чтобы прийти в себя.
Смотритель не принимает решений. Его задача – адаптировать и потом раз в год проверять, все ли в порядке и не нужна ли какая-то помощь. Все решения подопечные принимают сами, и они вполне вольны исчезать навсегда, если им так захотелось, молча и без объяснений.
– Зачем тебе друг, от которого не получается радости? – спросил как-то Юджин, выслушав долгую и пространную жалобу Чарли на давнего школьного друга, который чем-то обидел по мелочи, уже и не вспомнить, чем.
– Не всегда же не получается. А люблю я его всегда.
Явно не согласившийся Юджин пожал плечами, но ничего не ответил, чтобы не спорить. Знал, что спорить Чарли не любит, а любит он книжки, костры и долгие ночные прогулки. А еще лошадей и собак. А еще смотреть на летние звезды с балкона. А еще… Надо же, сколько всего про него знал этот странный друг, простая чистая сила огня и света. Как пришел, так и ушел, даже ничего не сказав. Что же, наверное, имея дело с чудовищами, нужно просто это учитывать. Даже музыка может уйти, что уж тут говорить обо всех остальных.
– Спасибо, что был со мной, – шепчет Чарли, прежде чем скрыться в подъезде. Будто бы где-то в этой ночи кто-то может его услышать. Хотя в этой – в этой, пожалуй, да.
* * *
Туман собирается за окном девятого этажа ближе к рассвету. Вежливо ожидает, что его впустят, пытается постучаться, чертыхается и пролезает в приоткрытую форточку.
Чарли уснул прямо там, где упал «полежать всего пару минут»: на краю дивана, в неудобной позе, в обнимку с тяжелым гитарным кофром. Йоханнес, всего на мгновение раньше Нила просочившийся через дверь, уже накрыл Чарли одеялом и теперь пытается осторожно приподнять его голову, чтобы просунуть подушку.
– Вроде не разбудил, – шепотом произносит он, выдыхая. – Надо бы последить за ним какое-то время. Совсем умотался, бедняга.
– Да уж. Значит, завтра приду пораньше.
– Ага, и я тоже.
Александра Зволинская Клуб любителей жить
– Когда я сплю, мой ангел-хранитель играет на банджо, – сказала Бет в их самую первую встречу и изменила мир навсегда.
Ник потом долго расспрашивал: почему именно банджо? Странный все-таки инструмент для ангела, ему бы что повозвышенней – арфу там, флейту. На худой конец, гитару. Благородное что-нибудь.
– Банджо, – торжественно заявила Бет и отправилась доставать из серванта парадные чашки. – Потому что ему так нравится. И мне нравится. Если стану ангелом, обязательно тоже буду.
Когда Ник впервые попал в гости к Бет, она еще ходила сама.
Ленни привел его тогда практически за руку. Грузного, неопрятного, с потухшими глазами – развод, пустой дом, зима. Жить не хочется, хочется провалиться, куда – не суть важно.
– О, – присвистнул Ленни, с которым они тогда вместе играли легонький рок в любительской группе. – Ну-ка идем-ка, хочу тебе кое-что показать.
Дальше был контрольный звонок:
– Бет, к тебе можно? Да, у меня тут… Ну, как всегда. Да нигде не беру, сами приходят. Не иначе как тебя ищут, – усмехается, на несколько секунд замолкает. Смеется в голос, добавляет: – Да, сока прихвачу, а чего еще? Да, да, хорошо. Жди минут через сорок.
Ник ожидал увидеть кого угодно: девушку Ленни, какую-нибудь красотку, небесплатно утешающую пропащих, психотерапевта, гадалку, в конце концов. Но не это.
* * *
В квартире у Бет пахло цветами, в меру сладко, совсем не навязчиво. Очень легко.
Здесь и вообще все было легко, особенно сама Бет.
При росте метр пятьдесят пять и фигуре, крайне далекой от худобы, Бет умудрялась буквально летать по дому, почти не касаясь пола. Никаких шаркающих тапочек и тяжелых шагов, а чьи это костыли пристроены за дверью в прихожей так, чтобы их почти невозможно было заметить? Да кто же их знает. Точно не ее, факт. Все, что здесь есть тяжелого, – не ее.
– А вот его ангел, – Бет тыкает пальцем в Ленни, – предпочитает играть на трубе. Очень по-ангельски, ты доволен?
Ник оторопело кивает. Ленни заливается краской. Бет снимает с плиты засвистевший чайник.
– Бет, ну не так же сразу. Первое правило клуба, забыла?
– Никому не рассказывай, – смеется Бет, не сводя с Ника глаз. – Не забыла, конечно, но для чего бы еще были правила, если не для того, чтобы их нарушать?
И в этом вся Бет.
Ей семьдесят девять, и ее тело, очень долго державшее оборону, начинает сдаваться. Врачи говорят, возраст, сколько же можно летать? Бет говорит, что еще полетает, и провожает любой самолет жалобным взглядом, который никто не увидит, потому что, обернувшись, Бет опять улыбнется.
В пилоты Бет так и не взяли, хотя она очень хотела. Спохватилась поздно, ближе к пятидесяти, и, конечно, не прошла медкомиссию. Но обожала летать пассажиром, не пропускала ни одного летящего над ней самолета и время от времени звонила Майку, не без влияния ее беззаветной любви ставшему профессиональным пилотом. Майки, мол, возьмешь меня посмотреть? И Майки выпрашивал для нее пропуск на летное поле. Бет могла часами наблюдать, как прилетают, грузятся и улетают самолеты, пока Майк, бывший двоечник и балбес, любивший только Бет и ее уроки литературы, не приходил извиняющимся тоном сообщить, что начальство просит его убрать наконец с поля постороннюю тетку. Мол, погуляла и хватит.
– Значит, и правда хватит, – легко соглашается Бет, что-то тихонько шепчет и уходит следом за Майком.
Пока они едут домой, у Бет четырежды звонит телефон, и под дверью квартиры ее уже ждут: бывшие старшеклассники, давно уже здоровые лбы, а то и взрослые дядьки, их девушки, их друзья, их случайные встречные, которых почему-то невозможно стало не привести. Каждый день обязательно кто-нибудь явится и будет рассказывать.
Они сталкиваются друг с другом в дверях, невольно знакомятся, и в следующий раз некоторые приходят вместе. Или кивают друг другу, добрыми соседями расходясь каждый по своему делу. Их много, и когда-то в шутку они начали называть себя «клубом любителей Бет».
– Давайте, если уж так, у нас будет «клуб любителей жить», а? Мне как-то неловко, а так, по-моему, будет намного лучше.
Возражений ни у кого не нашлось.
– Первое правило клуба – не рассказывать ничего о клубе, – снова смеется Бет. – А то на вас, троглодитов, чаю не напасешься.
Бет смеется всегда. Что совершенно не мешает ей пятьдесят с лишним лет быть строгой «училкой», требовательно влюбленной в слова и учеников. Ее дети неизменно делятся на два лагеря: те, кто боится Бет, как огня, придумывая обидные прозвища, но не смея произносить их громче, чем шепотом, и те, кто, закончив школу, начинают ходить к ней домой. Майки вон, пока учился в летном, забегал чуть ли не каждый день, благо, жил совсем рядом. Приходил уставший, понурый, сонный, рассказывал, что тяжело, что, наверно, ошибся, что не потянет. Бет гладила его по голове невесомой рукой и говорила, что пятиклашки сегодня нарисовали ей на классной доске огромный самолет. Нескладный, конечно, зато совершенно как настоящий, и Бет не удержалась: подрисовала в окошке кабины его, Майка, лопоухий анфас.
– Может, так тебе станет полегче.
Бет смотрит в окно на набирающий высоту самолет – до аэропорта от ее дома не так чтобы недалеко, но уже хватает. Майк смотрит на Бет, на ее морщины, на стопку тетрадей с диктантами на подоконнике, и запоминает этот момент навсегда. Чтобы, когда снова захочется ныть и жаловаться, что ничего не имеет смысла, вспоминать свой собственный самолет, нарисованный в кабинете у Бет, и ее стареющее лицо, всегда обращенное к небу.
* * *
Второе правило клуба гласит: к Бет следует обращаться на «ты». Поэтому школьников в клуб не берут, это для Бет закон.
– В школе я прежде всего учитель, поэтому никаких приглашений в гости, никаких фамильярностей – для всего этого у тех, кто захочет, найдется время потом. И вот потом, – ехидно добавляет она, – я с удовольствием наблюдаю, как все вы пытаетесь мне не выкать.
После того раза Ник увязывался за Ленни, как только мог. Он требовал водить его к Бет при любой возможности, изо всех сил цеплялся за дом, от которого опять захотел жить. Рассказывал Бет про жену, которую любил без памяти и которая бросила его через десять лет просто потому, что ей надоело. Про работу, где он довольно серьезный начальник, «все-таки уже тридцать пять»… На этом месте Бет иронически хмыкнула, а Ник покраснел до ушей и больше никогда не заговаривал про свой «солидный» возраст или про то, что ему что-нибудь поздно.
Еще он рассказывал про музыку и про их с Ленни группу, которая хоть и выступала хорошо если три раза в год, но была для обоих отдушиной.
– И чего я тогда музыку бросил, дурак? Если честно, даже не помню. Сначала родители надавили, потом жена квартиру побольше хотела – наверное, так? Все как-то смутно. Помню, что когда-то играл, а потом перестал. Деньги, видимо, пошел зарабатывать. Ну вот, заработал. Лежат. Дальше что? – сокрушался Ник, наблюдая, как Ленни помогает Бет сортировать в очередной раз перемешавшиеся на полках книги. Придет кто-нибудь, попросит что-нибудь почитать, и после него так повторится еще двадцать раз, а возвращая, книгу поставят куда придется, потому что так и так уже все перепуталось. Беспорядок в библиотеке быстро выводит Бет из себя, вот и приходится раз в иногда браться за сортировку.
– Но потом же вернулся.
Берет очередной том, листает, и на лице у нее такое спокойствие, что вдруг откуда-то знаешь: все хорошо. Ну правда, я же вернулся.
Вернулся.
– Ага, только мне теперь наверстывать и наверстывать, пальцы как деревянные стали.
– Ну уж, – хмыкает Ленни, звукач, басист и зануда. – Нормально у тебя все. Могло бы быть лучше, но в целом вполне.
Ник неопределенно вздыхает.
– Что? – тут же откликается Бет. – Третье правило клуба – рассказывай. Все свои.
– Да я вот все думаю…
– М?
Книжная пыль золотится в солнечном свете, заливающем комнату. У Бет, как всегда, пахнет цветами, которые ей все время приносят. Цветы, книги, фрукты, хороший кофе, привезенный со всех концов света, снова книги, конфеты, фрукты, цветы. Некоторые девчонки умудряются даже дарить Бет одежду: то на блошином рынке Парижа найдется идеальная шляпа, то где-нибудь в Лиссабоне, в крохотном магазинчике на холме обнаружится винтажное платье, то в секонде прямо около дома «случайно увидела шаль, ровно такую, как ты искала. Не смогла пройти мимо, это же для тебя, примерь!» И обе они, пожилая и юная, одинаково захихикав, запираются в спальне у Бет, примеряя то или это, радуясь, что очередной причудливый фрагмент мирового пазла попал в нужное для него место – одна подарила радость, другая ее приняла. Мир изменился к лучшему, все довольны.
– Да у меня один коллега уже полгода пытается сдать помещение под музыкальный клуб. Маленькое и в неудобном месте, очень дешево, но…
Бет и Ленни смотрят на него с выражением, которое вокалист их группы обычно называет «растяжением брови»: и что, мол, ты еще думаешь?! У каждого в руках по открытой книге, а в волосах солнечные зайцы, и Ник ясно слышит, как из этих пяти мгновений молчания прямо здесь и сейчас заново рождается его сердце.
– Понял, да?
– Понял, – кивает Ник. Хмурится, вспоминая, а вспомнив, назидательно поднимает указательный палец и произносит так, чтобы получилось как можно больше похоже на Бет. – Четвертое правило клуба – не упусти.
* * *
– Помнишь, я к тебе как-то приводила свою подругу Мэгги? – спрашивает Шарлотта, усаживаясь на край кровати.
Бет может только кивнуть, и то через силу.
У нее ничего не болит, ее ничего не тревожит, просто с каждым днем ей все меньше нужно дышать. Полгода назад ее мягко выставили из школы: сколько можно, мол, пора уже на покой. Живите в свое удовольствие, отдыхайте, еле ходите, мол, вон как устали. От покоя у Бет окончательно отказали ноги, и в доме ее вместо цветов поселилась настырная липкая тяжесть. Всем желающим зайти в гости Бет говорила, что со дня на день уезжает жить в санаторий. «Собираюсь, ни до чего. Вернусь месяца через три, тогда заходите».
Правду знала только Шарлотта, двоюродная сестра на пятнадцать лет младше Бет, единственная родня. С мужем и детьми у Бет не сложилось, был ранний брак, но продержался недолго. Родных братьев и сестер тоже нет, только маленькая Шарлотта, храбрая и седая, одна за всех.
– Так вот Мэгги недавно переехала к морю и просила тебе его показать.
Шарлотта достает смартфон и начинает размазывать по нему воздух. Она на удивление легко освоила технологии, от которых Бет наотрез отказалась, еле уговорили на самый простой мобильник. В смартфоне Шарлотты начинает странно гудеть, и перед глазами Бет расстилается море. Видеозапись с дурацким шипящим звуком и какими-то возгласами на фоне, которые не получается разобрать.
Но – море. Бет и забыла, что где-то очень далеко от нее оно все еще есть.
– Мэг просит передать, что каждый вечер ходит сидеть у моря и думает о тебе. Я ей сказала, что у тебя не очень… – Шарлотта осекается под тяжелым взглядом: зачем ты кому-то что-то сказала?!
Бет отворачивается и снова смотрит на море. Море смотрит на Бет. Где-то очень далеко Мэг становится легче.
«Закрой глаза и дыши. А теперь открой и останься», – когда-то сказала Бет, когда Мэг плакала, сидя у нее на кухне и рассказывая, что жизнь закончилась. Потеряла работу, рассорилась с сыном так, что он хлопнул дверью и уже три дня прячется по друзьям. «И ничего уже не исправить, и все бессмысленно, и…»
– Закрой глаза и дыши, – мягко сказала Бет, взяв Мэгги за руку. Рука у нее была невесомой и теплой, и Мэг обнаружила, что действительно может дышать. Не срываться на крик, не захлебываться слезами. Просто дышать. – Ты сейчас пытаешься думать, а ты не думай. Дыши и не уходи. Ты здесь.
– Я здесь, – не открывая глаз, повторяет Мэг и начинает различать звуки. Вот на плите у Бет закипает суп, вот оглушительно колотится сердце. С улицы слышно, как дворник сгребает лопатой снег и лопата скребет по асфальту. Воображение сразу рисует темный заснеженный двор, полный приглушенного собачьего лая, и чьи-то уверенные шаги, наверняка под веселую песню в плеере, и щекочущий холод снежинок, приземлившихся на носу.
– А теперь открой и останься.
Мэг открывает глаза и смотрит в окно: так все и есть. Темнота, полные улицы снега, уютно до легкого звона в ушах, такого, про который знаешь, что он оттого, что все тихо и правильно.
Когда она сломя голову бежала сюда, ничего этого не было.
– Он же тогда вернулся? – спрашивает Бет у Шарлотты, не отводя глаз от моря.
– Кто?
– Ее сын.
– Э, – пауза, выдох, пауза. – А, да, конечно. Вернулся, и все у них давно уже хорошо. Переехал вот к морю и Мэгги с собой забрал, такой молодец.
Прямо сейчас где-то на берегу теплого моря улыбается Мэг. Бет возвращает сестре смартфон и тянется за своим телефоном, который зазвонил две секунды назад. Не глядя на экран, жмет на зеленую кнопку.
– Привет! – радостно орет в трубке Ник. – Как ты там, как санаторий? Я вот прохожу мимо твоего дома, смотрю, у тебя свет горит. Ты уже вернулась?
– Вернулась, – отвечает Бет охрипшим от долгого молчания голосом. – Заходи, если хочешь. Только к чаю чего-нибудь прихвати, у меня пусто.
Шарлотта, хмыкнув, идет ставить чайник и заодно набирать сообщение Мэг, долго и вдумчиво. На ходу, как это сейчас принято, у нее не выходит: все-таки уже не девчонка.
* * *
До похорон они видели ее еще дважды.
Бет была почти такая же, как всегда, только все время лежала, и теперь уже им было в радость готовить ей чай. Все старательно делали вид, что ничего не случилось, и дом снова запах цветами и легкостью, почти такой, как была. Только Ник и Шарлотта на всякий случай обменялись телефонными номерами, ну так, мало ли, что.
– Мы на днях открываем клуб! – перебивая друг друга, рассказывают Ник с Ленни. – Если хочешь, давай что-нибудь придумаем, чтобы тебя отвезти. Машина есть, кресло найдем удобное, посадим тебя в уголке, посмотришь, как мы там все устроили… Знаешь какой крутой у нас будет первый концерт?!
Бет качает головой, «мальчишки» скисают, но вида не подают. Нельзя.
– Тогда устроим тебе интернет-трансляцию. Будешь смотреть прямо из дома!
Бет смеется, вспоминает море и соглашается.
– А назвали-то как?
– Ну-у-у… – загадочно тянет Ник. Его распирает от предвкушения, но для пущего эффекта нужно чуть-чуть потерпеть. – Вывеска еще не готова, вот-вот должны привезти. Когда установим, сфотографирую и покажу. Тебе понравится.
* * *
– Слушай, у меня чудовищно неуместный вопрос.
Стоять становится холодно, но уйти пока невозможно. Шарлотта кутается в любимую Бетину шаль и неслышно плачет.
– Давай.
– Помнишь, я присылал тебе фотографию с вывеской клуба. Ты успела?..
От слез у Ника смешно покраснел нос, и Шарлотта, не удержавшись, легонько хмыкает. Бет была бы рада даже такой улыбке.
– Ага. Она уже почти не разговаривала, но, кажется, поняла.
– Хорошо.
«Как же все-таки хорошо, что успели».
Ленни вынимает из кармана маленький томик стихов и кладет его на краешек камня.
– Хотел вот ей принести, только все забывал…
Вдох. Выдох. Пауза. Даже тех, кто прожил долгую и счастливую жизнь, ужасно тяжело отпускать.
Бет бы сейчас сказала, что он чертов эгоист и что, вместо того, чтобы ныть, пусть бы шел делать музыку. Вот ее ангел-хранитель играет на банджо каждую ночь, в этом деле без практики никуда.
– А мой, между прочим, на контрабасе, – неожиданно произносит Ник, ввязываясь в как никогда сейчас нужную перебранку. На плечо ему ложится окончательно невесомая ладонь, и он наклоняет голову, чтобы коснуться ее щекой. – И ничуть не хуже.
Ленни отвечает сдавленным всхлипом и, не в силах еще говорить, молча изображает себя играющим на трубе.
– Именно. Интересно, что получается, когда они собираются вместе? Я бы послушал.
* * *
Говорят, по ночам в клубе «Летящая Бет» едва различимо бренчат на банджо. Иногда – еще на трубе и, бывает, на контрабасе. Ник отмахивается, мол, не может такого быть, я всегда ухожу последним, и никаких ночных репетиций у нас отродясь не случалось, хотя время от времени кто-то из музыкантов просится, мол, ну что тебе, жалко?
– Не жалко, но я вас пасти не буду, я тоже человек, мне вообще-то спать надо. А без присмотра я сюда никого не пущу, и не просите.
Не говорить же, что ночное время под репетиции у них уже давно и накрепко занято. Первое правило клуба, да.
Александра Зволинская Сердце бурана
– Да чтоб тебя, – шепотом произносит Йоханнес в спину довольному покупателю.
Мальчишка полчаса гонял продавца-консультанта в лице Йоханнеса по магазину в поисках вроде бы одной конкретной композиции, но то и дело застывал с каким-нибудь диском в руках и начинал рассказывать, какие чудесные воспоминания у него связаны вот с этим треком, и вот с тем, «а под последний вообще…»
Йоханнес слушал, скрежетал зубами и изо всех сил пытался дать понять, что вообще-то он мизантроп, и на футболке у него нарисованы мозги и кровища специально для того, чтобы жизнерадостные идиоты держались как можно дальше. Но мальчишка был настолько непробиваем, что ничего не заметил. Нашел наконец, что искал, заодно прихватив еще пару дисков: «как послушаю, приду поделюсь впечатлениями».
– Да, конечно, – еле выжал из себя белый от ярости дух, пробил покупки и громко выдохнул под звон дверного колокольчика, означавший, что мальчишка наконец-то ушел.
Дышим. Дышим, еще дышим. Медленно и спокойно. Как там когда-то показывал Чарли?
* * *
К новому Чарли Йоханнес пришел со всем этим не сразу: прежде чем решиться, долго слушал его песни, на концертах и в записи, по кругу, до звона в ушах. Все пытался понять, что же такое в них есть, что одновременно тревожит, дает надежду и заставляет хотеть взлететь. И почему без музыки Чарли Йоханнес не испытывает это так ярко, а без музыки как таковой не испытывает вообще ничего, кроме привычной ярости и привычной же пустоты.
За музыкой он сюда когда-то и вышел. За простой человеческой музыкой.
Уже потом узнал, что в тот вечер синоптики не обещали метели, да и вообще ничего – сухой октябрьский мрак, уютное шуршание листьев и даже довольно тепло. Почему город вдруг накрыло злой короткой метелью, так никто и не понял – вроде было ясное небо. Вроде теплая осень, куда она вдруг вся подевалась?
Скрипач, игравший прямо посреди улицы, спрятался под козырек троллейбусной остановки и продолжал играть. Услышав шаги, не оборачиваясь, проговорил:
– И чего мне, дураку, не сиделось на месте? Решил вот побродить по городу, поиграть под окнами. Не иначе как трамваи зачаровать пытался. А тут этот снег, и пальцы мигом окоченели.
Он закончил музыкальную фразу, опустил инструмент и повернулся к собеседнику. Скрипач был стар, зрение у него давно ни к черту, и в молодом человеке рядом с собой он не заметил ничего особенного, разве что глаза сверкают, как два маяка, удивительным желтым светом. Но это фонарные отсветы или, может, у него самого в глазах зарябило от метели и холода.
Музыкант поежился, и метель тут же стихла: Йоханнес должен был сразу сообразить, что человеку холодно, но за растерянностью и восторгом не смог. Он стоял, не отводя глаз от волшебного старика, не зная, что за чудо он только что творил и зачем – неужели ради него? Да нет, не похоже, чтобы старик его ждал. Он был сам по себе, он и его чудесная песня.
Музыкант убрал скрипку в чехол, кивнул Йоханнесу на прощанье и двинулся прочь.
– Стойте! – человеческое тепло непривычно, человеческий голос щекочет горло – когда ты привык быть бураном, холодом, волком, все это очень странно, но разобраться можно будет потом. – Как вас найти?
Удивление, смешок. На полях сдвинутой на затылок шляпы звякает колокольчик.
– На Пестрой площади, молодой человек, там я чаще всего, особенно когда потеплее. Или просто по городу, как сегодня. Думаю, свидимся.
Старик приподнял шляпу, снова кивнул и двинулся дальше.
Йоханнес поборол желание обратиться в волка, далеко не уверенный, что сможет снова отыскать в себе человечье тепло. А раз именно оно привело его сюда, значит, стоит пока оставаться таким. Выяснить, куда он попал, как тут живут, почему выбирают такую хрупкую форму… и что значит «площадь».
* * *
Чарли нашел белобрысого новичка через полчаса: было тревожно, весь вечер кружил по городу в надежде попросту на него наткнуться, а не бежать спасать незнамо откуда потом, когда инстинкты «официально» забьют тревогу.
Так и вышло: под козырьком троллейбусной остановки в сугробе, который намело прямо поверх лавочки, сидел растерянный парень. Он не стучал зубами, не пытался согреться, просто сидел и смотрел в пространство перед собой удивительными желтыми глазами. Узкое лицо, круглый лоб, прямой холодный взгляд.
– Привет. Ты давно здесь?
– А?..
– Понятно.
Йоханнес смотрит на незнакомца и видит его стихию – тоже в каком-то смысле ветер, только совсем другой. Разноцветный. Странно – совсем не похож на давешнего волшебника, в котором была песня, но не было ничего знакомого: совсем человек. А от этого пахнет домом, хотя сам он скорее отсюда, чем нет. Ветер, который умеет жить здесь. Который родился здесь. Выходит, по эту сторону так тоже бывает?..
– Эй, ты меня слышишь?
Обеспокоенно заглядывает в лицо, пытается потянуть за руку. Волк внутри Йоханнеса рычит, но наружу этот рык удается не выпустить. Надо же, раньше он так не умел.
– А?..
– Идем, говорю. Тебе нужно много всего узнать.
Узнать? Да, пожалуй, узнать ему правда нужно.
– Что такое «площадь»? – спрашивает вдруг белобрысый, и Чарли видит, что это единственное, что его сейчас по-настоящему интересует. – «Пестрая площадь».
– Пестрая? Минут десять отсюда пешком.
– Минут? Десять?
Парень беспомощно моргает. Чарли вздыхает.
– Идем, я все расскажу. Зачем тебе Пестрая площадь?
– Человек унес туда песню.
«Мда. Это будет потрудней, чем обычно».
Чарли глубоко вдыхает, медленно опускает плечи и протягивает белобрысому руку. Волк внутри Йоханнеса пару секунд смотрит на протянутую ладонь, прикидывая, не лучше ли будет ее откусить, но тепло побеждает: если пойти с незнакомцем, есть надежда снова услышать песню. Совсем не такую, к каким он привык дома, совсем не то, о чем поют метели и волки. Совсем не про ярость и одиночество, а про что-то такое, чего у него до сих пор не было и с уходом песни нет снова. Но, кажется, это что-то можно будет найти.
* * *
Двое суток Чарли отвечал на вопросы. Еще двое – показывал. Йоханнеса интересовало абсолютно все, что было в квартире, включая стены, двери и окна, и особенно – старая лютня в черном чехле, про которую сам Чарли давно уже старался не думать.
– Это? Надо же, и где ты только ее откопал? – Йоханнес молча тыкает пальцем в сторону двери в кладовку. – Это музыкальный инструмент такой, на нем играл предыдущий Чарли. Мы с ним были друзьями…
О том, зачем нужны Чарли, Йоханнесу пришлось рассказывать четыре раза. Сначала он отказался слушать, потом – верить, потом пытался заново сложить хитроумный пазл, согласно которому выходило, что этот человек существует, чтобы кому-то помочь. Просто так. Зачем? Долго искал подвох, перерыл всю квартиру Чарли, часами гипнотизировал его из угла в надежде уловить какой-то обман.
Чарли только вздыхал, зная, что и правда почти невозможно понять, зачем. Сам он, например, так и не понял. Просто очень любил своего друга и то, что ему было важно. Может быть, все это просто идиотское совпадение, но в любом случае что-то менять уже поздно: сколько таких вот напуганных, ничего не понимающих, готовых наброситься перебывало в этой квартире, сколько раз он пересказывал им свою историю, историю Чарли, истории тех, кто приходил с той стороны и становился счастлив. И тех, кто пропадал навсегда. Чарли предпочитал рассказывать все как есть. А пока говорил, между делом набрасывал: вот на него смотрят огромные желтые глаза, полные ярости. Вот на другом рисунке сквозь человеческие черты отчетливо проступают волчьи. Чарли умел их видеть, еще когда не был смотрителем, просто случайно подружился со странным уличным музыкантом, который, кажется, мог останавливать время и страх с помощью одной только лютни. Возле него вечно крутились какие-то чудаки, и, ожидая, когда друг закончит играть, Чарли сидел в сторонке на лавочке и делал наброски: мальчишка с причудливыми узорами на коже, женщина, которая ходит, не касаясь земли. Парень смотрит на небо, и над его головой расходятся тучи. Из-под аккуратного синего пальто хорошенькой девушки выглядывает крыло. Однажды Чарли так увлекся, доделывая рисунок, что не заметил, как друг подошел и глянул через плечо. Хмыкнул и ничего не сказал. Как потом объяснил – не хотел напугать. Рассчитывал, что Чарли привыкнет и потом ему будет проще. В общем-то так и случилось.
Чарли задумчиво рисовал очередной портрет Йоханнеса, снова растерянного, с лютней в руках. Он уже уяснил, что с бураном нужно быть как можно спокойнее – пусть себе бьет посуду, пусть кричит, пусть дает выход ярости. Нужно же ее как-то выгуливать, иначе она просто порвет его изнутри.
– Это похоже на то, что я видел. Из чего человек делал песню.
«Ага. Вот теперь, кажется, можно».
Чарли жмет кнопку, и начинает играть запись той самой лютни. Запись, которую когда-то сделал он сам, в сердце города, в солнечный летний день, по которому он с тех пор так и не перестал скучать.
Йоханнес застывает на месте. Глаза его светятся еще ярче обычного. Вся ярость с лица исчезает бесследно, а то, что появляется вместо нее, Чарли может назвать только нежностью. И только про себя, вслух такие вещи он сейчас объяснять не готов, и, наверное, не будет готов еще долго. Покойный друг – тот бы сумел, у музыкантов это почему-то выходит легче. Но от него осталась только лютня, несколько записей да портреты в папке с рисунками. «Быть Чарли смертельно опасно, – сказал он, закрывая глаза навсегда, в этой самой комнате, с этой самой лютней в руках, так и не смог с ней расстаться. – Слишком много уходит сердца».
«Слишком много сердца уходит всегда, – думает Чарли, глядя на усмиренного песней Йоханнеса. – И, знаешь, друг мой, есть множество вариантов куда как бессмысленней этого».
* * *
Все учатся очень по-разному, кто-то быстрей, кто-то медленней. Некоторых хватает только на то, чтобы выслушать базовый инструктаж, а изучать новый мир они выбирают самостоятельно.
Йоханнес остался с Чарли надолго. Ему было все любопытно, он заставлял водить себя по городу, объяснять все подряд, рассказывать до хрипа – истории, байки из человеческой жизни, байки из жизни «чудовищ» – в ход шла любая информация об окружающем мире. И особенно часто Йоханнес тащил Чарли на Пеструю площадь, надеясь застать там волшебного старика. К тому времени как терпение Йоханнеса лопнуло, он уже вполне мог самостоятельно общаться с людьми и успешно выдавать себя за одного из них – резкого, вспыльчивого, надменного, острого на язык, но все-таки человека. И начал расспрашивать всех попадавшихся уличных музыкантов, описывая старика таким, каким его помнил. Все чаще Йоханнес уходил на поиски сам, без Чарли, возвращался ни с чем и проводил вечера, мрачно сидя в углу с бутылкой какого-нибудь алкоголя и книгой – желательно по истории музыки. Алкоголь действовал на Йоханнеса как успокоительное, книги – как еще один его вид, и только так он умудрялся худо-бедно удерживать себя на грани отчаяния.
– Он был уже слишком стар, – только и сказал Йоханнес, когда наконец нашел. То же самое ответил ему сам Чарли на вопрос о том, что случилось с хозяином лютни. Тем вечером они в первый и последний раз пили вместе.
* * *
Ровно в восемь ноль-ноль Йоханнес запирает магазин. Мимоходом думает, что сказал бы Чарли-художник, если бы видел, как легко теперь получить любую запись любой полюбившейся песни. «Хотя ты бы все равно слушал свои пластинки». Грустный смешок, так до сих пор и не сменившийся на способность признать, что скучает.
Ярость и пустота, все остальное – музыка.
Йоханнес проходит вдоль стеллажей, проверяет, все ли так, как положено, не оставил ли кто-нибудь безалаберный что-нибудь не на месте. С тех пор, как Чарли научил его маскироваться под человека, в искусстве общения Йоханнес не продвинулся ни на йоту: ему это было не нужно. Чарли-художник понимал его с полуслова, а с Чарли-поэтом, который пришел после него, у Йоханнеса не сложилось. Сразу. Категорически. Впрочем, не только у него одного. С Чарли-художником Йоханнес жил до самого конца, знал всех его знакомых духов, постоянно таскавшихся в гости, многократно наблюдал новичков и процессы их адаптации и видел – его все любили. За спокойный нрав, терпение, умение найти нужные слова и, что еще важнее, нужную тишину. Чарли-поэт был суетливым и разговорчивым, не ярким ветром, а слабеньким сквознячком, и к нему без острой необходимости просто не приходили. «Видимо, на данный момент никого более подходящего просто не существует», – решил про себя Йоханнес, развернулся и просто ушел. Приходил раз в год, отдавал положенную монету, перекидывался парой фраз со знакомыми, выслушивал новости и исчезал. В общении как таковом он не нуждался: Чарли-художник был другом, настолько, насколько Йоханнес вообще способен был понимать дружбу. Людей ради людей он всерьез не воспринимал, делая исключение только для музыкантов, да и то ровно до тех пор, пока не понимал: снова не то. От музыки становится легче, не так пусто и одиноко, но ненадолго. Таких же волшебных песен, как та самая первая, ему больше не попадалось. Но Йоханнес искал, рассудив, что времени у него бесконечно много, упрямства – еще больше, и рано или поздно он найдет музыку, от которой снова почувствует то самое удивительное тепло. И тогда, может быть, ему даже удастся уговорить автора научить и его. Создавать эту музыку самому, не перестать слышать ее внутри, как будто и у него есть настоящее сердце.
Был и другой путь – насовсем сделаться человеком. Его выбирали многие, начисто лишаясь силы и памяти о себе и о доме, и проживали вполне счастливую жизнь. Просто не помнили ничего определенного о себе до какого-то времени – так, кажется, было что-то, какое-то детство, одноклассники, приятели, жены. Или не было? Нет, кажется, все-таки были, но все как во сне.
Йоханнес насмотрелся на таких с Чарли-художником, который первые несколько лет обязательно наблюдал, как идут дела. Но для себя он этого не хотел, считая, что человек из него все равно получится хуже среднего. Очередной мерзавец, озабоченный только собственными делами, но вдобавок еще и нуждающийся в других людях, чтобы, годами мотая им нервы, чувствовать себя важным. Да ну, лучше уж так: время от времени менять музыкальный магазин, в котором работаешь, наблюдать, как появляются и исчезают новые исполнители, ходить на все или почти все концерты, какие только есть в городе, знать все клубы, их хозяев и персонал, снимать крохотную квартирку просто для того, чтобы держать там диски и книги – надо же куда-то девать деньги, в конце концов. Сидеть сложа руки скучно, быть человеком – чуждо. Оставалось только искать свою музыку и ждать нового Чарли, который, может быть, будет лучше текущего, и тогда к нему можно будет таскаться в гости, язвить, доводить до белого каления (иногда и совсем чуть-чуть все-таки можно) и помогать в работе.
* * *
Место ежегодного сбора становится очевидным как-то само по себе. Сколько Йоханнес ни спрашивал, оказывалось, что духи, привыкшие доверять чутью, даже не задумывались, почему это так. Достаточно того, что так есть. И когда очередной точкой оказалась «Летящая Бет», Йоханнес только обрадовался: наконец-то. Кажется, у них не просто сменился Чарли – Чарли сменился на музыканта, персонально для него большая удача. За жизнью Чарли-поэта Йоханнес не наблюдал и не знал, что с ним что-то случилось, но сожаления новость не вызвала. «Туда ему и дорога, – мрачно думал дух по дороге в клуб. – Вот бы этот был лучше». Не будет – и не беда, когда-нибудь появится новый. Пока в мире есть музыка, Йоханнес совершенно никуда не спешит. К тому же, в «Летящей Бет» ерунды не бывает, так что можно как минимум рассчитывать на хороший концерт.
На пороге Йоханнес нос к носу столкнулся с Ником, хозяином клуба.
– Привет.
– О, какие люди! Привет! Заходи, у нас сегодня играет совершенно потрясающий парень. Я его случайно в Сети нашел и вот уже две недели никого другого не слушаю.
Такой рекомендации от Ника можно было только завидовать. Он был как раз из тех, кто выбрал стать человеком, и, как только стал, тут же занялся музыкой. Безупречный вкус, собственный музыкальный талант, обаяние и хорошая интуиция, явно присущая Нику еще со времен жизни дома, кем был он ни был, быстро сделали хозяина «Летящей Бет» авторитетным экспертом, а сам клуб – чуть ли не лучшим в городе. Ник горел музыкой и музыкантами, обожал раскручивать молодых и талантливых и был настолько на месте, что Йоханнеса время от времени терзала банальная зависть: вот почему он так может, а я не могу? На все свои «почему» он очень быстро нашел ответы, но легче не становилось. Оставалось только вздыхать над кружкой темного нефильтрованного и дорожить знакомством.
Ник убежал «буквально на пять минут», но снедаемый любопытством Йоханнес его не дождался.
– Ты, значится, и есть новый Чарли? – максимально холодно и вкрадчиво спросил он всклокоченного парнишку, стоявшего на билетах. Эту Никову привычку Йоханнес отлично знал: новенький должен встречать публику сам, чтобы знал, для кого играет, чтобы как следует рассмотрел каждого – после этого просто невозможно фальшивить, а если все-таки сможешь, то во второй раз в «Летящую Бет» тебя просто не позовут.
– Я Чарли, да.
– Наш? Новый? Чарли? – мальчишка перепугался до полусмерти, а ведь сейчас Йоханнес злится вовсе не на него, а на того, кто не соизволил даже как следует передать дела. Хотя его Чарли-художник рассказывал, что бывали случаи, когда старый и новый Чарли не успевали увидеться, и тогда новенькому приходилось совсем туго. «Ладно, мальчик, сейчас я тебе помогу, а дальше посмотрим», – понятно. И альбом тебе, конечно же, еще не отдали.
Бросить раздраженное: «Сейчас вернусь», выпустить волка. Быть уверенным, что чутье не обманет. В том, что случилось, разберемся потом, а сейчас важно не провалить ежегодный сбор и ввести новичка в курс дела. «Буду эдаким Чарли для Чарли».
В память о старом друге он должен хотя бы это.
* * *
Пока собирался народ, Йоханнес сидел у барной стойки, пил пиво и злился: кажется, мимо. Вряд ли у него получится дружба с этим вот мальчиком. Как его и вообще занесло в Чарли? Неужели не было никого посильнее? Он же не справится, сломается через месяц. Нынешней осенью мир совсем слетает с катушек, духи рвутся с той стороны, очертя голову. Этот сопляк просто не сможет их успокоить. Для этого нужно быть таким, как Чарли-художник. Но его больше нет, а другого такого же, видно, уже не будет.
«Надеюсь, у тебя хотя бы толковая музыка. Было бы грустно разочароваться еще и в Нике».
Йоханнес демонстративно повернулся спиной к сцене, завел разговор с барменом и сделал вид, что происходящее его нисколько не интересует. Ровно до того момента, как мальчик, выдав что-то неубедительное вместо приветствия, наконец-то начал играть.
– Да чтоб тебя, – шепотом выдыхает Йоханнес и неимоверным усилием воли заставляет себя не обернуться. Не смотреть, ни в коем случае не смотреть: на сцене все тот же невнятный мальчишка, и следующая песня наверняка будет так же ни о чем, как и он сам, а эта – просто случайность…
Волк не просится на волю, не рычит и не воет, только ловит звуки невидимыми ушами, стараясь не пропустить ни одного. Кружка в руке Йоханнеса покрывается тонким слоем инея, на губах играет растерянная улыбка, которую из всех людей вспомнил бы только его настоящий Чарли. Где-то в папке с его рисунками, хранящейся у Йоханнеса дома, до сих пор есть тот самый первый: изумленный беловолосый мужчина с отчетливо волчьими чертами лица стоит посреди захламленной комнаты с лютней в руке и слушает.
* * *
Конечно же, они проговорили всю ночь. Конечно же, Йоханнес вызвался помочь Чарли разобраться с работой и с новичками. И все это время при любой возможности просил Чарли что-нибудь поиграть, а как только они расставались, включал записи его песен в плеере. Крутил так и эдак, никак не мог поверить, что все-таки…
– Чарли, – непривычно неуверенным тоном наконец спрашивает Йоханнес. – Слушай, а ты случайно не согласишься поучить меня музыке?
Трудное время прошло, вот-вот наступит весна, можно выдохнуть и попробовать научиться жить счастливо. Кажется, именно так у людей называется то, что создают внутри него песни Чарли – «счастье», «сердце», «нежность». Малопонятные слова, в которые Йоханнес уже перестал было надеяться когда-нибудь поверить всерьез.
Чарли кивает, достает из кофра свою гитару и протягивает Йоханнесу – на, мол, примеряйся пока, а я пойду сделаю чаю и сразу вернусь. Беловолосый дух много раз пытался научиться самостоятельно: брал аккорды, даже бренчал что-то более или менее мелодичное. И только сейчас, в залитой весенним солнцем гостиной Чарли понял наконец, почему у него так ничего и не вышло. Дело не в инструменте, не в музыке как таковой и даже не в нем самом – как ему всегда думалось, бессердечном. Дело в тепле, которое остается на грифе от тонких мальчишеских пальцев. Дело в том, что он просто не может не любить это тепло, как не смог не любить острый подбородок и потертую черную шляпу с бубенчиком, пришитым на ее широких полях в тот единственный раз, когда видел их и их обладателя.
Дело в том, что иногда тебе встречаются люди, которые откуда-то знают, как позвать твое сердце, даже если ты совершенно уверен, что у тебя его нет. Даже если ты – волк-одиночка, беловолосый буран, ярость, безжалостная в своей чистоте. И нет никакого волшебства и никакого секрета, есть только те, кого ты случайно встречаешь, настолько свои, что способны позвать тебя за собой из-за любой границы.
Его первый Чарли был точно таким же, но, ослепленный тоской по музыке, Йоханнес так этого и не понял.
«Прости, старый друг. И спасибо».
Вернувшись с кухни с двумя чашками чая и пакетом конфет, Чарли видит, как рядом с лежащей на полу гитарой возникает исчезнувший было Йоханнес. Не глядя в глаза, протягивает Чарли пухлую папку, из которой вразнобой торчат края каких-то набросков:
– Вот, пусть теперь лежит у тебя. И знаешь что? Я передумал: не надо меня учить. Лучше поиграй что-нибудь сам, ладно?
Александра Зволинская Когда твоя бездна поет тобой
Чарли всегда расспрашивал новеньких, что с ними случилось, вел что-то вроде статистики в специальной тетрадке, вернее, в тетрадках: это собрание сочинений уже разрослось на целую четверть книжной полки и явно не собиралось останавливаться на достигнутом.
Кто-то переходил случайно, кто-то – из страха перед чем-то, от чего хотел отгородиться как можно надежней, кто-то от скуки, кто-то, как бы смешно это ни звучало, в поисках лучшей жизни. Гэри же было неконтролируемо, бесконечно, одуряюще любопытно. В одну из зыбких осенних ночей увидел разноцветные огоньки, мерцающие где-то вдали – рыжие, зеленые, красные, желтые, синие. Разумеется, сунулся посмотреть, что там. Когда начал различать не только огоньки, но и звуки, был окончательно очарован диковиной: переливается, жужжит, пищит, мерцает, и все еще совершенно непонятно, что же это такое. Продвинуться еще, разглядеть причудливые холмы какой-то нелепой формы, в которых и живут огоньки. Звуки мечутся туда-сюда между холмами, то приближаются, то удаляются, и совсем не чувствуются живыми. Появившаяся было надежда обрести в звуках сородичей, у которых можно было бы разузнать об этом удивительном месте, угасла, едва появившись.
«Ну и ладно, сам разберусь».
Горное эхо по имени Гэри сделало еще одно усилие, чтобы наконец увидеть искомые огоньки четко, без отголосков тумана… и растерянно огляделось по сторонам. Мимо пролетал странный, незнакомый и неразговорчивый ветер. Огоньки продолжали зажигаться, гаснуть, проноситься мимо и мерно светиться над головой.
Гэри попытался запеть, но получился только непривычный, шелестящий какой-то звук. Он схватился незнакомыми руками за незнакомое теплое горло и закричал.
* * *
– Да ладно, с тобой было почти легко, – говорит Йоханнес теперь. – Ты, конечно, не гений, но учишься быстро, надо отдать тебе должное.
В ответ Гэри неизменно строит приятелю рожу, долженствующую изображать крайнюю степень возмущения. Йоханнес не хуже его самого знает этому возмущению цену, но нужно же как-нибудь среагировать. Это сейчас все выглядит легко и смешно, а тогда Гэри отчаянно проклинал себя и свое любопытство и даже чуть не сбежал домой, наплевав на то, что такой скорый обратный переход вряд ли бы прошел безболезненно. Если бы не пресловутая кассета, с которой все началось, наверняка сбежал бы.
Йоханнес тогда привычно сидел в углу комнаты, искоса поглядывая на Чарли, только что закончившего очередную порцию рассказов и объяснений. Гэри, у которого от объема информации голова уже шла кругом, прикрыл глаза и почти перестал дышать.
– Что это у тебя там? – вдруг обратился он к Йоханнесу, которого вообще-то побаивался. Белобрысый был условно приветлив только с Чарли, остальным же, особенно новичкам, доставалась неурезанная версия его ярости, от которой воздух вокруг духа едва заметно светился: не влезай, а то хуже будет, я предупредил.
Лезть действительно было себе дороже, но Гэри услышал звук, и против звука он ничего поделать не мог. Особенно теперь, когда разучился петь так, как всегда умел дома.
Йоханнес щелкнул кнопкой «стоп» на громоздком кассетном магнитофоне, которые только-только начинали входить в моду, с минуту мрачно смотрел на нарушителя своего непокоя, потом вздохнул, отмотал с середины на начало песни и кивнул на пол рядом с собой: ладно, иди, мол, садись. Показал, как вставить в ухо наушник. Второй не отдал: новая кассета, незнакомая группа, да еще и местная. Самому интересно, нашел дурака пропускать.
– Это – музыка.
– А она живая?..
Гэри смотрел на Йоханнеса, как ребенок на новогоднюю елку.
«Ну вот и за что мне это?..»
Йоханнес не смог бы сказать, почему относится к этому, казалось бы, равному с точки зрения силы и возраста существу как человеческий взрослый к человеческому ребенку. Может, потому, что и сам вот такой же был, зачарованный, душу готовый отдать, лишь бы узнать, что же такое эта волшебная песня и как никогда теперь от нее не уйти. На мрачном лице бурана появляется что-то вроде улыбки – впервые на памяти Чарли не из-за музыки. Горное эхо сидит рядом с ним, плечо к плечу, веснушчатым восхищенным мальчишкой, придерживая наушник ладонью.
Чарли смотрит на них, усмехается и тихонько тянется за альбомом и карандашом.
* * *
Естественно, отвязаться от настырного мальчишки Йоханнесу не удалось.
– А как она получается? А кто ее делает? А почему? А почему я никогда так не мог? Я же умею петь! А куда ты идешь? Серьезно?! Возьми меня с собой, ну пожалуйста!
«Да чтоб тебя».
– Ладно, пошли.
«Летящей Бет» тогда еще не было и в помине, но было несколько вполне сносных концертных площадок, в меру подпольных и в меру расхлябанных, но все-таки – все-таки там выступали. На одной из них, с нехитрым названием «Подкова», отвратительным пивом и не менее отвратительным звуком в тот вечер играла та самая группа, которую Гэри подслушал практически у Йоханнеса в голове. «Я просто очень хорошо слышу, – смущенно пояснил дух, совсем по-человечески краснея. В сочетании с рыжевато-русыми волосами и веснушками раскрасневшееся лицо смотрелось вполне органично. На человека мальчик был похож куда больше, чем сам Йоханнес. – Понимаешь, я – эхо. Зеркало звука. Я не могу не услышать песню, какой бы она ни была».
Глянув на бар, Йоханнес презрительно скривился и от напитков предпочел воздержаться, а предлагать их мальчишке не собирался тем более. Адаптация была в самом разгаре, и Чарли очень просил не пичкать новичка непонятно чем, пока он окончательно не освоится. Ха, легче легкого – угощать его еще, разбежался. «Отравится чем-нибудь, а я потом виноват…»
С началом, конечно же, опоздали – эта традиция укоренилась в музыкальных клубах, кажется, с первобытных времен, по крайней мере, истоков ее Йоханнес уже не застал. Пока состроились, пока хлебнули дрянного местного пойла («Интересно, им прямо на сцене плохо не станет?»), поговорили с одним, посмеялись с другим…
– Всем привет, хорошего вечера, мы начинаем, – объявила наконец тоненькая разбитная вокалистка удивительно низким для такого создания голосом.
Через полчаса, вынырнув из созерцания и собственных мыслей, Йоханнес вспомнил, что приволок с собой ребенка, и незаметно скосил на него глаза. Гэри сидел с отсутствующим видом, сжимая и разжимая пальцы и как будто выплетая ими одному ему ведомые узоры. Рыжеватая челка прилипла к вспотевшему лбу, один из закатанных рукавов рубашки сполз почти до запястья, но парень ничего не замечал. Он сидел с закрытыми глазами и улыбался.
* * *
– Слушай, а ты ему уже рассказывал, что можно стать человеком?
Вернувшись домой, Йоханнес оставил еще не до конца опомнившегося подопечного в кухне и отвел Чарли в сторону.
– Еще не успел. А что, думаешь, не надо?
– Наоборот. Из него получится замечательный человек. Видел бы ты, как он слушает, такими ранимыми только люди бывают, наших я никогда такими не видел.
– Может, он уже и так, сам по себе?..
– Нет, я бы заметил.
Чарли не видит этого так ясно, не может видеть, оно и понятно. Для «чудовищ» же разница очевидна: за «своими» всегда стоит бездна, та, которая дом. Как бы далеко ни ушел, сколько бы ни потерял при переходе (а некоторые, случается, теряют почти все свои свойства, на этот счет у Йоханнеса имелась собственная статистика, и ему до сих пор было совершенно непонятно, от чего это зависит), ты всегда остаешься частью бездны. Люди в этом смысле свободнее, впрочем, за эту свою свободу они платят временем, так что все честно.
– Хорошо, я как раз собирался на днях поговорить с ним об этом. Могу прямо сегодня.
– Давай.
Категорический отказ Гэри изрядно удивил их обоих. Мальчишка покивал Чарли, излагающему выводы Йоханнеса, сказал, что обязательно все учтет и, может быть, когда-нибудь, но все-таки очень вряд ли.
– Я же тогда перестану слышать, – обезоруживающе улыбнулся он самой человеческой из всех своих совершенно человеческих улыбок. – А глухим я быть не хочу, и безголосым тоже. Хватит того, что я уже разучился петь так, как раньше.
Задумался, мечтательно помолчал с минуту в кромешной тишине, улыбнулся снова:
– Давай я лучше расскажу тебе про концерт.
Рассказом заслушался даже Йоханнес, даром что сам же его туда и привел. Очень странное ощущение: как будто музыка рассказывает тебе про саму себя, или, вернее, одна музыка про другую. Или, еще вернее – воздух, в котором звучит музыка, рассказывает о том, как она в нем звучит. Дослушав до конца, Йоханнес пообещал себе больше никогда даже не пытаться заговаривать с Гэри о превращении в человека: вот она, его бездна, глядит из зеленых глаз, говорит высоким мальчишеским голосом, захлебывается от восторга, не умеет остановиться в своей причудливой беззаветной любви. Слишком редко их дом позволяет себе любить, и уж он, Йоханнес, точно не в праве отнимать у него эту возможность. У него, у влюбленного в звуки горного эха и, далеко не в последнюю очередь, у себя самого.
– На радио бы тебя, говорун, – только и сказал на все это Чарли, когда ребенок наконец замолчал. – Вот где для тебя самое подходящее место.
Йоханнес возвел глаза к потолку: ну молодец, теперь это чудовище не заткнется еще полночи, выясняя, что такое радио, зачем он там нужен и как туда попасть. И да, конечно, самый же главный вопрос забыл:
– А там что, тоже есть музыка?
* * *
Отвратительно коммуникабельный ребенок умудрился достать всех: руководство десятка радиостанций, на которые ходил на собеседования, преподавателей на курсах радиоведущих, куда его в итоге отправили от одной из этих радиостанций, лишь бы только отстал (если уж все равно не уходит, пусть учится, задатки-то действительно есть), руководство курсов радиоведущих, снова руководство радиостанции, теперь уже той единственной, которая имела неосторожность сразу его не выгнать. Йоханнес только злорадствовал, слушая по вечерам рассказы Гэри о том, как он убеждал очередного человека, что ему очень надо: терминологии Чарли уже успел его обучить, обаяние и напор у него были свои, так что получившийся настырный мальчишка лет двадцати трех на вид успешно сокрушал препятствие за препятствием и уже через несколько месяцев стал одним из ведущих какой-то маленькой никому не интересной передачи, идущей в совершенно неудобоваримое время – что-то около четырех часов дня.
Альбомы Чарли наполнились двойными портретами: вот две головы, белая и рыжая, склонились, изучая вкладыш к новой кассете. Вот духи, перетягивая и строя друг другу рожи, пытаются поделить удручающе неделимую книжку по истории музыки «от начала века до наших дней». Вот Гэри, единолично завладев наконец наушниками, сидит в любимом углу Йоханнеса с любимым магнитофоном Йоханнеса в обнимку и блаженно щурится под какую-то песню, а на соседнем рисунке отлучившийся было буран замирает в дверях и хмурится, размышляя, надавать ребенку по шее или все-таки ладно уж, пусть.
Через полгода коротких дневных эфиров Гэри перевели на более популярную программу, а еще через год он всеми правдами и неправдами выклянчил у начальства место одного из трех постоянных музыкальных обозревателей, умудрившись, к изумлению Йоханнеса и гордости Чарли, не только не поссориться с человеком, которого ради него сняли с эфира, а еще и подружиться с ним и начать таскать у него все самые новые записи за несколько дней до того, как их ставили официально – парень оказался кузеном одного из известных продюсеров.
– Подхалим, – напоказ бурчал Йоханнес, не забывая при этом регулярно отбирать у «ребенка» добываемые новинки. – Интриган.
– Молодец, – улыбался Чарли, ежедневно слушая о приключениях Гэри и его обаяния. Мальчишка искренне желал всем добра и умудрялся как-то договариваться так, чтобы и людей не обидеть, и сам получить то, что нужно. А нужно ему было эфирное время и говорить о музыке, столько, сколько дадут.
– И особенно, – восторженно тарахтел Гэри, – я хочу вести ночной эфир, самую последнюю передачу, после полуночи. Знаешь, чтобы, когда все самые отчаянные мечтатели возвращаются домой и включают приемник, они слышали мой голос и ту музыку, которую я выберу для них сам. Не хит-парад, не новинки, а все подряд, чего только душа пожелает. Представляешь, какая сила в такой вот длинной-предлинной песне?
Чарли не сомневался, что очень скоро подопечный осуществит эту свою мечту и будет наконец рассказывать то, что считает важным. Так, как говорит им с Йоханнесом о концертах, на которые ходит теперь едва ли не чаще бурана. Так, как, наверное, пел дома, разнося по округе отзвуки, сплетая их каждый раз в совершенно новую песню для простора и голоса. Эту картину Чарли, очень приблизительно представлявший, как на самом деле выглядит та сторона, видел поразительно четко. Даже рисовал иногда, пытаясь угадать, на что же это похоже, но так, чтобы никто не видел. Засмеют еще, паразиты, с них станется.
* * *
Когда Чарли понял, что скоро пора уходить, самой большой его заботой стал Гэри.
– Следующий Чарли тебе не понравится, – говорил он Йоханнесу, – я чувствую, каким он будет, и знаю, что вы не сойдетесь. И мальчик тоже. Ты уж не бросай его одного, очень тебя прошу. Это только кажется, что он такой общительный и нигде не пропадет, а на самом деле, знаешь…
Йоханнес мрачно молчит. Ему отчаянно не нравятся все эти разговоры, они навевают на него глухую тоску даже больше обычной, хотя, казалось бы, куда уж? Если Чарли так волнуется за ребенка, промывал бы мозги ему. Это же, в конце концов, ему надо знать, что людям рядом с ним бывает не по себе. Чарли придумал целую теорию: мол, разговаривать и договариваться Гэри умеет отлично, а дружбы у него ни с кем из многочисленных приятелей с радиостанции так и не вышло. Жутковато, мол, рядом с ним людям при более близком знакомстве. «Я знаю, что говорю, просто, в отличие ото всех остальных, умею с этим справляться, мне по рангу положено. Не хочу, чтобы он был один». На фразе: «И с девочками у него, по-моему, тоже не очень…» Йоханнес окончательно махнул рукой. Можно было бы съязвить, что кое-кто принимает очень даже взрослого потустороннего духа за своего несовершеннолетнего внука, но из уважения к Чарли буран сдержался. Покивал, пообещал присматривать за ребенком («Вполглаза!») и понадеялся, что вся эта дурь у Чарли скоро пройдет и все станет как раньше – выглядел он совершенно здоровым и не очень-то старым даже по человеческим меркам.
Но, видимо, Чарли живут по каким-то своим законам, не похожим ни на законы духов, ни на законы людей. Когда однажды утром в дверь позвонил чужой неприятный тип и сказал, что пришел за альбомом, Йоханнес молча захлопнул у него перед носом дверь. Усилием воли заставил себя не бежать, очень-очень медленно дошел до дальней комнаты, в которой жил Чарли.
Заглянул.
Бесконечно медленно вдохнул и выдохнул.
Достал из шкафа альбом, вернулся в прихожую, рванул на себя дверь. Новый Чарли невозмутимо стоял на пороге. Отдать альбом, снова захлопнуть дверь, не прощаясь. Гэри спозаранку ускакал на радио, так что можно просто сесть на пол, прислониться к двери и позволить себе почувствовать всю ту привычно острую, надрывную пустоту, которой, как оказалось, в нем какое-то время не было.
* * *
После смерти Чарли все развалилось.
Йоханнес замкнулся в себе, сутками пропадал на работе, на концертах, просто где-то в городе, лишь бы не возвращаться домой. Дожидаясь его по вечерам, Гэри все острее понимал, что слишком самозабвенно все это время играл в человека. Привык, что есть Чарли, друг и наставник, думал, что легко прижился среди людей таким, какой есть. Пустой темный дом говорил другое: одного Чарли было достаточно, чтобы Гэри чувствовал себя принятым, но теперь Чарли ушел, и правда состоит в том, что, кроме него и Йоханнеса у Гэри никого нет. Йоханнеса на самом деле нет тоже: ни у кого нет Йоханнеса, и у Йоханнеса нет никого. Теперь. Интересно, сам-то он это понял? Или, как ему это свойственно, выкрутил регуляторы звука и ярости в максимум, закрыл глаза – и так, мол, и было? Скорее всего. Что ж, значит, Гэри остался один на один с музыкой и тем, как ее можно здесь петь. Ему как раз недавно пообещали наконец полуночный эфир, будет чем занять мысли и бездну, которую снова стало бессмысленно прятать. В конце концов, чем он хуже Йоханнеса? Люди сторонятся его точно так же, значит, пора человеческому ребенку в нем наконец повзрослеть, а рывком люди взрослеют как раз на чужих смертях.
Видимо, теперь будет так.
* * *
– Вживую эта группа звучит, как звучал бы водопад в очень тихой ночи. Мерный гул падающей воды, голоса ночных птиц, осторожное дыхание того, кому почему-то не спится и кто вышел подышать на крыльцо. Какая-нибудь богами забытая полупустая деревня, и идти босиком по холодным доскам зябко, но здорово после дневной жары. Где-то в чаще шумит водопад, а у тебя под него бьется сердце, и прямо сейчас под отсветом южных звезд для тебя все возможно…
Марина всегда слушает эту передачу с самого начала до самого конца. Три раза в неделю, с полуночи до часу, отложив все дела. Включает приемник без десяти двенадцать, раскладывает на столе бумагу и карандаши, ставит баночку для воды и коробку с акварелью и начинает ждать.
Рисовать Марина не умеет. Просто водит карандашом по листу, как захочется, пытается уложить на бумагу ту странную музыку, которая получается из слов ведущего, композиций, которые он ставит, и ощущения, солнцем горящего между тремя опорными точками: голосом, музыкой и Марининым сердцем. Когда она, не выдержав собственной благодарности, первый раз позвонила в эфир (дозвониться было не сложно – ночь, все дороги, лифты и каналы связи пусты) и рассказала, что давно мечтала хоть как-нибудь рисовать, и наконец получилось, и спасибо за это, боги, какое же вам спасибо, ведущий, обычно не лезущий за словом в карман, очень долго молчал прямо в эфир, а потом дрогнувшим голосом поблагодарил за звонок и попросил звонить еще.
Марина звонила.
Пару раз за посторонние разговоры в эфире Гэри влетело, но пример Йоханнеса оказался крайне полезным: если сочетать умение договариваться с острым взглядом и при этом не сдерживать бездну, которая так и рвется у тебя изнутри, лишний раз спорить никто не будет. Так что – «да, вообще-то, разговоры со слушателями только добавляют программе обаяния», и «главное – не перегибай», и «ну ты и сам все знаешь».
Марина звонила не каждый раз, иногда раз в неделю или даже две, но знать, что она наверняка слушает, было для Гэри достаточно. Как достаточно было прийти домой, сделать заработавшемуся над сложным рисунком Чарли чай с бутербродами и рассказывать о прошедшем дне, пока друг, ожидаемо забывший поесть, с аппетитом все это уплетает.
Случались и другие звонки, от таких же полуночников-меломанов, как и сам Гэри, и тогда дискуссии о музыке растягивались далеко за пределы эфирного времени. Сначала начальство продлило программу до двух часов, а потом и вовсе отмахнулось: зарплату, мол, не повысим, но если тебе охота трындеть по ночам забесплатно, трынди на здоровье, лишь бы тебя кто-нибудь слушал.
В этом Гэри был с ним полностью солидарен.
* * *
Больше всего он любил приходить в эфир прямо с концерта. Пока музыка и яркое людское время, которое неизбежно переливается через край во время живых выступлений, еще горят у него внутри, пока еще остро все то, что пропускаешь через себя, отражая и проживая по кругу, пока чувствуешь себя настоящим.
Гэри очень хотелось поделиться этим ощущением, знать, что кто-нибудь чувствует то же самое, но сколько он ни рассматривал публику, ничего подобного ни в ком никогда не видел. Йоханнес слушал похоже, но далеко не так сильно, и мгновенно прятал все почти без остатка. По нему никогда было не различить ничего, кроме ярости, а от нее Гэри быстро уставал даже в те редкие дни, когда буран все-таки соизволял явиться его проведать.
– Этих ребят нужно слушать вживую, когда хочешь вернуться из мертвых, – говорит Гэри вместо вступления к очередному эфиру. Впервые он попал на их выступление вскоре после ухода Чарли и с тех пор знал, где искать утешения, когда снова угораздит особенно больно скучать. – У них будет еще два концерта в ближайшее время, очень советую не пропустить. Я, по крайней мере, уж точно намерен быть там.
В студии раздается звонок, и в ту же секунду Гэри уже знает, кто ждет его на том конце провода.
– Здравствуй, Марина.
Пусть думает, что он слегка телепат, чуть-чуть маг и кудесник и совсем капельку просто знает свое любимое дело.
– Привет. Слушай, я завтра тоже собираюсь на этот концерт… Хотела спросить, можно ли будет тебя там поймать.
Полуночники-меломаны, с удовольствием наблюдающие за развитием мнимого романа между диджеем и его поклонницей, наверняка сейчас навострили уши. Гэри достаточно голоса Марины, чтобы понять, что девушку действительно больше интересует музыка, чем он сам, вернее, ее интересует он как способ воспринимать музыку, но зачем же отказывать людям в маленьком развлечении? Тем более что совсем скоро он попросит у Марины номер телефона и будет звонить ей сам.
– Конечно, можно. Как придешь, просто позови меня, можно шепотом, и я тебя найду, – растерянная пауза, краткое наслаждение розыгрышем (тоже наследие Йоханнеса), смех по эту сторону трубки. – Шучу. Я буду стоять с табличкой «Марина», как в аэропорту, не пропустишь.
Люди смешные, они совсем ничему не верят, так что можно выбалтывать правды практически сколько влезет, и никому даже в голову не придет, что ты это всерьез.
* * *
– Гэри, – шепчет Марина, сама не зная зачем.
Ее бы никто не услышал, даже если бы в зале было тихо и пусто, а тут огромная толпа, музыканты настраиваются, публика смеется, официанты звенят посудой, хорошо еще, что ничего не бьют. Марина не большой любитель ходить по таким местам, особенно в одиночку: кажется, что абсолютно все здесь друг друга знают, сто лет уже ходят сюда каждый день, а она чужая, ей неуютно, тоскливо и ужасно хочется убежать.
– Привет, – раздается за спиной у Марины знакомый голос. Надо же, даже табличку сделал, как обещал, хотя совершенно неясно, как в итоге ее узнал. Видимо, такая растерянная и испуганная она одна на весь зал. Ну и ладно.
Ожидала, что он моложе. Совершенно мальчишеский голос, а лицо очень серьезное, и когда он перестает улыбаться, сразу кажется лет на пятнадцать старше. Интересно, какой из этих двух вариантов – правда?..
– Пошли, я покажу тебе самое козырное место! – смеется Гэри как старый знакомец, и Марина позволяет себе поверить в эту иллюзию. В конце концов, она пришла сюда, чтобы посмотреть на музыку его глазами, а для этого нужно довериться. Хотя бы на пару часов, а там разберемся.
* * *
Сердце колотится как сумасшедшее. Музыканты играют вступление к первой песне.
Пару раз Гэри уже пробовал транслировать свои ощущения в случайных знакомых, которые напрашивались с ним на концерты, но в первую же секунду людей словно бы било током, они морщились и инстинктивно отодвигались, хоть и не понимали, что источник избыточно сильного и от того неприятного ощущения стоит рядом с ними и только что незаметно, как бы задев, коснулся их плечом. Гэри давно смирился и перестал пытаться, но сейчас не сможет себе простить, если не попробует в самый последний раз. Она точно может его услышать. Она уже слышала: рисовала под его рассказы, как раньше Чарли, пытаясь увидеть глазами то, что видит сердцем – своим и его, вместе, через слова. Так что, может быть, вдруг?..
«Кажется, не так уж и далеко я ушел от того ребенка, которым ты меня называл».
Что ж, пусть бы и так. Будь, что будет.
* * *
– Ты действительно слышишь вот так? – еле выговаривает потрясенная Марина, когда смолкают аплодисменты после последней песни. Слушатели начинают расходиться, и через несколько минут в зале остаются только они: рука в руке, обоих колотит, на щеках Марины тонкие дорожки от слез. – Как ты с этим живешь?
Объяснять ничего не пришлось. Гэри даже подумал было, что она из своих, просто совсем забывшая, но, присмотревшись, понял, что нет. Просто очень восприимчивый человек, достаточно сильный, чтобы выдерживать это свое восприятие и, пусть и очень урезанное, чтобы ненароком не навредить, но все-таки вполне реальное восприятие Гэри.
– Одиноко, – честно отвечает горное эхо и спокойно глядит человеку в глаза. Ну а смысл теперь уже прятаться? Никакого.
– Ага, разбежался, – всхлипнув, бормочет Марина и тянет его за руку к выходу.
* * *
– С тобой было почти легко, – говорит Йоханнес. – Ты, конечно, не гений, но учишься быстро, надо отдать тебе должное.
В ответ Гэри строит приятелю рожу, долженствующую изображать крайнюю степень возмущения. Чарли залпом допивает остатки пива из кружки Йоханнеса, ловко уворачивается от подзатыльника и, подхватив щегольскую шляпу-цилиндр, в которой в последнее время повадился выступать, удаляется в сторону сцены: Ник дал уже третью отмашку, ну сколько можно, мол, хватит уже болтать.
– По-моему, наш Чарли слегка зазвездился, – добродушно зубоскалит Йоханнес. – Раньше он себе опозданий не позволял.
– Да ладно, все всегда опаздывают хотя бы на полчаса, это традиция, – отвечает Марина и доверчиво устраивает подбородок на плече у Гэри, приготовившись слушать.
Сап Са Дэ Галдан идет в Девачен
Иногда он молчит, подолгу молчит, несколько дней, две, три недели, месяц. Иногда рассказывает истории своих длинных-длинных жизней, и тогда меня не оставляет ощущение, что я катаюсь на бешеной монгольской конной карусели из Цевенов, Церенов, Цеденов и Цеценов. Иногда сидит, зажмурившись и слегка скосив свои и без того раскосые глаза, и ловит маленьких светлячков, мельтешащих под веком.
– Это дхарма, – говорит он. – Надо ощущать ее присутствие всегда, но да, можно и не всегда именно ощущать, просто всегда знать, что можешь ощутить.
Его зовут Галдан Чорос, даже лучше так: он привык, что его зовут Галдан Чорос.
– У тебя водка есть? Настоящий святой может ведро водки выпить. Дандарон мог ведро водки выпить. Как-то, прослышав о такой его способности, разбойники украли у него всю одежду, когда он спал, а взамен оставили ведро водки. Дандарон выпил ведро водки, вышел, а мороз был лютый, градусов пятьдесят. И он прошел почти десять километров до дома, где была его одежда, совсем голый шел, голый, пьяный и святой, песни орал, хороший человек.
Он снова жмурится, ловя мелкие искорки дхармы.
– И Наропа тоже мог ведро водки выпить. А потом идти сто километров по Тибету, а там и трезвому дышать нечем, а он пьяный. Идет, дышать нечем, а он песни орет, руками машет, а вокруг последний мешок с воздухом из рук в руки передают, выпустить боятся. А он идет, орет и руками машет. А умер от трезвости, был трезвым уже два года, а потом идет по горе – а там весна пришла, первый тоненький росток зеленый пробился, и так он обрадовался первому ростку, что прямо им себе голову и отрезал. Но Наропа старый был, думали, что уже и не умрет никогда. Все даже вздохнули с облегчением, очень радовались на его похоронах, думали, переродится он вряд ли, уж больно святой был, так что не обидится.
Галдан сглатывает, я протягиваю ему стакан воды, он в изумлении поднимает бровь и пьет воду.
– А курить у тебя есть? Цаньян Джамцо считал, что если он хоть минуту не курит, то и вообще зря на земле переродился. Еще он стихи сочинял. Стихи сочинял, пил вино и курил. Тогда многие говорили, что он если бы не был потомок Пемы Лингпа, несущего свет учения Падмесамбхавы, то никто бы не нашел в нем Ченрезигового воплощения, да и не истинное, болтали, он воплощение, а, видишь, болтали зря, как повели его в долину, не давали ни пить ни курить ни стихи сочинять, так он вмиг сделался как пьяный, веселый, святой и пьяный, встал в танец Лам, вызвал песчаную бурю, сел в ее оке и перестал дышать, святой был человек, хотя и шебутной.
Галдан трясет старинный кисет, что-то там еще есть, и это его ненадолго успокаивает.
– Но Миларепа поэт был еще больше, даром, что не Далай-лама, как Циньян Джамцо. Волшебник он был плохонький, хотел дядю убить, вызвал бурю, много людей убил, но не дядю, поэтому и раскаялся, ушел на много лет в пещеру и вернулся волшебником уже и вовсе никудышным, но таким светлым святым, что лихие Сэнге-одноглазый и Рабдан-потрошитель, убившие сыновей друг друга и таким зверством породнившиеся, увидев Миларепу, в одну жизнь достигли просветления, а его имя написали на флагах своего воинства.
Но волшебного эффекта табака хватает не то чтобы надолго.
– Ладно водка, а что вина даже нет? Вот гуру Ринпоче, которого звали Падмесамбхава, потому что он родился из лотоса, как это было обещано великим учителем Шакьямуни в утешение Ананде, перед тем, как отчим Мандаравы повел его на костер, он сказал, что его последнее желание – выпить столько вина, сколько сможет, раз уж все равно похмелье ему не светит. Его последнее желание было исполнено, влито в него было даже не ведро, а три – вина, на костер он всходил веселый, пьяный и святой, пританцовывал, песни пел, никто сразу не понял, чего он танцует, пьяный, что возьмешь, а когда костер разгорелся, он давай в него мочиться, сдерживался же пока пил, и залил костер, а потом вызвал бурю и улетел.
Тут начинается уже самое сложное. Шакьямуни уже упомянут, теперь самое важное, чтобы не было сказано ни слова о Гаруде, пока Галдан трезвый. Потому что в прошлый раз, когда я Галдану не дал выпить, а позволил довести рассказ до Гаруды, местности, где он когда-либо жил, на три дня накрыл такой густой и депрессивный туман, что все с кислыми рожами ходили, и даже, говорят, резко подпрыгнул процент самоубийств.
В холодильнике лежит припрятанная бутылочка белого. Стакан мне, остальное – Галдану. Он смотрит с подозрением, молча пьет.
– Это для того, кто ничего не понимает, Гаруда – это светлая мечта. А для святого – это обязанность. Перед нами всеми обязанность. Стать святым для нашего же блага.
И снова закатывает глаза. Теперь уже на пару недель, не меньше.
Он прикрывает глаза и видит меня своим незрячим зрением: безграничный свет красного лотоса на закате. Собственно, так я в бесконечной милости своей и выгляжу.
Сап Са Дэ Рыбалка на Плутоне
Савелий Федорович страдал одышкой, не любил чай с мятой, боялся высоких этажей, а еще у него была тайная страсть: он мог часами смотреть на аквариумных рыбок.
И вот этот самый Савелий Федорович попал в плен.
В плен он попал давно, очень давно. Стояли такие же теплые осенние деньки, деревья еще даже не пожелтели, а первоклассники только пошли в школу.
Савелий Федорович растерянно смотрел по сторонам, не узнавая окружающего пейзажа, телефон у него моментально перестал видеть сеть, а через пару часов и вовсе разрядился.
Не мог Савелий Федорович и как-то еще дать знать, где он и что с ним. Во-первых, он и сам не знал, где он, а во-вторых, даже если бы и знал, у него не было ничего, что можно было бы использовать, чтобы отправить весточку о себе. У него даже карандаша не было. Только телефон, писать бесполезные эсэмэски.
А в плену было неплохо.
Светило теплое солнце, ветер шелестел листвой. Среди деревьев петляла довольно широкая тропинка. Не было слышно ни звука кроме шелеста листвы.
Тогда Савелий Федорович пошел по этой тропинке. Потом он долго пытался вспомнить, почему он пошел в эту, а не в другую сторону. Но так и не вспомнил. Не вспомнил даже была ли та, другая, сторона.
Солнце здесь, в плену, всегда висит в одном и том же положении. Поэтому как долго шел Савелий Федорович, сказать трудно. Может, несколько минут, а может, три дня и три ночи.
Тогда Савелий Федорович еще не умел менять окружающий его пейзаж. Тропинка петляла, одно дерево сменяло другое, мало чем, на взгляд городского жителя, от предыдущего отличающееся.
Мимо прошуршала какая-то живность. Савелий Федорович нагнулся и поймал живность за хвост. Хвост остался у Савелия Федоровича в руке вместе с пушистой шкуркой, а в траву вывалилось студенистое тело. Шкурка и хвост в руках Савелия Федоровича быстро почернели и осыпались черноватой трухой. А вот студень все так же лежал и распространял одурманивающе-аппетитные запахи. В конце концов любопытство взяло верх, и Савелий Федорович обмакнул палец в эти мягкие останки и попробовал. Запахи не обманули, студень был прекрасен как пюре с котлетами в детском саду, а вкуснее ничего Савелий Федорович с тех пор и не пробовал.
Генералы Плутона-шлошмэот вытянулись в струнку. Самый главный верховный не сводил озабоченного взгляда с пространственной картины. Большая машина угроз и поражений отработала не зря. Большая машина нашла главную угрозу для Плутона-шлошмэот. Плутон-шлошмэот не планировал захват Земли ни сегодня, ни завтра, ни еще в какое ближайшее время. Но предсказания большой машины угроз и поражений игнорировать нельзя, Плутон-шлошмэот должен был провести рутинную разведывательную операцию. Пока только рутинную разведывательную операцию.
Анна Ивановна звала Савелия Федоровича, не дозвонившись на телефон, заявила в милицию, объехала морги, ну, то есть все сделала как положено, а потом увидела его мирно дремлющим на скамейке. Врачи приехали быстро, все, что надо, посмотрели, но не нашли ничего интересного и, диагностировав существенную амнезию неясной природы, уехали. С амнезией Савелий Федорович справился быстро. Ну, то есть вспомнить он ничего так и не вспомнил, но к окружающей его жизни приспособился. В какой-то момент Анна Ивановна начала ловить себя на мысли, что такой Савелий Федорович ей нравится даже больше. Он не помнил старых обид, он не ругал ее давно умерших родственников. Да и сам стал каким-то более упругим, что ли, легким. Как будто груз прожитых лет прежнего Савелия Федоровича слегка поддавливал, прижимал к земле. А тут, разом от него освободившись, он буквально взлетел, таким бодрым и живым стал Савелий Федорович. Интересно, как отреагировала бы Анна Ивановна, если бы ей кто-то сказал, что рядом с ней чемпион Плутона-шлошмэот 6008 года по вакуумному тишйимборью? Наверно, просто покрутила бы пальцем у виска и отвернулась, как обычно люди и реагируют на неприятную для них правду.
С местом для сна Савелий Федорович разобрался довольно быстро. Здесь, в плену, было всегда тепло и безветренно и всегда светило солнце. Савелий Федорович как-то незаметно для себя вошел в ту часть леса, где траву вокруг тропинки сменил мягкий как облако зеленый мох. Савелий Федорович попробовал мох рукой, он оказался сухим и податливым. Так что дело оставалось за малым: найти подходящее дерево, на которое можно повесить старенький серый костюм.
Большая машина угроз и поражений работала днями и ночами, большой машине требовалось очень много фактической информации. К сожалению, процесс сбора разведывательной информации был отягощен одной сложной межпланетной процедурой. Согласно подписанному всеми мыслимыми и некоторыми немыслимыми мирами положению о проведении разведывательных операций с подменой, подменяемому должны быть предоставлены условия уровня комфорта не ниже ^&*7, уровня питания не ниже #?4 и прочего уровня не ниже $6. То есть, проще говоря, ему должно быть комфортно, все его потребности должны быть удовлетворены, еда должна соответствовать лучшим известным ему образцам. Ведущие ученые Плутона-шлошмэот потратили много времени и сил, чтобы сконструировать мир, удовлетворяющий всем требованиям подменяемого. А сколько это стоило бюджету Плутона-шлошмэот Самый главный верховный предпочел и вовсе сохранить в строжайшем планетном секрете. Межпланетная бюрократия, как говорится, худшая форма управления мыслящими существами, но война, к сожалению, пока дороже. Впрочем, с такими положениями уже и не так, чтобы сильно дороже.
Анна Ивановна никогда особенно не интересовалась делами Савелия Федоровича. Да и сам Савелий Федорович разговорчивостью не отличался. Раньше, до амнезии, у них еще была общая тема: вспомнить старые обиды, упущенные возможности, плохие советы, данные друг другу. А теперь такие разговоры стали бессмысленными. Даже если Анна Ивановна по старой памяти попытается завести речь о том, как она бросила институт, поругалась с мамой и так и не научилась играть на саксофоне, Савелий Федорович посмотрит на нее с недоумением, наденет свой единственный серый костюм и пойдет во двор греться с другими дедами на тусклом осеннем солнышке. Вернется под вечер, съест яйцо в мешочек, которое сам же и приготовит, возьмет ворох газет и засядет перед телевизором со своим неизменно умным видом. Видом человека, от которого якобы что-то зависит. Хахаха.
Со свойствами окружающего пространства здесь, в плену, Савелий Федорович освоился не сразу. Прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что для того, чтобы окружающий его пейзаж изменился, совершенно необязательно куда-то идти. Достаточно очень сильно этого захотеть, и окрестности, подчиняясь его желанию, трансформируются. Поначалу он все же старался это делать на ходу, иначе сознание не справлялось с неожиданной нагрузкой и отказывалось принимать действительность, внося свои не всегда уместные коррективы. Но потом немного обленился и начал переключать пейзажи по собственному желанию, даже не поднимаясь со своей меховой постели. Плен действовал на него благотворно. Да, добыть еду или питье здесь ничего не стоило: он уже знал, какой птице нужно свернуть горло, чтобы выпить любимого в детстве березового сока, а какой – ностальгического ситро. Одни небольшие зверьки были не более, чем ходячими бурдючками с любимым с детства белым салатом, другие – с волшебным бабушкиным холодцом. Когда Савелий Федорович научился наколдовать себе удочку, он одно время подолгу сидел у наколдованного им моря, но рыба почему-то не ловилась. Он применял всю свою волю и желание, чтобы рыба появилась, но здесь этот прием почему-то не срабатывал.
Генералы Плутона-шлошмэот снова столпились вокруг большой машины угроз и поражений. Машина анализировала информацию, полученную от одного из лучших разведчиков Плутона-шлошмэот. Самый главный верховный немного нервничал, время шло, но пространственная картина пока не прояснялась, не было даже циферблата, демонстрирующего прогресс в обработке информации. Но вот циферблат появился и показывал он, что задача будет завершена буквально через секунду. А потом стрелка на циферблате пошла в обратную сторону.
Анна Ивановна никак не могла уснуть. Точнее, она слышала, что никак не может уснуть Савелий Федорович. Савелий Федорович беспокойно ворочался, кровать под ним скрипела. Ночь все длилась и длилась и, казалось Анне Ивановне, теперь всегда будет так: никак не становящееся сонным немного раздраженное дыхание Савелия Федоровича, скрип старенькой кровати, далекие звезды и бесконечная ночь, разделяющая их.
Савелий Федорович, еще не веря до конца, что у него наконец-то получилось, тянул внезапно отяжелевшую удочку.
Юлия Ткачева Через лес
Он живет в комнате с диваном, книжным шкафом и балконом. Ночью спит на диване, днем читает книги из шкафа. Когда надоедает и устают глаза, выходит на балкон и сидит там, глядя вниз. Внизу двор, там играют дети. Он к ним не спускается, никогда. Бабушка зовет обедать. Он ест, больше для того, чтобы не расстраивать бабушку. Иногда ходит с ней в магазин, за молоком и хлебом. Молоко в бутылках с синими крышками, а хлеб в хрустящих бумажных пакетах.
Один раз они с бабушкой ходили к ним домой, в его настоящий дом. Собрали две сумки одежды. Одежда вся пропахла дымом. Бабушка долго стирает и полощет его рубашки и джинсы в мыльной воде, чтобы избавиться от запаха.
В начале лета, еще до того, как все случилось, он едва не утонул в озере, по глупой случайности. Помнит, как колыхался в холодной, какой-то вязкой воде, погружаясь все глубже, без возможности вдохнуть, бестолково болтал руками, пытаясь выгрести наверх, к солнцу, казавшемуся оттуда, из глубины, расплывчатым серебряным пятном.
Что-то похожее происходит с ним сейчас, только вместо озера – комната с диваном, книжным шкафом и балконом, и совсем непонятно, куда выгребать. Ночью просыпается от того, что не может дышать и лежит, глядя, как колышутся от сквозняка балконные шторы. Ему совсем не страшно.
Потом наступает осень, и он идет в школу – в новую школу, где его никто не знает. Ни с кем почти не разговаривает, на уроках сидит, глядя в окно. Солнце за окном расплывается серебряным пятном.
Домой из школы он возвращается через старый парк, сплошь дубы и клены, кое-где потрескавшиеся мраморные статуи и фонтаны. Фонтаны, конечно, не работают. Ветер шуршит листьями. Пруд цветет ряской. От аллеи в разные стороны уходят тропинки и дорожки, ныряют в кусты.
Иногда здесь играют дети.
– Раз, – считает тощая белоголовая девчонка, уткнувшись лбом в дуб, – три-четыре пять! Я! Иду! Искать!
И уносится, визжа, тонкие косички мотались по спине.
Его играть не зовут, с чего бы? Ни с кем из них он не знаком. Они шумные и всклокоченные, то ли от лазанья по кустам, то ли сами по себе. Они разного возраста, кто-то старше него, кто-то намного младше.
Бабушка говорит в телефон: нельзя так, он как неживой. Вздыхает в трубку. Он слушает, сидя на своем балконе, через раскрытое окно бабушкиной комнаты. На следующий день говорит: вот, иду гулять. Подружился кое с кем, обязательно познакомлю, как-нибудь потом, пока.
Идет, конечно, в парк, куда ж еще. Сворачивает с аллеи, огибает заросший пруд. Листья падают сверху: красные, желтые, всякие. Дорожка заросла травой. Откуда-то доносится запах дыма, его едва не тошнит. Ускоряет шаг, и дымная вонь исчезает, остается запах листьев и осенней земли.
По мосту он пересекает ручей, вода которого бесшумно течет по камням, чистая, прозрачная, как темное стекло. Тропинка ведет дальше, скрываясь между деревьями.
Там, на мосту, он оставляет школьный рюкзак с учебниками.
Говорит себе: он просто устал его тащить. Решает: заберу, когда вернусь, кому он тут нужен. Дальше идет налегке, сунув руки в карманы куртки. Пару раз спотыкается о корни, ничего страшного.
Туки-тук, говорит мальчишка, на голову его ниже, лохматые волосы лезут в глаза, я тебя нашел!
Я не играю, говорит он. Конечно, играешь, отвечает девчонка из-за поворота, раз уж ты здесь.
Хорошо, соглашается он. Раз уж он здесь, в самом деле.
Они начинают играть. Правила не сложные, ему быстро их объясняют. Что-то вроде пряток, немного сложнее, все разбегаются, и надо искать по приметам.
Синее, кричит девчонка – та самая, беловолосая, с косичками. Мы ищем синее!
Радом с тропинкой, за деревом, он видит маленький синий цветок и прячется в кучу листьев рядом. Когда его находят, он, в свою очередь, говорит: а теперь ищем красное! Но все молчат, не спешат разбегаться, переминаются с ноги на ногу. Красное нельзя, объясняет ему лохматый. Тогда белое, предлагает он. Белое можно? В ответ звучит многоголосый визг разбегающихся игроков.
Потом идет зеленое, потом серебряное (сложный тур для прячущихся, легкий для ведущего), серое, снова синее, и дальше. Пушистое, кричит рыжеволосая длинноногая девушка, старше его.
В поисках пушистого он заглядывает в дупло, видит кого-то, свернувшегося там, в глубине, дрожащего и большеглазого. Тот, из дупла, протягивает ему маленький узелок – и он, не задумываясь, берет подарок.
Уже совсем темно. Ветви деревьев кажутся черными, небо темно-фиолетовое. Мимолетом он спохватывается, что пора идти домой, но беловолосая девчонка, она опять водит, говорит: светящееся! – и он возвращается к игре.
Что-то пробирается рядом с ними в темноте, припадающее к земле, гладкое и текучее. Кто-то тихо поет за деревьями, на незнакомом ему языке, но если вслушаться, обязательно поймешь.
Они играют, играют и играют.
Потом кто-то кричит: настоящее-живое! И все разбегаются в разные стороны, ищут настоящее-живое. Он идет по тропинке, смотрит направо и налево, но он уже понимает, что это как раз то, что не так просто найти в здешнем лесу.
Небо медленно светлеет. Он играл всю ночь. Сейчас утро.
Тропинка заканчивается на берегу озера. Он очень устал, и не знает, куда дальше идти. По озеру кто-то плывет.
Он пытается разглядеть и внезапно видит, что этот кто-то не столько плывет, сколько барахтается в воде, хлопая руками. Уходит под воду: раз, другой.
Он сбрасывает ботинки и куртку и, разбрызгивая воду, забегает в озеро. Вода холодная, но не слишком. Такая вода бывает не осенью, в октябре, а в начале лета.
Тогда он понимает, что происходит. Кто плывет там, на середине озера.
На секунду, не больше, он замирает, не может решить, что делать – но встряхивается, ныряет и плывет, туда, где по воде все еще расходятся круги. Там снова ныряет. И снова ныряет, пытаясь найти того, кто только что скрылся под водой.
Никого нет. Никакого шевеления в глубине озера.
В конце концов он медленно выбирается на берег. Не может найти свою куртку и ботинки – вообще не может найти тропинку, по которой сюда пришел.
Зато видит на берегу шорты и летние туфли, свои летние туфли.
Тогда он хватает и надевает их, быстро натягивает шорты и бежит по дороге. Которая, он знает, приведет его на окраину города, а потом две остановки на автобусе – и он дома. Дома.
Он бежит, стараясь изо всех сил двигаться как можно скорее, он боится только одного: забыть, что через неделю случится пожар, и что надо обязательно сказать родителям про пожар. Боясь забыть это лето, и эту осень, и эту ночь в лесу, он нескончаемо повторяет на бегу одно и тоже: через неделю будет чертов пожар.
Юлия Ткачева Иногда получаются корабли
Сашка был моим старшим братом, и он был, ну, не таким как все.
Помню, много лет назад, когда я была совсем маленькой, бабушка один раз сказала папе:
– Хорошо, что решились на второго. Хоть Катька растет ребенок как ребенок, раз уж с первым так не повезло.
– Мама, – сказал папа каким-то совершенно пустым, холодным голосом, я вообще не подозревала, что одно-единственное слово можно произнести так, что мурашки побегут по коже.
Из-за этого «мама» я, наверное, и запомнила тот разговор. Правда, я не поняла тогда, почему нам с Сашкой не повезло. Я как раз считала, что мне очень даже повезло.
Сашка был замечательным старшим братом. Совсем большой, на семь лет меня старше, он вовсе не зазнавался, как другие взрослые. Мы проводили вместе кучу времени – тогда я как-то не задумывалась, отчего Сашка не ходит в школу.
Не так уж сложно было запомнить основные условия общения с Сашкой. Не прикасаться к нему, в самом крайнем случае – брать за руку. Говорить громко и отчетливо. Чаще улыбаться и ни в коем случае не кричать, не ныть и не обижаться. Тогда с ним все было в порядке. Зато Сашка здорово умел выдумывать разные игры со сложными правилами, играть в которые было жутко интересно. И еще никогда не дразнил меня: просто не умел.
У моего старшего брата было увлечение: он собирал то, что папа с мамой называли «Сашкиной коллекцией». Сам Сашка свое любимое дело никак не называл, он вообще мало говорил. Он просто собирал. Почти все, что попадалось ему на глаза – так, во всяком случае, казалось со стороны. Бумажки. Веревочки. Веточки, камешки, шишки. Винтики и проволочки. Чуть ли не каждый мелкий предмет, замеченный моим старшим братом на городской улице, в парке, в лесу – вообще везде, где только Сашка бывал, – подбирался и тщательно, придирчиво оценивался. То, что Сашка решал присоединить к своей коллекции, он рассовывал по карманам, и затем, дома, после долгих раздумий помещал в одну из множества коробочек, баночек, бутылочек. Он не сортировал вещи – точнее, сортировал, но по каким-то своим, непонятным никому правилам. В одной коробочке могли оказаться ветки и проволока, скомканная бумага и камешки, и невесть что еще. Сашка мог высыпать все из какой-нибудь банки на пол и целый вечер перекладывать вещи туда-сюда, хмурясь с таким видом, будто решал сложную математическую задачу. К слову, математические задачи он решал гораздо быстрее. Сашка не был глупым, он просто был, ну, другим. Я всегда это знала, так же точно, как знала другие непреложные вещи: папа самый умный, мама самая красивая, мы будем всегда, а мой брат немного странный.
Лет с шести я приносила ему с прогулок полные карманы всякой всячины, а потом с любопытством наблюдала, что Сашка со всем этим добром будет делать. То, что он делал, завораживало.
Например, заполняя стеклянную баночку из-под яблочного пюре щепками и листьями, он говорил что-нибудь вроде:
– Три зеленых и еще восемь маленьких.
Я смотрела во все глаза: зеленых листьев в банке точно было больше трех, а маленьких предметов вообще не сосчитать.
– Круглый, белый, шумный, – произносил Сашка задумчиво, глядя на коробку, набитую металлическими шестеренками и болтами. С натяжкой их можно было назвать круглыми и шумными, но никак не белыми.
Иногда мне казалось, что еще чуть-чуть, и я пойму.
Мне и родителям разрешалось брать Сашкину коллекцию в руки, но если мы открывали коробочки, брат начинал волноваться. Как-то раз мама выбросила один экземпляр – банку, из которой, по ее словам, шел неприятный запах. Неделю после этого случая Сашка не разговаривал. Не обижался и не сердился – он вообще никогда не обижался и не сердился. Просто молчал, замкнувшись, почти не выходил из комнаты и даже, кажется, не двигался, сидя на полу и глядя в стену.
Больше родители не пытались ничего выбрасывать. Коллекция росла не слишком быстро, потому что Сашка чем дальше, чем тщательнее подходил к отбору предметов, из которых составлял свои экспонаты. Но постепенно коробки, банки и бутылки прибавлялись: по одной, по две в месяц. Когда я пошла в первый класс, коллекция помещалась на трех полках, а когда закончила пятый, родители купили Сашке второй шкаф, потому что первый был забит целиком.
– Он у тебя что, строит корабли в бутылках? – спросил Костя.
Мне было четырнадцать или что-то около того, я привела его к нам домой и зачем-то показала ему Сашкину комнату. Самого Сашки в этот момент не было дома.
– Ну, знаешь, такая шутка, – объяснил Костя, видя, что я не понимаю. – Как делают корабли в бутылках? Берут бутылку. Засовывают внутрь щепки, бумагу, всякий мусор, наливают клей. Трясут. Иногда получаются корабли.
Он был не злой и не глупый, этот Костя. Может, он просто был слишком нормальный.
Когда он ушел, я сняла с полки одну из Сашкиных коробочек – картонную, легкую. Потрясла, слушая, как шуршат и перекатываются предметы внутри.
Открыла. Две щепки, ракушка, несколько камешков, засохшая апельсиновая корка, осколок стекла. Вздохнула, поставила обратно.
К этому времени Сашка окончил школу (заочно), выучился (тоже заочно) и даже работал. Он так и не научился толком общаться с людьми, но для его работы это было не слишком важно. Сашка программировал. Кажется, у него даже неплохо получалось.
Смотреть на то, как он быстро-быстро стучал по клавишам компьютера, заполняя экран непонятными символами, было до странности похоже на то, как он пересыпал туда-сюда веточки и шишки. А бормотание «кластеры-циклы-переменные» звучало, если честно, ничуть не лучше, чем «три зеленых и восемь маленьких». Я не очень понимала, чему так радуются родители. Сашка, по большому счету, вовсе не изменился.
За три недели до моего выпускного бала я свалилась с лестницы и сломала ногу. Лежать в больнице было больно и обидно. Меня навещали друзья и родители, но я по-настоящему удивилась, когда пришел Сашка. Он редко выходил на улицу, гулял строго в окрестностях нашего дома, а больницы вообще терпеть не мог с детства.
– Возьми, – сказал Сашка, протягивая мне блестящую жестяную баночку. В первый момент я решила, что там конфеты, но Сашка потряс баночку, и вместо рассыпчатой дроби леденцов я услышала мягкий, приглушенный шорох. Брат подарил мне один из экземпляров своей коллекции. Глядя на его мрачное, сосредоточенное лицо, я едва не разревелась.
Открыла баночку. Круглая гайка. Маленькое серое перышко – воробьиное, наверное. Извечные веточки, шишка, веревочка. Показалось, что мусор на мгновение сложился в сложную конструкцию с гайкой в центре, перышко вращалось вокруг, похожее на секундную стрелку. Моргнула, и иллюзия пропала.
– Две сплошные черты, – пояснил Сашка, внимательно глядя на меня, – и четыре прерывистые.
– Да, конечно, – согласилась я и еще раз встряхнула подаренную банку.
Сашка кивнул.
Я поступила в институт и уехала из города, наезжая домой два раза в год на две недели. Серебристая баночка из-под конфет путешествовала со мной: что-то вроде талисмана. Наверное, это было глупо. Но мне было спокойнее садиться в самолет, зная, что в ручной клади перекатывается гайка, вокруг которой вращается воробьиное перо, отсчитывая по очереди две сплошные черты и четыре прерывистые, что бы это там ни означало. Конечно, это было глупо. Неважно.
Мама приезжала ко мне в гости. Я водила ее по музеям и мостовым, знакомила с друзьями и показывала любимые кафе. Сашка приехать не мог, путешествия на самолете находились за пределами его возможностей. Папа оставался с ним.
Помогая маме собирать сумку, я наткнулась на маленькую желтую пластиковую мыльницу. Внутри шуршало и перекатывалось. Там было что угодно, только не мыло. Я не стала открывать.
И когда бабушке, в ее восемьдесят пять, грозили страшным диагнозом и говорили: если подтвердится, то, вы же понимаете, месяца три, не больше, готовьтесь к худшему на всякий случай – я кивала, но к худшему не готовилась. Иногда получаются корабли, думала я. Бабушку выписали без диагноза.
– Катя, ты слышишь? Приезжай. Сашка под машину попал…
– Что? – сказала я.
Водитель сказал, что Сашка неожиданно вышел на дорогу. Он был совсем молодой, этот водитель, и очень перепуганный. Он все время повторял что Сашка появился неожиданно, да еще и нагнулся, подставив голову под удар, наверное, что-то уронил.
Интересно, что Сашка увидел на асфальте? Камешек? Смятую обертку?
Он был жив, мой старший брат, хотя дела обстояли не лучшим образом, Сашка был жив, и у него был шанс.
Я прилетела через восемь часов, первым же самолетом. Сашка не узнал меня. Он никого не узнавал. Вы же понимаете, сказал врач. Готовьтесь к худшему.
Поехала домой. Сказала маме: переодеться, забросить вещи, я же прямо из аэропорта.
В такси залезла в сумку, нащупала жестяную коробочку достала. Гайка подпрыгивала – может быть, в такт движению машины. Воробьиное перо. Веревочка.
Дома сразу прошла в Сашкину комнату. Открыла дверцы шкафа и остановилась, раскрыв рот, глядя прямо перед собой. На верхней полке, в пятилитровой пластиковой бутылке, вращалась решетчатая конструкция из сухих листьев, зубочисток, пробок и конфетных фантиков. Красивая, как модель молекулы сложного органического вещества.
Вспомнила, зачем приехала. Потянулась к бутылке и тут же поняла: не то. Раз она работает, а Сашка в больнице, и врачи велят готовиться к худшему, значит – не то.
Значит, того, что мне нужно, здесь вообще нет, и бесполезно искать. Черт.
– Ладно, – сказала я вслух, себе и пустой комнате. – Ладно.
Села на пол перед шкафом. Выгребла с нижней полки то, до чего дотянулась, пооткрывала крышки.
Хуже все равно не будет, ведь верно? Иногда получаются корабли.
И положила в стеклянную банку из-под, кажется, маринованных огурцов, первый камешек: круглый, обкатанный волнами, цвета темного меда.
Нина Хеймец Немного плотнее воздуха
Конечно, все помнили Гершона; конечно, каждому было, что о нем рассказать. Ноам так и называл эти моменты: «время Гершона» – пауза в разговоре, за окном футбольный мяч отскакивает от асфальта и врезается в металлическую сетку ограды, кто-то набирает скорость на мотоцикле, давно бы пора свет включить, и этот теряющий прозрачность воздух такой зыбкий, что лица в нем идут ночной рябью, тлеют зернистым шумом. Сидишь и смотришь, как темнота отъедает в них точку за точкой. «А дверь Гершона? Скажите, а?» – и кто-то смеется, кто-то нащупывает в кармане сигареты, кто-то щелкает выключателем. – «Да разве забудешь такое?»
Двери, собственно, и не было. Гершон ее кирпичами заложил и отштукатурил. Мол, друзья к нему и так придут, а остальное его не касается. Гершон жил на первом этаже: перелез через подоконник и вот ты уже у него в гостях – среди табуреток-инвалидов, немытых сковородок, пожелтевших газет с неровно обведенными зеленой шариковой ручкой объявлениями: «срочно требуются крановщики», «уроки китайского недорого», «участки земли в дюнах, разрешение на застройку, без посредника». Ноам читал их и пытался понять, что за человек Гершон, какова его логика. Но логики в них уже не было, как не было и Гершона – все, чего он касался, все, что он о себе рассказывал, сразу же переставало иметь к нему отношение, отсыхало, лишалось внутренних связей, как муравейник, из которого, один за другим, ушли все муравьи. Ноаму иной раз казалось, что откровенность Гершона – способ скрыться, уйти из обстоятельств своей жизни, оставить их, слой за слоем, свестись к бесцветной точке, едва отличимой от обступившего ее воздуха. С дверью, кстати, все получилось, как Гершон и задумал. «Где тут у вас квартира номер два?» – спрашивали человека в окне первого этажа почтальоны, коммивояжеры, представители газовой компании, полицейские – соседи в доме напротив жаловались на шум, – «Квартира номер один есть, и номер три – вот она. А номер два – куда делась?». «Нет такой квартиры», – твердо отвечал Гершон, глядя им в глаза. Они не сразу верили ему. Заглядывали в подъезд еще раз – там ровная стена, шумно переговаривались с кем-то по рации, но потом все-таки уезжали.
«А как Гершон в гости приходил? Забыли?». Не забыли мы, ничего мы не забыли.
Самый разгар вечеринки, когда все уже предоставлены сами себе, играет музыка – проигрыватель с пластинками, кстати, подарок Гершона. Сказал, что нашел их на центральной автобусной станции. Мол, полно народу, все куда-то едут, а он видит – на скамейке стоит коробка с надписью на трех языках, крупным почерком с нажимом на закруглениях: «Умоляю, позаботьтесь о них». Каким-то чудом еще не вызвали саперов, обезвреживать подозрительный предмет, а, может, они уже даже были в пути. Ну и вот: «Chicago Pompers», «New Orleans Stompers», мы и танцуем. Гершон приходит – ни стука в дверь, ни звонка, ни «здравствуйте». Тот, кто его замечает, в первый момент не понимает, что происходит. Гершон то в комбинезоне маляра, в заляпанных разноцветной краской бутсах и брезентовой панамке, то, наоборот, в белом костюме, соломенной шляпе, и в парусиновых туфлях – Ноам уверен, – побеленных зубным порошком. Запах ментола разносится по всей квартире. «Где он раздобыл этот зубной порошок, – думает Ноам. – Наверное, чье-нибудь наследство вынесли на улицу, а Гершон, конечно же, шел мимо».
Однажды дошло до того, что Смадар уронила поднос с пустыми бокалами – все вдребезги. Она зашла в комнату, а там – клоун. Он стоял спиной к окну. Был закат, лучи солнца просвечивали сквозь рыжий парик, проникали сквозь широкие рукава рубахи, подчеркивали огромные помпоны на башмаках, только лица видно не было – вместо него серая, подрагивающая тень. Гершон потом извинялся, суетился, старательно собирал осколки, даже двигал мебель. Сквозь полуоткрытую деверь Ноам видел круглую рыжую шевелюру с прикрепленной к ней крошечной синей шляпкой, то выглядывающую из-за спинки дивана, то склонившуюся над полом в поисках оставшихся на нем стекляшек. Гершон отворачивал голову так, чтобы никто не увидел его лица. Плечи его мелко тряслись. Казалось, еще немного, и он лопнет от хохота.
Но в тот вечер все было иначе. Гершон пришел как все остальные гости, и одет был совершенно обычно. То есть, для него как раз нехарактерно, конечно – синие джинсы, вылинявшая на солнце футболка, кроссовки. Стемнело, все вышли на балкон. С моря дул ветер, разнося в клочья застоявшуюся за несколько дней жару, срывая ее с деревьев, домов, человеческой кожи – как старую афишу. Мы смотрели на полоску темноты, еще только угадывающуюся за плоскими крышами. Скоро она расширится, захватит все небо, проглотит облака, скроет некрупные звезды, но мы останемся в ней, будто мы неуязвимы, будто наши тела слишком плотны, чтобы поддаться ей и исчезнуть. Потом мы вернулись в комнату, зажгли лампы, смотрели, как бьется в окно прозрачная ночная бабочка. Было пора расходиться по домам. И тогда Смадар спросила: «А чей это телефон тут на столе? Кто его забыл, признавайтесь». И сама же засмеялась, потому что такой телефон мог быть только у одного из нас, и мы все знали, у кого именно: допотопная черная Нокия, размером чуть ли ни в локоть; две пластиковые клавиши сожжены, как кнопки в ненадежных лифтах нашего детства. Вдобавок, динамик телефона был перетянут ядовито-розовой изолентой, а внизу корпуса акриловой краской было надписано корявыми буквами: вкл, выкл. Телефон был, но его хозяина, как выяснилось, не было. Никто не знал, когда он успел уйти. Смадар даже распахнула окно и несколько раз крикнула во двор «Гершон! Гершон!» Но он, видимо, уже был далеко, и ее не слышал.
Забеспокоились дня через четыре. У Ноама был день рождения. Гершон такого случая ни за что бы не упустил. Явился бы с подарком – купленной у старьевщика колбой с каким-нибудь несчастным заспиртованным кузнечиком, или найденной им за городом окаменелостью – застывшим миллионы лет назад моллюском, очертания которого странным образом напоминали бы лицо именинника. Но ничего такого не произошло. И через неделю, когда собирались на крыше у Гиля, он тоже не появился, хотя Ноаму даже пару раз казалось, что он видит его, там, среди нас – в тюрбане и с кальяном на посеревшем за время зимних дождей пластиковом столике; или в оставшемся в наследство от прежних жильцов поролоновом кресле – в надвинутой на глаза кепке окраинного дилера. Но нет. На следующий день Ноам пошел к нему домой, стучал в окно. Никто не ответил. Ноам старался заглянуть внутрь, увидеть сквозь дневное стекло гершонову комнату. Ее содержимое при таком освещении выглядело тусклым, плоским, но, вроде, все было на месте. Обратились в полицию. «Гершон всегда в городе, всегда, вы понимаете?» – втолковывал Ноам сонному дежурному. Всегда среди нас, всегда одного и того же возраста, с одной и той же полуулыбкой. Сколько ему лет, кстати? Когда мы с ним познакомились? Мы пытались восстановить события, но ничего не выходило, и все только еще больше запутались. Как бы там ни было, полиция провела проверку – в больницы не поступал, страну не покидал, камерами наблюдения не зафиксирован. «Мне это не нравится», – повторяла Смадар, и нам нечего ей было возразить, как бы мы ни хотели.
Телефон зазвонил вечером. Сначала мы не поняли, кому из нас звонят, да еще таким рингтоном – ретро двадцатилетней давности. Потом сообразили, что звук доносится с балкона, где в тот момент никого из нас точно не было. Бросились туда, и действительно, телефон был там – в ящике старого буфета, где Смадар хранила бутылочные пробки, английские булавки, плоскогубцы, кусочки канифоли и прочую нужную в доме мелочь. Никто не мог сообразить, как он там оказался, но это было не главное. Телефон звонил все громче; на зеленом экранчике высвечивалась надпись: «абонент неизвестен». Это мог быть только Гершон. Где ты, пропадал, Гершон? Скажи нам, что все с тобой в порядке, Гершон! Але, Гершон?
– Але, Гершон? – старушечий голос звучал очень четко. Где-то далеко на его фоне слышались слабые потрескивания, пощелкивания, жужжание – как будто тысячи разговоров наложились друг на друга, перестав быть различимыми.
От неожиданности Ноам отстранил трубку от уха.
– Где ты пропадаешь? – доносилось из аппарата.
– Я не… – Ноам откашлялся, – его… Гершона… его здесь нет… сейчас.
– Ничего не слышно! Але! Гершон? – фон приблизился, помехи теперь расщепляли голос, будто пожелтевшую фотографию превратили в звук, а она вся в трещинах, вся в пятнах и ничего не разобрать.
Сели батарейки. У Гиля нашлась зарядка от Нокии – сохранилась каким-то чудом. Решили оставить телефон включенным. Если звонят Гершону, то и он сам, наверное, сможет выйти на связь.
Старуха перезвонила на послезавтра. Снова «абонент неизвестен». Ноам как чувствовал, что это она. Не хотел подходить к телефону. Что он ей скажет? Да что бы и ни сказал, та, похоже, ничего не расслышит. Но потом он подумал про длинные гудки в трубке. В тот момент он был уверен, что они достигают человека, где бы он ни находился, в разряженном воздухе, под слоями почвы, в водной толще, даже если телефон совсем в других руках, даже если он давно разобран, и абонента больше не существует, даже если в номере телефона была ошибка – соединения, действительно, не происходит, но одна волна проходит сквозь другую. Звонок не прекращался. Ноам снял трубку и сказал: «Это не Гершон. Его здесь нет».
– А где он?
– Я не знаю.
– Говорите громче.
– Он, наверное, уехал. Я не знаю… мы не знаем, куда. Не знаем.
– Это не опасно? Ничего не слышу.
– Не опасно! Не должно быть опасно!
Ему не отвечали, в динамике снова что-то пощелкивало. Помехи становились все более ощутимыми.
– Он уплыл, – крикнул Ноам в трубку, – уплыл в Грецию, а телефон забыл. Устроился на грузовой корабль механиком. Никогда ничем таким не занимался, но убедил капитана, что на месте разберется. Штудирует там сейчас пособия, моторы изучает, времени-то особо нет.
– Он доволен? – голос прозвучал неожиданно громко, будто из соседней комнаты. Как если бы на темную ткань положили пожелтевшую фигурку из слоновой кости – чтобы удобнее было рассматривать.
– Очень! Очень доволен!
Потом был звонок через неделю. Трубку снял Гиль. Настала его очередь.
– Гершон уже в Италии! В Италии! С кораблем покончено, кому охота в трюме сидеть. Он встретил приятеля, а у того, представляете, детективное агентство. Специализируются на запущенных случаях.
На Гиля зашикали. Мы-то знаем, что Гиль не пропускает ни одного полицейского сериала, но старую женщину зачем зря волновать?
Но Гиль, видимо, так увлекся, что уже не обращал на нас внимания.
– Он первое же порученное ему дело сумел распутать! Убийство в запертой комнате. Там оказалась целая система зеркал, и одной из стен, на самом деле, вообще не было, представляете?
– Это не опасно?
Гиль посмотрел на нас.
В следующий раз к телефону подошла Смадар.
– Гершон в археологической экспедиции! – кричала она в трубку, – подводная археология, очень перспективное направление. Они погружаются на батискафе, а там – статуи всадников, фасады зданий, надписи, которые пока никто не смог расшифровать.
– Это не опасно?
– Совершенно не опасно! Все продумано до мелочей!
Снова помехи на линии. Старуха тут же перезвонила, но ее слов было не разобрать. Голос растягивался, как бывает с поющими плюшевыми игрушками, когда в них садится батарейка. А потом все замолчало. Кнопки перестали реагировать на нажатие.
Смадар стояла с выключившейся трубкой в руках, а потом сказала: «Это ведь не только я слышала щелчок в самом начале разговора, правда?»
– Не только ты.
– Перед этим ее «опасно» усиливались помехи, и первый слог в слове почти исчезал. А у вас? – сказал Гиль.
– И у нас, – мы смотрели друг на друга и молчали.
«Ничего не слышно» – раздался вдруг голос, уже трудно даже было сказать чей – искаженный, без возраста и пола. Телефон опять смолк.
– Зачем ему это понадобилось, как вы считаете? – спросила наконец Смадар.
Ноам подумал, что знает ответ. Пока где-то там, на другом конце невидимой линии был человек, мы строили к нему мост. Каждая история была в нем звеном. А теперь оказалось, что мост упирается в черную, бархатную пустоту, за которой нет ничего, кроме нее самой; настигает ее, подступает все ближе, примыкает вплотную.
* * *
– Давайте зажжем свет, – говорит Ноам, – вечер уже, совсем ничего не видно. Он щелкает выключателем и привычно обводит взглядом комнату.
Нина Хеймец История моей бабушки
Корабль затонул во вторник, тридцатого ноября, рано утром. За четыре часа до этого следовавшее в ста милях от предполагаемого места крушения грузовое судно зафиксировало сигналы SOS. Капитан принял решение изменить курс и отправиться на помощь. Спасательная операция осложнилась непогодой. Началась гроза, сопровождавшаяся встречным ветром и сильным ливнем. К тому же перехлестнувшей через палубу волной смыло в океан одного из матросов, и экипажу потребовалось время, чтобы обнаружить его, используя перекрестный свет прожекторов, а затем выловить и поднять на борт. Сигнал о бедствии, прежде слышный четко и передававшийся через строго определенные промежутки времени, теперь то смолкал, то возобновлялся, доносился словно издалека, почти не проступая из шума эфира – потрескиваний, шорохов, гудения, слов, произнесенных где-то за множество километров от судна. Когда спасатели наконец прибыли на место, они никого и ничего там не обнаружили. Корабль успел уйти ко дну. Позднее удалось выяснить, что он следовал под голландским флагом из Роттердама в Нью-Йорк. На борту находились восемь членов команды и тридцать пассажиров – труппа разорившегося цирка, оставшаяся без имущества: оно было арестовано за долги. Поскольку в этом квадрате зарегистрированы мощные подводные течения, затонувший корабль, скорее всего, унесло таким потоком, и шансы обнаружить тела и обломки, не говоря уже об уцелевших пассажирах, стремятся к нулю.
Я прочитал эту заметку, сидя в городской библиотеке. Я листал подшивки газет, скрепленные потемневшими фанерными рейками, и, наконец, наткнулся на то, что имело отношение к делу. Солнечный свет проникал сквозь открытые окна – библиотекарша, встав на стул, с трудом их распахнула, впервые с осени – и даже здесь, среди стеллажей, приходилось щуриться. В конце заметки приводились биографии некоторых членов труппы, «которая, к сожалению, прекратила свое существование», а также описывался один из наиболее популярных ее номеров: свет под куполом гаснет, остается лишь лампа, освещающая небольшое зеркало. В нем отражается женщина. Освещение подчеркивает глубокие морщины на ее лице. Морщины становятся все глубже (задача для светотехника), и залегшая в них темнота постепенно распространяется на всю зеркальную поверхность. И тогда из зеркала вырывается белый вихрь – клочки бумаги, пенопластовые шарики, перья, пыль, замерзшие капли воды. Вихрь заполняет арену – от пола до самого купола, потом – накрывает зрительные ряды, крошечные льдинки ударяются о лица и руки зрителей. Им приходится закрыть глаза. А потом вспыхивает яркий свет, и больше нет ни зеркала, ни белого вихря, ни, конечно, старой женщины. Гремит музыка, и по арене кружат клоуны на разноцветных велосипедах-тандемах.
* * *
Когда я спросил: «Где бабушка?», мама ответила: «Ее больше нет с нами». Я спросил: «А где же она?». Мама вздохнула и погладила меня по голове. Я растерялся. Получалось, что мы с бабушкой теперь не пойдем в парк, и она не будет не замечать, как я там перелезаю через ржавый сетчатый забор, за которым асфальтовая тропинка ведет к зарослям сухих колючек. Я однажды попытался зайти в заросли, но пришлось вернуться, так как было больно. Зато рядом с тропинкой я нашел скелет какого-то небольшого зверя. Зубы зверя были маленькими и острыми; из его пасти росла трава с такими же колючками, как и вокруг. Я рассказал про скелет бабушке, но она не смогла на него посмотреть, поскольку через забор ей было не перелезть – так она объяснила. Потом я возвращался к ней, и мы шли домой.
«Куда же все-таки делась бабушка?» И тогда я вспомнил, что недавно к нам приезжал цирк с акробатами и фокусниками. На одном из городских пустырей установили огромный шатер. Ему не давали упасть натянутые металлические канаты. Приблизившись к ним, можно было увидеть, что они дрожат от нагрузки, и все сооружение казалось гигантским акробатом-силачом. Внутри играл духовой оркестр; по канату скользила одетая в чешуйчатый костюм гимнастка на моноцикле со сверкающими спицами; жонглеры делали тройное сальто, одновременно перебрасываясь горящими булавами; фокусник в черном комбинезоне собирал из консервных банок, печатных машинок и пустых аквариумов маленькую горбатую машину, а потом садился в нее и уезжал, оставляя на арене облако черного дыма, из которого сам же спустя секунду и появлялся, хотя рокот мотора еще не успевал стихнуть, еще звучал за кулисами, а потом – за брезентовой стенкой шатра, постепенно смешиваясь с другими шумами и растворяясь на городских улицах. Фокусник меж тем был занят уже другим номером: вдруг оказывалось, что рядом с ним стоит в такой же позе – широко расставив ноги вытянув руки в стороны – его двойник, потом фокусников становилось четверо, потом – восемь, спустя несколько секунд они заполняли арену, а потом из них образовывалась огромная, уходившая под своды купола пирамида и, качнувшись, начинала медленно опрокидываться на зрителей. Люди ахали, сжимались в креслах, некоторые забивались под сиденья. Те, кто сидел близко к выходу, вскакивали и пытались убежать, и тогда гас свет и раздавался оглушительный хлопок. Когда свет зажигался снова, на арену и зрителей, кружась, опускались тысячи конфетти в форме человеческих фигурок. Публика переводила дух, снова устраивалась поудобнее, и представление продолжалось. Я был готов ходить туда хоть каждый день, но дома мне объяснили, что цирк пробудет в нашем городе еще совсем недолго, а потом отправится дальше: он гастролирует по всему миру.
Я понял, что у происходившего может быть только одно объяснение. Моя бабушка сбежала с цирком! Теперь она ходит на все его представления, а, может быть, и сама там выступает – чтобы так вот сбежать должна быть, все-таки, очень веская причина. Родители говорили, что бабушка умерла, но мне было трудно представить себе, что имеется в виду. Я решил, что «умерла» и значит, что она уехала гораздо дальше, чем обычно, и возвращаться не собирается, тем более, если вокруг такие циркачи, и есть реальный шанс научиться плеваться горящими мечами.
Потом я стал старше, и мне стало понятно значение этого слова, но я часто ловил себя на том, что продолжаю думать о бабушкином побеге, о том, как она мчится в ночном поезде, а потом сходит на с него на каком-то полустанке и бежит к огромному темному сооружению вдалеке. Сооружение было украшено гирляндами из разноцветных огней, изнутри доносилась музыка – гудели трубы и звенели медные тарелки. Шли годы, и я ждал от бабушки вестей. Я читал заметки в газетах – о странных происшествиях, цирке и фокусах, и иногда мне казалось, что написанное очень бы ей подошло и, скорее всего, о ней и шла речь. Однажды я даже обнаружил в своем почтовом ящике бумажный листок с клоуном. Клоун был глубоким стариком. Из-под ядовито-зеленого парика выглядывала трубка слухового аппарата – такими уже давно никто не пользовался. Он смеялся, сложив пальцы пистолетиком, и делал вид, что стреляет в фотографа. Кажется, это была реклама недавно построенного дома престарелых, но я-то понимал, кто стоит за этим посланием.
* * *
Я вернул газеты на полку. Корабль скользил в подводных потоках, вокруг него мелькали блестящие спины рыб, вспыхивали лампочки удильщиков, которые, на самом деле, легко можно было перепутать с сигнальными огнями таких же уплывающих в темноту кораблей. Я шел по вечерним улицам. «Шансы стремятся к нулю» – вертелось у меня в голове. Пока я шел, начался ливень с градом. Я зажмурился и подставил ему лицо. Градины кололи мою кожу. Мои волосы стали белыми от ледяных комочков. А потом зажглись фонари.
Нина Хеймец Танцы вокруг
Стены крошились, пальцы оставляли в них узкие красные борозды. Кожа на суставах содралась – Эфи и сам не заметил, когда именно; рассохшаяся известь впитывала кровь как хищный цветок. Самое обидное, что колодец не был глубоким – в одну из первых попыток выбраться, подпрыгнув, Эфи дотянулся до его края, до твердых камней, но тут же соскользнул вниз. Еще несколько лет назад он бы давно уже был наверху. Ловкий и сильный, он пожимал плечами – мол, надо же было так оступиться, шел прочь, забывал об этом. Эфи сел, прислонившись спиной к стене. Солнце взошло недавно, все вообще случилось недавно, стена еще сохраняла ночную прохладу. Его будут искать, Ноа обязательно спохватится – его слишком долго нет, и воды у него с собой мало. Он попытался вспомнить, сказал ли ей, куда сегодня едет. Говорили ли они об этом? Эфи пытался сосредоточиться, но Ноа становилась прозрачной, расслаивалась, и было непонятно, в каком из дней он рассказывает ей о колодцах, спрятанных много сотен лет назад так, что чужие проходили в нескольких сантиметрах от них и ни о чем не догадывались, и умирали от жажды, и рассказывает ли, и в каком из дней она слышит его слова. По шоссе – в нескольких километрах отсюда – проносились машины. Небо было бесцветным и ровным. За шиворот тонкими струйками сыпался песок. Эфи закрыл глаза и стал ждать.
* * *
Долго звонят в дверь. Лодка мчится, ветер надувает серый парус. Арик резко садится в кровати. У него колотится сердце, он с трудом переводит дыхание. Не приснилось? Лена тоже проснулась, зажигает свет. Значит, опять. Арик нашаривает шлепанцы, идет к двери. Лена говорит: «Не иди туда, это все то же». Арик заглядывает в глазок – снаружи никого нет, как и следовало ожидать. Он открывает дверь, спускается по лестнице и выходит из подъезда. Ему кажется, что в воздухе что-то изменилось. Он стал более упругим, словно смотришь сквозь ставшую вдруг вертикальной прозрачную водную гладь. Арик возвращается домой, тщательно запирает дверь, ложится в кровать, гасит свет. Такой ветер должно быть слышно, но лодка скользит в полной тишине. Небо затянуто тучами, лишь иногда в их прорехах мерцают звезды. Паруса на этом фоне не видно, Арик просто знает, что он есть. Ветер усиливается.
* * *
Солнце в зените, у Эфи над головой. «Будто я – его маятник. Все, кто в пустыне – его маятники». В какой-то момент он понимает, что его могут не найти или найти слишком поздно. Он вспоминает скелет, который видел в антропологическом музее. Когда его обнаружили, ему было десять тысяч лет, и он сжимал в кулаке ракушку.
* * *
Каждый вечер, около одиннадцати, Джейн выходит из палаты в коридор, подходит к окну и всматривается в темноту. За больничными корпусами швартуется баржа. Джейн видит, что в корабельной рубке горит крошечное окно, на нем даже можно различить какое-то комнатное растение с острыми листьями. Вернувшись в палату, она представляет себе ночной вид без баржи – небо не черное, а будто затянуто мчащимися облаками. В нем нет ни планет, ни звезд, ни света, ни теней, только движение. У Джейн замирает сердце; тогда она вспоминает про то окно, и ей становится спокойней.
* * *
Эфи просыпается от яркого света. Белый луч слепит ему глаза. Он слышит грохот, огромные лопасти переворачивают небо, перемешивают туман, расшвыривают галактики. «Вертолет, – кричит Эфи, – вертолет, я знал!»
Нина Хеймец Вышивальщицы
Евгения уехала. Все спали, когда она выходила из квартиры, становившейся с каждым предыдущим днем все более просторной и гулкой. Теперь, когда из всех предметов в квартире оставался плафон под потолком, с вклеенным в него осколком – по матовому стеклу шел темный зигзаг – ей на долю секунды показалось, что еще есть выбор: выйти или остаться – поместить себя в эту пустоту, заполнить ее новой жизнью. Евгения захлопнула за собой дверь, спустилась по лестнице, бросила ключ в щель почтового ящика. Одно из колесиков чемодана было деформировано, оно двигалось не как другие, скрипело и постукивало. Евгения вслушивалась в этот шум, стараясь уловить в нем ритм, но никакого ритма не было. Лента шоссе вдалеке казалась подвешенной в пустом черном воздухе. Наконец там появился зеленый огонек. Он ровно приближался. Такси.
В самолете Евгения сидела рядом с иллюминатором. Она пыталась разглядеть хорошо знакомые улицы, но город опрокидывался, исчезал из виду, а затем появлялся снова – совсем не там, где она ожидала. Потом он стал размером с булавочную головку, с ниточный узелок, облака скрыли его, но Евгения продолжала видеть плоские крыши, распахнутые окна, подступающие к набережной волны, нас. Мы становились тонкими, плоскими, мы сворачивались, и за нами ничего не было. Евгения откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. За бортом самолета в вибрировавшем воздухе всходило солнце.
* * *
– Кстати, а где сейчас Евгения? – спрашивала Дафна, когда мы собирались вместе. И правильно спрашивала, потому что всякий раз выяснялось, что у кого-нибудь из нас были новости. Однажды, например, Яэль читала в газете заметку про открытие Олимпиады, и узнала Евгению на фотографии – среди зрителей, конечно – наша Евгения никогда не была спортивной. Был случай, когда она побежала за автобусом, и на водителя это зрелище произвело такое впечатление, что он дал задний ход и потом даже помог Евгении зайти, а с водителями у нас такое все-таки крайне редко случается. Когда появлялась свежая информация, кто-нибудь из нас брался за пяльцы – вышивали крестиком, а кто мог – гладью. В тот раз мы изобразили море, разноцветные флаги, атлетов, бегущих сквозь ветер, мчавшихся сквозь прозрачную воду, летящих в небо, пригнувшихся к спинам вспаренных лошадей. «Разве лошади участвуют в олимпиаде? Как же они туда попадают?» – допытывалась Маргарет, внимательно, с лупой, осматривая вышивку. Она уже всех достала этой лупой, если честно – ко всему придиралась. К следующей нашей встрече Адель вышила ночной порт. В свете прожекторов были видны силуэты лошадей, вереницей заходящих по трапам на огромные корабли. Маргарет долго исследовала вышивку, чуть ли ее ни обнюхивала, но больше вопросов не задавала.
Потом Адель делала дома уборку и нашла билет на концерт духового оркестра в парке, на который Евгения ее однажды пригласила. Мы вышивали черные жерла труб, вытянутые конусы кипарисов, алую луну, которую скрывала нависшая над парком туча, и, конечно, Евгению, в первом ряду, на белом пластиковом стуле, с вазочкой мороженого в руке.
Пришло письмо, Дафна его получила по электронной почте. Она как раз легла спать, а компьютер забыла выключить. Только задремала, и вдруг – звоночек. Адрес какой-то незнакомый, но пишет определенно Евгения – мол, все у нее отлично, и она теперь доброволец в Африке, учит там детей арифметике и английскому языку – «Ваша, Е.». Утром оказалось, что Дафна по ошибке стерла письмо, поэтому мы не знали, в какой именно стране сейчас находится Евгения, и как долго она там пробудет. Яэль вышила темно-оранжевые треугольники барханов, на их фоне – окаменелые черные деревья. Прямо на песке стояли парты, за ними сидели ученики Евгении. Яэль очень старалась, но правая рука ее к тому времени уже неважно слушалась, и дети получились похожими на огромных муравьев. На первом плане была сама Евгения, в защитном дамском комбинезоне, широкополой шляпе, солнечных очках и с учебником в руке – как всегда улыбавшаяся; как всегда было непонятно, что у нее на уме.
Потом Маргарет приснилось, что Евгения танцует фокстрот в каком-то ночном клубе – вокруг нее подозрительные типы с моноклями, женщины в черных платьях, над ее ухом вьется говорящий попугай и нашептывает Евгении что-то, от чего та меняется в лице. Маргарет так и не узнала, в чем было дело: звука во сне не было, а по двигавшемуся клюву попугая восстановить его речь было невозможно. Маргарет вышила скользившую по крыше серую тень, вой сирен, красные и синие всполохи где-то внизу.
Готовые вышивки мы скрепляли друг с другом. Когда появлялись новости, мы раскладывали полотнище и прикидывали, с какого краю приладить очередной лоскут. Мы вышивали поезда, скользившие в змеистых туннелях; паутины арочных переходов – «Видите, заметен краешек чемодана Евгении; колесико она, конечно, так и не удосужилась заменить»; мы вышивали остропарусные яхты, разрезавшие сразу две глади – морскую и небесную; мы изображали тихие аллеи со смыкавшимися где-то в вышине гибкими ветвями; небоскребы, по стенам которых, от земли до облаков, взлетали маленькие прозрачные лифты; ярко-синие лодки, уткнувшиеся в раскаленный песок, сияющие в ночи башни подъемных кранов, устриц, кракенов, космические станции новой волны.
Себя мы тоже иногда добавляли. Яэль, например, вышила себя на фоне заката, с огромным помидором в руке – она их очень любила, и Евгения, конечно же, об этом знала. Потом Дафна изобразила наш групповой портрет, но вышло недоразумение – ткань основы оказалась ветхой и прохудилась как раз там, где была вышита голова Адель. Это, впрочем, ничему и не противоречило, потому что несколькими днями ранее Адель умерла – села пить свежий кефир, и так и не встала. Надо сказать, я как чувствовала, что к этому идет – лоскуты ее вышивок становились с каждым разом все более тонкими, нитки чуть ли ни расползались, сквозь них уже что только ни проглядывало. Когда Дафна принесла наш портрет, мы по очереди в эту дырку смотрели, но видели только крупинчатый туман, жужжащее марево. С Маргарет, правда, вышло неловко: была ее очередь заглядывать в дырку, она приблизилась к ней со своей лупой, а Яэль возьми да в этот момент с изнанки загляни туда зачем-то. Маргарет увидела сизую звезду, от которой во все стороны расходились подрагивающие лучи-щупальца, от неожиданности лупу выронила, та ударилась о каменный пол и чудом не разбилась.
На следующем нашем портрете дырок не оказалось, но сами мы были не таким, как всегда – почти бесцветными, почти прозрачными. «Сколько, по-вашему, нас можно помнить?» – сказала Яэль, принесшая вышивку. Неделю спустя я вышила взлет самолета Конкорд – птиц, разлетавшихся от точки пересечения скорости звука на сотни километров, землю, застывшую где-то внизу. Маргарет собиралась изобразить нас за работой – склонившимися над огромным свертком; я должна была держать в руке свою вышивку, и мы бы решали, с какой стороны ее лучше прикрепить. Но, когда мы развернули ткань Маргарет, оказалось, что там – одни намеченные грифелем контуры. Мы подшили ее лоскут, а потом аккуратно свернули полотно и положили в коробку из плотного картона, на которой написали: «Для Евгении». Мы знали, что у человека должна быть такая возможность: оборачиваешься, и жизнь – вот она.
Нина Хеймец День, который мы проиграли
Это была идея Длинного – играть в карты на будущее. Он предложил, и мы согласились. Не то, чтобы это сразу пришло ему в голову. Мы собрались в сторожке, как обычно. Сторожа там давно не было, и вообще ничего не было. Двери и окна на первом этаже были заколочены, и внутрь надо было проникать. Мы и проникали – поднимали из травы за сторожкой стремянку, видимо сторож ее когда-то здесь оставил, забирались на крышу, перелезали на обитый жестью карниз и медленно, скользя ладонями по набухшим от влаги доскам, пробирались к слуховому окну. В сторожке остался стол и несколько ящиков. Мы украсили стены: Ленка развесила портреты бродячих собак и кошек с нашей улицы. Она уже несколько месяцев их рисовала и складывала листы в толстую папку. Валерик прикрепил к стене фотографию девушки в желтом купальнике. За девушкой было море, но она его заслоняла и улыбалась. А я повесил рисунок из журнала: светящийся батискаф погружается в Марианскую впадину, водолазы встречаются взглядом с существом, прежде неизвестным науке. Электричества в сторожке не было. Длинный подвешивал на оставшихся от лампочки проводах карманный фонарик. Он светил, пока хватало батареек.
В тот вечер нам играть не хотелось, не было настроения. Потом все-таки решили играть на деньги, но у каждого из нас было только по нескольку медных монет, их все выиграл Валерик и сидел довольный. Фонарик светил тускло, и я вдруг подумал, что если посмотреть на нас сейчас со стороны, то каждый будет выглядеть как темная глыба – без формы, без цвета, обернутая собственной тенью. Мне захотелось домой, и, думаю, не только мне. И тут Длинный говорит: «Давайте, на будущее сыграем, а то сидим, как эти». А как играть-то? Правил никто не знал. Длинный объяснил: «Мы разыграем этот день, но через двадцать лет – что с нами всеми тогда будет».
У Ленки был с собой лист бумаги и карандаш – для портретов. Мы разорвали лист на четыре части, и каждый написал свой вариант. Я загадал, что Ленка улетит в тропики, будет лечить там всех зверей и спасать джунгли от вырубки. Сам я стану велосипедистом-путешественником, объеду вокруг земного шара, и только на его полюсах буду пересаживаться на снегоходы и в собачьи упряжки, а океаны тоже буду пересекать на специальной вело-лодке с парусом. Я пытался представить себе, каким будет Длинный через двадцать лет, но у меня ничего не получалось. Против его имени я поставил знак вопроса. А Валерик станет лесником-отшельником – я так написал специально, чтобы его подразнить.
Ленка написала, что заведет кошку и будет ходить с ней на работу – в библиотеку или музей. Там тихо – в громких местах Ленка работать не собиралась, чтобы кошка лучше себя чувствовала. По дороге на Ленкину работу кошка пряталась бы в специальной удобной сумке, а в Ленкином кабинете – вылезала бы и ходила себе. Валерик напишет книгу стихов, но никому ее не покажет. Я буду диспетчером на железнодорожной станции, ночной воздух над проводами будет звучать моим голосом. Длинный станет космонавтом и будет выходить в открытый космос, как к себе домой, вокруг него будут распахиваться черные дыры и взрываться звезды.
Длинный написал, что через двадцать лет мы встретимся, и что-то нас очень рассмешит. А Валерик – что всех нас похитят инопланетяне.
Когда все было готово, Длинный сказал, что, для верности, перед началом игры каждый должен свою записку проглотить. Так мы и поступили.
Игра прошла быстро. Батарейка в фонарике почти совсем села, карты были видны еле-еле, но мы все-таки их различали. Выиграл Длинный, у него с самого начала оказались все козыри.
* * *
– Пойдем отсюда, – говорит Лена и сжимает мои пальцы. Мы идем по коридорам, все быстрее и быстрее, потом мы бежим – коридоры становятся все уже. Мы можем передвигаться в них только друг за другом. Все чаще встречаются ответвления, переходы и лестницы. Каждый раз у нас есть только несколько секунд, чтобы решить, куда свернуть. Некоторые двери раскрыты настежь, в них пульсирует свет, ослепляя нас. В других дверях стоит темнота. От них нужно отворачиваться, потому что если туда попадает взгляд, то ты уже ничего не можешь сделать: ты идешь вслед за ним, и темнота проглатывает тебя. Я дергаю ручки закрытых дверей – нам нужно найти Длинного. Наконец одна из дверей поддается. Мы стоим на белом песке. Солнца не видно, но от его света хочется зажмуриться. Море уходит к горизонту. Далеко впереди мы видим линию берега. Она прямая, будто проведена по линейке. И море – ровное и застывшее. С моря дует ветер.
* * *
Я открываю глаза. Еще совсем рано, в комнате полутемно. Лена тоже не спит. Я встречаюсь с ней взглядом. «Опять этот сон?» – спрашивает она.
– Да, – отвечаю я, – уже десять лет, как Длинный исчез, а мне, видимо, все кажется, что он вернется. Я встаю, иду на кухню варить кофе. Окно открыто настежь и слышно, как где-то вдалеке гудит поезд. «Это не так, – говорю я себе, – мне не кажется, что он вернется, мне кажется, что все может быть по-другому». Это другой день – та же дата, та же погода за окном, – но не раздается тот ночной звонок, про который следствие выяснило, что он был, но кто звонил, откуда – так и осталось неустановленным. Длинный остается дома, не собирается в спешке и не уходит в это свое неизвестно куда. Например, он уже спит, или у него грипп, или он просто валяется на диване и читает книжку. А потом наступает следующий день, и можно выдохнуть – жизнь, сделав петлю, возвращается в прежнее русло.
– Сегодня приедет Валерик, – говорит Лена, – представляешь, он тоже помнил, что сегодня – тот самый день, когда мы все должны были встретиться. Он сказал, что должен сообщить нам что-то важное.
– И смешное, – добавляю я мрачно.
Валерик приехал с опозданием. Сказал, что привезли кота в тяжелом состоянии. Пришлось срочно оперировать, но все в итоге прошло удачно. «Пойдет на поправку». Мы пьем вино, а потом выходим на балкон. Мы не включили в комнате свет, и в начинающихся сумерках фигуры Лены и Валерика постепенно становятся почти невидимыми. Только воздух, там, где они стоят, остается боле плотным и темным.
– Так вот, – говорит Валерик, – я все-таки должен вам это рассказать. Длинный тогда жульничал. Фонарик почти погас, он этим воспользовался и набрал себе козырей.
Мы молчим. Будто пленка, жужжа и набирая скорость, перематывается, а потом, едва не порвавшись, останавливается. Длинный смеется и раздает карты.
– Но послушайте, – говорит Ленка, – а кто же из нас тогда все-таки выиграл?
Я слышу, как прыскает от смеха Валерик. Рядом хихикает Ленка. Мы хохочем, и налетевший откуда-то ветер треплет наши волосы, заполняет нас.
Александр Шуйский Шкатулка с секретом
Первым чувством была досада.
Терпеть не могу такие фокусы: просишь же, оставьте мне только стены, я все равно все переделаю, так нет.
Обязательно застрянет в доме либо кошмарный шкаф в потеках столярного клея, с мутным зеркалом и шпоном в пузырях, либо тумба якобы красного дерева – дверцы провисают, полки внутри из прессованной стружки, задняя картонная стенка отошла в одном углу.
И всегда одни и те же объяснения: рука не поднялась выкинуть, некогда разбираться или даже «да какая вам разница».
Эта история повторялась на каждой моей съемной квартире, несмотря на условие «без обстановки». Я так надеялся, что уж в купленном-то жилье ничего подобного не будет, – нет, стоит, красавец. Сукно на крышке давно заменил кошмарный кожзам, одна из ног надстроена каким-то обломком, на половине ящиков нет ручек, и весит этот стол, конечно же, целую тонну. Я попытался его хотя бы сдвинуть – и понял, что придется либо брать топор, либо звать рабочих. Грандиозно.
Я выругался и вышел в кухню. Вот здесь как раз были только плита и раковина, как я и просил. И то, и другое я, конечно же, собирался менять, хотя плиту можно было бы и оставить, хорошая, новая плита, газ наверху, внизу электрическая духовка, все, как любила Татка. Ей бы понравилось.
– Тебе бы понравилось, – сказал я.
И поскорее полез в коробку, которую сам выставил посреди кухни, чтобы не затерялась. Вытащил оттуда джезву, кофе, мельхиоровую ложку на длинной ручке и черную керамическую чашку. Сейчас мы не будем реветь, сейчас мы будем варить кофе.
Первые два или три месяца без Татки слиплись в один невыносимый день, я и представить себе не мог, что в наше время смерть сопровождает такая бесконечная бумажная волокита, разрешение на то, разрешение на это, бумаги оттуда, бумаги отсюда, я подписывал их как робот, ничего не соображая. Я вообще не понимал, как это можно – взять и умереть среди ночи, просто вот так вот взять – и уйти, и ни слова мне не сказать.
Ладно. Не смей ее обвинять, подумай о чем-нибудь хорошем.
И я подумал: все-таки хорошо, что Татка ушла вот так, замечательная смерть, всем бы такую. Умерла она в конце августа, а когда я в первый раз после этого выглянул в окно – увидел снег, мягкие крупные хлопья.
Еще четыре месяца у меня ушло на продажу нашей только что выкупленной у банка квартиры и покупку этого жилья посреди нигде. Я хотел именно так: захолустье, но у моря, Болгария, Словения, Черногория, все равно. И когда подвернулись полдома в каком-то городке у черта на рогах, к морю идти восемь километров, причем через Италию, – думал недолго. Съездил, посмотрел, а потом только и осталось, что оформить документы. Все, что угодно, но снег за окном я теперь видеть не хотел никогда.
Кофе был сварен, я нашарил в той же коробке тростниковый сахар, налил себе полную чашку – и вернулся к ужасному столу, потому что это была единственная горизонтальная поверхность во всем доме, не считая подоконников. Беглый осмотр спальни выявил стул без спинки – когда-то он был венским, с сиденьем тисненой кожи, но сейчас выглядел так, что я дал себе слово выкинуть его, как только заведу себе хоть какую-то мебель. Заводить мебель и вообще обставлять новый дом – это замечательное, всепоглощающее занятие, я рассчитывал, что мне хватит его по крайней мере на полгода. Нашу квартирку мы обставляли пять лет, и до книжного шкафа, к примеру, так и не добрались.
Ладно. Ладно.
Я прихлебывал кофе и смотрел в огромное окно. За тот вид, который открывался из гостиной, можно было простить и не такой стол. Во-первых, прямо напротив окна в синих сумерках торчал кипарис. Немного пыльный и блеклый после зимы, но настоящий кипарис. Дерево рядом с ним было названо мне инжиром, но как оно выглядит с листвой, я, видимо, узнаю только через месяц. А еще мне придется учиться ухаживать за розами. И диким виноградом. Представляешь, Татосий, у нас стена гостиной заплетена снаружи диким виноградом, сейчас пока только прутья, но летом… Так, вот туда не надо. Совсем мне туда было не надо, и следовало срочно чем-то себя занять, разобрать коробку с матрасом, например, но я почему-то сидел и смотрел на кипарис, и думал, что это очень удачное место для письменного стола. И сам стол не так уж ужасен. Если его немного отмыть, подреставрировать, заменить этот жуткий дермантин, положить сверху толстое тяжелое стекло – получится рабочее место моей мечты.
Я отнес чашку в раковину и заглянул в кладовку. В кладовке нашелся пластиковый тазик – ценная вещь, – запас тряпок, зеленой мыльной жидкости и туалетной бумаги. Я решил, что мои продавцы – настоящие ангелы, окончательно простил им стол и взялся наконец за коробки. Матрас у меня был надувной, и если я хотел сегодня лечь не в три, надо было срочно им заняться. Еще же простыни искать. И еще – письмо Татке.
Утром, в солнечных пятнах, стол показался мне почти красавцем. Я вооружился тазом, ножом и тряпкой, очистил крышку от дермантина и грязи, полюбовался, сварил себе кофе и взялся за ящики. Ящиков было семь штук – по три в тумбах и один большой и плоский прямо под крышкой. И этот длинный ящик был заперт. Я подумал, что потом как-нибудь его вскрою, взялся за боковые, и в левом нижнем нашел ключ. В первый момент обрадовался, а во второй – сообразил, что этот ключ никак не может быть от ящика письменного стола – слишком маленький, слишком затейливый. Такими ключами вскрывают потайные отделения в секретерах или заводят драгоценные механические игрушки в рост человека. Так что ящик в итоге пришлось взламывать ножом.
Его почти весь занимала шкатулка красного дерева.
Большая и плоская, как коробка сложенной шахматной доски, абсолютно гладкая, невероятно красивая. Сразу было видно, что этой вещи по меньшей мере лет двести. Узор на дереве выглядел как темные пузырьки в толще воды. Рисунок ажурных кованых уголков белого металла очень подходил к рисунку ключа, и я, не задумываясь, вставил его в замочную скважину и повернул. Раздался щелчок, он показался мне куда более громким, чем тот, с которым открылся замок самого ящика. Оказалось, что шкатулка была открыта, а я ее только что закрыл. Оставалось только повернуть ключ в обратную сторону. Но как я ни старался, мне это не удавалось.
Я покрутил шкатулку в руках в поисках скрытого механизма. Она оказалась довольно тяжелой, но это мог быть вес самого дерева. Я машинально протер ее мокрой мыльной тряпкой, спохватился, что делаю ужасную глупость, протер влажной и чистой, а потом еще и высушил бумажными полотенцами. С такой вещью следовало обращаться нежно. Бог весть, почему ее здесь забыли, но я купил этот дом, а значит, и стол, и его ящик, и ее, она теперь моя, что бы в ней ни было. Ножом я ее, конечно, ковырять не буду, просто вечером сяду спокойно и еще раз попробую ключ. Я поставил шкатулку на подоконник и весь день время от времени оборачивался на нее – такая она была прекрасная.
А еще я думал – в ней же может быть все, что угодно. Старые письма. Колье с бриллиантами. Бечевка или пус-с-сто, моя прелесть. Все, что угодно.
Поэтому к вечеру, закончив с огромным куском уборки и разбором еще пяти коробок, я сел ужинать за отмытый письменный стол и воображать, что же такое может быть в моей шкатулке. И мне это так понравилось, что я решил: я не буду ее открывать. Пусть там будет что угодно. Я лучше придумаю ей Содержимое. И оно там будет – по крайней мере, пока я ее не открою, верно? Это тоже был хороший способ себя занять. И я сел и написал письмо Татке – подумай только, нашел шкатулку, сам же запер, теперь открыть не могу. Письма Татке я писал каждый вечер. Ничего особенного в них не было – дела, скучаю, погода. Но над ними я позволял себе реветь. И это помогало. И писать тоже помогало, особенно при свете лампы, за огромным монстром о семи ящиках. Эти письма посоветовал мне за месяц перед отъездом один старый друг, я начал писать за компьютером, но это было как-то ни то, ни се. Потом я вычитал, что такие вещи нужно делать от руки, и вот тогда дело пошло, я даже начал выискивать какие-то смешные мелочи за день, чтобы было о чем написать. И так потихоньку начал выкарабкиваться, а потом и уехал. Ладно.
А через три дня пришла новая мебель, проявился старый заказчик, которому все всегда надо вчера, я закрутился и забыл про мой волшебный ларчик.
И вспомнил о шкатулке только через неделю, когда вешал шторы и нашел ее на подоконнике.
Я сел на диван, поставил ее себе на колени и начал воображать Содержимое. Скорее всего, там все-таки какие-то бумаги. Старые письма, счета, – нет, счета не хочу, письма лучше. (Колье с бриллиантами я отверг сразу – ну что бы я делал с этим колье, а?) Может быть, на самом дне лежат письма-ровесники этой шкатулки. И я их даже и прочесть-то не смогу, они же, скорее всего, на немецком, тогда в этих землях только на нем и писали. Выше – записочки помоложе. А самым верхним лежит письмо от Татки.
Я спохватился только тогда, когда обнаружил, что вою в голос. Нет, так нельзя. Пошел в ванную, подставил голову под холодный душ, вытерся, пошел на кухню, сварил кофе. Нужно просто открыть эту чертову шкатулку, убедиться, что она пуста, и не забивать себе голову кошмарами. Письма ему. С того света, ага. Совсем свихнулся один в пустом доме. К морю сходи, два часа вниз, четыре – наверх, потому что в горку, отлично проветришься.
И я действительно отлично проветрился, успокоился и даже аккуратно попробовал еще раз вообразить Таткино письмо в шкатулке. Когда идешь в горку и торопишься успеть до сумерек домой, поневоле приходится глубоко и сильно дышать, и под это дыхание можно обороть практически все на свете. Во всяком случае, разреветься крайне трудно. Ну что такого особенного, в самом деле – записка с того света? Я же пишу туда письма – и ничего. Может, они тоже ложатся в какую-нибудь шкатулку, там, у себя.
Я шел, дышал и думал, о чем могло бы быть это письмо. Конечно, не бойся, конечно, не плачь, конечно, ужасно люблю. А потом внезапно выскочило: смотри, дом у моря (ну, почти у моря) ты себе уже сделал, сделай наконец остальное, что давно хотел, а то будет, как со мной – сердечный приступ и все, и ничего не успеешь.
Я даже остановился на секунду. Будь я хоть немного мистик, я сказал бы, что отчетливо услышал в голове ее голос, но я совсем не мистик, никакого голоса не было. А остановился я от того, что не смог сразу вспомнить, хочу ли я теперь чего-нибудь. Последние полгода у меня было одно сплошное «не хочу» – не хочу в снег, не хочу в эту квартиру, не хочу никого видеть, никогда не хочу в метро.
И я снова пошел в горку. И вспоминал, а чего же я хотел полгода назад, даже уже почти год, когда было еще лето и предвкушалась долгая осень, и, может быть, отпуск у теплого моря. Вспомнить удалось далеко не сразу. Да и желания все казались какими-то мелкими, второсортными. Книжный шкаф, боже ж ты мой. Сейчас мне хотелось только одного: чтобы еще как можно дольше пустовала вторая половина дома (хозяева приезжали туда только на лето), и чтобы в шкатулке лежала записка от Татки. Ужасным Таткиным почерком, который могли разобрать только я и она.
Войдя в дом, я не разулся, а так в кроссовках и вошел в гостиную, взял шкатулку в руки, даже вставил ключ. Но так и не повернул. Пусть там лежит письмо. Я так решил. Вот тебе ящик, в нем живет твой барашек. Поставил шкатулку на письменный стол, прямо под лампу, слева от монитора, и больше не трогал.
Весна в этом году начиналась поздно и неспешно, на инжирном дереве наливались почки размером с кулак, но раскрываться пока не собирались, зато виноград выпускал первые, еще цвета салата, скрученные листья. Я собрал в доме все необходимое для жизни, дальше можно было уже выбирать не наспех, долго прикидывать, прежде чем присоединить новую вещь к уже имеющимся. Одна большая пачка работы была сделана, до старта второй было еще недели две, и у меня внезапно появилось очень много свободного времени.
Через три дня, около пяти утра, я обнаружил, что перестал готовить и только один раз был в магазине, потому что кончился кофе, а заказать новый я забыл. То есть за три дня запоя в «Цивилизацию» я уговорил пачку кофе и половину блока сигарет. Из зеркала над раковиной на меня глянуло заросшее и отекшее лицо. Первым порывом было немедленно побриться и идти наружу – все равно за чем, лишь бы от монитора, – зато вторым проступило отчетливое «ну и пусть». И вот второго я испугался – хотя и не сразу. Я дошел до стола, машинально запустил игрушку и даже сделал несколько ходов. И понял, что я могу просидеть так неделю. Или две. Или больше – пока не появится новая работа, после чего я ее сделаю, куплю кофе в три раза больше обычного – и снова сяду.
– Ну уж нет, – сказал я вслух. – Дудки. Этот номер у вас не пройдет, гражданин Гадюкин.
Ровно десять минут у меня заняло открыть четыре сайта, обнаружить, что в Венецию из прибрежного города ездит рейсовый автобус, выяснить расписание и забронировать ночь в отеле. Я проделывал все это в каком-то веселом остервенении, хорошо понимая, что оно – всего лишь обратная сторона моего тупого безразличия, запал скоро пройдет, и я буду чувствовать только усталость. Ну, вот пока не прошел, надо пользоваться, может быть, удастся что-то сделать.
Что именно сделать-то, спрашивал я себя, собирая рюкзак. Чего ты хочешь? Каких перемен? Да хоть каких-нибудь. Так нельзя. Так я снова досижусь до снега за окном, запросто, подумаешь, что его в этих краях по десять лет не видали.
Но перед самым выходом, уже чувствуя, как снова подступает к глазам и горлу знакомое «ну и пусть», я проглотил приступ жалости к себе, достал из ящика ключ, вставил в шкатулку и повернул.
Конечно же, она оказалась пустой. Если бы не автобус через два часа, не снятые с кредитки почти сто евро – я, может быть, так и остался бы сидеть у стола и смотреть на пустое донышко, пока не стемнеет. А может быть, даже остался. И кто-то другой, совсем новый, злой сам на себя до чертиков, сделал вдох, сглотнул скопившуюся под языком слюну, закрыл шкатулку, запер входные двери и вышел из дома.
За три часа дороги моя злость поутихла, растеклась, превратилась в кривую усмешку. Вот такой, перекошенный и несчастный, я вышел на автовокзале, поймал «двойку» до Пяццале Рома, на которой в Венеции заканчивается асфальт, пересек высокий мост и пошел вдоль первого же маленького канала. И уже через полчаса понял, какую колоссальную сделал глупость, приехав именно сюда.
Я уже бывал в Венеции, два или три раза, практически проездом и всегда бегом, но еще ни разу не был здесь весной. В воздухе стояла водяная взвесь, солнце едва пробивалось за прядями тумана, от каналов тянуло холодом и сыростью почти подвальной. Я брел наугад, дома становились все кривее, а прохожие попадались все реже, я совершенно не понимал, где нахожусь, знал только, что где-то между вокзалом и Академией, а это понятие очень растяжимое. Одиночество плескалось во мне почти вровень с глазами, как зеленая стылая вода вровень с набережными, такое же соленое и такое же равнодушное. Венеция – город медленной смерти: погружаясь сама в себя, обваливаясь, осыпаясь, она упорно сопротивляется всем усилиям ее спасти. Я был в Венеции, ее поглощало море, а меня – мое горе. Но меня, в отличие от нее, никто не спасает, да и не станет, после Таткиной смерти я остался совершенно один. Ну, раз так, тебя нужно поить кофе, дорогой мой, решил я и начал выбираться из лабиринта.
В конце одной из улочек промелькнула лагуна, и я пошел на нее, как на свет. И оказался как будто в другом городе. На набережной было тепло. Здесь даже время от времени принималось светить солнце. Здесь стояли столики кафе, пахло какой-то вкусной снедью, деловито вопили чайки и сновали катера. Я выпил капучино, потом попросил горячего вина, а потом и пообедал. И так и просидел на набережной до самого заката.
Облака уже догорали, как угли, когда я плыл на катерке через лагуну в свою гостиницу. Море не плескалось, а мелко вздыхало, и шум мотора казался излишним, катер плыл бы и без него, просто скользил бы по этой глади, как змея по траве. Я смотрел на башню храма на острове и думал, что все-таки очень хорошо, что я поехал. Горе горем, а есть вещи, которые не отменить даже горем. Закат, белая лагуна. Этот город. В конце концов, всегда есть этот город.
Вдоль фарватера зажглись фонари, ночь наступила сразу и везде, и я близоруко щурился на указатели улиц. Гостиница нашлась на удивление легко, все, что от меня хотели – это документы и оповестить о времени завтрака. Я кивнул и выложил на стойку паспорт. Портье взялся за него и вдруг поднял на меня глаза.
– Сеньор, вы из России?
– Ну, практически, да. А что?
– Вы не могли бы нам помочь? Сегодня утром пришло письмо, адрес наш, и написан по-итальянски, но вот адресат… у нас это даже прочесть никто не может, это какие-то не те буквы. И почерк… ужасный. Вы не могли бы нам сказать, как это хотя бы произносится?
Александр Шуйский Новости с утра
У меня есть по крайней мере два неоспоримых достоинства: одно врожденное – это воображение, второе я долго и тщательно в себе воспитывал – это концентрация.
Нет, пожалуй – три. Третье тоже врожденное. Я очень легко заигрываюсь. Если уж берусь во что-то верить, я верю. Я погружаюсь в придуманное с головой. Я прямо-таки живу тем, что начинается как самая простая фантазия.
Не уверен, что это достоинство. Но уж как есть.
Утро я начинаю с новостей. О, в них-то у меня никогда нет недостатка. Тут главное как следует подобрать рассылку. Я потратил на это много месяцев, и поэтому все новости у меня – пальчики оближешь, одна к другой. Упавший самолет – куча жертв. Два теракта: один в Израиле, еще один – в Дании. Маньяки. Насильники. Мир щедр ко мне. Каждый день что-нибудь эдакое.
– Чтоб у тебя все самолеты попадали, – с чувством говорю я, глядя на логотип злосчастной авиакомпании. – Чтоб они все расшиблись в лепешку. Все до единого. Вместе с пассажирами, командой и переноской с десятью котятами.
Я прямо вижу эти самолеты. Слышу визг, причитания, вижу, как вжимаются в кресла обреченные пассажиры. Котята в переноске – и те орут от ужаса. Так-то, голубчики. На выставку летели, да? Международную. Призы хотели взять? Вот вам ваши призы – всмятку, насмерть, со взрывом в хвостовой части и пожаром в кабине пилотов.
Маньяки – о, маньяки мои лучшие друзья. Я желаю им долгих лет жизни, отменного здоровья и очень, очень много удачных охот. Я воображаю для них самых тупых и неповоротливых полицейских, безруких криминалистов и следователей с толченым кирпичом вместо мозгов. Когда они думают, пытаясь вычислить моих драгоценных маньяков, у них из ушей сыплется оранжевая крошка.
Террористы. Я обожаю террористов. Пусть они будут умны, изворотливы и находчивы. Да, и еще хладнокровны. И никогда не знают сомнений. Чувство собственной правоты и решимость – вот что я ценю в террористах больше всего. А еще – безнаказанность. Я желаю им безнаказанности, истово, от всего сердца, пока не кончится утренний кофе в большой красной чашке.
После завтрака я всегда иду мыться, потому что после всех этих усилий делаюсь мокрый, как мышь под метлой. Но, пока моюсь, тоже не бездельничаю: желаю всему дому отключения горячей воды, эдак на неделю. А еще лучше – всему кварталу. На месяц. И отопление чтобы отключили тоже. И крыша чтобы протекла.
Кстати, о крыше. По ней должен барабанить дождь. О, как я хочу дождя. Я стою под тугими струями душа и думаю о ливне. О низких сизых тучах. О восхитительно мерзкой погоде на всю неделю.
Разумеется, когда я выхожу из дому, снаружи – чрезвычайно погожий денек. Чтоб тебя, думаю я, но уже скорее по привычке.
Сегодня у меня выходной, нужно потратить его с пользой. Поэтому я иду пешком, сначала по нашей улице, потом по соседней, к набережной, все ближе и ближе к центру.
Всем, всем достанется, кого я ни встречу. Вот эта мерзкая старушенция сейчас попадет под машину, прямо на перекрестке. Девушка, я так и вижу, как у вас ломается каблук и весь день летит из-за этого насмарку, а вы же шли на собеседование, вы так хотели получить эту должность, не получите, ни за что! Эй, парочка влюбленных, он начнет тебе изменять уже через неделю, а тебя ждет бесплодие. И – да, обязательно, рак груди.
Фокус в том, чтобы найти хотя бы небольшой изъян в каждом встречном – и вызвать у себя самые истовые ненависть, досаду, раздражение, зависть. Это очень легко. Куда легче, чем, скажем, искренне желать здоровья и долголетия. Так что с прохожими я управляюсь легко и просто.
А вот искренне желать удачи и здоровья маньякам мне пришлось учиться, и довольно долго. И до сих пор не всегда получается сразу. Но у меня есть проверенное средство: лента фейсбука. Пролистаешь с утра пару экранов – и все, готово дело.
Официальные новости – вещь ненадежная. Люди куда лучше демонстрируют себя, когда пишут сами. Всю свою тупость, косность, жадность. Люди совершенно не умеют молчать о себе. Выворачивают всю подноготную, и как же она неприглядна, доложу я вам. И как же легко возненавидеть все человечество в целом и пожелать ему немедленно какой-нибудь особенно забористой пандемии, разлома Йелоустоунского парка, выброса радиоактивных осадков и вообще конца этого самого кошмарного из всех миров. Желательно в корчах.
Я хорошо помню, как это началось. С малости, как обычно. С панического страха перед соседом: напившись, он ломился во все двери нашей маленькой коммунальной квартиры, угрожал, сыпал ругательствами. Какие муки я изобретал для него. Какие напасти. Бабушка била меня по губам, если замечала, как я бормочу себе под нос. На нее я, кстати, тоже очень злился, воображал ей жуткие болезни, хулиганов, отнимающих пенсию и мое пособие, взорвавшуюся газовую колонку и скользкий пол в ванной. Бабушка дожила до девяноста и умерла во сне. К этому времени мы с ней остались в квартире одни: нашим соседям откуда-то из невероятных складок мироздания и бюрократической машины выпало отдельное жилье, бабушка переехала в две их комнаты, а ее маленькая досталась мне. Я успел вымахать в студента второго курса, заучку и неудачника на всех фронтах. К той весне, когда я похоронил единственного родного человека и стал обладателем совершенно ненужной мне квартиры, мое сердце уже побывало разбитым трижды. Как раз накануне смерти бабушки третья моя большая любовь выскочила замуж за кого угодно, только не за меня. Помню, я еще сдал тогда весеннюю сессию на тотальное «отлично» – и не мог понять, каким же образом это получилось, ведь на учебу у меня вообще тогда не было времени. Но это уже так, детали.
Словом, я тогда заварил себе чаю, взял большой лист бумаги и расписал всю свою жизнь, в колонку справа – воображаемую, в колонку слева – реальную. И сравнил. И сделал выводы.
С тех пор и пошло.
На самом деле я, конечно, трус и слабак. Мечтатель. Настоящего честолюбия – ни на грош, но в моем случае это, скорее, к лучшему, чем наоборот. Но силы воли – тоже кот наплакал. Нормальный человек, не тряпка, на моем месте нашел бы себе какой-нибудь монастырь в тибетских горах, просидел бы десять лет в медитации и научился бы ничего не хотеть. Но я не могу. На самом деле я люблю людей, люблю животных и хочу, чтобы любили меня. Ничего не могу с этим поделать. Мечтать, как говорится, не вредно. Угораздило же меня уродиться с повышенной эмоциональностью. Буддист из меня никудышный. Вот завистник и мизантроп – это да. Эту волну я могу поймать запросто. Вот и ловлю. Что-то – лучше, чем ничего.
Отработав день, я возвращаюсь домой и позволяю себе напиться. Выходной у меня или где. Не в хлам, конечно, вот еще. Только чтобы немного кружилась голова и мысли накатывали, как прибой на крупную гальку – одна волна за другой. Вот я лечу, как птица, над зелеными островами. Вот поднимаю бурю, злобную, со смерчем и ураганом, черная воронка идет по городам и весям, а я только смеюсь, упиваясь собственным могуществом. А вот – самое любимое: мне дают Нобелевскую премию Мира, за ежедневный огромный вклад в то, что этот самый мир все еще относительно здоров и благополучен, и все, буквально все здравомыслящие люди осознают, как ужасна была бы их жизнь, если бы не я и мой удивительный дар. Правда, для такого полета фантазии мне нужно действительно хорошо напиться. Обычно я просто мечтаю, что умею летать, что у меня маленький белый домик где-нибудь на островах, любящая семья и большая собака, золотистый ретривер.
Это абсолютно безопасно, я хорошо это знаю, и могу позволить себе понежиться в таких картинках, почему бы и нет. Я же сказал, я трус и слабак. Давным-давно мог бы взять себя в руки и отправиться на поклон к настоящему мастеру в оранжевой хламиде или как там одеваются истинные гуру.
Но беда в том, что я этого все-таки хочу. Не могу не хотеть. Не могу не мечтать о том, как меня оставляет зависть, раздражение, как мои мысли становятся ровными и гладкими, как озерная вода на закате. Да и от фантазий своих мне тоже очень трудно отказаться, если уж на то пошло.
Ладно, думаю я, засыпая. По крайней мере, я стараюсь приносить пользу. Хоть какую-то пользу этому поганому человечеству, чтоб ему провалиться в тартарары.
Все мои желания всегда сбываются, только наизнанку. Хорошо хоть денег я никогда не хотел по-настоящему. А то бы совсем пропал.
Александр Шуйский Белая дорога
Коллекционировал темноту, вот что он делал.
Не сколько себя помнил, нет, гораздо меньше. Ему было уже лет шесть, когда после тяжелейшей ангины он вдруг начал бояться темноты. Никогда раньше не боялся, а теперь вдруг начал. Родители не стали настаивать и купили ему маленький ночник – лампочку, которая втыкалась прямо в розетку, плафон темно-синего стекла с прорезными звездами и лунами. Ночник мягко светился синим и желтым, с ним можно было не бояться темноты и спокойно спать по ночам, и так оно и было до тех пор, пока из интерната для математически одаренных детей не приехал на лето старший брат.
Последний раз они виделись, когда младшему было еще пять, и никакого интереса для выпускника восьмого класса этот головастик не представлял. Но шестилетний брат – совсем не то же самое, что брат пяти лет, поэтому, увидев ночник, старший поинтересовался, в чем дело.
После чего на следующий же вечер погасил в детской все огни, сел к младшему на кровать и велел выждать пять минут.
– А теперь описывай, что видишь, – сказал он, когда пять минут прошли.
– Стол, – неуверенно ответил младший. Старший брат молча ждал, так что пришлось продолжить: – Стул. Твои тетрадки. Мой конструктор на полу.
– Раз ты все это видишь, как ты можешь считать окружающее пространство темнотой? Ну сам подумай. Свет из окна, свет из-под двери. Плюс отраженный от всех поверхностей. Да тут куча света! Какая ж это темнота?
Темнота, сказал тогда старший, – это не просто недостача света. Это недостача его до такой степени, что ты не можешь сказать, что там, в этой темноте, находится. Темнота может скрывать в себе все, что угодно. Поэтому тебе страшно. Но вот перед тобой твоя комната, ты видишь все, что в ней есть. Это не темнота, дурачок. И бояться тут нечего.
На следующий день младший попробовал не зажигать свет в ванной и как следует прикрыть дверь. Когда глаза привыкли к темноте, оказалось, что через вентиляцию поступает достаточно света, чтобы рассмотреть если не все, то довольно многое.
Потом он последовательно попробовал шкаф, туалет и два слоя одеял. С точки зрения отсутствия света два слоя одеял оказались самым действенным средством, но данная конкретная темнота совершенно точно содержала не все, что угодно, а просто его самого.
А потом старший брат уехал за город с друзьями и больше никогда не вернулся. Купались в слишком холодной реке, мгновенная остановка сердца, никто и ахнуть не успел.
А младший остался коллекционировать темноту.
Он пробовал все места, которые казались ему достаточно темными. Платяной шкаф ночью. Чердак на даче – последовательно во все времена суток. Заброшенный бункер, в котором в последнюю войну пережидали авианалеты. Закрытая изолированная лаборатория, если все обесточить.
Сначала говорил себе: чтобы больше никогда не бояться. Потом – чтобы увидеть наконец настоящую темноту. А потом – просто потому, что привык это делать. А еще потому, что очень скучал. Поиски тьмы не были данью, не были вообще ничем особенным. Просто скучал, имеют люди право скучать по умершим старшим братьям.
И каждый раз либо пространство было слишком мало для того, чтобы скрывать в себе что угодно, либо имелся хоть крохотный, но источник света, позволяющий разглядеть окружающие предметы. Следовательно, под определение брата это все не подходило.
Ночью пошел пройтись уже больше из привычки искать темноту, чем из желания прогуляться: устал с дороги, в городе впервые, до рассвета еще часов пять, не меньше, выспаться бы. Но где-то в этом городе находилось специальное, абсолютно темное кафе, устроенное так, что посетитель действительно ничего не видел, затея была призвана поддержать слепых, дать, что называется, побыть в их шкуре, но у него был свой интерес, и когда начали искать специалиста в командировку на тестирование новой лаборатории, вызвался сам, и поехал, и теперь убеждал себя, что имеет смысл хотя бы найти это кафе и посмотреть часы работы.
Город как-то очень быстро закончился, дальше был огромный парк, следовало развернуться и уйти обратно к освещенным улицам, но он шел и шел по темным аллеям в пятнах редких фонарей, забираясь все глубже, так что городское зарево осталось далеко позади.
Вскоре кончился и парк, впереди маячила последняя аллея, на ней не горел ни один фонарь, а асфальт, несомненно, серый в свете дня, казался белым, особенно по контрасту с черной бахромой деревьев и кустарника по краям.
Он двинулся вперед по белой дороге, снизу поднимался весенний туман, как раз зацветали плодовые деревья, их белые шапки светились в темноте размытыми облаками. Из-за туч внезапно вынырнула луна, круглая и звонкая, как гонг.
С ее появлением все изменилось. Все, что было светло-серым – налилось белым светом. Цветущие ветки засияли как неоновые вывески, все мутно-белое стало ослепительно-белым. А все, что было темно-серым – ветки, тени, еще оголенная с зимы земля – налилось темнотой.
Это была совершенная темнота. Тени от деревьев вились по белому асфальту сложным и дробным узором, в глубине кустарника, на котором слой лунного света лежал как слой снега, тьма становилась абсолютно неразличимой, теряла свойства тени и приобретала свойства пространства. Свет накрывал ее сияющим платком, но под ним – под ним она шевелилась и перетекала, складывалась в гротескные или очень реалистичные фигуры, они рассыпались, стоило подойти чуть ближе – и появлялись заново, как только он удалялся на несколько шагов.
Он шел по белой дороге и смотрел во все глаза. Совершенная, совершенная тьма. Она – вот она могла скрывать в себе все, что угодно. Но каким-то удивительным образом ничего не скрывала, а скорее выставляла напоказ во всей красе – видимо, именно потому, что могла.
Шел бездумно, как во сне, мысли перекатывались в голове стеклянными шариками, сначала множество на коробку, потом все меньше, потом – вот уже катаются, ударяясь о стенки, только два или три. В конце концов остался только один, самый тяжелый, самый неповоротливый и невнятный: «вот зачем это все было», – а ноги несли по белой дороге вниз и вниз, а внизу ритмично ворочалось и рокотало, с каждым шагом все громче, невидимое, но безошибочно определяемое по запаху и звуку море.
Александр Шуйский Недоразумение
– А-а, инкуба тебе в климакс! – заорала я и швырнула в дверь подушкой. Подушка не долетела, но дверь все равно захлопнулась со стороны коридора. Обычно я выражаюсь не так изысканно, но очень хотелось разозлить мать и потешить себя: она вряд ли знала, что такое инкуб, зато грядущего климакса боялась, как черт ладана. Если она пойдет за разъяснениями к своему батюшке, что это такое пожелала ей любимая дочь, будет совсем хорошо.
– Не надо так говорить, – быстро и очень тихо сказал ангел. Сходил за подушкой, принес и теперь стоял над кроватью, не решаясь сунуть ее мне под голову. – Особенно про маму.
– Дай сюда, – сказала я, выдернула подушку и пристроила в изголовье.
Он сел на край кровати, сутулясь и неловко умащивая крылья. Крылья – это было единственное по-настоящему красивое у него. Ослепительно-белые, прозрачные и мягкие, похожие на тополиный пух в солнечном свете. Все остальное – коровьи ресницы, нелепые белесые волосы, короткие и торчащие во все стороны, как жнивье, детские губы, руки, покрытые гусиной кожей (мерз он, что ли?), голые ноги – вызывало во мне острое раздражение.
– А вы все время меня видите? – спросил он, явно стесняясь.
– Разумеется.
У меня неоперабельная опухоль мозга, левой височной доли. Я живу с этим диагнозом достаточно давно, чтобы пройти все пять стадий, исключая смирение. Вот чего от меня никогда не дождутся, дудки. Дис смеется, говорит, думать надо было меньше. Но он всегда смеется.
Помимо всех неудобств, доставляемых подобной, с позволения сказать, немочью, у меня еще и это: да, я их вижу. Собственно, стоило мне увидеть эту щуплую фигурку и зареванные лица матери и двух теток, как я сразу поняла, что именно они со мной сотворили.
– Очешуели у вас там все, – сказала я и повернулась на бок. – Вконец оскотинились. И ведь нашелся же поганец в рясе, а. Разве так можно?
Чудненько просто все складывается: бац, я отрубаюсь у себя на кухне, прочухиваюсь уже в больнице, явно не одни сутки спустя, и возле моей кровати маячит это. Ангел-хранитель, мля. И куда подевалось правило, что в бессознательном состоянии крестить нельзя? Я скажу куда. Под очень толстую пачку денег, вот куда.
На самом деле я, конечно, не думала, что дело решили именно деньги. Я хорошо знаю, что таинство крещения над коматозником проделывают в исключительных случаях, и все эти случаи тщательно оговорены. Но я была очень зла. И мысль о том, что маменька просто-напросто купила какого-то священника с потрохами, доставляла мне сейчас большое удовольствие. Могла – и купила. У маменьки все всегда очень просто.
– Коза пластилиновая, – сказала я шепотом. – Истеричка. Язычница. Добилась-таки своего.
– Она хотела как лучше, – жалобно сказало крылатое недоразумение, и я повернулась и приподнялась на локте.
– Как лучше, да? Вот на кой ты мне сдался? Веры мне не хватает? Силы? Чего? Иди вон ее утешай! Кстати, не припомню, чтобы хоть кто-то из вашей братии рядом с нею ошивался. Могли бы выделить кого покрепче, ей бы не помешало!
– Ангел-хранитель дается только верующим, – выдало это дитя назидательным тоном.
– И на кой… леший ты мне дался? Ты вылечить меня можешь? Нет? Вали на свое небо, скажи, когда приду, плюну всем в рожи. Так и скажи. Что тут такое было, что они решились? Я что, гимны на латыни распевала?
– Нет. Только Данте в подлиннике. Ну, под конец. И еще на арамейском…
– Что? – изумилась я.
– Когда я появился, вы бранились на арамейском, – сказал мой ангел, будто извиняясь. – Но я же не сразу пришел, только после таинства.
Я снова легла, как-то разом обессилев. Ненавижу. Не-на-ви-жу. Гады, какие гады. Навязали на мою голову. Мало ей опухоли.
Он вдруг поднялся и присел перед кроватью, лицом к лицу ко мне.
– Я не могу вас вылечить, – сказал он. – Но я могу вот это.
И выдохнул, как на стекло.
– Подержи.
Я сунула ему ручку полиэтиленового пакета, взялась за вторую и принялась упихивать пижаму, зубную щетку, футляры с очками (на чтение и на письмо, и еще третьи, для улицы, но они были на цепочке на шее), тапки, полотенце, еще какую-то хрень. Мой ангел безропотно держал пакет. Он вообще, надо отдать ему должное, очень старался помочь, только постоянно демонстрировал полное незнание среды, в которой оказался. Из всех ангелов-хранителей мне досталась просто уникальная бестолочь.
Три дня я провалялась в больнице, в понедельник явился мой лечащий врач, мы с ним уже пару лет хорошо знаем, куда идем. Ко вторнику он меня выписал. Мог бы и в понедельник, но понедельник мы потратили на препирательства: я настаивала, чтобы уволили ту дуру, которая была на дежурстве, когда мать протащила в больницу батюшку, Анатолий просил смилостивиться и забрать заявление, и в общем был прав, матушка в раже необорима. Как заметил однажды Дис, если бы моя мать была в войске Ганнибала, ни слоны, ни уксус ему бы уже не понадобились.
Ангел мой все это время вел себя очень тихо, грел мне чай, подтаскивал поближе разные мелочи, проповедовать не брался, даже послушно уходил за окно, когда я просила оставить меня одну. И сны. За те сны, в которые я погружалась с его помощью, я даже была готова простить ему нелепый вид и вечно хлопающие ресницы.
Единственное, что меня всерьез беспокоило, это – а ну как он столкнется с Дисом. Тот появлялся у меня, когда хотел, мог нагрянуть даже в самый неподходящий момент. И думать о том, что эти двое скажут друг другу на моей кухне, мне совсем не улыбалось.
А уж думать о том, что Дис потом скажет мне… Язык у него острый, как скальпель, я, как всегда, буду сидеть с видом вытащенной на берег рыбы и проклинать чертову опухоль и чертову височную долю, и чертову свою голову, вмещающую слишком много для обычной человеческой головы. Вот чтоб мне быть нормальной тридцатилетней дурой со стрижкой «каскад» и мечтой о миллионере? Насколько бы все было проще.
«На кой я тебе сдалась, а? – спросила я как-то Диса. Это было третье или четвертое его появление. Он ходил ко мне, как в зоопарк, у меня все-таки опухоль мозга, а не слабоумие, чтобы вообразить что-то другое. – В мире полно баб, которые пол бы под твоими ногами целовали. Какого черта?»
«Ты варишь лучший кофе на этой несчастной планете, – ответил он, как всегда посмеиваясь. А потом вдруг сделался серьезен, кажется, первый раз за все время, и добавил: – А еще ты понимаешь мои шутки».
Такси от больницы я взяла по двум причинам: во-первых, у меня не было никакой уверенности, что я хочу видеть шоу «ангел в общественном транспорте», а во-вторых, мне в этом транспорте самой нехорошо. Я, конечно, сказала Анатолию, что огурец, но уже после лифта и двух лестничных пролетов огурец был вяловат и склонен к желтизне.
Была еще и третья причина. Мне хотелось поскорее домой. В мою кухню, где пахнет кофе и специями. В кабинет, заставленный книжными шкафами, так что огромный стол стиснут со всех сторон, а корешки и золотые обрезы блестят за дверцами почище любого драконова золота, и каждый раз, когда я сажусь работать, во мне поднимается алчность и нежность от одного только взгляда на книжные ряды. К любимому матрасу и гречишной подушке, в конце концов. У толстых пачек денег есть одно преимущество: на них не купишь здоровье, но можно купить комфорт.
– И даже ангела-хранителя, – проворчала я, нашаривая в кармане ключ от подъезда. Как будто мне все еще было необходимо настаивать на этой мысли.
Означенный ангел молча шел за мной, только таращился на лепнину и декоративный камин в вестибюле. Я забрала у него пакет (не знаю и знать не хочу, как это выглядело со стороны), поздоровалась с консьержем и вошла в лифт.
У дверей квартиры я остановилась и повернулась к ангелу.
– Вот что, – сказала я. – Если Дис, не дай Кто, сидит у меня, ты ведешь себя тише воды, ниже травы, ясно?
– Дис? – растерянно спросил он.
– Классику надо знать, – сказала я с удовольствием. – Раз уж людям навязываешься.
Он несколько раз сморгнул своими коровьими ресницами, потом все же ответил:
– Я знаю. Просто…
– Просто не встревай.
– Я постараюсь, – сказал он, но как-то неуверенно.
Разумеется, Дис восседал у меня на кухне. В антикварном кресле мореного дуба, закинув ногу на ногу, свесив с подлокотников длиннопалые кисти. Затертые джинсы сидели на нем, как влитые, рубашка была белее ангельских крыльев, он покачивал носком ноги в синем мокасине и смотрел на нас с веселым изумлением.
Подняться мне навстречу он, конечно же, не соизволил. Как всегда.
– Что это? – спросил он наконец.
– Мать подсуетилась. Меня не спросили, – буркнула я, бросая пакет в угол. – Кофе будешь?
– Буду, конечно. Иди-ка сюда, крылатенький, дай на себя посмотреть.
Я, делая вид, что ничего особенного не происходит, взялась за банку с кофе, специи и джезву, зажгла газ, проделала все необходимые манипуляции, поставила джезву на огонь и только после этого обернулась.
Ангел стоял перед сидящим Дисом, как нашкодивший школьник, опустив голову, едва не дрожа. По лицу у него ручьями катились слезы. Дис, подперев голову рукой, без улыбки рассматривал мое приобретение.
– Ты хоть знаешь, с кем связался? – сказал Дис с мягкостью, которой я у него никогда не слышала. – К кому тебя отрядили? Да я Лилит подвину, чтобы ее усадить поближе.
– Да-да, и колпак с бубенчиками подаришь, – вставила я, шалея от происходящего.
– Помолчи, – сказал он все так же мягко, но даже головой не качнул в мою сторону. – А ты отвечай.
– Больше никто не согласился, – прошептал мой ангел и икнул. А потом таким же заикающимся голосом добавил: – Ваша светлость, я должен просить вас немедленно уйти отсюда. Я обязан. Извините.
– Спятил, – констатировал Дис. – А если я сейчас возьму тебя за крыло и начну ощипывать, как цыпленка?
Мой ангел снова икнул.
– Я ничего не могу поделать, – сказал он, и с его подбородка капнуло на пол. – Я понимаю, что я тут не нужен. Но я уже здесь. И не могу поступать против своей природы.
Рати небесные, как он хохотал. Как он хохотал, закинув голову и лупя ладонью по коленке, обтянутой линялой джинсой.
Потом успокоился, протянул руку и взял несчастного за мокрый подбородок и дождался, пока тот посмотрит ему наконец в глаза.
– Учись, – лучезарно посоветовал Дис, встал, кивнул мне и вышел. Ангел остался посреди кухни.
Я, опершись о столешницу и сложив руки на груди, молча смотрела на это недоразумение. А он вдруг метнулся к плите, схватил джезву, та зашипела, перекипая – я совсем про нее забыла.
– Святые угодники, – ойкнул ангел и быстро выставил джезву на стол. – Горячая какая.
Я отлепилась от столешницы. Ну хоть какой-то со всего этого прок.
– Чашки в том шкафу, – сказала я. – Мне белую, от Виллерой и Бох.
Александр Шуйский Трансформация
Третий раз, – говорит джезва, – третий раз за день, ну что за кривые руки, а.
Слушай, – говорит кофе, – я тут уже по всему столу мимо банки, но я же молчу. Подумаешь, опрокинули тебя разок. Ну да, он неловкий, ну что поделаешь.
Кодеин не надо жрать пачками, – говорит джезва, – тогда и руки трястись не будут. И мыть меня хотя бы иногда.
Нет уж, – говорит раковина, – пока меня не прочистят, никакого мытья. У меня на дне два ножа и три ложки, и все под культурным слоем, скоро жизнь заведется. Еще один слой кофе я просто не выдержу.
Что значит никакого мытья, – говорит лестница на второй этаж, – да он уже два раза поскальзывался, еще раз расплещет что-нибудь, загремит с концами, никакой кодеин не поможет.
Просто неловкий, – говорит кофе. – Ну и не спал двое суток, тоже надо учитывать.
Уборщицу пусть заведет, – говорит лестница, – сколько можно, неудивительно, что в таком бардаке…
Не надо мне про бардак, – кричит рабочий стол из студии, – вот только не надо мне про бардак, ладно?
Это не бардак, – говорит коробка красок, – это творческий беспорядок. Вон же на планшете как чисто, и палитры все вымыты, а где ульрамарин?
Под столом, – мрачно отзывается ультрамарин и добавляет не без сарказма: – Еще с позавчера.
Долго мне тут еще лежать, – говорит лист акварельной бумаги, – я спрашиваю, долго мне еще лежать в этой луже, я же раскисну, у него голова на плечах есть вообще, нет? Мне мокро, мокро, мокро!
Чшш, – говорит малярная лента, – вот я тебя сейчас, не рыпайся. Лежи ровненько.
Опять! – кричит джезва, – он опять поставил меня на плиту и ушел!
Ха, – говорят жалюзи на южном окне, разворачиваясь, – работа!
Меня! – хнычет большая металлическая линейка, – нужно взять меня! Тебе обязательно нужно взять меня, у тебя ничего не получится, почему он меня никогда не берет, а? Граждане, это же нечестно, я же самая ровная на свете, как так можно, а.
Замолчи, – говорит тюбик с белилами, – просто замолчи, ладно? Черт, опять он меня смахнул со стола.
Тихо вы, – говорит большой флейц, – сейчас начнется.
У него все падает и руки трясутся, – говорит синтетическая нулевка. Она в студии новенькая, ее только сегодня принесли из магазина, она скептически смотрит на «художественный беспорядок» на столе. – Меня вообще нельзя такими руками брать, я вам не температурный самописец.
Тихо, – снова говорит флейц. – Он сейчас начнет превращаться.
Он сейчас будет с шишкой на затылке, – говорит стол, – за ультрамарином полез. Ай! Ну, что я говорил? Кодеин еще остался там, нет?
На сегодня хватит, – говорит блистер. Он израсходован наполовину и лежит между феном и большим монитором. – Должно хватить.
Зачем меня менять, – говорит вода в глубокой миске, – я же чистая, ну, самую малость зеленая.
Все замолчали, – говорит ультрамарин и давит жирную каплю на палитру. – Кобальт, ты со мной? Где охра? Давай сюда. Поехали.
Как это, – говорит нулевка, – как это, у него что, по шестому пальцу отрастает? Как он это делает?
Кто-нибудь знает текст «Heart of courage»? – спрашивает Гугль, – не могу найти.
Тихо, – говорит флейц, – потом поищешь. Не мешай колонкам, лучше звук добавь. Смотрите, смотрите, вторая пара рук.
Не могу смотреть, – говорит стол, – он мне этим хвостом своим чешуйчатым все ножки пооббивал.
Долго еще? – говорит лист, – я что-то подсыхаю.
Потерпи, – говорит ультрамарин, – где нулевка? Была же, сегодня же купили?
Ай, – пищит нулевка, – он меня облизывает! У него язык раздвоенный! Эй, я хочу обратно в магазин, я…
Макайся, – говорит сепия. – Макайся и работай. Умница. Хорошую кисть купили. Вон как славно пошло.
Эй, я ничего не вижу, но мне щекотно! – хихикает лист. – Ой, а фен-то зачем?
А вот увидишь, – говорит фен. – Я вот отлично все вижу. Хорошо получилось. Ну что, фиксатив или рано еще?
Самое время, – говорит флейц. – Ну вот, уронил. Жалко, что хвост уже пропал, им хорошо баллончики из-под стола выкатывать. Это что, стемнело уже?
Ага, – говорят жалюзи. – Закругляйтесь.
Эй, ну что там, что там? – спрашивает лист. – Я же ничего не вижу!
Сейчас! – говорят жалюзи и сворачиваются. За окном темно, в свете настольной лампы отражение в окне четкое и яркое.
А ничего так, – говорит лист. – Симпатично. А он всегда так дымится, когда превращается? Вам не страшно вообще?
Мы привыкли, – говорит флейц.
Башня кривая, – ворчит линейка. – Надо было меня брать, то же мне, художник.
Чучело, – ласково говорит гугль и показывает картинку. – Эта башня последние двести лет кривая, сваи просели. Хорошие сваи, лиственничные, хотите, расскажу, как их вбивают в ил?
Всезнайка, – ворчит линейка и отворачивается насечкой к стене.
Не горюй, – утешает ее монтажный нож. – Он потом паспарту резать будет, много будет резать, и все по тебе. Не горюй.
Ну, молодец, вспомнил, – говорит джезва. – Твое счастье, что ты еще и плиту забыл включить.
В кладовке стоят женские босоножки. У них оборван ремешок, их не взяли, и они молчат. Только смотрят на чистое пятно в пыли на полу. Чемодан уехал, и поговорить босоножкам не с кем. Может, все-таки он когда-нибудь отнесет их в ремонт, полгода обещает, может все-таки отнесет.
Мария Станкевич Ночь пограничника
Несмотря на то, что поселения разрастаются и меняют свои физические очертания, настоящие границы всегда остаются на своих местах. Как и пограничники.
После переезда Аня заметно воспрянула духом. Гоняла мокрой тряпкой пыль из углов, распаковывала бесконечные коробки и коробочки, играла в пятнашки, расставляя их содержимое по полкам. Снова начала улыбаться.
– Представляешь, – говорила за ужином, – каких-то шестьдесят лет назад это был край города. Подумать только: наш дом был последним! А сейчас, считай, что в центре живем. Правда здорово?
Артем улыбался ей в ответ. Конечно, здорово, когда жена приходит в себя. И возвращается к нему.
Он тогда и не заметил, как это произошло. Как-то вскользь, потихоньку. Вот она еще встречает его на пороге объятьями, но уже очень быстро от них отстраняется. Не сразу поймешь, правда? Обнимает же. Вот они еще спят в одной постели, но все чаще он засыпает обнимая подушку, а не ее. А проснувшись, долго бродит по дому в одиночестве, пока она не встанет – часа в три пополудни. И еще час будет сидеть на балконе с чашкой кофе, сигаретами и отсутствующим взглядом. Вот еще разговаривают, но она больше молчит. Вот еще гуляют перед сном, но словно по разным улицам. Вот еще, и еще, и еще…
– Граница проходила по забору – видел забор? Скажи, занятный? Так странно представлять, сейчас там магазин, а за ним дорога и дома, и еще много-много домов, и магазинов, и всего подряд. А что было? Пустыри? Лес?
Ругал себя. Он и переезд-то ускорил, чтобы хоть как-то ее расшевелить. Никто их не гнал с той квартиры, и сама квартира была неплохая, хотя и чуть дальше от центра, и можно было бы подождать, подкопить, поискать варианты. Но нет, не мог уже жить в этом уютном безмолвии. Говоришь – не слышит. Прикасаешься – отстраняется. Спрашиваешь – не отвечает. Злишься – уходит. Вроде рядом, а нет ее. И что происходит – непонятно.
И вот, оттаяла. Начала улыбаться. Обнимать сама. Заговорила. Временами еще как: вон трещит про дом, у него уже в ушах позвякивает. Как раньше. Так здорово.
Месяц после переезда Артем еле дышал, словно дикого зверька боялся спугнуть новое (старое, такое родное) Анино настроение. Теперь почти не боится, вернулась хорошая. Почти совсем вернулась.
А всего-то и надо было – переехать. Кто бы мог подумать вообще? Может, тот дом что-то вроде радиоактивного был? Ходили такие слухи по городу про некоторые старые постройки.
– А ты заметил, что они тут по вечерам во дворе тусуются? Как в детстве: бабушки на лавочках, мужики в домино играют, вот это все. Заметил? Дети гуляют! Ты давно видел, чтобы во дворах дети гуляли?
Квартиру нашли быстро, и десятка вариантов не перебрали. То есть как… перебирал он, ей было все равно. Ходила, конечно, с ним на просмотры, но смотрела больше не на потолки и стены, а в свой планшет дурацкий. Проходила по квартире, кивала равнодушно и усаживалась на первый попавшийся стул, оставляя Артему открывать краны, проверять слышимость и задавать все необходимые вопросы. Ничего-то ей не надо, все-то ей нормально.
А к этому дому пришли и заинтересовалась вдруг. Попросила риелтора подождать, обошла весь двор, потрогала деревья, покачалась на качелях, долго стояла и нюхала многочисленные цветы в палисадниках.
– Смотри, – сказала, – какой забор занятный. Мне тут нравится.
Большую часть года врата закрыты, и пройти через них можно лишь по великой нужде. Лишь недолгое время, в течение нескольких ночей, что лежат меж двух праздников, граница становится открытой для всех, имеющих желание к переходу.
К зиме все вообще устаканилось. Аня не только к Артему вернулась, но и к миру: познакомилась с соседями, с удовольствием принимала участие в домовых делах. Даже вошла в совет жильцов и исправно ходила на собрания, решала там какие-то вопросы о ремонтах, оплатах, посадках, субботниках и прочей общежитейской суете.
Однажды купила несколько банок краски и несколько дней разрисовывала подъезд наивными орнаментами. Соседи, проходя мимо испачканной Ани, восхищенно цокали языками. Через неделю второй и третий подъезды пришли к ней с просьбой сделать то же самое и у них. Жильцы даже гостям хвастались: вот какая у нас Анечка теперь живет, смотрите, какая мастерица. Артем случайно подслушал и долго гордился Аней (и немного собой – как же удачно он придумал этот переезд, как хорошо, что согласился на эту квартиру).
Вся эта домовая активность отъедала время у работы и быта, но Артем воспринимал это спокойно. У него один за другим выстреливали проекты, денег хватало и на выплаты за квартиру, и на доставку еду, если Аня была занята, и на всякие причуды, вроде краски для подъезда. Анин крохотный фриланс и раньше погоды особо не делал. Зато всем хорошо.
На новый год никуда не поехали. Аня настояла, хотя и друзья звали на турбазу, и у родителей давно не были, и даже на маленькую поездку куда-нибудь в тепло хватило бы. Артем не стал спорить, набегался за год и вполне был готов к тишине и уюту. Купили большую елку, Аня полдня украшала дом, а потом еще полдня развешивала оставшийся дождик по подъезду и деревьям во дворе. Не одна, соседи тоже натащили всякой новогодней мелочи, кто что мог.
Украшенный двор выглядел хаотично, сумбурно и очень мило. Сразу видно: хорошие люди в доме живут, дружные, веселые, а что со вкусом не очень, так нам нравится, а до остальных и дела нет.
– Я тебе говорила, что тут и старый Новый год отмечают? – Аня только что пришла со двора, где носилась с соседскими детьми – веселая, раскрасневшаяся, со сбитым дыханием. Артем валялся на диване, подъедая остатки салатов. Настроение было ленивое, расслабленное. До конца каникул еще много дней, можно себе позволить немного растительной жизни.
– По-настоящему отмечают, как новый Новый год, – Аня упала рядом с Артемом и сразу же полезла к нему в салат – прямо пальцами. Выудила кусочек мяса и тут же уронила его себе на кофту. Засмеялась.
– Выходят к полуночи, считают время, фейерверки запускают, шампанское, Дед Мороз, гуляют до утра…
– Безработные все, что ли? – Артем укоризненно снял мясо с Аниной одежды. – Каникулы-то закончатся к тому времени.
– Ой, столько дней гуляем и ничего той работе не делается. Еще один день она точно в лес не убежит.
– Действительно!
– Мы же пойдем? Пойдем?
– Конечно, пойдем. Только не до утра все-таки, ладно?
Переход совершается в темное время, поэтому у врат всегда должен гореть огонь. Стражи полагается менять каждые три часа, так как за такое время сила пограничника иссякает и ему требуется отдых.
В ночь на четырнадцатое во дворе было светло и ярко, кажется, даже ярче, чем в «настоящий» Новый год. И весь дом собрался. Вокруг смеялись, носились подростки, мелюзга пыталась кидаться снежками – это из сухого морозного-то снега, многочисленные собаки лаяли и путались под ногами, и сразу из нескольких мест доносилась музыка – что-то очень знакомое, старое, новогоднее. Аня тоже смеялась, напевать принялась, пританцовывать, а потом унеслась куда-то, растворилась в толпе, и не видать где она.
Артем закурил, разглядывая двор и его обитателей. Все то время, что они здесь живут, он не очень-то ими интересовался. Нет, знал уже почти всех в лицо, а некоторых даже и по имени, внимательно выслушивал сплетни, которые Аня приносила в избытке, спокойно подписывал всевозможные бумажки и давал деньги на обустройство и украшательства. Но не приглядывался особо, не вникал. Своих дел полно, а Аня отлично подходила в качестве полномочного представителя их семьи.
Кто-то толкнул его в бок: сосед снизу, веселый старикан с болонкой под мышкой.
– Чего стоишь, иди открывай шампанское. Полночь скоро.
Артем послушно отправился к столам, на которых летом деды играют в домино, а сейчас накрыт фуршет – из того, что осталось после первого нового года. Осталось, надо сказать, немало: и бутерброды, и салаты, и конфеты, и бутылок на всех хватит. Впрочем, традиция же, наверняка специально припасали.
Артем открывал одну бутылку шампанского за другой, их тут же выхватывали у него из рук и уносили разливать по пластиковым стаканчикам. Напротив Артема две тетушки раскидывали салаты по тарелкам, разговаривали. Прислушался.
– Гостей-то как много в этом году, а? – говорила одна, ловко орудуя большой ложкой.
– Да уж не сильно больше, чем в прошлом, – отвечала вторая, принимая полную тарелку. – А вот туда ринулись-то все, ринулись. Словно медом им там намазано.
– А что ж не намазано, что ли? – захохотала первая.
– Так кому медом, а кому и… сама знаешь, – обе хмыкнули и вдруг уставились на Артема, который как раз сражался с очередной бутылкой, но глядел не на нее, а на тетушек, завороженный разговором.
– А вы чего сидите? – спросила первая. – Времени-то совсем не осталось.
– Не понял, простите, – Артем немного растерялся. Он все крутил пробку, пробка была совершенно невыносима. Надо запомнить: такое шампанское не брать никогда, фиг откроешь.
– На ту сторону не собираетесь почему, спрашиваю. Минут через двадцать закрывать уже будем.
Тетка махнула головой в сторону забора. Того, который так понравился Ане еще в самом начале. Четырехгранные столбики, покрашенные белым и черными полосами, металлические секции, обвитые мишурой, фонарики поверху… Н-не понял. Артем только сейчас заметил, что одна из секций – ворота. Двухчастные и распахнутые.
Служба пограничника не сложна, но требует особого внимания и умения распознать – свой ли стучится в врата или чужак, которому нечего делать на этой стороне. Ибо даже в открытые двери пройти достоин не всякий.
У ворот стояли с одной стороны юная девица с дрожащим той-терьером на руках, а с другой – тетка из третьего, кажется, подъезда. У ее ног сидел большой пес немецкая овчарка, ошейник из двухцветной мишуры делал его несколько безответственным, но, кажется, это только иллюзия. Он так свирепо смотрел на тех, кто уходит за ворота, что ясно – лишнего не пропустит.
А уходящих много: человек двадцать выстроились в аккуратную, затылок в затылок, очередь. Все в мишуре и серпантине, в красных шапочках, с бенгальскими огнями в руках. Перетаптываются как пингвины, по одному отдают что-то тетке и проходят туда, где вообще-то глухая стена магазина всегда была. А сейчас что? Антон пригляделся.
С той стороны был туман (в минус пятнадцать?). И из этого тумана, также размеренно-пингвиньи выходили… тени. Серые, полупрозрачные, немного похожие на людей расплывающимися силуэтами. Отдавали что-то девице и проходили во двор, тут же растворяясь в толпе веселящихся соседей.
Артем вздрогнул, и пробка, которая только что не желала даже крутиться, выпрыгнула из бутылки, вызвав совершенно неприличный фонтан шампанского.
– А! Вот ты где! – Аня напрыгнула на него сзади, чуть с ног не сшибла. Он схватил ее за руки, кивнул в сторону забора – видела?
– Ну наконец-то, – она засмеялась. – Пойдем?
– Куда? Туда? А что там? Что это вообще?
– Граница же, – она обняла его, запрокинула голову, пытаясь заглянуть в глаза. Непросто, когда между вами тридцать сантиметров разницы. – Та сторона.
– Не понял.
– И не надо! Там разберемся.
Каждый пограничник сам должен хотя бы однажды пройти сквозь врата. Никто не знает, вернется ли он, когда и каким. Но если вернется, быть ему среди лучших и жить не зная бед и печали.
Оставшееся до полуночи время они спорили. Даже немного кричали друг на друга. Аня рассказывала какие-то странные сказки, он просил ее не морочить ему голову. Злился.
На себя в первую очередь. Что, сложно, что ли, поддаться любимой жене, которой приспичило поиграть, пройти с ней через эти ворота да вернуться во двор праздновать старый новый год со всеми. Но почему-то было сложно. Тени, кажется, здорово его напугали. Он даже старался не смотреть в ту сторону. А еще взрослый человек, да?
Кто-то закричал: минута осталась! Двор заметался, закружился с бокалами шампанского, бенгальскими огнями, зажигалками, тарелками.
– Извини, – Аня сделала шаг назад. – Все, извини, пожалуйста. Я пошла. Минута осталась.
– Аня, прекрати, – ему стало нехорошо. Она вдруг, в одну секунду показалась ему такой как была до переезда – отстраненной, безучастной, сухой, как снег под ногами.
– Извини, – она отходила от него спиной, маленькими шагами. – Родителям наври что-нибудь, ладно?
– Аня!
Она слабо улыбнулась, взмахнула рукой и бросилась к забору. Там уже никого не было, кроме соседок и собак, никакой очереди, никаких теней. Аня подлетела к ним, заговорила – облачка пара вырывались из ее рта один за одним. Соседки смеялись, кивали головами.
– Десять!
Обратный отсчет.
– Девять!
Немецкая овчарка потянулась носом к Аниной куртке.
– Восемь!
Ему хотелось броситься за ней, но не смог пошевелиться.
– Семь!
Аня что-то отдала тетке. Ему отсюда не видно – что.
– Шесть!
Кто-то сунул Артему в руку пластиковый стаканчик с шампанским.
– Пять!
Аня обернулась, разыскала его глазами. Снова улыбнулась – на этот раз широко, радостно, замахала руками, показала большой палец.
– Четыре!
Сзади кто-то толкнул его так, что он чуть не упал.
– Три!
Шампанское пролилось на ботинки.
– Два!
Выровнял равновесие.
– Один!
Попытался снова увидеть ее. Но Ани уже не было. Тетка с девицей с явным трудом закрывали ворота, к ним на помощь подскочили парни. Артем зажмурился.
– Урррра!
После полуночи весь двор вопил, чокался, скакал с такой силой, что земля под ногами начала ходить ходуном.
– Ну вот и отработали, – произнес чей-то голос у Артема за спиной. Открыл глаза, обернулся. Снова старик с болонкой. Протянул руку со стаканчиком – с праздником, мол.
– А ты чего такой унылый? – спросил старик. – Радоваться надо!
– Чему? – Артем и отвечать-то не хотел, само как-то.
– Как чему? – старик спустил с рук болонку и она тут же обняла Артема за ногу. – Девчонка твоя ушла, молодец. Уж думали, не рискнет.
Артем дернул ногой, пытаясь отогнать собаку.
– Да ты не боись, вернется она.
– Когда?
– Ну, уж когда-нибудь да вернется, – старик прищурился. – А там и ты пойдешь.
– Еще чего!
– Пойдешь. Все ходят и ты пойдешь, – у старика получилось «пойдеоооуушь», болонка, не отпуская Артемовой ноги, подвыла снизу – оооууушь!
Артем снова задергал ногой и противное животное наконец-то обиженно отлепилось от него.
– А пока, чтоб не скучно было, собаку заведи. С собакой хорошо, с собакой лучше.
Старик подхватил болонку одной рукой, поклонился и ушел. На Артема тут же налетела стайка подростков. Вопили вразнобой, размахивая бенгальскими огнями. Пихнули ему один, чуть рукав не прожгли.
– Ура! Поздравляем! С праздником!
Он стоял в центре их хоровода, дурак дураком, со смятым стаканчиком в одной руке, с догорающим огоньком в другой, и очень старался ни о чем не думать. Потом, потом, хорошо?
В небе бухали фейерверки.
Окончание перехода необходимо праздновать – со всею страстью и великой радостью. Желавшие прийти – пришли, желавшие покинуть наш мир – покинули его, стража выполнила свой долг. В Ночь Пограничника следует зажигать огни, пить хмельные напитки, петь громкие песни и не печалиться ни о чем.
Мария Станкевич Зепп Гшвендтнер – удачливый моряк
В наш город туристы нечасто попадают, хоть и море рядом, а развлечений-то никаких. Жара и скука. Единственная достопримечательность, что достается на долю редких гостей – маленькая Сессна на берегу. Самолетик стоит прямо на камнях, глядя носом за горизонт. Рядом с ним любят назначать свидания и встречи, дети обожают играть возле него да и взрослым он тоже нравится. Наша Сессна не памятник, нет! Она самый настоящий, просто очень маленький самолет. У нее даже есть хозяин.
Зепп Гшвендтнер родился в крохотном поселке возле аэродрома. Там не то что моря, реки-то рядом не было, камни да трава. Но с самого рождения Зепп Гшвендтнер хотел стать моряком. Родители не понимали его увлечения, но не мешали мальчику фантазировать, и даже иногда помогали: мать выкрасила стены его комнаты в синий цвет, а отец где-то раздобыл большую карту мира. Как известно, воды на ней значительно больше, чем суши.
Любимым местом игр маленького Зеппа Гшвендтнера была невесть какой водой занесенная на окраину аэродрома лодка. Самая обычная лодка, ничего примечательного, на такой даже в море-то не выйдешь, разве что на тихую речку, порыбачить. Но для Зеппа Гшвендтнера она была настоящим сокровищем, убежищем, тем, что любишь всем сердцем и за что будешь сражаться, если придется, до самого конца. Но ему не пришлось, в поселке умели уважать чужие чудачества. Только качали головами: «Куда денется, будет летать», да и все.
Конечно, он полетел. Все, кто жил в поселке, так или иначе были связаны с небом. «Наше море – небо», смеялись старшие. Зепп Гшвендтнер только морщился: в небе было хуже, чем в море, хотя все-таки и лучше, чем на земле. К восемнадцати годам Зепп Гшвендтнер знал про море все, на шее у него висел куриный бог, а в сердце шумели шторма. Он стал отличным пилотом, чертовски везучим.
Зепп Гшвендтнер не интересовался женщинами. Он считал, что настоящему моряку женщины ни к чему – они отнимают удачу. Но женщины интересовались красивым пилотом Зеппом Гшвендтнером и часто дарили ему свою любовь. Иногда от этой любви оставались дети. Подрастая, они начинали пускать кораблики в лужах и вязать морские узлы на шнурках.
Несколько раз Зепп Гшвендтнер подбирался к морю довольно близко. Если можно назвать близостью высоту в несколько тысяч метров над поверхностью. Однажды, совершая ночной перелет над побережьем, Зепп Гшвендтнер взмолился, отчаянно и неистово: пусть мы сейчас упадем, пусть последние секунды своей жизни я проведу в море. Но тут же испугался – ведь в самолете были люди – и так же отчаянно попросил отменить предыдущую просьбу. Зепп Гшвендтнер был хорошим человеком и не желал никому смерти.
Зепп Гшвендтнер злился, когда его спрашивали, почему он не возьмет отпуск и не махнет на курорт. Если уж так любишь море, то будешь любить его и не будучи настоящим моряком. Можно же просто искупаться, взять пару уроков серфинга или дайвинга, в конце концов есть морские круизы – плыви. «Ничего-то вы не понимаете», – отвечал Зепп Гшвендтнер и замолкал. Валяться на берегу или жариться на палубе круизного корабля казалось ему предательством. Он был моряком, а не туристом.
Зепп Гшвендтнер редко напивался, но если это случалось, шутил, что он, возможно, самый удачливый моряк на свете: ни разу не попадал в шторм, не тонул, не вялился под солнцем недельного штиля, дурея от скуки, акулы не преследовали его, а в ангаре с самолетами даже не водилось крыс. В этой шутке было столько тоски, что любая вечеринка оканчивалась после нее в пять минут.
К сорока годам Зепп Гшвендтнер немного остепенился и даже нашел себе жену. Добрую женщину, родившуюся в далеком поселке у моря. Ее увезли оттуда, когда ей было три года, и она больше туда не возвращалась. Но Зепп Гшвендтнер говорил, что ее волосы пахнут солью и ветром, а, значит, она идеально ему подходит. На обед у семьи Гшвендтнер часто была рыба. Дочь они назвали Мариной.
В сорок пять Зепп Гшвендтнер перестал быть пилотом и начал учить тех, кто станет пилотом потом. Написал несколько книг. Небо не оставил, поднимался туда на маленькой двухместной Сессне, которая, впрочем, вряд ли могла донести его до моря. Все хотели попасть в класс к Зеппу Гшвендтнеру, он был удачливым пилотом и его удачливость передавалась его ученикам.
Когда Зеппу Гшвендтнеру исполнилось шестьдесят, он оставил преподавание. После шумной прощальной вечеринки, бывший пилот заперся дома и не выходил оттуда около недели. Еще через сутки была обнаружена пропажа старенькой Сессны. Той самой, на которой так любил подниматься в небо Зепп Гшвендтнер. Сам Зепп Гшвендтнер тоже исчез.
Много дней не утихал поселок. Коллеги облетали окрестности в поисках разбившегося Зеппа Гшвендтнера, «Практическая дальность самолета – 850 километров», кричали они друг другу, «он не мог далеко улететь, он просто где-то упал». Но ведь улетел.
Домыслы о том, что случилось, не строили разве что младенцы. Жену и дочь Зеппа Гшвендтнера несколько раз вызывали на допрос в полицию. Жена слабо улыбалась и пожимала плечами, дочь вовсе отмалчивалась. Улетел и все, кому же знать?
Через год успокоились. Отслужили поминальную службу, выпили по стаканчику за упокой души пилота, мечтавшего о море, и разошлись. Отъезд жены и дочери Зеппа Гшвендтнера уже совсем никто не заметил, кроме парочки ближайших соседей. Впрочем, кассирша, продававшая билеты фрау Гшвендтнер, рассказывала товаркам, что последним пунктом назначения у семьи пропавшего пилота, был далекий маленький город у моря: «Она ведь оттуда родом, вы знали?».
В наш город туристы нечасто попадают, хоть и море рядом, а развлечений-то никаких. Жара и скука. Единственная достопримечательность, что достается на долю редких гостей – маленькая Сессна на берегу. Самолетик стоит прямо на камнях, глядя носом за горизонт. Рядом с ним любят назначать свидания и встречи, дети обожают играть возле него да и взрослым он тоже нравится. Наша Сессна не памятник, нет! Она самый настоящий, просто очень маленький самолет. У нее даже есть хозяин – Зепп Гшвендтнер, капитан одного из наших рыболовных судов. Говорят, раньше он был пилотом.
Мы тут все ловим рыбу, и я тоже когда-нибудь буду. Возможно, даже под началом Зеппа Гшвендтнера, мама говорит, это было бы хорошо. У нас тут считается, что Зепп Гшвендтнер – отличный капитан и удачливый моряк, и ходить с ним на одном судне – лучше и не придумаешь.
Но я надеюсь, что мне все же удастся уговорить господина Гшвендтнера научить меня летать. Пока он не поддается на мои просьбы, хотя про небо я знаю уже очень-очень много. Я не отчаиваюсь, госпожа Гшвендтнер, его жена, говорит, что рано или поздно Зепп Гшвендтнер обязательно смягчится, согласится и пустит меня в самолет. И я поднимусь в небо.
Мария Станкевич Ида
– А потом заведем собаку. Дворняжку. Возьмем из приюта или вообще на улице подберем. Дворняги – лучшие друзья на свете.
Ида часто так говорила. Возможно, ей казалось, что собака – вершина уюта, высшая точка всех желаний, что-то, что появляется в последнюю очередь – когда все вопросы решены, все проблемы в прошлом, все слезы высохли, а все враги мертвы и больше никогда не побеспокоят нас. К собакам я была равнодушна, но неизменно отвечала:
– Дворняги, конечно, лучшие.
Мы с Идой познакомились около года назад: в городском парке, возле пруда с двумя томными деревянными русалками. Я никогда не знакомилась на улице и вообще не представляла, как это могло бы со мной произойти. Оказалось, очень просто: привет, меня зовут Ида…
С ней вообще было просто. Она приходила и уходила, ничего не просила, ни о чем не спрашивала. Никогда не оставалась на ночь, как бы я ее ни умоляла, никогда не оставляла меня у себя. Сколько бы ни было времени, она рано или поздно говорила: «Я вызову тебе такси». И вызывала, и я уходила из ее маленькой квартиры на пятом этаже. А в общем меня никто и не спрашивал.
Я носила ей цветы, покупала у глухой старухи на углу. Она читала мне стихи, очень любила Пушкина.
– И, как чижик в клетке тесной, дома буду горевать и Наташу вспоминать! – говорила она уходя, и обязательно добавляла. – Собаку мы назовем Наташей – в честь тебя.
Я смеялась:
– Как ты себе это представляешь? Собака Наташа!
Это было легко, смешно, нежно – и чудовищно пошло. Это было некрасиво, невыносимо, неправда – и очень хорошо. Мы носились по городу, обедали в кафе и пили вино на крышах, обменивались смс-ками и письмами, смеялись и плакали, созванивались каждые полчаса, почти не касались друг друга – и говорили, говорили, говорили.
А ночами – теми ночами, когда Иды не было рядом, – я маялась от стыда и думала, что надо бы завязать, уйти, исчезнуть. Лучше всего – без предупреждения, не оставив даже записки, перестав отвечать на звонки. И свет, свет не включать в квартире по меньшей мере неделю! Давно, усталый раб, замыслил я побег… Но где взять решимости его совершить? Каждое утро приносило мне радость – Иду. Я не могла, я хотела быть с ней и ужасно от этого бесилась.
Бесилась и снова и снова покупала цветы у старухи на углу. Ида моя Ида, мне никогда не было так славно, как рядом с тобой. Если я не найду выход, мы обязательно заведем с тобой собаку.
Она успела сбежать первой: просто однажды не пришла и все. Мы договорились встретиться у пруда, на том же месте, где познакомились. Я просидела там несколько часов, продрогла, съела четыре гамбургера и два кокона сахарной ваты. Меня тошнило, а Ида так и не появилась.
В знакомую до последнего пятна дверь я звонила так долго, что не выдержали соседи. Дверь тамбура открылась и на меня уставилась толстая сердитая девица лет двадцати.
– Вам кого?
– Иду… соседку вашу… Из сто пятой. Вы случайно не знаете, она дома?
– Из сто пятой? – девица озадачилась и для верности ткнула пальцем в Идину дверь. – Из этой?
Я кивнула.
– Нет там никого. Давно уже, – она подозрительно прищурилась и дернула носом, принюхиваясь. Но от меня не пахло алкоголем, от меня пахло отчаянием. Из-за девициных ног выглядывали две собачьих морды. Кажется, таксы.
Две недели я ходила как во сне. Снова и снова набирала номер Иды, торчала под ее окнами, которые были темны как мое будущее, писала письма – они не возвращались, но и ответа не было. Каждый свободный день я ходила к пруду. Там-то мы и встретились.
У нее был раздутый живот и тонкие лапы, у нее гноились глаза и уши все в болячках. В жизни не видела более жалкого создания, даже подумала, что ее было бы гуманнее усыпить, чем спасать. Она прижалась к моей ноге и начала сосать шнурок ботинка. Я не планировала заводить собаку.
Я назвала ее Идой. Ида Вторая. И единственная.
Таская Иду к ветеринару, промывая ей глаза, вкалывая ей лекарства, пытаясь затолкать в маленькую слюнявую пасть таблетки и вынимая из нее остатки мусора, вытирая лужи, спасая ботинки от режущихся зубов, возвращаясь бегом домой – ждет, соскучилась девочка, – я все время думала…
Собирая сбитые половики, разыскивая беглянку под чужими балконами, разнимая Иду с чужими собаками, извиняясь перед соседями за слишком звонкий лай, отказываясь ехать с приятелями в кино – меня ждут, ждут, я не могу! – я все время думала одну нехитрую мысль…
Дурак этот ваш Пушкин, думала я. Нет на свете ни покоя, ни воли. А счастье – есть. И когда оно лезет тебе на грудь, и пытается откусить тебе нос, и тянет тебя за штанину, и сжевывает дорогие очки, и скулит в шесть утра от того, что соскучилось и хочет есть, писать и играть одновременно – это понимаешь особенно ясно. Ида моя Ида, счастье мое, отдай бяку!
Через год, когда Ида выросла и стала самой некрасивой и самой избалованной собакой на свете, Ида… та, первая Ида, Ида, которую я почти забыла, прислала мне письмо. «Пора, мой друг, пора! Приезжай, мы заведем собаку…» – вот что было написано в первой строке – той, что показывает почтовый ящик, если у письма нет заголовка.
Я стерла его не читая.
Константин Наумов Одна подушка на двоих
Некий философ неожиданно приглашен прочесть лекцию в Мюнхене. Он удивлен. Человек уже не молодой, двадцать лет заведует самой незаметной кафедрой университета Осаки. Поляк по национальности, он получил степень в Штатах и много лет тянул лямку непопулярной темы философии марксизма в холодной Северной Дакоте, пока падкие на экзотику японцы не предложили ему кафедру, принятую тут же и с восторгом.
Он приезжает в Мюнхен – покинув Японию первый раз за семь с половиной лет (чего сам он, конечно, не помнит: предыдущая поездка на похороны двоюродного брата в Остин была очень скучна). Лекцию переносят со среды на четверг, философ узнает об этом, явившись в тесном для него костюме в пустой и гулкий лекционный зал. Неприятно удивленный, он отказывается от услуг ассистентки кафедры – она хотела бы сопровождать его по городу, и заходит в кафе на углу.
Философ прекрасно знает немецкий, хотя несравненно больше читает и пишет на этом языке, чем говорит. Он ведет, тем не менее, спецкурс по теории исторического процесса исключительно по-немецки, имея по этому поводу сложные переговоры с университетом перед началом каждого года. Сухой и академический, его немецкий немедленно отказывает в шумном и людном месте, философ с трудом понимает людей вокруг, а оглядываясь, видит, что попал скорее в пивной бар – везде блестят высокие кружки и запотевшие стаканы. Он просит чаю, красивый худой официант в черном, похожий лицом на молодого верблюда, говорит быстро и жестикулирует, как будто играет сложную пьесу на клавесине. Чаю в этом кафе не подают, но, почти пританцовывая, официант приносит заказ, это – его, официанта, любимый сорт домашнего чая. Стесненный костюмом, философ чувствует себя очень глупо, видя на подносе крошечный чайник и кофейную – чайных здесь нет – чашку. Как только философ делает первый глоток, отвратительно пахнущий имбирем и корицей, он вдруг понимает, что испытывает сильное физическое влечение к официанту. Смущенный и растерянный, он пьет и смотрит, как официант, заложив узкую наманикюренную руку за спину, слушает молодую даму с ребенком, медленно покачивая головой в ответ: красиво наклоняя ее влево, потом вправо. С ужасом философ думает, что если и на самом деле является геем – ему придется строить свою жизнь с самого начала совершенно. Он вспоминает жену-японку, взрослого сына, свою кафедру и студентов, резко встает, оставляет мелочь на столе и поспешно идет в выходу.
Ночью в его номер последовательно стучат (и он открывает каждый раз): два корейца с грязными рюкзаками и какими-то веревками, через час – пьяные девицы, роняющие пивную пену с горлышек бутылок и говорящие с сильным австралийским акцентом, как только он засыпает – солидный господин, которого сопровождает носильщик. У последнего есть мастер-ключ, так что философ сталкивается с этими двумя уже в гостиной. Выпроводив их, он добирается до кровати, почти засыпает, но отвратительно-внезапно звонит телефон – портье хотел бы извиниться за неудобство и предложить одну ночь бесплатно за счет отеля. Философ посылает портье к черту на очень удобном для этого немецком языке, хотя с ним говорят по-английски.
Утром, совершенно разбитый, он открывает лекцию с трехминутным опозданием. Стараясь не смотреть на молодых людей в зале, он долго перебирает бумаги, а подняв глаза, упирается взглядом в молодого человека в первом ряду, который глядит в ответ с нескрываемым скепсисом. Понимая, что студент специально сел в первый ряд, чтобы спорить и задавать вопросы, философ чувствует, как пуста в этот момент его голова, пуста совершенно. У студента из первого ряда большая родинка в уголке брови, из нее растут волосы. Глядя на родинку, философ думает о том, какая это бровь – левая или правая. Если бы это была моя родинка, рассуждает он, какая бы это была сторона, какая рука? Оставив бумаги, в молчании вежливой аудитории, философ долго рассматривает свои руки, спускается с кафедры и выходит на улицу, а через квартал видит человека на странном, как бы двухэтажном велосипеде. В отель философа привозит полиция.
Следующим утром его провожают к завтраку, в большом зале холодно, и он, с трудом подбирая слова на ставшем чужим и ломаным немецком, просится в тепло. Не до конца его понимая, управляющий отеля сам отвозит его в аэропорт, и через три часа философ уже летит в Манилу. На Филиппинах, причиняя своей беспомощностью множество проблем всем, кто встречается ему на пути, он довольно быстро теряет багаж, деньги и документы. Цепочка случайных событий приводит его на один из самых незаметных из тысяч филиппинских островов. Немец по имени Отто – хозяин дайв-центра – берет его на работу: философ, хоть и совершенно забыл об этом, в Японии занимался дайвингом – с подачи жены – и весьма серьезно.
Работается и живется ему легко, Отто не платит денег, но покупает все необходимое. Философ живет в каморке, сквозь пол которой видна вода лагуны, и ныряет в неизменно драном гидрокостюме: ему отдают снаряжение, которое нельзя больше сдать в аренду. Обедает философ всегда в кафе напротив дайв-центра, за что Отто платит помесячно небольшую сумму. Хозяин кафе – улыбчивый трансвестит-метис – однажды пробирается в каморку философа ночью. Каким-то образом это становится известно всей деревне, но случилась что-то или нет, не знает, кажется, никто, и, в первую очередь – философ. Он не знает также, что жена ищет его с первого дня, ищет, занимаясь этим как работой – аккуратно, по восемь часов в день, стараясь начать и прекратить поиски точно в одно и то же время, так как очень боится сойти с ума. Ищет одна, тогда как их сын совершенно уверен – отца нет уже в живых. После нескольких совершенно бесплодных лет поисков (дважды за это время она была на Филиппинах, но оба раза – не там), жена философа едет в родную деревню на Хонсю, чтобы заказать службу по усопшему в буддистском храме. По окончании службы, внезапно для себя, она совращает немолодого настоятеля, хотя все эти годы в поисках мужа вела совершенно целомудренную жизнь. Ровно в то мгновение, когда голый и потный монах пытается напоить ее водой (у жены философа – истерика), философ просыпается в своей каморке. Он надевает гидрокостюм и маску, неспешно заводит хозяйский скутер и мчится на нем через ночь, прыгая с волны на волну и каким-то чудом сохраняя направление – точно на маленький храм прибрежной деревеньки японского острова Хонсю, когда же кончается топливо философ спокойно засыпает на руле. Через два дня его вместе со скутером прибивает к острову, где арендует бунгало немолодой раньте, только что переживший бурный разрыв отношений. Заметив тело философа (тот сильно обгорел и обезвожен), раньте бросается в воду, тащит, толкает скутер, с трудом волочит философа в бунгало (старый гидрокостюм ползет и рвется под руками), где успешно пытается напоить соком и мажет ожоги кремом от солнца. Одинаково обессиленные: к одному из них жизнь только начинает возвращаться, второй – на грани сердечного приступа от переутомления, они засыпают на одной подушке. Ни раньте, ни философ никогда не узнают, что уже виделись в Мюнхене – мельком – много лет назад.
Константин Наумов Снег идет
Снег идет весь день и всю ночь. И потом снова – весь день; город встал еще утром. Троллейбус пробивается сквозь заносы, на остановках впуская ошалевших пассажиров – битком, битком, ну еще чуть-чуть войдет, куда вы лезете, мне же выйти надо. На перекрестке – Тридцатьпятый, знаменитый маршрутный автобус, всю жизнь работающий, как школьный – единственный маршрут, который останавливается возле Спецшколы: туда приезжает набитый, черный от народа, а от школьной остановки – пустой, совершенно прозрачный. Тридцатьпятому не страшны заносы и гололед: застрял – раз-два – выскочила толпа старшеклассников, три-четыре – толкнули, вскочили обратно на малом ходу, поехали – давняя школьная традиция. Мой Одиннадцатый разминается с Тридцатьпятым на перекрестке: Одиннадцатый – тоже особенный маршрут, самая длинная троллейбусная ветка – в Промзону. Остановки редкие, обычно троллейбус разгоняется, трясется, мотор воет. Если на остановке нет пассажиров: «Следующей остановки не будет», – говорит тогда водитель. Это страшно – не будет следующей остановки, всю жизнь нестись в троллейбусе между бесконечными заборами почтового ящика (бывший патронный завод, теперь – производство тяжелых торпед). Но остановка будет – просто у меня и у водителя разные понимания термина «следующий». Сегодня снег, завалы – не разгонишься, мы еле ползем. Народ рассасывается – к Промзоне троллейбус придет полупустым. Плеер тянет – пора менять батарейки, у меня «Прима», они – ужасные, на полторы кассеты: других не продают, а эти – везде, в каждом киоске Союзпечати. Я покупаю их россыпью, вместо сигарет – не курю, но денег уходит столько же.
Промзона уже скоро – осталось несколько человек (мне выходить за две до конечной), когда я замечаю Тубабку. Табабка опять с сумками, иду добровольно – все равно деваться некуда; Табабка мне рада. Тащу. Нереально тяжелые – мало продала, в подъезде у нее воняет мочой – замок снова выбили. Обещаю сказать нашим, сумки – на второй. Табабка суетится, сует опять свои огурцы, беру – дольше отказываться. Банку – в вещмешок, бреду через снежные завалы по дорожке, которую наши же и протоптали утром – ее засыпало, но не сильно. Вокруг ВЦ – узкое расчищенное кольцо – символ борьбы Завхоза со вселенской энтропией. Охренеть просто, сколько надо было снега перекидать. Мужик; или может заставил кого-то. Охранник на входе раз, охранник внутри два, пропуск, табель-часы, переодеваюсь-переобуваюсь. Чистая зона, стерильный воздух.
Этаж, над дверью нашего отдела аккуратная табличка «Лучше не входи». Вообще должно быть «Газ! Уходи!», но у нас – так. «Газ! Уходи!» – это пожаротушение: газом, чтобы не залить электронику. ВЦ же: козырьки на окнах – против спутников-шпионов, стекла полупрозрачные. Столовка отличная. Бомбоубежище, подстанция – все свое. Сирена ГО еще есть: когда Завхоз ее испытывает – надо открывать рот, чтобы перепонки не лопнули. Хорошее место, одним словом – а куда еще? Спецшкола, практика, диплом – ВЦ. Молодой специалист – либо сюда, остатки считать, либо – на кафедре; лучше уж остатки. Чайник в отделе. Чай. Открываем огурцы Тойбабки. Соленые, вялые. Огурцы, короче.
Работа. Работа. Работа. Меня опять бьет током. Звоню Аркаше. Меня бьет – херня, а вот моя станция сгореть может – это серьезно. Приходит Аркаша, глаза красные – от смеха. Он ездил к клиентам, на Конечную. Там База – мы ведем учет фондов для них: валенки, пулеметы, торпеды, гайки – все на свете. Большая База. Звонят: АЦПУ у них сломалось, приезжайте. Аркаша приехал – а АЦПУ совсем сломалось. В смысле – не вынесло. Его поставили в каптерку без окон, год прошел, другой – не выдержал деревянный пол, может прогнил, а вообще – АЦПУ трясется сильно во время работы. АЦПУ – в подвал, утянуло за собой кабелем станцию, розетку из стены вырвало. Самоубилось от отчаяния с концами, в сопли. Смысла даже нет вытаскивать – там останется: сильно тяжелое все. Аркаша чинит заземление, меня больше не бьет током.
Обед. Столовка. Первое, два вторых, три компота, гущи побольше, запишите на меня, спасибо большое. Шумно. Очень вкусно: у нас – лучшая столовая в Промзоне. Если бы не две охраны – здесь бы половина Промзоны и обедала.
Работа, работа, работа. Не идет ведомость, а остатки по каким-то изделиям «32-бис» дробные. Может из-за этого? Звоним на Базу: могут быть остатки дробные по «32-бис»? Вы что, охренели – отвечает База: «32-бис» – это я не могу тебе по телефону сказать, что, но если вы остатки по ним неправильно посчитаете, и вам, и нам точно кирдык. И, чтобы вы знали, умники, 32-бис занимает два ЖД вагона и одну платформу. Ровно, без дробей, но под круглосуточной вооруженной охраной. Блять, – добавляет База, подумав.
Считаем остатки еще раз, потом еще раз. В отделе тихо – все, кто ничего не может сделать, разошлись. Потом – те, кто может – тоже: еще не завтра сдавать. Сережа и я сидим над ведомостью. Темнеет, гасят свет в коридорах, остаются только дежурные лампы. Черт его знает, где она не идет. Остатки для «32-бис» мы починили. Дробные еще по трем позициям, но там явно указано, что оно – весовое, чтобы оно ни было и сколько бы платформ не занимало, так что пусть себе дробные. Сумма не идет – вот это плохо. На семнадцать копеек не идет – но это все равно, миллион или копейка – должно быть один в один, математика же. Сережа и я смотрим друг на друга, сдаем помещение, спускаемся вниз. Охрана раз, журнал раз, охрана два, журнал два. Фонарь перед ВЦ выхватывает светлое пятно – в нем кружится снег, бежит в темноту дорожка – следующий фонарь уже у остановки. Дорожку замело, в ботинки набивается и тает снег. Очень холодно.
Остановка в снегу, на дороге нет следов – это очень плохо. Значит, троллейбус уже прошел – последний троллейбус; он идет на конечную, там кольцо, и обратно – в парк. Следов нет – значит уже прошел: и туда прошел, и обратно. Мы все равно чего-то ждем. Вокруг – деревянные двухэтажки, их еще зеки строили, горят желтые окна, там тепло внутри. Над остановкой фонарь: мертвый натриевый свет отделяет нас от тех, кто ужинает, сидит у телевизора, учит уроки. Троллейбуса нет; очень холодно. Обратно идти не хочется: нужно воевать с охраной, снимать с пульта наш отдел. Потом спать на стульях; завтрак в столовке только в 10, а уже сейчас очень хочется есть. От голода вспоминаю, что еда есть в бомбоубежище – Завхоз рассказывал. У него ответственный пост по ГО: открыть бомбоубежище, впустить наших, закрыть бомбоубежище изнутри. Там даже табличка у него есть готовая: «Внимание! Это убежище заполнено! Ближайшие места укрытий – ЖД и База». Можно пойти пешком до ЖД. Там круглосуточный буфет, по нашим пропускам пустят. Пельмени какие-нибудь. Или рассольник. До ЖД идти час – это если без снега. Не пойдем. Кто-то из электронщиков, может тот же Аркаша, рассказывал, что с ЖД до Базы рано-рано утром ходит тепловоз с одним вагоном. Туда можно сесть – никто даже не спросит, на Базе выйти. А там Три Тетки, они приходят очень рано. Три Тетки нашим всегда рады – с момента, когда мы стали считать им ведомость, делать Трем Теткам вообще нечего – только чай пить.
Сережа рассказывает какую-то длинную историю – это он от отчаяния. В истории кто-то из мэтров (Сережа не называет кто, но, кажется, кто-то из начальников отделов, но не наш), едет во Францию и тычет в меню пальцем. Во французском ресторане. И потом ждет. Час ждет – не несут. Два ждет. Все на него смотрят, весь хлеб уже съел – все равно не несут. А потом приносят жареного оленя. На вертеле. Целиком. Говно история – это он точно от отчаяния. Мы все невыездные, кто нас пустит за границу – ВЦ же: никогда первый отдел никому из нас визу не подпишет. Очень холодно. Я бы сунул в уши наушники, если бы не Сережа. Пойдем, – говорю я Сереже, – говно твоя история. Но Сережа не слушает – он смотрит на троллейбусные провода. На них выросли снежные шапки – бесконечно длинные, неправдоподобно высокие. Сейчас эти шапки падают – длинными синхронными ломтями, совершенно бесшумно. Снег – в снег. Троллейбус, удивленно говорит Сережа. Идет троллейбус. Идет ниоткуда – с конечной, куда он не приезжал. Здесь ходит только Одиннадцатый, но это не он – нам уже видно, что вместо номера у этого – табличка. Ближе, ближе. Охрененть, говорит Сережа. У него здоровые глаза, он видит хорошо. Охренеть, говорит Сережа, – это буфет. Передвижной Буфет подъезжает к нам, Передвижной Буфет открывает нам переднюю дверь. Передвижной Буфет ждет, пока мы придем в себя. Внутри жарко и пахнет сдобой, мы проходим и плюхаемся в кресла. Полтроллейбуса занимает плита, шкафы какие-то. Экипаж – Водитель и Буфетчица со Знакомым Лицом. Она наливает нам компот. Горячий. По полстакана, потому что трясет. У нее есть булочки, а горячего, сыночки, ничего не осталось, булочки будете? Мы будем. И повидло, да. И еще компот. Передвижной Буфет везет нас через ночь: мы в парк вообще-то, а вам куда, это недалеко, отвезем, Коля, Коля, давай через центр, высадим ребят на Университете, где общаги. Буфетчица со Знакомым Лицом плюхает для нас повидло в суповую тарелку, достает еще булочки, доливает еще компот – по полстакана, потому что трясет. За окнами тянется бесконечный забор бывшего патронного завода, колючая проволока вся в снегу. Мы едим булочки. Завтра, говорит Сережа с набитым ртом, – завтра надо посмотреть, может, где-то накапливается ошибка округления: завтра двадцать четвертое, то есть уже двадцать пятое декабря, сдавать скоро. Мелькает светлое пятно за окном – проходная завода, торпеды охраняют. Сережа, говорю я Сереже, мне же не чудится это все – троллейбус, еда и тепло? Нет, – говорит Сережа серьезно. А мне? Кажется – нет. Сережа, говорю я Сереже, – посмотри на Буфетчицу со Знакомым Лицом, узнаешь? Если бы у Тойбабки была внучка?
Ты узнаешь ее, Сережа?
Макс Фрай У царя Мидаса ослиная бездна
Сказку, вернее, адаптированный для детей миф про царя Мидаса ему прочитал дед, сам тогда еще не умел. Слушал, как завороженный и потом часто просил: «Давай еще раз почитаем про царя с ослиными ушами!» Однако поразили его не уши и даже не говорящий тростник, а сама идея царского брадобрея: вырыть яму и поговорить с ней.
Все время думал: с кем он тогда говорил? С ямой? Или с Землей, в смысле со всей планетой? Но с планетой можно поговорить и без ямы, она же вообще везде. Значит, все-таки с ямой? Которую перед этим сам же и вырыл? Это поражало его воображение. Потом, много позже, вспоминая свое детское впечатление, понял, что ему просто не хватило словарного запаса сформулировать: брадобрей говорил с глубиной.
Неподалеку от дома строители вырыли огромную яму. Яма называлась «котлован» и была окружена высоким забором, в котором сразу же наделали кучу лазеек, благо строители куда-то подевались, так что гонять любопытных стало некому. Детям там гулять не разрешали, но где бы мы все были, если бы в детстве не ходили туда, куда нам не разрешали ходить. Конечно, бегали к котловану постоянно, обычно большой компанией, у них был дружный двор.
В одиночку он ходил смотреть на огромную яму-котлован всего дважды. В первый раз испугался, сам не зная чего, и почти сразу убежал. Ко второму визиту готовился заранее, долго решал, какую тайну расскажет этой глубокой, наверное аж до самой середины Земли прорытой яме. И какой из нее потом вырастет удивительный говорящий тростник. Или даже не тростник, а дерево? Например, сосна или дуб. Целая роща говорящих дубов. Поэтому следовало быть осторожным и чужие секреты, например, о том, как они с папой ходили играть в биллиард (папа играл, он смотрел, а потом ел шоколадное мороженое, такое же тайное, как перестук белых шаров в восхитительном прокуренном полумраке) или про бабушкины вставные зубы, лежавшие в шкатулке с изображением золотых журавлей, не выдавать.
Но все по-настоящему интересные секреты были чужими, вот в чем беда!
В конце концов, придумал, как поступить: принес яме книжку, с картинками, не самую любимую, где была история про царя Мидаса, но почти. У автора было удивительное иностранное имя Джанни Родари, а в сказке рассказывалось, как игрушки из магазина решили стать новогодними подарками для детей бедняков и потом всю ночь с приключениями до них добирались. Расставаться с этой книжкой тоже было жалко, но мама много раз говорила, что дарить надо только то, что любишь сам.
Незаметно умыкнуть из дома, а потом еще пронести через весь двор большую толстую книжку это тоже было целое дело, но справился, обхитрил бдительную бабушку, спрятав «Приключения Голубой Стрелы» в пустую коробку из-под торта, которую заранее выпросил якобы для какой-то игры. Прокрался к огромной глубокой яме, поспешно, чтобы не передумать, швырнул в нее книжку, крикнул: «Это сказка про игрушки, специально тебе!» – и убежал в такой панике, словно за ним гнались все демоны ада. Хотя ни про демонов, ни про ад он тогда, конечно, не знал.
Книги дома хватились, хотя не сразу. Его спросили, не давал ли ее кому-нибудь из друзей, он отрицательно мотал головой. Говорил при этом чистую правду: «Леше не давал, Яну не давал, Марку не давал. И Илоне не давал тоже!» А про яму его никто не спрашивал. Просто в голову не пришло.
В конце концов родители от него отстали, книг в доме было много, своих и чужих, их все время кому-то давали и у кого-то одалживали почитать. Так что к регулярным пропажам давно привыкли.
Потом к яме-котловану внезапно вернулись строители. Они привели с собой машины-грузовики, машины-экскаваторы, машины-бетономешалки и огромный подъемный кран, такой прекрасный, что о нем хотелось сочинять стихи. Кажется даже и сочинил, теперь не вспомнить.
К следующему лету на месте ямы-котлована уже стоял высокий девятиэтажный дом, люди-новоселы каждый день привозили туда кровати, шкафы, огромные фикусы в кадках и даже пианино. А осенью на первом этаже нового дома открылся магазин «Детский Мир». Очень большой, как музей, за один раз все даже не рассмотришь. Столько игрушек сразу он до сих пор никогда не видел, так растерялся, что ничего себе не попросил, чем безмерно удивил заранее приготовившихся к неизбежным тратам родителей.
Только вернувшись домой, вспомнил, как бросил в яму книжку про магазин игрушек. И содрогнулся от внезапного понимания: так вот откуда взялся магазин! «Содрогнулся» сказано не для красного словца, потому что действительно испугался до панической дрожи; мама заметила, решила, что простудился, стала мерять температуру. Температура, кстати, и правда была высокая. Целую неделю потом болел.
Очень хотел рассказать про магазин игрушек, не всем, но хотя бы деду, который пользовался его полным доверием. Но так и не решился. Откуда-то знал, что лучше молчать. И вообще забыть эту историю.
Забыл.
Вспомнил через несколько лет, почти случайно, когда они с Шуркой лежали в траве на краю глубокого оврага и обсуждали, где лучше попробовать в него спуститься – прямо здесь, или поискать менее крутой склон.
Овраг был такой же глубокий, как котлован, или еще глубже. А Шурка был лучший друг, которому можно рассказать вообще все на свете, хотя познакомились совсем недавно, в начале каникул, в курортном поселке, куда их обоих привезли. Вот тогда и вспомнил про брошенную в яму книжку и выросший на ее месте дом с магазином «Детский Мир». Не говорящий тростник, конечно, но в каком-то смысле даже лучше говорящего тростника.
Шурка был старше почти на полтора года, но никогда над ним не смеялся. И сейчас выслушал не перебивая. А потом предложил: «Давай расскажем что-нибудь этому оврагу. Я знаю один хороший анекдот».
Анекдоты у Шурки всегда были странные. Не такие, как рассказывают в школе, но и не такие, как у взрослых. Всегда смеялся с ним за компанию, считая это данью дружбе, но никогда толком не понимал, почему «Летели два крокодила, один зеленый, другой в Африку» должно быть смешно.
Но какая разница.
Они, наверное, целый час лежали на краю оврага, выкрикивая вниз анекдоты. Сам вспомнил всего три, почему-то ужасно неприличных, так что даже оврагу можно рассказать только шепотом, зато Шурка не умолкал. Некоторые его анекдоты, кстати, оказались вполне ничего, особенно про привидений, который бродят по замку, и одно пугается каждого скрипа, а второе спрашивает: «Неужели ты веришь во все эти глупые сказки про живых?» И еще про два поезда, которые выехали навстречу друг другу по одноколейной дороге, но так и не встретились. Вопрос: «Почему?» – ответ: «Не судьба».
В общем, хороший был день.
Потом каникулы кончились, оба уехали в город, вернее, в разные города: Шурка жил в Риге. Были уверены, что еще сто раз увидятся, самое позжее, следующим летом, но не вышло.
Следующим летом умер дед, и родителям стало не до поездок. Шурка обещал приехать на осенние каникулы, говорил, его одного везде отпускают; наверное, врал, во всяком случае, приехать не смог. А потом по Шуркиному телефону стали отвечать незнакомые люди: «Они переехали». А потом – ну, всем известно, что становится с друзьями детства, когда наступает «потом». Потом мы превращаемся в крокодилов, из которых один непременно зеленый, а второй всегда летит в Африку. В общем, не судьба.
Но Шуркина идея рассказывать оврагу анекдоты надолго утвердила его в представлении, что в яму не обязательно прятать страшные чужие секреты. С ямой можно просто поговорить, как с другом, если уж так получилось, что никого из друзей рядом нет. Они тогда как раз переехали из квартиры в старый дедовский дом, ветхий, зато с садом и огородом, так что ям вокруг было полно. А друзья детства остались на другом конце города. Сперва ездил к ним в выходные на троллейбусе, с двумя пересадками, но постепенно стал чувствовать себя чужим. Когда приезжаешь к друзьям раз в две, а то и три недели, волей-неволей обнаруживаешь, что теперь все самое важное происходит у них без тебя. Слушать их было интересно, но, по большому счету, бесполезно: жизнь надо не пересказывать, а жить.
А поговорить можно и с заброшенным пересохшим колодцем в дальнем углу сада. За пару месяцев одиночества он успел пересказать колодцу всю свою пока еще короткую, но уже не слишком безмятежную жизнь.
Впрочем, вскоре у него появились друзья на новом месте. Он всегда легко сходился с людьми. С колодцем, впрочем, продолжал здороваться по утрам, рассказывал ему свои новости, а по праздникам неизменно выливал туда немного вина, утащенного с родительского стола. Почему-то решил, что колодец должен радоваться таким подношениям. Но проверить, так ли оно на самом деле, конечно, было нельзя.
В юности, не столько начитавшись Ницше, который в больших объемах был ему невыносим, а просто нахватавшись цитат, очень полюбил фразу про бездну. Часто повторял ее, порой совершенно ни к месту, просто ради удовольствия лишний раз произнести: «Если долго всматриваться в бездну, то бездна начинает всматриваться в тебя». И всякий раз, цитируя Ницше, самодовольно думал: «Вот чем я оказывается занимался в детстве! Всматривался в бездну. Ну и дела».
Вслух, конечно, ни о чем таком не говорил, потому что совсем уж конченым дураком даже в юности не был. Всегда безошибочно если не знал, то чувствовал, о чем можно рассказать только заброшенному колодцу, а с людьми лучше промолчать.
С Агнешкой вышла невероятная история, кому рассказать, не поверят. Да и черт с ними, пусть не верят, главное, что история была.
Сперва он сфотографировал на улице женщину – совершенно случайно, даже не заметив, потому что снимал свадьбу друзей, а она просто шла мимо и попала в кадр. Вроде бы ничего особенного, совсем не красавица, но немного похожа на друга детства Шурку и одновременно на одну девчонку из старого двора, с которой играл еще до школы. Это двойное сходство очень располагало, внушало беспочвенную, в сущности, уверенность, что незнакомка ему почти родня, с ней можно обсуждать самые важные вещи на свете, и вообще делать, что взбредет в голову, никем не притворяясь, потому что все хорошо и так.
Ну и ноги, конечно. Там на фото были такие ноги, хоть стой, хоть падай, просто ах.
Вырезал ее из общего снимка, увеличил, распечатал и, смешно сказать, всюду носил с собой в смутной надежде, что фото поможет завязать знакомство, если она снова попадется навстречу. Но не попалась. Вот вроде бы совсем небольшой город, но для повторной случайной счастливой встречи он все-таки явно великоват.
Примерно полгода спустя, весной, поехал в гости к поселившемуся в Черногории другу. Друг тогда как раз купил по случаю старенький джип, привел в порядок, нарек Ланселотом и с упоением рассекал на нем по горным дорогам. И гостей, конечно, возил. Каждый гость для таких маньяков просто желанный повод лишний раз прокатиться по горным дорогам, иногда таким узким, что непривычные пассажиры жмурятся, лишь бы не видеть пропасть буквально в метре от колеса.
Не жмурился, но на одном из участков так называемой автомобильной трассы, больше похожей на козью тропу все-таки изрядно перепугался; впрочем, лицо сохранил. Но когда остановились перекусить в крошечной харчевне на обочине дороги – «на обочине» в данном случае означало натурально над бездной – где было всего два дежурных блюда, жаркое из баранины и божественная рыбная похлебка, зато больше десятка разных сортов домашней ракии, выпил этой самой ракии несколько больше, чем следовало, иначе как объяснить, что сидел потом один на краю пропасти, куда отошел якобы покурить, говорил, глядя вниз: «У царя Мидаса ослиные уши, а у меня лучшая в мире девчонка, правда она потерялась, зато фотка с собой, хочешь, покажу?» Ничего удивительного, что фотография в итоге улетела из хмельных непослушных рук куда-то на дно восхитительной бездны, где среди темной зелени серебрилась узкая нитка горной реки, счастье еще, что сам не свалился следом. Друг как раз закончил болтать с хозяином, заставил отойти подальше от края: «Эй, ты чего?»
Возвращаться на побережье было легко и приятно, по крайней мере, он больше не нервничал на поворотах, великое дело фруктовая водка, голова от нее с непривычки превращается в малый филиал ада, а головная боль от страха помогает даже лучше, чем слишком быстро выветрившийся на ветру хмель. Пока ехали, думал, что теперь на дне этой пропасти вырастет тростник с лицом незнакомки. Или лучше со стеблями в форме ее изумительных ног.
А вернувшись из отпуска, встретил на улице Агнешку. Бросился к ней с криком: «Барышня, я буквально два дня назад выбросил вашу фотографию в пропасть!» Добежав, понял, что на самом деле не она. Очень похожа, но явно выше ростом и нос курносый, и волосы длинные, не могли за каких-то несчастных полгода так отрасти. Хотел было извиниться, но в этот момент Агнешка ему улыбнулась, и он пропал.
Ну, то есть не пропал, а как раз наоборот.
Вечером дома на всякий случай полез в архивы, проверил и убедился: на той уличной фотографии была другая женщина. Но какая разница. Пусть на фотографии остается другая, а в жизни будет Агнешка. Она – именно та.
Вот Агнешке он все рассказал. Вообще все, начиная с царя Мидаса и «Детского Мира». И заканчивая историей их знакомства, даже про путаницу с фотографией. И заодно изложил свою любимую бредовую гипотезу, что пропасть расстаралась, породила для него Агнешку, как котлован магазин с игрушками, только гораздо быстрей. Агнешке эта версия очень понравилась. Поэтому если она начинала скандалить, он обязательно говорил: «Ну чего еще от тебя ждать, ты у нас порождение бездны», – и оба принимались хохотать, грубо нарушая драматургию конфликта и сводя тем самым его на нет. За без малого десять лет так ни разу толком и не доругались. Но не то чтобы это мешало счастливо жить.
Сидя в кабинке канатной дороги, раз сто, наверное, спросил себя: «Какого черта я поперся на этот дурацкий Монблан?» Ответ, впрочем, был известен заранее: так получилось. Не то чтобы всю жизнь только об этом мечтал, но конечно хотел попасть на Монблан, и вдруг свободные деньги образовались одновременно с серьезной скидкой на тур. Агнешка поехать никак не могла, но она еще с весны гнала его в отпуск, говорила: «На тебя уже без слез смотреть нельзя», – и была права, по крайней мере, отчасти. Действительно очень устал.
В общем, жена выперла его из дома практически силой. Навстречу мечте – не столько о самом Монблане, сколько о двенадцатичасовом сне без перерыва, раклете и белом вине. Эти мечты, надо отдать им должное, сбылись в полном объеме; отпуск можно было бы считать удавшимся, если бы нелегкая не занесла его на чертову канатную дорогу в тот самый день, когда эта зараза решила сломаться. Ну хоть не рухнула, просто остановилась. Не на полчаса, не до вечера, даже не до ночи – совсем.
Сперва вообще не понял, что творится нечто из ряда вон выходящее. На канатной дороге он катался всего третий раз в жизни и просто не знал, как положено. Может быть, это обычное дело – висеть над пропастью целый час?
Потом конечно начал беспокоиться. Как-то слишком уж долго стоим. И одновременно грешным делом радовался, что оказался в кабинке один. По крайней мере, нет ни орущих младенцев, ни рыдающих женщин, ни запаниковавших мужчин – эти, честно говоря, хуже всех. Но с одним-единственным паникующим мужчиной в своем лице справиться все-таки можно. Благо навык есть.
Только когда пассажиров канатной дороги начали эвакуировать вертолетами, понял, как влип. Как они все тут дружно влипли с этим дурацким Монбланом. С другой стороны, если начали летать вертолеты, все будет в порядке. Сейчас всех отсюда спасут.
Всех, не всех, но многих действительно успели эвакуировать до темноты. Однако до него так и не добрались. В сумерках начал сгущаться туман, и вертолеты летать перестали. Это было понятно, логично и правильно. И одновременно совершенно абсурдно, как Шуркины анекдоты про крокодилов, когда один зеленый, другой в Африку, а ты висишь между небом и землей на высоте три тысячи с гаком метров. Хотя никакой не крокодил.
У него было одеяло и даже еда, доставленные раньше все теми же спасательными вертолетами, прихваченные с собой сигареты и двухсотграммовая фляжка с коньяком, опустошенная уже более чем наполовину. Была даже связь, время от времени в кабинке раздавался механический голос и на французском, которого он не знал, о чем-то вдохновенно вещал. Выходило красиво и поучительно. Потом сообщение дублировали по-английски, гораздо короче и более-менее понятно. Из сообщений следовало, что придется ждать, пока механики разберутся с тросами, а если не разберутся, то возвращения вертолетов. То есть, до утра. Потом механический голос умолкал. Это они зря, конечно. С людьми, висящими над пропастью, надо говорить. Все равно о чем.
По-настоящему страшно ему тогда еще не было, скорее просто досадно, что так по-идиотски влип. И неизбежные в таких случаях мысли: «А ведь можно было проспать, или просто полениться, или хотя бы пожадничать денег на билет. И шел бы сейчас по прекрасной твердой земле в направлении какого-нибудь кабака, как же было бы хорошо!»
Под эти докучливые сожаления он даже задремать умудрился, и вот это совершенно напрасно, потому что проснулся от самого настоящего утробного, звериного, не подчиняющегося разуму ужаса. Видимо, пока человеческий мозг мирно спал, из темных глубин подсознания выползла какая-то трусливая рептилия, настолько тупая, что только сейчас поняла, что случилось, и принялась орать.
Ну, в общем, счастье, что в кабине больше никого не было. Особенно отсутствующим спутникам повезло.
Когда понял, что так и с ума сойти недолго, по крайней мере, первый шаг в этом направлении уже сделан, и вот-вот последует второй, решил, что веселое безумие лучше унылого. И сказал, прижавшись лбом к ледяному стеклу зависшей над бездной кабины: «У царя Мидаса ослиные уши». Благо яма под ним сейчас была – о-го-го! Царскому цирюльнику за сто лет такую не вырыть. И вообще никому. Три тысячи метров, не кот чихнул, настоящая бездна, как Ницше прописал. У царя Мидаса ослиная бездна, а у бездны воистину царские уши, к одному из них можно приблизиться и говорить, неважно что, лишь бы говорить.
Всю ночь рассказывал разверзшейся под ним бездне – то анекдоты, то забавные истории из их с Агнешкой жизни, то просто сплетни про знакомых, выбирая самые нелепые, чтобы бездне было весело. Потому что смех у бездны оказался совсем не страшный, наоборот, приятный, негромкий, слегка хриплый, как у покойного деда и одновременно заразительный, как у друга Шурки, рядом с которым легко было смеяться даже над летящими в Африку крокодилами. Хотя, честно говоря, до сих пор так и не понял, в чем там смысл. Почему это смешно?
Поэтому придерживал этот дурацкий Шуркин анекдот до последнего. Рассказал его уже на рассвете, когда силы окончательно иссякли, голова опустела, тени последних мыслей разбежались в разные стороны, и стало не о чем говорить. Однако бездна, вопреки ожиданиям, хохотала над крокодилами гораздо дольше, чем над всеми остальными историями. Может быть, полчаса.
А когда бездна наконец успокоилась, остановилась перевести дух, он понял, что его временная тюрьма, то есть кабина канатной дороги движется. Но не падает, а неторопливо ползет. Только теперь вспомнил, что какое-то время назад механический голос из динамика что-то рассказывал и звучал как-то неуместно бодро. Видимо докладывал о победе человеческого ума над чудесами техники. Но им с бездной тогда было не до того.
Макс Фрай Тарантелла
– Направо пойдем – коня потеряем, – сказала Надя.
– Прости, что?
– Это в сказках так. В русских народных. Куда ни сунься, рано или поздно обязательно придешь на перекресток, в точности как этот, только без светофора, на перекрестке камень, на камне надпись: «Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – себя потеряешь, прямо пойдешь – и себя и коня». Все такое вкусное, невозможно выбрать… А в английских сказках разве такого нет?
– Понятия не имею, – пожал плечами Питер. – Мне мама читала про муми-троллей. А бабушка фантастику про космос. А отец вообще ничего не читал, только песни пел. И я с ним. Хорошие были песни.
– Пошли прямо, – предложил Витторио. – Если терять, так все сразу.
– Отличное предложение, – кивнула Надя. – Себя, коня, всех к черту. Чего мелочиться, зачем тянуть.
– Почему обязательно надо что-то терять? – вздохнул Питер. – Я вас не понимаю. Хотя вы говорите по-английски.
– Потому и не понимаешь, что говорим по-английски, – усмехнулся Витторио. – Молчим-то при этом каждый на своем. Смысл словам придает стоящее за ними молчание.
– Это ты зря, – сказала ему Надя. – По большому счету, мы всегда молчим об одном и том же. А по малому просто треплемся, нечего тут понимать.
– Я не понимаю, – повторил Питер. – Но если для вас это важно, я готов потерять коня. Прямо сейчас.
Отцепил от пальто один из доброй дюжины украшавших его значков в виде разноцветной лошади с сердечками вместо глаз и решительно швырнул куда-то в темноту. Звука удара не последовало. Наверное, значок упал на цветочную клумбу. Или под дерево. Или на газон, в мягкую от моросящего дождя, сивую от недавних морозов траву.
Его спутники удивленно переглянулись. Во дает чувак.
Надя пришла в себя первой.
– Теперь мы, конечно, пойдем направо, – решила она. – И на всех перекрестках будем сворачивать только направо, в твою честь, великодушный сэр Питер. Исключительно в твою честь.
– А когда надоест сворачивать направо, остановимся и…
– Эй, до полуночи еще почти три часа! Рано пока начинать.
– Остановимся и чего-нибудь выпьем, – завершил Витторио. – Чтобы согреться. Не знаю, как вы, а я уже замерз.
* * *
Вечером тридцать первого декабря плохо было все, кроме погоды. Погода удалась на славу, по крайней мере, для новогодней ночи. Плюс пять и теплый, сырой, почти апрельский ветер. И мелкий моросящий дождь. И низкое небо, удивительно светлое, сизое от туч.
Никто не любит такую погоду, а Бенасу она нравилась. Поэтому не стал оставаться дома, где собирался провести эту чертову новогоднюю ночь, заперев двери, опустив ставни, заткнув уши наушниками, погасив свет, отключив телефон, чтобы не слышать, как он всю ночь не звонит. Чтобы в минуту слабости, которых в сутках порой даже больше, чем просто минут, иметь возможность думать: «Мне, конечно, звонили, чтобы поздравить, дочка, племянницы, Гитис, кто-нибудь с бывшей работы, квартиранты, редактор Нийоле и может быть Катя, просто я сам не хотел ни с кем говорить».
Самообман, конечно, беспомощный и неуклюжий, но бывает такая правда, лучше которой даже самая неумелая ложь.
«Пока я жив, я лжив, – говорил себе Бенас, спускаясь по лестнице. И с удовольствием повторял: – Пока я жив, я лжив».
Эта фраза почему-то его смешила. Выходила похожей на считалку. И даже ощущать себя живым было не так противно, как обычно.
Теплый апрельский ветер тоже был ложью, спасительной, как отключенный телефон. Зато студеный декабрьский дождь подозрительно походил на правду. Как и лужа у подъезда, в которую сразу же наступил и насквозь промочил левую ногу. Правая осталась сухой, поэтому возвращаться домой переобуваться Бенас поленился.
* * *
– Горячего вина, – сказала Надя. – Только горячего вина, по кружке на рыло. И больше ничего. Нам сегодня еще играть.
Бармен говорил по-русски гораздо лучше, чем по-английски, поэтому Надя взяла управление на себя. С огромным, надо сказать, удовольствием. Сто лет ни с кем по-русски не говорила, только с мамой по скайпу, но с мамой это не то. В смысле не вдохновенная беседа, а обычная житейская болтовня. Настоящие вдохновенные беседы обычно выходят только с незнакомцами, которых видишь в первый и последний раз. И еще с близкими друзьями. Но не со всеми. С Ником вот иногда получалось. По-английски, но все равно хорошо. Да где теперь Ник.
– Играть? – удивился бармен.
– Ну да, – кивнула Надя. – Мы музыканты!
И быстренько перевела сказанное для ребят. Краткий конспект. Чтобы не чувствовали себя не у дел.
– Вас на празднике играть пригласили? – спросил бармен.
– Пригласили играть на празднике, – задумчиво повторила Надя. – Да, можно сказать и так.
* * *
В такие ночи главное не оставаться одной. Не сидеть дома, будет только хуже. Обычно Агата шла в какой-нибудь бар, выбирала подальше от дома, потому что дорога туда и обратно целительна сама по себе. От алкоголя тоже только хуже, это она знала точно, зато с одним бокалом чего угодно можно сидеть до самого закрытия, время от времени выскакивая на улицу покурить. Если очень повезет, кто-нибудь выйдет следом, попросит сигарету или зажигалку, а это уже почти настоящий разговор. В такие мгновения разогретая чужими словами и взглядами Агата почти верила, что пришла сюда не одна, а с большой веселой компанией. Друзья остались сидеть внутри, потому что не курят, а я вышла, но скоро вернусь, – говорила она себе, то есть, не себе конечно, себя не обмануть, а сгустку тьмы, поселившемуся в ее голове, где-то справа, ближе к затылку.
Агата почти привыкла жить с этой тьмой, но случались ночи, такие, как сегодня, когда она явственно чувствовала, что тьма растет. Занимает в голове все больше места. Так скоро ничего не останется кроме нее. Нет уж, – думала Агата, – так мы не договаривались! Хотя они вообще никак не договаривались, кто же добровольно согласится впустить в себя густую черную липкую тьму, которая хуже просто тоски, страшнее просто страха, которая – сам ужас небытия, ледяной и такой спокойный, что захочешь – не закричишь.
Чем бы ни была эта тьма, но когда Агата курила у входа в бар и представляла себе, что за дверью ее ждет веселая компания старых друзей – в такие минуты она почти вспоминала их лица и конечно знала имена: Йонас и его жена Маргарита, старик фотограф Кумински, друг покойного Йонасова отца, доставшийся всей их компании как бы по наследству, Алла, Маргаритина двоюродная сестра, заика Маркус, влюбленный в Агату и Аллу, слишком нерешительный, чтобы выбрать одну из них, но им и не надо, пусть неуклюже ухаживает за обеими, а они будут добродушно посмеиваться над своим кавалером, не нужно ничего менять, нет-нет. Так вот, когда Агата торопливо курила у входа, спеша вернуться к своим вымышленным друзьям, тьмы в ее голове становилось явственно меньше. Не настолько, чтобы надеяться, что тьма может уйти навсегда, но передышка была драгоценной. Ради таких передышек имело смысл чувствовать себя полной дурой, воображая Йонаса, Маргариту и всех остальных.
Вечером тридцать первого декабря Агата поняла, что дома ей сегодня не высидеть. Зря, получается, отказалась ехать встречать Новый год к родне. Тетку и ее дочек Агата не любила, знала, что они приглашают ее только из вежливости и всякий раз с облегчением вздыхают, услышав отказ, но сегодня тетка была бы лучше, чем ничего. Кто угодно лучше, чем ничего, когда ничего это не просто одиночество, а растущая в голове тьма.
«Может быть, какие-нибудь бары в центре работают? – подумала Агата. – Если бы у меня был бар, он бы обязательно работал в новогоднюю ночь. Люди пойдут в город смотреть фейерверки, а тут – бац! – открыто. Пиво, сухарики с луком, музыка и огни. Было бы хорошо».
Пока красила губы перед зеркалом, думала, что уже почти согласна поцеловать заику Маркуса. Если он придет.
* * *
– Ладно, – сказала Надя, – мальчишкам можно повторить. А мне хватит. Я и так хороша. С холода в тепло – уже окосела. Куда мне еще.
– Может быть вам перекусить? – спросил бармен. – Кухня не работает, но можно сделать бутерброды. Найду из чего.
Надя отрицательно помотала головой:
– Спасибо, нет. Нам скоро играть. А играть лучше на голодный желудок.
– А где вы сегодня играете? Я почему спрашиваю – в Новый год у нас в городе особо некуда пойти. Кроме фейерверков ничего не происходит. Говорят, вроде бы несколько баров – те, что поближе к Кафедральной площади – работают до утра, но точно не знаю, мне все равно: после смены сидеть в другом баре как-то не тянет. И вдруг оказывается, где-то концерт. Я бы сходил! Сто лет не был на концерте. А в новогоднюю ночь вообще никогда. Или это частная вечеринка?
– Что-то вроде того, – флегматично кивнула Надя. И перевела его слова друзьям.
Те переглянулись.
– Частная вечеринка! – с удовольствием повторил Витторио. – Частная вечеринка, а как же. Она и есть.
– Мы будем играть на улице, – сказал бармену Питер. – Еще не решили, где. Может быть, вы подскажете? Здесь неподалеку есть какая-нибудь площадь? Или сквер? Неважно, лишь бы было место, если кто-то захочет потанцевать…
– Кто-то захочет потанцевать? – растерянно повторил бармен. – На площади? В сквере? Прямо сейчас?! Я, наверное, плохо понимаю английский…
– Прекрасно вы все понимаете, – утешила его Надя. – Мы будем играть на улице. И лучше бы там действительно нашлось место для танцев. Обычно объявляются желающие. Мы поначалу сами не верили, что в новогоднюю ночь кто-то придет нас слушать и тем более захочет сплясать. Тем не менее, до сих пор всегда хоть кто-нибудь да приходил.
– Всегда? – повторил бармен. – Вы что, каждый Новый год на улице играете?
– Уже семь лет, – кивнула Надя. Обернулась к друзьям и повторила по-английски: – Представляете, уже целых семь лет!
– Да чего ж тут не представлять, – пожал плечами Питер.
А Витторио отвернулся к окну.
* * *
Милда пересчитала таблетки, их, конечно же, хватит, должно хватить. На ее вес хватило бы и в два раза меньше, но Милде важно, чтобы наверняка. Чтобы не начинать потом по новой всю эту суету, из гораздо менее удобной позиции, когда все вокруг будут начеку. Настороже. Подглядывать, выспрашивать, лезть.
Милде важно, чтобы наверняка, поэтому маме, брату и всем знакомым она сказала, что едет отдыхать, даже купила билеты, самые дешевые, какие были в агентстве, новогоднюю экскурсию в Гданьск, туда и обратно, чтобы, если спросят, показать распечатку. Люди любопытны, всегда лезут в чужие дела, хотя на самом деле им плевать.
Им плевать, всем, кроме мамы, да и той лишь бы было к кому лезть каждый день со своими советами и указаниями, лишь бы было кому звонить на праздники и подолгу, со вкусом скандалить, что не позвонила сама.
Сейчас самое главное, чтобы никто не имел ни единого шанса найти ее раньше времени, вызвать Скорую, вернуть Милду назад, на стартовую позицию, значит, надо, чтобы все вокруг точно знали, где она прямо сейчас. И все, начиная с мамы, знают: в поездке, в гостинице в Гданьске, вернулась с экскурсии, очень замерзла, скоро надо будет идти в ресторан, пить заранее оплаченное шампанское, есть праздничный ужин, какое же счастье, что на самом деле ничего такого делать не надо, можно спокойно сидеть дома и ждать.
Надо подождать хотя бы до двух часов ночи, потому что кто угодно в любой момент может позвонить с поздравлениями или отправить смс, тогда придется ответить, в новогоднюю ночь прикидываться спящей плохая идея, чего доброго, забеспокоятся, не ровен час, побегут проверять. Проверять! Эти люди все проверяют, хлебом их не корми, только дай проверить, как живет и что сейчас делает кто-то другой.
Но после двух вполне можно отключить телефон. После двух никто волноваться не будет, скажут: уснула, скучная клуша. И продолжат выпивать и закусывать, закусывать и выпивать. А мне того и надо, – подумала Милда. – Лишь бы выбросили меня из головы до обеда первого января.
Значит, надо дождаться двух, потом можно будет наконец выпить таблетки, это прекрасное разноцветное лекарство от жизни, от невыносимых будней, от посторонних, поглядывающих, наблюдающих, во все сующих нос, выпить их и уснуть, точно зная, что никто не разбудит, даже будильник; собственно, в первую очередь он.
Все хорошо, все продумано, план идеальный, только сидеть дома в новогоднюю ночь, выключив свет, чтобы никто случайно его не заметил, оказалось совершенно невыносимо. Даже поесть нельзя, чтобы потом не стошнило, важная предосторожность, Милда прочитала об этом в интернете, она вообще отлично подготовилась, удивительная молодец. Не учла одного: дождаться двух часов ночи будет так трудно, что почти невозможно терпеть.
Поэтому Милда надела пальто, сапоги и вышла из дома. Все равно, куда идти, лишь бы не сидеть на месте. Лишь бы не сидеть.
* * *
– Здесь совсем рядом, буквально за углом улица Руднинку, – сказал бармен. – На ней как раз есть отличный сквер, все как вам надо, только народу в это время там пожалуй совсем не будет…
– Это неважно, – отмахнулась Надя.
И ее друзья дружно закивали. Они ни слова не понимали по-русски, но сразу догадались, о чем речь.
– Вы нам покажете? – Надя положила на барную стойку карту, туристический план Старого города. – Просто ткните пальцем: где мы, а где этот ваш сквер?
Бармен некоторое время разглядывал разноцветный рисунок, наконец сказал:
– Мы вот здесь. А вот улица Руднинку. А это тот самый сквер. Надо же, не знал, что официально он считается площадью. Та еще площадь, на самом деле: детская площадка и газон для собачьего выгула. То что вам надо: много пустого места, много очень мокрой травы.
– Это сейчас мы выйдем из бара и сразу налево? – неуверенно переспросила Надя.
– Наоборот, направо. Знаете что? Если подождете буквально пятнадцать минут, я быстренько тут уберу, все закрою и вас провожу. Заодно послушаю, как вы играете. У музыкантов должна быть хоть какая-то публика, у вас буду я.
Надя перевела его предложение друзьям, Витторио и Питер заулыбались и нестройным дуэтом протяжно сказали: «Сьпаааа-сьиииии-бааа!» Это Надя их научила, когда к ней в гости приезжала мама, большая любительница всех кормить.
* * *
«Ты знаешь, что делать», – сказал Голос.
Голос невыносим и звучит всюду, везде, где и когда он захочет. Заткнуть уши не помогает, включить музыку не помогает, Голос всегда говорит прямо в голове.
Помогают только люди. Любые люди. При посторонних Голос всегда молчит. Но, например, при телевизоре – нет. Голос хорошо знает, что в телевизоре люди не настоящие.
«Ты знаешь, что делать, – повторил Голос. – Ты готов».
Даня и правда был готов. Он очень хорошо подготовился. Только ему по-прежнему совсем не хотелось умирать. Умирать было страшно. И жалко. Столько всего еще осталось! Сделать, узнать, попробовать, пережить. Но ничего не поделаешь, надо значит надо. Зато Миранда останется жить.
«Ты знаешь, что делать», – твердил Голос.
Даня раздраженно подумал: «Не надо меня торопить. Сперва я должен поздравить Миранду – по нашему времени. И потом еще раз по барселонскому. Чтобы не волновалась. Чтобы хорошо, спокойно спала».
Даня очень любил Миранду. Никогда не думал, что можно так сильно кого-то любить. Оказалось, можно. И это было такое невероятное счастье, несмотря на Голос, несмотря вообще ни на что.
Голос всегда звучал в Даниной голове. Ну, то есть всегда, не всегда, это теперь трудно вспомнить, по крайней мере, с детства. Тогда это случалось редко, с годами все чаще. Даня привык считать Голос другом, тот рассказывал разные интересные вещи, иногда подавал идеи и даже советы, как уберечься от беды. Несколько раз Даня специально поступал наоборот, наперекор Голосу, добром это никогда не заканчивалось. Зато следовать его указаниям, даже самым абсурдным всегда оказывалось полезно. Главное, никому не рассказывать про такого советчика, чтобы не объявили сумасшедшим. Тому, кто разговаривает с духами, приходится учиться молчать. Но этому Даня очень легко научился. В детстве всем нравится иметь настоящие тайны. А потом просто привыкаешь всегда от всех кое-что скрывать.
Но вот уже несколько месяцев Голос твердил, что им с Мирандой не суждено быть вместе. Один из них обречен судьбой овдоветь. Поэтому Миранда скоро умрет от страшной болезни. Зато если Даня покончит с собой, Миранда проживет еще очень долго. До девяносто шести лет, – обещал голос. Аж до девяносто шести!
Даня совсем не хотел умирать. У него были прекрасные планы на будущее. Ну и вообще он любил жизнь, а смерти боялся, как, наверное, всякий нормальный человек. Но выбор сделал легко: пусть лучше живет Миранда. Она, – думал Даня, – меня тоже любит, но все-таки гораздо меньше, чем я ее, это чувствуется. Получается, ей повезло. Погорюет, поплачет и будет жить дальше. А я без нее – нет. Ну и какой смысл оставаться в живых при таком раскладе? Ни себе, ни людям. Абсурдно. Зачем?
– Я все сделаю, – вслух сказал Даня. – Обещал – значит сделаю. Но позже. Потом. Когда поздравлю Миранду. Она и так изводится, что согласилась уехать на праздник к родителям. Я обещал позвонить ей ровно в полночь, чтобы быть вместе в Новый год.
«Нет, надо прямо сейчас…» – твердил Голос, но Даня рявкнул:
– Сказал потом – значит потом!
И чтобы заставить Голос заткнуться, выскочил из дома, практически в чем был, только куртку накинул. А телефон, конечно, забыл, пришлось за ним возвращаться. Заодно переобулся. Все-таки гулять под декабрьским дождем в разношенных тапках даже для будущего самоубийцы перебор.
* * *
– Просто мы прокляты, – сказала Надя. – Так получилось.
И рассмеялась, словно нет ничего веселей, чем быть проклятым.
Бармен неуверенно улыбнулся. Еще раз проверил замки, внимательно посмотрел на замигавший в углу витрины красный огонек сигнализации – вроде в порядке? Все как всегда? Наконец сказал:
– А я пока вроде бы нет. Ничего, наверстаю. Какие мои годы.
Питер и Витторио свернули за угол. Надя проводила их взглядом и снова повернулась к бармену:
– Типун вам на язык. Еще чего не хватало. Зачем оно вам?
– Просто глядя на вас, поневоле подумаешь, что быть проклятым – отличная судьба. Вы такие веселые. И дело себе смешное придумали: в Новый год на улице играть.
– А. Это да, – кивнула Надя. – Ну, оно и неудивительно. Все-таки нас проклял наш лучший друг. А друзья остаются друзьями даже когда проклинают.
* * *
В отличие от других баров, попадавшихся ей на пути, которые просто были наглухо закрыты, этот закрылся прямо у нее на глазах. Вышла бы из дома на полчаса раньше, успела бы перехватить стаканчик, неважно, чего именно, за эти полчаса света, тепла и уютного перезвона посуды Агата была готова отдать так много, сколько у нее никогда не было. Наверное, поэтому и опоздала, не по карману цена.
Издалека видела, как из бара вышли последние посетители, двое мужчин с какими-то странными сумками; нет, не сумками, а чехлами для инструментов, – поняла она, увидев последовавшую за ними кудрявую девицу с гитарой. Сразу после этого в окнах погас свет, появился еще один человек, принялся запирать дверь. Девица стояла рядом. Потом они свернули за угол вслед за мужчинами, и Агата невольно ускорила шаг, почти побежала, чтобы не потерять их из виду. Зачем? Да кто же знает, зачем.
* * *
– Мы все играли в одном оркестре и очень дружили, – сказала Надя в ответ на вопросительный взгляд бармена, вернее, просто Андреаса, бар закрыт, какой он теперь, к черту, бармен.
– Ник всегда был с причудами, – продолжила Надя в ответ на следующий, еще более вопросительный взгляд. – После фильма про Гарри Поттера мы стали звать его Почти Безголовый Ник, и это было настолько правдой, что даже он сам не обижался. Впрочем, в ту пору он вообще ни на что не обижался, очень удачно ему подобрали таблетки. Хорошие были времена… Ну что вы так смотрите? Таблетки великое дело, когда у тебя клиническая депрессия. Без них не обойтись. Пока Ник принимал таблетки, с ним все было в порядке, то в полном, то более-менее, но в любом случае лучше, чем без них. Но он вечно пытался справиться сам. И тогда, конечно, начинался настоящий кошмар. Для него самого и для всех, кто рядом.
– Мы тогда были совсем молодые, – помолчав, добавила Надя. – Ни черта мы о депрессии не знали. Ну, то есть, знали – теоретически. Но все равно думали, у Ника просто скверный характер. Хотел бы держать себя в руках, держал бы, чем он хуже нас? И прощали ему далеко не все. Часто ссорились, но обычно быстро мирились, потому что Ник это Ник. Лучше его все равно никого не было, несмотря на все его заскоки. Мы бы и в тот раз помирились, но не успели. Наш Ник покончил с собой. В новогоднюю ночь, пока мы втроем пили шипучку и обсуждали, позвонить ему, или подождать пока сам извинится. Ну вот, подождали, такие молодцы. Вышел в окно, а нам оставил записку, куда ж без записки, это был бы уже не наш Ник. Написал, что просит не судить его строго, просто оказалось невыносимо встречать Новый год одному, без друзей. И тогда мы, конечно, приплыли на тот берег, куда лучше никому не причаливать. В смысле, сами чуть не чокнулись. Получалось, мы во всем виноваты. Как будто сами его убили. Ну, в общем, да, так оно и есть.
– И тогда вы?..
– Нет, Андреас. Мы сами ничего не придумали. Куда уж нам. Только маялись и мрачнели. И понимали, что с этим нам теперь всегда жить. Витторио повезло больше, чем нам с Питером, он католик – с детства, по-честному, не формально – хотя бы на исповедь смог сходить. Но особо ему от этого не полегчало. Не знаю, как бы мы жили с таким грузом, но Ник, где бы и чем бы он ни был, нас пожалел. Приснился всем троим, в смысле, конечно, каждому по отдельности, но это были очень похожие сны. Велел нам каждый Новый год приезжать в любой, какой сами выберем, город, идти на первую попавшуюся площадь и играть там тарантеллу, как минимум час. Можно дольше, а меньше – ни в коем случае. Ник сказал, тогда он будет доволен, больше никаких обид. Вот мы и ездим, уже седьмой год. И играем. Это оказалось гораздо веселей, чем мы думали. Отличный способ встретить Новый год! Путешествие, маленькие приключения, приятные открытия вроде вашего бара с горячим вином и хороший концерт – что еще музыканту надо для счастья? Впрочем, от Ника никто ничего иного и не ждал. У него доброе сердце. А что голова не всегда была в порядке – так что ему после смерти та голова.
* * *
«Господи, что это? – Бенас не верит своим ушам. – Мне мерещится? Или действительно кто-то играет тарантеллу? Где-то… Да, кажется, там».
* * *
У Нади гитара, у Витторио бубен, у Питера какая-то дудка, наверное флейта или что-то вроде того, поэтому он не поет. Но и дуэтом получается отлично, голос у Нади слишком низкий для женского, у Витторио слишком высокий для мужского, в сумме выходит какой-то, страшно сказать, ангельский, – думает Андреас. И еще он думает: как же хорошо, что я с ними пошел!
* * *
– Вот так, наверное, и плясали укушенные тарантулом, – говорит мужчина средних лет с тонким бледным лицом.
Он во все глаза смотрит на красивого блондина в распахнутой серой куртке, который, уперев руки в бока и высоко подбрасывая ноги, пляшет на площади, где летом стояли пластиковые столы и кособокие белые стулья, где под полосатым навесом жарили лучшие в этом городе гамбургеры, а теперь ничего, только мокрый гравий, да вызолоченная недавними морозами и фонарями мертвая трава.
– Тарантулом? Почему именно тарантулом? – спрашивает Агата.
– Потому что играют тарантеллу. Вы не знаете историю этого танца?
Агата отрицательно мотает головой. Она никогда не интересовалась танцами. Может быть, зря. Смогла бы сейчас поддержать разговор.
Но незнакомец только радуется возможности все рассказать.
– Вообще-то не уверен, что это можно назвать «историей», но легенда гласит, что тарантеллу придумали в качестве лекарства от безумия, вызванного укусом паука тарантула. Отсюда и название. В идеале паука надо бросить на землю и растоптать в танце – видите, какие движения?
– А и правда, как будто кого-то топчет, – невольно улыбается Агата. – Похоже!
– То-то и оно. Но если паука не поймали, можно растоптать воображаемого. Главное – плясать.
– Правда? – переспрашивает Агата. – Слушайте. Кажется, я хочу потанцевать. А вы?
– Я не умею, – разводит руками незнакомец. Но тут же решительно добавляет: – Ай, ладно, умеем мы или нет, сейчас все равно.
* * *
Милда не знает, как это случилось. Просто шла по городу, выбирая самые темные улицы, чтобы случайно не столкнуться с какими-нибудь знакомыми, которым взбрело в голову выбраться в центр посмотреть на фейерверк. Шла и шла, потом услышала музыку, что-то из детства, из музыкальной школы; на самом деле неважно, просто ее потянуло на эти звуки как магнитом. А потом…
Милда не знает, когда начала приплясывать в такт нехитрой мелодии; кажется еще на ходу, прежде, чем вышла из переулка и увидела площадь, справа детские качели и какие-то новомодные спортивные снаряды, а слева играют музыканты и пляшет народ, несколько пар, кружатся и подпрыгивают, кто во что горазд, а в самом центре, высоко задирая коленки, скачет какой-то блондин с лицом сказочного принца, глаза закрыты и улыбка на губах, такая улыбка, что Милда не смогла устоять и тоже вошла в круг.
Милда не знает, как решилась плясать на глазах у всех, не понимала, как у нее получается, она никогда не училась танцам, даже на дискотеку ходила всего один раз с подружками, ей не понравилось, решила: больше никогда. И вдруг пляшет среди других танцующих, хлопает себя по бедрам, представляя, что на самом деле бьет в бубен, и смеется от радости и кажется даже подпевает музыкантам. Ну точно. О ужас, довольно громко поет! И ей хорошо.
* * *
Ну что, ты доволен, засранец? – думает Витторио. – Смотри, сколько народу уже свел с ума! Ну то есть не свел, а наоборот, и не ты, а мы, но какая разница, Нико, уж тебе точно никакой разницы, главное, ты опять настоял на своем. Как же я этому рад.
* * *
Так и знала, – думает Агата. – Нет у меня в голове никакой тьмы, я сама ее выдумала, как Йонаса, Маргариту и старика фотографа, как этого дурацкого заику Маркуса и мою вечную соперницу Аллу, одному Господу ведомо, зачем я выдумала их всех, вернее, зачем Он создал меня такой дурой. Наверное, чтобы однажды я сплясала в парке на площади в новогоднюю ночь и посмеялась с Ним вместе, вот такой был у Него на мой счет план. А что ж, в одиночку смеяться даже Господу скучно, всем нужна хорошая компания, и Ему, и мне.
* * *
У нас опять получилось, – думает Питер. – Это самое удивительное. Я никогда не верю, что в новогоднюю ночь придут какие-то люди и будут плясать, да так, словно всю жизнь учились итальянским народным танцам. Я никогда не верю, а оно происходит, год за годом одно и то же, и это значит, мой дорогой Безголовый без всяких «почти» Ник, что ты прав, а я ошибаюсь, и всегда ошибался, и какое же счастье, что так. Твои безумные маниакальные бредни всегда казались мне куда привлекательней моей скучной правоты.
* * *
– Прости, – говорит Даня, – я не позвонил в нашу полночь, потому что плясал на площади… Ладно, ладно, еще раз прости, конечно, шучу. Пропустил эту чертову полночь, потому что закончил работу. Да, представь себе, да! Ту самую, всю, целиком. Почти на неделю раньше. Поэтому сидел в интернете, искал билет по карману и, будешь смеяться, поймал. Рейс не то в семь утра, не то в восемь, в общем, рано утром, поэтому я сейчас соберу чемодан и поеду в аэропорт, спать буду уже в самолете. И ты пока тоже поспи, потом уже не получится, я тебе просто не дам.
* * *
Спасибо, – думает Надя. Она сидит на мокрой траве, как на облаке. Облако куда-то несется, ветер свистит в ушах, а Надя повторяет снова и снова: – Спасибо, мой хороший, спасибо тебе, наш Почти-Безголовый, самый живой из мертвых, дурацкий, дурацкий дружище Ник.
Макс Фрай Кофейней смертной тени
Если я пойду и бульваром смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, – думает Анна-Рика. Мысли дурацкие, но от них Анне-Рике становится немножко смешно и вполне физически ощутимо тепло, как будто у тонкого осеннего пальто появилась дополнительная флисовая подкладка.
Если я пойду бульваром смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, – повторяет про себя Анна-Рика. – Если я сверну в проходной двор смертной тени, а оттуда выйду на площадь смертной тени – вот же привязалось! – не убоюсь я ни супермаркета смертной тени, ни хлеба смертной тени, ни яблок смертной тени, куплю их бесстрашно, положу в рюкзак и не убоюсь зла, хоть оно тресни. Потому что ты со мной, я это точно знаю. Думать моей головой такие дурацкие глупости умеешь только ты.
Анна-Рика выходит на улицу, Анна-Рика улыбается, прижимая к груди упаковку с половинкой нарезанного черного хлеба, а вот это мокрое на щеке – капля дождя, не слеза. Совершенно точно не слеза.
Если я сижу в кофейне смертной тени, – думает Анна-Рика, – нет, не так, если я сижу кофейней смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной. А еще со мной два евро одной монетой, причем это совершенно точно твои два евро, сегодня утром я нашла их в кармане твоей куртки, уже третий раз за эту неделю нахожу деньги в твоих старых вещах, очень мило с твоей стороны продолжать угощать меня кофе, но слушай, как ты это делаешь? Нет, правда, как?
Если я возьму чашку смертной тени, если я сделаю глоток этой горькой черной смертной тени без молока и сахара, не убоюсь я зла, – думает Анна-Рика. – Потому что ты со мной. Ты со мной, а я, дура, все равно без тебя.
Вот теперь это точно не дождь. Нет в кофейне никакого дождя. Да и на улице не было.
Глупо говорить о тебе словами псалма, – думает Анна-Рика, – вернее, молчать о тебе, но это одно и тоже. Ладно, пусть будет «молчать», глупо молчать о тебе словами псалма, как будто ты Бог. С другой стороны, теперь ты примерно как Он. В тебя, как и в Бога приходится верить, потому что вас нет, а хочется, чтобы были. Позарез надо, чтобы были вы оба; впрочем, мне бы наверное хватило одного тебя. Для начала. А в Бога можно продолжать просто верить, когда ты есть, это довольно легко.
Зато в тебя верить трудно, – думает Анна-Рика, – очень трудно верить в того, кто сперва обещал, что бы ни случилось, всегда оставаться рядом, а потом взял и умер, пошел прогуляться этой своей дурацкой долиной смертной тени и с собой не позвал – вот как в тебя после этого верить, скажи мне, как?! Я же своими глазами видела, как выглядит твое полное отсутствие, от тебя после похорон даже имени не осталось, во всяком случае, я больше не могу называть тебя по имени, даже мысленно, только безликое, неопределенное «ты». «Ты»!
Но я стараюсь, – думает Анна-Рика, – я очень стараюсь верить в тебя, получается плохо, зато само намерение дорого стоит, цени. Но слушай, – думает Анна-Рика, – сил моих больше нет, я устала, я вот-вот впаду в ересь, в смысле, пойму очевидное: тебя больше нет, ни в каком виде, нигде. И поэтому прямо сейчас, смертной тенью сидя в этой дурацкой новенькой кофейне, среди других таких же смертных теней с разноцветными телефонами, в тяжких осенних пальто, я хочу – нет, не так, не просто «хочу», мне надо – чтобы ты действительно был со мной. А не только в воображении.
Яви мне чудо, – думает Анна-Рика. – Если ты и правда со мной, дай мне знать, что ты здесь. Так, чтобы не смогла отвертеться, Даже монахи-отшельники время от времени молят своего Бога подать им хоть какой-нибудь знак, потому что невозможно терпеть больше, нет никаких сил. А с меня какой спрос. Давай, постарайся. Если ты правда со мной, кофе с меня.
Кофе с меня, ты со мной, – думает Анна-Рика, завороженно глядя, как убывает черная жидкость в ее белой чашке, только что было три четверти, и вот уже половина, а теперь еще меньше, почти ничего не осталось, только на самом дне. Но как? – повторяет она, – как ты это делаешь? Боже мой, как?
Раз ты предлагаешь, я не могу отказаться, – думает неведомо где тот, кого больше нет. – Пока я иду долиною смертной тени, не убоюсь я зла, потому что ты со мной, твой черный кофе без молока и сахара – он успокаивает меня. Хоть и остыл.

![Так [не] бывает](https://www.4italka.su/images/articles/555790/primary-large.jpg)
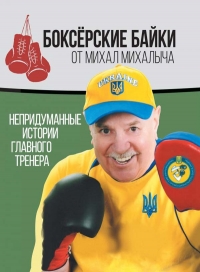

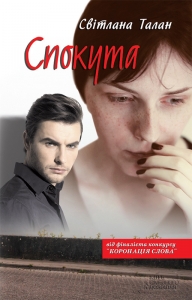



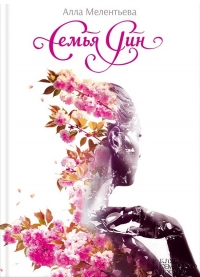
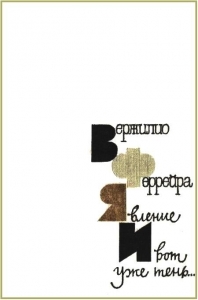

Комментарии к книге «Так [не] бывает», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев