Антонио Алвес Редол
Вестник грядущего на каменистом поле
Говоря о своем писательском труде, Антонио Алвес Редол (1911–1969) однажды заметил: «Мой плуг вспахивает каменистое поле». Творчество Редола, устремленное в будущее и приоткрывшее для португальцев новые горизонты, во многом было пророческим. На «каменистом поле» отсталой, фашизированной страны вдохновенный кудесник слова встретился лицом к лицу с диктатором. Конечно, Салазар мало чем напоминал пушкинского героя из знаменитой «Песни о вещем Олеге», разве что белым конем, к которому питают слабость все тираны. Но вот Редол действительно выступил как провидец и «заветов грядущего вестник»: в 1974 году фашистская диктатура приняла смерть от коня, которого она оседлала, — коня средневековых порядков в Португалии, мечей и пожаров в ее колониальных владениях.
Алвес Редол принадлежал к тому типу писателей, жизнь и творчество которых неразрывно слиты с борьбой народа за социально-экономическое обновление родной страны. Художник-коммунист, он вошел в португальскую литературу, когда в соседней Испании шла народно-революционная война, в Германии, Италии и самой Португалии свирепствовала фашистская цензура и полыхали костры из книг, а Европа под маской нейтралитета стыдливо отводила глаза от начинавшегося мирового пожара. Так же стыдливо португальская литература начала века отводила глаза от обострявшихся в стране социальных противоречий. Алвес Редол был одним из первых португальских писателей, кто в полный голос заговорил о коренных проблемах страны. Незаурядный талант и огромное трудолюбие, стремление в первую очередь к правде жизни, а уж потом — к красоте формы сделали из Редола крупнейшего мастера и родоначальника целого направления в португальской литературе нашего столетия.
* * *
К моменту провозглашения в Португалии республики в 1910 году почти все крупные писатели-реалисты португальской прозы XIX века во главе с Эса де Кейрошем уже сошли с литературной арены. Буржуазная революция не принесла стране ожидаемых перемен, и поэтому португальская литература первой трети XX века в целом развивается под знаком формалистических поисков, свойственных западному модернизму начала столетия, под знаком социального скептицизма и бегства от действительности. В португальском «захолустье Европы» модернистская эстетика нашла благодатную почву в обстановке послереволюционного и послевоенного кризиса общественного сознания и особенно позднее, когда в 1926 году к власти пришел Салазар, открывший период почти полувековой диктатуры.
Модернисты группировались вокруг многочисленных журналов, главными из которых были: на первом этапе «Орфео» (1915), а в разгар салазаризма — «Презенса» (1927–1940), объединивший многих видных литераторов тогдашней поры. Укрывшись в «башне из слоновой кости», «презенсисты» защищали тезисы «искусства для искусства» и несовместимости литературы с любой идеологией. Тем не менее, несмотря на прямо провозглашаемый аполитизм и нарочитую психологизацию творчества «презенсистов», их роль в развитии португальской словесности неоспорима: они способствовали преодолению сентиментально-бытописательской риторики эпигонов романтизма, обогащению литературной техники и приобщению национальной культуры к общеевропейским образцам.
В искусстве ничто не возникает без опоры на предшествующую традицию и ничто не остается без продолжения. И хотя между сменяющимися школами идет ожесточенная, на первый взгляд непримиримая идейно-эстетическая борьба, они всегда питают друг друга теми, жизненными соками, которые рождает подлинное творчество. Литературные течения — лишь ветви могучего древа национальной культуры, корни которого уходят в народную почву, а стволом служит непредвзятое, реалистическое видение окружающего мира. Португальский модернизм был рожден определенной эпохой — эпохой крушения и попрания общественных идеалов — и уже таил в себе разрушительные силы новой эстетики, диктуемой временем. Так, с середины 30-х годов в журнале «Презенса» стали публиковаться произведения, содержавшие завуалированную социальную критику. Некоторые писатели, считавшиеся столпами модернизма, вскоре стали от него отходить, а один из романов вождя «презенсистов» Жозе Режио, «Игра в жмурки», был даже запрещен фашистской цензурой. Характерно и то, что многие представители тогдашней литературной молодежи, начинавшей писать под влиянием модернистской эстетики, очень быстро разочаровывались в формализме в силу его оторванности от национальных проблем. Таков, например, путь крупнейшего писателя-реалиста современной Португалии Фернандо Наморы.
Внутреннее размывание творческих принципов модернистов, группировавшихся вокруг журнала «Презенса», сопровождалось наступлением нового, радикально настроенного писательского поколения. Постепенно оформившееся направление, противопоставившее себя модернизму, позднее получило название неореализма и со второй половины 30-х годов стало определяющим в португальском литературном процессе.
Становлению неореализма способствовал целый ряд объективных общественно-исторических процессов и событий как в самой Португалии, так и за ее Пределами. Развитие капиталистических отношений, индустриализация и концентрация производства в условиях развившегося в 1929 году мирового экономического кризиса нарушили традиционную для этой страны патриархальность жизненного уклада, привели к росту пролетарских и средних городских слоев, к Политизации и поляризации общественного сознания. Под пятой укрепившегося диктаторского режима и как реакция на него подспудное демократическое движение не только не ослабевало, но росло и постепенно набирало силу, Проявляясь, в частности, с той или иной степенью завуалированное в произведениях писателей-неореалистов. Примечательно, что некоторая часть португальской критики сам термин «неореализм» до сих пор склонна рассматривать как синоним социалистического реализма, пущенный в обиход в условиях фашистской цензуры.
На формирование неореализма в Португалии оказали существенное влияние такие события, как победа социализма в СССР, триумф Народного фронта во Франции (1935), национально-революционная война в Испании (1936–1939), а позднее — борьба за спасение демократии, победы Советской Армии во второй мировой войне, приоткрывшие перед португальцами перспективу освобождения их родины от диктатуры Салазара. Что касается чисто литературных предшественников и влияний, то неореалистическая эстетика, с одной стороны, опиралась на достижения португальского критического реализма второй половины XIX века, с другой — вбирала в себя опыт широко читавшихся в Португалии современников — бразильцев Жоржи Амаду, Линса до Рего, Грасилиано Рамоса; советских писателей М. Горького, И. Эренбурга и особенно Ф. Гладкова[1]; американцев Дж. Стейнбека, Э. Хемингуэя, Дж, Дос Пассоса и др. Особую роль в оформлении эстетики неореализма сыграла работа Плеханова «Искусство и общественная жизнь», переведенная В Португалии В середине 30-х годов. Само слово «неореализм» связывало это течение с национальной традицией и выводило его на магистральный путь мировой литературы нашего века.
В чем же заключались основные творческие принципы неореализма, противопоставлявшие его предшествующему литературному поколению?
Прежде всего писателей, появившихся в Португалии с середины 30-х годов, в первую очередь интересовала жизнь наиболее обездоленных и отсталых слоев португальского общества. Их произведения отличались подчеркнутой социальной и гуманистической направленностью, связью с национальной традицией. Новая проза, так же как и новая поэзия, окрыленные революционными идеалами и романтикой борьбы за лучшее будущее, стремились быть политически злободневными, способствовать «преобразованию мира», хотя в условиях фашистской цензуры и преследований это было весьма нелегко, а порой и опасно. Один из лучших поэтов-неореалистов Карлос де Оливейра сравнивал тогдашнюю литературу, часто использовавшую эзопов язык, с айсбергом, лишь небольшая часть которого находилась в поле зрения неискушенного читателя, а предшественник неореализма Феррейра де Кастро в статье «Цензура в Португалии» (1954) писал: «Каждый, кто пишет, видит перед своим письменным столом воображаемого цензора, и это бесплотное, Незримое присутствие лишает естественности, затормаживает всякий порыв, вынуждает маскировать нашу мысль, если вообще не отказаться от намерения ее выразить»[2].
Одной из особенностей португальского неореализма — по сравнению с предшествующей литературой формалистического и субъективистского толка — был поворот от эстетики, связанной с культом индивидуума, к коллективистскому мироощущению художника, когда писатель ощущает себя выразителем не отдельной личности, а народной массы, нации в целом. Впрочем, в истории мирового искусства такие повороты от элитарного к демократическому видению мира у лучших представителей интеллигенции всегда были предвестниками надвигающихся революционных изменений.
В русле неореализма со второй половины 30-х — начала 40-х годов вступили в литературу многие крупные португальские писатели нашего столетия, произведения большинства которых переведены на русский язык: Антонио Алвес Редол, Соэйро Перрейра Гомес, Мануэл да Фонсека, Фернандо Намора, Карлос де Оливейра, а в заметной степени подверглись его влиянию такие известные ныне авторы, как Вержилио Феррейра, Урбано Таварес Родригес, Жозе Кардозо Пирес, и другие литераторы, чье творчество впитало в себя элементы различных художественных течений XX века. С тематической точки зрения рассказы и романы этих авторов во многом продолжали традицию преимущественного изображения сельской, провинциальной жизни — тенденция, естественная для экономически отсталой Португалии. Однако в отличие от бытописательской и модернистской прозы конца XIX — начала XX века неореалистам была свойственна новая оптика, новое видение мира: они воспринимали и изображали действительность в ее движении и противоречивости, находясь под решающим влиянием уже проникшей в страну марксистской идеологии.
В истории неореализма обычно выделяют два периода, первый из которых (1937–1950) можно охарактеризовать как период ученичества, второй (с 1950 года) — как период зрелости и творческого развития этого широкого литературно-художественного течения, захватившего и другие виды искусств.
Никто не раскрыл содержание начального этапа неореализма лучше, чем Алвес Редол — его признанный глава и вдохновитель — в предисловии к своему раннему роману «Полольщики» (1940): «Мой роман не претендует на то, чтобы остаться в литературе как произведение искусства. Прежде всего это документальное свидетельство о жизни народа Рибатежо. А уж потом пускай он будет тем, что в нем увидят другие»[3]. Здесь с бескомпромиссной откровенностью проводится характерная для первых неореалистов мысль о примате содержания над формой, репортажа — над художественным произведением и, в конечном счете, простого факта — над сложным явлением. Но фотография, даже сенсационно-разоблачительная, без мастерства репортера во многом теряет свою убедительность. Так же и юношам, начавшим писать на рубеже 30 — 40-х годов, при всей их честности и горячности, порой не хватало техники, профессионального мастерства и широкой литературной культуры.
1945 год, год сокрушительного разгрома фашизма в Европе, стал для португальцев символом несбывшихся надежд. В стране развернулось широкое оппозиционное движение. Лукавый и дальновидный диктатор Салазар пошатнулся, но удержался на своем посту. А затем наступили годы «холодной войны», ужесточения цензуры и репрессий, усиления изоляции Португалии от внешнего мира. Время восторженного энтузиазма поколения, приветствовавшего победу над фашизмом, сменилось эпохой страха, сомнений, неотвеченных вопросов и пессимизма. Устами одного из своих героев Алвес Редол так охарактеризовал общественную атмосферу в стране: «Все мы живем как бы в одиночках огромной тюрьмы с толстыми стенами, где ненависть — это пол, по которому мы ступаем, а недоверие — нависшее над нами небо». В португальской литературе усилилось влияние распространившегося в то время в литературах Запада экзистенциализма, с его интересом к внутреннему миру отдельной личности, которая противостоит враждебной и безысходной среде. Однако эта очередная и качественно ионам волна субъективизма в художественном творчестве органически слилась с эстетикой неореализма 40-х годов, уже представленного к тому времени значительным количеством превосходных поэтических и прозаических произведений. Не случайно поэтому прогрессивная критика, не отвергая приоритета содержания над формой, заговорила о новом способе художественного выражения, в котором «слит воедино субъективный и объективный реализм». И нельзя не согласиться с мнением Фернандо Наморы, виднейшего представителя рассматриваемого поколения, который характеризовал состояние неореализма 50-60-х годов не как измену его принципам, а «как симптом повзросления, способствующего тому, чтобы писатель, эффективнее выполняя свой долг гражданина, полностью проявил себя как художник»[4].
Путь, пройденный неореализмом, — от юношески запальчивой, но необходимой борьбы за идейность литературы до признания равноценности формы и содержания — это путь самого Редола от романа «Полольщики» до шедевров, созданных им в конце жизни и принесших ему мировую известность. Португальского писателя-самоучку часто — естественно, с учетом национальных условий — сравнивают с Горьким. Творчество Редола, его писательская культура формировались прежде всего в «университетах» самой гнетущей португальской действительности. Сын небогатого лавочника, выбившегося из крестьянских низов и разорившегося в результате экономического кризиса 1929 года, Антонио Алвес Редол лишь с большим трудом смог получить образование, после чего некоторое время проработал в отцовской лавке в родном городке Вила-Франка-де-Шира, недалеко от Лиссабона. Отпуская немудреный товар, он повседневно сталкивался со своими земляками, преимущественно бедными крестьянами и сельскохозяйственными рабочими богатейшей провинции Рибатежо, находившейся во власти традиционной помещичьей олигархии и наступавшего на нее молодого португальского капитализма. Столкновение с заботами, проблемами, мироощущением угнетенного народа стало первой жизненной школой самого писателя. В шестнадцать лет он уже начинает сотрудничать в местной газете «Жизнь Рибатежо». Но скоро материальное положение семьи настолько осложнилось, что Антонио, почти еще мальчик, желая помочь отцу, принимает решение отправиться на поиски заработка и счастья в тогдашнюю португальскую колонию Анголу, куда и отплывает 3 июля 1928 года на борту пакетбота «Пьяса».
«Африканский» период в жизни Редола был сравнительно кратковременным, но чреватым для него тяжелыми, в конечном счете роковыми последствиями. Вначале ему пришлось в течение нескольких месяцев испытать на себе тяжелую судьбу безработного: спать на скамейках городского сада, голодать, принимать скудную помощь немногих ангольских друзей, обивать двери возможных работодателей. В конце концов он устраивается в местном управлении финансов, а позднее находит себе неплохо оплачиваемую работу в одной из фирм по продаже автомобилей. Одновременно продолжается и его сотрудничество в газете родного города — «Жизнь Рибатежо». Позднее воспоминания об этом периоде жизни, о настроениях той поры лягут в основу целого цикла рассказов, проникнутого щемящим чувством ностальгии по родине. Все это время Редол посылает деньги семье, помогая ей справиться с многочисленными долгами. Здесь, в тяжелых условиях тропиков, он заболевает серьезной болезнью печени и по совету врачей в 1931 году покидает Анголу, возвращается в метрополию. После операции и относительного выздоровления Редол снова долгое время не может найти работу, пока один из друзей отца не устраивает его мелким служащим в небольшую лиссабонскую фирму. Постоянно проживая в родном городе Вила-Франка-де-Шиpa, он ежедневно возвращается домой из столицы, зажатый в толпе усталого трудового люда, «поездом в 6.30», выразительно описанном им в одном из своих рассказов. Будучи человеком чрезвычайно целеустремленным и организованным, Алвес Редол, помимо прямых служебных дел, продолжает упорно заниматься журналистикой и литературой, пишет первые книги, в частности роман «Полольщики», который принес ему национальную известность; сотрудничает в ряде изданий, и прежде всего журнале «Диабо», объединившем левые силы тогдашней португальской интеллигенции. Ему удается продвинуться и по служебной лестнице: он становится директором рекламного бюро, а владельцы фирмы даже предлагают Редолу сделаться ее пайщиком. Но мир «маркетинга» — с безжалостной конкуренцией, погоней за модой, неурочными часами работы, — как признавался больной писатель своему другу Наморадо, — «мог бы пожрать его, если бы он от него не освободился». Поэтому он отказывается от всех предложений и последние годы жизни, уже в зените литературной славы, целиком отдается писательскому труду. Застарелая болезнь настигла Редола в расцвете творческих сил: он скончался 29 ноября 1969 года в столичной клинике Санта-Мария, веря в будущее Португалии и не дожив лишь нескольких лет до триумфа апрельской революции 1974 года, покончившей с фашизмом на его родине. В обращении его друзей к жителям Вила-Франка-де-Шира — города, которому писатель оставался верным до конца своих дней, — говорилось: «Умер наш товарищ. Товарищ, который служил своему народу, создавал книги, помогая соотечественникам поверить в то, что их дни не всегда будут серыми и печальными и что не всегда наша жизнь будет покорной и лишенной надежды».
* * *
Сказать о крупном художнике слова, что он был «хорошим человеком», — это значит не сказать ничего. Тем не менее в истории литературы можно найти немало имен — людей непростых, изломанных жизнью, — к которым трудно отнести это простое житейское определение. Алвес Редол не из их числа. Несмотря на то что жизнь порой обходилась с ним круто, он остался в памяти современников и потомков не только как общепризнанный писатель-классик, но и как удивительно цельная и обаятельная личность, хороший человек в прямом и высоком смысле. Простой, почти застенчивый в обращении с людьми, Редол был редким типом крестьянина-интеллигента, глубоко познавшего жизнь и сохранившего первозданную чистоту народного мировосприятия и морали. Относясь к простым людям с искренней сыновней любовью, он хорошо знал и честно описывал их слабости и даже пороки, питаемые вековыми невзгодами. Вне работы он целиком отдавал себя друзьям и детям, любил животных, перенося переполнявшую его нежность к миру на страницы своих книг. Редол справедливо считал, что «человек не нужен лишь там, где его нет», и всегда откликался на чужую боль. В то же время, когда ему приходилось защищать свои идеалы, его нельзя было упрекнуть в слабости: никогда не впадая в политическое сектантство, Редол, по словам его близкого друга Фернандо Наморы, знал, что уверенность в правоте «приходит лишь на путях сомнения, печали и страдания, неведомых тем, кому все представляется комфортабельно-окончательным и бесспорным»[5]. Редол жил и писал, полностью отвлекаясь от умозрительных схем и литературных клише. «Каждое утро я начинаю жизнь, как будто в подвалах моей памяти нет и следа происшедшего накануне. Я как бы вновь начинаю жить без софизмов, с чистой душой, почти растерянный, на краю зияющей пропасти, где перемешались чудовища и осколки звезд»[6].
Одной из основных черт, пронизывающих все творчество Редола и позволяющих сближать его с литературой социалистического реализма, был исторический оптимизм писателя, его вера в освобождение своего народа. В условиях жестокой диктатуры в марте 1963 года он сказал в интервью газете «Република»: «Я ничего не знаю о своем будущем, хотя все больше верю в лучшее будущее для всех. И хочу подчеркнуть, что это не просто вера, а подлинная уверенность. Вас, более молодых, ждут прекрасные дела… Тогда, если я этого заслужу, не забудьте и обо мне»[7].
Художник глубоко национальный, Алвес Редол никогда не был лишь сторонним наблюдателем и летописцем народной жизни. Чтобы понимать, любить или ненавидеть те или иные стороны современной ему португальской действительности, считал он, необходимо быть плоть от плоти народа, познать на собственном опыте его радости и страдания, его чаяния и самые сокровенные идеалы, делить с ним его труд, его будни, его скудный стол. Вот почему, начиная работать над своими романами, он обычно месяцами жил среди своих будущих персонажей, внутренне и внешне отождествляясь с ними, стремясь видеть и чувствовать окружающий мир таким, каким он представлялся его героям. Так были созданы книги о земледельцах родной и близкой ему провинции Рибатежо, цикл романов о виноделах долины реки Доуро, с которыми он трудился и жил в течение многих недель, роман о рыбаках прибрежного городка Назаре в Центральной Португалии, с которыми он выходил на промысел в Атлантику, и другие произведения писателя.
Интересна и техника работы Редола над своими романами, часто довольно сложными по структуре, объединенными в циклы сквозными героями. Разветвленный сюжет, множество персонажей, иногда представляющих не одно поколение, требовали от писателя большого внимания в процессе творчества, чтобы, как он шутливо говорил, «не потерять по дороге какого-нибудь типа». Работая в области коммерческой рекламы и будучи уже известным литератором, Редол однажды увидел сценарий и подробную «раскадровку» какого-то фильма. Ему, человеку железной дисциплины и большой собранности, это настолько понравилось, что он тут же решил использовать кинематографические приемы при подготовке своих повествовательных циклов. Так родились его «рабочие карты», на которых была заранее распланирована последовательность описываемых сцен, обозначены возраст каждого из персонажей, состав его семьи, ее прошлое и ее связи. По свидетельству одного из друзей, у писателя под рукой всегда находился «своеобразный графический скелет романа, подкрепленный бесчисленными карточками и позволявший ему вплоть до деталей предвидеть каждую сцену, колебания напряженности сюжета и его эмоциональную траекторию, которые он изменял или подправлял согласно общему видению произведения»[8].
Говоря о характерных чертах творчества Редола в целом, помимо большой общественно-политической остроты и профессионального мастерства, впитавшего новую для его времени кинематографическую технику, следует упомянуть и о некоторых других особенностях художественной палитры португальского романиста. Это прежде всего широкое использование народного языка, тех пластов лексики, которые временно были изгнаны из литературы писателями-модернистами. В переводе практически невозможно передать «языковой дух» той или иной португальской провинции, дух Рибатежо или Доуро. Сами ж португальцы улавливают его мгновенно. При этом Редол никогда не впадает в диалектальные излишества, сохраняя необходимую меру в использовании местных слов и Выражений. В наиболее крупных романах и циклах, претендующих на всеобъемлющий, «панорамный» показ национальной жизни, это, по мнению португальской критики, позволяет сохранять гармонию между эпическим и бытописательским началами в редоловской романистике. Весьма богато и жанровое разнообразие произведений Редола: помимо излюбленной им романной формы, он является автором многочисленных репортажей, историко-литературных эссе, пьес, удивительно тонких и поэтичных рассказов. Художник, отдавший всю свою жизнь борьбе за живое, действенное слово, Редол уже на краю могилы писал: «Человек рожден, чтобы быть творцом, и все мы мечтали вылепить из грязи сияющую розу. Да, да, сотворить ее нашими смелыми, дерзкими, нетерпеливыми руками и умом, создав близкую всем поэтику, слова которой передавались бы из уст в уста»[9].
* * *
Творчество Редола, отражавшее эволюцию неореалистического течения в целом, так же как и само течение, прошло через два неравнозначных этапа: 1938–1949 и 1950–1969 гг. Первый этап, совпавший со становлением неореализма, по выражению самого писателя, был «жестокой битвой за содержание в литературе». И неудивительно, ибо эта битва развертывалась против сторонников модернизма, которые сознательно укрывались от острых социальных проблем в пресловутой «башне из слоновой кости», в запутанных лабиринтах «искусства для искусства». Начинающий писатель Редол все силы души устремил на «реабилитацию» содержания в португальской словесности, следуя в этом стремлении заветам национальных классиков XIX века. При этом, естественно, Редолу не хватало опыта и профессионального мастерства, да и сам накал борьбы против «формалистов» не способствовал филигранной и целеустремленной работе неореалистов над формой.
За первые восемь лет писательской деятельности Редол, активно сотрудничая в прессе и не оставляя службы, написал шесть романов: «Глория» (1938), «Полольщики» (1940), «Приливы и отливы» (1941), «Авиейрос» (1942), «Фанга» (1943), «Порто Мансо» (1946); все они, за исключением последнего, посвящены жизни крестьян и батраков Рибатежо — края, хорошо знакомого автору, проникнуты социально-критическим духом и в значительной степени документальны. Это «литература свидетельства» и «литература факта». Роман Редола «Полольщики» в условиях фашистской Португалии, будучи произведением, необходимость в котором «носилась в воздухе», послужил своеобразным сигналом к Ожесточенной идейно-эстетической борьбе между элитарным и демократическим Искусством, длившейся в течение десятилетий и подготовившей падение фашизма и апреле 1974 года. По свидетельству критики, книга «Полольщики» была первым в стране образцом «эпической литературы униженных» и показывала народ таким, каким он был на самом деле, — без традиционного налета фольклорности, живописности и простодушия.
Переломный момент в творчестве Редола — от документализма к зрелому реализму — обычно связывают с трилогией «Порто» (1949–1953), действие которой развертывается в новой для писателя географической и общественной среде: в винодельческих районах Севера Португалии с центром в городе Порто, где производится знаменитый портвейн и откуда пошло название самой страны. Исторический фон трилогии, отражающей португальскую жизнь от начала века до кануна первой мировой войны, — проникновение крупного капитала в виноторговлю, конкуренция с виноделами других районов, борьба против монополии англичан на экспорт вин (англичане издавна имели сильные позиции в экономике страны), вызревание революционного сознания трудящихся. В центре второй книги этого «северного триптиха», еще несвободного от элементов репортажности и несколько прямолинейного социологизма, — буржуазно-демократическая революция 1910 года, приведшая к свержению монархии в Португалии.
В романах 50-60-х годов крепнет реалистический талант Редола, преодолеваются ученические слабости первого этапа его творчества. Заметным событием в творческой биографии писателя становится роман «У лодки семь рулей», в 1964 году изданный в нашей стране. Идейное содержание этого психологического произведения — жанр новый для Редола — выразительный анализ нравственной деградации человека из народа, силой обстоятельств ставшего убийцей и палачом, игрушкой своих хозяев, «лодкой, у которой семь рулей». Новизна романа проявлялась и в широком использовании автором необычной для него повествовательной техники: смещении временных планов, интроспекции и ретроспекции, кинематографических «наплывов», «стереоскопического» видения событий глазами двух совершенно разных персонажей: темного карателя-легионера и просвещенного бойца-антифашиста. Психологизм, новизна формы и содержания романа «У лодки семь рулей» дали идейным и эстетическим противникам Редола предлог говорить о «кризисе» неореализма и о его «капитуляции» перед модернистской литературой Запада. Однако в рамках эволюции неореализма в целом это была очередная, более высокая и обогащенная творческим опытом ступень Редола на тернистом пути художественного освоения португальской действительности.
Это же стремление отойти от преимущественно сельской тематики, усовершенствовать стиль и приемы повествования прослеживается в романах «Щель в стене» (1959), «Испуганный конь» (1960), в сборнике рассказов «Красноречивые истории» (1963) и в запрещенном фашистской цензурой и посмертно изданном романе «Рейнегрос» (1974). Среди произведений зрелого Редола критика выделяет романы «Яма слепых» (1962) и «Белая стена» (1966), при этом первый из них единодушно признается вершиной творчества выдающегося португальского прозаика. Его действие начинается в мае 1891 года и кончается где-то накануне прихода к власти фашистов, охватывая свыше трех десятилетий. Уже с 70-х годов XIX в. в Португалии начали возникать республиканские и социалистические организации, а через десяток лет появилась оппозиционная монархическому режиму Республиканская партия, проведшая в парламент своих первых депутатов. Проникновение капиталистических отношений в деревню вызвало приток населения в крупные города, ослабление позиций старой помещичьей олигархии, появление многочисленного «среднего класса», ставшего социальной базой для республиканизма, опиравшегося на растущее недовольство народа властью короля, феодалов и церкви. В 1899 году на португальский трон взошел высокомерный, набожный и крайне непопулярный король Дон Карлос (в 1908 году убитый республиканцами), правление которого началось с позорного для страны так называемого «Британского ультиматума» (январь 1890 г.), лишавшего Португалию возможности расширять свои колониальные владения в Африке за счет территорий, связывающих Мозамбик и Анголу. Слабость правительства, уступившего британскому нажиму, подливала масло в огонь всеобщего недовольства, выливавшегося в демонстрации и беспорядки в разных частях страны, где стремительно назревал революционный кризис. 31 января 1891 года в Порто вспыхнуло вооруженное восстание народа, ставшее первым грозным симптомом надвигавшейся буржуазно-демократической революции. Не случайно поэтому Алвес Редол, творчество которого всегда тесно увязывается с отечественной историей, ведет отсчет событий романа «Яма слепых» с этого важнейшего хронологического рубежа.
«Яма слепых» — произведение весьма традиционное по форме и, несомненно, — в португальских условиях — новаторское по содержанию. По форме (линейное развитие сюжета, связь главных персонажей по принципу родства, преемственность поколений и т. д.) оно напоминает классический семейный «роман-эпопею», «роман-хронику» типа «Саги о Форсайтах» Голсуорси или «Семьи Тибо» Роже Мартена дю Гара с поправкой на португальскую, преимущественно сельскую, действительность и более скромный объем. Что касается содержания, то в его основе — материалистическое, марксистское понимание (и, соответственно, показ) национальной истории переломных десятилетий конца XIX-начала XX века. Уже само название романа — «Яма слепых» — и эпиграф, взятый из Евангелия от Матфея: «Оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму», — звучат приговором старой феодальной Португалии. По Редолу — слепы все те, кто противится объективному, неумолимому ходу истории.
В центре книги — впечатляющий образ главного «поводыря слепых», сельского магната Диого Релваса, ослепленного былым величием своего уходящего класса и ненавистью ко всему новому. Вот некоторые из его «откровений»: «Делайте так, как говорил мой дед: Кнут! И посильнее!..», «Управлять страной в соответствии с желаниями черни — значит опуститься до уровня низов», «Прогресс — это всего лишь вымысел, вымысел злого гения», «Лучше бы закрыть Пиренеи, положив конец контрабанде идей, ведь через закрытую границу ни люди, ни идеи не пройдут» и т. п. Парадоксальнее всего то, что сам Диого на протяжении романа так и не понимает своей слепоты, считая себя единственно зрячим в рушащемся и ускользающем от него мире.
Познакомившись с подобной характеристикой центрального персонажа, иной читатель, не приемлющий вульгарного социологизма в литературе, возможно, насторожится и захочет отложить книгу. Его уже достаточно пугали схематично-гротескными и плакатными образами классового врага. Но не бойтесь, дорогой читатель: в том-то и секрет, что Диого Релвас, не переставая быть врагом, и врагом жестоким, силой таланта Редола встает перед нами из плоти и крови, как личность по-своему незаурядная, поднятая до уровня зловещего символа целого класса и целой эпохи. В могущественном сельском магнате, которого сам монарх назвал «королем земледельцев Португалии», автору удалось воссоздать персонаж, воплотивший в себе и неповторимо человеческие черты, и типические черты своего уже вымирающего сословия. Редол, стремясь «говорить правду, и только правду», воссоздает своего героя по услышанным в детстве рассказам, ибо дед писателя в конце прошлого века был слугой и старшим конюхом у одного из таких рибатежанских латифундистов по имени Диого и с гордостью любил вспоминать, как однажды хозяин «не побрезговал ласково потрепать меня, бедняцкого сына, по голове» и как потом «вся семья обсуждала это историческое событие больше недели». Диого Релвас в изображении Редола — фигура далеко не однозначная: как воплощение традиционной феодальной Португалии он нам глубоко чужд и антипатичен; как человек, наделенный огромной волей, целеустремленностью и верой в свои идеалы, которые развенчивает сама жизнь, он вызывает невольную симпатию и… жалость. Он человек, не поддающийся напору обстоятельств, воплощение моральной стойкости и цельности — полная противоположность слабовольному герою романа «У лодки семь рулей» Алсидесу. Роман Редола впечатляет именно потому, что жертвой неумолимого хода истории в нем становится не рядовой «человек из толпы», а по-настоящему сильная, крупномасштабная личность.
Привлекает внимание третья, заключительная, часть романа «Яма слепых», названная автором «Абсурдные времена». Она характерна новым для творчества Редола использованием элементов фантастики в подчеркнуто реалистическом повествовании. Но абсурдность ситуации, когда мертвый Диого в Башне ветров ведет споры о судьбах страны и рода Релвасов с призраками отца и деда, — лишь кажущаяся и чисто внешняя по отношению к предшествующим событиям. Фантастика в романе не противостоит реалистическому изображению жизни, а органически вытекает из него. Выразительная аллегорическая форма необходима писателю, чтобы рассказать о финале некогда всесильного клана. Набальзамированное тело Диого Релваса рассыпается в пыль от порыва свежего ветра, влетевшего в окно, разбитое загулявшим сельским котом. Гак бесславно и гротескно кончается история «полупомещика, полубога», десятилетиями державшего в кулаке тысячи людей. А оставшийся в живых внук Диого Релваса в конце книги произносит фразу, вобравшую в себя судьбу всех португальских релвасов: «Между нами, старина, мы все мертвы».
Элементы фантастики, гротеска, аллегории появились в «Яме слепых» Редола не случайно. С середины нашего века они широко распространились в некоторых близких португальцам литературах, в частности латиноамериканских, вылившись в представительное течение так называемого «магического реализма», мастерами которого стали Астуриас, Карпенгьер, Гарсиа Маркес и другие авторы и которого не чуждался любимый Редолом бразилец Жоржи Амаду. В заключительной, написанной позже, части своего триптиха «Яма слепых» португальский прозаик отразил новые веяния в мировой романистике.
Последний, изданный при жизни писателя роман «Белая стена» своими героями, временем и местом действия, развертывающегося в провинции Рибатежо и в родном городе Редола Вила-Франка, во многом является продолжением «Ямы слепых». Его главный персонаж Зе Мигел, по прозвищу «Зе Богач», внук Антонио Шестипалого, слуги и конюха Диого Релваса, становится одной из очередных жертв могущественного помещичьего клана. Однако он отнюдь не борец за народное дело, а отступник и предатель, «выбившийся в люди» на темных махинациях и контрабанде в годы второй мировой войны, когда португальская олигархия обогащалась за счет истекавшей кровью Европы. Зе Мигел, подобно легендарному герою «Ямы слепых», — тоже сильная и незаурядная личность, показанная автором в развитии, на протяжении всей жизни. Но его трагедия в том, что он оказался между двумя лагерями: с одной стороны — «хозяева жизни», возглавляемые внуком рибатежанского магната Руем Диого Релвасом, решившим «наказать» слишком строптивого прислужника; с другой — бывшие товарищи Зе Мигела, его честная трудовая семья, и прежде всего его двоюродный брат, подпольщик-революционер Педро Лоуренсо. История Зе Мигела, поведанная автором с широким использованием современной повествовательной техники, интроспекции и ретроспекции, — это трагическая история нравственного вырождения и отчуждения человека, безуспешно пытавшегося порвать свои социальные и классовые корни. Многозначителен финал романа, который, как и все творчество писателя-коммуниста, показывает уже открывавшуюся перед страной революционную перспективу: после драматической развязки последней строки книги рисуют сцену встречи двух незнакомых людей на улицах городка, бывшего свидетелем бесславной «карьеры» Зе Мигела. По описанию нетрудно понять, что это действуют бойцы антифашистского Сопротивления.
* * *
Творческая траектория Антонио Алвеса Редола от программного романа «Полольщики» до ярких реалистических полотен, образующих своеобразную, глубоко национальную «сагу о Релвасах», — это путь неуклонного восхождения к высотам художественного мастерства и познанию мира в свете передовых идей своего времени. Как писатель Алвеса Редол вышел на простор общенационального и международного признания. И если сверхзадача подлинного писателя, кудесника слова, состоит в том, чтобы наводить мосты между своей эпохой и будущими поколениями, то португалец Антони Алвеса Редол честно и достойно выполнил свою миссию.
С. МамонтовЯМА СЛЕПЫХ (роман)
Оставьте их: они — слепые — вожди слепых;
А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.
(От Матфея, гл. 15,ст. 14)Книга первая ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА
Глава I «ЧЕРНАЯ НЕДЕЛЯ»
К кладбищу Алдебаран похоронная процессия двигалась вопреки желанию Диого Релваса. Не все усопшие достойны одинакового погребения, и это именно так, как бы горько ни было от того живым. Перед смертью не все равны, нет не все. Ни перед смертью, ни перед богом, будьте уверены. Если конечно, Бог не дремлет.
Земля, на которой находилось кладбище, а также деревня и все прочее, что было вокруг этой деревни, принадлежало Диого Релвасу. И здесь командовал он, только он, и он об этом напоминать дочери не намерен. Место зятю на кладбище напоминать дочери не намерен. Место зятю на кладбище определено: зять должен быть погребен в одном из семейных склепов, в том, где лежат породнившиеся с Релвасами женщины, их дети и мужья, некоторые из которых, кстати, мужчинами были разве что с виду. В землю под открытым небом Релвасы захоранивали тех, кто заслуживал того отданным земле трудом. Это была дедовская традиция, и Диого Релвас нарушать ее не собирался, ведь именно дедовские традиции он защищал с пятнадцати лет, защищал грудью, в одиночку, сжав зубы. В этом он готов поклясться хоть сейчас.
Диого Релвас знал, что обязан победить, и, не сбрасывая врагов со счета, твердо стоял на земле, по которой ходил. Должен был твердо стоять, очень твердо, отрекаясь от всего, что может желать молодой человек, когда ему нет нужды беспокоиться о куске хлеба! На его долю выпало немало тяжелых и горьких минут, он глотал слезы, не давая им навернуться на глаза, с того самого дня, когда Мануэл Фанданго принес на себе в поместье изувеченное тело отца, который не проронил ни единого слова жалобы на пороге смерти. Его убила серая кобыла, в бешеном галопе налетевшая вместе с ним на оливковое дерево. Это случилось тринадцатого января в пять двадцать пять вечера.
Стало быть, уже двадцать девять лет, как Диого Релвас глава семьи. И пока он глава семьи, на самом высоком месте кладбища, откуда открывается вид на заливные земли и ленту реки Тежо, с одинаковыми почестями, ни в чем не рознясь, будут продолжать захоранивать и хозяев, и слуг, если, конечно, отданная ими земле жизнь заслуживает того, чтобы земля их укрыла. Эти были равны перед смертью, что верно, то верно, и будут лежать плечом к плечу в вечном покое, укрытые ровным, чуть-чуть возвышающимся слоем земли над местом захоронения и деревянным крестом со сделанной на нем простой надписью, иногда даже более красивой у слуг, чем у хозяев. И пусть живые скажут, справедливо то или нет.
«Это — единственно достойный способ пережить собственную смерть», — всякий раз говаривал Диого Релвас, когда речь заходила о домашнем пантеоне.
И вот теперь он шел за гробом своего зятя, Руя Портело Араужо. Шел надменный, с поднятой к небу головой, словно там, в вышине, искал особый знак, предсказующий, чем закончится эта трагическая неделя.
Сражение за деньги продолжалось: рукопашный бой завязывался у дверей банков и в очередях к любому учреждению, где лежали на хранении денежные сбережения. Все стремились получить, но не вложить. Один из таких боев закончился мелодрамой возле кабинета директора банка, который отказался оплатить чек из-за отсутствия наличных: Фрейтас дос Сереаис — кто не знает Фрейтиньяса? — пустил себе пулю в лоб. А малодушный зять Релваса, всегда державшийся высокомерно из-за своего участия в делах железнодорожной компании и государственной казны, в тот день, когда вкладчики осадили кассу банка, директором и акционером которого он был, в страхе бежал домой и умер. Слава господу, трижды слава, что, давая согласие на брак семнадцатилетней Эмилии Аделаиде, Диого Релвас потребовал раздела имущества. И вот теперь в свои двадцать, совсем еще юная, она — вдова. Что ее ждет с двумя детьми на руках и третьим в животе? Сможет ли он их защитить? Нет, не от ударов судьбы, а от дурной крови Араужо, этих гордецов и бездельников.
Вот то, о чем сейчас подумал Диого Релвас.
Следуя за гробом, он слышал тяжелые, размеренные шаги идущих сзади и рыдания, которые вырывались из груди близких усопшего, видел тучу пыли, поднимаемую ногами и экипажами, предоставленными в распоряжение тех, кто не желал сделать и двух шагов.
И они еще жалуются на судьбу, продолжал думать Диого Релвас, когда сами же поддаются лени, тоске, малодушию, что у них в крови. Где это он читал? Да-да, точно, где-то читал, что было время, когда даже молодые дворяне нуждались в руке пажа только для того, чтобы выйти из своего дома и войти в соседний. Это — то дурное, что пришло к ним из Индии, Бразилии и прочих завоеванных земель, где все валится в рот тому, кто привыкает роскошествовать, не попотев. А привыкнув к роскоши, привыкнув к спокойному, бездумному образу жизни, они даже не замечают, как однажды лишаются всего, и свирепеют, точно преследуемые волки. И тут же, готовые на все, слабоумные, слабоумные и трусливые, принимаются мстить, боясь взглянуть правде в глаза… Боясь собственного голоса, собственной тени, они наводят ужас на мир, точно мир должен жить, сообразуясь с их вкусами и глупостью. Что можно ждать от этой расы сомнамбулов?
Вот и здесь, среди пришедших проводить в последний путь усопшего, были им подобные; внешне они казались очень обеспокоенными кончиной партнера и друга. Но на самом деле их страшила возможность такой же участи: разрыва сердца или самоубийства — единственного выхода из создавшегося положения. Они вели себя сдержанно, тихо разговаривали, выражали соболезнование, едва шевеля губами, словно адресуя его себе самим, и тут же погружались в скорбную, чуть театральную печаль, явно ожидая сочувствия окружающих. Тревога была у них в крови. Они надеялись, что кто-нибудь найдет «истинных» виновников кризиса. Например, республиканцев — республиканцы вполне сгодятся для такого случая. Тогда они обрушат на них свою ненависть, порожденную бессилием, заполнят пустоту души преступлениями.
Правительство искало средство предотвратить бедствие, но в то же время само зависело от кредиторов, которые стояли на страже своих интересов. Одним из сигналов кризиса было банкротство Беринга[10], английского ростовщика. Потом началась инфляция, ускорилось денежное обращение. Поползли вверх цены. Ну а нестабильность жизни и страх перед переменами к худшему завладели умами страны после провозглашения Бразилии республикой [11] и тогда, когда в январе 1890 года англичане в связи с их кознями в Африке предъявили ультиматум [12] Окончательно же все были перепуганы год спустя восстанием в Порто, которое красноречиво говорило, что в руках этих каналий карбонариев может погибнуть все. С того самого дня правительство поставило армию под ружье. И по случаю предстоящих выборов позволило себе роскошь: покрыть убытки северных банкиров, по уши завязших в железнодорожных сделках — Salamancadas[13]. Сделать это оно попыталось, продав акции компании «Табак», однако подобный маневр поставил государство на грань катастрофы, так как большая часть акций, около семидесяти процентов, оказалась в руках французов и немцев.
Португальский банк трещал по всем швам. Финансовый крах все связывали с железнодорожными концессиями в Лоуренсо-Маркесе, скандалом с компанией Ньясы и новым соглашением с Англией. Все шло к полному банкротству.
В то же время Европу сотрясал новый кризис. Кризис перепроизводства. Но португальский был финансовым — спекулятивным. Низкий обменный курс бразильской побудил к эмиграции тех, кто в Лиссабоне и Порто на доходы с заморских предприятий, а таких было много. Закрывались фабрики, число не занятых в производстве рабочих росло с каждым днем. Отчаявшись, изнемогая под градом опротестованных векселей и обесцененных бумаг, многие коммерсанты закрывали магазины и единственный достойный выход из бесчестия видели в самоубийстве. Веревка, выстрел в рот или колеса поезда решали сразу все проблемы.
Фонтес [14] хотел издать закон, который вынудил бы португальцев три месяца в году пользоваться железнодорожным транспортом. Таким образом этот идиот надеялся спасти страну от разорения. А теперь коммерсанты, которые вложили средства в саламанкскую авантюру, клали свою собственную голову под колеса того локомотива, который ими же был куплен. Вот так страна спасалась все той же железной дорогой и, если того потребовала бы мода, могла бы и обезлюдеть.
— Одни эмигрируют, другие просят милостыню, третьи становятся поводырями слепых на дорогах и ярмарках, — говорил Диого Релвас у входа на кладбище тем, кто стоял возле него. — Если копнуть глубже, то слепы все, и особенно те, кто идет во главе всего этого; они, как сказал святой Матфей, приведут к яме.
Вернее, если быть честным, это сказал Диого Релвасу падре Алвин, который шел впереди похоронной процессии, направляя ее вялый шаг.
Церковный колокол звонил по усопшему. Звонил, не умолкая, уже более получаса. И этот печальный, заставлявший плакать колокольный звон был чрезмерно щедрым, как уверяли старухи Алдебарана, которые знали звонаря; они бухались наземь и ползли на коленях около катафалка с единственной целью — быть замеченными хозяином Алдебарана. Нет, плакальщиц никто не нанимал, это они делали по собственной воле, надеясь заслужить расположение хозяина. Театрально разыгрывая горе, они походили на цыганок.
Пока друзья усопшего снимали гроб с катафалка, Диого Релвас, смотревший на все отсутствующим взглядом, отдал через Антонио Лусио — одного из своих сыновей — распоряжение управляющему: «Прекратить этот плач, даже если на то потребуется кнут». Минутой позже хор дешевой трагедии стих, и в воцарившейся тишине слышалось только шарканье ног. Перепуганные женщины, таща за собой хилых детей, разошлись по домам, так и не поняв причины хозяйской неблагодарности.
Надменный землевладелец все с тем же бесстрастным лицом приказал, чтобы два его сына — он их подозвал кивком головы — встали с ним рядом. Поглаживая свою холеную бороду и усы, Диого Релвас проронил то, что думал: «Он был слабым… Ваш зять всегда был слабым. Пусть земля ему будет пухом…»
Когда священник прошептал последнюю молитву, доктор Барродос — депутат округа от возрожденцев [15] — уже приготовился выпустить на волю речь, притаившуюся, как это могло показаться, в цилиндре, поскольку он с таким вниманием оглядывал его со всех сторон и вертел в руках. Приняв страдальческий вид, он взглянул на тестя умершего, но, увидев на лице хозяина Алдебарана досаду, понял все. В руках Релваса были голоса почти пятисот избирателей. И Баррадос тут же подрезал крылья собиравшейся было вылететь птичке, сказав только:
— Умер человек. Рухнул в трагический момент один из самых крепких пилястров великолепного здания, именуемого родиной. Вдохновимся же примером нашего умершего друга, возложим наши надежды на его родственников, которые с честью продолжат наше общее дело, и постараемся быть на высоте положения, как завещали нам наши прадеды, которые всегда надеялись, что мы послужим миру, показав ему, в чем наше предназначение. Миссия, которую мы должны…
Дальше Диого Релвас его не слушал. Он разговаривал со старшим сыном, называл ему имена землевладельцев, с которыми хотел бы переговорить. И сегодня же, сразу после похорон. Это дело неотложное.
Наконец раскатистый голос выступавшего смолк, и гроб с прахом Руя Портело Араужо был водворен на отведенное ему Диого Релвасом место. Взяв ключ от склепа, где покоилась дальняя родня, Диого Релвас поблагодарил брата усопшего, служащего королевской почты, и в одиночестве отправился в верхнюю часть кладбища, где лежали его близкие и слуги. Около могил отца и деда он преклонил колено, два раза прочел «Отче наш» и, когда кинул глаз на заливные луга, где виднелись темные пятна сбившегося в кучки скота с фамильным тавром Релвасов, улыбнулся. Все это он проделал просто и торжественно, заведомо зная, что сопровождавшие следят за ним. Возможно, именно потому чьи-то судорожные рыдания ему показались нелепыми. Нелепыми и неуместными. Он ведь жив и будет еще жить долго, в чем уповает на бога.
Он попросил у бухгалтера, державшего большой букет, цветы и разбросал их по могилам слуг. Потом постоял около каждой, словно вспоминал того, кто там лежал.
Но нет, вспоминал он только зятя, вспоминал, как тот сидел перед ним, сжав руки, собираясь рассказать ему новости. Зятю был нужен совет. Что он должен делать? Народный банк сливался с Португальским. Министерство пало. Железнодорожная компания опять на грани катастрофы. Может он, Диого Релвас, даст ему письмо или записку или что-нибудь для одного из директоров Португальского банка?!
И почти в тот же момент с дороги донесся стук копыт и вскоре замер у ворот имения, а чуть позже последняя, до нелепости ужасная, лиссабонская новость стала известна землевладельцу:
— Хозяин, началась осада Страхового общества. Полиция уже не в силах сдержать напор всех желающих получить свои деньги.
— Спасибо, Жоакин, — тихо ответил Диого Релвас, повернувшись в своем кресле.
Когда же он посмотрел на зятя, но увидел, что зять \ежит на софе, положив руку, сведенную судорогой, там, где у него болело, где было сердце. Смерть наступила мгновенно. Он был слабым.
Возможно, именно это воспоминание тут же побудило хозяина Алдебарана бросить на могилу отца красную розу. Повертевшись на сухой земле, цветок застыл.
Это случилось в мае. «Черная неделя» началась в мае, в разгар весны. А потому недостатка в цветах для мертвых не было. Даже для тех, кто умер от страха.
Глава II ТАК КАКИЕ ЖЕ КАРТЫ У НАС НА РУКАХ?…
— Так что сеньоры думают делать?!
Он выждал какое-то время, предоставляя им возможность высказаться, но не слишком долго, и тут же продолжил, побуждая их к разговору:
— Какие-то мысли у вас есть, бесспорно. Уверен, что есть… — Он поднял голову и посмотрел вокруг. — Или дожидаетесь, когда все это обрушится на ваши головы?! Такое может случиться в любой момент, и значительно раньше, чем мы способны предположить. Что?! В ваших глазах вопрос: что вам не ясно?!
На его серьезном лице обозначилась печальная улыбка.
— Я объясню: колесо завертелось, и мы не знаем, ни когда оно остановится, ни как его остановить. И нас ждут неприятности, уверен. Но строить догадки по поводу всего этого я не способен, нет. Однако считаю, что мы уже сегодня должны занять определенную позицию: объединиться. Только надо выбрать тот союз, который нас устраивает, поскольку союз ради союза нам не нужен. Объединение без доверия смерти подобно, а я вас собрал здесь совсем не для того, чтобы вместе уйти на тот свет.
Он ходил по залу, не выказывая своих чувств. И где гнездилась его печаль, где она гнездилась, известно было только ему одному. Возможно, в затуманенном взгляде. Легкой пеленой были подернуты его светло-карие глаза.
— Кто-нибудь хочет высказаться?… Не верю, сеньоры, что вам нечего сказать.
Диого Релвас собрал их в большом зале первого этажа, расположенном как раз под тем кабинетом, где, не приходя в сознание, умер его зять, словно еще раз хотел проявить твердость, продолжая слышать стоявшие в ушах рыдания и крик дочери и окончательный приговор домашнего врача доктора[16] Бернардино Гонсалвеса: «Медицина тут бессильна…»
Сейчас он вспоминал эти слова и, обращаясь к собравшимся, как бы спорил с ними:
— Разве мы тоже бессильны?!
Повернувшись спиной к приглашенным, он распахнул выходившее на площадку перед домом окно, в которое были видны железные ворота, увитая фиолетовым вьюнком ограда и неясное пятно толпы там, снаружи, за оградой, чуть колышущееся, словно от дуновения вечернего ветра. В траурные дни крестьяне всегда приходили, рассчитывая, что в завещании не будут забыты и нищие. Нищим хорошо известны привычки землевладельцев.
И потому все бедняки деревни и поселка стояли у ворот, надеясь получить кусок хлеба к ужину. Сегодня их было особенно много. Он даже подумал, что надо позвать управляющего и приказать прогнать тех, кто пришел впервые.
Диого Релвас уже решил, кого из нищих он будет подкармливать в своем имении. В необходимость отбора он верил твердо. А потому и в шутку и всерьез повторял, и не раз, желая подчеркнуть свою точку зрения и ее особую важность: «Мы должны выбирать тех, кому подаем милостыню».
— Или н-нет?!
Он имел привычку тянуть слово «нет» и тут же резко поворачивать голову, давая себе тем самым возможность додумать то, что должно последовать за сказанным.
Сейчас он беседовал с землевладельцами, которых пригласил сразу же после похорон, — «нам нужно обменяться впечатлениями», — и беседовал именно в том зале, который предназначался для подобных встреч. Он прекрасно понимал, что каждый разговор требовал определенной обстановки. А здесь, в этом зале, он получал удовольствие от движений своей высокой, стройной и сильной фигуры и звучания своего низкого, размеренного, все время меняющего тональность голоса. Всех он усадил на стулья, а себе взял кресло с подлокотниками, сознательно поставив его в конце длинного стола так, чтобы идущий из окна свет не бил ему в лицо, однако вскоре он с кресла встал. Так ему проще было владеть вниманием собравшихся. Здесь, в зале, все дышало умеренностью.
На самой длинной стене, где на уровне груди шли три окна, в темных и широких рамах висели портреты его отца и деда, и тут же, над маленьким бюро с точеными ножками, было оставлено место для портрета самого Диого Релваса, который повесят здесь после его смерти, повесят точно посередине. Разумеется, он уже предупредил о том своих детей. На противоположной стене не было ничего, кроме двух лошадиных голов: одна — гнедого, на котором ездил Дон Педро [17] во времена либеральных войн, публично дарованная Релвасу за верность идеям, другая — белого, бело-фарфорового, который принадлежал Дону Мигелу — Михаилу Архангелу времен Вила-Франкада) [18]. Этот белый конь был потихоньку выведен из конюшен Релвасов в одну из ночей, которую абсолютный монарх проводил неподалеку от их имения, и отец Диого, униженный, но кипевший от злобы, в знак покаяния вынужден был привести коня в стан вооруженных дубинками мигелистов, которые еще накануне, окружив его помещичий дом, угрожали ему.
После пережитого позора Жоан де Менезес Релвас никогда больше не занимался политикой. И две набальзамированные лошадиные головы стали символом слов, которыми он напутствовал сына: «В нашем доме никто не должен заниматься политикой… Даже когда на карту поставлена жизнь. Политика — только для политиков… Тебе хорошо известно, что такое публичная женщина. Так вот, мужчины в политике уподобляются публичным женщинам. Понимаешь?! — И добавил: — Однако это совсем не значит, что среди политиков у нас не должно быть друзей… Наоборот, как друзья, они особенно ценны. Тебе хорошо понятна разница?!»
Да, Диого Релвасу урок пошел на пользу, вот потому-то он сейчас и собрал здесь землевладельцев Рибатежо, которых мелочные соблазны могли сбить с толку в такой тяжкий час.
А две висящие лошадиные головы как бы говорили, что в табунах семьи Релвасов всегда достанет жеребцов и кобыл для португальских королей и что Релвасы служат короне, не интересуясь тем, какая партия у власти. И совершенно ясно: теперь Релвасам надлежало выбирать между одинаково влиятельными прогрессистами и возрожденцами весьма и весьма осторожно, дабы «благородный институт земледелия» не пал жертвой мести и преследований.
Сеньоры Алдебарана вверяли себя четырем ветрам, что дули на их землях в Рибатежо и Алентежо, дубовые рощи которых (Монте-де-Сор), посевные поля (Эстремос и Куба) и виноградники (Борба) [19] приносили большие доходы дому Релвасов.
Однако в кругу семьи Релвасы особенно гордились доходами, которые шли из Испании. О том говорила висевшая в глубине зала свирепая и надменная голова черного быка. Победивший во многих кровавых схватках бык Землетрясение с прямыми и острыми, как два кинжала в руках алжирца, рогами покрыл славой имя хозяина и его тавро, убив на корриде в Севилье пять лошадей и отправив в больницу двух матадоров и трех бандерильеро, несмотря на двенадцать уколов железной пики.
Матадор, убивший этого быка, а затем и его собратьев, сразу, как только Землетрясение вырвался на арену, испугался за свою жизнь. И столько страху он натерпелся, что сам себе пообещал отрезать косичку, даже если Пресвятая дева будет умолять его снова надеть сверкающий наряд матадора. Диого Релвас любил рассказывать следующее: «Когда матадора спросили, почему он такой бледный и задумчивый, он, будучи большим весельчаком и шутником — черт побери, таковы, как правило, севильцы, — ответил: „Vengo de la guerra, hombre[20]. И какой войны!..“».
Вот и для Диого Релваса последняя неделя тоже была неделей войны, не принимать участие в которой он никак не мог, разве только отрезав косичку земледельца и мужчины. Мужчины, который достоин этого звания. В себя Диого Релвас верил. Но вот в других?! За Алентежо он не боялся: индустрия не имела и не будет иметь никаких притязаний на эти земли. В этом он уверен!
— Новости вам хорошо известны? — спросил он твердо. Четверо землевладельцев ждали, что последует за вопросом.
Но хозяин Алдебарана уже думал об овдовевшей дочери. Он знал, что Эмилия Аделаиде ждет его. И именно для того, чтобы показать ей, что Релвасов не должна парализовать даже смерть близкого человека, он и решил не откладывать и сегодня же обменяться мнениями по всем волнующим его вопросам с теми, кого пригласил. Заложив руки за спину, он прохаживался под чучелом головы быка Землетрясение, выжидая, что кто-нибудь заговорит.
— Ну, сеньоры! — крикнул он, подойдя к своему креслу. И ударил по столу рукой: — Новости известны… Надеюсь, что известны… Или н-нет?
Присутствовавшие переглянулись. Молчание Диого Релвас оценил как выражение их враждебности. Видимо, они вот-вот начнут обвинять друг друга в случившемся.
Тут раздался чей-то слабый, хнычущий голос, потом кто-то попросил говорить громче, чтобы было слышно всем. И опять воцарилась тишина, нарушаемая разве что жужжанием мухи.
— Зе Ботто, повторите, что вы сказали, прошу вас. Мы здесь собрались, чтобы помочь друг другу, помочь, — драматически подчеркнул Релвас. Я должен нагнать страху на этих мерзавцев. — Ведь мы будем тут же раз-да-вле-ны, если не сумеем противостоять. И безжалостно раздавлены. Настал серьезный момент… да, можно оказать, началась война, настоящая война, которая способна положить конец нашей независимости.
«Здорово тебя задело», — подумал Зе Ботто.
Хозяин дома подошел к другому землевладельцу и тронул его за плечо, как бы подбадривая того раскрыть рот.
— Мне мало что известно… Вроде… Вообще-то мне известно все то, что и другим, коль скоро я не посвящен в секреты политических и финансовых воротил.
— И все же говорите, говорите… — настаивал Релвас.
— Знаю, что все бросились в банки и страховые общества, знаю, что все, кто смог, нашли своему золоту и серебру надежное место, — ответил человек с пробивающимися на щеках бакенбардами и маленькими, беспокойно снующими глазками, взгляд которых искал поддержки у собеседников, пока его толстые, ярко-красные губы с трудом цедили слова. Он расставлял руки, точно хотел удержать ход событий, потом медленным круговым движением соединял их, поворачивая кверху ладонями, — так обычно держат какую-нибудь вещь. Его полное тело с трудом умещалось на стуле и, казалось, приросло к нему. Пожимая плечами, он вроде бы старался освободиться от посторонней силы, подчинявшей его себе.
— И что вы обо всем этом думаете, Зе Ботто? Говорите, говорите, — настаивал Релвас, зажигая стоящие на столе в подсвечнике свечи, а про себя думал: Посмотрим-ка в лицо этим субъектам.
Прикрывая глазки, точно их слепил свет, Зе Ботто внимательно следил за его движениями и искоса поглядывал на озабоченные лица других землевладельцев, приглашенных хозяином Алдебарана. Так вот что думал он, вот что думали все об этой катастрофе! Да, здорово им досталось, очень здорово! Их использовали, а потом дали под зад коленкой!
— Послушайте, Диого! Я совсем не самоубийца, хоть это сейчас и в моде, не самоубийца, потому что считаю, что наша жизнь в божьих руках…
— Мы, Зе Ботто, — вмешался Фортунато Ролин, ударив по столу кулаком, — пришли сюда не для бесед о смерти, так что оставьте бога в покое и выкладывайте свои карты. Давайте, давайте!
Зе Ботто зло передернул плечами, но, так как ему не понравился брошенный на него взгляд Ролина — а он знал его способность к словесным дуэлям, одна из которых могла незамедлительно последовать в присутствии всех, — снял маску гнева с лица:
— Давайте спокойно!.. Крик ведь никого не убеждает.
Теперь Диого Релвас, казалось, был занят только свечами; он смотрел в открытое окно, из которого тянуло ветерком, что задувал пламя свечей, распространяя в зале запах ладана. Зе Ботто процедил сквозь зубы:
— Ты говорил о картах… Так в картах ты лучше меня разбираешься.
— Ну и что же? Да, у меня есть пороки. И хорошо, что есть. Даже при дворе знают, что я люблю женщин, быков… и карты. Если бы все это происходило в другом месте, я бы тебе отвесил парочку оплеух. И за свои пороки, Зе Ботто, я сам расплачиваюсь! И никому ничего не должен. Или должен?!
— Оставьте это! — перебил их хрупкий и нервный Перейра Салданья, который все это время сжимал руками опущенную голову. Черт побери эту боль, которая не оставляет мою голову, похоже решив довести меня до бешенства!
— Для меня то, о чем мы здесь начали разговор, — игра не на живот, а на смерть. Так что, Зе Ботто, можете оперировать терминами карточной игры, если считаете, что так будет доступнее для моего понимания, мне все равно, — сказал Фортунато.
С верхнего этажа донеслись сдавленные рыдания. Они доносились то и дело, приглушенные звуком шаркающих ног, и напоминали собравшимся о подлинной причине их сегодняшней встречи.
— С удовольствием, мой дорогой сеньор Ролин…
— Можешь на «ты» — так привычнее, — заметил Ролин, уже менее агрессивно. — Мы же старые друзья… несмотря ни на что. — Последними словами он хотел напомнить Ботто о маневре, к которому тот прибег при покупке акций компании заливных земель.
Зе Ботто кивнул с загадочной улыбкой на губах, объяснить которую мог только он. Но предназначалась она для всех, и особенно для Ролина, всегда бахвалившегося своим дворянским происхождением: «Пишите на конце „эн“, а не „эм“, так будет вернее: имя французское и конечная гласная носовая», — грубо поправил он, когда они с Зе Ботто в присутствии адвокатов и прочей судейской черни подписывали бумаги. Я свое имя тоже пишу с двумя «т» — Ботто, но никому не тычу в нос свое происхождение.
Релвас засунул большие пальцы в карманы жилета, а всеми остальными постукивал по груди, как по барабану. Он ждал, пока обмен язвительными репликами, неизбежный, когда эти двое оказывались рядом, прекратится, и не прерывал их, чуть посмеиваясь, несмотря на трагические обстоятельства и знаки, которые! делал ему печальный, четко мыслящий, но скупой на слова Жоан Виторино.
— Сделаю тебе это одолжение, дорогой Ролин. Я всю жизнь тебе делаю только одни одолжения, — съязвил Ботто, чуть понизив голос. — И поскольку ты хочешь, чтобы я употреблял терминологию карточных игроков, я воспользуюсь твоим предложением и выражу свою мысль. Здесь нас собралось пятеро, но ведь есть и еще партнеры, готовые с нами поиграть. Ты просил, чтобы игру начал я. Я начинаю, и начинаю с вопроса: так какие же у нас на руках карты? У тебя, у меня… у всех нас. Вот у тебя есть хоть одна?
— Есть, всегда есть, — твердо сказал Ролин. — И я не смерть имею в виду… Ты, надеюсь, это понимаешь? — Он встал. Обошел стол и с беспокойством посмотрел на Ботто. — Хотя, к несчастью… смерть уже тронула наши ряды… — И тут же поправился — А может, к счастью! Кто в конце концов всем этим командует? Мы не можем забывать об опасности… И я не из тех, кто бежит от этой опасности.
— Правильно, Фортунато! — воскликнул Диого Релвас, резко, точно гильотинируя воздух, махнул рукой и попросил продолжать.
— Прежде всего мы должны спросить самих себя, ведь, может, в том, что происходит, виновны именно мы. Я люблю задаваться подобными вопросами. (Он вскинул вверх голову, чтобы придать значимость тому, о чем шла речь, отчего его волосы тут же взлохматились.) Старик, Фортунато Ролин, а ну-ка скажи, не виноват ли ты в случившемся?…
— Мы все виноваты, — сказал Перейра Салданья, поднеся к носу щепотку нюхательного табака.
— Не согласен! — закричал Зе Ботто, ерзая на стуле. — Да в чем это мы виноваты, в чем?! По-моему, и не я один так думаю, все началось с восстания в Порто. Республиканцы привели в смятение состоятельных людей. Я даже знаю кое-кого, кто вывез свои капиталы… в Париж, в Лондон. Сейчас, должно быть, нечего уж и вывозить, а они все вывозят…
— Трусы всегда найдутся, — заметил Жоан Виторино. — И они, как правило, вкладывают деньги только в верное дело и потихоньку налаживают связи с масонами и карбонариями.
— Да разве только в этом дело?! — спросил из глубины зала Диого Релвас. Запах воска раздражал его — он все время напоминал ему вытянувшегося в гробу зятя. И теперь даже громкие, злые голоса не могли заглушить плач дочери. Правильно ли я сделал, собрав их для разговора здесь, в такой момент? Как-то мне не по себе, может, я поторопился… — По-моему, всему виной ряд событий… Независимость Бразилии…
— Освободительные войны, — подсказал кто-то.
— Я повторяю: колониальные авантюры англичан и немцев в Мозамбике, независимость Бразилии [21], провозглашение независимой Бразильской республики, ультиматум англичан, революция в Порто… крах братьев Берингов — в них все дело.
— Совершенно верно, — подхватил Жоан Виторино, вытирая платком вспотевшие руки.
— Верно-то верно, сеньор, но нечего пенять только на зеркало, коли… — прервал его Фортунато Ролин. Потом, оглядевшись, точно боялся, что его услышит кто-нибудь чужой, он, понизив голос, сказал:
— Я хочу спросить, может, крах правительственных банкиров тоже козни англичан, все тех же англичан, как в Анголе и Мозамбике? Я ни на что не намекаю, я только спрашиваю.
Землевладельцы чуть заметно покачали головами.
— Скажем, политический крах, чтобы напомнить, что страна без денег и кредитов…
— Какой срам! — проворчал Перейра Салданья.
— Вы его, этот срам, сами-то видели?! — спросил Ботто с издевкой.
Фортунато Ролин, явно прося помощи, взглянул на хозяина дома — не могу же я со своим уставом в чужой монастырь, — и Релвас пошел ему навстречу, попросив всех быть внимательными к говорящему, ведь пора привыкнуть к подобным собраниям, на которых надо и выступать самим, и слушать других, да-да, именно так: все имеют право высказать свое мнение, но только по очереди, иначе все кончится беспорядком и пустой тратой времени.
Тут он подошел к окну и крикнул в сторону ворот:
— Отправьте их по домам, и чтоб было тихо!
Потом вернулся к столу и попросил Ролина продолжать. Ролин переждал приступ кашля Салданьи. У Салданьи была астма, и он заходился в кашле всегда, когда нервничал.
— Я говорил, что англичане… они прервали меня, и мой запал пропал…. англичане хотят напомнить нам, что мы страна жуликов и даже помышлять не должны распоряжаться такими большими странами, как… — он подыскивал сравнение, но тщетно — значительно большими, чем сама Португалия.
И он широко развел руки, точно хотел показать величину этих стран.
— Англичане, наверное, не так уж плохи, как ты говоришь, Ролин. Пора с этой навязчивой идеей кончать. Почему во всем плохом, что происходит на континенте, нужно винить англичан?: Это ведь уловка республиканцев. Прости, что мне приходится говорить тебе об этом. Я хорошо знаю твои взгляды… но именно республиканцы во всем винят «бифштексов»[22]. И это несправедливо! Всему виной кризис! В нем главная причина.
— Да, все началось с него, — поддакнул Диого Релвас. — Именно с него. Или н-нет?!
Конкретно эти слова никому адресованы не были. Релвас произнес их для всех сразу, и даже для тех, кто, приехав из Лиссабона на похороны, поспешил тут же уехать, точно, задержавшись, подвергался опасности умереть от страха на обратном пути, не охраняемом ни полицией, ни войсками.
— Кризисы потрясают нас все чаще и чаще… — Он замолк, сплел пальцы рук и положил их на грудь. — Я так скажу: зло стране нанесли ненужные капиталовложения. Они даже не предполагают, куда я клоню. Я называю их ненужными и считаю это правильным, или н-нет? К примеру, деньги, вложенные в строительство железных дорог, сделки в наших заморских владениях, в некоторые виды индустрии, для которых мы не имеем сырья, во все то, наконец, что не дает нам чистой прибыли. Ведь их мы могли пустить в оборот, как это делают все! Н-нет! Так мы поступать не должны и не можем. Так поступать — значит способствовать кризису.
Теперь Ботто ерзал на стуле от гневных слов Релваса. От них он даже словно уменьшился. Фортунато Ролин прятал улыбку в холеные усы. Вот тебе, проходимец. Ну что, съел? Облизнись.
— Чтобы по-настоящему владеть этой… — он постучал по столу указательным пальцем левой руки, — землей, которая нам принадлежит — она дана нам богом во славу божию — и которой у нас так немного… Сами вино, тупицы и бездельники. Нам бы колесить по свету. Нам бы гитару и да песню. У нас душа слепая. Плавание за океан — хорошо, спору нет, очень хорошо. А люди?… А средства?! И тут мы забываем, что «первый шаг к извлечению выгоды — это знание, и хорошее»… Это не я сказал, нет, — пояснил он, — но я с этим согласен. «Хорошее знание собственных земель, их богатств и возможностей». Это должно быть прописной истиной для земледельцев! Должно, но не есть и не для всех!
— Все верно, Диого Релвас! — одобрил Жоан Виторино. — Взять хотя бы Алентежо… земля бедная и богатая в одно и то же время. И закон покончил с неотчуждаемыми землями [23].
— Это же либерализм, — включился вышедший из себя Перейра Салданья.
— Ну так что же! Выходит, я либерал… С любыми неотчуждаемыми землями должно быть покончено. Закон о землях конгрегации — это первый шаг, следующий — уничтожение майората [24]. Но это еще не все! Земля должна быть в руках тех, кто может и способен ее обрабатывать. Не мотыгой, конечно, мотыга ничего не дает, разве что возвращает землю к состоянию под паром, а людям с инициативой, с верой в эту землю…
— Каковыми являемся мы, — заверил Релвас, несколько изумленный пламенным выступлением Виторино. Выступление его удивило. Никогда еще Релвас не видел Виторино таким порывистым и говорливым. — Я прошу прощения… — он посмотрел на часы, поправив пальцем золотую цепочку, — сейчас уже поздновато. Нет, у меня нет желания вас выпроводить, но мне кажется, что в такое неспокойное время нам лучше разойтись пораньше. Сейчас всякое жулье разгуливает свободно. Есть случаи воровства и нападений. А когда бандитов арестовывают, они оправдываются тем, что влачат голодное существование, и республиканская сволочь бьется за них во всех судах. И митинги устраивает за наш же счет, но против нас. В другой день и в другой час… вы меня понимаете, не так ли?… Мне было бы очень приятно пригласить вас поужинать…
Продолжая свой разговор с земледельцами, Диого Релвас чувствовал, что бесчеловечен по отношению к дочери и внукам, хотя вниманием других членов семьи они обделены не были. Пригласив в такой день в свой дом этих людей, он хотел показать Эмилии Аделаиде, что тех, кто действительно собирается жить в своих детях, никакая смерть не сломит, но сейчас вдруг засомневался. Очень может быть, он начинал чувствовать усталость и старался закончить собрание поскорее, точно четверо детей и внуки могли решить оставить его одного в этом огромном доме. Разговор, в общем-то, был пустым или почти пустым, кроме, конечно, тех вопросов, которых коснулся он в самом начале. И это был еще один порок этого племени: болтать много, делать мало. Или не делать ничего, но воздух сотрясать.
Они его слушали, кивая головами, знать бы — что они думают? И он продолжал:
— Мы все, все, кто имеет хоть какой-нибудь вес, должны объединиться и обратиться к правительству, чтобы напомнить, что допустить анархию в сельском хозяйстве нельзя никак. Кредитная компания должна дать все необходимые средства…
— Все, что необходимо мне, Диого Релвас, у меня есть, — хвастливо заявил Зе Ботто.
— Дорогой мой, у нас у всех есть! — крикнул хозяин Алдебарана. — Но нельзя забывать, что, нажав на правительство, могут начать попрошайничать торговля и индустрия. Так вот наша задача — предупредить это, и чем раньше, тем лучше, наложив арест на все, на что только можно. Теперь понятно?! Или н-нет?!
Его червонного золота глаза метали молнии.
— Забрать все деньги, все кредиты… Все! И немедленно. Завтра же. Я лично готов ехать в Лиссабон. Готов взять с собой представителя муниципалитета и прямо в кабинет к министру, все вместе в кабинет к министру, чтобы рассказать о волнениях в. народе… — Увидев уклончивый жест Ролина, он пожал плечами и обратился прямо к нему: — Конечно, пока еще ничего не произошло! Но разве ты или я, или все мы вместе взятые можем гарантировать, что чернь здешних мест или Алентежо не начнет объединяться и устраивать беспорядки? Так вот наше дело — предупредить нависшую опасность прежде, чем что-либо случится. А для этого нужны деньги. Семьдесят процентов дохода страна имеет от сельского хозяйства. Так что сейчас нам должны быть возвращены именно эти семьдесят процентов. Согласны?
— Целиком и полностью! — сказал Перейра Салданья, решительно вставая, чтобы идти домой.
— Минуточку терпения. Помните ли вы то соглашение, которое мы заключили два года назад?
— Соглашение? — спросил Зе Ботто, морщась и почесывая бакенбарды.
— Да, дорогой Зе, соглашение. Правда, скрепленное не подписями, а словом чести. Что гораздо серьезнее. Во всяком случае, для меня…
— Для всех, — строго сказал Ролин.
— Пусть для всех, еще лучше. Опасность возросла. И возможно, кое-кто из промышленников, связанных с иностранными и местными банкирами, попытается вновь навязать нашему району какую-нибудь индустрию. Но с нас хватит и того, что тут есть. Вам известно, что я далек от того, чтобы быть противником индустрии вообще. Но я, как вам тоже известно, да и вы сами, — поправился он, чтобы сплотить их вокруг соглашения, — мы все считаем, что сфера деятельности индустрии должна быть четко определена. Ведь если это не будет сделано, то сельское хозяйство может потерять рабочие руки — и так уже многие бегут на фабрики, я это знаю по другим провинциям. Когда заработную плату крестьянина и заработную плату рабочего можно будет сравнивать, мы проиграем. И это скажется на всех: на нас и на рабочих. Пока что у нас в сельском хозяйстве полное равновесие между трудом и наемной рабочей силой. Я делаю все от меня зависящее… Вы понимаете эту опасность?! Тебе, Зе Ботто, ясно, чем мы рискуем?
— Что и говорить! Только вот о чем хочу спросить тебя, Диого Релвас. Мне известно, что сам-то ты связан с компанией «Табак»…
— Всем известно… А-а, мерзавец! Если бы ты только мог. Но кто знает, может, и сможешь! Я не делаю из этого никакого секрета. Так что же ты хочешь спросить?
— Если тебя попросят уступить твою землю…
— Сразу скажу нет. Тебе только это хочется знать?
Зе Ботто задумался. Разозленный Фортунато Ролин подталкивал Жоана Виторино, продолжая настаивать на том, что Ботто связан с англичанами. Он был в том уверен. Разве его имущество не застраховано в Лондонском страховом обществе?
— Нет, не только это, — продолжал Зе Ботто. — А вот если тебе, Релвас, предложат взять в свои руки дела какой-нибудь фабрики с условием, что ты разместишь ее здесь, на своей земле, — сохранишь ли ты нынешнюю позицию?
— Разумеется, сохраню. — Он пронзил взглядом своего собеседника. — Я человек чести и слова. И признаю лишь те машины, которые нужны в земледелии. Да и то не все. Некоторые можно сразу на свалку выбросить.
— А те, которые обрабатывают табак? — тут же подколол его Ботто. Вот тебе за твое тщеславие!
— Да, эти я тоже признаю. Мне приятно потакать порокам своих слуг и своих друзей. Когда пожелаешь, уступлю тебе несколько акций этой компании. Я, к твоему сведению, пайщиком-то стал только для того, чтобы иностранцы не все к рукам прибрали.
— Спасибо, Релвас, за объяснения. Я удовлетворен. Люблю твою откровенность и не забуду сделанного тобой предложения. Это я об акциях…
Все уже поднялись и продолжали разговаривать друг с другом стоя. Диого Релвас подошел к окну, чтобы закрыть его, но не переставал думать о последних словах Ботто, о его оскорбительном тоне и маленьких мышиных глазках, сверлящих, жуликоватых, циничных и лживых. Диого Релвасу Зе Ботто не нравился. Да и кому понравился бы этот тип, всеми силами противившийся тому, чтобы компания заливных земель продала ему, Релвасу, один из участков на высоком берегу Тежо? Ведь он срывал эту сделку, несмотря на закон, который разрешил ее через Национальную казну королевского двора. Диого Релвас знал, что Ботто связан с людьми из железнодорожной компании, именно они были больше всего заинтересованы в размещении промышленных предприятий около его владений, рассчитывая на транспортировку большого количества товаров.
Он вернулся к разговаривавшим и спросил:
— Ну, так завтра в Лиссабон? Десятичасовым? Все были согласны.
Тут Перейра Салданья отвел Релваса в сторону на два слова. Он просил оказать ему небольшую услугу, если, конечно, Релвас может получить несколько сотен фунтов в том банке.
— В каком? — спросил его Релвас. — Уж не в банке ли зятя?
— Именно, именно в банке твоего зятя. Все знают, что в Португальском банке у тебя рука.
— У меня?! Вот это новость!
Он приказал развезти их по домам в своем экипаже и, провожая Салданью до ворот, не переставал размышлять: как это мигелист Салданья сумел узнать о его влиянии в Португальском банке? И когда гости отъехали, Релвас какое-то время продолжал стоять, обдумывая услышанное и сказанное, а служивший у него кучером карлик Жоакин Таранта наблюдал за ним, совершенно уверенный, что хозяин плачет в одиночестве от боли, плачет вдали от дочери и внуков. Потом карлик увидел, как Релвас подошел и встал около скамьи, на которой Таранта обычно сидел вечерами после трудового дня и, глядя на звезды, раздумывал, действительно ли души умерших отправляются на небо и потом оттуда смотрят на нас, как и бог, глазами звезд. Крестьяне посмеивались и над его фантазиями, и над его физическим дефектом, но всегда просили его сочинять частушки.
Карлик был поэтом. Диого Релвас знал это и как-то после клеймения быков попросил его воспеть в стихах труд земледельца и скотовода. «По заказу не могу, ваша милость, я пишу стихи по велению сердца», — ответил кучер.
И вот сейчас, видя идущего ему навстречу хозяина, Жоакин Таранта задавался вопросом: должен ли он выразить Диого Релвасу свое соболезнование и не будет ли это дерзостью.
Хозяин хотел посмотреть на кобылу, которую он выбрал для внука. В день похорон зятя Диого Релвасу было приятно так вот, вдруг, подойти к животному и приласкать его, а почему — он не понимал. Возможно, чтобы дать себе время еще немного — обдумать то, что он считал необходимым сказать дочери, или то, что услышал от недавно уехавших землевладельцев.
По сути дела, он должен быть с ними заодно. Ведь каждый из них в отдельности был похож на идущую ко дну лодку. Да, именно так, идущую ко дну и предоставленную воле волн, которые все тащат в море.
Мысль о неизбежном поражении была связана в его сознании с воспоминанием о лодке, черной и разбитой, брошенной на берегу Тежо на волю волн, которую он увидел, будучи мальчишкой. Да, теперь ему стало понятно его желание увидеть лошадь, предназначенную внуку Рую Диого. Животное — решительное и послушное — вселяло в него уверенность; ничего кроме уверенности он сейчас не желал.
Глава III БАШНЯ ЧЕТЫРЕХ ВЕТРОВ
С овдовевшей дочерью Диого Релвас перебросился всего лишь несколькими словами. Он нашел ее, бледную и отрешенную, около колыбели Марии Терезы, которую она, не видя, что та уже уснула, все еще укачивала, точно усталым движением желала утишить боль в груди. Заслышав скрип двери, она резко обернулась, зло глядя на того, кто осмелился нарушить ее приказ, но тут же сникла, увидев вошедшего к ней отца. Она уже не плакала, показывать слезы кому-либо было не в ее характере. И в этом она походила на него. Ничего общего с матерью, с Вильявердесами, которые так любили выставлять напоказ свои страдания. Он-то это хорошо знал.
Диого Релвас шел к ней, ощущая возникшую между ними стену враждебности, которую он преодолел почти физически. Прошел сквозь нее благодаря мощной грудной клетке и плечам — не могу же я позволить ей отдаться боли, — но был сражен молчанием Эмилии, вроде бы желающей тем самым выказать ему свое презрение.
«Эта Эмилия Аделаиде невыносима», — сказал ему его старший сын, Антонио Лусио, услышав шаги отца на мраморной лестнице. «Она хотела, чтобы после похорон вы были подле нее. И она считает, что все мы не любезны с родными ее бывшего мужа. Я пытался возразить…»
Диого Релвас понимал, что должен найти для нее какие-то слова — но какие, да, какие? — которые она могла бы понять в такой горький для нее час, и решился погладить ее черные, против обыкновения небрежно причесанные волосы, но она, почувствовав движение его руки, судорожно сжалась, точно стараясь уклониться от ласк. Обиженный этим движением, Диого Релвас счел свой приход напрасным и уже было двинулся к двери, решив оставить дочь в одиночестве — все мы когда-нибудь останемся в одиночестве, но не сейчас, сейчас это невозможно, сейчас мы должны поддерживать друг друга и вместе искать выхода, — но передумал, склонился над колыбелью внучки, расправил складку на кружевной простынке и, глядя на улыбку ребенка, видящего добрый сон, притянул к себе почти силой голову дочери, желая тем самым покончить с возникшими между ними обидами. Дочь осталась безразличной, если не сказать огорченной его прикосновением. Ее поведение, думал Релвас, вполне естественно, но он старался заставить ее понять, что необходимо сопротивляться обрушившемуся на них несчастью, перед которым они бессильны. Он не мог допустить, чтобы волна неверия в свои силы захлестнула их: ведь тогда бы пришел конец, но нет, это не конец. И нужно даже использовать обстоятельства, если он будет сохранять спокойствие и его дети тоже, если они ему помогут, то их спокойствие, спокойствие сильных, подавит панику слабых, которые бегут, вместо того чтобы противостоять случившемуся. «Мы должны быть сильными, Милан!» Он обращался к ней так, как, бывало, обращался, когда они оставались наедине; она должна почувствовать его настоящую нежность, нет, он не был большим другом Марии до Пилар, чем ее: обе были его дочерьми, глупо думать, что он отдает предпочтение одной из них. Но ведь я отдаю, отдаю! Но этого же не видно, я делаю все возможное, чтобы не было видно.
— Пойдемте со мной, Милан! Нужно отдохнуть… — настаивал он чуть слышно, притягивая ее голову к себе.
— Оставьте меня одну.
— Почему?!
— Потому что на самом деле я одна. Люблю ясность во всем, и вам известно, что я всегда была одна…
— Вы говорите вздор, Милан. Истязаете себя безо всякой нужды.
Тут Эмилия Аделаиде встала и посмотрела на него полными слез глазами; ему хотелось бы их осушить, но она посмотрела на него враждебно.
— Вам он никогда не нравился…
— А вам?
— Он был мне муж.
— Разве это я спросил вас?
— Я, отец, просила вас, просила, когда мы к вам приехали, чтобы вы помогли ему, подбодрили, поддержали; я как будто чувствовала, что что-то случится; я знала, что сердце у него слабое, мы не должны были его волновать, а вы, сеньор, допустили, чтобы он узнал новость…
— Но я не мог предположить, Милан!
— А я-то знала, знала, как он не находил себе покоя ни днем ни ночью, как пугал его любой шум, как он все время вздрагивал, все ему казалось важным… Ведь он жил в постоянном страхе. И беспокоился за меня и детей…
— Вот из-за вас и детей я и считаю, что ему нужно было держать себя в руках перед лицом любых событий.
— Но он был слабым…
— Верно, Милан, он был слабым. И этим вы все сказали. И сразить его могло все что угодно.
— Но вы способствовали…
Как он сдержался, как не ударил ее? Он не мог понять этого до сих пор. Может, помешало тому присутствие внучки, а может, чувство вины, но в чем его вина?! Как мог он скрыть от зятя то, что происходит?! а может, любовь к ней, дочери, ко всем своим домашним, наконец, которые не простили бы ему грубой сцены в такой момент.
Он вышел из комнаты — кто-то стучал в дверь — и столкнулся со служанкой Ирией, пытавшейся удержать его старшего внука, трехлетнего мальчонку, такого же бледного, как отец, с такими же большими голубыми холодными и грустными глазами, как у всех Араужо. Служанка объяснила Диого Релвасу, что Руй Диого не хочет ложиться спать, пока не вернется домой отец. Релвас было подумал обмануть малыша, но ушел, да, ушел, скрылся от всех в башне-бельведере, где имел обыкновение проводить как счастливые, так и горькие минуты своей жизни. Он называл эти; минуты чрезвычайными. И считал, что они должны быть ясными, пусть горькими, но ясными, мучительно пережитыми, с должным спокойствием, рассудительностью, но не с безразличием, и чтобы сердце не диктовало условий разуму. Разум должен ясно и четко оценивать происходящее, и не только то, что лежит на поверхности, но даже то, что скрыто от глаз. Ведь надо понять, какие силы деловой жизни вырвались сейчас на волю и ведут к ужасному концу. Угадывать эти силы, предчувствовать их и парировать их удары. И властвовать над ними, да, главное — властвовать.
Завтра он должен разговаривать с министром. Он пойдет к нему вместе с другими, но вести беседу будет выдержанно, благоразумно и даже кротко, конечно для того, чтобы тут же, если министр обнаружит непонимание забот земледельцев, пойти в наступление. А теперь вот от таких серьезных размышлений его отвлек этот неприятный разговор с Эмилией Аделаиде. Уверенность, что она обиделась бы, не приди он ее утешить — она ревнива, ревнива с детства, — беспокоила его в этот день больше, чем когда-либо, и, хотя он верил в то, что сумеет образумить ее, все же был огорчен резким, неуважительным тоном, которым она с ним разговаривала. Словам он значения не придавал: слова забудутся, другие, позже сказанные, погребут их под собой, как пласты земли, которые, впрочем, плуг может и поднять.
Раздумывая над всем этим, он поднимался по лестнице, которая вела в башню. По обыкновению он то и дело останавливался, но совсем не потому, что того требовали его сорок четыре года, нет, он чувствовал себя в расцвете сил, а потому, что готовился к встрече с воспоминаниями, которые ждали его в башне. Он называл ее Башней четырех ветров.
…Что хотел он этим сказать?
На это, загадочно сверкнув глазами, что ни от кого бы не ускользнуло, Диого Релвас ответил бы: все ясно как божий день — каждое окно выходит на одну из сторон света, а их всего четыре, и со всех четырех дуют ветры. Так что все проще простого.
Загадочное же сверкание глаз означало бы, что в этой башне-бельведере, построенной еще его дедом, куда входил только хозяин дома, жили четыре секрета могущества Релвасов: объективность, мужество в главном, любовь к совершенству и упорство. И на этой розе ветров, которые почти всегда были в согласии, хранилась тайна — да, историю жизни последнего столетия семьи Релвасов можно назвать тайной.
Перед тем как отправиться наверх, в башню, Диого Релвас отдал распоряжение экономке Брижиде не звать его к ужину, а детей кормить в обычный для них час, не разыскивая их по комнатам и залам, а, как всегда, оповестив колокольчиком, и тут же через пять минут безо всяких промедлений подавать на стол. Опоздавших за стол не сажать, так как уважительна или нет причина опоздания, мог решать только он, а он не хотел, чтобы в этот вечер его тревожили под каким бы то ни было предлогом. Он хотел работать спокойно.
С собой он взял трехфитильную масляную лампу, которая была там, в башне, единственным источником света до тех пор, пока хозяин не гасил ее, оставаясь сидеть при лунном свете. Вот и сейчас он погасил ее, хотя луна, как бы играя в прятки, то выглядывала из-за туч, то скрывалась в их пелене.
Он снял пиджак, развязал траурный галстук и произнес сакраментальную фразу, ту, что произносил всякий раз, когда входил в башню:
— Вот мы и здесь! — Это был своеобразный пароль, адресованный отцу и деду, на встречу с которыми он являлся.
Во все четыре окна сочился мягкий свет, давая разглядеть стоящую здесь железную кровать с соломенным матрацем, обычный, выкрашенный в коричневый цвет деревянный стол, который точил и точил шашель, как, впрочем, и скамью, и стулья, и деревянную раму, обрамлявшую засиженную мухами олеографию девы Марии; в одном из углов — между окном, выходящим на север, и окном, выходящим на восток, — стояли железный рукомойник, ведро и кувшин. Бедно, как в любой деревенской лачуге Алдебарана.
«Это была моя первая комната», — рассказывал, бывало, дед, чьим вылитым портретом считали Диого Релваса. Дед решительно шел вперед по дорогам судьбы, но, чтобы достигнутое в жизни было с чем сравнивать, всегда сохранял в башне эту грубую крестьянскую обстановку. О нем говорили, что, будучи по характеру бесстрашным авантюристом, он своими успехами все же не был обязан ни силе разбойника, ни хитрости священника, с чем, конечно же, не соглашались клеветники — люди зависимые, бесхребетные и, надо добавить, неспособные чего-либо достичь в жизни и, уж конечно, подняться до уровня Бернардо Санта-Барбара Релваса, «Кнута», прозванного так и друзьями и слугами за то, что тот все предлагал решать с его помощью. Нет, к кнуту он прибегал нечасто, но всегда имел его при себе, как символ того, что в жизни многое решается силой, если нет другого средства. Это Диого Релвас понимал хорошо. Да и опыт подтверждал то же самое. И ничто так не убеждало в правоте данного положения, как эта убогая комнатенка в пределах роскошного господского дома «Мать солнца», добытого при разделе имущества одного из соратников генерала Гомеса Фрейре [25], тоже публично казненного. Башня-бельведер была пристроена Кнутом не только для того, чтобы служить смотровой площадкой, с которой можно окидывать глазом свои владения, но и для того, чтобы любоваться водами реки Тежо, которой землевладелец был так очарован, что даже строил прожекты создать компанию по судоходству, которое могло бы быть открыто до Мадрида, если бы правительство разрешило воспользоваться забытым еще со времен Филиппов [26] проектом итальянца Антонелли.
Обставленная по-нищенски, с учетом привычек бедняка, башня-бельведер стала пристанищем для главы семьи, Диого Релваса, который собственноручно заботился о ее чистоте, что было свидетельством его смирения и гордости одновременно. Никто, кроме представителей мужского пола семейства Релвасов, Кнута, его сына Жоана (отца Диого) и самого Диого Релваса да одной настойчивой и смелой маркизы, имя которой история не помнит, но помнит, что она согласилась уступить домогательствам сеньора Алдебарана, если тот ее разденет в башне, не переступал порога оной. Уверовавший в сказанное дедом: «В жизни самое необходимое — это добиваться своего», — молодой Диого Релвас нарушил заведенную отцом традицию только потому, что счел следовать девизу Кнута делом более достойным. Ведь визит маркизы в башню не нанес ни вреда дому, ни урона престижу семьи Релвасов: маркизе кровать показалась жесткой и она больше не настаивала на этом месте их встреч. Однако после той встречи в башне появился бинокль — это был подарок, которым знатная сеньора решила отметить свою страсть, что принесла ей скандал в Лиссабоне и сопровождала ее до самой смерти, а Релвасам обеспечила выгодный сбыт лошадей, поскольку муж сеньоры был офицером-интендантом именно по этой части.
Диого вспомнил ее в тот вечер, когда растянулся на жестком соломенном тюфяке. На столе лежал бинокль. Вот это женщина!.. Она была старше его чуть ли не на двадцать лет, но в том возрасте, когда он ее узнал — а ему было тогда семнадцать, — он, пожалуй, не мог бы встретить более поучительной и пылкой любви. Он любил ее, испытывая гордость, и остался перед ней в долгу за то бесценное удовольствие, которое получил от возможности открыть в теле женщины нечто большее, чем «свинарник для свиньи», как сама она определяла грубую любовь некоторых мужчин.
Он стал было думать о дочери, о том, что сказал ей, и тут же рядом с ней в памяти возникла его первая и, возможно, единственная любовь, которую он познал в жизни, и они обе мешались в его памяти. Диого Релвас повернул голову на подушке, ища запах духов, которые долгие месяцы она хранила. Этот запах он узнавал безошибочно среди всех прочих. Теперь именно эти духи он выписывал из Парижа для своей любовницы, которую содержал в Лиссабоне, после того как овдовел. Вернее, чуть раньше, потому что, когда жена умерла — а тому шел одиннадцатый год, — связь эта уже была. Скончалась Мария Жоана Ролин Вильяверде — двоюродная сестра Фортунато Ролина, того самого, который был у него в день похорон зятя, — декабрьским утром тысяча восемьсот восьмидесятого года, дав жизнь еще одной его дочери — Марии до Пилар. Вильяверде умирали рано. Не сумел он выбрать себе жену! Это он-то, который как раз отличался способностью выбирать лучшее, ведь все лучшее на Пиренеях, да, лучшее, давали его земли, а тут он соблазнился этой стройной и хрупкой девушкой с белой прозрачной кожей, которая всегда влекла смуглых и крепких Релвасов, а теперь дети унаследовали эту хрупкость.
«Так что же я завтра скажу министру?» — допрашивал он себя с пристрастием, желая прогнать налетевший рой воспоминании. Он не зажигал лампу, чтобы полнее ощутить одиночество, а в результате поддался воспоминаниям не то чтобы странным, но недозволительным и нежелательным для необходимой в этот момент ясности ума. Он послал уведомление председателю муниципалитета, желая его видеть завтра утром в поезде, чтобы до встречи с министром прощупать депутата, которому были отданы все до единого голоса Алдебарана, ведь проголосовали даже мертвые и параличные, словом — весь округ, которому он, Релвас, оказывал услуги и где у Релваса имелись дружеские связи. Он намеревался потребовать, чтобы председатель муниципалитета его сопровождал, а не только произносил скорбные речи на похоронах и с важным видом расхаживал по коридорам учреждения, в котором оказался опять-таки благодаря ему. Теперь, как, впрочем, и всегда, Релвас хотел видеть, на что тот способен! Потом… О! Потом не будет недостатка в делах!.. Релвас не желал думать обо всем сразу, хотя нужно обязательно зайти в банк зятя, чтобы знать точно, в каком положении находятся дела и собираются ли описывать имущество, которое должны были бы наследовать его внуки. Кроме того, он должен повидаться и с этим бездельником Мануэлем Араужо, братом зятя, способным напасть в святую пятницу на духовное лицо, если у того будет в руках что-то, что брату зятя захочется иметь.
— Вот мы и здесь! — повторил он в звенящей тишине.
Он обращался сразу к обоим — к деду и отцу, которым должен был давать отчет, спокойно, точно они живы и здесь присутствовали. Этими словами он говорил им, что унаследовал от них силу духа, благодаря которой и противостоит всем трагическим событиям.
Да нет, нет, он не паниковал — это было не в его духе. Он только хотел видеть деда и отца рядом в тяжелый момент, поскольку вокруг было стадо баранов, готовых идти либо на массовое самоубийство — подобные случаи были известны, — либо сдаться на милость тех, кто финансирует промышленность или грабит под видом железнодорожной компании — он никогда не забудет жалкой компенсации, что получил за земли, которые отняла у него проложенная железная дорога, — а то и вовсе ягнят, глупых ягнят, объятых ужасом и страхом, дрожащих с головы до хвоста перед закланьем. Баранов хватало, а вот пастырей, способных вести к спасению, — нет, не было. Их надо было искать. Знать бы ему, ко благу ли это?
Наконец он поднялся, чтобы посмотреть в окна башни. Ветры, похоже, в этот вечер стихли. Он задержался у окна, выходящего на юг, откуда пришел циклон «черной недели». Ему нужно было противостоять. Способен ли он? Он был уверен, что способен, иначе конец всему, чего в течение столетия добились Релвасы. Может ли жизнь заставить его вернуться к тому жалкому прошлому, с которого Релвасы начинали?! Он был уверен, что не может, — потому и вопрошал себя так спокойно. Только теперь он зажег лампу.
Комната наполнилась черными колеблющимися тенями, и в тот же миг резкий паровозный гудок разорвал натянутую, как струна, тишину. В тот вечер этот гудок показался ему ужасным криком кого-то, кто бежал из Лиссабона, бежал искать спасения у него в объятиях.
И Диого Релвас, не задумываясь, раскрыл их.
Глава IV СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
После того как королевская семья оказала честь позировать перед объективом фотоаппарата, фотограф был в моде. И тут же все — и аристократы чистой воды, и просто состоятельные буржуа — принялись утверждать, что лучше не делают нигде — ни в Лондоне, ни в Париже.
Эта же мысль сидела в красивой андалузской головке тщеславной, не знавшей ни в чем отказа Эмилии Аделаиде, когда она возвращалась после отдыха из Синтры, где как раз в этот год, на пикнике в Варзеа-де-Коларес, познакомилась со своим будущим мужем Руем Портела де Араужо.
Диого Релвас поехал за детьми в Синтру в новом фаэтоне, который был сделан домашним каретником Зе по образцу, изображенному в английском журнале. Релвас усовершенствовал фаэтон для своего удовольствия и удовольствия тех, кто удостаивался видеть это произведение, упряжкой из пяти очень выносливых и отменно красивых лошадей. Четыре лошади покорно шедшие друг за другом, были серо-розовые — гордость релвасовского тавра — ведь такого необычного сочетания белой, черной и красной шерсти было трудно добиться. Шерсть имела сиреневый отлив, что подчеркивалось контрастным черным цветом гривы и хвоста. Идущий во главе упряжки гордый, пожалуй более гордый, чем хозяин, конь с высоко поднятой головой, норовистый и в то же время сдержанный, высоко выбрасывающий передние но: и, был молочно-серебристого цвета. Он как бы задавал тон всей упряжке, которой мастерски правили хорошо знакомые с поводьями руки хозяина Алдебарана.
Если хозяин и кони были в согласии, описать восторг детей было невозможно. Достаточно сказать, что они старались уговорить отца не брать с собой служанку, а посадить ее на алентежскую повозку с багажом рядом с карликом Жоакином Тарантой и даже отказаться от кучера — так им хотелось ехать только с ним одним, такую тщеславную гордость вселял в них новый фаэтон.
Эмилия Аделаиде садилась на облучок вместе с отцом, а двое братьев и Мария до Пилар ехали сзади в компании кучера Зе Красавчика, весьма довольного собой, своей новой формой с серебряными пуговицами и беретом с блестящим козырьком. Разговаривали о пикнике: Антонио Аусио посмеивался над ухаживаниями Араужо за сестрой, она подыздевывалась над его влюбленностью в Луизинью — Марию Луизу Сампай Кинтела, Мигел Жоан и Мария до Пилар, следя за бегом лошадей, казались отсутствующими, а Диого Релвас, понимая, что дети становятся взрослыми, подумывал о том, что «смерть уже не за горами». После торжественного выезда из Синтры почти галопом, под аплодисменты друзей, которые по обыкновению пришли их проводить, отец пустил лошадей рысью под звон бубенчиков, который перекрывал их голоса. И только когда они остановились около источника, чтобы Зе Красавчик мог напоить лошадей, Эмилия Аделаиде сказала:
— Отец, нам надо сфотографироваться всем вместе! Всем, пятерым!.. Сделать большую фотографию, такую же, как я видела в chateau [27] Кинтелас.
Диого Релвас закурил сигару, что делал очень редко, и пообещал пригласить для этого Тейшейру из Вила-Франки, он хороший фотограф, но Эмилия Аделаиде настояла на Бенолиеле из Лиссабона — он совсем другое дело, у него люди как живые, только что не говорят.
То же самое сказала Брижида и другие слуги, когда увидели сделанный им семейный портрет. Только тогда Диого Релвас счел, что труды и деньги, затраченные на фотографа, зря не пропали. Да, действительно, работа прекрасная, почти такая же тонкая, как портрет тети Риты Констансы, написанный каким-то художником. В тот год, когда был написан этот портрет, в их доме появился карлик, потому что тетя, увидев копию картины одного испанского художника, пришла в восторг от изображенного на полотне карлика и потребовала такого же, чтобы держать немецкую борзую, с которой она хотела позировать, сидя в костюме амазонки на ярко-рыжей лошади, которую подарил ей отец в пасхальное воскресенье. Сейчас не стоит рассказывать о предпринятых тогда мучительных поисках карлика, который подошел бы для портрета Риты Констансы. На это потребуется слишком много времени.
Но в результате портрет получился прелестный. Эмилия Аделаиде пожелала, чтобы отец был в костюме земледельца, хотя в таком случае он должен был держать в руке шляпу с жесткими полями, которая своей высокой тульей почти закрывала сидящего рядом сына. Фокмраф пытался наставлять их, говоря, что «художественная фотография имеет свои законы, так что будьте терпеливы, это я вам говорю, говорю как художник королевского дома». Однако даже этот пространный аргумент не принудил Эмилию сесть подле отца — в упрямстве никто не мог с ней сравниться, — ведь на Эмилии Аделаиде была надета роскошная плиссированная юбка цвета увядшей розы, сшитая как раз к этому случаю, и она могла помяться. Диого Релваса бесили все эти сложности. Он должен был пригласить парикмахера, чтобы тот побрил и постриг его, шить у портного андалузские панталоны и жакет, а теперь еще быть свидетелем всех этих сцен между дочерью и фотографом, который грозился уехать, ничего не сделав, хотя труд был уже оплачен. Надо иметь терпение святого! В любой другой день Диого Релвас выставил бы его вон в два счета, но не в этот, когда Эмилии Аделаиде исполнилось шестнадцать лет. И он сумел уладить это сложное дело, предложив компромисс: Эмилия Аделаиде будет стоять, а фотограф не поставит своего имени под портретом.
— Все, маэстро, решили — и дело с концом, — сказал Диого Релвас, садясь в предназначенное для него кресло, на другое взобрался десятилетний грустный Мигел, такой грустный, что даже фотография запечатлела застывшие в его глазах слезы. Ему нравилось стоять, согнув ногу, что он тут же доверительно сообщил отцу.
Эмилия Аделаиде расположилась между ними, хорошенькая, улыбающаяся, показывающая ряд чудесных зубов и ямочки на бледных щеках; рядом с Релвасом, вернее, за ним, напряженно держа голову, а руку на спинке кресла, встал франтоватый Антонио Лусио в новой куртке и кордовской шляпе, собственноручно им выбранной; у ног отца, приклонив голову в локонах на его колени, села счастливая, как никто другой, Мария до Пилар.
При чем тут этот портрет? — спросит читатель, зная озабоченность Диого Релваса и пережитую драму старшей дочери.
Да при том, что Мария до Пилар, указывая на эту самую фотографию, которая висит в одном из залов первого этажа, в том, что считается музыкальным (там стояли арфа и клавесин, к которым девочки почти не притрагивались, обе пошли в отца — ни у той, ни у другой слуха не было), говорила своим братьям:
— Вот все мы пятеро — близкие друг другу люди, и я вас спрашиваю, так же как отец; а любим ли мы один другого? Папа любит, он единственный, кто любит нас всех. Хотя вы и говорите, что он меня любит больше. Может, потому, что я меньше его огорчаю…
— Это мы еще посмотрим, — ворчливо ответил четырнадцатилетний Мигел Жоан. — Девчонка в твоем возрасте не должна быть такой рассудительной.
— А она у нас всезнайка! — объяснил Мигелу Жоану Антонио Лусио.
Смуглую, не по возрасту высокую Марию до Пилар красили большие табачного цвета глаза и белокурые, как у матери, а может, чуть темнее, чем у матери, волосы; временами, особенно в солнечные дни, глаза ее делались зеленоватыми и более живыми, но менее нежными; нос был с небольшой горбинкой, с очень выразительными и чувственными крыльями и такие же чувственные были четко очерченные, чуточку полноватые губы. «Еще оформляется», — говорила Брижида, особенно привязанная к девочке, никогда не знавшей матери, что как раз и было причиной антипатии к той же Марии до Пилар ее брата Антонио Лусио, избалованного Марией Жоаной Вильяверде. Для него Мария до Пилар была виновницей смерти матери. И именно поэтому он частенько затыкал ей рот. Он играл в очко, а потому всегда носил в кармане брюк колоду карт, подаренную ему одним пастухом, который научил его этой азартной игре. Это был порок.
Антонио Лусио было девятнадцать; он уже имел отцовское разрешение бриться, оставляя рыжие усики, закрученные кончики которых касались щек. Носил бакенбарды, растущие от виска вниз, чуть смахивавшие на челку, которые он подбривал, как и виски.
Робкий по складу характера, Антонио Лусио всегда бывал резок, если считал необходимым показать себя мужчиной. Лицом он был бледен, не в пример брату Мигелу, и с особенно богатым любовным воображением — возможно из-за того, что отец запретил ему проводить время с девицами Алдебарана. Угроза была страшной: «Если что, будешь два года в степи пасти жеребых кобыл на сносях!»
Мария до Пилар говорила:
— Отец сердится на Эмилию…
— Заткнись!
— Я сама слышала.
— А ты что, под дверьми подслушиваешь?
— Нет, но была вынуждена слушать. Иногда я не такая уж дурочка…
— Это когда же?! — спросил Мигел Жоан, облокотившийся на стол в привычной для него ленивой позе.
— Ну хотя бы когда видела, как ты курил потихоньку и рассказывал всякие бесстыдства слугам.
Антонио Лусио поднял голову, и оба брата переглянулись.
— Мигел ходит на конюшню?
Мария до Пилар сделала вид, что не слышала. Виновник покраснел, руки его задрожали, но он притворился спокойным.
— Я, кажется, тебя спрашиваю, Мария до Пилар, отвечай!..
— Так что он говорил?
Услышав повторенный вопрос, девочка улыбнулась, передернула плечами и скорчила гримасу.
— Он рассказывал…
— А ты знаешь, что такое бесстыдства? Кто тебя научил?!
Антонио Лусио подошел к ней и дернул за руку.
— Никто не научил. Но я слышала, как об этом говорили.
— Скажи, кто из служанок тебе это сказал.
— Я не ты, нечего мне со служанками разговаривать.
— Дура!
— Но сегодня бы проговорила с ними всю ночь. Страшно спать идти.
— Не говори глупости!
И он сел, тасуя карты для новой игры.
— Глупая девчонка. Вроде бы уже и не маленькая, а глупая!..
Мария до Пилар поежилась и скрестила руки на своей маленькой груди.
— Просто я знаю, что мне приснится Руй… Теперь он мне будет сниться в гробу долго.
Мария до Пилар была единственной, кому нравился Руй. Нравилось, когда он брал ее на руки и сажал на дрожащие колени. А потом гладил ее голову и шептал на ухо: «Ты будешь самой красивой в семье».
Глава V СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА ЭМИЛИИ АДЕЛАИДЕ
Если бы в тот день, когда Руй был похоронен, он (Другой) не вышел из комнаты, где я находилась с Марией Терезой, я бы не вернулась к этому дневнику, который не брала в руки более четырех лет, и не стала бы объяснять себе самой то, что несколько часов назад была готова сказать ему и сказала бы, уверена, в тот вечер; и вот теперь я спрашиваю себя: а может, так лучше? — и отвечаю: наверное, нет (недостающие знаки препинания я поставлю потом), по крайней мере для меня, хотя мне очень хочется понять, что же всегда меня делает такой маленькой в его присутствии и почему я, видя и слыша его, становлюсь сама не своя, я, которая все, к своему же несчастью, говорю людям; такой я была и с Руем, которого поняла только перед самой его смертью, как он был удручен, бог мой! Как волновался, когда вошел в дом и сообщил мне новость, он вроде бы стал моим сыном, тогда как раньше, бывало, всегда обращался со мной как с ребенком: ведь он вдвое меня старше и это было для меня главным; когда я выходила за него замуж, любви у меня большой не было. Любовь приходит потом, так говорили все, но она не пришла, нет, не пришла…
В моем приданом было все, все, кроме любви, а может, любовь не самое главное? А что же тогда главное? Да, но я не собиралась копаться в чувствах, вещах, людях теперь, когда осталась одна, сама с собой, или, лучше сказать, наедине с самой собой. И все же мне бы хотелось подумать над тем, что только теперь пришло в голову: этот дневник почти семь лет был моим товарищем, моей тайной, страницам его известно то, что со мной происходило, известны все, кто жил в нашем доме, а виной тому мадемуазель Жилъбер, мадемуазель Мишель Жилъбер, которая учила всех нас — и меня и братьев — французскому языку, она-то и посоветовала завести дневник, когда увидела меня грустной; мадемуазель говорила, что понимать то, что происходит в нас самих, tres important [28] (и вот с тех пор мне особенно нравится слово «important») и что исповедь священнику, который целиком зависит от нашей семьи, бессмысленна; она прекрасно понимала, видела, что мы не испытываем большого уважения к падре Алвину. Падре Алвин хороший, добрый священник, и все!
Но почему именно мне посоветовала мадемуазель Жилъбер завести дневник?
Она сказала, что иметь дневник — это так прекрасно, что во Франции почти все девушки ведут дневники и даже рисуют в них, но дневник нужно хранить в надежном месте, так как взрослые — они ведь не понимают, что каждый человек может иметь свои секреты, — стремятся знать все о своих детях. Мадемуазель и место нашла, куда я должна была его прятать. Я спросила ее, что такого она во мне увидела, что сразу же посоветовала завести дневник, а мадемуазель улыбнулась — у нее была хорошая улыбка, Антонио Лусио был влюблен в нее и потому знал французский лучше меня — и посмотрела на меня долгим взглядом, отчего я покраснела, тогда мадемуазель Жилъбер сказала, что по тому самому, о чем я сейчас подумала, глядя на нее. Да, но, описывая все это, я попусту трачу время.
А завела я дневник из-за моей сестры Марии до Пилар (сейчас я напишу имена всех, а потом разорву все это); я заметила, что Мария до Пилар заняла мое место в отцовском сердце, и это открытие сделало меня несчастной; именно тогда я и поняла, что утратила со смертью матери, и, ведя дневник, я постепенно начала разделять чувство Антонио Лусио: его ненависть к Марии до Пилар; сколько раз мы ее били, когда она спала, и никто не мог понять, почему вдруг она принималась плакать среди ночи, ее даже возили в Азамбужу к доктору Малдонадо, предполагая, что она больна какой-то редкой болезнью. Теперь, когда той ревности уже нет, я могу признаться, что из-за всего этого у меня болели руки и спина и еще меня рвало часто после еды, в желудке была какая-то тяжесть, и он ничего не принимал.
Но в общем-то я завела дневник больше всего из-за Него, а не кого-либо другого, о ком я пишу, и теперь опять-таки из-за Него я достала дневник оттуда, куда мы его запрятали с мадемуазель Жилъбер. Два дня его дома не было — он был в Лиссабоне, но как только вернулся, тотчас пришел ко мне, чтобы рассказать, о чем он беседовал с министром, для нашей семьи все было не так ужасно, как для других семей, и над Руем никакой такой страшной угрозы, по сути дела, не висело, да и причин, чтобы так волноваться, тоже не было; и если закрылся Португальский банк, то совершенно естественно то же должно было произойти и с Народным, банком, как и всеми остальными, он говорил и о положении дел в торговле, на что я не обратила внимания, и кончил все тем же, сказав, что Араужо слишком высокомерны, ведь всего того, что случилось, могло бы и не быть, если бы Руй приехал к нему и послушался его совета; а я ему ответила, что вина все же его, и все знают, что он не любил Руя, и Руй это понял раньше всех, чуть ли не на следующий день после свадьбы, вина ваша, сказала я ему и очень жалела, что не могла его ударить. Интересно было бы на него посмотреть, если бы я его ударила! Но я сдержалась и оттого, что сдержалась, чуть не расплакалась, но не расплакалась, лишь бы он не стал меня жалеть, не стал выказывать свою доброту. Ему было всегда приятно выглядеть добрым — это я хорошо знаю. Но тут он спросил: моя вина? Я так, например, не считаю, что это произошло по моей вине. И он начал говорить о жизни Руя до женитьбы, что Руй был бездельником, имел уйму любовниц и что после женитьбы — это ему доподлинно известно — Руй не оставил своих холостяцких привычек, а что Он старался уберечь меня, но вынужден был согласиться на этот брак, так как я хотела убежать из дома. В тот день отец побил меня в первый раз, потом все же решил отдать меня за Руя, зная, что я способна привести в исполнение свою угрозу, даже сам поехал в Лиссабон и привез Руя. На все сказанное я ему ответила, что в некоторых вопросах все мужчины одинаковы — у всех есть женщины на стороне; тут я пристально посмотрела на него и поняла: до него дошло то, на что я ему намекала, но он быстро ушел от этого разговора; мне было приятно видеть, что и он уходит от некоторых разговоров.
А было ли мне приятно увидеть его трусость?
И я это поняла, когда он опять напомнил мне, что Руй был слабым, тогда я ему ответила, что и он тоже слабый, он кивнул головой, потом улыбнулся, подошел ко мне и поднял руку, чтобы погладить мою голову, но я тоже подняла руку, попросив до меня не дотрагиваться. Так мы — он и я — стояли с поднятыми руками, и тут я испугалась его взгляда и сказала «простите меня» вместо того, что собиралась сказать ему прямо в лицо: меня остановила мысль о детях, и особенно о том ребенке, который был у меня в животе, ведь я знаю, Он, если бы в тот момент я не смирилась, пустил бы их по миру — он вполне на то способен. Только сегодня я поняла, насколько я слаба, хоть и считаю себя хозяйкой своих желаний и способна говорить людям не всегда уместные вещи. Как часто я их говорила Рую…
Теперь я раскаиваюсь в этом и не хочу писать то, что по этому поводу думаю, знаю только: мне двадцать лет и я вдова.
Однако продолжать жить в этом доме не могу, не могу. Всегда думала, что здесь, в этом доме, я была счастлива или почти счастлива, а теперь вдруг…
К чему бы привели меня эти размышления?
Я поняла, и совершенно ясно, так, будто увидела воочию: мне не под силу больше выносить этот тихий ад.
Глава VI ПРАВДА ЖЕНСКОГО РОДА, А ПОТОМУ НУЖДАЕТСЯ В ПОПРАВКАХ
Если бы Диого Релвасу удалось заглянуть через плечо дочери и увидеть, что она пишет, он бы прервал ее занятие следующими словами: «Стараешься пригнать правду к своей мерке?» — и, без сомнения, добавил бы свое «или н-нет?» с особым нажимом на «эн», густым низким голосом, который так пришелся по душе министру. (Да, к министру не обращаются каждый день, каков бы он ни был. И хорошо, что так. Ведь министр перестает быть человеком, чтобы стать учреждением, в котором бдительно несут службу секретная полиция, усатые генералы, их солдаты и бумаги, которые всему голова. Закон — это очерченный мелом круг около индюка, который должен быть обезглавлен и который не способен выбраться за белую черту только потому, что боится увидеть за ней пропасть, хотя черту эту могут уничтожить капли дождя.) Об этом, должно быть, Диого Релвас думал, когда разговаривал с дочерью: ведь именно с этими мыслями он вернулся из Лиссабона. Впрочем, это же Диого Релвас готов был сказать своему бухгалтеру, так велика была потребность излить душу и так мала вера в членов Земледельческой комиссии, «принятой его превосходительством министром с должным уважением к входящим в ее состав членам и вниманием к значительности вопросов, которые должны быть обсуждены с видным государственным деятелем», как на следующий день писалось в газете.
«Нет, Милан, здесь кое-что нужно поправить, — добавил бы он потом. — Мелочи, но мелочи всегда имеют большое значение. Ты ведь (разреши мне, хотя бы в мыслях, обращаться к тебе на „ты“) согласилась с кое-какими моими поправками. Помнишь?… Н-нет?! Я тебе напомню. Люблю точность во всем. Ты пока помолчи.
Вот когда ты второй раз сказала, что я не любил твоего мужа, — было такое? — я тебе ответил вопросом, который ты, конечно, считаешь бестактным, поскольку вопросом на вопрос не отвечают. Но я спросил тебя тогда: „А ты?!“ Ты почувствовала себя неловко, тряхнула головой так, как только тебе одной свойственно, и хотела что-то сказать, но я предупредил твою ложь, напомнив тебе твое же признание. „Да, так, ну и что же?“ Это все, что ты мне ответила. Ты не любила его, что т-точно. (Диого Релвас произносил с нажимом и слово „точно“, потому что считал, что без нажима оно не так твердо звучит.)
И это еще не все, имей терпение, дай мне сказать до конца. Ты тогда совершила еще одну из твоих выходок, выходок девчонки, которую я всегда баловал. Ты, Милан, злоупотребляешь моим терпением! Будь осторожна! Ты отвернулась, опустила глаза, но я увидел, не говори, что это не так, я ясно увидел ямочки на твоих щеках, которые появляются, когда ты улыбаешься, они-то и выдали тебя. Да, я увидел твою презрительную улыбку. Ты знаешь, что я думаю о тех, или, вернее, делаю с теми, кто меня презирает. Ведь презрение — это, пожалуй, единственное чувство, которое я не прощаю. Ненависть? Ненависть лучше. Так что уж лучше она, чем презрительная улыбка.
Так я спрашиваю: может, ты считала его слабым, поскольку не верила, что он способен сменить тебя — такую красавицу — на другую женщину. Я не знаю, во всем ли ты права, но в этом-то ты, должно быть, права. Ты всегда была красивой девушкой, а сейчас ты еще краше. Как ужасно было бы для мужа, не всякого конечно, увидеть свою жену в трауре по случаю его смерти. Но как идет тебе траур!
А потом ты мне рассказывала сама — я не просил — и без драматизма, с которым в тот вечер обвиняла меня, будто я способствовал смерти твоего мужа… Ты сама-то подумай, Милан, что ты говоришь! Так вот, ты мне рассказала, каким трусом он выглядел, когда вернулся домой и чуть ли не плача, говорил тебе о том, что произошло, вернее, что должно произойти, а уж несчастья-то пессимисты всегда шестым чувством угадывают, да еще накликают беды на свою голову и головы близких.
Так вот я спрашиваю: могла ли ты любить такого человека? Так понимаешь ли ты теперь, что я, хоть никогда не был и не буду пессимистом, тоже предугадывал, предчувствовал, что Руй не для моей дочери, не для тебя, Эмилия Аделаиде. Я был не против него — я был за тебя!..
Твой дед, как тебе известно, познакомился с его дедом, когда создавалась компания заливных земель, потом не раз входил с ним в разные сделки, как и я сам. Да, я сам, зная жадность этих людей, кровь которых горяча только тогда, когда речь идет о женщинах, всегда имел с ними дело и никогда не раскаивался. Только один раз я сказал тебе, но подчеркнул — посмотрим, помнишь ли ты, — подчеркнул слово „возможно“, которое было самым значительным в сказанной фразе; так вот, только один раз я сказал: „Возможно, любовь придет потом“. Редко, дочь, любовь приходит потом. Почему?! Тебе уже двадцать, ты вдова и останешься вдовой, как оставались вдовами на всю жизнь женщины в нашем роду, многие из которых тоже, да, тоже не любили своих мужей. Ты не сможешь дать детям отчима, потому что я жив… В деньгах, как и во всем прочем, чтобы вырастить, воспитать и выдать замуж или женить своих детей, ты нуждаться не будешь. Так что принимай вдовство как кару за любой совершенный тобой грех. Бог, видно, того желал.
Да— а! Ты, конечно же, спросишь меня — почему?! Да вот по тому самому, что я тебе только что сказал, я ведь могу о некоторых вещах говорить… Возможно, когда-нибудь эти же слова ты повторишь своим детям. Любовь никогда не приходит потом, Милан. Она может захватить тебя, расти, сделаться мощной, как некоторые деревья нашего леса, но если было семя, брошенное в землю. Только семя любви дает побеги. Привить любовь невозможно. Дети?! Дети совсем другое дело. Птицы разносят семена, но только земля способна принять, взрастить и заставить цвести то, что несет в своем клюве перелетная птица. Земля обладает такой удивительной силой, которая человеку и не снилась. Ему с землей не тягаться. В любви по крайней мере. Тебя пленило ухаживание Руя, и ничего больше. Тебе было пятнадцать, а ему двадцать восемь; он-то уж знал жизнь! А ты, ты просто не желала знать, не желала знать, что она тебе готовила, чтобы тебя наказать!
И еще, Милан: чаще всего, чтобы не сказать — почти всегда, даже когда женятся по любви, но любви маленькой, она исчезает, подобно тому как исчезает вода в некоторых рождающихся в наших землях ручьях. Почему?! Это уже разговор куда более тонкий! Но ты права: я уклонился от темы нашего разговора. Так вот, есть женщины… да и мужчины тоже, которые похожи на пустые раковины, хранящиеся в некоторых домах. Красивые, верно, приложишь ухо — без труда вообразишь, если способен конечно, шум моря, какой-то голос. А со временем понимаешь, что ничего в них нет, и голоса тоже. Вот некоторые люди в любви похожи на эти раковины. Хороши, чудо как хороши, мы их боготворим, но потом, а иногда и сразу, понимаем, что ничего в них нет. Они рождаются с лягушачьей кровью. И даже трудно понять, как можно внешне быть такими красивыми, все равно, будь то женщины или мужчины, а в любви такими холодными, бесцветными — ведь любовь украшает человека, наделяет его удивительной, особой интуицией на всю жизнь!
Но я увлекся. Так вот, и ты можешь быть пустой раковиной, хотя… Ты должна понять меня: не мне, твоему отцу, судить теперь, что же выпало на долю Руя».
Приблизительно это мог бы сказать Диого Релвас в подобной ситуации. И начал бы он разговор жестко, а закончил мягко. Хотя иногда бывало и наоборот; Диого Релвас не хотел быть однообразным. А может, причина была совсем иной: не дать возможность предположить заранее, как он его закончит. Скорее всего это, именно это.
Но поскольку мы вносим кое-какие поправки в правду Эмилии Аделаиде, следует внести поправку и в правду Диого Релваса, то есть в то, что он сказал дочери относительно бесчисленных дел, каковыми был занят в Лиссабоне. Ведь в разговоре с Эмилией Аделаиде и с бухгалтером он и словом не обмолвился о вечере, проведенном в доме любовницы, той самой, с которой был в связи еще при жизни доны Марии Жоаны Ролин Вильяверде.
Лиссабон, говорил он всякий раз, когда возникала необходимость ехать туда по срочному делу, касающемуся вопросов земледелия, — это болото. Там вязнут ноги. Но возможно, именно на болотах растут некоторые влекущие к себе цветы, и нет такого другого города, как Лиссабон, где бы мужчина мог жить тайно; некоторые совсем простые вещи только там и обретают простоту, утрачивая таинственность.
Выйдя из банка зятя, где совещание по тем временам прошло не так плохо, Диого Релвас нанял экипаж и поднялся в нем вверх по Шиадо [29], где накупил всевозможных сладостей, шоколад, пирожки, крокеты — все свежее, крокеты так даже теплые, и отправился на улицу Лапа, такую тихую, ну прямо созданную для любовных свиданий и тайных встреч; приказав кучеру позвонить в колокольчик у садовой калитки, он чуть понервничал, опасаясь, что Розалии может не оказаться дома. А когда опасения были развеяны появившейся служанкой Этельвиной, с которой он обменялся быстрыми знаками, вошел в дом, предоставив той расплатиться с кучером и взять все покупки.
Диого Релвас заслуживал этот отдых, без сомнения. После полученных от министра гарантий ему было просто необходимо восстановить душевное равновесие. Завтра у него уйма дел, к тому же он еще должен пойти к кондитеру на Шиадо — с изумлением здесь, на Шиадо, Диого Релвас увидел объявления о продаже двух магазинов и, хотя знал, что получить ключ дело не хитрое, все же хотел ощутить себя хозяином. Нет, Диого Релвас не собирался открывать магазин, как и становиться торговцем. Однако, может, имеет смысл уплатить арендную плату за несколько месяцев… Ведь либо стране крышка, либо налетевшая буря утихнет. А когда буря утихнет, то два магазина на Шиадо воздадут ему сторицей. Диого Релвасу не нравилось, когда деньги и дети были недвижимы — это казалось ему признаком болезни.
Когда обо всем этом он рассказал Розалии, она испугалась. Тогда, удобно расположившись в кресле, Диого Релвас стал поверять ей все, что произошло с того самого дня, когда он был здесь в последний раз. Однако объявления о продаже магазинов не шли у него из головы. Она успокаивала его: держала голову на коленях, гладила, хотя кружевные рукава ее платья щекотали лицо Релваса, раздражая их обоих. При других обстоятельствах он тут же бы ее раздел… А может, он собирается остаться у нее на ночь? «Да, в Лиссабоне такого еще не случалось. Никогда!.. Либо ждать беды, либо, как ты говоришь, покупка магазинов обернется выгодной сделкой». И Розалия начала тайно питать надежду, что один из магазинов будет записан на ее имя. Магазин товаров для женщин, все dernier cri [30] и все из Парижа. Нужно подумать о названии. Как это умеют делать французы!.. Champs Elysees [31], например. Плохо, что Релвасу, всегда в срок выплачивавшему ей содержание, наверняка не понравится ее желание потакать прихотям богачей.
Розалия была галисийкой из Ла-Коруньи; она приехала в Португалию, чтобы посмотреть, такие же здесь дожди, как в Галисии, или нет. Но летние дожди здесь были не слишком обильные, как и щедрость Релваса. И все же мощь этого цыгана ее влекла. У него было все, что хотела бы видеть Розалия в мужчине, не хватало только, чтобы он бил ее.
За окнами шел дождь, моросящий дождь, на который они оба смотрели, — он-то и был причиной, почему ей в голову пришло такое сравнение. Но тут ей вспомнилась песенка ее родных мест:
Cando chove e fai sol Anda o demo рог Ferrol Con un sac о d'alfileres Para pical as mulleres… [32]Диого Релвас тоже думал о дождливом вечере и о женщинах. Вдруг он громко засмеялся и тут же зевнул.
— Почему мой милый смеется?
— Я вспомнил один дождливый вечер, который излил на меня всю небесную влагу, пока я ждал, когда же муж моей маркизы уйдет из дома. И прождал целых три часа…
— И дождался?
— Конечно, Розалия. Удача моему роду не изменяет.
Глава VII В ДУШЕ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ СИДИТ НЕОБЪЕЗЖЕННЫЙ ЖЕРЕБЕЦ
— Избави бог!
— Вы говорите, избави бог, однако многие мужчины взяли в моду благородство, храбрость, а то и преданность, настоящую преданность лошадей. Но среди лошадей ведь есть и клячи. А среди мужчин? И среди мужчин тоже их хватает. Я знаю, что говорю. Достаточно взглянуть на доктора Менданья, чтобы увидать подобную скотину. Или н-нет?
Когда дела в Лиссабоне шли как надо, Диого Релвас не забывал — это превратилось в своего рода порок — заглянуть в конный клуб или клуб любителей боя быков, где он оказывался в кругу знакомых — куда реже, друзей! — с которыми любил перекинуться словом. Те же, по горло сытые городскими сплетнями, с удовольствием слушали разглагольствования Диого Релваса о быках и лошадях, самым большим знатоком которых на полуострове, похоже, был он. Вызвать его на разговор труда не составляло. Достаточно было задеть его тщеславие, хотя делать это надо было очень осторожно, так как Релвас для потехи не годился. Сказанное мог подтвердить некий щеголь виконт, которого землевладелец здорово покалечил. Торжественный и сдержанный в манерах, обычно он легко поддавался и начинал беседу, но мог и взбрыкнуть, разойтись и показать свое нутро. Никому не советовал он вызывать его на это. Нутро у него не шелковое, добавлял он.
Но в тот день Диого Релвас был в хорошем расположении духа. С «черной недели», той самой, когда умер его зять, прошел почти год, и Релвас чувствовал полное согласие со своей совестью. Все, что он хотел, он сделал, а это было главное, самое главное, к чему он в жизни стремился.
— Когда я вижу строптивого коня, рвущегося вперед, хотя всадник его осаживает, мне на ум всегда приходят люди, которые столь же строптивы, и не почему-либо, а из-за дешевого упрямства. Натягиваешь правую вожжу, а они подаются влево или вовсе упрутся, и все тут, и только шпоры и дубинка заставляют их идти туда, куда нужно. А то и клячами становятся… Бывают и злопамятные.
— Все мы немного злопамятны, — вставил один из присутствовавших.
— Согласен…
Он сказал это зло и продолжал рассуждать в том же тоне:
— Так, либерал терпеть не может абсолютиста, а прогрессист — возрожденца. Такое сплошь и рядом и у лошадей: когда конь мышастой масти не выносит гнедого или каких других. Так же и у политиков: признают одних и не признают других, разве что их вынудят это сделать, пустив в ход зубы или копыто. Упрямы!
Все смеялись.
Диого Релвасу нравилось забавлять слушающих подобного рода разговорами — это, как говорил он сам, льстило его самолюбию, а кроме того, в беседе всегда всплывали какие-нибудь финансовые и политические мелочи, которые для него были очень важны. Он никогда не забывал, как прибрал к рукам несколько гектаров равнинных земель, прилегающих к его собственным, только потому, что услышал, сидя именно здесь, на maple [33], в один из холодных вечеров, когда в дверь стучалась осень, разговор, полный недомолвок об этих самых землях.
— В кусающихся людях и клячах нет недостатка. А вот в мужчинах, которые брыкаются, из тех, что не знают своего хозяина? Да и они в избытке! Лошадей, что брыкают идущую рядом пристяжную, — меньше, ей-богу. А теперь еще то, что свалилось на нас, этот кризис… сколько мужчин закусили удила и бросились прочь? Как это на заливных землях называем мы таких лошадей? Так вот, как я сказал вначале, и, думаю, хорошо сказал: в душе каждого мужчины сидит необъезженный жеребец.
— Друг Релвас, есть мужчины, в душе которых сидит хитрец.
— Возможно, возможно… тесто в конце концов одно и то же. Более или менее, — поправился он. Потом принялся за свое: — Вы уже видели… всем нам они — эти типы с потухшим взглядом и сигарой в углу рта — во где. Они ведь даже не курят. А в Рибатежо, говорят, есть лошади, которые курят, те, что хватают все что ни попадя, чтобы съесть. Одинаковы. Ну просто две капли воды. Близнецы-братья по сонливости, глупости и безразличию. А те, что упрямы? Только те, кто не знает упрямства лошадей, не видят кровного родства между упрямцами человеческого и лошадиного рода. И вся разница в их судьбе: я, который люблю чистокровность, о чем свидетельствует тавро моего дома, сразу же, как только вижу животное с этим дефектом, приказываю убить, если, конечно, нет средства дефект исправить.
— Лучше продавайте его цыганам…
— Да я бы себе пустил пулю в лоб, вот сюда, если бы увидел хоть одно животное с тавром Релвасов в руках цыган, да еще на ярмарке. Цыгане хороши в Андалузии и когда пляшут. Я даже их песни не люблю — они меня в тоску вгоняют.
Неожиданное и несколько странное молчание воцарилось на какую-то долю секунды. Диого Релвас смотрел через окно на улицу, неотступно думая о только что сказанном. Людей надо воспитывать так же, как лошадей. Это точно…
— Так вот! Человека можно воспитать так же, как лошадь, а поэтому, и скорее всего поэтому, а не почему-либо другому, я и считаю, что душа мужчины — это необъезженный жеребец.
Ни на кого не глядя, он смотрел прямо перед собой и поглаживал свою черную бороду, уже тронутую сединой.
— На манеж конь выходит диким, а уходит он с манежа смирным. И тут, на манеже, иногда приходится попотеть, и больше, чем на жатве. Выходит — пальцем не тронь, а уходит — настроенная гитара. Так что дело за гитаристом. Жизнь-то ведь то же, что манеж, точно манеж. Есть люди, что падки на сахар, тот самый сахар, что мы даем лошадям со своей ладони, чтобы конь видел того, кто ему дает, и понимал, что хозяин потребует послушания. Лошадь прекрасно знает, зачем ей дают сахар… Вот теперь я спрашиваю: вы все еще говорите «избави бог»?
Он обращался к одному старику с моноклем, который в самом начале прервал его, но с тех пор сидел молча, не улыбаясь и бледнея с каждой минутой.
— Извините, Релвас, извините. Но к душам людей все-таки притрагиваются божьи персты.
— Ничего подобного, господин советник. Бог придает форму глине, а мы ему помогаем. Это все требует терпения, требует кнута и пряника. И каждый занят своим делом. Весь секрет в этом, именно в этом.
Близилось время ужина, и собравшиеся стали расходиться. Диого Релвас еще какое-то время оставался в клубе — может, он пойдет в театр, а поскольку театр был рядом, не стоило сейчас уходить. Диого Релвас любил комедию. Но больше года не видел ни одного спектакля — естественно, со дня смерти зятя.
Он прошел мимо Ассоциации сельского хозяйства, мимо банка, мимо кредитной кассы. Все было под угрозой банкротства. А он был уверен в себе, если в такое время хоть кто-нибудь мог быть уверен в себе. Половина доходов государства шла на покрытие государственного долга. Лионский кредитный банк не переставал настаивать на уплате варварской суммы, которая была дана в долг государственной казне, им подпевали кредиторы компании «Братья Беринг и К°»; большая часть акций компании «Табак» ушла на покрытие процентов только внешнего долга, так сказать на припарки мертвому, чтобы успокоить кое-каких компаньонов и закупить серебро для монетного двора. В Португальском банке ему под большим секретом сообщили, что дефицит торгового баланса будет падать из-за отсутствия денег в казне и что в Лиссабоне, в одном только Лиссабоне, обанкротилось и закрылось более четырехсот магазинов. Не хотел бы он стать членом компании, берущей в свои руки монополии на спички?
«Спички?! Это маленькие фабрики?… Они же будут экспроприированы, это ясно!»
— В маленькой стране все маленькое должно умереть, — говорил ему сейчас доктор Менданья, единственный из членов клуба оставшийся с ним, чтобы убить время.
— Ну и что же?! Всегда неплохо послушать этого хитреца. Не то чтоб я был в этом заинтересован…
— А должны бы, понимаете? Вы связаны с «Табаком», а теперь еще и спичками бы занимались. Все, что имеет отношение к пороку, всегда прибыльно…
— Доктору, конечно, известно мое отвращение, точнее — отвращение к делам, целью которых является получение прибыли, которая пойдет на строительство железных дорог — этих саламанкских авантюр… Кстати, я вам симпатизирую.
— Вам не по душе железные дороги…
— Не совсем то, доктор Менданья. Не так скоропалительно! Я ведь продолжаю торговать своими лошадьми и чем больше буду иметь с их продажи, тем больше утрачу. Вы же знаете, что министр финансов дал ссуду этой прожорливой волчице… Тридцать миллионов франков!.. Тридцать, вы слышите?… Мы погибнем, с богом или чертом, но погибнем! И у меня такое впечатление, что скорее с чертом, да простит меня господь. И торжество по случаю победы этой волчицы будет оплачено нами…
Менданья явно доверял министерству финансов Диаса Феррейры [34]. И верил в обещания Оливейры Мартинса [35]. Хуже всего, что республиканцы подняли головы, напомнил ему Диого Релвас и поспешил распроститься с ним прежде, чем тот начнет убеждать его в необходимости закона, поощряющею развитие индустрии. Провести его на севере, а потом считать обязательным для юга. Великолепно! Достойно пера сатирика! Разговор больше не интересовал его. Прощайте, до свидания.
Он стал наслаждаться наступающим вечером. Поднялся вверх по Шиадо, держа руки за спиной и раскланиваясь направо и налево со встречными, потом решил спуститься по улице Алекрин, чтобы полюбоваться Тежо. После только что оборванной им беседы ему хотелось взглянуть на бегущие воды в надежде прийти в себя. Он шел напоить сидевшего в нем жеребца.
Диого Релвас держался за это сравнение, хотя оно пришло ему в голову только сегодня утром. Он просто упивался им. Оно казалось ему точным. Ведь как бы это ни было странно, даже человек с характером может поддаться слабости. Тут он вспомнил, о чем он подумал, когда говорил о сахаре, даваемом той же рукой, что бьет кнутом. Только сегодня он наконец достиг своего: Эмилия Аделаиде стала с ним мягче. Имение Араужо в Синтре должно было пойти с молотка, но дочь, продолжая свою линию поведения, даже в письме не известила его об этом. Он чувствовал, что гордость ее непоколебима, и в то же время понимал, что гордость ее — это его собственная гордость, доставшаяся ей по наследству. Ему было больно, что она восстала против него самого, но одновременно именно этим он и восхищался.
Аукцион начался до обеда; народу собралось не густо, что естественно в такое время, когда по дорогам ходит столько бродяг. Хорошо еще, что они просят только милостыню! К тому же не так много людей, кто в настоящий момент держал бы деньги для покупки с торгов имения. Чтобы не уронить чести семьи, явился Мануэл Араужо — брат покойного и предложил свою цену. Когда Релвас сделал знак, чтобы ее подняли, тот подошел к нему и попросил, чтобы Релвас не настаивал на преимуществе в данном деле. Но Диого Релвас повел правым плечом с безразличием человека, к которому не относится только что сказанное, и подождал ответных действий соперника. Теперь они сражались друг с другом, беря верх попеременно. Цена имения достигла той, что была до начала кризиса.
Однако Мануэл Араужо поднял ее еще на сто мильрейсов и, вставив монокль, отвернулся, не дожидаясь дальнейших событий. Казалось, он бросил кость-это было сравнение самого Релваса, а потому Релвас спросил его:
— Я что-то не понял, Мануэл Араужо, вы мне несколько минут назад сказали… Я стал туговат на ухо. Что-то связанное с продажей имения?…
Диого Релвас знал, что, кроме компании «Королевская почта», этот хитрец занимался делами железнодорожной компании, куда вовлек и своего брата — его зятя, припася для него своей щедрой рукой все беды, как, например, ту, со шпалами — превосходные шпалы, которые через два года все были заменены, так как никуда не годились. Релвас и Мануэл Араужо были друг с другом не в ладах.
— А-а, — продолжал он, — я понимаю, что, поскольку деньги от продажи имения должны пойти на уплату долгов вашего брата, вы предложили мне поднять цену, или н-нет? Так что, похоже, все кончилось так, как должно.
Мануэл Араужо, приняв надменный вид, отвернулся, однако Диого Релвас тут же повернул его к себе. «Пеняй на себя», — подумал он с горечью.
— Так вот, божий человек, сперва бы надо было поздороваться. — И, понизив голос, добавил: — Так вас интересовало имение?
Похоже, что интересовало…
— Таково было желание семьи…
— О, что касается этого — не беспокойтесь, оно достанется вашим племянникам и моим внукам, перейдет к настоящим хозяевам, не так ли?…
Никогда он не любил этих типов, которые носят монокли. У человека с моноклем всегда презрительный вид. Релвас добил его:
— Я хочу просить вас об одном одолжении. Сущий пустяк! Никогда больше в своей поганой жизни не утруждайте себя приветствием в мою сторону. Вам понятно? — Он наступал на Араужо. — И не смотрите на меня так. Я не люблю такого холодного взгляда. Доставьте мне удовольствие, взгляните приветливей.
Выставленный на посмешище перед людьми, Мануэл Араужо беспокойно взглянул на судейских аукциона, точно прося денонсировать брошенный ему вызов, но, поняв несостоятельность избранной им защиты, грубо бросил:
— Долго ждать придется. И потом… они холодны от презрения.
Это было то самое магическое слово, которого, как позже говорил Релвас кучеру, он только и ждал.
Мощный удар в челюсть отбросил закричавшего вдруг Араужо на приличное расстояние; Релвас подошел к нему и каблуком сапога прижал его плечо к полу и, занеся над ним второй сапог, указывал ему глазами на зад, куда он собирался его приложить, — место, по которому бьют трусов.
— Сейчас ты заговоришь по-другому!
Тут к Релвасу подошли и попросили не устраивать скандала, гак как собирался народ. Ведь это стыд для обоих — все-таки родственники.
— Родственники ли, это еще вопрос. Большой вопрос. Я не имею ничего общего с этим сбродом…
И он пошел к поджидавшему его экипажу. Вслед ему полетела какая-то угроза, но он даже не обернулся. Потом, уже сидя в экипаже, вспомнил, что не дал кое-какие распоряжения нотариусу, и, приказал кучеру подогнать экипаж поближе к месту происшествия.
— Бумаги о покупке имения оформите на имя Эмилии Аделаиде Вильяверде Релвас.
— Ваше превосходительство хотели сказать Релвас Араужо, — поправил нотариус с извиняющимся видом.
— Я сказал: Релвас. Моя дочь — Релвас, и только Релвас. И не забудьте это!
Возвращаясь из Лиссабона, он посмеивался. Заехав в имение Кампо-Гранде, он вручил бумагу Эмилии Аделаиде, но они не обменялись ни единым словом. Однако в голосе дочери зазвучали радостные нотки, те самые, которых он не слышал после похорон зятя. Рука с кнутом протягивала теперь пряник. Однако лошадь, что сидела в дочери, не лизала ему руки — это как бы возвышало ее.
Она не унижалась. Тем лучше.
И то, что она не унижалась, было истинной причиной, почему он пошел в клуб.
Плоть просила праздника любви, но в этот день он решил обречь себя на целомудрие. Лучше завтра… Да, так что через десять часов он навестит одну из трех вдов, этих граций, как он их ласково называл. Ролин тоже знал их и шутя спрашивал его:
— Так на каком полустанке ты остановишься сегодня? Ролин любил употреблять железнодорожную лексику.
Это будет ему известно только завтра. И возможно, все решит орел или решка — так всегда проще.
Сейчас же ему хотелось совершить небольшую прогулку, чтобы размять ноги. По берегу Тежо. Потом он в одиночестве поужинает и пойдет в театр. Совесть ему говорит, что он достоин театра. Нет-нет, ночь с Розалией сегодня ни к чему: он откажется от нее ради дочери, которая не любит галисийку. Диого Релвас это знает и пойдет ей навстречу (только раз, это ясно!), без какой-либо просьбы со стороны Эмилии Аделаиде. Ведь Эмилия Аделаиде плоть от его плоти. А Релвасы никогда не просят.
Глава VIII ДВА ПАСТУХА ПРОСЯТ РАЗРЕШЕНИЯ ПОЯВИТЬСЯ НА СТРАНИЦАХ РОМАНА
Не просят. Предлагают свои услуги. И этого вполне достаточно, чтобы пойти им навстречу. Другие же, те, что у них в подчинении, держатся в сторонке, чтобы, не дай бог, не наступить на их тень. Это один из мифов семьи Релвасов. Если мне не изменяет память, то дед Кнут говаривал частенько следующее: «Мужчины из нашего рода умирают стоя и не разрешают наступить на свою тень».
Вот исходя из этого принципа, проводимого в жизнь Релвасами, и приходишь к заключению, что достоинство появилось на свет благодаря их усилиям. Когда Релвасы приносят сетку с фруктами из своих садов или горсть пшеницы со своих полей или останавливаются около ими самими выращенного коня или быка, они знают, что это — лучшее, и ничего лучше быть не может, и называют это лучшее единственно точным словом, поднимая себя на пьедестал: это достойно.
Ради достоинства они и живут.
Все, что недостойно, будет продано как не имеющий имени продукт, сожжено или убито, как это случается с некоторыми жеребцами и кобылами, уже имеющими тавро дома Релвасов, но не оправдывающими его. Тавро очень простое: буква «Р», взятая в треугольник, и все. С быками, которые оказались слабыми, поступают еще хуже — их холостят, приучают к ярму и длинной палке с железным наконечником, которой их погоняют, и возят на них все что придется. Не родившись породистыми, достойными смерти на аренах под жарким солнцем Испании и в жарком бою, они влачат свою жизнь как жалкие рабы, как та оборванная чернь, что приходит сюда, в имение, подработать на прополке и жатве. Их не щадят даже пастухи дома Релвасов — ни поденщиков, ни быков, которые становятся рабочим скотом, хотя подчас сами же виноваты в их несчастье, чаще всего случающемся в момент укрощения.
— Так вот слушайте, если, конечно, хотите, теперь я припоминаю: это был как раз один из таких быков, по прозвищу Птицелов; он-то и убил Жоана Педро Борда д'Агуа, когда тот подошел к нему ближе обычного, чтобы поправить ярмо, которым его скрепили с двумя другими, спокойными быками, имена их сейчас не приходят мне в голову. Хотя, кажется… одного, того, что рыжее всех был, вроде бы Тяжелым звали. А другого… Нет, не помню. Да и к чему? Лодырь Птицелов был мерзавец, как это стало ясно в то утро. Он ревел, рыл землю копытом и тряс головой, чтобы сбросить тяжелый груз: упряжь и седло он готов был тащить за собой, уйдя за пределы поля, и шел послушно, только когда на него опускалась палка с железным наконечником, да и то вставал и падал и не смирялся, никак не смирятся, отчего Салса — старший пастух дома Релвасов — уже проклинал свою судьбу, понимая, что ничто не спасет его от увольнения, если хозяин узнает, что бык сохранил свой прежний норов, несмотря на перенесенное физическое страдание. И это был бы конец Салсе как пастуху, ведь никто бы из хозяев даже на год его не нанял. А это срам роду Салса! Ведь он сказал Диого Релвасу: «Птицелов — бычище видный, но кроткий». Хотя нам он говорил другое: «В тот день, когда его отправят на манеж, всем нам будет худо. Не доведем. Сбежит». Хозяин стал спрашивать Салсу, каких же кровей этот Птицелов; он-де от племенного испанского быка и коровы Неженки — неплохих вроде бы, но случается… как и у людей, одинаково. Тогда впрягай его в плуг, сказал хозяин, раздраженный услышанным. К подобному решению Диого Релвас приходил непросто. Проще ему было решиться вырвать собственный зуб, чем пойти на такое. И я, да, я, Жоан Атоугиа, был тем, кто взял Птицелова из стада и привел его на скотный двор. В тот же день его и холостили, делал это сам Салса, он накинул мешок на его хозяйство и молотком бам-бам-бам, пока не искрошил все, что там было, иначе еще какой-нибудь пастух раструбил бы обо всем этом при удобном случае по всей Лезирии [36], а это все равно что самому все рассказать хозяину. Вот так начинается мученическая жизнь животного, когда хотят, чтобы оно работало. Работа — это ведь штука проклятая!.. И для быков тоже! Я расскажу, что выносит бык, ступив на этот злополучный путь. Но надо сказать, что, когда у животного после холощения проходят боли, оно становится печальным, печальнее, чем человек после того же самого, а до этого в нем сидит вроде бы целая свора больших и маленьких чертей. Ведь даже понять невозможно, как такое огромное животное может высоко прыгать…
Ну а потом, после всего необходимого, его начинают приучать к особому деревянному плугу, которым обрабатывают землю летом, он тяжелее всех остальных и даже с колодкой, ее надевают на переднюю ногу животного, а под цепочку мундштука протягивают веревку с грузом, на рога же наматывают крепкие пальмовые волокна. Избави бог! — да еще соединяют рога деревянным замком.
Птицелов был крупноват, крупнее обычного, темный, с жесткой шерстью на лбу и мощными рогами, что правда, то правда. Его уже два дня держали в колодке, и, казалось, он свыкся со своей участью. А на третий день, вот так же с утра, принялись опять его черти изнутри драть, а он скакать что твой заяц, ой, братцы! Падал, поднимался, поднимался и падал и шел не отдыхая, потом стал реветь, хотел вырвать у нас сочувствие, а потом и вовсе бросился наземь. Я, это, подхожу и говорю: бык-то бесится. Тут Жоан Педро Борда д'Агуа принялся смеяться деланным смехом, от расстройства это, ну а старший приказал принести сухой чертополох и подпалить хвост Птицелову. Ой, братцы!
Все быки, когда это самое мы с ними проделывали, брались за ум, а этот истошно заорал и тут же вскочил на ноги и, храпя, пошел на Жоана Педро, пошел уверенно и всадил ему рог в бедро, боже милостивый! Поднял его, бросил в воздух и ждал, когда тот упадет, и еще раз взял на рога, и еще. Я хватаю его за хвост и тяну изо всех сил, а все кричат и бьют его крюками, а он хоть бы что, держит Борда д'Агуа между рогами и мордой, пока не почувствовал, что течет по нему человеческая кровь.
Тут он поднял голову и тряхнул ею, чтобы освободиться от жертвы, и освободился, а все тут же отпрянули и попрятались за парой быков, везущих старье. А бык застыл на месте с мертвым Жоаном Педро между передними ногами… и глядел на нас так, что только тот, кто ни разу не видел быка, мог сказать бы, что быки без соображения. Мы должны были пойти за волами и двумя лошадьми, чтобы вытащить Жоана Педро. Вот так-то! Жоан Педро был истерзан, что твой Христос.
А когда узнал хозяин?! Когда узнал, то первое, что он сделал, это посмотрел на Салсу испытующе, с недоверием, ну и сказал: раз Салса хотел быка для плуга, так тому и быть, бык будет ходить в ярме и даже Святой Изидро не освободит его от того ярма, — сказал как отрезах. Тогда Салса снова прошелся молотком по причиндалам быка, но теперь по семенникам, да так, что животное рухнуло от боли, как мертвое. Это уж было слишком! А вот кому повезло после этой истории — это сыну Жоана Педро: хозяин взял его к себе на полное обеспечение, конюхом, присматривать за лошадьми его детей. Он ведет жизнь дворянскую! Вот только матери парня не по душе его работа. Дурацкое занятие! Говорят, чует материнское сердце беду. Бабские глупости!..
Как я уже говорил до появления на страницах романа Жоана Атоугиа, Релвасы не просят. Не просят сами и не любят, чтобы их просили.
Релвасы сами знают, когда и что они должны дать. Клянчащие да жалующиеся не сотрут от усердия башмаки ради хозяйского блага. А уважение — обязательно, и каждому по заслугам, но никакого панибратства или снисхождения. Пастух Релваса, лошадь и все остальное, что имеет тавро дома Релвасов, должны вести себя подобающим образом, с достоинством.
Женщины семейства Релвасов — вот они могут быть милосердными, это по их части. Все они учат испанский, французский или английский, ну и немного берут уроки музыки — и ни одна не собирается объехать весь свет, как то совершила племянница хозяина Жоана, царствие ему небесное, — уроки географии, тоже немного, ну и истории Европы, только Европы, все прочее ни к чему, еще рисование на шелке, ведь это так красиво и такой хороший подарок, как и любое вышивание, и все без исключения, каких бы слез им это ни стоило, умеют сидеть в седле, как настоящие наездницы, ну и оказывать милосердие тем, кто его заслуживает.
Кнут — дело мужчин, с разумом использующих его, пряник — женщин, сердечно посещающих больных в Алдебаране, помогающих беременным и устраивающих в больницы тех, кому клистиры и банки домашнего врача доктора Бернардино уже не помогают. Каждый год в пользу больницы Релвасы организуют бой молодых быков, для участия в котором в поселок съезжается цвет мастеров своего дела. Это и всадники, и тореро, и бандерильеро, и форкадо [37], как молодые, так и старые, и очень редко перед их именами не стоит маленькое слово «дон», которое так много им дает, красуясь на афишах, и все для того, чтобы чернь видела, что праправнук наместника Индии, работая с быком, орудует палкой с железным крюком не хуже, чем его предок орудовал копьем, вонзая его в тело азиата, или еще чей-нибудь праправнук умеет подать всаднику разноцветные бандерильи с тем же изяществом, с каким его прадед старался преподать дикарям далеких континентов европейскую культуру.
Праздник всегда отличает изящество: ложи заполняются дамами — представительницами тех же генеалогических деревьев, к которым принадлежат и тореро, — украшающими парапет manteau [38], на которые они же, эти дамы, облокачиваются; в перерывах организаторы праздника раздают сувениры, и все это сопровождает настоящая испанская музыка, и ни одной бандерильи, и ни одного броска форкадо на быка, которые не были бы кому-либо посвящены.
Диого Релвас председательствует как сам бог, каковым и является для всех присутствующих на корриде. Он вспоминает Испанию и улыбается. Это, пожалуй, один-единственный случай, когда чернь может видеть его улыбку. Возможно, многие только потому и приобретают билеты на корриду. Л он сверху, надменный и щедрый, памятуя о доходе, который получит с этой корриды, бросает сигары тем, кто посвящает ему очередного быка, и аплодирует, облокотившись на поручни ложи, тогда как все сидящие и внизу и на галерке в восторге глядят на него и аплодируют ему. Тут возникают и маленькие состязания: кто кого победит в аплодисментах.
Вот потому-то женщины дома Релвасов распоряжаются в больнице, хотя республиканцы уверяют, что это все делается Релвасом на доход с проданных билетов. Злословие политиков!.. А во сколько ему обходится ужин, который он устраивает в эти вечера победителям!
Теперь, если разрешите, расскажу я. Кто я? Шестипалый слуга, как есть слуга, и служил я шестнадцать лет своему хозяину Диого. А бой молодых быков был что надо! И для тореро, и для всех, надо сказать прямо. А вот после боя мы отправлялись в имение, в амбар, что стоял около конюшни. Я ходил за жеребятами и был лучшим танцором фанданго во всем Алдебаране. Если кто другого мнения, пусть смело скажет, что это не гак. Фанданго — это моя гордость, потому-то я частенько, бывало, и танцевал здесь, в краю заливных земель, даже в одиночестве; вставал перед деревом и танцевал перед ним так, как мне хотелось, вниз от бедер все ходило ходуном, а верхняя часть тела даже не шевелилась. Носком и каблуком башмака такую музыку выбивал, что твой аккордеон. Но в ту ночь пришел моим танцам конец. Как вспомню, аж кровь стынет.
Ну там, то да се, да разное прочее, словом, праздник шел своим чередом. Ели и пили в два горла, ведь это только дворяне держат фасон, не едят. Ну и чем дальше, тем больше… а по лицу хозяина Диого было видно, что ему не по душе такое… одни, упившись, вставали и, повиснув на других, шли, качаясь из стороны в сторону, потом вдруг начинали бить по башке тех, за кого держались, и говорили, что не нуждаются в их помощи, и тут же падали. Я видел даже, как чуть не грохнулась одна сеньора, а уж всякие там вольности… Ну, то да се, да прочее разное, но не все ж, что я видел, нужно рассказывать, но вот одному дураку-мужу надо было глаза-то раскрыть.
А тут двое музыкантов стали гитару настраивать, гитару и скрипку, ну и тотчас к небу понеслось фадо[39], да такое красивое, и вдруг хозяин Диого приказал всем нам уйти, чтобы мы, скажем, не все видели. «Идите отсюда, я вас потом приглашу, тех, кто танцует фанданго». Тут я и сказал про себя: «Шиш тебе, а не фанданго», — я ведь тоже был навеселе, точно был навеселе, иначе бы не влез в такое дело. Разобрало меня тогда здорово, надо же — людей выгнать во двор и пусть сидят и ждут, когда их изволят пригласить станцевать фанданго. Но мы отплатили всем этим дворянам: принялись выкладывать друг другу все, что про них знали и слышали. А в это время Атоугиа вынес одну их дамочку на руках — вот гак-то, ну, то да се, да разное прочее.
Но и хозяин Диого долго гам не пробыл и вскоре вышел вместе с сыном Мигелем и барышнями, они шли, тихо переговариваясь, должно быть, очень сердиты были, раз не ответили на наше приветствие — мы все стояли и держали береты в руках, а им хоть бы что, никакого внимания! Никогда такого не бывало, ведь даже если самый что ни на есть бедняк, встретив на дороге Диого Релваса, поприветствует его, Диого Релвас обязательно ему ответит. Мы ждали, что будет дальше, и когда вдруг увидели свет в Башне четырех ветров, пошли в сторону Башни.
— Шестипалый, — окликнул меня хозяин Антонио Лусио, как только увидел. — Тут затевается фанданго… И один дворянин хочет с тобой поспорить в умении танцевать этот танец. Как, не спасуешь? Не подведешь?
Тут— то и ждала меня погибель… Если бы он меня так не спросил, может, ничего бы и не было! Но тот граф или кто он там был, прежде чем я успел ответить, указал мне на бутылку хорошего вина, которая была премией для победителя, и победитель, сказал он, должен ее выпить до дна одним духом. А там, где танцевали, уже никто не узнавал друг друга, все было перепутано, в одном углу трясли бедрами, в другом трясли бедрами, а это такая зараза — все равно что желтая лихорадка или что-то в этом роде, но то была лихорадка другого цвета, человек-то ведь не чурбан какой-нибудь; вот и я, никогда не состязавшийся в фанданго с кем-либо из хозяев — но то был приказ хозяина Диого, — глядя на всех этих дворян, занесся в гордости. Снимаю я, это, куртку и швыряю той, что мне улыбается, спускаю курчавую прядь волос на лоб из-под берета и, ой, братцы!.. Ой, братцы мои, сую, это, я пальцы в карманы жилета, выхожу вперед и начинаю отбивать чечетку то в одну сторону, то в другую, точнехонько так два раза влево и тут же удар с прыжком и еще удар носком ботинка, а потом возвращаюсь на середину уже другим шагом и все то же повторяю вправо, и так три раза туда и три раза сюда, и как только снова оказываюсь на середине, иду своим мелким шагом — это очень красиво: нога отрывается от пола только после того, как ударишь по нему, и отрывается, вроде бы от чего-то освобождаясь, а от чего — не видно, и повторяю все это четыре раза, каждой ногой, а потом заканчиваю танец, выбивая чечетку каблуками, и с вызовом поглядываю на дворянина, уступая ему место. Все хлопают, а я ищу ту глазастую и вижу ее со своей курткой на груди, рукава вот так назад брошены, вроде бы я ее обнимаю, ой, братцы!., и такое меня разобрало, такое… такое случается, только когда проведешь в поле один-одинешенек недели две — не меньше, и кажется, что ноги сделались огромными и все тело тоже, и жар вот здесь, и, уже не обращая внимания, что дворянин еще не кончил свои обезьяньи ужимки — это у него называлось фанданго! — бросаюсь вперед, делаю два прыжка, ударяя в воздухе каблуком о каблук, и тут же опускаюсь на корточки, чтобы выбросить правую ногу, а потом левую, и так несколько раз кряду, и все в лад, я был весь мокрый как мышь, но опять прыгаю, опять лечу — ноги вместе, чтобы перейти к другому коленцу, и, повернувшись к ней, чтобы ей было видно, начинаю выделывать ногами такие кружева, то и дело постукивая носком и каблуком; зад мой и ноги ходят ходуном, а верх замер, застыл, вроде бы окаменел, но это только казалось, потому что на самом-то деле я горел как в огне.
Мне всегда неловко, когда я об этом рассказываю… Все началось с аплодисментов, потом меня подняли на руки, чтобы качать, потом то да се, да разное прочее… Это был самый счастливый и самый несчастный вечер в моей жизни… Дают мне эту бутылку с вином, а та, что держала мою куртку, становится напротив, так, чтобы я никого, кроме нее, не видел, и кладет руки мне на талию, ой, братцы мои! и говорит мне что-то непонятное, только тут до меня дошло, что она иностранка, француженка, а может, еще какая, и я даю ей бутылку, чтобы и она выпила за наше здоровье, и надо же, чтобы взбрело мне, дураку, в голову прижать ее к себе — вот так, со всей страстью. Тут все замолкают, воцаряется тишина, а сердце мое екает…
«Антонио Шестипалый!» — гнусавым таким голосом крикнул кто-то… Если бы я признал голос хозяина Диого… А глазастая уже вцепилась мне в волосы, я стараюсь оторвать ее, то да се, да прочее разное, как вдруг получаю удар в ухо, вот в это самое, до сегодняшнего дня все еще шумит внутри, шумит и не перестает шуметь. «Это еще что?!» — кричу я, вышедши из себя. И схлопотал новый удар, за ним другой, третий. Тут все принялись смеяться, вырывают у меня эту иностранку, а она вырывает у меня клок рубашки, проклятая! И тут я оказываюсь лицом к лицу с хозяином, и он отвешивает мне одну оплеуху за другой, а я сдерживаю всеми силами ярость, сжимаю руки и сам до сих пор не понимаю, как это у меня получилось: врезался я головой ему в подбородок и полетел Диого Релвас вверх тормашками. Вот тогда я сказал себе: «Тоиньо, ты пропал!» Так оно и было, разрази меня гром: до самой двери я танцевал под градом ударов, пинков и зуботычин, по возможности отвечая на них, а когда оказался на улице, вскочил на стоящую во дворе кобылу и бросился прочь. Знать бы куда?! Но, если бы я не сбежал, они бы меня убили.
Кружил я вокруг имения в надежде, что хозяин забудет о случившемся, не один месяц, и однажды ночью удалось мне подойти к своему дому, чтобы узнать от жены, что и как, не просила ли она Релваса и его детей простить меня, но когда я постучался в дверь, открыла мне не жена, а мать Аррегасы; она-то мне и рассказала о том, что семью мою выгнали из дома, должно быть, они в поселке, и что лучше мне самому прийти с повинной, так как власти уже меня разыскивают, потому что хозяин пожаловался, что я избил его и украл его лошадь… Мерзавец! Мерзавец, нет ему другого имени, потому что ведь я никогда больше не найду себе дома.
С тех пор фанданго я не танцевал никогда… Разве что пришлось поплясать в полицейском участке и под сухую. Вот так! Уж и проклинал я бывшего хозяина и до сих пор только и призываю проклятье на его голову. Ничего так не желаю, как этого… Ничего!
То был последний ужин, который устраивал Диого Релвас в честь участников корриды. Антонио Шестипалый вынужден был уйти с семьей в Лиссабон, потому что здесь, в этих краях, ни работы, ни жизни ему бы не было.
Но это вам покажется не таким уж страшным, если вы узнаете, что дядя Диого Релваса, сын Кнута — Мануэл Фелипе, был выставлен из дома и сослан в одно алентежское имение только из-за того, что ослушался отца. Причину ссылки никто достоверно не знал, но о ссылке Мануэла Фелипе всегда в назидание напоминали непокорным. Известно, что в районе Кубы есть одно уединенное имение, охраняемое сторожевыми псами и охотниками, откуда сбежать невозможно. Вот там-то и провел Мануэл Фелипе более четырех лет и вернулся, только когда Кнут был уже на смертном одре.
Старики Алдебарана рассказывают, что Мануэл Фелипе был белый как лунь и борода по грудь тоже белая. Он ни с кем не разговаривал. Но если стариков спросить о нем, они пожимают плечами и крестятся. Известно только, что он умер вскоре же после смерти отца и его тело было похоронено на деревенском кладбище. Кнут оговорил это в своем завещании — не хотел, чтобы такой сын лежал в земле рядом с ним. Ни с ним, ни со слугами, заслужившими право быть погребенными рядом с хозяйской семьей.
Глава IX ПАРТИЯ БЫКОВ ДЛЯ МАДРИДА
Зе Педро Борда д'Агуа, сын того пастуха, которого убил бык Птицелов, пришел к загонам, где были собраны по приказу хозяина двенадцать быков, их он отобрал сам вместе со старшим погонщиком еще накануне.
В Мадриде должна была состояться коррида, на которой собственной персоной собирались присутствовать и король Испании, и инфант Португалии и для которой Диого Релвасу было предложено поставить партию быков, обеспечив корриду с участием двух севильских матадоров и одного кордовца целиком — честь еще ни разу не выпадавшая на долю клейма Релвасов с тех пор, как Кнут стал выращивать быков. Обязательство о поставке в Мадрид уже было подписано, однако это обстоятельство нимало не уменьшило для Релваса значение отбора животных. Он хотел все сделать на высшем уровне, а потому провел много часов, оценивая только что клейменных быков, принимавших участие в корриде молодняка, и выверяя родословную каждого, родившегося за последние четыре года в его стадах, а потому приказал Салсе вести животных шагом, до самых загонов Брода. Двенадцать отобранных быков уже месяц были на строгом рационе. С затратами Релвас не считался. Он понимал, что дому Релвасов предоставлялся благоприятный случай показать себя, и тут уж никаких случайностей быть не должно, хотя поведение животных на арене предугадать вообще-то невозможно, так как оно зависит не только от животных, но во многом и от умения пикадора. Однако честь скотовода проверяется именно тогда, когда он показывает свой скот. Диого Релвас знал, что по весу, здоровью, упитанности и боевому духу его партия должна произвести хорошее впечатление. Прекрасные быки не дадут спуску матадорам, но вот масть, масть у него вызывала сомнение. И это продолжало его мучить, даже когда он, сидя в лодке под парусом, следил за переправой партии на другой берег Тежо.
Трое детей хозяина отбыли на вороных со снежными пятнами на крупе и лбу; кобыла же Марии до Пилар была в крупных пятнах и со звездой во лбу; она была лучшей из лучших, потому что ее выбирал Зе Педро, он очень надеялся сопровождать барышню. Однако хозяин приказал дочери ехать с братьями, а пастуху, в услугах которого нуждался, — следовать верхом на лошади за фаэтоном, где ехали приглашенные и он сам.
Из— за опоздания Фортунато Ролина они несколько припозднились, и на заливных, землях Лезирии уже стоял зной. Группы жнецов приветствовали хозяина. В этом году пшеница вызрела своевременно — похоже, год обещал быть хлебным.
Зе Ботто высказывал свою озабоченность американским кризисом, несмотря на то что с «черной недели» уже прошло более трех лет. Жоан Виторино его успокаивал, говоря, что для португальцев куда хуже кризис в Англии. Обычно молчаливый Перейра Салданья попытался вмешаться в разговор, но исходивший от полей аромат вызвал у него аллергию, и он не переставая неистово чихал.
— Нет, у Жозе Ботто все-таки есть причина опасаться именно американского кризиса, — возразил лиссабонский банкир Секейра.
— Дорогие сеньоры, кризисы необходимы, — отозвался Релвас, прикрикнув на пятерых идущих в упряжке коней.
— То, что вы говорите, чудовищно, — возмутился Зе Ботто.
— Продолжайте, Релвас, продолжайте, — попросил банкир. Хозяин Алдебарана резким движением откинулся назад, чтобы сидящие сзади лучше слышали, и сказал, повысив голос.
— Для меня, к примеру, кризис — это чаще всего начало новой игры… Благоприятный случай испытать тех, кто располагает деньгами, проверить, достойны ли они иметь их в кармане или, скажем, есть другие, новые силы, вполне заслуживающие маршальского жезла.
— Не говорите так, дружище! — бросил Ролин, который расстегнул куртку и обмахивался шляпой с жесткими полями. — Кризис-всегда бедствие!..
— Да, но Релвас помнит, какие доходы ему принес последний, и потому так говорит, — решил поставить точку над «i» Зе Ботто, продолжая поглаживать жидкие бакенбарды.
— Я был начеку… Похоже, именно это, Зе, тебя заело! — резко, точно стегнув кнутом, оборвал его Релвас.
— Сеньоры, не ссорьтесь, не затем же мы едем, — взмолился банкир, стараясь унять заносчивых молодых людей.
Но Зе Ботто знал, к чему клонил. Он до сих пор не понимал, с какой это стати Диого всякий раз приглашает его на клеймение и корриду, но Релвас мог бы ему ответить, что врагов приятнее иметь на прицеле, тогда они менее опасны. Оба они думали об одном и том же: о деньгах, которые хозяин Алдебарана получал в кредитной кассе из пяти процентов годовых, а ссужал из двадцати пяти и выше, и все законно, за всеми подписями, вот потому-то в его руки и перешел особняк дона Торкато вместе с садами, огородами, а также несколько гектаров очень хороших пастбищных и заливных земель по берегу Тежо.
От жары Зе Ботто дышал, как кузнечные мехи, и исходил потом.
— Я умираю от жажды…
Про себя Релвас его поправил: «Врешь, толстый, от зависти!»
Они уже были совсем близко от того места, где находились загоны для быков, когда землевладелец дал знак Зе Педро Борда д'Агуа, чтобы тот предупредил управляющего фермой, и тут же крикнул ему вслед:
— Я хочу видеть быков до обеда.
И только потом спросил приглашенных:
— Если, конечно, друзья мои со мной согласны…
Все были согласны, как же иначе, тем более что каждый из них мог заглянуть на кухню и что-нибудь перехватить до того, как сесть за стол. Релвас же, чтобы разжечь их аппетит, рассказал им, что их ждет суп из камбалы и креветок — дары Тежо — с рисом, да, вот так-то! Копченые угри на вертеле и козленок с молодым картофелем. Ну а уж лакомые блюда Китерии были знакомы всем.
— А сладкий рис, каждую рисинку которого осеняет крестом падре Алвин, Китерия приготовила?
— Китерия — сама рис сладкий, — поправил говорящего Ролин.
— Да, должно быть, молодая она была хороша собой? Так, Диого?
— Ты же знаешь, что я не заглядываюсь на лица служанок…
— Да что ты говоришь! Валишь их, накинув им что-нибудь на голову?
Диого Релвас улыбнулся шутке Жоана Виторино, а Зе Ботто еще долго покатывался со смеху по поводу услышанного.
На обнесенном изгородью участке привольно, точно дикие стадные животные, паслись двенадцать быков. Диого Релвас попросил у Зе Педро кобылу серой, светло-мышастой масти и вошел в огороженный загон вместе со старшим погонщиком. Оба были вооружены длинными деревянными палками с острыми железными наконечниками. Мария до Пилар попросила разрешения у отца сесть в седло вместе с Зе Педро, но землевладелец пообещал ей, что подгонит быков к железной ограде вплотную, чтобы все могли рассмотреть мощь и окраску животных. Мария до Пилар надулась.
Ей было четырнадцать. Свежесть утра и юность румянили ее смуглое лицо, делая выразительными зеленоватые глаза. «И рот, который напоминал спелый разрезанный арбуз», — думал лиссабонский банкир, и все землевладельцы, и пастухи, только что ее увидевшие. Мария до Пилар сняла жакет, оставшись в белой блузе, которая подчеркивала грациозность ее стана, вынула ноги из стремян и села боком, следя за отцом и пастухами.
Видно было, что подъехав к животным, Релвас медлил. Хороши были все: гладкие, холеные, чистого веса так килограммов пятьсот. Он уже предугадывал, как будут они себя вести в схватке с пикадорами; может быть, одну из голов и нужно будет повесить вместо головы быка Землетрясение, что все еще висела в зале господского дома «Мать солнца». Может быть, очень может быть… Не следует ли оставить самого свирепого для следующей корриды, менее значительной? И который из них самый храбрый и достойный?! Он бы мог подобрать партию только из черных быков, трое были просто как смоль, чудо, а не быки! А мог — и это так соблазнительно, что он уже начинал сомневаться, — дать трех черных, а четвертого — черно-гнедого и чередовать их с быками светлой расцветки: черного с белым; но серый бык — вот это да! И чубарый Художник, за которого ручался старший погонщик, даже голову давал на отсечение, а Зе Педро советовал другого — черно-белого с пахом, выстланным белой шерстью, срединного — так называют таких быков.
Когда привели упряжку направляющих волов, он все еще не пришел к решению.
Слуги и дети знали, что его смущает, и тихо обсуждали то же самое. Марии до Пилар не нравился бык светлой расцветки из-за его головы: она считала ее уродливой. Диого Релвас пустил свою лошадь почти совсем рядом с быками, достоинство достоинству рознь, но что действительно достойно королевского корриды? И тронул одного быка палкой, жаля его железной осой на конце.
И тут вдруг чубарый Художник, когда хозяин уже было решил, что пошлет только черных, поднял голову и посмотрел на него. Обеспокоенный взглядом животного, Салса закричал:
— Эй, Художник! Эй-эй, Художник!
Бык тут же пошел к стаду, но все же, хоть и издали, бросал Диого Релвасу вызов, потрясая своими могучими рогами.
— Салса! Этот бык едет в Мадрид!..
— А какие еще, хозяин?
— Остальных выбирай с Зе Педро. Они все прекрасны. Это будет настоящая королевская партия!
Захлестнувшая его гордость побудила поиграть лошадью, и он заставил ее перемахнуть через изгородь. Подъехав к гостям, он пригласил их к столу.
Делить шкуру неубитого медведя Диого Релвас не любил. Но этот, похоже, был в его руках. Если коррида пройдет хорошо, он всех быков продаст в Испании. И получит круглую сумму.
— Хорошее, — повторял он за обедом много раз, — заставляет себя признать.
Все божественные лакомства были съедены, а вина выпиты — до капли! — они были прекрасным дополнением ко всему остальному. Диого Релвас разрешил сыновьям продлить удовольствие: посидеть за рюмкой. Антонио Лусио в конце года собирался жениться — очень может быть, он собирался это сделать зимой, а Мигелу Жоану двадцатого числа исполнялось семнадцать, да, точно, семнадцать. И поскольку Диого Релвас не брал их с собой в Мадрид, он решил закрыть глаза на то, что сегодня они увлекались вином. Он, собственно, тоже не отставал ни от них, ни от гостей, которые восхищались винами Борбы. — «Белое — просто нектар», — утверждал захмелевший банкир Секейра.
Тщеславие Релваса особенно взыграло, когда он увидел партию быков, отделенных oт общей массы маленьким загоном. Салса подал ему список животных, который был составлен управляющим. Диого Релвас пробежал его глазами и поехал вокруг загона.
— Мы тут поспорили с Зе Педро, — сказал Диого Релвасу старший погонщик. — Я ставлю пять мильрейсов на Художника, а он тоже пять, но на Гитариста.
— Чего там, ставь сто на всех сразу, — ответил землевладелец. — В Мадриде получишь… Потратите там на испанок.
Салса был изумлен либерализмом хозяина. Но совсем он обалдел, когда услышал, как хозяин говорил Зе Педро, чтобы тот пошел за конем, которого так нахваливает, потому что хочет видеть парня в схватке с молодым бычком — ведь только здесь, в Рибатежо, понимают толк в хорошем наезднике и верховой езде. Восемнадцатилетний Борда д'Агуа. храбрый от природы, прямо так и вырос у всех на глазах на две пяди. И тут же стремглав бросился к конюшне, в то время как Зе Таварес получал приказ подпилить рога полуторагодовалому, очень красивому ломбардскому бычку.
Диого Релвас словно помолодел. Он приказал всем слугам сесть на низкорослых крестьянских лошадок, обязательно вооружившись длинными палками с острым железным концом, а детям велел, чтобы они его сопровождали. И объяснил лиссабонскому другу:
— Вы будете присутствовать при зрелище, которое устраивалось в прошлые времена. В нем все Рибатежо! Так вот судите!
Салсе же Диого Релвас приказал образовать из сидящих на лошадях большой крут, а сам с детьми тоже на лошадях вошел в него. В этот момент сопровождаемый волами, которые под окрики пастухов сразу покинули круг, выбежал бычок. Зе Педро об опасности не думал. Взяв в руки оливковую палку, которая должна была ему заменить палку с железным концом, он готовил коня к бою за пределами круга, чуть давая ему шпоры. Он хорошо знал, что хозяин не прощал следов крови на боках лошади.
— Ну, — крикнул, оживившись, землевладелец, — в добрый час!
Всадники, уверенно сидя в седлах, приготовили к бою палки, чтобы достойно встретить бычка, если он пойдет на живую изгородь. Зе Педро уже был внутри импровизированной арены. Он сдерживал гнедого и показывал ему врага, заставляя коня идти боком, как бы конвоируя бычка и побуждая его действовать, в то время как тот, несколько растерявшись от такого количества врагов, посматривал то на Зе Педро, то на всех остальных всадников. И дважды принимался рыть землю, что разозлило Диого Релваса.
— А бычок-то ручной! — сказала Мария до Пилар, проталкиваясь сквозь строй пастухов, которые тут же расступились.
Увидев ее, Зе Педро воодушевился, стал подбадривать бычка окриками, пошел на него, чтобы вызвать у животного ярость, и добился своего: бычок двинулся на Зе Педро всей массой, опустив голову, но наездник повернул коня и нацелил на бычка палку. Однако бычок ушел от палки, и Борда д'Агуа, натянув поводья, пустил коня в полугалоп. Ну, кто кого? «Это опасно, особенно когда никто не страхует», — думали все пастухи, но не Зе Педро, который не выпускал из виду рогов животного и получал удовольствие, видя его яростные, но неудачные попытки боднуть гнедого.
Потом бычок остановился и оглядел всех, кто стоял, образуя арену. Он знал, что за нацеленными на него палками — свобода. И попробовал сквозь них прорваться, но испытал неприятные ощущения: в бедро вонзились два острых крюка и повалили его наземь.
Хозяин гордился Зе Педро как своей собственностью и крикнул ему, чтобы он принудил бычка к схватке. Честно говоря, Диого Релвас еще колебался, он не знал, кому отдать предпочтение: коню или бычку, ведь и гот и другой были отмечены его тавром. Меньше всего, пожалуй, хозяин думал о наезднике, который тоже не отдавал себе отчета в опасности. Сам не зная почему, Зе Педро считал, что сегодняшняя схватка — главная в его жизни. И опять стал дразнить ломбардского бычка, пустив коня шагом. Конь, похоже, брал верх над бычком: он гордо вышагивал и надменно, ничего не боясь, высоко держал голову.
— Эй, красавчик! — крикнул Зе Педро, поддразнивая бычка.
И тут они, бычок и наездник, каждый уверенный в своем оружии, готовые схватиться друг с другом, ринулись в бой: масти животные смешались, и гнедой отпрянул от черного с подпалинами взьяренного бычка. Зе Педро промазал, не попал в животное импровизированным копьем — этого он никогда не делал, и рука дрогнула, но конь Звездный не подвел того, кто обучил его так ловко маневрировать и не пасовать перед опасностью. Бычок снова, правда без прежней стремительности, попытался прорвать круг, хотя уже знал, что его колют иглы, если он идет на палки. А потому он пошел по кругу, повернув в сторону палок голову, но тут же, как только палка с острием приближалась, отходил подальше, не позорясь, внимательный ко всему, что его окружало. Настолько внимательный, что, заметив просвет между двумя кобылами, он тут же ринулся в него всем своим мощным телом, сметая все на своем пути, несмотря на то что железный крюк разодрал ему спину в том месте, где шерсть была посветлее. Послышались крики, топот лошадиных копыт, шум преследования, и тут же все увидели сидящего на сплетенных в виде носилок руках Салсу, у которого, как вскоре стало ясно, была повреждена рука. У кобылы же его кровило бедро, по которому прошелся подпиленными рогами бежавший с поля боя бычок.
Мария до Пилар мечтала первой, раньше отца, пожать руку Зе Педро и потому поспешила к нему навстречу. В знак почтения парень снял берет, но тут вдруг заметил, что девушка смотрит на него так, будто видит впервые, хотя они не раз скакали с ней по лесным угодьям имения.
— Дарю тебе этого коня, Зе Педро! — сказал Диого Релвас. — Как его имя?
— Звездный, хозяин. Он сын Ласточки и жеребца-производителя Алтера.
— Это ты его воспитал, а?
Бычок уже возвращался, весь в туче пыли, сопровождаемый скачущими на лошадях пастухами, которые вымещали на нем зло за нанесенную старшему погонщику Салсе рану, бросая в него палки. Но одного окрика Диого Релваса было достаточно, чтобы все прекратилось.
— Если еще кто-нибудь бросит в бычка палку, будет сражаться с ним один на один. Вот ты, например.
Сидя на лошадях, пастухи вздрогнули. Они хорошо разбирались в интонациях голоса Диого Релваса.
Глава X У ЧЕЛОВЕКА ДВЕ ТЕНИ
У славы своя цена, и это старое изречение. И та слава, которую на мадридской арене снискали быки Релваса, явилась как нельзя кстати для проверки истинности слов карлика Жоакина Таранты, ходячего оракула Алдебарана, и не только в делах житейских, но и в делах сердечных.
Наполовину поэт, наполовину колдун, он говорил, как будто выносил приговор, хотя вид был у него шутовской:
— У человека две тени: одна — ангела-хранителя, другая — дьявола. Обе они сопровождают человека по жизни, и обе покидают его, но всегда порознь. И человеку никогда не удается узнать, какая же из них сопутствует ему в ту или иную минуту его жизни. Звезды — вещь загадочная, человек — тоже загадка, но совсем иная.
И он, не отводя глаз, следил за какими-то знаками или воображаемыми тенями, которые он один и видел, видел сквозь прозрачные тела людей и вещей.
Когда Диого Релвас в сопровождении Марии до Пилар выехал в фаэтоне из ворот имения, Таранта вышел на дорогу, чтобы увидеть, как они скроются за поворотом и услышать удаляющийся цокот копыт пятерки лошадей. Двое сыновей Релваса — старший, наследник Антонио Лусио, и младший, Мигел Жоан, — тут же ушли, должно быть, хотели скрыть досаду, которая была на их лицах, потому что отец не взял ни того, ни другого в Мадрид. Релвас счел, что они должны остаться дома из-за молотьбы и других работ — так Диого Релвас надеялся дать понять слугам, что в его отсутствие за хозяина остаются его дети — продолжатели его дела. Однако оба сына прекрасно понимали, что только управляющий, бухгалтер и надсмотрщики, да, они, и только они, имеют право приказывать, и всем, включая их, наследников, хотя наследникам не изустно, а молча, незаметно следя за ними.
Этим и объяснялось, что Антонио Лусио и Мигел Жоан тут же, как только фаэтон повернул в сторону поселка, где отец и сестра должны были пересесть на поезд, повернулись и пошли к дому. (Здесь для нас одна неприятность — одна из теней, тень дьявола. Тень дьявола уже довела нас до того, что мы желали, чтобы отобранная для корриды партия опозорила отца с треском.)
Следом за ними ушли все остальные: служанка Брижида, плакавшая о своей девочке, падре Алвин, гувернер и гувернантка-англичанка, появившаяся в доме всего две недели назад, и несколько пастухов, приглашенных помочь управиться с чемоданами.
Жоакин Таранта остался в одиночестве. Держа берет в руке, он стоял и качал головой. Что-то виделось ему за этим путешествием — знать бы, что именно! — но, похоже, ничего хорошего, а если точнее, то видел он черные тени вокруг фаэтона, они точно траур покрывали хозяина, его дочь и четырех лошадей: двух сиво-чалых и двух бело-серебристых. А день был прекрасный. Теплый. И небо голубое, трепещущее.
«Не случилось бы там чего похуже, — думал карлик, — достаточно и того, что произойдет здесь за эти пятнадцать дней, я уверен. Без хозяина дом — сирота. И командовать все захотят. А каково тем, кто вынужден повиноваться!»
Похоже, Таранту мучили предчувствия.
В тот же вечер после ужина чернь Алдебарана высыпала к дверям своих домов, чтобы поболтать Друг с дружкой. Вечер был душный. Большинство мужчин еще находилось в Лезирии на жатве и молотьбе, год — благодарение богу! — выдался хлебный, и без них некому было припугнуть женщин, заставить подчиняться заведенному хозяином порядку и удержать их и ребятню в пышущих жаром домах. Женщины то и дело подходили к дверям. Но им хотелось не только подойти, а и выйти на улицу, и вынести тюфяки, и спать под открытым небом, надеясь, что хоть к утру с Тежо потянет свежим ветерком. В домах дышать было нечем.
Хозяин с Марией до Пилар — этим «парнем в юбке», как потихоньку между собой называли ее старухи, с удовольствием проводит время в Испании, а они по крайней мере с удовольствием подышат свежестью здесь, около своих домов, «лежа на перинах», как говорила одна жница, которая жила с Зе Каретником. Все это говорилось тихо, никакого шума или песен, которых им так хотелось, не было, они себя сдерживали, боясь нарушить вдруг обретенную радость от соприкосновения с землей.
И у двери дома матери Зе Педро собралась бы вся деревня, если бы она не ушла спать. Отношение хозяина к ее сыну, теперь еще то, что он взял его в Мадрид, и дружба с барышней — все ее пугало. Она стояла на своем. «Как бы там ни было, — говорила она, вся дрожа, — но мой дорогой сыночек не вынесет ни зависти, ни дурного глаза этих людей. Не для его доброго сердца все это, нет».
Парень был самонадеянным, как и все Борда д'Агуа; она вспоминала, что ей рассказали об его успехе в схватке с бычком на открытом поле и о подаренном Звездном, и это ей казалось пределом счастья, какое можно желать бедняку. «Но когда бедняк, прости меня господь, если что не так скажу, ест курицу, то кто-то из них двоих болен».
А соседи приходили к ней узнать новости — ведь вся деревня говорила, что теперь Зе Педро станет пикадором, так как хозяину что втемяшится, то он и сделает. И несчастная мать гордилась и печалилась успехами сына в одно и то же время. А в тот вечер, чтобы не слышать всех этих сплетен, которые могут накликать беду, легла раньше всех в деревне.
А вечер все еще дышал жаром. И как это их мужики там, в Лезирии, выносят ад молотилок? И саму жатву?! Святая Мария! Как же тяжело достается хлеб тем, кто его растит! Но сегодня они могли подышать ночным свежим воздухом, ведь хозяина, который не разрешал это делать, не было дома в такой поздний час. Это им доподлинно известно.
Маленькие дети уже спали на руках матерей и бабок, а молодые девушки наполнили водой всю имеющуюся в доме посуду только потому, что у источника с тремя желобками они могли пофлиртовать и позлословить со слугами Релваса. Устав от шуток, сплетен и историй, все хотели спать. А время шло, и от земли веяло прохладой. Со стороны Тежо подул ветерок. Пора бы! Такая жарища, боже правый!
Как бы напоминая, что время не стоит на месте, церковные часы отбивали каждые пятнадцать минут. И вот пробило одиннадцать. Когда послышалось двенадцать ударов, у источника не осталось ни души — всех как ветром сдуло, сдуло потому, что в этот час к нему приходят пить воду и расчесывать волосы ведьмы [40]. А ночь такая теплая…
Но вот ухо спящих уловило какой-то далекий топот. Вроде бы лошадиный. Кто бы это мог быть в такой поздний час? Ведь уже полночь… Должно быть, какой-нибудь задержавшийся дольше обычного в господском доме «Мать солнца» пастух. А может, несчастье какое? Оно теперь так часто: молотилки — это изобретение дьявола. Они не только отбирают работу у бедняка, но и убивают его. Управляющие и хозяин предупреждали, что с молотилками нужно быть осторожными, но им-то, бабам, хорошо известно, что все беды от дьявола. Ведь хлеба благословенней не было, чем тот, что раньше знал только руку земледельца и чрево земли!.. Так кто бы это мог быть в такой час?
Чутко спящие женщины проснулись и начали прислушиваться, а когда часы смолкли, стук копыт стал явственней, ближе. Иисус, святая Мария! Что это? Земля прямо тряслась от этого топота, удары копыт были тяжелыми и глухими и отдавались гулким эхом. А тут еще на церковной крыше заухала сова — должно быть, совы и ведьмы пьют масло из лампад алтаря и из той, что в арке, в конце улицы…
— Святая Мария, что я вижу! — заголосила вдруг одна старуха, воздевая к небу трясущиеся руки.
Тут вся улица запричитала, заплакала и принялась читать молитвы.
Все, все видели, видели своими собственными глазами, как земля поглотила белую лошадь, белую и огромную, с оборотнем на спине, тоже белым, ой, Иисус, меня всю затрясло, волосы встали дыбом, и платок поднялся вместе с волосами, меня как иголками кололо, а лошадь шла, и от ее шагов сотрясалась земля и эхо неслось во все концы, точно земля была огромным барабаном и тоже бежала, бежала из-под ног этого призрака. Тут весь Алдебаран стал молиться у зажженных лампад. Никогда еще здесь не молились в столь поздний час и так истово. Те из женщин, что осмелились поглядеть на лошадь-призрак, на следующий день рассказывали, что оба они, и лошадь и призрак, светились. Похоже, были из стекла или чего-то в этом роде, и всякий раз, когда копыта касались земли, подковы выбивали из мостовой огонь, ослеплявший тех, кто все видел. Что бы это могло быть?! Возможно, какая-то неприкаянная душа пришла кому-то напомнить о данном и неисполненном обещании? А может, оборотень надеялся, что кто-нибудь отважится и снимет с него чары? Кто бы это мог быть, а?!
И все это случилось, как только Диого Релвас отбыл в Мадрид, в ту же самую ночь. Может, это был его отец, что погиб от несчастного случая в поле?! Да, должно быть, он, хозяин Жоан Релвас!
Призрак, или что другое, промчался по всей улице, потом скрылся на кладбище и вернулся той же дорогой — нет, этого никто не видел, но топот, топот был слышен снова, и такой же тяжелый и гулкий, слышен до тех пор, пока не стих где-то вдалеке. И тут же запели петухи, и куры запели, те, что сидели на яйцах, словно они не куры вовсе. И ни из одного яйца в Алдебаране не вывелись в ту ночь цыплята!..
Обо всем виденном и выдуманном было на утренней мессе рассказано падре Алвину, и он бранил их, потому что живут они во грехе, а мир может быть спасен верой, молитвами и смирением. Почему они перестали выполнять приказ хозяина? Ведь он столько раз им говорил, что в жару нужно сидеть дома, каждому в своем дворе, а не судачить о чужой жизни и не прислушиваться к спорам и ссорам в Алдебаране. И если они видели призрак, или оборотня, или что бы там ни было, то повинны в этом только они, и никто больше.
Вот тогда-то одна из старух и вспомнила сказанные карликом слова, что у человека две тени, одна 1ень ангела-хранителя, а другая — дьявола.
— Да, и та, которую вы видели, была тенью дьявола — она всегда следует за грешниками.
— Но она была белая, а ведь нечистая сила красного цвета, падре Алвин. Белый цвет — цвет ангелов…
Падре Алвин разозлился. Что они понимают, да еще в цвете?! Что они понимают в ангелах? Церковь имеет своих ученых, и церкви, только церкви надлежит заниматься подобными вопросами. И какие это подчас бывают вопросы! Шли бы домой, занимались бы детьми, блюли благочестие и запирали бы двери на ночь…
Следующую ночь, хоть жара усилилась, двери в Алдебаране были закрыты. А если и приоткрыты, то чуть-чуть, и нигде никакого огня. Однако женские уши никогда не были такими чуткими, как теперь.
И опять, чуть раньше полуночи, в то самое время, когда часы стали бить двенадцать, послышался тяжелый стук копыт, должно быть, той же белой лошади. Сердце обуял страх и заставил всех усердно молиться. Спаси меня, пресвятая дева Мария!
Однако на этот раз призрак удалился только спустя два часа. Где же эти два часа он был?! На кладбище с душами умерших? С душами, пребывающими в ином мире? Или у источника, принимая участие в танцах ведьм?! И вот теперь, возвращаясь, он особо сильно — это действительно так — бил копытами, потому что эхо было более гулким и раскатистым. Некоторые даже утверждали, что слышали его посвист. Возможно, они и догадались бы, что это был за призрак, если бы вспомнили, кто любил так свистеть и свистел сейчас, едучи по улицам Алдебарана.
В течение четырех или пяти ночей появлялся в Алдебаране призрак на белом коне и каждый раз задерживался в деревне все дольше и дольше. Кое-кто даже стал надеяться увидеть его, если тот будет застигнут рассветом. Ведь если бы такое случилось, если бы пропел первый петух и призрак не успел бы скрыться в рассеивающейся тьме, чары были бы разбиты и стало бы наконец ясно, душа ли это неприкаянная, просящая успокоения, или живой человек, покорившийся свалившемуся на него проклятию.
Но до петушиного пения дело не дошло, потому что в два часа, на пятую ночь, притихшую от страха деревню потряс выстрел. И следом за ним послышался все тот же топот лошадиных копыт, сначала, как обычно, тяжелый и размеренный, а потом переходящий в галоп. Казалось, в этом галопе с ним вместе помчатся дома, это был истинный ураган, и слышались, да, слышались, как на следующий день говорили женщины Алдебарана, человеческие стоны, а потом еще и еще выстрел… А белая лошадь заржала, из ноздрей у нее вырывался огонь, из-под копыт сыпались искры, даже камни почернели там, где прошел призрак, кто не верит, может убедиться.
Убедиться захотели все, но с должной предосторожностью: пальцы левой руки были переплетены и дважды прочитана молитва «Отче наш».
Услышав прозвучавшие выстрелы, карлик не на шутку испугался. Несколько минут спустя в конюшне появился Мигел, белый, как носившая его все эти ночи на своей спине лошадь. У Мигела дрожали руки, он моргал глазами и повторял: «Хуже всего, что я не принес простыню. На ней должна быть монограмма».
Боясь, как бы вспотевшая лошадь не схватила воспаление легких, Жоакин Таранта тут же принялся ее чистить и вдруг сообразил, что всему виной юбочные дела парня. Однако понять почти безумную озабоченность Мигела Жоана Вильяверде Релваса, который твердил о простыне, никак не мог. А потому не удержался и спросил:
— Так барин желает иметь все простыни, на которых он спит с женщинами? Простите, что я это говорю, но у вас не в порядке с головой…
Услышанное от карлика привело парня в себя, и он рассмеялся. И тут же, рассказав Жоакину Таранте обо всем, что произошло, потребовал от него новой клятвы: не проболтаться ни отцу, ни управляющему. Жоакин Таранта, оказавшись посвященным в такую тайну, от страха даже подскочил на своих лапках таксы! Ведь о том пойдут болтать по деревне. Однако все же отважился дать Мигелу совет, повторяя свою любимую мысль:
— Вот что я вам скажу, молодой человек. У каждого из нас две тени… Сегодня ночью вас сопровождала тень дьявола.
— Тень дьявола, это точно, и она еще две отбрасывала.
— Я об обесчещенных женщинах, — возразил карлик спокойно.
— Но одна тень была хороша! — нагло продолжал Мигел Жоан.
И тут же скрылся в доме, спеша рассказать брату о своих похождениях, может, Антонио Лусио изобретет способ вернуть простыню, ведь он стащил ее с кровати, а горничная очень удивилась: куда же она могла деться? Но Антонио Лусио еще не вернулся домой. Оба они, каждый по-своему, старались забыть обиду на отца, который не взял их с собой в Мадрид.
Антонио Лусио предпочитал отправляться в поселок и там, в поселке, флиртовать с одной из рыбачек, с той, с которой ему нравилось плясать под аккомпанемент гитары и частушек. «Там, — думал Мигел, — по крайней мере не надо скрываться, чтобы побыть с девчонкой».
Он был так возбужден, что никак не мог заснуть, и решил подождать возвращения брата, он уже начинал за него беспокоиться, не хватало еще, чтобы и с ним что-нибудь стряслось… Мигел подошел к окну и закурил сигарету: он хотел успокоиться, а может, надеялся, что огонек его заметят. Стоя у окна, он думал: «Если бы Каретник всадил в меня дробь, меня бы отправили в имение Куба, куда отправляли моего двоюродного дедушку Мануэла Фелипе. Отец всегда всем угрожал ссылкой именно туда, и на этот раз, похоже, мне этого не миновать. Но я не понимаю, нет, не понимаю: ведь столько женщин вокруг — мы же не из соломы. К тому же если крестьянка что надо, черт побери!»
Он принялся насвистывать.
Ночь полнилась ароматами сада и леса.
«Падре Алвин — вот кто хорошо сказал: досуг чреват пороком».
Однако во всей этой истории больше всех пострадал Зе Каретник. Он всегда возвращался домой поздно. А тут его послали починить несколько повозок — обычное дело; он управился до срока и поспешил в Алдебаран пешком, да, пешком прошел много километров — и ради чего? Ради того, чтобы увидеть то, что увидел. И из всего увиденного, пожалуй, самым ужасным была простыня. На ней имелась монограмма, которая говорила сама за себя. Жнице он задал трепку… Но что он этим достиг? Однажды старый хозяин закроет глаза, и хозяином будет молодой. Испортить себе жизнь, и из-за чего! Надо же было такому случиться… С другой стороны, отдать бабу хозяину — дудки, делить ее с хозяином — тоже нет, не для того он родился. Знать бы, для чего человек рождается!
Глава XI МАЛЕНЬКИЕ ПОРОКИ БОЛЬШИХ ДОСУГОВ
Их даже грехами назвать нельзя, признал бы это сам падре Алвин, в распоряжении которого имелись точные весы для подобного взвешивания. Ведь с кое-какими пороками не расставался и он — сохранил их в поддержание гипотезы о святости, возможность иметь которую — право каждого человека, коль скоро все великие святые были великими грешниками. Так как скромность падре Алвина была самым большим недостатком его мягкого характера, он занимался тем, чем занимаются в наше время лишь мелкие игроки, — поигрывал, но весьма осмотрительно, в картишки. Нет, рисковать он почти не рисковал, а вроде бы отдавал себя в руки судьбы.
Маленькие пороки, если их так можно назвать. Сигарета время от времени, так, штук шесть в день, не больше, немного вина, конечно красного, ну и картишки — бесовское наваждение! Он давал себе эти поблажки во избежание, и это совершенно очевидно, больших пороков — таких, как, например, у Антонио Лусио, который, как мы знаем, просто пристрастился к игре, а это уже большой порок. Быть около греха, подвергать себя опасности согрешить — вот то, что падре Алвин делал — пусть даже принося себя в жертву — ради овец своего алдебаранского стада.
Потом, правда, он загорался и давал возможность маленьким порокам стать побольше. Ему не нравилось проигрывать! А кому нравится?!
В тот вечер он получил письмо от Диого Релваса, который писал ему, что задержится в Мадриде еще на неделю в связи с шумным успехом, который выпал на долю его партии быков.
Двух быков выволокли с арены под аплодисменты после того, как погибло десять лошадей, у трех пикадоров были переломаны ноги и ребра, один ранен с угрозой для жизни и двое других, работавших с мулетами, получили менее тяжелые увечья. Бык, выбранный Салсой и им самим, по кличке «Художник» вышел на арену с высокомерием льва, но кончил плохо (мадридские газеты назвали его ручным). Но Гитарист и Оливковый довели зрителей до исступления. Зе Педро вынужден был сделать два круга почета в честь скотовода, который, конечно же, отказался выйти на арену. Зато потом король Испании и его величество принц Португальский пригласили его в королевскую ложу, чтобы познакомиться и поздравить. В эту ночь он продал шесть партий быков для всех испанских арен, среди которых две мадридские. «Диого Релвас, — думал падре Алвин, — во грехе гордыни». Вот и оба сына Диого Релваса были тоже во грехе, но ином: они положили глаз на гувернантку, чуть суховатую, но с изюминкой, как говорил Антонио, которому возражал своей обычной шуткой Мигел: «Чего там разглядывать изюминку в булке? Булку надо есть — и все тут!» Англичанка находила их забавными, хотя намеков не понимала. Однако приглашение принять участие в маленьком семейном торжестве, которое Релвасы решили устроить под весьма благовидным предлогом — во славу желто-голубого флага [41] Релвасов, приняла. Чтобы избежать ненужных разговоров по этому поводу, приглашен был падре Алвин, ну, и этот глупый слизняк, преподаватель истории, географии и языка, — он-то для того, чтобы составить партию в картишки. Об ужине пообещала позаботиться Брижида, выбор вин, имеющихся в доме, взял на себя наследник Антонио Лусио, который договорился с управляющим, чтобы тот позаботился о количестве и качестве, как говорится, на вкус каждого.
Все шло как задумано. Получивший в этот день свое жалованье падре Алвин весь сиял. Он сказал несколько слов по поводу успеха в Мадриде, подняв бокал за всех присутствующих и отсутствующих, в числе которых не преминул самым трогательным образом упомянуть имя деда молодых людей, благодаря которому он из Алентежо перебрался сюда. Теперь падре Алвин считался другом дома. Он был свидетелем рождения в этом доме четверых детей, крестил их, кропил святой водой и днем и ночью молился за них и за то, чтобы в дом этот было вхоже Одно только счастье. Он им желал счастья, и только счастья.
Вдруг падре Алвин заговорил еще более вдохновенно и энергично, вроде служа «субботний молебен» для гувернера, которому решил преподать урок истории здешних мест.
— «Мать солнца» — под таким названием известно всем нам и живущему окрест народу это имение, стоящее среди леса; здесь в прошлом были пережиты прекрасные минуты нашей истории.
Мисс Карри клевала носом от выпитого вина, вернее — от смеси выпитого.
— Оно называется «Мать солнца», — тихим голосом вещал падре Алвин, — потому что именно над ним восходит небесное светило, рождаясь вроде бы из недр этой земли. И это весьма примечательно, ибо для тех, кто живет и работает у Релвасов, которые, точно отцы, оделяют работой каждого, будь то бедняк, человек среднего достатка или богач, именно в этом доме рождается солнце. Здесь мы как бы на небесах, и здесь, в этом имении, происходит то, что диктуют небеса. А потому деревня, в добрый час и благодаря этому дому возникшая здесь, в которой живут те, кто работает у Релвасов, и носит имя Алдебаран, самой большой звезды созвездия Быка, которое, как считали древние, занимает четвертую часть неба. Звезда Алдебаран в сорок раз больше, чем солнце, и она — око созвездия Быка. Вот потому-то мне очень хочется отметить, что нет ничего удивительного, что быки, выведенные Релвасами под этим символическим созвездием, в котором Алдебаран — звезда первой величины, изумляют своей породистостью и храбростью Мадрид.
Антонио Лусио тысячу раз, пока падре Алвин держал речь, благодарил священника, совершенно убежденный, что этим он заткнет фонтан безудержной фантазии приора, но тот, похоже, был в восторге от своего красноречия и хотел дать ему излиться до конца. Тогда он встал и произнес тост.
Педантичный гувернер, каковым ему и надлежало быть, решил не ударить в грязь лицом и напомнить старому священнику, что звезда Алдебаран была еще и стражем неба, как считали персы, и самим солнцем, да, самим солнцем, так почитаемым арабами. Разве само название звезды не арабского происхождения, известно же, сколько своих названий оставили они на берегах Тежо.
Падре пожал плечами, но совсем не по незнанию, а потому, что ему, проводнику святой религии, представлялось недозволительным принимать во внимание то, что считали неверные. И он сказал, что должен был сказать, и ничего добавлять не желал, хотя эрудицию доктора Сантоса Пинто похвалил, обратив его внимание только на один момент: иногда эрудиция бывает опасной; обо всем с достоверностью сказано в единственно мудрой книге — Библии, и, по его понятию, напоминать об этом излишне.
Мисс разговаривала с Мигелем Жоаном по-английски и, похоже, не была довольна разговором. Как, впрочем, и Антонио Лусио, который понял, какую беседу руками вел брат под столом. Из-за этого он и предложил перейти в зал для игры и курения, где намеревался свести кое-какие счеты с падре Алвином, ну и ля того, чтобы все хитрости братца были на виду. Теперь, после этой истории с бабой Зе Каретника, Жоан Мигел был в его руках, о чем Антонио Лусио уже предупредил Мигела. Мигел сделал вид, что струсил, что у него нет никакого плана относительно англичанки, и сказал:
— Если я правильно тебя понял, то тут же иду спать. И еще: я сейчас же могу написать отцу в Мадрид и сам расскажу, что со мной тут произошло. Не по душе мне эти угрозы. Не люблю, когда со мной играют в кошки-мышки.
Бурная реакция брата поколебала Антонио Лусио.
— Будь моим партнером в биске. Давай обставим падре и гувернера, чтобы они попали в наши руки.
— Нет, я не вхожу в подобные сделки, братец Антонио.
— Но, Мигел, другого же средства, более действенного, нет, чтобы они оказались на нашей стороне.
— Падре Алвин давно на твоей стороне.
— Но никогда не лишне завязать узел потуже.
Гувернер тоже хотел уклониться, но угодил в сети старого священника. Мисс Карри предпочла поиграть в бильярд, ей нужно было совладать с головой, которая шла у нее кругом, и это заставляло ее смеяться. Ей очень хотелось смеяться. Мигел сердился, это была тактика, и англичанка сожалела, что обидела его. Оба брата были хороши собой, однако каштановым усам Антонио Лусио мисс Карри предпочла черный пушок на губах того, кто был помоложе. Она уже была в том возрасте, когда предпочитают молодых, чтобы возраст не чувствовать. Англичанка, прицеливаясь, принялась бить кием по красному шару и в трудных положениях особенно усердствовала, ложась на стол.
От четвертой партии гувернер отказался. Он не любил играть на деньги, ему это казалось недостойным. Тут падре Алвин напомнил ему одно изречение: «Кто безгрешен, пусть бросит камень. — И уточнил: — Знаете, ведь самый тяжкий грех — это обжорство».
— Знаю, знаю, отец мой! (Гувернер улыбался.) Но вы забываете, что у меня солитер.
Все засмеялись. Гувернер обозлился.
— Доктор Пинто ест только суп, а все остальное — солитер, — съязвил не зависимый от гувернера Антонио Лусио.
— Должно быть, это — гидра о семи головах, — подлил масла в огонь падре Алвин.
Силва Пинто бросил карты на стол:
— По-моему, смеяться над болезнью, которая может свести в могилу, — дурной тон.
Все замолчали.
— Мисс Карри! — сказал гувернер. — Пора бы и домой. Англичанка что-то ответила ему на своем языке, продолжая гонять шары. Антонио Лусио подошел к доктору Пинто и напомнил ему, что сегодня они с мисс Карри приглашены на домашнюю вечеринку, а потому свободны от установленного договором с отцом твердого распорядка. Еще он напомнил им, что завтра Мигел Жоан должен ехать в имение Понте-де-Сор, из чего следует, что они будут свободны и от своих профессиональных обязанностей. Так что пусть себя чувствуют как в гостях.
— Но вы не можете принуждать меня играть в азартные игры, — зло ответил Пинто.
— И не собираюсь, доктор… Этому типу следовало бы хорошенько надрать уши. Вы ведь у себя дома, поступайте как знаете. Только не нужно называть невинное времяпрепровождение азартной игрой…
— Это невинное времяпрепровождение вынуло у меня из кармана пять мильрейсов.
— О-о, прошу прощения, — включился падре Алвин, — но это некорректно, некорректно говорить хозяевам дома о том, сколько ты им проиграл. Гораздо приятнее было услышать, сколько мы выигрываем, зарабатывая у них, доктор Пинто…
Сказанным гувернер был выведен из равновесия. Он сел, но играл как попало, на что приор разозлился.
С этого момента игра стала обычной — такой, какой она бывала, когда падре Алвин и Антонио Лусио втайне от Диого Релваса сидели друг против друга с двумя колодами карт и бутылкой испанского вина.
Жоан Мигел распрощался, решив оставить свое намерение отправиться к мисс Карри. Это было слишком рискованно после всего того, что говорилось о появившемся призраке. Он пропустил еще две рюмки, чтобы крепче спалось, и ушел. Вслед ему, удаляющемуся по коридору, Антонио Лусио крикнул:
— Посмотрим, что ты этим выиграешь!..
— Пусть твоя душенька будет покойна, потому что моя будет спать. Напоминание о поездке в Понте-де-Сор заставило меня вспомнить о совести! Наслаждайтесь как можно больше и тратьтесь как можно меньше.
Мисс Карри, увидев, что он уходит, опечалилась. Какое-го время она продолжала тянуться через весь бильярд, вертя кий то в одной, то и другой руке, потом села на один из диванов. Ей было очень одиноко. Между тем Диого Релизе, нанимая ее на работу, подчеркивал: в Лиссабоне вы можете делать все, что вам заблагорассудится, не доводя, конечно, до публичного скандала. Здесь же, где в доме есть девушка, которой нужно подавать пример, должно вести себя образцово, девушка и двое молодых людей, с которыми вы обязаны держать себя достойно, чтобы они не думали плохо обо всех женщинах. Все это не просто. Подходит ли это вам?…
Мисс Карри ответила, что подходит, но она никогда не думала, что одиночество действует столь разлагающе. И досуг столь опасен.
Во что же обходятся маленькие пороки больших досугов, падре Алвин уже понял, так как проиграл почти половину полученного oт Релваса жалованья, хотя наперед знал, что злой рок преследует его, когда он играет с Антонио Лусио.
Гувернеру же Антонио Лусио сказал:
— Доктор Пинто, вы можете считать себя свободным от нашего общества, когда вам будет угодно, — я имею в виду наше сражение с падре Алвином. Я, конечно, хотел просить вас, чтобы вы остались. Надеюсь, мы понимаем друг друга…
Приор скорчил гримасу. Как видно, карты у него были никуда. Воспользовавшись представившимся случаем, доктор Пинто откланялся, кивнув мисс Карри. Мисс Карри подошла к окну и почувствовала, что вот-вот расплачется. Возможно, от жары… Жара всегда ее угнетала. Потом вернулась к столу и задула догоравшую в подсвечнике свечу, освещавшую зеленоватую стену, на которой отражалась тень от ее сухой фигуры.
— Вы еще долго будете играть? — спросила она по-английски.
— До тех пор, пока один из нас не останется без гроша, — ответил Антонио Лусио, смеясь.
Скорчив гримасу неудовольствия, приор тут же пошел с восьмерки и принялся постукивать картами, не в силах сдержать дрожь в руках. Потом улыбнулся мисс Карри, заметив, что та следит за его руками.
— Мне не везет, — сказал он, делая ударение на каждом слоге. Она не поняла, но пожала плечами. И тихонько, не прощаясь, вышла.
Глава XII ИЗ КОТОРОЙ МЫ УЗНАЕМ О МАЛЕНЬКОЙ МЕСТИ ИОВА
Хотя радость мести в сердце падре Алвина и не должна была бы находить приюта, все-таки ему было приятно узнать о нежданном возмездии, обрушившемся на Антонио Лусио, тем более что рука провидения не была его собственной. И в этом случае совесть приора оставалась чистой — совесть и руки, которые всегда легче вымыть, что тут говорить!
Не так много прошло времени с того самого вечера, когда старый священник, поддавшись своему маленькому пороку, не заметил, как исчезло его месячное вознаграждение, все целиком, и он оказался в долгу у Антонио Лусио, проиграв ему около двадцати двух мильрейсов. «Он обобрал меня, обобрал как липку», — повторял падре Алвин, и он действительно был обобран. За дурную голову всегда расплачивается тело. Он хорошо понимал, что впереди у него дни на похлебке, но это еще ничего, хуже, что придется лгать экономке, выдумывая историю о потере денег. Да и если бы экономке можно было сказать: потерял, и все, — это бы и ложью не было, но его Гильермина была дотошной, и с ней легко войти во грех, начав лгать. Это его очень мучило, несмотря на его преклонный возраст, и не ускользнуло от внимательных глаз женщин Алдебарана, которые тут же заметили странное поведение падре: он был оглушенным, беспокойным, почти не глядел на алтарь скорбящей — защитницы Алдебарана и всех живущих в его окрестностях.
Как я уже сказал, возмездие обрушилось на Антонио Лусио, и это случилось несколько дней спустя после того утомительного вечера за картами, но до возвращения Диого Релваса с дочерью.
Всегда, когда представлялась возможность сбежать в поселок, Антонио Лусио сбегал, стараясь воспользоваться последними оставшимися ему месяцами вольной жизни. Если бы вдруг его в лоб спросили, на ком бы он хотел жениться, он бы, не колеблясь ни секунды, ответил: на Флоринде. Не раз он это высказывал, и со всей откровенностью, даже отцу, уверяя его, что готов на геройский поступок — сделаться лодочником или рыбаком, лишь бы стать достойным мужем этой девушки. Он видел себя босым, перепоясанным черным поясом, в касторовых штанах и рубашке, сидящим на веслах шлюпки или лодки посередине Тежо. С теми же мозолями, что у всех лодочников, безо всяких барских замашек, такой же, как все простые люди.
Отец никак не мог понять сына, когда случалось ему видеть Антонио Лусио сидящим около шкипера судна, готового к отплытию, или помогающим забрасывать петли канатов при швартовке. Его невеста Мария Луиза выглядела какой-то неживой куклой рядом с этим живчиком — Флориндой, будучи в то же время такой величавой красавицей, хоть и щупловатой. А потом эти волосы белокурые и глаза голубые, а руки, руки с длинными пальцами, всегда очень выразительными, доверительно сообщавшими то, что должно быть понятным мужчине, на долю которого досталась такая женщина.
Разговаривая с Мигелом о поденщице, жившей с Зе Каретником, Антонио Лусио уподобился поэту, сказав: «Крестьянка — это скала, а рыбачка — облако: что-то непостоянное, но всегда живое. Скажи я тебе вот так просто, что Флоринда — это морское облако, ведь ни ты, да и никто другой не поймет, что я в это вкладываю. А все потому, что это трудно понять, но такой мне она кажется. Морская волна не подходит, потому что она и облако и море в одно и то же время…»
Он был заворожен Флориндой, точно благодаря ей надеялся освободиться от той вялой жизни, которую вел и которая не подходила ему с его экзальтированным характером. И он тут же, как только отец уезжал из имения, отправлялся к рыбакам поселка, где наслаждался положением сеньора, хозяина земель, который братается с теми, кто от него зависит. Этого он, правда, не понимал. И к лучшему для себя.
Он участвовал в их танцах, однажды даже в пылу тираны [42] разулся и танцевал босой. Пристрастился он и к игре на моряцкой гитаре, беря уроки у старого рыбака Рендейро. Рыбаки кружились вокруг бренчавшего на гитаре Антонио Лусио, смеялись и дозволяли ему крутить любовь с Флориндой, но у дверей ее дома, поскольку мать ее вечерами плела нити для сетей… И он оставался с Флориндой до глубокой ночи, наслаждаясь тем, что у всех на глазах предлагали ему ее руки.
Большинство сдержанных и покладистых рыбаков радовалось привязанности землевладельца, находя его компанию если не выгодной, то приятной — ведь они общались с тем, кто при желании мог облегчить фрахт или избавить от докучливых властей муниципалитета. Неплохо иметь друзей даже в аду… И как раз Шико Молейро поддерживал с ним особо добрые отношения, так как именно благодаря вмешательству Антонио Лусио ход делу о его драке, чуть не дошедшей до поножовщины с одним посыльным, дан не был. Потом Шико Молейро, правда преувеличивая, говорил, что избежал двух лет ссылки в Африку, чем вполне могло кончиться.
Однако некоторые старухи не одобряли вольностей сынка Диого Релваса с Флориндой, их поддерживали многие ревнивые парни и те, кто был связан с приказчиками и рабочими поселка — людьми, настроенными республикански, всегда готовыми поругать дворян, богачей и священников. «Вот попомните, — говорила Ана Жингинья, — как-нибудь дело дойдет до того, что барчук плеснет нам помои, а один из наших внуков будет вынужден их хлебать». Но эта оппозиция не была явной: все кончалось осуждающими перешептываниями и взглядами или в крайнем случае прекращением танцев, когда верхом на лошади или в коляске появлялся Антонио Лусио.
В тот же раз, когда бог, видя кривду, рассудил по правде, Антонио Лусио приказал заложить серую кобылу в черную легкую коляску на высоких желтых колесах и отправился под щелканье кнута, которым он орудовал с показным блеском циркового укротителя, к Флоринде. Он ехал потанцевать, что стало делом обычным; там, взяв гитару в руки, он бренчал на ней: «О тростник, королевский тростник, // кто тебя сюда несет, // если я тебя срублю, // кто тебя тогда спасет…», щедро бросая проигранные ему приором деньги за пущенные по кругу бутылки вина, за что и поплатился, так как в эту ночь девушки ему только и подносили, уверяя, что будут очень обижены, если барин пренебрежет их подношением.
О тростник, королевский тростник, кто тебя сюда несет…А получив от ворот поворот — Флоринда в тот вечер отвергла его ухаживания, — уехал с рыбаками петь серенады на улицах поселка. Это оказалось для него роковым. Ведь только в пять утра серая кобыла привезла его, спящего на облучке коляски, к воротам имения, Жоакин Таранта с трудом растолкал его и, попросив Атоугию помочь, перенес в дом. Однако пришел в себя Антонио Лусио только к полудню, когда на пороге его комнаты с напоминанием, что его ждут за обеденным столом гувернер и падре Алвин, появился Мигел Жоан. Едва Мигел это вымолвил, как принялся безудержно хохотать, хлопая себя по бедрам и подпрыгивая. К-акая муха его укусила? Встревоженный и все еще смурной, Антонио Лусио не мог ничего понять и только сказал:
— Во рту у меня будто эскадрон ночевал.
— Антонио, а ты уже видел себя в зеркале? (И смеялся, смеялся.) Пойди-ка посмотри…
Шалопай подошел к зеркалу, скорчил рожу, ощупал лицо и стал искать то, чего теперь на лице не было.
— Кончай свой дурацкий смех! — зло заорал он.
Антонио Лусио желал осознать случившееся, ворошил затуманенную вином память, которая никак не хотела подсказать ему, где же это он потерял кончик своего левого уса, такого великолепного и такого рыжего. И понял, что стал мишенью насмешек, и не кого-нибудь, а рыбаков.
— Кто этот сукин сын?! Исполосую… Честное слово, исполосую!..
Теперь Мигел уже смеялся про себя, вернее, посмеивался, вспоминая те долгие часы, которые брат отдавал тщательному уходу за этим обязанным внушать почтение волосяным покровом, и понимал замешательство брата, которому необходимо будет давать объяснения отцу по этому поводу, когда тот вернется из Испании, отцу, да и всем домочадцам, которые тут же заметят исчезновение уса.
— Уж отрезали бы оба сразу… А я-то считал их своими друзьями…
— Может, это Флоринда…
— Не впутывай сюда Флоринду, сделай милость.
Он чувствовал, что от злости готов расплакаться, расплакаться или исполосовать кнутом любого, кто осмелится над ним смеяться! Тут он с тревогой вспомнил о лежавших в его кармане деньгах, полез в карман, но денег не обнаружил, а обнаружил бумагу с каракулями. Бумагу он протянул брату, и тот прочел: «Пока ус. Но у нас найдутся ножи, чтобы поскоблить ими богачам и кишки!» И чуть ниже более крупными буквами: «Да здравствует Республика!»
Прочтя это откровение, они посмотрели друг на друга с ужасом, точно увидели поросшие сосновым лесом воды Тежо или поднявшихся в воздух благодаря выросшим крыльям отцовских быков, которые с приходом осени взяли курс на север Африки. Однако о чем думают, и думают ли вообще, городские власти и эти «ищейки» — агенты тайной полиции!.. Отец всего этого не знает, и нужно бы ему все это рассказать, говорил Мигел Жоан.
— Да ты дурак! Может, и о белом призраке, в которого стреляли, ему тоже расскажешь?
— Но это ведь куда серьезнее…
Да, они оба вынуждены были признать, что серьезнее, и намного; и отец был прав, не очень-то доверяя поселковой черни. Неблагодарные! Хотя, конечно, всех мерить одной меркой нельзя, но если уж масонская болезнь поразила рыбаков, в общем-то таких скромных и набожных, чего же можно ждать от всех остальных? В этот момент оба брата считали, что они в кольце врагов, и пришли к решению о необходимости пригласить для разговора падре Алвина, чтобы почувствовать себя поспокойнее.
Глядя на пострадавшего, старый духовник улыбался, получая удовольствие от так быстро последовавшего возмездия. И все же он их успокоил, сказав, что монархия крепка и способна посадить в тюрьму или сослать в Африку любую сволочь и он сам приложит все усилия, чтобы довести случившееся до сведения местных властей, и попросит, конечно же, держать в секрете от Диого Релваса этот пример неуважения к его сыну. Это ведь оскорбление, прямая угроза.
И тут же заботливо предложил свои услуги Антонио Лусио, намереваясь подровнять кончик другого уса, что и сделал с совершенством цирюльника, чиркая ножницами. Пострадавший был вне себя.
— Ну избили бы меня, ну изодрали бы в клочья одежду, но это — это утонченная жестокость…
— Да, действительно утонченная, — поддержал священник, — тем более что усы — символ. Если бы не ваш отец, стоило бы обратиться в трибунал с жалобой на этих мерзавцев.
— Это слишком, падре Алвин, — включился Мигел.
— Умысел — вот что важно, молодой человек.
Именно умысел был важен, когда полицейские ищейки стали разнюхивать в рыбачьем квартале, кто же в ту ночь был вместе с наследником Диого Релваса. Заподозренных поволокли в муниципалитет и приперли к стене угрозами и оплеухами да еще обещанием упрятать за решетку, если они проговорятся там, на воле, что тут творится. «Так где вы спрятали кончик уса сеньора Антонио Лусио Вильяверде Релваса?! Кто его отрезал? Если чистосердечно признаетесь, ничего вам не будет, но если… если будете молчать, все кончится большой неприятностью».
Когда Диого Релвас вернулся в имение, расследование уже шло не так бурно, но один из рыбаков, измученный допросами, ручаясь за невиновность подозреваемых, пожелал рассказать все хозяину. Тогда падре Алвин тут же приказал освободить всех, согласовав прежде с Антонио Лусио, который решил объяснить отцу, что дерзнул переменить фасон усов без его ведома, так как брадобрей спалил ему кончик левого очень горячими щипцами. Ослепленный успехом своего скота на королевской корриде, Диого Релвас поверил объяснению сына, а старый приор продолжал наслаждаться местью Иова, книге которого посвящал все свои часы досуга, подчеркивая карандашом особо значимые пассажи.
— Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно.
С царицами и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни.
Или с князьями, у которых было золото и которые наполняли дома свои серебром.
Или, как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидавшие света…
… На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою?
… Которые черны от льда и в которых скрывается снег.
… Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?
… Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей, я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое; оно увеличивается.
… Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя?
… Князей лишает достоинства и низвергает храбрых [43].
Наслаждаясь местью, пусть такой пустяковой, священник прервал подчеркивание Библии. Как-нибудь он это даст почитать Антонио Лусио.
Но кто перестарался, так это Зе Каретник, когда решил отдать землевладельцу Алдебарана простыню, которую забыл посетивший его дом призрак. Бабу свою он выгнал из дому, но, так и не свыкнувшись с ее отсутствием, был готов на все.
— Кто это был, я, хозяин, не знаю! Но я в него стрелял…
— Ну и что же, Зе?
— Выстрелил три раза…
— Чтобы попасть?
— Да, сеньор, чтобы попасть.
Землевладелец побледнел. Он взял простыню, выпроводил батрака и пригласил сыновей. Оба держались как ни в чем не бывало, но Диого Релвас настаивал на правде, не теряя спокойствия, и закончил разговор следующими словами:
— Завтра же на рассвете отправляйтесь в поместье Куба… На два месяца… Один из вас зайдет за Зе Каретником, который составит вам компанию. Хорошая компания. Или н-нет?!
Мигел Жоан попытался что-то сказать.
— Разговор окончен. Говорить нужно было сразу, теперь поздно… В нашем доме все должно быть сказано вовремя. Или н-нет?!
Глава XIII МИГЕЛИСТСКИЕ ИСТОРИИ
Хуже всех первые дни ссылки в Алентежо переносил Зе Каретник. Хотя он и занялся починкой всех имевшихся здесь повозок, он очень страдал без своей бабы и от сознания, что хозяин наказал его, сослав сюда вместе с двумя своими сыновьями, этими бездельниками, которые и тут нашли чем наслаждаться. А ведь один из них… Который? А-а, если бы ему довелось узнать!.. Кто же из них виновник его несчастья и того, что он теперь без бабы… И того стыда, что обрушился на его голову в Алдебаране, где его встретили таким гоготом и улюлюканьем, точно в деревню ворвалось перепуганное стадо быков.
А хозяин Диого еще и добавил, выразил свое презрение — сослал в эту глушь вместе с тем, кто надругался над его честью. Черт побери! Диого Релвасу ничего не стоит унизить человека. А что он плохого сделал этим людям?! Служил им верой и правдой более пятидесяти лет. Зе Каретник — мастер на все руки: иди сюда, Зе, посмотри, сможешь ли сделать такую же красивую карету, как эта? А он, с его-то искусством, был всегда готов к услугам, готов в лепешку расшибиться, но повторить красивую линию экипажа, недосыпал, недоедал, все работал, лишь бы увидеть плоды своего труда — экипаж или коляску, которые со впряженными лошадьми казались бы сошедшими с картинки. Его же честь запачкали, он пожаловался, пожаловался тому, кому и должен был пожаловаться, так его бросили сюда, в эту навозную кучу.
Он вынашивал месть, которая неизвестно где умещалась в его тщедушном теле, и, должно быть, потому частенько беседовал сам с собой. Бред сумасшедшего, сказал бы любой, кто услышал его язвительные слова, адресованные тишине, и увидел зверский оскал редких зубов, будто у него что-то вырвали из рук. И тут же он брал инструменты и принимался трудиться с таким усердием, словно нарочно истязал себя, и причитал, разматывая клубок печальных воспоминаний. Но время от времени кровь его закипала, и в припадке ярости он принимался кричать на стены под навесом, где он работал, срывал с головы шапку, бросал под ноги и топтал ее, припрыгивая на ней, как будто в него вселялся дьявол. Когда же злость тихо тлела, он садился на землю и закуривал сигарету. И всегда глядел на нож. Точил его каждый день, а то и по нескольку раз в день и все мечтал, как испробует его на шее того, кто отравил ему последние годы. Кто же из них?! Кто из них двоих? Дьявол кивал то на одного, то на другого. И вместе с тем он чувствовал, что не способен действовать, он — дерьмо собачье, вот он кто, если бы он был способен на кровавую месть, но людям, подобным этим… Потому-то он и разговаривал сам с собой. Разговаривал и бесился, все сразу, не стараясь скрыть кипевшую в нем злобу.
У конуры сторожевых псов свистел себе всласть Шико Счастливчик, свистел, ну прямо как духовой оркестр. Слушать его было одно удовольствие. Даже собачья свора притихала, переставая лаять и выть, как только он складывал губы колокольчиком и в воздухе начинал дрожать тонкий пронзительный звук. На этом крохотном инструменте он исполнял только торжественные марши, но исполнял великолепно, переходя от кларнета к тромбону и от тромбона к горну, неожиданно давая барабанную дробь и громкий звук тарелок. В особые моменты он закрывал черные маленькие глаза, чуть раскачивался из стороны в сторону, в такт ритму, и внимал воображаемой дирижерской палочке. Однако и это не умеряло разгоревшегося костра злобы Зе Каретника, подозрительного к этому музыканту, который всегда кружил вокруг и выслеживал его. Он считал, что этим самым искусным свистом псарь как бы отводил от себя подозрение, что намерен раскрыть секрет его мастерства. А потому Каретник все время старался сбить его с толку своим поведением: он то упорствовал в работе, то ломал все, что было им сделано.
Поглядывая друг на друга враждебно, они разговаривали намеками, и ни тот ни другой не переходил установленной или воображаемой границы, которая мешала даже общению за столом. Радость свою Шико Счастливчик выражал разве что в свисте. А вообще он был угрюм и мрачен. И его резкий голос, казалось, угрожал всем, даже хозяйским детям, когда он им готовил лошадей для верховой езды и спускал сторожевых собак, следовавших за ними по пятам во время прогулки.
Худой, на чем только держались брюки, с тощими ногами и широкой грудью, Шико Счастливчик был наделен руками силача — длинными и крепкими — очень неопрятен, носил пышные усы, которые подкручивал вверх до бакенбард, точно желал, чтобы они соединились с ними навечно. Жена Шико Счастливчика приходила к ним с дочкой и приносила еду, которую все четверо ели под навесом, в полной тишине, пока девчонке за первую же попытку пошалить не перепадала оплеуха от матери. Тут девочка заливалась слезами и соплями и успокаивалась только у отца, который брал ее на руки, после чего она засыпала. Зе Каретник был скрытен и с Шико Счастливчиком, да и если бы не был скрытен, все равно было ясно, что жили они недружно, хотя все алентежцы подозрительны и неискренни. Но девочку Зе Каретник любил, да, любил, тысяча чертей! Ведь дети не повинны в преступных делах взрослых. В общем-то, говорить о преступлениях этих людей он не имел никакого права: они ему не сказали даже плохого слова — ни плохого слова, ни грубости, а могли бы. В сущности, Шико Счастливчик всего лишь следил за его работой, ведь очень может быть, что он просто решил научиться его ремеслу, а почему бы и нет? Только перенять его секрет не так-то просто. Ведь ремесло каретника — дело тонкое, куда до него псарю!
Как— то, когда двое бездельников Антонио Лусио и Мигел Жоан предавались сиесте, Зе Каретник принялся мастерить из крупных желудей маленькую, так, пяди в две, карету с четырьмя колесами и одной длинной оглоблей, за которую ее можно было везти и в которую Марианита могла бы впрячь большой желудь или какое-нибудь насекомое, готовое послужить ей вместо лошади. Все это он делал молча, раздираемый злобой из-за умершей, как видно в зародыше, мести. По сделанной вещи он прошелся вначале напильником, потом наждачной бумагой, потом покрыл голубой краской и нарисовал на колесах едва различимые красные и желтые цветы. А увидев свое произведение готовым, расстроился. Бисер свиньям!.. И спрятал карету под нары, на которых спал. «Нары заключенного», — зло подумал Зе.
Но вот как-то утром в гости к нему пришла Марианита. Говорила она мало и плохо, но все же, заикаясь, спросила, нет ли у него детей. Рассказать ей правду? Зачем?! Могла ли Марианита понять, как тяжело, имея сына, и уже взрослого, если он, конечно, жив, не знать, где он и что делает. А потом еще эта история с женщиной, которая была дана ему богом… Забрала она его, ох забрала. С сыном поссорила, наговорила на парня, что плохо с ней обращался, а что сама к мужикам льнула — ни слова. Вот так-то. А больше ничего промеж них плохого никогда не было. Чистюля была, такой другой он и не видел; у нее в доме есть можно было хоть на полу. Это сказать ребенку?! Ясно, нет. Но оставить ее вопрос без ответа не захотел, а потому полез под нары, достал карету и отдал ее Марианите. Посадив девочку на свою дощатую кровать, принялся возить по ней свое произведение. Марианита прильнула к Каретнику и от радости подняла страшный крик, на который прибежал отец. Прибежал готовый ко всему, но, увидав происходящее, обомлел. И тут же существовавшее между ними недоверие умерло.
С того самого дня Зе Каретник узнал, что Счастливчик получил от хозяина приказ следить за ним, особенно тогда, когда хозяйские сыновья были с ним рядом. Диого Релвас опасался за сыновей, и не без основания, если бы характер у Зе Каретника был потверже.
— Алентежец ли я, кум Зе? Нет-нет, я родился и был крещен в приходе Валада, что тоже на Тежо. И сюда приехал мальчиком. Мой отец был очень известным здесь в свое время человеком — Счастливчиком его прозвали.
Шико вскоре умолк, а Зе ни о чем его не спрашивал, думая о мести своему обидчику, которой так боялся хозяин.
Однако история Счастливчика стала ему все же известна в один из летних вечеров. У Мигела Жоана был день рождения. Зарезали поросенка, и все вместе собрались в кухне у Шико Счастливчика. Зе Каретник был, как обычно, зол, он хмурился и мало ел, но Мигел заставил его пить, чтобы залить вином старую злобу. Разговор шел о лошадях, быках и падеже скота, ну, и каждый не преминул рассказать что-нибудь о себе, как и Шико. — Моего отца звали Антонио. Антонио дос Рейс, но для всех, кто его знал, он был Тоино Хвастун. Служил он в конюхах у графов Кадавал [44], был старшим. И как-то сподобился увидеть Дона Мигела, одетого в костюм пастуха с палкой на плече — ну, архангел, да и все тут, — Дон Мигел поджидал мулов, — рассказывал Шико Счастливчик. — Потом началась война, и отец пошел на войну. Мне он много раз говорил, что человек ради друга должен быть там, где он нужен. А сеньор Дон Мигел был его другом, в этом я уверен. Они ведь не один раз фанданго танцевали; мой-то старик был мастер танцевать фанданго, ну а король еще большим был мастером в этом деле, он ведь во всех делах был лучшим, конечно до того, как проклятые мулы прошли по нему и сломали ему ногу. Мулы-то были пятнистые [45] — должно быть, либералов или ими наученные. Они были тут же убиты и сожжены, чтобы впредь всем пятнистым было неповадно кого-либо топтать и чтоб знали, что их ждет.
И такое — отец мне рассказывал — случалось со многими.
Он видел, как сжигали либералов, после того как народ плевал на них, бил их, когда их вели к виселице; они шли пешком и босые, а народ на улицах собирался, чтобы наказать их, а дворяне на все это смотрели из-за занавесок на окнах, это был настоящий праздник, и монахи ели сладости и пили хорошие вина, потому что эти бездельники были против святой веры и против короля…
Они шли одетые в белое, мой отец видел их, эти бездельники должны были вокруг виселицы обойти, прежде чем им на шею набрасывали петлю и палач надевал на голову белый капюшон и спускал на плечи, потом они принимались плясать в воздухе и плясали до тех пор, пока их не опускали на землю. Некоторым рубили головы и насаживали на длинные палки, чтобы опять же все «пятнистые» видели, что их ждет, ну а тела сжигали со всеми другими приговоренными к смерти…
Страшное дело, похоже. Я никогда такого не видел, а хотел бы увидеть…
Они вроде бы живые: шевелят руками и ногами, точно идут на небо, ан нет, прямехонько в ад попадают, уверен, души их в аду, а тело, став пеплом, — в море…
И отец еще говорил, что убили не всех, кого следовало. Здесь, в Алентежо, убили больше тридцати прямо в замке Эстремос, топором, и вдвое больше в Вила-Висозе. Это тех арестованных, что пересылали из Лиссабона в крепость Алвас; они недостойны были тюрьмы, потому что им пособлял дьявол и они брали верх в войне, и мой отец должен был бежать и скрываться вместе с другими в алентежской глуши, а то и в Алгарве [46] и прибиться к Ремешидо [47]. Вот это был человек! Стоил всех генералов «пятнистых»…
Мой отец прошел с ним всю войну. Он был маленького роста, но крепкий, борода длинная, длиннее, чем у отца этих молодых сеньоров, ну, у Диого Релваса… Вот будучи при нем-то, при Ремешидо, отец мой и получил кличку Счастливчика, а я уж по отцу Шико Счастливчик. Отца никогда и нигде с тех пор никто иначе и не называл. С Ремешидо не знаю даже сколько тысяч солдат было; они исколесили нашу землю, появлялись и исчезали, как облако, и вот однажды столкнулись с большим отрядом, которым командовал этот несчастный Марсал Эспада [48], и вот его люди, более десяти человек, напали на моего отца, и он отбился и сумел уйти от них…
С тех пор никто больше не звал его Тоино Хвастун, а только Счастливчик.
Ремешидо был король гор, мигелист, да, сеньор, и мой отец был с ним до конца его дней и всегда смело смотрел смерти в лицо… Однажды Ремешидо арестовали, отдали под трибунал и приговорили к смерти. Ремешидо к смерти!
Как раз сегодня… ведь сегодня второе августа, ему бы шестьдесят исполнилось. Сколько вам, Мигел?
— Семнадцать.
— А мой отец даже после смерти Ремешидо еще сражался… И командовал им уже падре Марсал Эспада — его убили, когда он пытался бежать. Даже испанцы не помогли.
Однажды я спросил своего отца: сколько же он из своего ружья убил этих «пятнистых», и он ответил, что не знает, потому что не всех убил. Зло так ответил. В Португалии все идет к худшему…
Потом он на какое-то время вернулся в Валаду. Наделал детей: женщинам он нравился за храбрость, тут и я на свет появился, последним я был, потому-то он меня даже родной матери не оставил. Но вот после войны конюхом он больше никогда не был. Жил охотой, попадал точно, даже не знаю со скольких метров, в горлышко бутылки! Вот потому-то сеньор Диого Релвас и взял его к себе.
Мне было уже пять годков, когда мы приехали сюда. Теперь-то мне уже тридцать, а меня он заделал в шестьдесят. Матери моей было двадцать, девушка она была, да, видно, выбора у нее не было. И умерла она раньше отца. Высохла от чахотки, как высыхает дерево от засухи.
Зе Каретник никогда и не думал, что Шико Счастливчик способен так долго говорить. И он позавидовал ему: иметь бы такой характер, как у его отца, чтобы спросить этих двоих, что сидят напротив, кто же из них запачкал его постель.
— А самому тебе приходилось убивать? — спросил Антонио Лусио.
— Нет, никогда, — ответил Счастливчик. Все четверо сидели за столом.
— Только однажды… — продолжал Шико. Но тут же умолк.
— Что однажды? — спросил Мигел Жоан.
— Рассказывай, — потребовал Антонио Лусио, наливая ему до краев рюмку.
И они увидели, как дрогнули его руки, поглаживающие поднимавшиеся вверх усы.
— Да был тут один тип, Кинтас. Он у сеньоров арендовал эту землю. Не захотел он как-то раз платить арендную плату, объяснил, что урожай был плох, и даже пригрозил вашему отцу, что убьет его, если тот будет докучать ему.
Чуть заметная улыбка тронула его губы и, выждав какое-то время, расплылась по всему лицу, отчего черные маленькие глазки Зе Счастливчика заблестели.
— Ваш отец рассказал мне об этой угрозе, а я ему ответил: «Предоставьте его мне…»
Я его выслеживал каждый день, пожалуй, месяца три. Ходил с веревкой вот на этом плече. И однажды утром увидел Кинтаса входящим в старый маленький амбар и тут же следом вошел за ним и запер дверь. Мы были вдвоем, кругом ни души — глушь. Даже не знаю, как в этой глуши я до сих пор с ума не сошел. Разве что собаки мне помогали коротать годы. Собаки и вино.
Кинтас увидел меня и спросил, чего мне надо, а я ему: «Да вот пришел узнать, не остыло ли твое желание убить моего хозяина!» Я его сразу на «ты» стал называть, чтобы знал, что ждать хорошего нечего. Точно, нечего… Он, паскуда, бросился на меня, рассвирепел, похоже, а я его подмял под себя: мною все было обдумано заранее…
Вытащил я нож, тут он и взмолился, чтобы я его не убивал, что отдаст мне все, что только захочу. Заплатит мне те самые деньги, что не хотел платить вашему отцу. Я ему и скажи: деньги мне твои не нужны, девай их куда хочешь, а вот то, что ты оскорбил моего хозяина, который уважал моего отца, даже когда тот бы старым — а мой отец был человеком храбрым, он из отряда Ремешидо, ты, конечно, о нем слышал, — мне не по душе.
Задрожал подо мной Кинтас, вроде бы даже уменьшился от страха. Он понял, что перед ним мужчина!.. И перетрухал. А мне того и надо было. Я схватил его ухо и отрезал от него маленький кусочек. Сначала он ничего не почувствовал, но я показал ему этот кусочек и сказал: «Выбирай из двух смертей одну: или я по кусочку буду от тебя отрезать, такой, как ты, протянет долго — смерть хорошо сумеешь разглядеть и помучаешься… или, что для тебя лучше, вот тебе веревка — вешайся на этой балке. — Я ему и балку выбрал. — Эта годится?!» А он опять стал мне обещать деньги, обещал даже дочь и жену, но я-то знал, что он ничего мне не даст. Он опытный, но обмануть сына Тоино Счастливчика не сумеет. Он ведь тут же сдаст меня властям. И я ответил ему: «Давай решай быстро, а то у меня дел много», ну, а через полчаса я пошел кормить собак. И решил спросить его, не хочет ли он, чтобы я его бросил собакам. Вот тогда он закричал, кричал так, что охрип и не мог произнести ни слова, а потом умолк…
Антонио Лусио встал, отбросил стул и велел ему замолчать. В замешательстве Шико умолк на какую-то долю секунды.
— Он ведь оскорбил вашего батюшку. И отец ваш приказал мне его проучить.
— Но ведь он не сказал, чтобы ты убил его.
— Нет-нет, сеньор. Я и не убивал его. Но ведь нужно понимать и то, что тебе хотели сказать.
— Ну и что же этот человек?
— Повесился. Сам свершил над собой суд. Я ведь от уха-то его только кусочек отрезал, чтобы он понял, чем дело пахнет… А он до смерти перепугался.
Зе Каретник задремал, вино его усыпило. Он похрапывал.
— Этот мужик — человек хороший, — сказал Счастливчик. — Ваш батюшка приказал мне следить за ним пуще глаза своего… А он и мухи не обидит.
Мигел Жоан взял кусок мяса и принялся жевать; делал он это с трудом.
— Ну, а еще что расскажешь?
— Ничего…
Потом он встал и попросил разрешения уйти — хотел проведать собак. Он всегда перед сном ходил их проведать.
— Этот тип — убийца! — сказал Антонио Лусио, как только тот вышел во двор.
— Похоже.
— Пошли наверх играть в карты. Хоть чем-нибудь выбить из башки этот разговор.
Глава XIV НАСЛАТЬ ДОЖДЬ И ВЫМОКНУТЬ САМОМУ
Он и сегодня еще смеялся, когда вспоминал мертвенно-бледное лицо старшего сына, получившего от него приказ отбыть в сопровождении брата и Зе Каретника в имение Куба. Молодой человек пожелал объясниться, говоря отцу, что ссылка эта компрометирует его перед слугами, что он уже не ребенок и в ноябре должен жениться, но Диого Релвас ответил ему на все одним вопросом: «Ты уверен, что не виновен?» Лицо его было, как всегда, хмурым, но глаза чуть заметно улыбались. Ему доставляло удовольствие время от времени попытать, крепко ли держит он в руках своих сыновей, потчуя их, разумеется в разумных дозах, то кнутом, то пряником. И это была своеобразная ласка Диого Релваса по отношению к детям, которых он готовил к трудной жизни, по всему видно ожидающей их в будущем. Он хотел видеть их сильными. И знал, да, знал, и точно, что все они нуждаются в его твердой руке, которая никогда не даст им вылететь из седла.
Диого Релвас любил красиво выражаться. И этот образ уже как-то в разговоре с домашним врачом Бернардино Гонсалвесом употреблял, когда шла речь о крахе Австрии, вызванном американским экономическим кризисом тысяча восемьсот девяносто третьего года. Он прочел в газете, что в Соединенных Штатах почти каждый день появляется миллион безработных, и расценивал это как симптом того, что соблазнительная для многих толстосумов индустрия толкает человечество в пропасть. Его терзала мысль, что не имеющие здравого смысла люди подвергают риску будущее страны из-за своей болезненной страсти получить как можно скорее прибыль. По его понятию, деньги должны находиться в движении, да, не лежать без толку, он не любил видеть ни детей своих, ни денег в бездействии — это признак болезни, но если и дети, и деньги одержимы постоянным движением, постоянным и все убыстряющимся, он спрашивал: «Способен ли кто-либо удержать в руках вожжи, если коляска перевернется?»
Еще совсем недавно рабочие и работницы фабрики шерстяных изделий, хозяином которой он был, — фабрику он получил в наследство после смерти жены Марии Жоаны Ролин Вильяверде, — жили как заключенные, работая по шестнадцать часов в сутки, и ничего, а теперь они устраивают стачки, борясь за десятичасовой рабочий день, и требуют одинаковой оплаты труда. Кто выплатит им разницу?! Не будет ли эта мера направлена против всех?! Против самих рабочих, именно против них самих, которые просто помешались на нелепых идеях.
Совершенно случайно он заговорил об этом с председателем муниципалитета, когда они ехали с ним в черной коляске, запряженной парой игреневых лошадей, которую Релвас впрягал специально для деловых поездок в поселок. Это был его торжественный выезд. Трон-передвижка магната-громовержца, как называли выезд и его эти канальи республиканцы, с которыми теперь объединились прогрессисты, а-а! Все это слепота глупца Зе Лусиано!..
Момент, без сомнения, тяжелый, и все из-за этих распрей, которые разобщили партию монархистов; слепые, слепые и вожди слепых, еще хорошо, что Интзе и Жоан Франко [49] сообразили ввести диктатуру, покончив с либеральными фантазиями, которые так по душе были его отцу, но которые оказывались пустыми, если страна не знала, что с ними делать. И результат был налицо. Свобода, когда ее требовал народ, была опасным вымыслом. Ведь народ был несовершеннолетним и нуждался в опекунах, которые бы его наставляли и уберегали от смертельных опасностей, последствия которых необходимо было предусмотреть и обойти, если, конечно, это возможно. Хорошо еще, что судья Вейга был начеку и его рука карала.
— Никогда не дозволяйте, чтобы ваша рука дрогнула, — говорил Диого Релвас председателю муниципалитета. — Мы живем в чрезвычайное время… Но я здесь, рядом с вами, вы же знаете. Я ведь от опасностей не отворачиваюсь. Нет, общественным деятелем я быть не хочу, увольте, но хочу быть деятельным членом общества. Это не одно и то же.
— Коммерсанты зашевелились…
— Так вот, делайте так, как говорил мой дед: кнут! И посильнее!.. Правительство на хорошем пути, но все должно быть вовремя. Все промышленные и торговые ассоциации восстали против мер министерства финансов и свернули свои дела, прогрессисты отказались от преждевременных выборов, отложили. Однако, имей мы твердую руку, они опомнятся, придут в себя.
— Возможно…
— На «возможно» мы рассчитывать не можем, мой дорогой Соуза. В слове «возможно» всегда звучит неуверенность, а неуверенность в данный момент — синоним предательства. Так что «возможно» — предательский микроб…
— Я считаю себя неподкупным.
— Тогда смело вперед.
— Сказать, Диого Релвас, проще, чем сделать.
Этот ответ землевладелец встретил как пощечину и разозлился. Его глаза цвета старого золота или тины — точно, тина в рукавах Тежо именно этого цвета — потемнели.
— Несколько месяцев назад один из моих сыновей совершил легкомысленный поступок. Ну, обычные вещи для молодежи! Я призвал их к себе обоих и спросил, кто из них в том повинен. Они молчали. Так я их в Кубу… (он с удовольствием помолчал) и вместе с тем слугой, который на них пожаловался, чтобы они насладились обществом друг друга…
Председатель муниципалитета про себя подумал: «Наказал-то ты только слугу, друг мой. Чего он там только не перенесет!» — но ответил с добродушной улыбкой:
— Вы, Диого Релвас, были бы отличным председателем муниципалитета…
— Но вы же знаете, что у меня свои дела, — желчно ответил Диого Релвас. — Но если беспорядки будут продолжаться слишком долго, я подумаю и соглашусь (и тут же решил подсластить пилюлю) в тот день, когда вы, Соуза Модурейра, решите уйти в отставку, что, надеюсь, не скоро случится или, вернее, не случится вовсе.
Это была в одно и то же время и угроза и любезность. Соуза Модурейра хорошо знал, что зависит от землевладельца, а потому подобострастно протянул ему руку.
— Не место красит человека, а человек место, Соуза Модурейра. И вы должны это доказать, выполняя свой… Между тем ваше сердце иногда слишком великодушно к некоторым людям… За республиканцами и им подобными нужен глаз да глаз. Держите их в руках и страхе… Страх вовремя сдерживает людей, давая возможность избежать насилия. Будьте в курсе международных событий и особенно к ним внимательны: Франция жмет на нас из-за подрядчика лиссабонского порта, это некто Эрзент; Германия завладевает нашим заливом Кионга, что в Мозамбике, а обезьяны бразильцы опять нападают на нас из-за того, что мы предоставляем на наших кораблях убежище любым мятежникам. Дозволить беспорядки в такой момент…
— Правительство хочет распустить парламент, — сказал Соуза Модурейра, выразив этим свою осведомленность в политике, тайную конечно.
— Да это уже должно быть сделано давно.
— Каждому овощу свой срок…
— Это когда нет опасности потерять урожай, ожидая полного дозревания, но иногда — иногда стоит фрукт снять зеленым. Скоту и зеленый сгодится.
У дверей муниципалитета он высадил председателя и поехал в своей коляске дальше — нанести визиты друзьям и знакомым. Надо сказать, что в более серьезные моменты жизни Диого Релвас предпочитал по поселку передвигаться верхом на лошади. И один. С тем чтобы все могли его видеть.
Так и было, когда спустя несколько месяцев диктатура Интзе — Франко издала новый Свод законов, внеся изменения в избирательный, согласно которым мелкие избирательные округа упразднялись, а крупные попадали под надежную опеку высших должностных лиц королевства. Оппозиция пришла в ярость. Правительственный маневр целил в самое яблочко: расширить избирательные округа до пределов административных округов значило скомпрометировать в городах завоевавших престиж республиканцев и прогрессистов, растворить их голоса среди голосов избирателей поселков и деревень, где всем распоряжается и командует, почти как в средние века, сельскохозяйственный магнат.
Диого Релвас разъезжал по поселку на необычайно красивом светло-рыжем коне — шерсть цвета корицы вперемешку с белым, при доминирующем светло-рыжем с розовыми вкраплениями и белыми пятнами по всему телу. Это было великолепное животное, изысканно сложенное и редкого нрава. Объезжал его Зе Педро Борда д'Агуа, поплатившийся за свой подвиг двумя сломанными ребрами.
На этой самой лошади в ноябре тысяча восемьсот девяносто пятого года к церкви, куда были приглашены избиратели на выборы, и подъехал землевладелец. Он приехал в Алдебаран около полудня, хотя знал, что оппозиция голосовать воздерживается, а у возрожденцев есть надежда на победу.
Площадь кишмя кишела слугами, мелкими торговцами и ремесленниками, живущими в имении «Мать солнца». Они стояли группами и группками, не обращая внимания на непрекращающийся дождь. Управляющие, работники, погонщики скота и надсмотрщики — короче, вся свита его «королевского величества» ожидала появления своего «короля», стоя вокруг его сыновей, приехавших чуть раньше. Антонио Лусио женился год назад и приехал с братом из своего имения, которое было подарено ему отцом к свадьбе. Он сильно похудел. Хронический кашель, полученный после случившегося на заливных землях Лезирии наводнения, не оставлял его.
Как только послышался цокот копыт лошади Диого Релваса, разговоры на площади смолкли. Слуги поснимали шапки, всадники спешились и расступились, давая помещику дорогу. На лошадях оставались только сыновья, одетые по-рибатежски в штаны и куртки, но, когда силуэт отца замаячил в конце длинной улицы, к дверям домов которой высыпали женщины, чтобы поглядеть, как тот проедет, шляпы сняли и они. Все ему низко кланялись и желали божьего благоволения: ведь землевладелец пожаловал сюда, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Воцарившаяся тишина красноречиво говорила сидящим за избирательным столом о том, что Диого Релвас прибыл, кое-кто тут же бросился на ступени, ведущие в церковь, расталкивая стоящих на пути локтями, чтобы занять место поудобнее; Мигел Жоан и Антонио Лусио заставили лошадей стать друг подле друга на небольшом расстоянии. Диого Релвас прошествовал мимо, приложив кончики пальцев к черной шляпе и ни на кого не глядя. Но он видел всех и каждого, и они это знали.
Когда он остановился, сыновья спешились и наклонили в знак приветствия головы, а председательствующий стал спускаться по ступеням, точно играл малую гамму на плохо настроенном пианино. Мигел взял под уздцы гнедого, не выпуская из рук поводья своего коня, а Антонио Лусио встал около отцовского стремени и, приветствуя отца, поцеловал ему руку. От стоящей толпы отделились по-воскресному одетые и улыбающиеся бухгалтер и гувернер. Но пришлось подождать, пока не получит благословение Мигел Жоан, и лишь после этого коснуться кончиками пальцев ручищи хозяина. За ними подошел с поклоном падре Алвин, обменявшись быстрым взглядом с председателем. Последний тут же вернулся к сидящим за столом, которые приняли торжественный вид, соответствующий серьезности акта, обусловленного законом.
Спустя какое-то время, после того как все успокоились, кортеж во главе с Релвасом, правда несколько раздраженным глупостью гувернера, подошедшего к нему с вопросом — не лучше ли, если ему поаплодируют, — двинулся вперед. «Вы считаете, что я актер, что ли? Вы глупы!» И оттолкнул его от себя, решив, что этот женоподобный тип должен быть выставлен на улицу безо всяких объяснений. Идиот!
Сидящие за столом нервничали, теребили избирательные бюллетени, не оставляли в покое урну и даже собственные руки, точно старались очистить их от какой-то приставшей к ним грязи.
— Помогай вам бог, сеньоры! — сказал землевладелец.
За Диого Релвасом потянулся длинный молчаливый хвост его людей. Слуги встали в дверях.
— Кто-нибудь уже проголосовал?
— Только сидящие за столом, Диого Релвас.
Шевельнув пальцами, сеньор Алдебарана приказал подать ему бюллетени, что тут же и исполнил один из секретарей: открыв ящик и вытащив из него две пачки избирательных листков, он со страхом протянул их Диого Релвасу, со страхом, потому что боялся, что тот рассердится, увидев, что ровно столько же осталось в ящике. Кстати, там оставалась одна пачка, не больше, в целях экономии. «Никаких излишеств», — предупреждал министр финансов в своей известной речи.
Держа бюллетени в руке, землевладелец оглядел всех стоящих, передал обе пачки сыновьям, чтобы те их развязали, кивком головы приказал председателю раскрыть урну, что тот тут же и сделал, точно фокусник, собирающийся продемонстрировать свое искусство: осторожно придерживая крышку кончиками своих хрупких пальцев. Диого Релвас склонился над урной и погрузил в нее свою руку с бюллетенями точно так же, как погружались в Мадриде шпаги матадоров в тела его быков, и так же, как матадор, вскинув голову и победно улыбнувшись, отступил на два шага.
С выборами было покончено, как с быком.
Все, кто стоял у церкви, да и не только кто стоял у церкви, но и тот, кто отсутствовал, так как не хотел выходить из дома в этот дождливый день, а также параличные и мертвые проголосовали разом. Потом он пригласил Антонио Лусио, бухгалтера, гувернера и прочих своих домочадцев, которые были достойны держать бюллетени в руках. Процент голосования был высок. Председатель избирательной комиссии подошел к Диого Релвасу показать удостоверяющую в том бумагу, которую позже должны были повесить на дверь, но землевладелец не согласился:
— Девяносто восемь процентов, профессор Матос, — это же вздор! Не надо так преувеличивать… Поставьте девяносто два, как и есть на самом деле.
Матос вернулся на место и выместил злобу на секретаре, который так и не понял, в чем, собственно, разница. Он ограничился тем, что пересчитал данное счетчиками количество голосов и счел абсурдным желание Релваса уменьшить их число.
— Можно идти обедать? — спросил землевладелец.
— Конечно.
— Мои заверения, сеньоры, — сказал Релвас, прощаясь и пожимая руку председателю комиссии, и уехал с той же помпой, с какой приехал, только теперь уже в сопровождении сыновей, сияющих и надменных. Они сели на лошадей и двинулись торжественным шагом, в то время как стоящая у церкви толпа медленно растекалась по площади Алдебарана. Мигел вспомнил батрачку, но тут же теплое воспоминание остудил пронизавший его холод.
Отец говорил наследнику:
— Мне не нравится видеть тебя, сын, в таком состоянии. Ты был у врача?…
В середине пути, который шел мимо респектабельных домов, их встретила в экипаже Мария Луиза Сампайо Андраде, жена Антонио Лусио, ехавшая в сопровождении золовки и Руя Диого, старшего сына Эмилии Аделаиде. Они совершали прогулку по окрестностям и решили узнать новости. Больше всех проявляла интерес Мария Луиза, но свекор пресек ее любопытство, заметив, что ее дело — следить за мужниным здоровьем. Он особо подчеркнул последнее слово.
— Едет сам громовержец! — сказал, стоя у дверей лавки на улице Меркадорес, глава якобинцев поселка.
В этот зимний день Диого Релвас прогуливался по поселку, опять-таки верхом на лошади. О посланных в колонии военных экспедициях приходили хорошие вести: они одерживали победу за победой — это было ответом на маневр англичан, которые поддерживали племя ватуас и Гунгуньяна [50]. Однако землевладелец Алдебарана посетил поселок совсем не по причине одержанных побед, а для того, чтобы все те, кто относился к нему враждебно после закона [51], принятого тринадцатого февраля тысяча восемьсот девяносто седьмого года, видели его во всей красе.
— Да, сеньор, то было прекрасное испытание силы власти, — заявил он в муниципалитете. — Скорый и тайный суд над анархистами с высылкой на Тимор. Кто не хочет быть волком, на которого охотятся, пусть не лезет в его шкуру или не ходит в волчьей стае, а всех подозрительных нужно судить так же, как и пойманных с поличным.
Республиканцы знали, что новый закон отнюдь не дозволял высылать на Тимор людей по простому подозрению, однако было именно так. Королевство жило в страхе и недоверии ко всему. И в этот суровый час Диого Релвас совсем забыл, что в зале его господского дома висели две символические лошадиные головы. Однако время требовало занять определенную позицию, и допустить, чтобы произрастала сорная трава непокорности, — значило подвергнуть опасности основу цивилизации. А этому способствовать он отказывался.
К тому же Диого Релвас был уверен, что дед и отец сумеют его понять. Он уже поднимался в Башню четырех ветров и в беседе с ними высказал свое мнение. Ведь иного пути, как сохранять верность родине, у него не было. Он рисковал и знал, что рискует, но он должен показать пример в своем приходе, пробудить от спячки тех, кто впал в нее.
— Скажи твоему хозяину… Ты меня знаешь?
— Знаю, вы сеньор Диого Релвас. Удовлетворенный ответом, землевладелец кивнул головой.
— Так вот, скажи своему хозяину, что я здесь. Я слышал, что он ручался, что способен…
Он удержался от бравады, и вовремя. Ведь когда человек теряет спокойствие — это плохой признак.
— Лучше скажи ему, что я здесь был и что я его жду в своем доме в любое время, когда он захочет… Нет, я не все скажу, что хотел сказать. Понятно?
Побуждаемый единомышленниками, в дверях лавки появился хозяин. Это был человек никчемный, но слывший за храбреца.
— Гражданин пришел, чтобы со мной поговорить? — спросил якобинец. — Чем обязан визиту?
— Я — Диого Релвас, знаешь?… Мне сказали…
— Уважающие себя люди слухам не верят.
— Справедливо. Хочешь, чтобы я услышал своими ушами и от тебя?… Стоило бы въехать к тебе в дом на лошади. Или н-нет?
— Я никогда не стеснялся своих идей и несу за них ответственность.
— Это хорошо. Я был другом твоего отца… Это был святой человек!
— Честный гражданин…
— Надеюсь, что ты его никогда не опозоришь.
— Даже под угрозами.
— Тогда мы поняли друг друга.
Но, возвращаясь в имение, Диого Релвас злился сам на себя. Он отдавал себе отчет, что на высоте не был, когда пошел искать удовлетворения у этого якобинца. К тому же из-за простого доноса. А уж если он этому доносу поверил, то должен был идти до конца: взять кнут и отхлестать им врага. Но факт тот, что враг показался ему не столь твердо стоящим на своих позициях. Раньше он считал, что подобные дела — забота политиков. И в данный момент это было бы разумно.
«Я должен ясно мыслить… Раздражаться — значит, сдаваться врагу. Да и это ли мой настоящий враг? Необходимо запретить Соузе Модурейра что-либо мне доносить. Он в муниципалитете и должен исполнять свой долг! Хуже то, что я люблю быть в курсе всего. Но я обязан сдерживать себя. Вести себя разумно…»
Глава XV ВКОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О БЕДАХ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ
«В тот год я был сослан, умирал и женился. Беда не приходит одна», — так остря, что с Антонио Лусио теперь случалось редко, он говорил об историческом далеком тысяча восемьсот девяносто четвертом годе.
О Флоринде и отрезанном кончике уса — двух неприятностях сразу — он не заикался. Хоть все еще надеялся получить от Флоринды уведомление о встрече где-нибудь, только не в квартале рыбаков, так никогда и не узнав о письме, которое было прислано в поместье и в котором она признавала свое соучастие в посягательстве на его милость. Теперь о рыбаках он слышать не хотел. И Салса, и другие пастухи имения разделяли его ненависть к этому сброду, который появлялся на клеймение быков только для того, чтобы мешать работе, сеять склоки и беспорядки. Они еще имели обыкновение тащить с собой своих босоногих женоподобных сосунков! Если отец был в отъезде, Антонио Лусио тут же приказывал отослать их обратно.
От ссылки в Алентежо у него остались только приятные воспоминания. Там он от души наслаждался враждой брата и Зе Каретника, которого как-то вечером вызвал на разговор о его бабе. Выпив как следует, старый мастер пустился в воспоминания и стал для обоих братьев посмешищем, особенно когда Мигел Жоан похвастался знанием того, что баба его совсем не была такой, какой выставлял ее перед ними Зе Каретник.
— Барчук мог бы и не трогать ее. Для вас она все равно что порванная рубаха, а мне нужна, ведь бедному и порванная сгодится. Вы же можете иметь каких захотите — и красивых, и нарядных… Она была стыдливая…
— Ты так думаешь, Зе?
— Знали бы вы, чего мне стоило уговорить ее стать моей… Она ведь девушка была… С бесстыдством не знакомая.
— Девушка? В каком месте? — подначивал Мигел Жоан.
— Ослепнуть мне, если не молодой барин совратил ее, плохо это, плохо. Но всему виной я сам, если разобраться. Все хвалил вас: и добр-то он, и хорош со всеми — все на свою голову. Но другой я не хочу в свой дом… мне она нужна, понимаете? Старому женщина нужнее, чем молодому.
— Это почему же, Зе?
— Он еще спрашивает! Да потому, что старый больше мерзнет, и хуже всего, что мерзнет изнутри. Он думает, что она с ним ради ею красивых глаз, и доволен… И она была со мной. Но барин украл ее у меня. Если бы я не был в долгу перед вашим батюшкой, я бы это так не оставил, молодой человек…
И вдруг Зе Каретник судорожно зарыдал, зарыдал за столом, где они ели жаркое и пили вино. «Пьяные слезы!» — пошутил Антонио Лусио, а Мигел тут же принялся травить раненую душу старика, рассказывая, как его недотрога сошлась с ним в один из вечеров, когда он был на берегу Тежо. Зе Каретник просил его замолчать. «Не нужно, нехорошо так лгать, молодой человек», — говорил он. И оба брата видели, как горят его глаза, затуманенные слезами и ненавистью, но ненавистью бессильной. Тут Зе Каретник схватил бутылку, разбил ее об стол и, прежде чем они успели его остановить, принялся осколками раздирать себе лицо. От смерти спас его Антонио Лусио, дав Зе Каретнику как следует в челюсть, от чего тот свалился и заснул. А они на запряженной мулами телеге отвезли его в больницу, где боль от лечения была меньшей, чем боль от оскорбления, нанесенного ему Мигелем Релвасом. Кроме того, Антонио Лусио решил написать письмо сестре, попросив у нее в долг пятьсот мильрейсов, после чего ему будет нетрудно уговорить Зе Каретника не возвращаться в Алдебаран. Ведь что бы подумал и сделал отец, увидев его изрезанное лицо? Оставалось только подкупить управляющего имением Прагал, Шико Счастливчика, с тем чтобы он написал Диого Релвасу письмо, ставя его в известность о побеге Зе Каретника, несмотря на службу сторожевых собак.
Потом Мигел Жоан не раз вспоминал ярость, с которой Зе Каретник резал себе лицо, и его ответ на их вопрос, что же теперь он будет делать, раз ему так улыбнулась фортуна и он будет свободен. «Пойду искать свою бабу, мне не стыдно в этом признаться. Можно ли стыдиться, что тебе нужна женщина?… Только прошу вас не рассказывать о том, что здесь произошло». И он в самую жару двинулся к близлежащей железнодорожной станции. В тот момент Антонио Лусио ему посочувствовал.
Два месяца спустя посочувствовали и Антонио Лусио Вильяверде Релвасу многие, кто считал его погибшим во время наводнения на заливных землях Лезирии.
Зима пришла раньше обычного. И сразу же вступила в свои права, не в пример запаздывающим, вялым, быстро проходящим. Пришла в канун ярмарки в Вила-Франке [52], налетела с циклоном, сорвавшим купол у двух цирков и снесшим торговые бараки, затопила дождями арену, уже готовую к первой корриде, и явно чувствовала себя хозяйкой, потому что захватила весь прибрежный район Тежо, напустив на него беснующийся ветер и воздвигнув сплошную стену дождя. Никто не ждал такой яростной ее атаки.
Как только мель стала исчезать под водой, пастухи принялись отводить скот с заливных лугов. Кое для кого из землевладельцев, особенно для тех, кто не сразу заметил это, начавшийся паводок обернулся настоящей бедой: они потеряли много голов скота, потому что некоторые застигнутые врасплох стада вынуждены были тут же выбираться на дорогу, ведущую в степь, преодолевая вплавь образовавшееся вдруг водное пространство. Грустно было смотреть на этих перепуганных, мычащих и ржущих хромых животных, бредущих под аккомпанемент колокольчиков вроде бы навстречу своей собственной смерти. И на быков, подгоняемых окриками погонщиков, быков, всегда таких свирепых, а теперь походивших на покорных коров.
Слава богу еще, что одновременно не дул южный палмелский [53] ветер и Тежо не ринулась на рвы Понта-де-Эрва и не соединила свои воды с водами паводка, который шел сверху и нес с собой перегной других земель. Нес бесплатные удобрения, украденные дождем, и без устали откладывал на заливных землях. То была пригоршня золота, безвозмездно брошенная природой в карман местного земледельца.
Диого Релвас ликовал: кризис его не сразил — наоборот, он даже извлек из кризиса кое-какую пользу и считал, что время и политика работают на него, а потому еще больше уверовал в им же самим придуманное изречение: «Судьба — это ветер, который для сильного человека всегда попутный». Он отправился в свою обычную поездку по алентежским землям, взяв с собой Мигела Жоана, а наследника Антонио Лусио оставил присматривать за всеми прочими землями, подстегнув его тщеславие следующими словами:
— Ребенком вы желали быть лодочником… Теперь, будучи взрослым, оставайтесь-ка у штурвала этого корабля. Думаю, что вам известно — если корабль терпит бедствие, капитан покидает его последним. Пишите каждый день о всех новостях. И благодарите меня за доверие. Я желал бы знать, есть ли мне на кого положиться.
Поцеловав протянутую с облучка руку, Антонио Лусио поклонился. Нервы его стали железными, и он в тот же час пообещал сам себе: он докажет всем и каждому, что землевладелец — это нечто большее, чем тиран.
Да, это обещание Антонио Лусио говорило о том, что он не был согласен с поведением отца.
Между тем погода не менялась: солнце проглядывало на минуту-другую и опять шел проливной непрекращающийся дождь. Антонио Лусио приказал следить за дамбой и Собачьим морем — большим рвом, идущим через всю Лезирию от отмели до Понта-де-Эрва, и первым паводком, что, оставив ил на заливных землях, ушел в Тежо. Он вставал на рассвете, обходил конюшни и манеж, где теперь Зе Педро Борда д'Агуа объезжал жеребцов и кобыл, советуя тому не разрешать Марии до Пилар отнимать у него драгоценное время, и задолго до прихода бухгалтера появлялся в конторе. Разговаривал он только с двумя управляющими и никаких бесед, как это делал Диого Релвас, ни с работниками, ни с конюхами не вел. Дисциплина должна зиждиться на уважении к стоящему выше тебя. Избегал он и доверительных бесед с падре Алвином, которому простил карточный долг, и стал держать необходимую дистанцию с гувернером, мисс Карри и младшей сестрой, хотя сохранил привычку беседовать с Жоакином Тарантой, карликом, возможно для того, чтобы быть в курсе всех мелочей, знать которые мог только тот.
На конюшне он всегда держал оседланную лошадь, ту, что выбрал себе на время своего короткого царствования, пока отец в отъезде.
Карлик охаживал эту лошадь со всей любовью, на которую был способен. Не имея ни жены, ни детей, он всем сердцем был привязан к хозяйским детям, а в данный момент к Антонио Лусио больше, чем к кому-либо другому, потому что никто никогда не оказывал ему такой чести: Антонио Лусио приходил к нему вечерами, брал скамейку, такую же, как у него, садился и разговаривал с ним. «Возьми-ка вот эту сигаретку, Жоакин Таранта, ну, что скажешь?» Даже за Черешней — кобылой, которую Диого Релвас — храни его господь! — выбрал для своего внука Руя Диого, — он не ухаживал с таким тщанием, как за Золотистой.
— Что я скажу, барин? Скоро будет такая высокая вода, что всякая божья тварь, стоя, нахлебается. Идет наводнение, оно на своем пути снесет все…
— Почему так думаешь?
— Ну, опыт, приобретенный жизнью, подсказывает. Я ведь что здесь делаю: ухаживаю за лошадьми да смотрю на небо. Нюхом чую погоду. И всегда точно. И когда так тянет поверху с той стороны, ждать хорошего нечего. — Он сморщил и без того морщинистое лицо, встал, подпрыгнув на своих кривых и слабых ногах, и заключил: — Этой ночью на нас обрушится водяной ад.
И ад обрушился. Обрушился раньше, чем того ждал карлик. Дождь начался вечером и лил, и лил всю ночь напролет, ни на минуту не переставая, лил как из ведра, все усиливаясь и усиливаясь, то зависал прямыми толстыми нитями, то гнулся, делался косым под резкими порывами северного ветра. Взволнованный Антонио Лусио не ложился допоздна, однако, сломленный усталостью, все-таки повалился на кровать в чем был. И заснул. Даже не вспомнив об англичанке. Позже ему казалось, что едва он заснул — он спал, слыша каждый шорох, — как был разбужен кем-то, похоже, это был Атоугиа, кто в большой тревоге рассказывал карлику и Зе Педро о случившемся несчастье. Он распахнул окно и спросил, что же это за несчастье. Ему ответили, что воды Тежо прорвали земляную насыпь и движутся в низину, сметая все на своем пути. По тому, как захлебывается водой набережная, беда должна быть великой.
Соскочив с кровати, Антонио Лусио бросился к конюшне, подождал, пока Таранта вывел ему Золотистую. Поверх куртки он надел подбитую лисьим мехом саммару. Зе Педро посоветовал прихватить клеенчатый плащ. И тут же ускакал один, да, он не нуждался в сопровождающих, но Атоугиа все же последовал за ним на некотором расстоянии, зная, что должен быть при хозяине. Подъехав к пристани, Антонио Лусио почувствовал внезапное беспокойство, у него было такое ощущение, что сердце его ослабло от того, что он так спешил прибыть на место происшествия. Привязав лошадь к дереву, он, надев плащ, спустился на берег Тежо. Таверна была битком набита людьми. Все: и те, кто пил водку, и те, кто ее не пил, а стоял здесь, снаружи, ожидая лодки, — были потрясены случившимся. К ним подходили плачущие женщины. У старой набережной оставались привязанными только три бота да один баркас.
И в этот самый момент Антонио Лусио услышал позади себя раздраженный голос:
— Скот-то они, конечно, переправили… Он ведь денег стоит. А людей что, их вона сколько. Зачем о них думать.
Он было повернулся, чтобы ответить говорившему, но решил, что в такой момент слова — дело пустое. Бросился к дереву, отвязал Золотистую и пустился вниз по берегу.
— Эй, эй! Шкипер баркаса!.. Перевези-ка меня на ту сторону!
— Это в такую-то бурю?
— Заплачу, заплачу, сколько спросишь…
— Два фунта золотом, пойдет? — спросил тот, что сидел на носу баркаса.
— Я же сказал: заплачу, сколько спросишь.
Кое— кто опознал Антонио Лусио еще до приезда Атоугии. Его окружили и предлагали свои услуги.
— Нет, благодарю, не надо. Вы все равно ничем помочь не можете. Мне нужен баркас…
— А деньги-то есть? — спросил шкипер, переговорив с командой.
— Меня здесь все знают. Я из Релвасов. Ясно?! Если нет, то одна или обе кобылы останутся у хозяина таверны.
Он вошел в воду на лошади и стал отталкивать баркас от берега. Среди пастухов тут же нашлись помощники. Атоугиа настаивал на том, что будет сопровождать его. Но Антонио Лусио отказался, он желал только одного — узнать новости, и как можно скорее. И он узнал их почти тут же. Оказалось, что наводнение еще не прорвало дамбу, во всяком случае, когда мимо тех мест проходил баркас, груженный зерном, — вот ехавшие на баркасе и рассказали все это. Народу там без счета, это точно, и группа землекопов, которая накануне утром прибыла в Арриагу. Их нужно бы предупредить. Пастухи объясняли, что лодочники наотрез отказались их перевозить на тот берег. Что же им было делать?! Река неслась с такой силой, что никому из лодочников не хотелось тонуть из-за каких-то шести патако за проезд.
Антонио Лусио приказал отчаливать.
Всхлипывания женщин смолкли. А когда баркас отошел от берега и стеной стоящие пастухи сняли береты и стали ими махать ему, Антонио Лусио крикнул слово прощания, как бы отвечая на только что слышанное им о скоте и людях. Начинало светать. Он не подошел к ехавшей на баркасе компании, а остался подле лошади, которую все время поглаживал, стараясь приободрить. С лошади стекала вода, и она встряхивала головой, благодаря хозяина за ласку.
— Теперь видите, хозяин, какое течение? — спросил шкипер.
— Да, вижу, ну и что? — ответил Антонио Лусио враждебно.
Он не знал ни одного из этих лодочников, но всех считал подозрительными. Должно быть, они из Алкошете.
Воды Тежо бежали стремительно, почти яростно. Они были мутные и глинистые, и порыв ветра бросал их на берег, оставляя на берегу несомый ими ил. Антонио Лусио поглядел на правый и на левый берег и, оценив оставшееся расстояние, поднял голову вверх, подставив лицо дождю. Он надеялся, что, смело взглянув в лицо опасности, избавится от головной боли, вызванной страхом. Храброго десятка он не был, нет, что правда, то правда, но сейчас ничто бы не заставило его отступить.
Обходя мель, баркас резко перевалился на другой бок и развернулся против течения; волны налетели на судно, обдавая водой палубу от носа до кормы. Ноги Антонио Лусио промокли, но заботили его не ноги, а лошадь. Ему доставляло удовольствие показать этим кичившимся своей храбростью лодочникам, что и человека суши — земледельца — такой пустяк не обескуражит.
— Хозяин, где причалить-то?
— Там, где лошадь сумеет сойти на берег.
— Вас ждать?
— Конечно. Или ты решил, что меня нужно только доставить сюда?
— Я считал, что туда и обратно…
— Так вот: перевезешь и тех, кого потребуется. Два фунта золота — плата хорошая.
— Нас там ждет груз соломы…
— А я тебя нанял, чтобы перевезти людей, что в опасности… Хочешь больше — говори свою цену… Но тогда деньги получать будешь в муниципалитете.
Они старались кричать как можно громче — только так можно было что-либо услышать. Но Антонио Лусио на хозяина баркаса не смотрел. Между тем дождь усиливался. Усиливался и ветер. Держа курс на берег, баркас резал поток и, прыгая на волнах, искал место, где пристать, чтобы лошадь и землевладелец могли бы сойти на сушу.
— Вон там, около той дамбы! — крикнул прижавшийся к носу баркаса человек.
Капитан так крутанул руль, что на мачте хлопнул парус, и баркас пошел вдоль берега, выбирая место причала. И пока он так шел, команда поспешно убирала парус, чтобы сбавить ход и идти по инерции.
— Который час?
— Да не так много.
— Два, что ли?
Ему не ответили. Лошадь вязла в размытой земле, и Антонио Лусио никак не мог решить, в каком направлении двинуться. Он оглядывал притихшие и опустевшие заливные луга Лезирии, на которых скота не было. Только печальные тополя, тростниковые заросли да стога соломы разнообразили пейзаж этих мест. Все было охристым и серым, источающим тоску. Никаких признаков наводнения видно не было: должно быть, дамбы выдержали напор воды и вся она сошла по рву, который он увидел чуть дальше, это, видно, и успокоило работников, укрывшихся от дождя в бараках, где обычно ели. Золотистая не выказывала ни малейшего страха. С гривы ее стекали потоки воды, ноги вязли в грязи, но она шла вперед, не принуждая Антонио Лусио давать шпоры. Для животного это было хорошее испытание. Интересно, каких она кровей?
Чавкающий звук копыт заставил людей высыпать во двор перед бараком; землевладелец приказал им взять с собой только самое необходимое — слишком много людей нужно вывезти — и идти к стоящему у берега баркасу.
И, не теряя времени на разговоры, последовал дальше; его начинало знобить; не пострадает ли он из-за этой черни? Время от времени он всматривался вперед, раздумывая, по какой колее и к какому из двух стоящих в отдалении бараков ему лучше ехать. И решил, что, пожалуй, лучше к тому, что был самый дальний, а потом, на обратном пути, заехать в ближний. Вдруг он увидел наверху стога машущих руками людей и поехал к ним, пустив лошадь крупной рысью и крича им, чтобы они шли к реке, где стоит баркас, но понял — ветер относит его слова. И тут он испугался, сам не зная почему, возможно из-за шума ветра, который был необычным, похоже, это был вихрь, который кружил там, вдалеке, но шел прямо на него. Озадаченный еще неясным предчувствием, он остановил лошадь и привстал на стременах, вглядываясь в даль. Вдали все было окрашено совсем в иной цвет, чем тот, который видели его глаза рядом: то был темно-желтый цвет, только темно-желтый и ничего черного или зеленого, столь обычного для этих мест. Теперь и Золотистая стала выказывать беспокойство: все время переступала с ноги на ногу, поворачивала голову в ту сторону, откуда они пришли, и ржала, дважды ее ржание показалось ему похожим на взволнованный человеческий крик. Он хотел было привести ее в чувство, чтобы не стать посмешищем в глазах тех, кто ждал их на баркасе, но увидел, да, увидел своими собственными глазами желтый глинистый вал воды, штурмующий стог, на котором стояли люди, а чуть позже — второй перекрывающий первый и, как видно, намеревающийся одним ударом сровнять с землей все.
Тут он повернул лошадь к берегу и пришпорил ее. Тогда-то Антонио Лусио и услыхал грохот преследовавшего его наводнения; времени на то, чтобы, оглянувшись, убедиться в этом, у него не было: он и так потерял много дорогих минут, но спиной чувствовал его устрашающее дыхание. То была огромная, чудовищная пасть, которая выла, рычала, грохотала, точно перекаты грома, возможно с одним-единственным желанием — проглотить появившегося здесь землевладельца со всеми потрохами; ни на секунду Антонио Лусио не переставал чувствовать дыхание разбушевавшейся стихии и безотчетно сдавливал ногами бока Золотистой, которая со вставшей дыбом гривой неслась, словно на крыльях ветра, под проливным дождем. Дамба была рядом, не совсем рядом, как хотелось бы, но близко. Теперь это было единственное укрытие, которое можно было найти во всей Лезирии. Впереди он увидел ров и перемахнул через него. Как это ему удалось — одному богу известно, но только следом за собой он услышал рычание воды, которая заполняла каждое углубление. И здесь, разгулявшись безо всякого удержу, она его настигла, сбила с ног и лошадь и седока. Антонио Релвас почувствовал, что погружается в воду, выбросил вверх руки и закричал. Ужасающий крик лишил его последних сил, и он, потеряв сознание, рухнул тяжестью обмякшего тела на дамбу, тогда как Золотистая поднималась на ноги — это он уже узнал потом, из рассказов.
Борьба между лошадью и водой была долгой. И та и другая сражались за Антонио Лусио. Но победила все-таки лошадь, это стало ясно, когда вода схлынула. Тогда лошадь вцепилась в одежду Антонио Лусио зубами и с большим трудом потащила его, оглашая окрестность ржанием в надежде, что люди придут на помощь. Но прийти на помощь было некому. И она волочила по грязи и чертополоху дамбы тело Релваса, которое то застревало, то соскальзывало, грозя снова оказаться в воде. Это продолжалось долго, до тех пор, пока лошадь не вышла на возвышенное место между Тежо и затопленным лугом. Здесь она, измученная, легла около хозяина.
Тут— то и нашли их лодочники, обоих считая мертвыми.
Вот тогда-то и схватил Антонио Лусио этот сухой кашель, что теперь не давал ему покоя. А лошадь получила новую кличку. Теперь ее звали Чудотворная, к чему она быстро привыкла. Крестным лошади был, конечно же, карлик Таранта.
С тех пор в церкви Алдебарана всегда в один и тот же ноябрьский день Диого Релвас с семьей и слугами присутствует на благодарственном молебне, им же самим заказанном. Диого Релваса всегда сопровождает самая любимая дочь-Мария до Пилар, несмотря на то что в последние годы число Релвасов приумножилось. У землевладельца теперь пять внуков: трое от Эмилии Аделаиде, которые живут в Синтре с матерью, и еще двое мальчиков, рожденных Марией Луизой Сампайо Андраде, теперь Релвас, состоящей в браке с наследником дома Релвасов. Обоих мальчиков нарекли Диого: тот, что уже ползает, зовется Антонио Диого, а тот, что сосет грудь, — Жоан Диого.
Глава XVI КРАСИВЫЙ ВОЛК
Самоуверенным Зе Педро Борда д'Агуа был всегда — была в нем эта отцовская косточка, но с того самого дня, когда Диого Релвас подарил ему ту лошадь, на которой он участвовал в бою с молодым быком под открытым небом, он стал еще и тщеславным. После же состоявшейся в Мадриде корриды, в которой принимали участие два португальских быка и по завершении которой Зе Педро в обществе тореро вышел на арену, чтобы поблагодарить за аплодисменты, адресованные его хозяину, тщеславие его возросло. Потом его заботам поручили манеж, «он был особенно способным к объездке лошадей», говорил Диого Релвас и любил рассказывать, что парень на этой новой работе уже сломал два ребра и повредил руку из-за того чалого коня, который был продан одному тореро и имя которого так часто теперь мелькало в газетах.
Зе Педро гордился славой коня. Он его воспитал и оставил на его шерсти отметину, «это мой сын», говорил он.
Берет Зе Педро не носил, как не носил и одежду пастуха, хотя по праздникам на нем были надеты темные штаны, вязаные носки, красный опоясывающий бедра кушак и того же цвета жилет. Хозяин приказал ему одеваться так, как одеваются земледельцы, и подарил еще кордовскую светло-коричневую шляпу и рубашку спереди в складку, с позолоченными пуговицами и низким воротником.
Надо сказать, тщеславие ему шло.
Стройный, очень стройный и сухой, сильные ноги, лицо красивое и выразительное с живым взглядом и выступающими на худых, впалых щеках скулами. Волосы черные, такие же черные, как глаза, рот маленький, с тонкими губами, зубы белые, выделяющиеся на смуглой коже лица. Похож на мулата.
Так на одном вечернем уроке описывали портрет Зе Педро Мария до Пилар и гувернантка, когда ученица предложила дать письменный портрет объездчика лошадей. Каждая привнесла в описание Зе Педро свое отношение к парню, однако мисс Карри воодушевилась темой настолько, что сама закончила предложенное упражнение на языке, который манерный гувернер называл языком Шекспира. Англичанка питала к гувернеру отвращение, хотя он за ней ухаживал.
За серьезной, почти непроницаемой внешностью мисс Карри скрывала свой экзальтированный темперамент, который все же выдавали ее всегда блестящие жаждущие глаза и богатое воображение, скупо хранимое от сеньоров Алдебарана. Жить здесь ей нравилось, окружение возбуждало ее, но она с первых же часов своего пребывания в имении поняла, что должна служить хотя бы внешне образцом поведения. За исключением, конечно, того вечера, когда они праздновали успех релвасовских быков в Мадриде. До сегодняшнего дня она так и не поняла, почему же Мигел не осмелился прийти к ней: ведь она была совершенно свободна в своем выборе. Время от времени она предоставляла каждому возможность идти вперед в своих планах, ей нравилось, когда за ней ухаживали, но всегда уходила с возмущенным «ах» на устах, которое мужчины расценивали как стыдливость, тогда как на самом деле это был хорошо скрываемый огонь, что сжигал ее изнутри.
Выходившему из подчинения воображению мисс Карри давала волю только в пределах своей комнаты: при потушенном свете она раздевалась, ложилась голой на зеленый ковер и пила привозимое каждую неделю из Лиссабона виски, рядом с ней оказывались то молодые Релвасы, то сам Диого Релвас — который, да, конечно, тоже еще был вполне красивым мужчиной, — то кое-то из старших пастухов, они овладевали ею в ее мечтах здесь, на этом зеленом ковре. (В письмах, которые мисс Карри писала своей близкой подруге в Лондон, она обо всем этом рассказывала так, точно мечты ее были явью. И та просила подыскать ей такое же хорошее место.)
Пила мисс Карри умеренно. Она знала, что со временем виски делает свое гнусное дело, а потому выпивала ровно столько, сколько было необходимо, чтобы, отправившись в лес, предаваться жизни, соответствующей ее вкусам. Заросший редкими деревьями и посещаемый редкими птицами уголок леса она хотела сделать раем для встреч со своими любовниками. Один такой уголок, где росли платаны и кедры, где из скал сочилась вода и куда никогда не заглядывало солнце, хотя шедший сверху луч и прыгал с ветки на ветку, так и не попадая на землю, заросшую папоротниками, она знала. Как-то раз утром она случайно набрела на него и была совершенно уверена, что без труда и в любой момент найдет сюда дорогу, «найду с закрытыми глазами», думала она.
Когда мисс Карри видела, как Мария до Пилар пускала лошадь в галоп и, увлекая за собой Зе Педро, исчезала в лесной чаще, ей казалось, что она угадывала, куда они едут и что между ними происходит: они приезжали в лес усталые, соскакивали с коней, предоставляли им свободу, шли пить родниковую железистую воду, которая текла по деревянному, плохо обрезанному желобу, и потом, не разжимая рук, ложились друг подле друга…
На этом же уроке англичанка положила перед Марией до Пилар тетрадь, в которой по-английски было написано все, как рисовало ее воображение эти поездки в лес, и положила для того чтобы ученица, могла перевести написанное на португальский.
— Ну а потом? — спросила гувернантка.
— Что потом?
— Да все остальное?…
— Что остальное?…
Мисс Карри смотрела на нее нетерпеливо, ей не хотелось говорить прямо, что описанная ею прогулка — это прогулка Марии до Пилар с Зе Педро, хотя дочери сеньора Релваса скоро исполнялось шестнадцать и, как та сам? ей рассказывала, отец уже спрашивал ее, не думает ли она, что пора найти себе жениха, на что получил ответ: «Еще рано, я хочу получить удовольствие от девичества и не хочу остаться, как Милан, вдовой». Так, во всяком случае, или чуть иначе сказала Мария до Пилар отцу, но гувернантка сочла сказанное за истину, которой придерживалась сама, однако все же ответ, который получил землевладелец, расценила проявлением нерешительного характера девушки, иногда готовой расплакаться из-за пустякового препятствия, а иногда желающей сгореть в огне жизни, распорядившись всем, что ей принадлежало, и всем, что она желала, чтобы ей принадлежало. Даже всегда подчинявший себе людей Диого Релвас и то, подобно снисходительному деду, исполнял капризы барышни.
— Вы хорошо понимаете, что я написала?…
— Более или менее, — ответила Мария до Пилар.
— Так скажите, что же вы поняли…
— Мы начали говорить о Зе Педро, и я сказала: он похож на араба. Тогда вы, мисс Карри, начали описывать прогулки в лес на лошадях одного парня и одной девушки, они ездили в укромное место, где был источник, и ложились, взявшись за руки…
— Да, именно это, — подтвердила англичанка, не решаясь повторить свой вопрос.
— И мисс спросила меня об остальном. Откуда мне знать об остальном, если ни юношу, ни девушку я не знаю…
Лицо Марии до Пилар, кроме вопроса, ничего больше не выражало. Или Мария до Пилар так ловко обманывала ее?!
— А вам не нравится фантазировать?…
— Нет! Здесь, в нашем доме, нам с колыбели известно, что фантазии — удел слабых. И я считаю, что отец прав, говоря это.
— Вы никогда не думали о том юноше, что похож на араба? — враждебно спросила англичанка.
Мария до Пилар отрицательно покачала головой, чувствуя, что не способна поднять глаза на гувернантку и краснеет от неожиданно обдавшего ее жара. Она смутилась, не решаясь сказать, что смотрела на него другими глазами после боя с молодым бычком под открытым небом — тогда она поскакала к нему навстречу, возможно, именно поэтому, и все. Да, ей запомнились те дни в Мадриде в его обществе и обществе отца. Они садились на лошадей и вместе с Зе Педро, одетым в костюм пастуха, объезжали мадридские улицы и парки и пользовались успехом, хотя она сидела на лошади в позе амазонки, как велел отец; она видела, как мадридские женщины останавливались, оглядывая красивую фигуру парня, и говорили «guapo» [54] — это слово Мария до Пилар произнесла, умело копируя их. Но сейчас все это не имело ни малейшего значения. Так зачем же об этом говорить?!
— Мисс Карри забывает, что Зе Педро слуга в нашем доме, — ответила она не очень твердо.
— Вот по этому-то самому… Слуга тоже мужчина (теперь она на все была готова), во всяком случае в Англии, да и во всех других цивилизованных странах для женщин, не имеющих любви…
— Сгодятся и слуги?
— Конечно. В высшем обществе это обычное дело. Когда в какой-нибудь цивилизованной стране какая-нибудь сеньора при людях плохо обращается со слугой, садовником или, к примеру… Но простите, вы еще очень юны, чтобы слушать подобные вещи.
Никогда не оставлявшее Релвасов тщеславие заговорило в Марии до Пилар, и она, решив показать себя вполне опытной, затрясла головой, выражая тем самым презрение к сказанному гувернанткой, которое еще больше подчеркивала ее выпяченная нижняя губа.
— Не считайте, мисс Карри, что я уж так наивна. Это не совсем так. Даже если я живу и не в цивилизованной стране…
Англичанка поняла ее намек и поправилась:
— О вас лично я ничего не хотела сказать…
— Благодарю за сделанное мне исключение. — И победным тоном добавила: — Девушки ведь очень многое узнают друг от друга. — Потом улыбнулась и, идя на примирение, уточнила: — Ну, и от братьев… К тому же в деревне скорее узнаешь о любви в подробностях. Ведь животные людей не стесняются…
Так родилось между мисс Карри и Марией до Пилар доверительное сообщество. И гувернантка все рассказала ей о нафантазированных ею поездках, да, двоих молодых людей, красивых и таких разных в своей красоте; так вот как раз разные-то — а вы не знали? — тянутся друг к другу, в этом своя прелесть. Если бы Зе Педро оказался в Англии или в других северных странах, ему бы отбоя не было от женщин, он бы разбогател за короткое время, стал влиятельным человеком в обществе. Северянки боготворят смуглых мужчин; он бы женился на любой, какую пожелал. Она сама, продолжала свое признание мисс Карри, завидовала свободе их общения, и если простят ее за откровенность, то объездчик лошадей — единственный мужчина, который поразил ее воображение. На этом она не остановилась — она пошла дальше: это был самый красивый мужчина из тех, кого она до сих пор видела в Португалии.
И продолжала все о том же:
— Вы бываете с ним только ради того, чтобы посмотреть лошадей на манеже?
От волнения Мария до Пилар опять покраснела.
— Не знаю… Теперь не знаю…
— Снимите пелену с глаз и посмотрите на слугу так, как вы смотрите на любого другого мужчину.
— Я уже сняла.
— Это и видно, — чуть насупившись, сказала мисс Карри.
Но Мария до Пилар тут же пояснила:
— Но между нами никогда ничего не было…
— Даже поцелуя?
— Нет, ничего. Не забывайте, он все же для меня слуга. В Португалии мы это не забываем…
В имении Релваса каждый знал свое место, и со стороны слуги она не чувствовала к себе никакого интереса, даже наоборот: он не поднимал на нее глаз, возможно потому, что с малых лет был с ней рядом. И Мария до Пилар рассказала англичанке историю его отца. Мисс Карри очень разволновалась, она не все понимала: ведь Мария до Пилар рассказывала ей по-английски, который знала плохо, но в романе появился бык, а это так романтично — настоящая глава для романа, и если человек умер, то это действительно ужасно… Волнующе… Прекрасно… Потрясающе… Гувернантка любила выражаться, театрально произнося слова, недоговаривая начатую фразу и все так многозначительно, и молодела на глазах.
— А можно получить разрешение у вашего отца…
— Мне он никогда ни в чем не отказывал, — похвасталась Мария до Пилар. Но гут же поспешила поправиться: — Но я обращалась к нему только с разумными просьбами…
— А может, я смогу сопровождать вас, когда вы идете на манеж. Там ведь мы тоже можем заниматься английским, вам необходимо расширить словарь.
Поняв то, что хотела вложить гувернантка в эти слова, Мария до Пилар сказала:
— Я могу попросить у отца разрешение на то, чтобы Зе Педро обучил вас верховой езде. Хотите?!
Мисс Карри пришла в такой восторг от услышанного, что принялась, извинившись за свою вольность, обнимать и целовать свою ученицу, повторяя, что это — прекрасная идея! что она об этом мечтала, и давно!..
Мария до Пилар улыбалась:
— И потом вы сможете поехать с ним в то самое место и там завершить то упражнение, которое вы мне сегодня предложили, хотите — я вам скажу как… — плутовато сказала девушка.
— И показать его вам тоже… Сделаем так, как сегодня, — возразила англичанка. — Ты (ничего, если я буду обращаться к вам на «ты»?) предложила мне упражнение и стала говорить… — Она взглянула в тетрадь. — Стройный, стройный и сухой…
— Но образ красивого волка — ваш, вы его придумали, мисс Карри. Он действительно похож на волка…
Задумавшись, гувернантка поднялась со стула и подошла к окну. И, глядя в окно, сказала:
— Может ли слуга здесь, в этом доме, быть волком?
— Что вы хотите сказать?
— Ну, если бы ты оказалась смелой и полюбила его, согласившись, чтобы он был твоим волком…
Выпрямившись, что, скорее, походило на желание потянуться, Мария до Пилар быстро подошла к ней и тихо сказала:
— Нет, я боюсь. Я никогда не выйду замуж, потому что боюсь умереть. Мне бы хотелось иметь сына, но без того, что для этого требуется…
Неожиданная печаль покрыла ее лицо. Она вспомнила обвинение, которое ей бросили ее братья и сестра в заброшенном домишке в лесу. Вздрогнула, подумав, что эта ночь будет для нее беспокойной, так как в памяти ее оживился вынесенный ей братьями приговор за смерть матери. И потому попросила гувернантку, чтобы та ей составила компанию, когда отец вместе с Мигелом Жоаном уедет и в жилой части дома Релвасов они останутся одни.
— Вам нравится виски? — спросила мисс Карри ласково.
— Никогда не пробовала…
— Понравится.
И она поцеловала Марию до Пилар в глаза.
Глава XVII КОНИ И ЖЕНЩИНЫ НА МАНЕЖЕ
На манеж они теперь приходили вместе каждое утро после завтрака и мессы, на которую их возил в коляске кучер. Теперь Мария до Пилар знала, что исповеднику доверяют не все, особенно когда он капеллан родительского дома. К тому же падре Алвин был уже их старым слугой и ей были хорошо известны его маленькие слабости. Мисс Карри стала для нее единственным идолом, которому она поклонялась, от нее она узнала о многих загадках жизни, тщательно скрывавшихся от девушки, которая еще так молода.
Она, конечно же, смирялась с принятыми в семье нормами, но чувствовала себя обиженной.
Вот и хорошо, теперь она не будет задавать никому никаких вопросов, совершенно убежденная, что знает куда больше всех их, вместе взятых. Англичанка же пришпоривала ее воображение, удовлетворяя попутно собственное, когда рассказывала ей то, что пережила или чему являлась свидетельницей; да, жизнь нужно прожить ярко, хотя это следует скрывать от родителей, изрядно, должно быть, грешивших в жизни, а потому таких придирчивых к молодежи и осуждающих ее. Все это ей приходило в голову и раньше, но ни с кем в доме она близка не была и ни у кого не искала поддержки своим мыслям. Разве что с Изобелиньей Вильяверде, двоюродной сестрой матери, она была в сговоре против «длиннобородых» — так называли они старших, и мужчин и женщин.
С мисс Карри в присутствии домашних она держалась на должном расстоянии, была холодна и сурова. И так хорошо играла эту заранее согласованную с мисс Карри роль, что отец уже несколько раз делал ей выговор. Был и еще один предлог посмеяться им обеим: Мария до Пилар рассказала гувернантке о том непонятном факте, имевшем место в Синтре, в поместье сестры, которому раньше она никак не могла найти объяснение, а он оказался удивительно простым и прозрачным. «Как это Милан Релвас может держать в садовниках этого дурака? — говаривала Мария до Пилар (другие поправляли ее: „красивого мужчину“). — Ведь так просто взять на его место другого». Теперь, копируя суровый тон сестры, сияющая от прозрения и возможности уколоть сестру, Мария до Пилар говорила: «Ах нет, никогда! Никогда не дам отчима своим детям…»
Как было приятно чувствовать себя отмщенной! И какую жалость Мария до Пилар испытывала к своему несчастному зятю Рую, вспоминая его ласковое обращение к ней, которое до сих пор бередило ей душу. Она вспоминала его манеру гладить ее волосы и заглядывать ей в глаза и его радость, которую Мария до Пилар видела, когда Руй прижимал ее к себе и сообщал ей на ухо что-нибудь очень секретное. «А отец? Да, что думает отец об этом слащавом садовнике, с которым так плохо обращаются?»
Последнее время Мария до Пилар страдала бессонницей и еще больше похудела. Но стала еще красивее, как говорили все, только Брижида хотела видеть ее упитанной, в теле, что, по понятиям бедняков, было признаком красоты и здоровья.
К девяти утра Мария до Пилар и мисс Карри уже бывали на манеже и сидели в той самой маленькой ложе, которую Диого 'Релвас приказал сделать лично для себя, чтобы руководить Зе Педро, который работал играючи. Арена была покрыта крупным золотистым песком (карлик самоотверженно — бедняга! — два раза в неделю доставлял его из лесу), стены выкрашены в желтый и красный цвет самим Зе Педро, это он сделал вместе со своим помощником, сыном Атоугии. Животные доставлялись из конюшни через специально сделанный проход, напоминавший своим видом подкову.
Каждый раз, увидев Марию до Пилар и мисс Карри, Зе Педро приостанавливал работу, приветствовал их, снимая кордовскую шляпу, и, препоручив коня помощнику, шел раскланяться.
— Барышня разрешает продолжать?
Мария до Пилар, махнув рукой, давала положительный ответ или просила, чтобы он послал за какой-нибудь кобылой и конем, которых ей сегодня хотелось видеть на арене.
В это утро она приказала:
— Вели вывести Эмира. Как он?…
— Как и все, должно быть… — отвечал объездчик, явно бравируя. — Как все лошади, у которых кровь слишком горяча…
Мисс Карри попросила объяснить, что он этим хотел сказать.
— Они сдержанны и угловаты, но горящий взгляд разоблачает их, объясняет их беспокойство и неточность в движениях. Очень редко среди подобных Эмиру бывают спокойные, и это видно сразу… Но они быстро сдают.
Англичанка поддакивала ему, кивая головой, и широко улыбалась, не отводя взгляда от Зе Педро, который вроде бы поигрывал кнутом, а на самом деле испытывал неловкость от этих ставших постоянными визитов.
— Мария до Пилар, посмотрите, посмотрите на него внимательнее, — доверительно советовала ей гувернантка. — Он сам, похоже, из тех же лошадей с горячей кровью…
В ответ ей слышался звонкий смех Марии до Пилар Релвас.
— Возможно… — говорила она.
— Ты не находишь, что им нужно воспользоваться раньше, чем он сдаст?
— Оставьте беднягу в покое…
— Это почему же я должна его оставить в покое? — спросила мисс Карри, исподтишка поглядывая на парня. — Уж не хочешь ли ты его сохранить для себя?…
Мария до Пилар медлила с ответом, возможно сраженная услышанным от гувернантки, которая точно выразила то, что она, Мария до Пилар, думала.
— Ты считаешь, что можно не воспользоваться этим чудом?
— Вы, мисс Карри, преувеличиваете. Зе Педро простой парень…
Приведенный сыном Атоугии конь наконец вышел на манеж. Гнедой был сгустком энергии и нервов, в высоко вздернутой голове угадывался его сдержанный пыл. Зе Педро взял его под уздцы и подвел ближе к ложе, потом пустил его по кругу, чуть дергая уздечку и в то же время ласково успокаивая его.
— Эмир! О-о… Миленький…
Похоже, пугаясь присутствующих на манеже женщин, животное не очень доверялось руке объездчика, все время угрожая встать на дыбы. Конь тряс гривой и пускал газы, тревожно поводя торчащими ушами.
— Сегодня он хуже, — крикнула Мария до Пилар.
— Возможно, потому, что ему не нравится видеть женщин здесь, на манеже, — шутя ответил парень.
— Ты это всерьез?
Зе Педро пожал плечами.
— А может, это ты предпочитаешь быть на манеже наедине с конем?
Уйдя в воспоминания, англичанка не слышала их диалога. А вспоминала она те наставления, которые давал ей Диого Релвас, когда она к ним приехала: никаких вольностей с мужчинами, и с его сыновьями тоже, и, если кто-нибудь из них дозволит себе какую-нибудь бестактность, тут же сообщить ему, он в этом вопросе непреклонен, так как мисс Карри гувернантка Марии до Пилар и должна быть для нее примером во всем. «И если однажды вы почувствуете, что не все согласуется с возложенными на вас обязанностями, не бойтесь в этом мне признаться. Вы тут же получите свое вознаграждение за шесть месяцев вперед и рекомендательное письмо. Условия подходят?» Она не видела возможных трудностей, совершенно убежденная в том, что сумеет выполнить возложенные на нее обязанности. Землевладелец разрешал ей, как и сыновьям, раз в неделю ездить в Лиссабон. Но аморальное поведение в пределах его дома — это то, против чего он был всегда. Он предпочитал воровство, разгул черни, но только не сознание, что в стенах его дома забыта нравственность, которую должны были блюсти все.
— Мисс Карри! Может, вы хотите попробовать сегодня же?…
— Что? — спросила она растерянно.
— Ну, сесть на коня. Я уже поговорила с Зе Педро.
— Почему сегодня?!
— Мне показалось, что вы не хотели бы терять время. Или вам уже не страшно, что он сдаст?
— Вы шутите, конечно…
Объездчик принялся работать с Эмиром, гоняя его на корде, и всякий раз, когда тот с шага переходил на галоп или упрямился, он останавливал его и успокаивал вкрадчивым голосом, точно прося о чем-то или даже похваливая.
На манеже Зе Педро был во всей своей красе: играл переливами своего голоса, то подбадривая, то осаживая лошадь, которая прекрасно понимала его и исполняла все, что от нее требовали. Зе Педро знал, что обе женщины следят за каждым его движением и словом, и, хотя он больше не смотрел в их сторону, для них он щелкал кнутом и для них шептал что-то лошади, когда та шла на коротких кругах. Потом он подозвал — это было второй раз — коня на середину арены, потрепал его по холке и спине и, оставшись доволен успехами этого утра, начал тренировать Эмира с шестом. Он заставлял его ходить по скаковому кругу, таща за собой вожжи, а сам держался за уздечку около кольца. Потом, припав к левому плечу животного, Зе Педро выкидывал правую руку, побуждая коня идти вперед. Но как только конь опускал голову, тут же дергал за узду, от чего кольцо впивалось коню в губы, а объездчик, улыбаясь, говорил ему ласковые, ободряющие слова.
— Я могу сесть на него сегодня же? — вдруг загоревшись, спросила Мария до Пилар.
— Если хотите… Но только здесь, на манеже, под моим присмотром.
— А если мне захочется выехать с манежа?
— Но конь еще не готов, барышня. Имейте терпение! Он учил животное поворотам, и учил не торопясь.
— Но ты же знаешь, что отец отдал его мне.
— Но только после того, как я скажу, что конь… Здесь, на манеже, все лошади мои.
— Только лошади…
— Да, только лошади.
Мария до Пилар поднялась со скамьи и пошла, сопровождаемая гувернанткой, вниз по лестнице, ведущей на арену. Сама не зная почему, она вдруг почувствовала необходимость поставить на место слугу. У выхода на песок она принялась надевать шпоры на каблук левого сапога.
Объездчик остановил Эмира и повел его шагом.
— Очень ты любишь приказывать, Зе Педро, — резко сказала Мария до Пилар. — Считаешь, что ты родился для того, чтобы приказывать…
— Все, барышня, любят…
— И ты считаешь, что здесь ты один командуешь?
— Так распорядился ваш отец — Диого Релвас, сеньорита.
— Тогда готовь коня, чтобы я могла на нем ехать. И быстро!
— Отвечать будете вы?
— Я не совсем понимаю, почему ты мне задаешь вопросы…
— Чтобы их не было у меня…
— Ты боишься, что…
— Я никогда не видел, какого цвета страх.
— Тогда тем более. И кончай разговоры. Ты останешься здесь и будешь обучать верховой езде мисс Карри. Дай ей самую кроткую лошадь.
С помощью конюха Зе Педро оседлал Эмира. У него был обычный заносчивый вид, но сейчас на его смуглом лице не играла загадочная улыбка, которую он перенял у мадридских матадоров.
— К вашим услугам, — сказал он, когда конь был готов. — Избегайте давать Эмиру шпоры, сделайте милость.
Сидя на лошади, Мария до Пилар взяла вожжи и кнут, который подал ей конюх, и хлестнула им по плечу Зе Педро. Она смотрела на него с презрением, явно показывая гувернантке, как здесь, в их доме, относятся к слугам. Зе Педро опустил глаза, но она тут же, тронув кончиком кнута его подбородок, заставила взглянуть на себя.
— Я оставляю тебе мисс Карри, хоть ты и сказал, что лошади не любят женщин на манеже. Не знаю, слыхал ли ты когда-нибудь от моего отца, что в каждом мужчине сидит необъезженный жеребец. Отвечай.
— Нет, сеньорита, не слышал.
— Так вот, жеребец, который сидит в тебе, похоже, тоже не любит женщин на манеже.
— Я исполняю приказ… И приказ вашего отца. — Сейчас он смотрел на нее твердо. — И потому…
— Что?!
В этом «что» Зе Педро почувствовал просьбу Марии до Пилар не договаривать все до конца. Он вспомнил их дружеские отношения последних лет, вспомнил их прогулки по деревне и взгляд, которым она его одарила в тот день на бое с молодым бычком под открытым небом. И сейчас, после такого враждебного разговора, опять она смотрит на него тем же взглядом.
— Не гоните очень Эмира, он на манеже всего только третий месяц.
— Хорошо. Скажи, пожалуйста, Атоугии-младшему, чтобы составил мне компанию. Тебе он не нужен? Я хотела бы, чтобы ты остался с мисс Карри, один.
Обрадовавшись представившейся возможности, молодой Атоугиа, как только Зе Педро приказал ему вывести еще кобылу, бросился исполнять приказание. Мария до Пилар направила Эмира к выходу. Но без особого удовольствия. Теперь она почувствовала смену настроения, так свойственную ее экзальтированному характеру. Она бы даже поплакала, если бы это было можно. Ей очень хотелось крикнуть мисс Карри что-нибудь шутливое, но это у нее не получилось.
Сидя в седле, она была во власти Эмира, который повез ее по садовой аллее. Отъехав на приличное расстояние, она обернулась.
Зе Педро стоял, прислонившись к двери манежа, и махал ей шляпой. «Должно быть, боится, что конь меня сбросит», — решила Мария до Пилар. Спустя какое-то время Атоугиа-младший, пустив кобылу рысью, догнал ее у опушки леса.
— Поезжай! Поезжай вперед, — приказала она ему.
«И что там, на манеже, делает мисс Карри?»
Н— да, вот это вопрос!..
Есть вопросы, которые никто и никогда не должен задавать сам себе, если ему известна решительность женщины среднего возраста. И известно ее буйное воображение, даже когда она не влюблена.
Мисс Карри боялась сесть на лошадь, которую для нее выбрал Зе Педро, и тут же решила, что должна показаться ему совсем робкой, чего на самом деле не было. Она попросила его держать поводья и, как только оказалась в седле, схватилась за его руки, выказывая страх, и стала умолять снять ее с лошади, вынудив парня взять ее на руки, после чего соскользнула на землю, коснувшись грудью объездчика. Увидев его взволнованным, мисс Карри взяла его за руку и сказала, что хочет пойти в конюшню, чтобы самой выбрать себе коня. В конюшне она пробыла довольно долго.
Так долго, что даже спустя полчаса, когда раздался топот возвращавшихся с прогулки лошадей Марии до Пилар и Атоугии-младшего, их на манеже все еще не было. Первой все же навстречу Марии до Пилар вышла мисс Карри, говоря, что уже половина одиннадцатого и что доктор Силва, должно быть, сердится, ожидая ее. Доктору Силве не нравились их посещения манежа.
Глава XVIII ТРУД ЧЕЛОВЕКА КОРМИТ, А ЛЕНЬ ПОРТИТ
Да, он беспокоился, очень беспокоился за сына, за своего Антонио Лусио, который угасал с каждым днем. Теперь Диого Релвас отдавал себе отчет, что болезнь совсем не пустяковая, хотя врачами молодой человек приговорен не был — покой, покой и только покой, однако это проклятое отсутствие аппетита… Должно быть, это врачебная этика, чтобы обмануть его или оттянуть необходимость сказать правду Так чем же все это завершится? Ведь правду не утаишь.
И хуже всего то, что он никому не мог доверить своей тревоги. Действительно никому. Ведь что может быть ужаснее минуты уныния у сильного человека. Тем более что он, Релвас, всегда клеймил слабость в других — ведь слабость, по его мнению, была не более чем гнилой кровью: малодушие — это проклятая злокачественная штука, которая поселяется в человеке и опустошает его. Пустая раковина… Он столько раз говорил о ней.
«Друзей у него хватает», — говорили, как правило, о Диого Релвасе. Да, действительно, но им он рассказывал об отваге сына, который один переправился через реку и поехал в Лезирию, зная — это ему говорил сам Антонио Лусио, — что близится сильное наводнение; но нужно было предупредить людей, и он, его сын, пошел туда, рискуя своей собственной жизнью, чтобы спасти их. Да-а! Для этих рассказов у него хватало друзей и в конном клубе, и в клубе любителей корриды, и в Португальском банке, и прочих местах, где он садился в хозяйское кресло: в Ассоциации сельского хозяйства и в разных компаниях. Но говорить с ними о предчувствиях, которые не давали ему покоя, о панике, которая его охватывала, как только он слышал шум едущего по улице экипажа или цокот копыт, — нет, он не мог, да и не было у него никого, кому бы можно было излить душу. Розалия тоже не годилась для этого, да и жила она далеко, в Лиссабоне, и была целиком поглощена делами магазина на Шиадо, совладелицей которого он ее сделал. Он как будто дал ей крылья, позволил улетать из дома… Да не все ли равно ему сейчас, дома Розалия или нет?! Ведь в конце концов и ей он не стал бы поверять не оставлявшие его ночные страхи; о детях он никогда не говорил с ней, а уж сейчас, когда один из них тяжело болен, этого совсем делать не следовало. Он просто видел ее перед собой, ее и ее улыбающиеся бархатные глаза, догадываясь, что она будет чувствовать себя отмщенной за их общего сына, которого она так хотела иметь и в котором он категорически ей отказал.
И ему ничего не оставалось другого, как подняться в Башню четырех ветров и, воззвав к отцу и деду, искать у них поддержки и помощи, чтобы выстоять в этот трудный час, вынести тяжесть обрушившейся на него неизбежности, в объятьях которой он оказался. Но бедно обставленная комната Башни не позволяла расчувствоваться и, пожалуй, впервые была молчаливой свидетельницей его печали, была самой печалью. Но почему теперь? Почему именно теперь?! Никогда раньше смерть не казалась ему такой ужасной. Все его родственники, которые умерли, отжили отпущенный им срок, и сам он считал его предельным. Что же касается Антонио Лусио, то тут он был не согласен, видя явную несправедливость, оспорить которую у него не было возможности, ведь, по существу, сын-то для него родился только в тот день, когда в Лезирии над ним нависла угроза смерти. Лошадь вырвала его зубами из рук костлявой, но та, неотступная, пришла к нему в дом. И здесь, в доме, кружила у его постели, подтачивала его изнутри и уничтожала медленно, по кусочкам, которые с мокротой вылетали у него изо рта… Этот образ смерти, который Диого Релвас видел собственными глазами, довел его до рыданий. В отчаянии он хотел заглушить их, уткнувшись лицом в подушку, чтобы предки не упрекнули его в слабости духа. Но тут же, взбунтовавшись, высоко вскинул голову, стараясь показать им текущие по щекам слезы. Да, он плакал, и что из этого?! Нет, на этот раз бог несправедлив. Если сказанное ересь, то пусть или простит, или накажет; может, он заслуживает и большего наказания, но то, что имеет, то, что имеет, — несправедливо. Он с себя вины не сбрасывал, он виноват, он никогда не давал сыну возможности проявить себя. Он всегда смотрел на него как на одного из этих Вильяверде — самонадеянных и слабохарактерных, а ведь виноват-то он, позор-то был его, разве не он влюбился в красивую женщину, не думая о том, что же в человеке главное, что делает его действительно красивым в жизни, а главное — решимость, смелость в действии, достоинство… Из его четверых детей, похоже, только девочки отвечали этим требованиям. И больше всех Эмилия Аделаиде… Потом, со временем и без его участия, настоящим Релвасом проявил себя Антонио Лусио, который сделал то, на что сам Релвас вряд ли был способен.
Вот этим— то и казнился землевладелец. Винил себя в том, что так и не понял сына и что забыл тот день на травле зайцев, когда Антонио Лусио, будучи еще шестилетним ребенком, подрался с Зе Андраде, мальчиком старше его на четыре года, теперь свояком, подрался из-за кошки, которую тот пнул ногой. Ведь уже тогда, именно тогда нужно было увидеть в нем Релваса. Почему же это выпало из его памяти?… Зе Андраде был сильным парнем, а Антонио бросался на него без страха, пуская в ход кулаки и зубы, и брал верх, и все без единого крика, не прося помощи у слуг, которые вмешались только тогда, когда Диого Релвас приказал это сделать, увидев, что мальчишки уже измотаны. Но Антонио Лусио тут же, и все молча, бросился на пастуха, схватившего его за руку, и так и не простил того, всю жизнь надеясь, что выпадет момент отомстить за предательство. А он и в тот день был несправедлив к сыну: отшлепал его и пригрозил наказать, разнимая мальчишек. Почему? И вот теперь он пожинал плоды собственной несправедливости. Да, ведь он отшлепал сына, потому что отец Зе Андраде ведал в компании заливных земель продажей возвышенных участков, которые он, Релвас, хотел купить. Выходит, променял сына на клочок плодородной земли под пшеницу.
И только спустя двадцать лет Диого Релвас понял, что его Антонио — человек, а он, его отец, в течение стольких лет держал его в черном теле. Нет, он не преувеличивал… Что ведает взрослый о том несправедливом наказании, которое терпит ребенок, безропотно покоряясь?… Он вспомнил еще и то, как сын потом пугался, слыша его голос, а он считал это малодушием и трусостью. Ведь Вильяверде были зеркалом общественного малодушия. И он смотрел на них только так, а не иначе, потому и сына зачислил как неизбежного рекрута в ряды малодушных. Теперь он чувствовал, что всегда подавлял его своим авторитетом. И сколько раз просто из мести?!
Все это растравляло душу Диого Релваса. Мучило, не давало покоя. Вот потому-то он и проводил столько времени у постели больного, точно его присутствие могло предотвратить смерть, завладевающую его сыном. Ему было необходимо, чтобы смерть отступила, а он искупил свою вину перед сыном, которому нанес столько оскорблений. Однако дни жизни Антонио Лусио были сочтены, и все они были во власти быстротечной чахотки, которая обнаружилась вскоре же после наводнения.
Теперь Диого Релвас, входя в Башню, уже не произносил обычную свою фразу: «Вот мы и здесь!» Похоже, и это убежище не принимало его. Он шел сюда, чтобы получить ответ на свои вопросы, а здесь к нему приходили новые.
Семья хотела увезти Антонио Лусио куда-нибудь, врач советовал горный воздух местечка Звезда, и Диого Релвас не чувствовал себя вправе вмешиваться. Он только молча присутствовал, мучительно и неловко, никогда не навязывая свою волю. Он предоставлял решение этого вопроса невестке, хотя желал, чтобы сын был рядом или на расстоянии, но не большем, чем сейчас.
Услышав цокот лошадиных копыт, он, полный мучительного беспокойства, бросился к одному из окон. Он ждал самого худшего. Но слава богу, цокот копыт слышался с другой стороны, не из имения сына. Окончательно же он успокоился, когда появилась Мария до Пилар в сопровождении Зе Педро и гувернантки. Их радостное веселье он встретил враждебно. Открыл окно и крикнул:
— Один из хозяев этого имения болен!..
Зе Педро Борда д'Агуа, услышав голос хозяина, снял шляпу.
— Тебе что, нечего делать на манеже? — грубо спросил он объездчика.
Ответила же ему Мария до Пилар:
— Отец, вы же разрешили, чтобы он сопровождал нас…
— Я забыл добавить, что только тогда, когда в нем нет необходимости на манеже. Ты слышала? Мне кажется, прогулок слишком много…
Диого Релвас понял, что объездчик лошадей хочет ему что-то сказать, но не дал тому открыть рта:
— По-моему, всем известно, что, когда я здесь, я хочу, чтобы мне не мешали. Имейте терпение. Умейте ждать…
И с силой захлопнул окно. И тут же подумал: «А смерть? Может, и смерть способна ждать?»
Он взволнованно ходил по Башне и не мог успокоиться. Одиночество теперь причиняло ему страдание. Он наполнил фарфоровый таз холодной водой и вымыл лицо. Ему чуть-чуть полегчало. Тогда он опустил голову в таз и стал трясти ею, заливая пол водой. Ему хотелось шума, движений. Он подошел к окну, выходящему на восток, в сторону звезды Алдебаран, и стал ждать, что с реки подует ветер и высушит его лицо.
Посмотрел вдаль, в сторону Азамбужской степи, где уже не был более года. Что там происходит?… Это были двадцать гектаров пустующих каменистых земель, на которых росли дубы, редкая трава и водилась дичь. И вспомнил историю, которую ему рассказывал отец о тех людях, которые там жили:
«Еще был жив дед, дед Кнут, когда сделалось первое из тех наводнений на Тежо, что способны покрыть водой всю землю. Гонимые ветром воды залили все возвышенные и низменные заливные земли, все-все, и разбушевавшаяся не на шутку стихия унесла бы в море весь скот и весь хлеб, находившийся в амбарах, если бы там не было ранчо поденщиков, которое стояло на северной стороне, и они бы не вступили в борьбу со взбесившимися водами. И после такого сверхчеловеческого труда, на который их никто не подряжал, они сказали, что не хотят денежного вознаграждения. А просят — это говорил старик Моитиньос, единственный, кто осмеливался разговаривать с землевладельцем, — просят, чтобы хозяин Кнут отдал им в аренду степные земли. „Зачем вам эти каменистые земли?“ — „Чтобы жить на них“. — „Но что вы с этой землей будете делать?“ — „Обрабатывать…“ — „Но она же ничего не дает“. — „Труд человека кормит, а лень портит, знайте это, хозяин“, — надменно ответил ему Моитиньос.
Кнуту поговорка понравилась, и он согласился. Пробковый дуб он оставлял себе, они же могли обрабатывать землю, не причиняя ущерба дубам, ну и жить на ней, конечно. „А. какова, хозяин, будет арендная плата за год?“ — „Не будет никакой! Я земли в аренду не сдаю. Земля — моя, что хочу, то с ней и делаю. Я ее вам одалживаю“. — „А на какое время?“ — „На то, которое вы и ваши внуки захотят ее иметь. Условие одно — никаких беспорядков. Если что услышу, тут же выставляю вон“. — „Договорились! — сказал Моитиньос. — И когда можно начать там жить?“ — „Да хоть сегодня!“».
И там, в этой каменистой пустыне, они прижились и жили уже тридцать лет. Теперь вряд ли кто-нибудь мог представить себе эти земли такими, какими они были во времена Кнута. Людям была нужна вода — они ее искали и находили, нужна плодородная земля — и в поте лица они создавали ее своими собственными руками. И зацвели у них виноградники, зазеленели огороды, поднялись пашни и заплодоносили фруктовые деревья. Дед Кнут забыл о них и думать. И вот однажды в имении Кнута появился Моитиньос. Выглядел он нищим, но желал поговорить с хозяином, настаивал, шумел и даже разозлился, сказав, что в каменистой степи он нашел горсть золота и принес его владельцу Алдебарана. Только тогда управляющий сдался и доложил о его приходе Кнуту. Кнут не сразу узнал Моитиньоса: «Ты кто?» — «Я тот, что выпросил у вас в аренду каменистые земли в тот день, когда случилось наводнение…» — «Ну, и что теперь?» — «А теперь я принес вам этот хлеб (и он вытащил из мешка кусок хлеба) — первый хлеб, который дала нам в этом году земля…» — «Чем же вы питались все эти годы?» — «Верой и голодом, хозяин. Помните, что я вам сказал в тот день?» — «Нет, не помню». — «Я сказал, что труд кормит человека… Вот он, результат нашего труда. Хлеб этот растет в той степи и ждет, что, вернувшись, я буду его есть. Мне бы хотелось, чтобы хозяин его попробовал…»
Дед, как потом и отец, частенько повторял эту поговорку. Релвас почти забыл ее. А вот теперь вспомнил, она была, как никогда, созвучна его душе, измучившейся тревогой за больного сына.
«Съезжу— ка туда как-нибудь», — подумал он.
По лестнице Башни четырех ветров он спускался не спеша. Он желал и в то же время боялся кого-нибудь увидеть. Глаза его еще горели от слез, и он не хотел, чтобы это заметили. Ведь никто даже предположить не мог, что Диого Релвас способен плакать.
И как только он подошел к воротам усадьбы, увидел стоящую у ворот женщину, а рядом с ней задранные вверх детские головы, неотрывно на него глядящие. Он спросил управляющего, что это значит. Тот ответил ему, что это жена Тоиньо Землекопа и его шестеро детей. Диого Релвас пришел в ярость:
— Ты что, не передал, им мой приказ?
— Передал, хозяин.
— Ну и что же?
— Она все равно пришла…
— А он? Почему не пришел он?… Они же знают, что я не люблю подобные дела решать с бабами.
— Она сказала, что Тоиньо остался дома и плачет…
Землевладелец почувствовал толчок в груди.
— Нечего сказать — мужчина, остается дома плакать. — И опять пришел в ярость: — Почему же они не слушают моих приказаний? Они что, не понимают, что если я сделаю вид, будто ничего не произошло, и оставлю все, как было, то завтра другие будут ждать от меня того же? Я люблю всякий вопрос решать однажды.
Он смотрел в сторону ворот враждебно и видел силуэт стоящей там женщины.
— Раз сказано — и дело с концом… Что ты ей сказал? Управляющий стал говорить что-то очень невразумительное, разводя руками.
— У тебя что, языка нет?
— Сказал, что они должны оставить дом… Это самое! И вчера в пятый раз напомнил…
— А он? Говори, что он ответил?
— Что несчастен. Он родился в этом доме, в нем женился, в нем же у него появились дети. Знать бы, куда податься, мол, хозяин, может, простит его…
— Это ты меня просишь? — закричал Диого Релвас, грозно глядя на него.
— Все это — сказал он.
Тут землевладелец поспешно, точно за ним гнались, взялся за ручку двери, из которой вышел. Только с просьбами, только с просьбами! И даже сейчас, в такой момент! Потом он изменил свое намерение и направился в кабинет. У двери он повернулся к управляющему.
— Пусть она идет сюда… Что я могу сделать? Только без детей… Я не хочу их видеть. Кто-нибудь из вас пусть за ними присмотрит. Они надоедают мне даже в такой тяжелый для меня момент. Быстро, только быстро!
Он сел за конторку, делая вид, что перебирает бумаги. И тут же почувствовал, что жена Тоиньо уже здесь, но ждал, что она даст знать о своем присутствии. Он мысленно видел ее, закутанную в шаль с головой, но лица припомнить не мог. Она закашляла. И так как она молчала, он спросил, не поднимая головы:
— Есть здесь кто? Кто это?
— Это я, хозяин…
— Кто ты?
— Жена Тоиньо…
— Какого Тоиньо?
— Тоиньо Землекопа…
— Ты пришла поговорить со мной?
— Если хозяин разрешит…
— Можешь войти. Подойди ближе, быстрее!
Женщина хотела было побежать, но, увидев ковер, испугалась и оторопела. Ступая по нему, она глядела то на ковер, то на свои ноги, которые, казалось, утопали в мягкой пыли.
— Что, Мануэл не дал вам указаний?
— Дал, хозяин. Он все время говорит…
— А вы не понимаете?
Она опустила голову, боясь что-либо произнести.
— Отвечай.
— Мы понимаем приказы, сеньор. Это ведь обычные законы, да, мы знаем. Но мы не виноваты…
— А я тем более.
— Да, хозяин. Хозяин Диого ни в чем не виноват. Так и надо.
— Что так и надо?
— Мы должны оставить дом…
— Ну так почему же ты пришла?
— Чтобы просить вас разрешить нам остаться… Нас же больше никто не возьмет, никто, это так, ваша милость, я точно знаю.
Он поднял глаза на женщину, тронутый жесткими нотами ее голоса, который не смягчило даже горе. Но увидел только лихорадочно блестящие глаза и впившиеся в шаль пальцы.
— Ты неспособна понять… Сейчас я тоже мало что понимаю. Моя деревня для тех, кто у меня работает, это всем известно. Терпеть не могу беседовать с бабами обо всем этом. Твой муж болен?
— Он вроде бы умирает, хозяин. Плачет, и все…
— Потому пришла ты?…
— Я уже все слезы выплакала.
— Ладно!
Он подошел к окну, поднял занавеску и посмотрел во двор.
— Как я уже сказал, Алдебаран для тех, кто у меня работает. Я не хочу, чтобы у меня в деревне жили те, кто ни на что не способен. К тому же всем, кто здесь рождается — ведь вы рожаете десятками, — я дать работу не могу. Тебе понятно?!
— Я очень хотела избавиться от последнего… Но было поздно, я побоялась…
— Вот-вот… Как мне решать подобные дела?… После четвертого надо было остановиться. Вина-то твоя!
— Моя, синьор, моя. Вы все верно говорите, ваша милость… Но я пришла сказать… вот поэтому мой Тоиньо и плачет…я самого последнего… это девочка… подкинула этой ночью к двери приюта…
— Если это узнают, тебя арестуют.
— Ну и пусть, пусть все лучше, чем Тоиньо сделает еще одну… Я думаю он тронулся головой…
Только теперь Диого Релвас повернулся к ней и взглянул на нее в упор. Женщина была одета в черное.
— Кто у тебя умер?
— Никто… Нет-нет, никто. В трауре мы всегда…
Она разволновалась. Слезы навернулись на ее глаза, и она улыбнулась, словно слезы были не ее, а кого-то другого. Диого Релвас подошел к ней и принудил ее сесть.
— Не говори никому о том, что здесь было. Не говори, что со мной разговаривала. Как решить мне это дело? Сколько твоему старшему?
— Десять, ваша милость… Уже большой.
— Он в поле?
— Да, да, сеньор. Он с семи лет работает в поле…
— Тогда скажи мужу, чтобы больше его домой не брал. Он будет жить в поле. Я скажу управляющему, чтобы он подыскал ему постоянную работу помощника. А если есть еще семилетний или восьмилетний…
— Есть, мой Руй… Крестник барышни Эмилии Аделаиде…
— Пришли его сюда. Ну, а с четырьмя останешься в доме. Я скажу Таранте, чтобы тот определил его на конюшню.
Теперь уж женщина плакала безо всякого страха. И потянулась поцеловать его руку, но Диого Релвас уклонился, возможно из-за брезгливости.
— Оставь, пожалуйста, оставь. Иди…
И, не обращая на нее больше внимания, он широким шагом направился к двери. Потом обернулся:
— Молись за хозяина Антонио Лусио. Ты обязана ему, слышишь? Молись, мне это необходимо первый раз в жизни. Прощай!
Уже во дворе он кликнул Таранту и приказал подать экипаж. Он ехал в имение сына. Он торопился как можно скорее сменить дежурившего около него Мигела Жоана.
Глава XIX ЭМИЛИЯ АДЕЛАИДЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОЕМУ ДНЕВНИКУ
После сделанной мною записи: «Я поняла, и совершенно ясно, как будто увидела воочию, что мне не под силу больше выносить этот тихий ад», — я над дневником не склонялась.
Слово я не подбирала и написала «не склонялась», вместо того чтобы написать «не притрагивалась» или «не заглядывала», только потому, что возвращение к дневнику действительно чем-то похоже на то, когда стоишь на балконе и, свесившись с него, смотришь на проходящих под ним людей, включая себя самое, и все кажутся тебе незнакомыми. И мы сами — очень странно — меньше всего на себя походим. Дети мои подросли, и мне уже двадцать восемь лет; восемь лет назад умер Руй, и в день его смерти я решила, что никогда больше не буду рядом с отцом, сердцем рядом. Но не знаю, есть ли что-нибудь на свете, что бы менялось так же, как я. Есть животные, которые меняют цвет только затем, чтобы стать незаметными. Я же меняюсь, похоже, по совсем противоположным соображениям, меняюсь, чтобы быть заметной для его глаза, оставаясь прежней во всем, кроме чувств. Может, чувства мои — те же краски?
Да, но я снова взялась за свой дневник совсем по другой причине. Я собиралась назвать его кладбищем моих иллюзий и могла бы в одно и то же время сказать, что он — зеркало, в которое я смотрюсь с детства, но в котором мое собственное отражение мне не нравится.
Почему мне так хочется исповедоваться этой бумаге, будучи почти уверенной, что завтра она, эта бумага, или, вернее, это зеркало, отразит другое лицо, которое не будет моим или которое мне будет неприятно видеть? Подобные мелочи меня выводят из равновесия, и я подчас не знаю, чего хочу, но это только когда пишу, потому что в жизни я всегда точно знаю, что меня интересует, никогда не отступаю, предвижу каждую мелочь, никто меня не смущает и я не испытываю стыда за то, что делаю. Но вчера, когда я увидела Его на похоронах Антонио.
Бедный Антонио!
Увидела, как достойно он держится, без единой слезинки, всем руководит, не забывает даже самую, казалось бы, пустяковую вещь, и потом, — когда в тот же вечер я шла за ним до Башни — Башни тайн моего детства, — слышала, как он кричал от боли, проклиная жизнь и смерть, вопрошая «за что», бросая вызов богу, наверное богу, я, я готова была упасть к его ногам и посвятить его во все, что со мной происходило и что я сделала сама за эти восемь лет вдовства, не знаю даже зачем: то ли для того, чтобы он меня осудил, то ли для того, чтобы простил и снял то наказание, которому сам же подверг.
До вчерашнего дня я смеялась над ним, когда намеревалась с кем-нибудь встретиться, это ведь было бесчестие, которое я готовила ему, ну, вроде бы брала грязь и бросала ему в лицо, одновременно держа его за руки, чтобы он не мог эту грязь смыть. Я сделала многое, да, многое: имела любовников, имею любовников, возможно, специально для того, чтобы досадить ему, а не для того, чтобы удовлетворить свою собственную страсть, которую за восемь лет я почувствовала лишь однажды и, как теперь мне кажется, совсем мне не свойственную. Я говорю, за восемь лет, имея в виду всю свою — жизнь, все свои двадцать восемь.
Влюбиться я была бы способна, только встретив такого мужчину, как он. Вот то, что я хотела сказать, снова взяв в руки зеркало-кладбище моего прошлого. Только такой мужчина, как он, был бы способен надо мной властвовать и заполнить всю мою жизнь, даже ту, что осталось бы мне прожить после его смерти. Никаких эмоций, совершенно спокойным голосом разговаривал он с нами после возвращения с кладбища. Только бледное, бледнее обычного, лицо, чуть дрожащее веко левого глаза и сжатые руки… Он еще раз напомнил нам, что состояние разделу не подлежит, так как он и мать сделали взаимное завещание друг другу, но что мы можем просить в разумных пределах часть своей доли, которая достанется каждому из нас после его смерти. И сказал, что все не так уж плохо, хотя, конечно, не так, как ему хотелось бы. Мигелу Жоану он приказал жениться в ближайшие четыре месяца, как самое большее, и поинтересовался, не собирается ли Мария до Пилар в монастырь. Он бы не хотел иметь в своем доме христовых невест. Она ему ответила (дай-то бог припомнить слово в слово, что она ему сказала): «Я еще не нашла себе того, кто был бы мне интересен. А так просто я замуж не пойду». Нет, не так.
«Я еще не встретила мужчину, который годился бы мне в мужья. Надеюсь встретить. А иначе я замуж не выйду».
И он ей ответил: «Не откладывай это дело в долгий ящик. Я хочу закрыть глаза, зная, что все вы — женаты или замужем».
Я уже была готова сказать: «живые или мертвые», но он ушел в музыкальную комнату. И больше в этот вечер мы его не видели. Ночь он провел в Башне и появился только на следующий день к завтраку, но позже обычного. За ночь он постарел.
Его голос все время звучит в моих ушах. Я попросила его посетить меня в моем имении, как только увидела его выходящим из дома, и он обещал приехать ко мне в Синтру с двумя детьми Антонио Лусио. «Ты уже знаешь, что у меня стало пять внуков и всем пятерым я теперь должен быть отцом?» — «Если Мария Луиза согласится вдовствовать», — ответила я ему. — «Андрадесы не так послушны, как Релвасы; во всяком случае, как Эмилия Аделаиде Релвас». Он задумался, услышав сказанные мною слова.
Глава XX КУДА ТЯНЕТ ПАУК НИТЬ СВОЕЙ ПАУТИНЫ?
Покачиваясь из стороны в сторону, коляска медленно поднималась вверх по дороге, что шла через земли, лежащие по берегам Тежо, шла к лабиринту гор и холмов, минуя который оказываешься в окрестностях Лиссабона. Было утро. Диого Релвас ехал со своим старшим внуком Руем Диого, одиннадцатилетним живым крепышом. Рассвет они встретили в имении, а в Альяндру прибыли первым поездом, прибыли вместе с Зе Ботто и Перейра Салданьей, совсем ослабевшим и плохо выглядевшим из-за своей астмы. Хорошо еще, что весна не запаздывала. Правда, март выдался чуть суровее обычного, довольно холодноватый, но солнечный.
Внизу уже виднелась Альяндра: лепившиеся здесь у реки и жавшиеся друг к дружке печальные, убогие домишки, похоже, росли здесь нарочно, чтоб подчеркнуть разительный контраст жалкого местечка и мощной свежей горной долины, украшенной фамильными загородными виллами. Словно жалуясь на плохой макадам, коляска, влекомая парой вялых лошадей, при каждом толчке поскрипывала, а лошади делались нерешительными. Четверо путешественников нет-нет да перекидывались словом. Парнишка уже не раз пытался нарушить беспокоящее его молчание взрослых, в котором те пребывали, раздумывая каждый в отдельности над причиной, побудившей его пуститься в путь по таким разбитым дорогам.
Будучи владельцем этого заезженного экипажа, Салданья погонял лошадей, сидя на облучке с Релвасом, а Зе Ботто, покусывая потухшую сигарету, составлял компанию сыну Эмилии Аделаиде на заднем сиденье. Привыкший к подавляющим сумрачным лесам Синтры, Руй Диого не удержался от крика, когда они перевалили первый холм:
— Дед! Дед, посмотри!.. Это, должно быть, Тежо.
И он в восторге указывал на голубую ленту реки, огибающую островки и образующую заводи на заливных и прибрежных северных землях (Что это там? А что за земля вон там, вдали?); Зе Ботто тут же отвечал ему, спеша удовлетворить любопытство парнишки, возможно, чтобы избавить Релваса-старшего от неприятных воспоминаний об истории с покупкой островов Альяндры, которая по сей день не давала тому покоя. Из-за этой покупки, которую землевладелец Алдебарана сделал у компании по продаже заливных земель (оба, Зе Ботто и Диого Релвас, были в ее руководстве), и завязался между ними тот яростный спор, горький привкус которого до сих пор ощущал хозяин Алдебарана. Зе Ботто тоже помнил тот спор, но предпочитал худой мир доброй ссоре.
На горизонте появился хребет Палмелы, окутанный и с этой стороны, и со стороны Лиссабона легким туманом, да, там, вдалеке, находился Лиссабон, виднелись белые и оранжевые паруса фрегатов и ботов в открытом море. Парнишка явно не мог усидеть на месте, а потому дед вынужден был обернуться и все время держать его за куртку, чтобы случайный резкий толчок не выбросил его из коляски. Зе Ботто улыбнулся непоседливости внука Релваса, и Релвас благодарно кивнул ему головой, тогда как Перейра Салданья целиком был занят своими желчными мыслями о министерстве прогрессиста Зе Лусиано — вертепа изменников, ни больше ни меньше.
— Только не говори, что бубонная чума в Порто — дело их рук! — съязвил Ботто в промежутке между объяснениями, которые он давал Релвасу-младшему.
— Ну, это просто анекдот… Но смотри, старик! А эта идея создать вокруг города «санитарный кордон», когда биржа трещит по всем швам от трудностей, — дело слепых бродяг. Слепых бродяг и предателей, ведь если бы не они, республиканцы никогда бы не добились на выборах таких результатов: три депутата…
— Мы играем с огнем, — заметил землевладелец Алдебарана, — и огонь раздувает вся свора либералов, в то время как монархисты с яростью душевнобольных дискутируют сами с собой. Все мы душевнобольные!
— Релвас, спаси меня от безумия! — пошутил Зе Ботто, откинувшись всем своим тучным телом на спинку заднего сиденья, которая тут же заскрипела от такого веса. — Эта старая история о доме, где нет хлеба…
— И в котором друзья только зовутся друзьями, потому что собираются обобрать вас как липку, — вставил Салданья, все больше раздражаясь.
Зе Ботто понял намек и побледнел.
— Тогда-то друзей не было. А англичане затеяли спор с немцами из-за наших колоний, и тут не обошлось без дурной головы. А дурная голова ногам покоя не дает…
Руй Диого молчал, но со страхом слушал перебранку трех мужчин. Ему казалось, что еще немного — и они побьют друг друга, и он с опаской смотрел на деда, который был спокойнее, чем двое других.
— Дом, в котором нет хлеба… — хитро начал было опять Зе Ботто, собираясь зацепить тех, кто сидел на облучке. Он кое-что вспомнил…
— Но кто у нас отнимает хлеб?
— Все, мой друг, все кому не лень!
— А следом сыплются и все остальные беды, и вина в том прогрессистов и Зе Лусиано. Черт его подери!
Поглаживая голову внука, чтобы хоть как-то его успокоить, землевладелец Алдебарана попросил «обвинителя» объяснить сказанное. И тот гут же это сделал, напомнив о деле с задолженностью Дона Мигела, которую граф Рейльяк [55] потребовал со скандалом у кипящего возмущением Перейры-мигелиста, и еще финансовый провал, которому способствовали Интзе и Жоан Франко своими залоговыми махинациями с семьюдесятью двумя тысячами железнодорожных акций и прочими ценными бумагами внешнего займа, благодаря чему за границей пришли к выводу о близящемся банкротстве государства. В Берне все это знали и потребовали от Португалии уплаты сразу ста тысяч лир по случаю строительства железной дороги в Лоуренсо-Маркесе.
— Ну что ж, вот вам, пожалуйста, и выгода от железной дороги, — бросил Релвас в лицо говорившему. — Там, где возникает железнодорожная компания, ничего хорошего не жди. Кто получает на лапу, кто пролезает в директора, а все расходы… покрываем мы, земледельцы. Я все это, Зе Ботто, знаю, знаю! И не делайте такого лица, мой милый! Эти саламанкские штучки, забавы американцев и англичан в Африке, оплачивать будем мы…
— Спокойно, Диого Релвас, Африка-то наша! — включился разозлившийся Перейра Салданья.
— А я разве сказал, что нет?… Только средства и для Африки тоже находить должны мы, земледельцы. Тогда как казна куда богаче нашего кармана — вот что я хочу сказать.
— Мы работаем для будущего…
— И рискуем утратить настоящее. Повторится история с Бразилией, как по-писаному, в точности, и даже хлеще. И скоро…
— Уж не хотите ли вы этим сказать, что поэтому мы должны позволить англичанам, немцам и всем прочим завладеть тем, что является нашим?!
— Нет, Перейра Салданья, ничего похожего! Ну совсем ничего… И даже, как говорят, близко не лежало! Единственное, чего я хочу, — это чтобы вы открыли глаза… Хочу, чтобы мы не принимали желаемое, почти всегда далекое от истины, за действительное, которое можем иметь только благодаря нашим собственным рукам. Говоря «нашим рукам», я хочу сказать «нашим трудам», ясно?! Государство держится деньгами и людьми, которые работают… а не словами. Слова — дело пустое!
— Вот потому-то я и хочу вложить свои деньги в Африку, — заключил Салданья.
— Очень хорошо делаете, помогай вам бог! — ответил Релвас, забыв о беспокойстве внука, который вряд ли понимал затеянную взрослыми словесную дуэль, в которой выбранным оружием была ненависть.
Однако Релваса-младшего это уже начинало развлекать. Особенно физический контраст между Ботто и Салданьей, то вцеплявшихся друг в друга, то вместе наваливавшихся на деда, который без страха мерился с ними изворотливостью ума.
Вынужденные шедшей под уклон дорогой, лошади пошли рысцой, а возможно, и подбадриваемые громкими голосами разговаривавших седоков, однако очень скоро поумерили прыть из-за множества камней и грязи на дороге. Навстречу им шли пешком, а то и ехали на ослах крестьяне, которые приветствовали землевладельцев, держа шапки в руках и глядя им вслед до тех пор, пока коляска не исчезала за поворотом.
Толстый и тонкий, как теперь называл их про себя Руй Диого, затеяли жаркий спор относительно дел в Африке и только что высказанного Релвасом соображения о казне и кармане, однако Релвас теперь их не слушал, он делал вид, что дремлет. Но он размышлял. Да, размышлял о внуке, которого взял с собой, чтобы тот привыкал к этим поездкам и общению с людьми, и сожалел, что не делал этого раньше со своими детьми. Теперь он обвинял себя в том, что никогда не прилагал усилий, чтобы узнать своих детей своевременно, ведь только случившееся несчастье открыло ему глаза на Антонио Лусио, и это был урок, и урок тяжелый. Все это он сказал своей старшей дочери, убеждая ее разрешить Рую Диого быть около него, хотя управление алентежскими владениями он поручил Мигелу Жоану. Нет, старым он себя еще не считал, с чего бы: ему шел пятьдесят третий год и он, выделяя долю каждому, желал продолжать быть хозяином всего. Ведь без него ничего не делалось. И все же считать себя незаменимым в решении всех дел, касающихся большого хозяйства Релвасов, было его большим минусом.
К счастью, он был человеком разумным, чтобы понять, что это заблуждение. А заблуждения надо исправлять. И чем скорее, тем лучше!
И вот сейчас он не упускал возможности преподать урок семейству Андраде — этим высокомерным ничтожествам. По его понятиям, вдова и дети Антонио Лусио теперь вполне могли бы перебраться в поместье «Мать солнца», а имение Антонио Лусио могло бы перейти в руки Мигела и его жены, а они стали возражать, играть в щепетильность. А потому как-то утром он, не ставя их в известность, взял и перевез невестку и внуков в поместье «Паленое». Подобные действия можно было бы и обжаловать в суде. Но, подумав, они сочли разумным признать, что, хотя мать детям необходима — и он не оспаривал эту очевидную истину, — пример деда и его состояние нужны детям тоже. Время и закон сами позаботятся о том, чтобы все поставить на свои места.
Коляска остановилась среди лысых, охристо-каштанового цвета холмов, выжженных, похоже, адским пламенем. Они сделали несколько шагов, и глазам их открылась прихотливая работа ветра и дождей, глубокие овраги, из которых вверх вздымались почти белые скалы, очень похожие на затвердевшие известковые языки пламени. Редкая и почти совсем сожженная растительность покрывала их вершины, с вершин вспархивали стаи птиц, перепуганных неожиданными пришельцами. Руй Диого, придя в восторг от представившегося его взору простора, принялся кидать камни во все, что могла настигнуть его меткая рука. Дед продолжал молча смотреть вокруг себя, поглаживая теперь уже сильно поседевшую бороду. «Куда тянет паук нить своей паутины?» — спрашивал он себя, не находя ответа. Двое других тоже, видно, не имели большого желания разговаривать.
Туман, за которым чуть угадывалась Палмела, рассеялся, и солнце засияло вовсю. Теперь глазам их открылись неоглядные дали и Тежо с пестревшими на ней парусами. И разные прибрежные селения, очень убогие, особенно на плоскогорье, которое казалось разливом реки.
— Это как раз та земля, которую вы, Перейра Салданья, хотите продать? — спросил хозяин Алдебарана безо всякого интереса. Ведь его сейчас больше всего интересовало выражение лица Перейры, да и лица Зе Ботто, взгляд маленьких и хитрых глаз которого он никак не мог поймать.
— Да, Релвас, именно та. — И он развел свои короткие и слабые руки.
— Но тут же ничего не вырастет. Что вы получаете с этих земель?…
— Вы же сами только что сказали: ничего!
— Так, выходит мы приехали сюда, чтобы я купил у вас это «ничего»? Хороший же вы друг, сеньор, нечего сказать.
Ботто, казалось, не слушал их разговора.
— Мне нужны деньги… И этим сказано все. Я ведь не скрываю, что хочу вложить деньги в Африку. Я нюхом…
— Продайте мне акции компании заливных земель. Ну, что ты теперь запоешь…
— Сам бы у вас купил. И не делайте такого злого лица.
— Так, человече, я не совсем понимаю: вы покупатель или продавец?
— И то и другое… Продаю то, что мне не нужно, и покупаю то, что необходимо. И то, что продаю, предлагаю тому, кто располагает деньгами.
— А Зе Ботто вы уже предлагали?
— Предлагал.
— Ну а ты, Зе Ботто? Не ожидал я такого поворота. Как думаешь, сколько стоят эти устрашающие камни?
— Ну, ведь все зависит… Тебе что-нибудь уже известно. Все, как тебе известно, зависит… Салданья считает, что здесь, в этих оврагах, золотое дно.
— Ну, так, значит, о цене речь уже была!
— Да, он дорого просит. Салданья не продешевит…
— А что ты имел бы с этих земель?
— Со временем что-нибудь и имел бы. Иногда вещи приобретают цену со временем.
Устав швырять камни, Руй Диого подбежал к деду с галькой в руке. Он хотел пустить ее по откосу самой глубокой пропасти, чтобы услышать звук падения.
— Ну, так какова ваша цена, Перейра Салданья?
— А сколько вы дадите?…
— Вы же продаете. И хорошо знаете, сколько что стоит. Говорите прямо: для чего могут сгодиться эти камни? И сколько вы за них хотите?! Конто?!
— Каменщики говорят, что это прекрасный строительный материал. Но за конто я их оставлю себе…
— Но в Африке, если вы в Африку вложите конто, через три года вы будете иметь три конто. Здесь же конто и останется конто… Продайте мне акции компании заливных земель, за каждую плачу два конто с половиной. Никто и никогда еще столько не платил.
Внук дергал деда за руку, просясь в обратный путь: здесь ему уже все наскучило. Диого Релвас сделал вид, что занялся ребенком, но сам был внимателен к каждому движению Зе Ботто и Салданьи и тут же заметил, что Салданья сделал Зе Ботто какой-то знак, значение которого ему было не ясно.
— Ну, Руй Диого, а ты, ты купишь эти земли?
Парнишка пожал плечами.
— Это же сухая глина…
«Вот именно, сухая глина, это точно!» — подумал хозяин Алдебарана.
— Я возьму пробу, если вы, конечно, разрешите. Играю в открытую, посмотрим, каков будет результат. И через месяц дам ответ…
И тут же он увидел и того и другого несколько сконфуженными.
— Я не хочу так долго ждать. Я не хочу быть связанным обязательствами…
Только тут Диого Релвас понял, почему его пригласили Салданья и Ботто: они хотели освободиться от обязательств. Теперь было нетрудно понять, что за всем этим стояла индустрия.
— Десять конто, пойдет?
— Нет, нет. За десять я оставлю себе. Релвас повернулся к Ботто.
— Ты считаешь, что я мало даю?
Смущенный Зе Ботто оставил вопрос без ответа и двинулся вместе с внуком Релваса к коляске. Близился час обеда, и все, похоже, заторопились. И все же хозяин Алдебарана бросил еще несколько слов своим зычным голосом:
— Хочу предупредить, Перейра Салданья, чтобы больше вы меня не беспокоили продажей ваших земель, которые вы намереваетесь сбыть промышленным предприятиям. Пусть подобные сделки будут сделками с вашей совестью. И знайте, я вас освобождаю от данного вами слова несколько лет назад, в моем доме. Теперь слово чести изнашивается очень быстро, и не в моих правилах сохранять его за других. Я быть хранителем музея диковинных вещей не собираюсь…
Салданья почувствовал себя неловко, хотел что-то сказать в оправдание, но понял, что его держат за шиворот, хотя Релвас находился от него на приличном расстоянии.
— Знаете, Релвас… У меня было предложение, хотел бы услышать ваше…
— Я вам скажу только одно: придет день, когда вы узнаете цену всему тому, что сейчас продаете. Не говоря уже о спокойствии, которого так нам будет не хватать… А ведь спокойствие-то не купишь ни за какие деньги.
Он подошел к коляске.
— Теперь сзади сяду я с внуком. А вы оба садитесь на облучок. Но будьте внимательны, не давайте лошадям закусить удила. Это опасно… — И, сжав руку Зе Ботто: — Вы все слышали, Зе Ботто?
Спустя несколько месяцев Диого Релвасу стало известно, что эти самые бесплодные горы были проданы одной цементной компании. Это ему подтвердили и в Португальском банке. Гидра — так называл Релвас промышленность — наступала со стороны Лиссабона. Бдительность следовало усилить. И Релвас решил, что соберет вокруг себя тех землевладельцев, которые понимали смертельную опасность, грозившую нации.
Когда же на одном из больших собраний земледельцев Юга хозяину Алдебарана предоставили слово, он решил забить тревогу. Обычно он отказывался выступать на собраниях, считая, что одним его присутствием все сказано. Истерия толпы, как и любых собраний, выводила его из себя. Это очень походило на безумие. Или на театр, да, именно на театр, где показывают мелодраму, вызывающую если не презрение, то смех. Но ведь все слепые и поводыри слепых идут, сами того не ведая, к пропасти, к яме, в которой все, что еще могло бы жить, погибает.
Если политика, хоть это и абсурдно, была для некоторых общественных деятелей ареной борьбы за личный престиж, то основным силам страны следовало свой вес и свой опыт бросить на чашу весов порядка, вынудив тем самым стрелку качнуться, и без колебаний, в их сторону.
Он хотел сказать всего несколько слов. Обратить внимание, что живут они в чрезвычайное время.
Сидя за столом, председательствующий Жозе Бараона слушал Диого Релваса и в знак согласия — кивал головой. Положением своим Жозе Бараона был обязан королевской скобе, которая посетила его имения в Алентежо и охотилась в Вила-Висозе. В связи с этим Диого Релвас испытывал определенную досаду, однако сейчас соперничать с Жозе Бараоной было нельзя, а потом) хозяин Алдебарана откладывал это до лучших времен. Ничего, будет и на его улице праздник.
Да, они жили в чрезвычайное время.
Перед его глазами маячили головы, сливались в одну, образуя единую массу, которая собиралась с духом, чтобы атаковать его. Масса эта была бесформенной, у нее ничего не было, кроме глаз, сотен, тысяч глаз, которые следили за ним, чего-то ждали or него, а что именно — он не знал. Только спустя какое-то время он различил в этой массе Зе Ботто и Перейру Салданью, сидящих во втором ряду.
— И раз мы должны быть начеку по отношению к врагам, которые обступили со всех сторон земледельца, мы должны обнаружить… разоблачить… и наказать… тех, что были в цитадели и сотрудничали с врагами, а некоторые так даже ворота врагам открывали.
Земледельцы, увлеченные могучим низким голосом хозяина Алдебарана, разразились криками одобрения и зааплодировали.
— И мы должны им отказать в нашей дружбе…
Сделав два шага вперед, он почти указывал на них пальцем, испепелял взглядом и, точно заразившись нервным напряжением толпы, стал средоточием ее воли. Диого Релвас ощутил полную раскованность: похоже, тело его теперь жило само по себе и ему не подчинялось, только голова и руки, да хмурый взгляд и все время говорящий рот — рупор этой глазастой массы, которая временами сжималась, точно собираясь пасть ниц, и тут же грозилась подняться, пойти стеной и зайтись в криках.
— Они совершают эти безумства, потому что безумны. Идут к пропасти, потому что слепы. Но нас они к яме слепых и безумных не увлекут…
Голос его прерывался, нуждаясь в передышке.
— Пусть они оставят деревню в покое, пусть она живет своей буколической жизнью, мирно, как учит людей сама земля. Пусть хозяин и раб будут одной семьей, людьми одной крови. Пусть деревенская кровь продолжает быть кровью и плотью бога, потому что из деревенских рук мы получаем хлеб и вино… Никогда холодная сталь машины не заменит нам всевышнего… Никогда не заменит она нам крестьянина и ту роль, что он играет в жизни нации…
Усталый, он сел и принялся вытирать лицо платком, а люди пошли к нему, чтобы пожать руку, пошли следом за Бараоной, который сделал это первым; он подошел к Релвасу, обнял его и предложил занять почетное место за председательским столом. Нет, Релвас до конца не осознавал того, что сказал, как не осознавал и того, что все его поздравляли. Он только видел тех двоих, сидящих во втором ряду, почти слившихся в единое существо, мертвенно-бледных, потерпевших неудачу. Он смотрел на них в упор. Зе Ботто кивнул ему, но Релвас презрительно вскинул голову: с предателями он не знаком.
Глава XXI ОПЬЯНЕНИЕ ТЩЕСЛАВИЕМ
Произнесенная Релвасом речь вынудила ею — и надо сказать правду, без особой печали, — задержаться в Лиссабоне. Ему нравилось быть на виду и заставлять себя слушать: он был уверен в своих доводах, а успех выступления в Ассоциации земледельцев сделал его имя достоянием первых газетных полос. Речь Релваса обсуждалась и комментировалась как в передовицах, так и в sueltos [56], после чего он счел возможным выступить с открытым письмом, четким и в то же время благоразумным, в котором еще больше развил высказанные на собрании мысли, хотя кое-что и смягчил, пойдя навстречу журналисту еженедельника возрожденцев Родригесу, который и изложил мысли землевладельца хорошей прозой, внося поправки в заметки, еде чанные рукой Релваса в доме Розалии.
«Говорить — это пожалуйста», — думал Диого Релвас. Он мог говорить сколько угодно и обо всем. Вполне решительно. Связные мысли приходили сами собой. И сами выстраивались, развивались, утверждались в присутствии слушающих, словно эти слушающие и давали им эту точную и определенную форму. И разумные слова шли одни за другими, приходили в голову одни других лучше: живые и яркие, вызванные к жизни уже сказанными и способные породить новые, которые поспорят с предыдущими, формой и содержанием дополняя картину; можно было бы сказать, что внутри него, когда он начинал говорить, сухое, без единого листочка дерево чудесным образом зеленело, одевалось листвой, зацветало, роняло пустоцветы и давало необходимые плоды; вначале они были маленькие и зеленые, но потом созревали от тепла его голоса, от тепла его глаз, глаз, которые преследуют слушающих и, похоже, оставят их в покое лишь в последний момент, когда благоухающие и аппетитные плоды нужно будет собирать. И дерево это было апельсиновое, именно оно, ведь апельсиновое дерево зеленеет очень быстро и быстро дает кислые бесцветные завязи, которые потом превращаются в яркие, спелые, сладкие плоды. Конечно же, плоды, как и мысли, бывают яркими. Или н-нет?
Приблизительно это он и сказал Родригесу, объясняя ему, что, сидя за конторкой перед чистым листом бумаги, молча и спокойно, он не может найти нужных слов — он в этом абсолютно уверен и не считает зазорным расписаться в подобной несостоятельности. Мысли куда-то уходят или, наоборот, застаиваются, а лучше сказать — делаются неживыми. А вот когда он стоит и говорит громким голосом и перед ним слушатели — тогда совсем другое дело. И это точно. Стул и перо лишали его свободы, создавая грустное впечатление, что он арестован и закован в кандалы. А во рту кляп. Вот именно. Писать — адское занятие. Возможно, это и абсурд, но для него это так. Вот потому-то он и восхищается журналистами, способными изобразить на бумаге — и еще как, бог мой! — все то, что у других на уме. Это те способности, с которыми рождаются, заключил он.
Что касается умения говорить, он, конечно, преувеличивал. Диого Релвас вспомнил Перейру из Португальского банка. Перейра пришел к нему спустя несколько дней после его выступления в Ассоциации, чтобы конфиденциально попросить Релваса не настаивать на новом разоблачении скандальных дел железнодорожной компании, да еще в прессе. Релвас дал указание Родригесу не снимать вопрос об акционерных обществах в газетах, считая необходимым предать гласности дела этих обществ — настоящего омута, в который индустрия надеется затянуть сельское хозяйство. Однако что же он такого сказал, что Перейра — тесть Мигела Жоана — так рассердился?!
— Кто хорошо сказал, друг мой, так это падре Виейра [57]: «Короли не могут идти в рай, не беря с собой воров, равно как и воры в ад без королей». Сегодняшние короли — это промышленники. Так что все претензии к ним. Или н-нет?!
— Преувеличиваешь, Диого Релвас. Сегодня все мы короли в одинаковой степени.
— Не говори только, что мышь нуждается в мышеловке. Разве для того, чтобы спастись от кота?! Тогда это торжество!
— В какой-то степени все мы и коты и мыши…
— Что касается меня, то я предпочитаю — мухи отдельно, котлеты отдельно. Ненавижу, прямо говорю, ненавижу финансовый синдикат, который порождает хитрость, хитростью держится на этом свете и умирает от правды, таща за собой на тот свет людей благородных, поверивших этим мыльным пузырям. Конечно, политикам это по нутру. Они нуждаются в теплых местах во всех советах.
— А мы, Диого Релвас, нуждаемся в политиках.
— Раньше я тоже придерживался этого мнения, но потом разуверился. Если парламент годен только для того, чтобы раздувать уже горящий костер, то ему крышка. Когда на моей земле какая-нибудь посеянная культура не дает всходов, я заменяю ее другой. И если либерализм нам не годен, долой его.
— Это не так легко сделать. Ведь либерализм принес нам кое-какую пользу…
— Но теперь дерет с нас три шкуры и за то, что дал, и за то, что мы имели и без него, и ведет нас к хаосу. Что касается меня, то я начинаю подумывать о том, что нам необходима абсолютная монархия. При серьезной хвори нужны серьезные лекарства, иначе дело дрянь. Пусть не будет колец, но останутся пальцы. Мы нуждаемся, чтобы наши тела и души обрели порядок и покой!
— Мир, Диого Релвас, эволюционировал. И естественно, чем-то надо жертвовать. Рождение нового всегда сложно…
— Эволюционировал, но по воле людей, друг мой. А воля людей — это то, во что я верю. Если мы колеблемся и идем на сделки, то скоро будем на помойке.
— Мы же живем в Европе.
— Но мы можем размежеваться с ней, дорогой Перейра. Установить на Пиренеях санитарный кордон.
— Не так-то это просто… К тому же мы нуждаемся как раз в обратном. В создании ценностей, для которых рынком сбыта была бы Европа и страны других континентов.
Вот где зарыта собака! Перейра делал ставку на развитие индустрии и на эксплуатацию природных богатств колоний, не думая о том, к какому нарушению равновесия придет португальская нация в целом. А между тем, последним кризисом мы были обязаны именно нарушению равновесия, и новый придет, прежде чем страна будет санирована, а потом кризисы участятся, и это будет полный крах. Поговаривали, что сельское хозяйство Португалии жило за счет деревьев, не требующих человеческого труда, таких, как пробковый дуб и оливковые деревья, но забывали о дивидендах акционерных обществ, а дивиденды эти были еще одним таким же деревом, но куда более недолговечным, так как оливковые деревья и пробковый дуб хоть и меняли хозяев, но просто, безо всякой видимой причины, не высыхали, а это умирало — и все. Умирало тогда, когда это становилось тому, кто его посадил, необходимо: других причин не было. Ведь достаточно какой-нибудь иностранной компании предложить главным акционерам хорошее положение в ее правлении и… Прощай, патриотизм! И только потом, потерпев неудачу, они выясняли, что всего лишь два или три процента пущенного в обращение капитала было учтено. Остальной же находился в банках под арестом. Так что, похоже, дивиденды акционерных обществ действительно были еще одним деревом, не требующим затрат труда. И, похоже, приспела необходимость кончать с подобной национальной ленью. И как можно скорее, сейчас же. Пока не поздно.
В Перейре он явно ошибся. И теперь должен был крепко подумать, за кого голосовать на ближайших выборах правления банка.
Иногда он решал плюнуть на все это и удалиться в усадьбу «Мать солнца» и заниматься своими землями — и прощайте синдикаты и банкиры Лиссабона, родные братья и сестры синдикатов и банкиров Порто, погрязших в сделках с Саламанкой и этой шайкой, с которой он еще связан. А вдруг он не дальновиден? Но нет, он был уверен, что окажется прав. И как-нибудь они придут к нему и признают, что обманулись. Хотелось бы только, чтобы это не было слишком поздно.
Всю неделю он провел за обедами и ужинами. Каждый старался усадить его за свой стол, услышать его мнение, попросить совета. Истинный пир речей. «Я просто опьянен тщеславием», — сказал он любовнице в ту последнюю ночь, что провел в ее доме на улице Лапа. Он был стар. Да и она уже не та девица, «плетеная корзиночка нежностей», как он, бывало, называл ее. У нее была одна добродетель, даже очень большая по тем-то временам: она умела быть благодарной. И считалась другом: он думал, что не смотрит на нее сквозь розовые очки. Она справлялась с магазином на Шиадо, и хорошо справлялась. Но годы шли, и шли к старости. Да, через десять лет и он будет старик. Внуки подросли. Того и гляди переженятся. И ему вполне будет хватать только их нежности.
Мысли его вернулись к Марии до Пилар, твердо уклоняющейся от ухаживаний всех молодых людей, предлагающих ей руку и сердце. А надо сказать, претендентов на ее руку и сердце было немало. Эмилия Аделаиде сватала ей графа, двадцатью годами старше; вдова Антонио Лусио — наоборот: предлагала ей своего кузена, двумя годами моложе; у него консервный завод и карьера в страховой компании, и даже служанка Брижида и та нашла ей жениха, он не помнил, кого именно, но, возможно, этого дурака Силву Мело, который ухаживал за ней в Синтре, а позже приехал к ним в имение под предлогом покупки двух пар лошадей для своего экипажа, вот Мигел Жоан — тот воздерживался от сводничества, хотя настаивал на том, что Мария до Пилар должна быть выдана замуж, и как можно скорее. Сам же Релвас хотел быть в стороне и высказать свое мнение только тогда, когда она уже на ком-нибудь остановит свой выбор. Но однажды все-таки пригрозил, что приведет ей мужа, если вскорости она сама не найдет себе подходящего. Однако заниматься подыскиванием кандидата не хотел — на памяти был опыт с Антонио Лусио.
Именно это он и сказал сыну, когда они с ним встретились. Мигел Жоан спросил его:
— А что нового в Лиссабоне?
— Ничего.
Возможно, ничего нового и не было. А может, ему хотелось думать, что не было?! Вернее, не хотелось ставить точку над «i» в том деле, которое его смущало. Ведь смущала его неясность и опасения, а он избегал говорить о своих опасениях. Когда он обсуждал проблемы земледелия с чужими людьми, он утверждал свою правоту. Ведь, по сути дела, он только этим и был занят: Релвас предпочитал быть готовым к любым неожиданностям, предпочитал бороться, пока есть силы, и заботился о том, чтобы исполнить свой долг по велению сердца, а не по принуждению. Долг по отношению к прошлому. Разве этого мало?!
Из Лиссабона он возвращался с пустотой в душе, точно душу его окутывал густой туман, тогда как тело ныло почти от физической боли. Так он воспринимал непонимание людьми серьезных вопросов. Несколько раздраженно он приказал кучеру ехать к муниципалитету и был резок с председателем. «Человеком становишься день ото дня, — думал он, оправдывая принятую линию поведения. — И чем меньше я чувствую себя в чем-то убежденным, тем больше должен делать вид, что это так».
Пользуясь авторитетом, возросшим после выступления в Ассоциации земледельцев, статьи в газете и открытого письма, написанного рукой Родригеса, Релвас не шел окольными путями. Еще чего. Обязанностью Соузы было служить ему, Релвасу. И Соуза любым способом должен был воспрепятствовать деятельности цементной компании, пустив в ход проволочки, бюрократию и прочая и прочая. И дать Релвасу отчет во всем.
Соуза проводил его до мраморной лестницы, но Релвас даже не попрощался. «Кнут и пряник — вот что нужно для подобных людей… А может, и для всех».
Сын спросил его, что нового? И он ответил: ничего.
И, услышав доносившийся из верхнего коридора голос Марии до Пилар, заговорил о ней.
Так ли уж сейчас, именно сейчас, интересовала его судьба дочери?!
Возможно, и нет. Но он говорил о ней долго и только тогда, когда колокольчик позвал к ужину, сказал Мигелу:
— Останься. Поужинаем вместе, а?…
— Нет, спасибо. Меня ждет Изабел.
— Пошли за ней мою коляску.
— Нет, это невозможно, у нас сегодня гости.
Диого Релвас ясно дал сыну понять, что раздосадован, но не хочет быть щепетильным. Похоже, он боялся откладывать до завтра созревший у него план. А потому он медленно и со вкусом, точно его ничто не волновало, раскурил сигару и, не поднимая головы, сказал:
— Надо припугнуть Зе Ботто, этот тип не держит слово…
К чему клонил отец, Мигел Жоан не догадывался.
— Каждую ночь он возвращается из Собралиньо от любовницы. Так около одиннадцати. Пальнем в него.
Произнося последние слова, он внимательно посмотрел в глаза Мигелу Жоану и улыбнулся.
— Для такого дела подойдет Счастливчик, — напомнил ему Мигел.
— Нет. Это мы возьмем на себя. Нет нужды убивать его, хватит и того, чтобы убить лошадь, на которой он едет.
Тут он рассмеялся, подумав о том, как в такой час этот мерзавец пойдет пешком к себе в усадьбу. Ведь любая тень будет ему казаться тенью убийцы.
— Хотелось бы посмотреть его штаны, когда он придет домой…
Сказав это, он простился с сыном и, держа у него на плече свою руку, проводил Мигела Жоана до коляски, которая ждала его. Потом, насвистывая, хотя сведенный лоб прорезали три глубокие морщины, взбежал по лестнице. «И никаких анонимок, выстрел — и все».
Глава XXII КАРЛИК ДУМАЕТ, ЧТО ЗЕ ПЕДРО РОДИЛСЯ НЕ ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ
Пустив Эмира галопом, Мария до Пилар отдала свои белокурые волосы во власть ветра, и они, как золотистый факел, сопровождали ее по темным лесным дорогам. Однако воображение ее неслось куда более стремительно, чем она и ее лошадь, неслось во весь опор, бросая вызов тому безумному и опасному пути, который ей помогла открыть мисс Карри, но конец которого не дано было предвидеть ни той, ни другой.
Цокот лошадиных копыт и окрики, которыми Мария до Пилар понукала коня, одержимая бешеным желанием мчаться вперед без определенной цели, вспугивали птиц, а может, она мчалась навстречу тому, что искала среди деревьев и ручьев, среди зверья и перепуганных птиц и неожиданно наступавших ночей в этом лесном лабиринте?
Зе Педро теперь оставался на манеже: с согласия землевладельца он давал уроки верховой езды гувернантке. После боя быков, на котором объездчик лошадей выступал в качестве пикадора, англичанка окончательно потеряла голову. Она искала встреч с сыном Борда д'Агуа, нимало не заботясь, что может быть узнана и разоблачена. Предупреждавшая ее о подобной опасности Мария до Пилар кончила тем, что стала ей завидовать.
— Дай мне совершить все глупости, какие мне заблагорассудится… Когда-нибудь, конечно же, всему этому придет конец, но… Нет, сегодня я не расположена давать урок английского твоему племяннику. Ни урок, ни что-либо другое… И ты останешься здесь до конца…
Они подхлестывали себя разговорами, полными недомолвок и намеков, возводя эту свою свободу в разнузданную праздность. Женитьба Мигела Жоана на Изабелинье и его уход из родительского дома совсем облегчили их общение. Диого Релвас разрешил, чтобы мисс Карри была воспитательницей и наперсницей его дочери, поскольку дочь всем появившимся вокруг нее претендентам выказывала свое пренебрежение. И он поручил мисс Карри объяснить Марии до Пилар, что та должна выйти замуж, пусть выберет себе жениха она сама, нет, он не собирался вмешиваться в такое деликатное дело. Он даже делал вид, что не замечал непослушания Марии до Пилар, достаточно с него и той вины, что уже лежала на нем, думал он, ни к чему ему еще одна, которая потом может мучить его совесть. Лучше пусть посоветует ей мисс Карри. Британское пуританство способно победить мятежность дочери, на что падре Алвин, надо сказать, ставший с возрастом словоохотливым, все меньше и меньше надеялся: ведь даже он не мог вызвать Марию до Пилар на откровенную исповедь.
И только Жоакин Таранта был озабочен недостойным поведением мисс Карри и барышни. По этому поводу он хотел поговорить с Зе Педро и даже как-то начал этот разговор: «Я, парень, многое повидал, с тобой дело неладно, не надо бы тебе глаза пялить на тех, кто тебе не ровня». Однако объездчик лошадей был глух к его словам: хватит и того, что он выслушивает замечания Таранты о своей работе на манеже. «Сколько веревочка ни вейся, а конец будет, помяни мое слово, и это так же точно, как то, что я — Жоакин Таранта!» Но теперь сын Борда д'Агуа, после того как хозяин Диого дал ему вместо Звездного, который умер от старости, другого коня для того, чтобы видеть парня участником боя быков, совсем зазнался. Вот только его мать, бедняжка, убивалась над судьбой сына все больше и больше. Карлик рассказывал ей то, что видел, прибавляя, конечно, не очень многое, ведь Жоакин Таранта не мог угнаться за фантазиями англичанки — не велик был его опыт по части женщин. Почти все они над ним насмешничали, а он, ясное дело, покорялся и все смиренно сносил в силу физического дефекта, данного ему богом. Однако при маленьком росте у него был большой дар — он сочинял стихи, и они были всегда с ним. И хорошие получались, все говорили. Так что всякому свое счастье. Но вот звезда Зе Педро не казалась ему счастливой. Объездчик лошадей избегал с ним встреч; нет, он не считал, что встреча с карликом приносит несчастье, как считали другие мужчины, потому что женщинам Таранта приносил счастье, и те, встречая его, радовались и посылали воздушный поцелуй окружающим, объявляя, что уже имели удовольствие видеть карлика и, значит, день будет удачным.
Бесцельно блуждая по лесным тропам, Мария до Пилар наконец набрела на тот самый укромный уголок, который однажды так красиво описала ей мисс Карри и в который она, Мария до Пилар, поверила, сделав своим. Теперь вот, очутившись в этом уголке, она почувствовала неожиданное желание встретиться лицом к лицу с тем не существовавшим для нее, но так глубоко ее тревожившим миром физических отношений.
Она привязала лошадь к дереву и легла на траву.
Перепуганные было цокотом лошадиных копыт птицы успокоились и вновь принялись петь, а стекающий с холма ручей, журчание которого было почти неслышно и походило, скорее, на шелест листвы, зажурчал громче. Пение соек и кукование кукушек перекликались со свистом дроздов. И земля, именно земля — это шло из ее глубин, — внушала Марии до Пилар чувство, что она здесь не одна, нет, хотя ей как раз хотелось избавиться от этого чувства, испытанного именно в этом уголке. Она всегда противилась любви, считала, что способна противостоять: так был велик ее страх перед материнством. Она смотрела на беременную женщину со страхом и отвращением. И испытывала чувство вины, вины, сознание которой навязали ей однажды вечером ее братья и сестра.
Отец на несколько дней отлучился из имения, оставив Марию до Пилар на попечение сестры и братьев, и чуть ли не на следующий день после ужина Антонио Лусио сказал ей, что должен привести ее в каменный домик в лесу, о котором никто не знает, затерянный среди акаций и дубов; он находил его с закрытыми глазами: налево, тут же опять налево, потом по узкой дорожке все время вперед, чуть зигзагами по лесу до каменного дома с конической крышей. Антонио Лусио вел Марию до Пилар, крепко держа за руку. Только потом она поняла, что брат боялся, как бы она не сбежала. В лесу было еще светло — она хорошо это помнила. Брат приказал ей войти и, толкнув вперед к двери, остался снаружи. Увидев это, Мария до Пилар испугалась. «Садись!» — сказал он. «Я ничего не вижу», — ответила Мария до Пилар, дрожа. «На пол садись, на пол», — приказал другой голос, шедший от дальней стены.
Она почувствовала холод, сильный холод. И тут различила стоящие у стены фигуры, две фигуры, руки их были опущены и ладони раскрыты, точно они желали ими согреть холодное помещение. Она повиновалась и в недоумении села на каменные плиты пола, но повернуть назад голову не решалась. Теперь она их узнала: то были Эмилия Аделаиде и Мигел, они прятались в темноте, чтобы не быть узнанными прежде, чем она войдет.
— Что вам от меня надо?
— Не задавай вопросов.
— Но почему?!
— Замолчи.
Последовало долгое молчание, когда она слышала только шум своего собственного дыхания и стук падающей воды совсем рядом с собой; вода смачивала пол, на котором она сидела, поджав под себя ноги. Антонио Лусио закрыл дверь. Дверь, петли которой скрипели, точно жаловались на какую-то боль, а возможно, на непроглядную тьму, густую и черную, что была здесь внутри.
— Мария до Пилар! — сказал чей-то голос, который она не сразу узнала: круглые стены дома и сводчатый потолок гулко отбросили донесшийся до них звук, сообщив ему твердость их каменного нутра.
Она закрыла глаза, потом прикрыла их руками, потому что ей показалось, что она видит красного оленя, который крутился вокруг нее, норовя ударить ее своими рогами. Она хотела закричать, но поняла, что это ей не поможет, и думала, думала об одном: «Что я сделала? Что я им сделала?»
— Мария до Пилар, ты видела хотя бы одного мертвого в своей жизни?
— Нет, — ответила она, простонав.
— Но что такое умереть, ты знаешь?…
— Отвечай! — закричал другой голос, похоже-Мигела.
— Знаю…
— Твоя сестра и твои братья тебя не любят. И знаешь почему?…
— Отвечай!
— Нет…
— Потому что ты убила мать. Убила, появляясь на свет…
— И потому мы тебя не любим…
— И никогда не будем любить.
— Первый же ребенок, который у тебя родится, должен убить тебя так же…
— Так же, как ты убила нашу мать… Понимаешь?…
Среди выкрикиваемых сестрой и братьями обвинений она слышала и еще чьи-то, чьи, она не знала, но их несли к ней стены, они сливались с обвинениями братьев и сестры, взлетали к сводчатому потолку и с гулом, как тяжелое копыто красного оленя, падали ей на голову и плечи. Тут она почувствовала, что сестра и братья к ней подходят и пальцы их вцепляются ей в волосы'. Руки ее были мокры от слез, но она не всхлипывала — она сдерживалась. Боялась, что плач их только разозлит, но повторяла: «Я ничего плохого не делала… нет, я ничего плохого не делала…»
— Ты должна сказать…
— Это я убила нашу мать…
— Давай говори… Говори, треклятая!..
— Это я убила нашу мать, — повторил тот же голос, что был голосом Эмилии Аделаиде.
И тут вдруг, сама не зная, как она отважилась, Мария до Пилар поднялась с пола и разразилась горькими рыданиями. И закричала, громко закричала:
— Нет… нет, не я… Нет!
— Нет ты, ты.
— Скажи, что ты!
Тогда она бросилась вперед к двери, но почувствовала, что на нее посыпались удары, однако боль от ударов была меньшей, чем от только что слышанных обвинений. Один из них схватил ее за косу, другой приоткрыл дверь, в которую заглянул лунный свет. И опять она закричала, громко закричала, зовя отца.
Тут они сели вокруг нее и принялись ее уговаривать, чтобы она не пугалась, потому что это шутка, игра, и об этой игре она никому ни слова не должна говорить.
— Обещаешь?
— Обещаю. Но не я убила, нет, не я, правда же, не я?
Возвращались они все вместе. Эмилия Аделаиде и Антонио Лусио держали ее за руки. Мигел шел сзади и посвистывал. Потом один из них начал петь, и они потребовали, чтобы и она пела, объясняя ей необходимость пением разогнать лесных ведьм. Антонио Лусио заговорил о ведьмах и оборотнях, которые утащат ее, если она расскажет о том, что было.
В эту ночь ее преследовал кошмар, она металась по постели и горела как в лихорадке. Ей снился олень, у которого красные рога росли по всему телу, от чего его белая шерсть, вспыхивая огнем, казалась тоже красной — он был живым костром, и везде, где он скакал, занимался огонь, а когда он Допрыгнул до неба, небо вспыхнуло и запылало пожаром.
Брижида послала за доктором Гонсалвесом, который высокую температуру приписал несварению желудка — возможно, все это из-за съеденного неспелого фрукта. Мария до Пилар молчала. Она не сказала ничего, никогда, никому, даже падре Алвину: ведь сестра и братья велели и на исповеди держать язык за зубами. Так семи лет от роду она узнала, что исповеднику доверяют далеко не все…
И на всю жизнь сохранила в себе горечь того обвинения, которое, возможно, с годами и забылось бы, если бы не холодность сестры и братьев, все время напоминавшая ей о том дне. И вот однажды сестра и братья увидели, что Мария до Пилар выросла в красивую девушку. Кому же выпадет счастье быть ее мужем? Нет, никому, отвечала она самой себе с горечью. Я никогда не выйду замуж, говорила она с волнением в голосе. С тех пор она и старалась во всем походить на мужчин: ездить верхом на коне, носить дома брюки для верховой езды, хотя ничего угловато-мальчишеского в ней не было. И пожалуй, единственное, к чему она стремилась, — быть незаметной для мужского глаза. Так Мария до Пилар думала избежать замужества. Ведь она чувствовала, она была уверена, что умрет в тот день, когда родит ребенка. Материнство пугало ее. Рядом с беременной она испытывала болезненное чувство вины и старалась уйти, скрыться, чтобы не прочесть в ее глазах обвинение себе. И всю свою ласку, часто чрезмерную, отдавала детям: ей казалось, что матери не так ласковы с ними, как те того заслуживают. И Эмилия Аделаиде, и жена Антонио Лусио — Мария Луиза Андраде — сердились на нее за то внимание, какое она уделяла их детям. Она их избалует своим нежничаньем.
Так и жила она, обуреваемая восторженным материнским инстинктом и страхом стать матерью.
И однажды вот здесь, где лежала теперь, она принялась ласкать Зе Педро, возможно, ревнуя его к мисс Карри, и ласкала как дитя, которого видела в объездчике лошадей. Да-а! Он действительно хорош собой. Ей бы хотелось иметь сына, похожего на него, только без риска для жизни, не рожая.
Она испытывала смятение чувств, а нахлынувшие воспоминания сменяли друг друга одни ярче других в зависимости от тех чувств и воспоминаний, которым были созвучны. И в то же время это была цепь тяжелых переживаний, которые заставляли кровоточить старую рану. Точно кто-то со стороны ткнул в нее, чтобы, испытывая боль, Мария до Пилар могла рассмотреть каждую клеточку себя самой.
Глава XXIII ТИТУЛ НА ДВА ЧАСА
С Диого Релвасом возымел желание познакомиться его величество. Любопытство короля к этому человеку, занимавшемуся земледелием, который представлялся ему куда более разумным, чем многие его министры, пробудили газеты и доклад шефа секретной полиции. Страстность разумного выступления и в то же время явная взволнованность раскрывали Релваса совсем с иной стороны, чем та, о которой он был наслышан от принца, присутствовавшего на бое быков в Мадриде.
Землевладелец Алдебарана, еще не до конца переваривший пилюлю, которую преподнесла ему жизнь, вручив деревенский скипетр Зе Бараоне, громко заявил о себе и привлек королевское внимание. Сделал он это шутя, но не без умысла. Диого Релвас хорошо знал, как развеять все возможные сомнения его величества по поводу индустрии: он напомнит ему, что Рибатежо — родина человека — творца земли, на которой тот сеет и собирает урожай, хороший урожай, и дань настоящего уважения к его труду была бы стимулом для этого района, всегда противостоящего чуждым идеям, приходящим из Франции. Ваше величество должны бы быть ближе к Португалии подлинных традиций, к отечественному сельскому хозяйству. Или н-нет?…
Когда дата визита короля к хозяину Алдебарана была определена, Диого Релвас созвал земледельцев, обсудил программу приема, как и все мелочи придворного этикета, купил еще несколько машин для сельскохозяйственного парада, изучил возможность каждого сельскохозяйственного дома, который примет участие в параде в соответствии с весом его в хозяйстве, и особое, может, даже слишком особое внимание уделил одежде своих крестьян, представлявших тавро Релваса, коль скоро эта одежда получила право быть одеждой участников корриды, хотя, конечно, красный жилет и штаны с носками не могли считаться очень традиционными. Но это было красиво и радовало глаз, да, сеньор. А если глаз радуется, то не все потеряно. И даже наоборот, это своего рода находка, ну, как бы нововведение, по крайней мере так можно трактовать измену традиционности.
Конечно, у него были свои сложности. И еще сколько!.. Нечего о том и говорить. Голова шла кругом! Ведь он получал пожелания от министров и знати королевства относительно церемоний и порядка показа. Обычаи, куча обычаев. Случалось, что Диого Релвас не знал, как быть, и удалялся в Башню четырех ветров, чтобы поразмыслить над всем этим и привести в равновесие свое тщеславие и щепетильность. «А-а, к черту мелочи! — говорил он в кругу своих близких друзей. — Важно одно — не позволить себя унизить ни враждебностью, ни интригами». И вот день настал. И какой день!..
Весть о начале праздника разносили во все концы ракеты и фейерверк, звуки трех (трех!) духовых оркестров влекли народ к берегу Тежо, где должна была пришвартоваться яхта его величества, сопровождаемая на всем пути следования от Альянды эскадрой украшенных яркими вымпелами и флажками расцвечивания лодок и фрегатов и людскими толпами, спускавшимися с гор и заливных земель, к которым присоединялись прибывавшие в поездах и экипажах лиссабонцы. Улицы были припаражены, вот так-то, особенно окна, на которых красовались шелковые занавески, бычьи и лошадиные головы, бандерильи и береты — вся символика Рибатежо оптом и в розницу и даже не нуждавшиеся в похвале веера, необходимые по случаю жары и прихоти того, кто обдумал праздник до мелочей. Завсегдатаи кабаков и фадисты с обязательной гитарой, висящей на плече, звенящей под их грубыми пальцами, сидевшие в полумраке таверн, где бокалы с вином переходили из рук в руки, как и голубиное мясо, которым славится Катарина [58], — и те пустились бегом, сбивая с ног не способных на гонки или предававшихся досугу, едва заслышали три залпа мортиры, возвестивших о том, что королевская чета ступила на камни набережной — в каком наряде пожаловала королева? — что подтверждали и звуки трех духовых оркестров, игравших без передышки.
Диого Релвас приказал подать королю открытый экипаж, экипаж был запряжен двумя парами белых лошадей, возможно чтобы подчеркнуть цыганистость самодовольного и сияющего Зе Педро, который сидел на облучке в черном жакете и облегающих штанах того же цвета со звонко щелкающим в его руках кнутом и должен был доставить его величество к помосту, с которого гость и хозяин Алдебарана собирались смотреть сельскохозяйственный парад. Чтобы быть на глазах у высокого гостя, окрестные землевладельцы, опережая друг друга, подавали фаэтоны и экипажи, тильбюри и коляски, в которых рассаживались наследники престола и сопровождающая их свита, после чего кортеж во главе с экипажем его величества и направляющими этот кортеж — самым старым пастухом Релваса и самим Релвасом, являющими символ земли, на которой раб и сеньор живут дружно, не соблюдая иерархию, — двинулся мелкой рысью. Следом за королевским экипажем между братом и старшим племянником, одетыми по-рибатежски, ехала Мария до Пилар; все трое верхами на вороных — воплощение силы и нервов; за ними на лошадях ехало более сотни погонщиков быков с поднятыми вверх, точно копья, остроконечными палками. Они были разбиты на группы по десятеро и держали определенную дистанцию, стараясь поразить глаз единством масти каждой группы. Этот почетный эскорт открывала десятка гнедых, красно-гнедых, за ними шли каурые, изабелловые, сивые, игреневые, десять серых, мышастых с черными хвостами и гривами, и еще серо-чалые с красниной, и полово-серые — пять светлых и пять потемнее, и бурые с красным отливом, а в фаэтон принца были впряжены серо-розовые — гордость хозяина Алдебарана, которыми он не переставал кичиться. Замыкала этот косяк скромная кавалерия пастухов: десяток мощных черных как смоль коней со звездой во лбу, следом за которыми ехали празднично украшенные экипажи и верховые других землевладельцев и их семейств.
Ослепленная великолепием эскорта чернь зааплодировала и совсем потеряла голову, когда по знаку Релваса погонщики быков под громкое улюлюканье пустили своих коней в галоп, обходя королевский кортеж, но продолжая не смешивать масти групп, со все так же поднятыми вверх остроконечными палками, беретами и развевающимися по ветру куртками, чтобы встать в почетный караул у помоста, где ожидали королевский экипаж, которым правил Зе Педро. И вот у самой Тежо, на волнах которой покачивались праздничные суда с опущенными парусами, на ровном заливном лугу начался парад, который открывал дом Фортунато Ролина — он и трое его сыновей шли во главе, и дом Релваса закрывал показ во всем совершенного хозяйства — своеобразного синтеза сельскохозяйственных и скотоводческих ферм, предлагаемых глазам королевы и любезной улыбке его величества, весьма довольного собой и отвечающего вместе с королевой на все приветствия участников кортежа и черни, теснящейся на предназначенных для нее бревнах.
Уборочные машины и молотилки, вступившие на площадь перед помостом после марша Диого Релваса и его детей и внуков — троих от Эмилии Аделаиде и двоих от Антонио Лусио, что появились в небольших, сделанных специально для них фаэтонах, влекомых пятью гнедыми с подпалинами, которых Диого Релвас вел под уздцы своей хозяйской рукой, — приковали к себе всеобщее внимание, даже ошеломили присутствовавших. За машинами шли группы поющих жнецов: женщины с серпами, мужчины с косами, и тут же рядом — груженная пшеницей подвода с двумя рабочими и волами в упряжке, рога их были позолочены, висевшие на дуге большие колокольчики торжественно позвякивали; за этой подводой шла другая — с корой пробкового дуба, которую сопровождали резчики коры, а за ней еще одна, с бутылями оливкового масла и вина и сборщицами винограда и маслин, потом с работниками и управляющими, с лесорубами и дровосеками — при пилах, топорах: одетые в куртки и штаны, но босиком, они шли за подводой с дровами. А за этой следом еще и еще подводы, теперь уже с впряженными в них мулами, и опять труженики полей и огородов, а за ними, вдалеке, виднелось стадо рогатого скота, поджидавшего своей очереди.
И вот появился Зе Салса — старший пастух дома Релвасов, кичившийся серебряной эмблемой с тавром землевладельца, которую он носил на груди. На нем было новое платье, бакенбарды приведены в порядок, во рту — сделанная им самим трубка, он скакал во весь опор, чтобы, представ перед помостом, снять берет и обратиться за разрешением начать показ скота к Диого Релвасу, который, верхом на коне, был около импровизированной трибуны. Выслушав Салсу, землевладелец в ответ снял шляпу — чему последовали тотчас и его дети и внуки — и передал просьбу своего пастуха его величеству. Спустя минуту Зе Салса уже скакал галопом в сторону поля, отдавая распоряжения пастухам и подпаскам гнать скот. Первыми на площади появились овцы, ягнята, свиньи, рабочие волы и стадо быков-производителей, тут же сорвавшие аплодисменты зрителей, потом пошли коровы стельные и яловые, печальные и тревожно поглядывающие на потомство, все — самых разных расцветок и с разнообразными красивыми рогами, специально подобранные для показа. Следом вели лошадей: английские полукровки и арабские полукровки — нервные, быстрые, некоторые с жеребятами, были все одной масти, строго, никакой смеси, лошади местной породы — одних вели под уздцы, на других ехали всадники — и опять же одной масти, все так же строго, а если в группе были разномастные, то только для того, чтобы подчеркнуть богатство палитры; каждую группу сопровождали по намеченному хозяином маршруту пастух, подпасок, табунщик-все верхами. Салса, как и положено старшему, сидел на гордом скакуне Алтере, а все остальные — на лошадях, которых чуть позже они пустили в галоп, предоставив площадь Мигелу Жоану. Мигел Жоан, демонстрируя свое искусство наездника, появился на великолепном коне, отмеченном, как и все прочие, тавром Релваса. Конь его также шел галопом, потом Мигел Жоан заставил его перейти на шаг и пройти вдоль помоста, покружиться, встать на дыбы и тут же, пустив рысью, приблизился к месту, где сидел король. Взяв коня под уздцы, Мигел Жоан подвел его к ступеням помоста.
И второй раз обнажил голову Диого Релвас, прося разрешения у короля передать в дар королеве этого великолепного коня. В ответ король, обрадованный столь неожиданным подарком, перегнулся через перила помоста и пожал руку Диого Релвасу. Но тут всеобщим вниманием завладел серо-розовый с подпалинами конь, на котором гарцевала Мария до Пилар. После того же ритуала демонстрации искусства верховой езды конь был подведен к помосту для церемонии передачи его величеству королю.
И как только эта церемония, а также реверансы и благодарности членам семьи Диого Релваса были закончены, вдали на равнине появилась партия диких быков, сопровождаемая всадниками, вооруженными остроконечными палками; они подбадривали быков окриками, и те несколькими минутами позже под крики толпы пронеслись в облаке пыли перед импровизированной трибуной, что явилось поводом для нового торжества Релваса, так как к нему подошел принц и напомнил о том, как мощь и величие его питомцев поразили Мадрид.
— В этом году, ваше королевское величество, я послал в Севилью партию получше. Мой девиз: каждая новая партия — лучше предыдущей.
— Лучше, чем мы видели сегодня, — невозможно! — сказал король, не скрывавший своего впечатления.
— С божьей помощью человек может все и еще лучше, — возразил землевладелец Алдебарана.
Вечерело. Обед, который состоялся в господском доме поместья «Мать солнца», где слуги ели под открытым небом, пели и танцевали фанданго, затягивался. По случаю королевского визита карлик Жоакин Таранта сочинил стихи, а Капитолина, внучка Зе Салсы, спела их под аккомпанемент губной гармоники. Мисс Карри и гувернер были несколько обижены нелюбезностью Релваса, который счел возможным поставить их на одну доску со своими слугами: он не пригласил их ни на парад, ни к столу. Зе Педро, огорченный последней встречей с Марией до Пилар, держался чуть в стороне. Он ее боялся.
По двору поместья на специальных носилках несли только что зажаренного бычка, украшенного полевыми травами. Несли на плечах, подложив под ручки береты, четверо старших пастухов, которые с этим лакомством и шестью крестьянами им в помощь должны были появиться в хозяйском доме по особому знаку. Мажордом поджидал их на верху мраморной лестницы, несколько раздраженный этим действом, совсем не подходящим для банкета в честь королевской особы. За гулявшими слугами присматривал Салса: ни один из них не должен был выпить лишнего или ввязаться в драку. Подобного Диого Релвас не простил бы никогда. И Салса кружил вокруг танцующих под звуки аккордеона и тех, кто не упускал случая опорожнить стаканчик. Веселиться здесь, на виду, приказал слугам Диого Релвас, так как его величество собирался совершить прогулку по усадьбе, и хозяин желал, чтобы гости могли наблюдать, как веселятся слуги. Чернь же Алдебарана сюда допущена не была.
Когда начались тосты, Диого Релвас приказал закрыть окна, в которые врывались отзвуки крестьянского пиршества, и заговорил о значении королевского визита сразу же после того, как председатель муниципалитета продекламировал свое выступление, которое написал ему один очень образованный депутат, а он за пятнадцать дней выучил его наизусть, стараясь соблюсти расставленные одним актером, к услугам которого он прибег, ударения и паузы, чтобы речь звучала театрально.
Наконец его величество, поблагодарив всех за демонстрацию труда и патриотизма и заметив, что и впредь, если позволит время, будет объезжать свою страну с целью узнать ее как можно лучше, а следовательно, и крепче полюбить, обратился к Релвасу со следующими словами:
— Вы, ваше превосходительство, на сегодняшний день воистину король португальских земледельцев. Это говорит вам другой король.
То, что за этим последовало, хозяин Алдебарана не слышал, возможно потому, что разволновался, а возможно, кто знает, пришел в естественное замешательство от того, что скипетр, всего несколько месяцев назад врученный Бараоне тем, кто сейчас произносил эти слова, был вырван им, Релвасом. Эмилия Аделаиде смотрела на отца с нежностью, испытывая радость за сына, наставником которого был дед; Мигел Жоан, подняв бокал, в котором золотился рибатежский портвейн с виноградником Алмейрина, поздравлял отца. И только Мария до Пилар погрустнела от чирикающего министра, который, напыжившись, встал рядом с нею, весь любезность и внимание.
Конец королевской речи был совсем неожиданным. Его величество жаловал Релвасу титул виконта Алдебарана.
Продуманный порядок праздника был нарушен.
Раздосадованные друзья все же поздравляли Релваса; семья, мечтавшая о гербе, пришла в восторг, воображая геральдические знаки, что его украсят. Король обнял Релваса. И лишь хозяин Алдебарана, казалось, был равнодушен к награде и почестям.
— Отец потрясен, — шепнула брату Эмилия Аделаиде. — Хороший подарок его величества.
— Хорошим он кажется тебе, но не отцу, — съязвил Мигел Жоан, подкручивая кончики подстриженных по французской моде усов.
От прогулки по лесу королева уклонилась. Она предпочла отдохнуть, перед тем как тронуться в обратный путь. Королевская чета должна была отбыть в пять вечера на Азембужский вокзал, там их ожидал специальный поезд. До покоев, где королева могла отдохнуть, ее проводили Мария до Пилар и Эмилия Аделаиде, тогда как сыновья Релваса и наследники престола верхами отправились на прогулку, король же с удовольствием беседовал с хозяином дома о сельском хозяйстве, припомнив Релвасу его прекрасную речь на собрании, где председательствовал Бараона.
Они сидели вдвоем в том самом зале, в котором когда-то хозяин Алдебарана беседовал с землевладельцами после похорон зятя. Королевская свита и другие гости уехали, кто на прогулку по лесу, а кто развлекался, глядя, как поет и танцует народ. Капитолина, внучка Салсы, имела особый успех — около нее вились все присутствующие, а она кружилась в танце с сеньорами. То была достойная речь, друг мой. Речь разумного человека.
— Мне приятны слова вашего величества, я стараюсь быть разумным во всем. И считаю, что вполне разумен, когда говорю, что индустрия…
— Поймите, Релвас, страна нуждается в индустрии.
— Вполне возможно, ваше величество. Я сам связан с индустрией. Но в таком случае для заводов должны быть отведены определенные зоны… Ваше величество, похоже, удивлены услышанным. Но ведь это единственная возможность уберечь сельское хозяйство, не погубить то, что сегодня вы видели собственными глазами. Сельское хозяйство всегда будет основой, сдерживающей дерзкие взлеты птицы, которая зовется прогрессом…
— Вы хотите создать нечто вроде гетто для людей индустрии?
— Не совсем так, ваше величество. Потом, улыбнувшись:
— Но если бы такое было возможно, мы бы тем самым преградили путь анархии.
— Гетто, окруженное войсками.
— К несчастью, ваше величество, это невозможно. Но когда-нибудь, кто знает, может быть, мы будем винить себя за то, что не сделали это вовремя, тогда как должны бы были сделать.
— Кто-нибудь, без сомнения, это сделает. Мы не должны действовать преждевременно. Это может не получить популярности.
— Настоящее правительство не может быть популярным, ваше величество. Управлять страной в соответствии с желаниями черни — значит опуститься до уровня низов. Я слишком люблю тех, кто мне служит, чтобы допустить подобное безумие.
— Живя в Европе, мы должны покориться…
— Поставьте Португалию вне Европы, и тогда, возможно, мы поймем, что разум на нашей стороне. Подлинной Европой можем быть мы…
Говоря об англо-германских притязаниях на португальскую Африку, Диого Релвас упомянул эту самую эгоистичную и хищную Европу, в которой уже бродили идеи социализма. Он сказал о повсеместных забастовках. Мы должны иметь твердую руку и бороться с агитаторами. Его величество считал закон от тринадцатого февраля большой бедой для монархии, но землевладелец Алдебарана позволил себе с ним не согласиться.
А когда монарх спросил, как давно Релвасы занимаются сельским хозяйством, услышал, что век, целый век, и получил приглашение посетить Башню четырех ветров, с тем чтобы окинуть взглядом открывавшуюся оттуда панораму пастбищ и реки Тежо. Уже в Башне, видя, как удивлен король скромностью обстановки, Релвас пояснил:
— Так мы начинали. Это комната моего деда Кнута. Да, его звали Кнут. На этой постели он отдыхал после тяжелого труда на первой земле, которую он арендовал в Алентежо. Теперь эта Башня — святая святых семьи, но сюда вхож только я. Здесь я встречаюсь с отцом и дедом в особые моменты жизни… Как я говорю, в исключительные. И здесь, в этой Башне, я по-настоящему могу оценить пройденный нами путь и чувствую твердость духа. И мне особенно приятно сознавать, что если вдруг случится вернуться к прошлому, то я вполне способен заново пройти весь тот путь, что пройден нами до сегодняшнего дня. Да, это приятно сознавать… У меня одна цель: все делать лучше, лучше с каждым днем. Делать все, что рождается на моей земле, достойно.
— Это было бы неплохой программой для любого правительства…
— Возможно, ваше величество.
— Но теперь я вознаграждаю вас, мой друг. Я еще не обращался к вам, как должно: мой дорогой виконт Алдебарана…
Диого Релвас, похоже, ждал этого момента, так как лицо его смягчилось.
— Ваше величество, дозвольте обратиться с просьбой.
— Прошу вас.
— То, что я хочу попросить, — сущая малость.
— Я слушаю.
— Два часа назад, да, всего два часа, как ваше величество пожаловало мне титул виконта. Мне бы хотелось… если, конечно, это не оскорбление… вернуть его вашему величеству.
— Но почему?! Релвас, я не понимаю.
— Да, я — Релвас… И того, что я — Релвас, мне вполне достаточно. Диого Релвас, внук Кнута. Здесь, в пределах своих владений, я веду себя так, как считаю нужным, езжу верхом или и экипаже вместе с моими слугами, не задумываясь о титуле, который обязывает ко многому. Я люблю быть таким, каков я есть. Релвасы ведь дворяне, и этого вполне достаточно.
— Знатность — это же почет.
Теперь землевладелец Алдебарана почувствовал себя спокойно. Он усадил монарха в одно из деревянных кресел и, предложив ему сигару, закурил сам.
— Ваше величество считает так, но, простите меня, другие-то будут думать иначе. Скажу-ка я ему вот что. Ну, вот сегодня, сегодня я преподал урок сельского хозяйства графам и маркизам… и даже герцогам. Урок сельского хозяйства и чести, и горжусь этим. Похоже, это ему не понравилось. Прошу простить, ваше величество, мою нескромность.
— Вы — человек разумный…
— К тому стремлюсь. Сегодня все со мной на равных. И я такой же, как и все. А завтра-виконт. Виконт Алдебарана…
— Лиха беда начало…
— Лиха беда. Да простите мне откровенность, с какою я с вами беседую. Вот вы со мной по-дружески, и я не вижу другой возможности, как ответить вам тем же: быть искренним.
Он постукивал по груди левой рукой.
— К тому же считаете ли вы возможным, чтоб король земледельцев Португалии принял титул виконта?! Ведь ваше величество назвали меня королем.
Покачав головой, монарх улыбнулся.
— Я был виконтом два часа, — добавил Диого Релвас, подходя к одному из окон Башни. Потом он указал на реку. — Знает ли ваше величество, как мы называем Тежо?
— Нет.
— Море… Мы называем Тежо морем. И это действительно море.
— Да, здесь, у вас, слова имеют более широкий смысл, — не без намека сказал король, беря бинокль, протянутый землевладельцем.
— Или, наоборот, более узкий. Я считаю, что узкий. Все это от нашей скромности.
Не отводя глаз от бинокля, монарх снова улыбнулся.
— Да, возможно — от скромности…
— И от гордости, великой гордости. Гордость никогда не лишнее. Или н-нет?!
Воцарилось минутное молчание.
— И от большей преданности, чем, скажем, преданность графов, — заключил хозяин Алдебарана.
— Это мне известно. Поэтому-то я и прошу вас подумать… Диого Релвас знал, что отец и дед их слушают. И знал, что они с ним согласны. А потому пустил браваду:
— Я подумал Я остаюсь при титуле короля земледельцев, ваше величество. Это на сегодняшний день по заслугам. Я говорю, на сегодняшний, потому что, если в будущем я окажусь недостойным этого имени, вы меня свергнете…
Из лесу под лай и визг привезенных из имения Куба собак возвращалась группа всадников. Монарх поднялся и протянул руку Диого Релвасу. Он был удивлен, увидев блеск сдерживаемых слез в золотистых глазах землевладельца.
Книга вторая ГОРЬКИЕ ВРЕМЕНА
Глава I В ЗЕРКАЛЕ РЕАЛЬНОСТЕЙ И ОБМАНА
За последние две недели Диого Релвас, казалось, помолодел. Как никому хорошо знакомая ему пелена перестала туманить взор. Слуги даже услышали его смех: они редко этим могли хвастаться. Ведь даже на бое молодых бычков, когда любители-фаркадос падали наземь, вызывая взрывы смеха, Диого Релвас прятал (вою улыбку в усы и бороду и обнажал белые зубы, только когда не мог совладать с собой.
Так, например, было в тот раз, когда группа дворянских сынков — лет десять назад — явилась на арену, чтобы показать свое искусство и смелость, и один из них, двоюродный брат жены Релваса-Вильяверде Гарсес, был раздет при всем честном народе догола рассвирепевшим бычком — явно дьявольским отродьем. Хвастун вышел против бычка в одиночку и еще издали с форсом принялся хлопать в ладоши, подзадоривая животное. И бычок взыграл: ноги понесли его, точно ветер, навстречу маячившей перед ним фигуре, и, когда они сошлись, парню не удалось броситься на голову животного. Туго ему пришлось: вначале бычок поддал ему своими маленькими, но острыми рогами с одной стороны, потом с другой, и тут же все присутствовавшие разразились громким смехом, так как клочья одежды молодого кабальеро, точно флажки, отмечали путь животного и человека. Однако веселье достигло апогея, когда трое пастухов оттащили бычка от белого тала форкадо и тот предстал перед всеми в чем мать родила, перепачканный навозом, точно бычок после клеймения. Фортунато Ролин был жив и мог подтвердить рассказанное, хотя тогда чуть не отдал богу душу от смеха. Финал праздника послужил пищей для самых разных сплетен вокруг этой самой героической схватки Вильяверде Гарсеса, который покинул арену, завернувшись в рогожку, и прямым ходом бросился к Тежо, где двое слуг должны были купать его, так как он не умел плавать.
В тот день белые зубы Диого Релваса могли видеть все, хотя смеха не услышал никто. Может, смех навсегда умер для него в тот вечер, когда Манел Фанданго вошел в ворота усадьбы с изодранным в клочья телом его отца. Вначале Диого испытал чувство растерянности, но тут же понял, что должен показать слугам силу воли — ведь кто бы иначе всерьез принял за хозяина пятнадцатилетнего мальчишку? Сразу после этого кое-кто стал к нему обращаться, называя «молодым хозяином». Но он и это не дозволил: «Тебе известен другой хозяин?! Хотел бы знать, кто он и как его имя, чтобы поговорить с ним». Вот что услышали от него слуги в тот трагический день.
А последние две недели, да, именно эти последние две недели слуги, и особенно Жоакин Таранта, видели его смеющимся, и не однажды.
Длинные языки болтали, что виной тому был королевский визит — что ж, причина уважительная, чтобы до конца жизни пыжиться от гордости, завещая не одному поколению помнить столь знаменательное событие. Король в доме Релваса и за одним столом с хозяином — это же пир души на многие века для всего семейства.
Конечно, общение с королем и успех сельскохозяйственного парада доставили большую радость Релвасу. Однако истинной причиной того, что он преобразился и пошел на то, чтобы сын взял большую часть забот по хозяйству на себя, были пятеро внуков, трое мальчиков и две девочки, все сразу, и здесь, около него, во власти его ласковых рук, благодарение богу здоровые и красивые, не считая шестого, который был в животе Изабелиньи Салгейро Перейры. Он радовался всем пятерым. И в каждом находил что-нибудь свое, а то и отцовское или вовсе дедовское, радовавшее глаз, ну и их жен, конечно, которые произвели их на свет. Леонор Мария, например, была вылитый портрет доны Марии Жоаны Вильяверде в миниатюре. Та же печаль и мягкость во взгляде, чуть недоверчивом… И упрямство. О-о, супруга Диого Релваса, если что было не по ней, дулась целую неделю. Ничто ее не могло вывести из этого состояния. От нее же самый маленький отпрыск Антонио Лусио — Жоан Диого — унаследовал чуть вздернутый нос и розоватый цвет кожи — цвет розового персика. Тогда как его брат, Антонио Диого, которому шел пятый год, очень походил на прадеда, Кнута, хотя по темпераменту был ближе к Андраде, чем к Релвасам, что, конечно же, было его недостатком, который усугублялся тем, что он жил с дедом и бабкой с материнской стороны. Андрадесы были завистливы. На всех Араужо сразу была похожа и вторая дочь Эмилии Аделаиде — Мария Тереза, и не только холодными голубыми глазами, но и почти вызывающей надменностью, с какой она держалась со всеми. А вот чревоугодие она получила в наследство от прабабки с материнской стороны, о которой столько рассказывали всяких невероятных историй. Мать Диого Релваса, будучи худой, любила поесть и поговорить о сытном обеде, выясняя и постигая секреты его приготовления. Веселой она делалась только за столом, хотя лишнего не болтала и держалась строго, следя за тем, какую ложку или вилку нужно взять и в какую руку, как держать рюмку, резать рыбу или нет. Этим она, бывало, мучила свою собственную семью, а выйдя замуж, принесла в поместье «Мать солнца» все тонкости этой науки, которую одолел разве что ее муж, и то потому, что она была внове и не успела ему надоесть — жена слишком рано умерла. А вот свекор ее, Кнут, находил удовольствие во всем ей перечить и есть суп из такой же миски, что его слуги, и проливать на стол, когда миска была полной. Поговаривали, что язва, которая явилась причиной смерти матери Диого Релваса, открылась у нее от постоянного раздражения плебейскими замашками свекра, когда тому случалось сидеть с ней за одним столом, что, к счастью, бывало только по воскресеньям, так как всю неделю старик предпочитал в доме не появляться.
Возможно, Мария Тереза, напоминавшая Диого Релвасу мать и все смешные истории, что о ней рассказывали, была единственной внучкой, способной его рассмешить. Все, что она видела впервые, ее интересовало только с одной точки зрения: можно ли это съесть. Мир ей казался созданным лишь для того, чтобы она его пожрала, и, по возможности, одна — так была она прожорлива. Среди своих всегда рассказывалась одна история, иллюстрирующая эту гастрономическую одержимость, и ее, эту историю, мать Марии Терезы Эмилия Аделаиде передавала со свойственной ей образностью. Как-то летом в имении Синтра вопреки заведенному в семье порядку в девять вечера не легли спать ни Мария Тереза, ни ее младшая сестра Леонор Мария. В доме были гости; взрослые развлекались игрой в карты и беседой, а девочки, завороженные таинством ночи, усыпавшей небо звездами, и, возможно, взволнованные до сих пор неведомыми им ночными звуками, отказались идти спать. И вдруг — о ужас из ужасов! — над мавританским замком появилось нечто невероятное — красный диск луны, полной луны. Его сопровождал кортеж небесных светил. «Посмотри-ка!» — вскричала мечтательная Леонор Мария, указывая на странное пятно. «Что это такое?» — спросила она, скорее, себя, чем сестру Марию Терезу. «И они обе надолго смолкли», — рассказывала мать, которая шла к ним, чтобы потребовать послушания, и стала неожиданной свидетельницей их разговора, поняв, что луну девочки видели впервые. Они, без сомнения, размышляли над тем, как объяснить эту удивительную загадку неба, где, конечно же, они знали, живет бог, и дева Мария, и святые, и ангелы, и хорошие люди, которые умерли, ну, как отец, ведь им о том говорила мать. И вот тоненький, слабый голосок Леонор ответил: «Да это же воздушный шар… Красный воздушный шар…» Однако ее романтическому воображению не суждено было дать объяснение этому явлению, так как Мария Тереза, толкнув ее локтем, оборвала сестру на полуслове: «Ты просто дура… Воздушный шар! Знаешь, что это?» Онемевшая сестра потрясла кудряшками. «А я вот знаю… Это кусок мяса… коровьего мяса…» И они опять смолкли, тогда как мать поспешила рассказать гостям только что услышанное и потом еще много раз рассказывала всем, кому придется.
Этим— то и объяснялась затаенная Марией Терезой обида на мать. Дед хорошо понимал это и никогда не заговаривал о том куске мяса, что появился на небе в Синтре. Но всегда, когда внучка спрашивала, который час и сколько осталось до обеда, смеялся от души.
Каждое утро в фаэтоне или в одной из открытых колясок он прогуливал внуков. И хотя Руй Диого уже хорошо знал все окрестные места, дед все равно брал его с собой, желая, чтобы тот был гидом для своих сестер и братьев, один из которых — Жоан Диого — ехал на руках Диого Релваса, сидящего на облучке. Руй Диого понимал, что дед отдает предпочтение ему, но вида не показывал. Как говорил дядя Мигел своей жене, без сомнения раздражаясь постоянным общением племянника с: отцом, хотя племянник и к нему выказывал свою склонность: «Мать его хорошо воспитала». Племянник, конечно, перебарщивал: был сама любезность, само смирение, за что дядя платил ему той же фальшивой монетой, стараясь быть с парнем особенно любезным на людях.
Мигел Жоан прекрасно понимал хорошо продуманную двойную игру сестры, которая сознательно держала сына подле деда в имении Алдебаран. И не был одинок в своих догадках относительно пользы, которую та извлекала из того, что Руй не жил в материнском доме. Преждевременно созревшему тринадцатилетнему Рую не составило бы труда выяснить тайную причину материнских поездок в Лиссабон, где она стала преданной подругой одной графини, которую звали не иначе как «сестра Наполеона» из-за многочисленных и безумных авантюр при дворе; графиня, уступавшая своего мужа и своих любовников близким подругам, которым предоставляла и комнаты для встреч, стала для Эмилии Аделаиде своеобразной конторой по распутству.
В имении же деда Руй Диого с британской пунктуальностью приступил к изучению английского языка, который преподавала все еще служившая у Релваса мисс Карри, тогда как Мария до Пилар решила кончить совершенствоваться в этом языке, сославшись на смерть королевы Виктории, о которой она, побуждаемая патриотической щепетильностью, злословила в сочинениях, так как не понимала, как же мог союзник Португалии войти в сделку с Германией, чтобы лишить Португалию ее африканских колоний. Именно это Мария до Пилар и сказала отцу, чтобы оправдать возникшую вдруг очевидную враждебность между нею и мисс Карри. За англичанку вступился Мигел Жоан, предлагая увезти ее в свое имение, чему тут же воспротивился Диого Релвас, от которого не ускользал голодный взгляд сына, всякий раз обращенный к мисс Карри, как только он оказывался с ней рядом. «Заголодал при беременной-то жене», — решил Релвас. А куда денешься? Вот и он уже на пороге шестидесяти, а разве способен порвать с этой шестнадцатилетней Капитолиной?
Возможно, к внукам он тянулся еще и потому, что взрослые продолжали ему выказывать, хоть и молча, свое несогласие с его отказом принять от короля знатный титул. Заткнуть им рты было не так-то четко. Ведь в этих спорах не принимала участие только младшая.
Что он им сказал?…
Правду, только правду, и крепкую, как его кулак, такую же, как его величеству, которому все же вскользь и намекнул на тщеславие Релвасов, но голоса не повышал и зло не смотрел, как на сыновей и невесток, когда увидел их раздражение. В прежние времена он даже не позволил бы обратиться к себе с таким вопросом. А-а! До чего же они глупы в своем нежелании понять, что отказ от титула — еще больший титул, которым можно будет гордиться! И во все времена!..
— Что нам в этом титуле, разве он нам открывает возможность стать графами или маркизами? Его можно принять только из вежливости. Но нет. Этого не случится никогда! Во всяком случае, со мной. Вы, конечно, считаете, что вы что-то утратили… А я думаю — наоборот, приобрели. Придет время, и все вы будете мне благодарны именно за то, против чего сейчас выступаете.
— Не было бы поздно, — заметила Эмилия Аделаиде.
И тут они увидели его рассвирепевшего, почти в ярости.
— Поздно или рано, но титул давали мне. Зарубите себе это на носу: мне! И только мне. Никто из вас до сегодняшнего дня его не заслужил, нет! Его величество назвал меня королем земледельцев. А это в такой аграрной стране, как наша, означает, что он разделил со мной корону. Теперь понятно?! Я — король земледельцев. И этого мне достаточно. Вам же нужна вывеска!
Так на здоровье!
Он вышел из зала, не проронив больше ни слова, и удалился в Башню, откуда вернулся только на следующее утро, чтобы приласкать внуков. Все же говорили, что он решил быть гордым монстром. Конечно, захоти Диого Релвас, он бы объяснил, что дружбой с внуками надеялся вернуть дружбу их родителей. Он чувствовал, что внутри него что-то лопнуло, но что и почему — не знал, а окружающие ничего не подозревали. Ведь в тот же день они могли бы его увидеть мертвым. Мужества ему хватило бы.
Глава II В КОТОРОЙ ЛЮБОВЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ СО СМЕРТЬЮ
Мужество, столько раз выкалываемое Релвасами, было фетишем их рыцарского снаряжения, оно-то и подвигло Марию до Пилар победить неприязнь, а может, и страх, всякий раз возникающий перед мужчинами, которых влекла ее красота. «Это все из-за денег и земель моего отца», — говорила она, стараясь завуалировать явный отказ претендентам, решившимся открыто заявить о своем желании сделать ее супругой. К демонстрации своей фальшивой прозорливости она прибегала, обязательно добавляя, что, конечно же, выйдет замуж, должна выйти, но только за того, в ком почувствует истинную страсть к ней самой. Свояченица возражала ей, подчеркивая, что Мария до Пилар говорит глупости.
— Что этим она хочет сказать? Конечно, если бы она была простой крестьянкой Алдебарана или «Блага божьего», то вряд ли бы имела таких претендентов. Это же ясно всем. И мне тоже. А настоящая страсть может и прийти…
И все же от этой двойной игры Мария до Пилар получала удовольствие.
В пятнадцать лет она тайком прочла первый любовный роман. Эта история несчастной любви укрепила ее в мысли, что мужчина — самая большая опасность в ее жизни. А потому отказ от любви, точно она ее уже испытала, должен стать для нее основой существования, сколько бы она ни тосковала по отвергнутым ею самой радостям.
Однажды она принялась подбирать слова, одинаково оканчивающиеся на мягкую согласную, как слово «любовь». И обнаружила, что все они имеют то самое значение, которое она вкладывала в это понятие:
страсть, боль, смерть, кровь, в итоге: любовь.Несколько недель она осознавала фатальный смысл подобранных ею слов и прекратила это занятие. Когда же она исключила их из своей речи, то почувствовала себя смешной, тем более что ее тонкая женская, да и материнская интуиция делала свое дело — мужчины тянулись к Марии до Пилар и рядом с ней чувствовали себя счастливыми. Даже ее собственный отец, и тот как-то ей сделал признание:
— Не знаю, что в тебе такое… Но только рядом с тобой мне всегда хорошо. — В этот раз он говорил с ней на «ты».
— Вот потому-то я никогда и не выйду замуж.
— И даже после моей смерти?
— Когда вас не будет, поздно будет думать о замужестве, и я открою в Алдебаране приют для сирот. Вокруг меня будет много детей, и все они будут мои…
— И ни один не будет рожден тобой?
— Я боюсь, — призналась она отцу, который не понял значения сказанного, сочтя услышанное за шутку.
— Ты слишком красива, чтобы быть только теткой.
Да, подобно Нарциссу, Мария до Пилар испытывала потребность быть любимой, но, по всему похоже, вполне довольствовалась воображаемыми любовными похождениями, которые со всеми подробностями пересказывала гувернантке, повторяя и видоизменяя все, что слышала от двоюродных сестер в Лиссабоне и летом в Синтре или читала в романах, которые прятала скорее от англичанки, чем от отца, так как не хотела, чтобы мисс Карри обнаружила источник ее жизненного опыта. Свободная, непринужденная речь куртизанки была Марии до Пилар больше по душе, чем речь стыдливой девочки, точно она и впрямь была многоопытной женщиной в альковных делах.
Кроме того, теперь, когда ни сестра, ни брат в имении не жили, общение с мисс Карри сделалось совсем простым и доступным. Опять же теперь, в их отсутствие, она могла постараться забыть те обвинения, которые обрушились на нее в маленьком заброшенном домике и причинили ей столько страданий. С тех самых пор она даже не была в том лесу, но сейчас уже без волнения смотрела на ведущую влево тропинку, все влево и влево, в глубь зарослей из дубов и акаций.
Постоянные любовные восторги гувернантки наконец разрушили теорию Марии до Пилар о грозившей ей опасности со стороны мужчины, который мог стать причиной ее смерти. И постепенно, почти не заметив, как это случилось, она перестала смотреть на Зе Педро, которому покровительствовала и с которым была ласкова, как на воображаемого сына. И, также почти не заметив происшедшей с ней перемены, стала носить женское платье и соперничать с: мисс Карри в любовных делах.
Теперь Мария до Пилар, сбросив тяжкие путы страха, желала снять с себя все запреты.
И как— то вечером, в лесу, в том самом месте, предназначенном для любовных встреч, спросила Зе Педро:
— Ну, гак ты — любовник англичанки… Парень начал было отрицать.
— Я все знаю. Она мне все рассказала. Я ведь ее сообщница. И все знала раньше тебя…
Ей захотелось быть жестокой.
— Жаль только, что она стара… Да, конечно, рядом со мной она стара. Не делай злое лицо. Тебе не кажется, что у старости есть запах, запах старого тряпья? Нет, даже хуже…
И Мария до Пилар поняла, что если из них двоих кто-то чего-то и боится, то это он, она видела в его глазах страх, страх и желание вместе: ведь запретное теперь себя предлагало. И она решила задеть парня за живое.
— Похоже, ты меня боишься… Никогда не думала, что ты можешь быть трусом…
— Если бы барышня была бедной…
— Считай, что это так. Или что ты богат… Ты же можешь стать богатым. Можешь жениться на богатой.
Тщеславие Зе Педро взыграло, разжигая давно теплившуюся мечту. Ведь, держа в объятиях англичанку, он мечтал о Марии до Пилар, смуглой и высокой, с белокурыми волосами и зелеными глазами, которые здесь, в тени деревьев, особенно походили на отливавшие старым золотом глаза Диого Релваса.
И вот, увидев кровь, Мария до Пилар вновь подумала о близости и неизбежности смерти. С криком, вырвавшимся у нее из груди от только что причиненной ей боли, она оттолкнула or себя Зе Педро и, бросившись к пасшимся на свободе коням, вскочила на одного из них. Только потом она увидела, что села на белого, тут же вспомнив то и дело посещавший ее по вине братьев и сестры кошмар: во сне она всегда видела белого коня в сопровождении красного оленя.
Живо представив, что поджаривается в седле, она пустила лошадь во весь опор. А когда увидела, что подъехала к тропинке, ведущей к домику, повернула лошадь прямо к нему. Дорогу ей преграждали ветви деревьев, которые казались руками, удерживающими ее от возвращения к прошлому, но она ехала вперед, не обращая внимания на хлеставшие ее ветки.
Она знала, что тело ее и душа кровоточат, и желала увериться в этом еще раз, побывав в домике.
Спешилась, открыла дверь и, как несколько лет тому назад, села на камни. От сырости и холода Мария до Пилар поежилась. И снова подумала о смерти, вспомнила мать, представила ее лежащей у своих ног. И в тот же миг в ушах ее зазвучали обвинительные крики сестры и братьев, все еще сотрясавшие сводчатый потолок.
Глава III БОЯЗНЬ ДНЕВНОГО СВЕТА
Больная Мария до Пилар запретила входить к ней в комнату всем, кроме Брижиды и доктора Гонсалвеса, который пытался убедить ее, что никакой такой болезни, которая требовала бы постельного режима, он у нее не обнаружил. На дворе стояли прекрасные летние дни, и грех было кутаться в одеяла и закрывать окна, накликая на себя беду, говорил взволнованный немотой Марии до Пилар домашний врач.
После трехдневного молчания Мария до Пилар жестко ответила, что «о болезнях медицина знает меньше, чем прорицатели о будущем». Доктор Гонсалвес получил под дых, как позже сам он в разговоре с падре Алвином расценил сказанное больной, и нанес ответный удар в не менее уязвимое место, намекнув капеллану, что девушке пора замуж и что подобные истерические выходки можно попытаться снять айвовым сиропом. Что же касается уже сказанного, то его лично слишком мучают ноги и возрастной вес, чтобы погасить ее запал.
Ядовитый язык врача был известен на семь верст вокруг, а на этот раз оказался еще и без костей: Гонсалвес знал, что старый священник затаил обиду на Релваса, пригласившего не его, а падре из Лиссабона благословлять предназначавшийся для парада скот.
— Пусть подберут группу форкадос и бросят на эту девицу. И увидите, все пройдет. Когда же потребуюсь я, пусть пошлют за мной. А раньше моей ноги здесь не будет. Пускай эта невоспитанная от чего заболела, тем и лечится…
В глубине же души он был человек добрый. Но так как пользовал хозяев, слуг и даже животных, то подходил ко всем с одной меркой, хотя хозяев, которые ему платили, обсуждал только в интимном кругу своей семьи с женой и сыном-студентом. Теперь же круг расширился: в него вошел капеллан, обиженный неблагодарным хозяином — плутом беспамятным, который забыл услугу, оказанную ему, еще юному, в том деле с землями Валадо, приобретенными у одной виконтессы, лежавшей на смертном одре. Ведь за состояние, полученное с его помощью, Релвас отблагодарил его, пожаловав мула в испанской сбруе и бросив шутку, в которой ничего смешного не было, но которой священник должен был улыбнуться, увидев злое лицо хозяина. Мошенник! Да он бога обидел, не поделившись с тем, кто ему помог в этом деле!
— И знаете, что он мне сказал, доктор Гонсальес? Подумайте только!.. Ересь: «Обратите внимание, падре Алвин, на положение вашего друга: ведь меня в загробном мире не ждет ничего хорошего. Вот вы умрете бедным и, как гласит Писание, отправитесь на небо. И это достойное для вас место. А я из-за своих денег пойду в ад. Я просто не вижу возможности его избежать: ведь ад угогован для богатых. Так что ничего не поделаешь». И не прибавил мне ни одного серебреника, тогда как я стоптал по меньшей мере две пары сапог, бегая по его делам. И еще строит из себя святого, но я-то знаю всю его подноготную. От ада ему не уйти, ад я ему гарантирую! Да поразит меня проказа, да останусь я без рук и без ног!
Но поскольку он понял, что доктор в вопросе с Марией до Пилар умывает руки, но решил предложить свое средство, совершенно убежденный, что болезнь барышни была болезнью души. А для больной души ни аптека, ни наука никакого снадобья еще не изобрели, да и вряд ли изобретут.
Падре Алвин был другом детей. Как же иначе. Ведь он был свидетелем появления на свет каждого из них.
И хотя, может быть, меньше всех других любил эту последнюю, «парня в юбке», так называли ее старухи Алдебарана, все же молился и за нее, и особенно истово, чтобы господь отвратил барышню от скачек на лошади, по-мужски раскорячив ноги, подобно какому-нибудь пастуху. Это же недопустимо и непристойно. И вот теперь, когда она стала носить женское платье и ездить, как ездят женщины, в нее вселилась какая-то загадочная и скверная болезнь. «Что бы это могло быть?… Страсть к мужчине? Возможно… но к кому?… Ведь на исповеди она сказала, что никогда не выйдет замуж».
Состарившийся и сгорбленный от прожитых лет капеллан двинулся по коридорам помещичьего дома к комнате больной. Вела его вера. Как нельзя кстати, Диого Релваса дома не было: с сыном и старшим внуком он отбыл в Алентежо.
Навстречу священнику вышла Брижида, сказав, что Мария до Пилар никого не принимает, никого, имейте терпение, сеньор, она только стонет, стонет, и все. Не умея идти напролом, что было известно всем и каждому, падре Алвин на этот раз решил не отступать и, взяв в оборот служанку, которая, выполняя приказ барышни, стойко сражалась, стал оттирать ее от двери. Услышанные проклятья и возможность схлопотать плохую рекомендацию в час Страшного суда испугали Брижиду. И она уступила. Только бы обождали малость, падре, — она пойдет посмотрит, не отдыхает ли барышня и расположена ли к беседе. Кивком совсем седой головы падре Алвин выразил свое согласие. Стал разговаривать спокойнее, без сердца. Однако, как только дверь приоткрылась, тут же проник в комнату, оставив служанку в полной растерянности от таких своих способностей.
— Откройте-ка это окно! — зло приказал он Брижиде. Лежавшая на большой подушке и казавшаяся спящей Мария до Пилар тут же встрепенулась:
— В своей комнате, падре Алвин, приказываю я. И я хочу, чтобы окно было закрыто.
Властный тон больной несколько смутил капеллана, и он уже было хотел податься обратно.
— Кто вас позвал?
— Бог привел меня сюда, дочь моя, — смиренно ответил священник.
— Я не знала, что бог умеет отпирать двери…
— Когда речь идет о спасении души…
— Разве на это нет закона?
— Нет, нет такого закона, который воспрепятствовал бы богу спасать души.
Падре Алвин понимал, что это простая словесная игра и козыри не в его руках, но продолжал ее, чтобы не потерпеть поражение у противника, который был женщиной, и враждебно настроенной.
— Вы уже не верите в бога, Мария до Пилар?
— Верю. Падре знает, что верю. Но я больна и нуждаюсь в покое.
— Вот для того-то я и пришел… Пришел, посланный богом, чтобы помочь вам в трудный час. Доктор Гонсалвес не видит возможности вас исцелить. Я же…
Он подошел к ней и взял ее безвольно лежавшие на кружевном пододеяльнике руки. Они показались ему холодными, хотя и были теплее его собственных.
— Разрешите мне открыть окно.
И он пошел к окну с явным намерением привести в исполнение сказанное, одновременно дав знак Брижиде уйти и оставить их одних. Старуха заколебалась, но направилась к двери.
— Я ведь уже сказала, что хочу, чтобы окно было закрыто. Вы желаете услышать: прошу вас, пожалуйста?
Капеллан вроде бы испугался. Его дряблое птичье тело, мучимое подагрой уже много лет, заныло, и он вернулся, не поднимая глаз. Смирение старика тронуло Марию до Пилар.
— Я нуждаюсь в страдании, падре Алвин. Не мешайте мне в этом. И не выясняйте ничего, прошу вас. Я ваш друг…
Споткнувшись о ковер — зрение подводило его ежеминутно, — падре понял, что смешон, хотя больная на него больше не нападала.
— Вы любите темноту?
— Сейчас я себя чувствую лучше в темноте.
— Это почему же?! — тихо спросил капеллан, тихо, почти шепотом, точно шепот не выдавал желание старика получить ответ.
— О, это долгая история, которую я вам рассказать не могу…
— Я, Мария до Пилар, способен выслушать все.
— Нет, вы заблуждаетесь, не все.
— А вы начните и увидите.
— Но сеньор знает, я же сказала, что это невозможно. Простите…
— Говорите, говорите все. Даже то, что против меня. Они помолчали.
— Даже и это не хотите? — настаивал старик.
— Нет, не хочу.
— Вы, конечно же, не верите мне, потому что я завишу от вашего отца… — Голос капеллана стал печальным. — Ведь так? Я знаю, что так…
Ощупывая свои руки, точно ища в них что-то, чего ему недоставало, падре Алвин мучился только что сделанным признанием.
— Приоткройте окно, падре Алвин, я хочу видеть вас.
— Нет. Теперь, дочь моя, я не хочу этого. Не хочу, не могу принять ваше сострадание. И знаете почему?!
Воцарилось молчание, и долгое. Какое-то насекомое, возможно бабочка, билось об окно, точно желая разбить его.
. — Я скоро умру. Вот все, что мне осталось. И все же я должен принимать жизнь, пока ее дает мне бог. Понятно?!
— Может быть…
Шум приближающегося экипажа становился явственнее, нарастал в тишине пыщущего жаром вечера и вдруг стих: экипаж въехал в ворота имения.
— Это отец, падре Алвин. Идите скорее, встретьте его. Сделайте гак, чтобы он сюда не пришел… Мне не хватает мужества смотреть ему…
— Великий грех!
В ответ она опустила голову. Еще он увидел, что Мария до Пилар расплела косы и, рассыпав волосы по плечам, убрала их под рубашку. Прихрамывая, капеллан исчез за дверью, скрылся в коридоре, прикрывая рукой рот, откуда рвался резкий бронхиальный кашель.
В саду послышались тяжелые шаги Диого Релваса. Их Мария до Пилар знала хорошо. Потом шаги племянника Руя Диого, поспешные и почти бесшумные, и уже после — шаги брата, жесткие, нервные.
— Где мисс Карри? — резким голосом спросил отец.
— В своей комнате… Думаю, что в своей комнате, — ответила одна из служанок, Ирия.
— Пусть придет ко мне в кабинет. И немедленно! — Это «немедленно» было сказано тоже резко.
«Что ему уже известно?» — спросила себя Мария до Пилар. И мучивший ее страх уступил место озабоченности. «Повинная» в смерти матери чувствовала себя на краю гибели. Иногда она казалась ей спасением, но чаще подстроенным преступлением кого-то, кто теперь наслаждается медленной агонией ее поруганного тела. То была рана, и она время от времени вскрывалась, незаметно, но вскрывалась. Все начиналось где-то в низу живота и ползло вверх, как отравленная кровь по сосуду, который нес ее к сердцу. Мария до Пилар предчувствовала, что, как только кровь эта поступит в сердце, оно сожмется и остановится.
А если этого не случится?
Что сказал бы отец, если бы узнал, что ее нашли вечером, да, и довольно поздно, в домике в лесу? Нет-нет, она все равно бы ничего не рассказала. Ни о матери, ни о том обвинении, что предъявили ей ее сестра и братья. Вдруг и он станет винить ее…
Ведь ее нашел Зе Педро. Уехала-то она с ним, а вернулся Зе Педро один, и все это видели. А почему?! Что она на это ответит?…
В постели она уже три дня… Или больше?! Сколько она уже лежит? Врач ничего не нашел у нее, чем можно было бы объяснить ее поведение. И несмотря ни на что, она больна, больна как никогда.
Почему отец сразу же, как приехал, спросил о гувернантке? Может, брат выследил их с мисс Карри, зная обо всем, что было между Зе Педро и англичанкой? А о ней самой? Нет. О ней Мигел знать не мог. Ей казалось, что все (для других, только не для нее) перестало существовать в то самое утро, когда отец, брат и племянник покинули имение. Для нее же, наоборот, все только началось (по-настоящему!), и началось с того момента, когда некто причинил ей физическую боль. Мог ли кто-нибудь догадаться о том, что с ней происходит? И кто?! Разве что Брижида или падре Алвин.
Она услышала раздраженный голос отца. Он был наверху, в своем кабинете, где обычно писал письма. Потом захлопали двери, послышались шаги в коридоре, шаги поспешные, приглушенные ковровой дорожкой, привезенной из Англии. И снова резкий, взволнованный голос отца. Теперь она четко слышала: — Руй Диого сегодня же возвращается в Синтру. Я должен был бы отправить его в имение Куба. Мой дом — не публичный дом… Англичанки, выходит, хуже француженок.
Похоже, это были интриги Мигела Жоана. То, что Мигел Жоан преследовал мисс Карри, Мария до Пилар знала прекрасно. Но то, что теперь мисс Карри уедет, — это хорошо… Да, да, это то лучшее, что могло произойти.
Она услышала возню у двери и увидела внушительную фигуру отца. Кто-то давал ему объяснения, должно быть, падре Алвин, а может — Брижида.
— Не беспокойте ее, — услышала она глухо сказанные слова.
Глава IV В КОТОРОЙ ВИДНО, КАК КОРОЛЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ПО-КОРОЛЕВСКИ ВЕРШИТ СУД
Действительно, у него есть о чем беспокоиться, помимо домашних неурядиц. Ведь на последнем собрании Ассоциации земледельцев этот мерзавец Зе Ботто имел наглость устроить словесный фейерверк в честь индустриализации страны, приводя в пример малые нации, вес которых, говорил он, давал себя чувствовать в экономике Европы. Он обратился к собранию с заявлением, одобренным определенной группой финансистов, которые рекламировали чудеса акционерного общества, под сенью которого они, в общем-то, наполняли свои несгораемые шкафы звонкой монетой, ибо некоторые из таких обществ действительно обеспечили два процента дохода при эмиссии ценных бумаг, учитываемых банками. В перерыве Диого Релвас не удержался и зло бросил Зе Ботто: «А вы, сеньор Жозе Ботто, оказывается, знаете, где находится Европа?» Онемевший было мерзавец спустя минуту заговорил: «Да, после того как солнце сядет, мне это становится известным».
Надо было видеть, как у выхода из вестибюля, который заполнили земледельцы и журналисты, Диого Релвас схватил его за лацканы куртки, тряхнул как следует и швырнул на швейцара, чтобы это дерьмо не покалечилось, но за выходку поплатилось. Тут Бараона выступил посредником, попросив Диого Релваса быть сдержанным, тогда как куда проще было бы вынудить Ботто оставить зал, едва тот принялся восхвалять индустрию. И несмотря на поддержку собравшихся ему, Диого Релвасу, который напомнил, что вопросы, связанные с индустрией, должны быть рассматриваемы в их собственной Ассоциации промышленников, это ничтожество Бараона попросил тишины, сказав, что «в такой тяжелый час разум должен быть на службе у нации». И все те, кто только что поддерживал Диого Релваса, принялись без стыда и совести, не понимая того, что слышали и делали, аплодировать Бараоне. Какой-то проходимец со слезами в голосе говорил о родине, а все остальные считали, что от них ждут проявления патриотизма, конечно дутого, если спешили тут же его выразить, и чем? Криками, хотя на каждом шагу родину-то и предавали.
Да, он жил в царстве демагогии и эго была голая и неприкрытая истина. Даже король — к счастью, он, Релвас, отказался принять предложенный им титул — не нашел ничего лучшего, как высказаться против вооруженных уличных столкновений в Порто, возникших в связи (или без связи) с несостоявшимся похищением дочери бразильского консула. Этим несостоявшимся похищением и решила воспользоваться республиканская каналья, чтобы выйти на улицы Лиссабона и других городов, — так вот, даже король сказал: «Будучи либеральным по традиции, воспитанию и собственному убеждению, я порекомендую правительству принять необходимые меры предосторожности для поддержания общественных свобод», и так далее, и тому подобное. Потом все они наплачутся. Все эти политические хитросплетения начинали утомлять Релваса. А. ведь между тем' земледельцы, единственно прочная и честная сила страны, по-настоящему не понимали опасностей, которые навязывал им строй, и позволяли запутать себя в паутине, сотканной коммерсантами, промышленниками и бесстыжими ничтожными обывателями. Неужели разгул анархии в стране мог им быть на руку? Нет!
— Слепые и поводыри слепых, Мигел. Грядут горькие времена… А я от всего этого начинаю уставать.
И приказал запрячь пару в одну из открытых колясок, намереваясь отправиться в имение «Благо божье», чтобы показать живущим там крестьянам, кто истинный хозяин земель, хотя Релвас и не получал с них даже пяти рейсов. Однако до него дошли кое-какие слухи и жалобы на недород, и он хотел все, что там происходило, увидеть собственными глазами. Увидеть и воздать должное каждому по справедливости.
Место кучера он уступил сыну, передав ему поводья, и они, сидя рядом на облучке, принялись обсуждать события последних дней. Лошади шли шагом.
— И все это нарушает покой португальских семей. Газеты заняты пустой болтовней, можешь мне поверить. И в основном о том, что происходит в мире… На страницах газет находит отклик только плохое.
— Это неизбежно.
— А идите вы… со своей неизбежностью… Неизбежность — это мы, мы сами создаем эту неизбежность, и сами о ней говорим. С нашей инертностью…
Он почувствовал горький вкус во рту. Смачно выплюнул сигарету и принялся поглаживать бороду и усы. Одна крестьянская семья, сидевшая в тени оливкового дерева, поднялась, чтобы приветствовать его. Без единого слова, точно решил щадить голосовые связки, Диого Релвас приложил палец к полям шляпы.
— Все это нарушает мирную жизнь людей…
Эту фразу он повторил четыре или пять раз за поездку. Но понял, что произносил ее с горечью. И решил исправить положение.
— Вы считаете, что я, как медь, покрываюсь зеленью… или ржавчиной, что еще хуже. Ошибаетесь. Морщины и седые волосы не в счет.
То было высокомерие. И только высокомерие, как бы он ни бахвалился. Он страдал. Но страдал не от прожитых лет, а от того, что видел и с чем согласен не был, будь то в сельском хозяйстве, конторе или дома. Да, даже у себя дома.
— Милан написала мне относительно Руя Диого. С намеками.
— Она всегда на что-нибудь намекает…
— Это от вдовства.
Мигел Жоан улыбнулся. Землевладелец предпочел не спрашивать, чему он улыбается.
— Она говорит, что и ты крутился вокруг англичанки…
— Я?! — Мигел Жоан пожал плечами и стегнул лошадей.
— Сразу видно, что ты из рода Араужо, ветрогон. Хотел бы знать об англичанке…
Диого Релвас положил левую руку на спинку сиденья и обмотал один из пальцев правой руки золотой цепочкой. Это означало, что беседа обещала быть долгой. Ведь он предпринял это долгое путешествие скорее из-за назревшего разговора с сыном — разговора, который здесь, где каждый сидит на месте и вынужден слушать говорящего, вроде бы возник случайно, а вовсе не был подготовлен заранее.
— Это, мой мальчик, знаю и я. Тот, у кого жена беременна, всегда ищет ей замену. Пожалуй, о женщинах я с тобой говорю впервые… Да и знаю это не только я, все видели, что ты ходил за ней как привороженный, едва она здесь появилась…
— Она была в новинку…
— Хорошо, пусть так, была в новинку. Но теперь то, что было раньше в новинку, забрало тебя как следует. И опять я тебя понимаю. Так договорились бы с ней и встречались бы в Лиссабоне. Все как должно. Если она не хотела — имей терпение! — соблазнил бы ее деньгами, деньги — аргумент немаловажный, а нет — так всему конец. Но вот играть роль шута на глазах у всех было недопустимо.
Нотация отца разозлила Мигела Жоана. Он никак не мог понять, что из только что сказанного вызвано авантюрой не оправдавшего доверия Руя Диого, а что касалось его, только его, и вынудило отца на разговор.
«Карлик— вот кого надо было припугнуть как следует! — думал Диого Релвас. — Это точно. А все же теперь Жоакин Таранта всю жизнь будет помнить вчерашний нагоняй, который я ему дал. И ослепнуть мне, если я не исполню обещанного». А пообещал Релвас вот что: «Знай, Таранта, что в следующий раз я прикажу тебя привязать к хвосту жеребца-производителя и огреть его хлыстом, чтобы гот отделал тебя как следует, таща за собой… Кончится и твоя жизнь, и твоя поэзия…» Карлик выл, как пес. «Я не виноват, не виноват. У слуги нет ни глаз, ни ушей…»
С этого дня у него будут и глаза и уши. Как Диого сказал, так и сделает.
— Однако как бы там ни было, но сестра твоя может писать мне письма, какие ей заблагорассудится… А вот ноги ее отпрыска-ветрогона с голубыми глазами Араужо больше в моем имении не будет. Релвасы не свиньи: они не едят из одного корыта… И это то, что меня смущает, когда я думаю о тебе.
— У меня с этой женщиной ничего не было. Даю вам свое честное слово. Наше слово!..
Диого Релвас удовлетворенно кивнул головой. Они уже были около имения «Благо божье», о чем напомнила им появившаяся дубовая роща, и землевладелец приказал остановить коляску в ее тени. От рощи Диого Релвас собирался, поменявшись местами с Мигелом Жоаном, править лошадьми сам.
— Очень меня волнует болезнь твоей младшей сестры…
— Меня тоже, отец. Похоже, ничего хорошего ждать не приходится.
— Это почему же? — спросил встревоженный землевладелец. — Тебе что-нибудь известно?!
— Нет, ничего. Я ничего не знаю… Но такая странная перемена…
— Мы должны выдать ее замуж.
— Если бы она хотела… Простите мне мою откровенность, но ведь мы говорим как мужчина с мужчиной. Вы очень ее баловали, а теперь не так-то просто с ней совладать.
Землевладелец нахмурился. Вернувшись из-за кустов, он сел на облучок. И, задумавшись, принялся пощелкивать хлыстом, дважды стегнув лошадей, которые тут же, почувствовав вожжи в хозяйской руке, пошли мелкой рысцой.
— Я сам найду ей жениха, и посмотрим, способна ли она противиться моей воле. Ей известно, что рука у меня твердая. А для тех, кто злоупотребляет, для тех, кто не понимает по-хорошему, еще тверже. Я во всем с ней соглашался — это правда. И виноваты вы, вы ее не любили. Я говорю так откровенно впервые. Разве это не так?
— Обычные детские ссоры… Но все прошло.
— Не совсем…
— Что касается меня, то я считаю так… Конечно, я никогда не принимал ее за подругу Изабел, хотя она накануне рождения племянника, следует сказать правду, проводила у постели Изабел дни и ночи.
— Пожалуй, роды Изабел и заставили Марию до Пилар встать с постели.
— Я даже пригласил ее в крестные… Голос землевладельца потеплел:
— Парень что надо, крепыш. Орет как следует, значит, легкие хорошие. Как думаешь его назвать?
— Диого Луис… что скажете?
— Хорошее имя…
Диого Релвас напустил на себя безразличие, хотя на самом деле был горд тем, что все его внуки мужского пола наследовали его имя и его фамилию. Было бы хорошо, если бы они наследовали и его жизненную хватку.
Из-за колдобин на дороге лошади опять пошли шагом. Показались первые дома арендаторов «Блага божьего». Правильно говорил Моитинья, что груд человека кормит… Ведь кто знал раньше эту степь, поросшую чертополохом и с трудом пробивающимся дроком, решил бы, увидев ее сейчас, что сбился с дороги. Голод живущего здесь народа сотворил чудо. Подлинное чудо. И чудо это должно было иметь имя, на что творцы его и испрашивали в свое время хозяйского согласия. «Так как вы думаете назвать эту землю?» — спросил он тогда теперь уже умершего Мира Вельо. «Да мы тут вот, это самое… все мерекаем… И вроде после всех споров решили „Рука человека“… Мне нравилось, когда так называли Тежо, ведь благодаря Тежо, в общем-то, все мы здесь оказались. Но все считают, что Тежо далеко и теперь так можно назвать эту землю. Другие настаивают на „Благе божьем“, говорят, так лучше… Слово за вами, хозяин, а то так и до драки дойти можно». Диого Релвас смотрел на них, молча стоящих с непокрытыми головами и ждущих его решения. И все-таки один, такой маленький, коренастый, не удержался и сказал им самим придуманное название: «„Цветок степи“ — имя что надо!» — «Это для таверны, — ответил Релвас добродушно. — „Благо божье“, мне кажется, лучше. Пожалуй, лучше».
С того самого дня так эти земли и зовутся, хотя кое-кто и называет их «Рука человека». Вот так сосуществуя, эти два названия дополняют одно другое. Что такое человек без бога? Ничего. Но и бог без человека тоже не слишком многое. И тот и другой — деревья одного корня.
Привлеченные шумом запряженной лошадьми коляски, подъезжавшей со стороны степи «Мертвых лошадей», деревенские мальчишки весело, наперегонки бросились ей навстречу, оглушая криками и махая руками. Следом за ними на дорогу высыпали всполошившиеся женщины, одна из которых, узнав землевладельца, тут же воздела руки к небу и запричитала:
— Да восславится имя твое, господь! Да восславится! И во благо «Благу божьему» привел ты к нам сеньора Диого Релваса!
После того как здесь была найдена вода — она стоила жизни пятерым и семерым — увечий, — степь покрылась фруктовыми деревьями, богатыми огородами, полями пшеницы и кукурузы, конечно при поливе, не зря крестьяне поклялись здесь, под большим дубом, способным дать тень целому батальону, что уйдут отсюда только в том случае, если земля разверзнется. Теперь здесь стояли побеленные глиняные дома, некоторые даже с дымоходными трубами.
Мигел Жоан вел счет всему, что видел. Здесь, на землях степи «Мертвых лошадей», которые его прадед отхватил у монастыря за бесценок и скорее из-за пробкового дуба, чем из-за самой земли, — он был впервые.
— И как только эта земля позволяет развести здесь фруктовый сад? — тихо сказал он отцу.
— Эта земля позволяет развести здесь все, что хотят эти люди… Здесь все — дело их рук. Все, что здесь есть, — все результат их труда. Сама земля…
По выражению отцовского лица Мигел Жоан понял, что лучше не высказывать своих мыслей.
Совсем скоро коляску окружило более двухсот человек, от всей души предлагавших землевладельцу плоды своего труда: мед, дыни и даже сушеный мускатный инжир, что было невероятным деликатесом для такой недоброй земли, теперь, правда, уже покоренной и забывшей свою злобу. Им подали воду.
— Свежая, одно удовольствие, сеньор Диого Релвас! Похоже, барчуку понравилась.
Уступив просьбам, Диого Релвас и Мигел Жоан спрыгнули с облучка и пошли по деревне пешком. Каждый хотел затащить их к себе в дом, попотчевать хлебом и овечьим сыром, а некоторые, оставшись при лошадях и отведя их в тень и задав им корма, пользовались возможностью наполнить коляску всем, чем только можно. Потом все во главе с землевладельцем направились на сходку крестьян, которая по традиции происходила под сенью раскидистого дуба, издавна избранного для таких торжественных случаев. Диого Релвасу и Мигелу Жоану предложили сесть на дубовые скамьи. Один крестьянин скромно заметил:
— В нашем хозяйстве эти скамьи были первые. Первая роскошь. И потому-то… Пусть хозяин простит нам эту бедность… Бедные, но честные.
Спорный вопрос касался воды. Сафранарио, на земле которого после дележа оказался один из колодцев, настаивал на безраздельном владении водой, во всяком случае — пока это ему будет необходимо. Возникшие благодаря подстрекательствам споры довели до драк: у одного была разбита голова, у другого сломана рука, так что можно было ожидать и чего похуже. Землевладелец же оставлял за собой право и обязанность призвать их к порядку, так как не хотел видеть своих старых друзей в постоянных стычках друг с другом.
И он высказал желание поговорить с виновником. Неприятное лицо отделившегося от толпы человека было бесформенным и дряблым. Оно не понравилось Релвасу и из-за глаз. Диого Релвас не любил людей, которые смотрели ему в глаза только тогда, когда он того требовал.
— Правда ли то, что мне здесь рассказали?
— Более или менее…
— Тогда расскажи то, что исказили.
Виновник не открывал рта, хотя жена все время подталкивала его локтем. Толпа доверительно обменивалась мнениями, чуть слышно шумела.
— Я просил Сафранарио высказаться. Ну, так ты будешь говорить?!
Крестьянин заставил себя сделать два маленьких шага вперед. Одной рукой он мял рубашку, другую прятал в кармане тиковых штанов. Он казался отсутствующим.
— Они не сказали… что вода… на моей земле.
— Ты явно плохо слушал.
— Ну, если они это сказали… вода моя.
— Наша, — поправила его жена.
— Вот ты, — заметил Диого Релвас, указывая на крестьянку, — говоришь верно: вода ваша, ваша общая.
— Это неверно! — крикнул Сафранарио.
«Пусти козу в огород…» — подумал землевладелец Алдебарана, поднимаясь со скамьи и идя на Сафранарио.
— Я не расслышал, что ты сказал…
Только сейчас Сафранарио посмотрел в глаза землевладельцу и повторил:
— Это неверно.
Диого Релвас протянул руку и дернул его за рубашку. Тут же несколько человек вышли вперед, чтобы быть в его распоряжении. Но он отстранил их.
— Скажи твоей жене, чтобы она нашла в доме документ, в котором значится, что эта земля — твоя… Да-да, бумагу или что-нибудь, что подтверждало бы сказанные тобой слова.
Сраженный доводом Релваса, Сафранарио снопа опустил голову, но тут же возразил:
— Хозяин же дал нам всем землю…
— Одолжил…
— Ну так этот кусок достался моей семье. Я себя на ней убиваю трудом…
— Но колодец рыли все. Вода — общая… — И обернувшись к тем, кто его сопровождал: — А как обстоит дело с другими колодцами?
— Каждая семья пользуется колодцем около часа в день…
— Это вроде ничего. Порядок. Только те, кто живет рядом с колодцем, должны пользоваться на пять минут меньше, чем те, кто живет далеко. Десять минут им нужно накинуть, ведь им нести дальше и вода по дороге расплескивается. Вот так-то. И вы уже догадываетесь, что я сейчас вам скажу: виновник должен оставить землю, прихватив с собой разве что дорожную пыль, больше ничего.
Он дернул Сафранарио за рубашку.
— С тобой же у меня будет разговор особый. За то удовольствие, с каким ты мне сегодня ответствовал, ты сегодня же должен покинуть эти края. Не хорохорься. В моем возрасте подобные тебе бычки меня не пугают. Выроешь новый колодец, и один, и гам, где тебе укажут. Этот указал тебе Мира. Через шесть месяцев приеду испить из него водицы. Если не согласен, сегодня же вон отсюда.
Жена Сафранарио принялась рыдать, как тридцать плакальщиц.
— Все сказано, все. Веди жену домой и всыпь ей ремнем как следует, чтобы знала, когда надо реветь, а то она не знает. И будьте разумны!
Диого Релвас послал Мигела за коляской, а сам снова сел на дубовую скамью.
— Следите за ним. Он мне не кажется доброй овцой. Но и не злите его… И не заставляйте меня наведываться к вам по подобным делам. Так будет лучше для всех!
И как только сел на облучок, тут же пустил лошадей галопом, вынудив бросившуюся было вслед ребятню отстать.
— Если когда-нибудь на заливных землях мы будем испытывать недостаток в рабочей силе, надо иметь в виду этих людей. Хороший резерв рабочих рук.
Глава V МАЛЕНЬКИЙ ЛЮБОВНЫЙ ЛАБИРИНТ И УСЛОВНОСТИ
Сначала Зе Педро был поражен таким удачным поворотом судьбы и даже несколько перепуган, но потом пришел к уверенности, что теперь уж никакой случай ничего не изменит. То, что он нравился женщинам, он знал, знал и имел тому подтверждение, но на этот раз фортуна была к нему особенно щедра, отдав ему нежданно-негаданно дочь хозяина. Начало положила сама Мария до Пилар, хотя от англичанки он слышал, и не раз, что может действовать смело, но все же не решался, так как родовое уважение к Релвасам, поддерживаемое с дедовских времен, не позволяло ему пуститься в подобную авантюру.
Развязности и бахвальства ему было не занимать, нет. Ведь на последней корриде, которая состоялась в Сантарене, он доказал, что в его жилах течет бурная отцовская кровь. Еще в самом начале корриды, кланяясь, он заметил, что сидящая у барьера сеньорита ему улыбается, хотя с ней рядом сидел мужчина много старше ее, лицо которого Зе Педро показалось знакомым. А потому, воткнув первую бандерилью в мощного, лоснящегося от пота быка, он тут же ответил на ее любезность, бросив ей белый с красным флажок, развевавшийся на бандерилье. И сделал он это так, чтобы не оставалось сомнений, что быка он посвящает ей. С таким успехом, как в этот раз, он выступал редко; все бандерильи, как длинные, так и короткие, попадали точно, без промаха. Однако его не радовало быстрое возвращение в отель в нанятом для него и другою тореро экипаже, под крики приветствий и аплодисменты любителей корриды, только что видевших их искусство на арене, Зе Педро Борда д'Агуа ушел с арены, совершив круг почета с одним из форкадос, который и на этот раз, как обычно — ничего сверхъестественного, — бросился на последнего быка, а вернулся уже одетый в костюм рибатежца, вышел на улицу, готовый следовать за дамой. Все, казалось, на мази, дело было только за ней.
И надо же было, чтобы лукавая, но благосклонная к нему судьба опять ему улыбнулась, доставив даму в тот же самый отель. Дама была иностранкой, что еще приятнее. Он ходил вокруг нее весь вечер, правда па расстоянии. За ужином сопровождавший ее старик предложил ему сигару, однако Зе Педро решил уйти от разговора с обоими, так как, конечно же, разговор зашел бы не о быках и не о лошадях, а любой другой он вряд ли бы сумел поддержать, хотя какая прелесть разговор на смешанном испано-португальском наречии. У выхода Зе Педро подал знак даме, дама покраснела, но потом все было гак, как пожелал господь. A faena, [59] как говорил Зе Педро, было сделано, оставалось сталь, как перед быком с бандерильями, а там будь что будет.
И было, что должно быть. Он узнал ее номер и точно в полночь, как только пробили городские часы, без стеснения постучал в ее дверь. Послышался скрип кровати, потом шаги по ковру и голос — то была она! — чуть испуганный, спрашивающий, кто там. Он ответил ей в замочную скважину, щелкнул замок, и перед ним предстала эта самая бабенка — это его слова, — выказывая испуг от того, что он стоит под дверью. «Но сеньор безумец… вас могут увидеть». Выхода не было, так как в конце коридора кто-то появился, и Зе Педро тут же оказался в номере двадцать семь отеля в Сантарене. Оставил этот номер он лишь на рассвете.
Подобных приключений на счету Зе Педро было предостаточно. А глупая англичанка все еще старалась разжечь его смелость, забивая его голову новыми и еще более дерзкими мечтами. Пожалуй, Зе Педро пугала только любовная авантюра с Марией до Пилар. Релвасы были злого десятка.
Но теперь, теперь, когда она сама ему отдалась, Зе Педро занесся в своих мечтах высоко. Несколько дней он, правда, был взволнован отъездом мисс Карри: не сказал ли кто-нибудь хозяину об их отношениях. Но нет, похоже нет, да и удача не оставляла его, так что скоро он успокоился и разве что на манеже ему недоставало присутствия посещавших его обычно обеих женщин. Мария до Пилар больше не искала с ним встреч. Должно быть, обдумывала, как сообщить о случившемся отцу — Он, Зе Педро, без пяти минут землевладелец! Вот так-то!.. А бедняжка мать все еще докучала ему своими опасениями из-за его быстрого взлета. На что он отвечал ей, сам укрепляясь в своей вере в чудо: «Взлетает ведь гот, кому даны крылья. А как узнать, есть они или нет, если не взлетишь».
Он уже было подумывал послать Марии до Пилар записку с сыном Атоугии, чтобы узнать, на какой лошади она хотела бы ехать на ярмарку в Севилью, где Релвас собирался утереть нос андалузским латифундистам. Под этим предлогом Зе Педро надеялся увидеть ее и спросить, почему же вдруг их многолетняя дружба забыта, не говоря уже обо всем остальном, может, потому, что было затронуто ее целомудрие? И вот, один на манеже, он подбирал слова не слишком резкие, но и не слишком мягкие и обиженно-печальным голосом произносил их, репетируя то, что собирался ей сказать. Должен же он был поставить все на свое место. Правда, конечно, и то, что, кроме релвасовского богатства со всем почетом и уважением, которые оно должно было ему принести, Зе Педро был пленен красотой Марии до Пилар. Ведь еще когда она была девочкой, он мечтал о ней как о чем-то недостижимом.
Однажды он даже сказал своей бабке Борда д'Агуа, что Мария до Пилар похожа на фею. На фею и волшебницу, ведь у нее глаза меняют цвет, ну прямо как листва осенью. Вначале зеленые, потом золотисто-каштановые…
Теперь же он ее видел редко, и только в сопровождении кучера, когда она выходила из экипажа, возившего ее в Алдебаран. Он ждал Марию до Пилар у ворот манежа в надежде повидаться с ней, но она не смотрела в его сторону и не говорила, как бывало, весело: «Ола, Зе Педро!», а только махала рукой, и все. От матери, которая всегда за него тревожилась, Зе Педро знал, что барышня большую часть дня проводит в доме снохи Салсы — та была на девятом месяце и вот-вот должна была родить. Так вот Мария до Пилар составляла ей компанию, шила приданое ребенку и была очень услужлива, что особенно удивляло будущую мать, совершенно не способную отблагодарить сеньору, ставшую вдруг ее служанкой. Теперь, как утверждали деревенские кумушки, она уже не была «парнем в юбке». А однажды дело дошло до того, что Мария до Пилар осталась ночевать в доме Салсы, устроившись в соломенном кресле, которое ей предложило семейство старшего конюха. И без единой жалобы на неудобства… Тогда как повитуха из Вала потребовала экипаж, постель с чистым бельем и литр тростниковой водки… для принятия родов. «Видно, что-то ей не дает покоя», — говорили в народе. А поскольку резкая перемена в Марии до Пилар произошла после королевского визита, все считали, а кое-кто, стараясь показать, что знает все тонкости, даже уверял, что барышня влюблена в принца. И какая это была бы пара!
Тут уж тщеславию Зе Педро не было границ.
Со своей стороны Диого Релвас начинал подумывать, что дочь себя готовит к монастырской жизни И хотя он был полон почтения к тем, кто постригался в монахи, сердце его сжималось при мысли, что на этот путь ступит его собственная дочь. Ведь кроме одного двоюродного брата — каноника в Эворе, никто еще в семье Релвасов не рождался для вечного служения господу.
Диого Релвас был внимателен к Пиларике — так он ее называл в минуты особой нежности. Однако, если она на исповеди не говорила ни слова о том, что собирается стать Христовой невестой, то что, что бы это могло быть? Он старался отвлечь ее, предлагал куда-нибудь поехать — или на купания, или на воды, куда угодно. Если хочет — в Испанию. А хочет — во Францию. Но ответ был всегда один: «Пока не родится ребенок, нет, я… я собираюсь быть крестной, и вы будете сопровождать меня, хорошо?!»
Подобных отношений со слугами землевладелец старался избегать: все, к чему это приводит, он уже знал. Да если бы он не избегал этого, го по имени его никто бы сейчас не называл: ведь за глаза слуги, детей которых он крестил, величали его не иначе как кумом. Это ему не нравилось! Определенные отношения претили Диого Релвасу. (И хотя он об этом не говорил, но считал, что каждый сверчок должен знать свой шесток.)
Диого Релвас настропалил падре Алвина, чтобы тот всеми правдами и неправдами выведал причину перемены в его дочери. Но старый-престарый капеллан разводил руками, будучи уверенным, что теперь его слабый голос до неба не доходит. Он ведь уже пытался исповедовать ее, в доверительной беседе, тогда, в ее комнате, помните?! Но это ничего не дало. Почему она говорила о смерти?! Может, с кем согрешила?! Все было напрасно: Мария до Пилар отказывалась от его услуг, испытывала к нему сострадание и не скрывала этого, что в общем-то, злило старика. Да, он стар, это верно, но не нуждается в сострадании грешных.
Однако, боясь пасть в глазах Релваса. падре Алвин стоял на своем: «Эго возраст, не может быть двух мнении. И лучшее, что следует сделать, — это выдать ее замуж, и поскорее. Замужество — чудодейственное средство против девичьих болезней. И особенно оно нужно тем, которые были живыми и говорливыми и вдруг, непонятно отчего, загрустили».
Удовольствия от подобных откровений капеллана Диого Релвас не получал. Но не за горами тот день, когда он вышвырнет и его, и его откровения за ворота поместья. И все же на сегодняшний день совет падре Алвина целиком совпадал с собственным мнением Диого Релваса по этому вопросу. А потому он принялся составлять список возможных претендентов на руку Марии до Пилар, помечая против каждого все достоинства и недостатки, не забывая о возможности иметь доход с земель и всего прочего, чем располагали эти сеньоры. Прикидывая в уме, он думал, что их семеро, но теперь, когда нужно было составить поименный список, оставалось двое, да, двое — такое зловоние исходило от остальных пяти, имевших земли и здесь, и в Алентежо, но явно негодных в женихи любой благородной барышне, особенно дочери такого хозяина, как он, который не только не пострадал от кризиса, но и, благодарение богу, разбогател, прибрав к рукам земли разорившихся землевладельцев. Одни из этих претендентов вели жизнь, ухлестывая за юбками, и понимали в земле ровно столько, сколько свиньи в апельсинах, другие пропадали в игорных домах, где, случалось, заражались фанфаронством графа де Фарробо [60]: роняли мелкую монету, а потом, чтобы найти ее, поджигали крупную ассигнацию и светили себе. И этим занимались почти все. Жечь собственные деньги — вот чего они хотели! Такие ради страховой премии сожгут в неурожайный год поле пшеницы.
Услышав о предполагаемых кандидатах, все же вошедших в отцовский список. Мигел Жоан пожал плечами, вроде бы не желая вмешиваться в дела любовные. Но это было шито белыми нитками: Мигел Жоан предпочитал иметь сестру незамужнюю, деля с племянником то, что причиталось ему при разделе имущества. А если бы вдруг оно состоялось, то он, подумывая о будущем, счел бы необходимым обратиться к адвокату. Старик прирос к земле и сельскому хозяйству, и, кто бы ни пытался, его от этого не оторвать. И с чего он решил спрашивать его мнение о Марии до Пилар и ее браке, если всю жизнь делал только то, что ему самому взбредет в голову?!
Вот Мигел Жоан и делал вид, что безразличен к судьбе сестры, хотя на самом деле это было далеко от истины.
Глава VI ВЫРОЖДАЮТСЯ ИДЕИ И ВЫРОЖДАЮТСЯ ЛЮДИ
Глава республиканцев поселка имел обыкновение говорить, но по секрету и среди особо доверенных единомышленников (упаси боже! Потому что и в республиканскую среду могла затесаться всякая нечисть!), что Релвас уже двадцать лет носит в себе короля, но, как видно, так никогда и не разродится, поскольку плод, похоже, начал подгнивать и сеньор Алдебарана страдает от интоксикации.
Совершенно ясно, это был политический навет, подхваченный многими злыми языками.
Так дали бы ему развернуться: создать монархию в соответствии с его темпераментом, который он, Релвас, бросит весь, целиком, на разработку кое-каких оригинальных законов, хотя и в старых добрых португальских традициях, наиболее ему приятных. Ведь еще с дедовских времен — Релвасы не отрицали этого, нет, — в их доме никто не брезговал либеральными реформами, однако они прибирали к рукам те наследные владения и ту монастырскую собственность, которые были им особенно выгодны, и использовали затруднения казны, чтобы грабить национальное достояние, отданное на произвол судьбы.
Никто никогда не слышал, чтобы они были против пира во время чумы.
В их доме в большом зале на первом этаже висело чучело головы коня его величества короля Дона Педро, хотя тут же, рядом, висела и другая голова — коня, принадлежавшего любимому сыну Карлоты Жоакины. [61]. Согласно высказываниям самого Диого Релваса, неблагодарность в их семье приюта не находила, однако и слепого послушания заколебавшимся устоям он гарантировать не мог. Нужно танцевать под ту музыку, которая звучит.
— А если музыка дрянь? — спросил его как-то Доминго Ролин.
— Тогда мы должны сменить музыкантов, чтобы новые играли то, что нам больше по душе. И сменить потихоньку, без шума, не дав старым понять, что мы навязываем им хозяина.
— А если новые окажутся республиканцами?
— А-а, вот оно что, старина!.. Но если подобное несчастье и случится, то будут разбиты их инструменты… Коли дойдет до этого, все средства хороши!
Институты со временем вырождаются, в том сомнения нет. Вот свобода, например, появилась на свет здоровенькой, без малейшего изъяна, а сделалась уродиной, законченным пугалом — так покалечили ее все, кому было не лень. Жаркое солнце полуострова портит вещи снаружи, а слабых людей изнутри. На митингах можно было нести любую чушь, лишь бы понравиться народу, которому задурили голову этим самым словом «свобода», а что было в действительности, какова была почва для свобод?
Да народ был не готов к использованию свобод, особенно их французского варианта, наиболее распространенного. «Что где рождается, там и пригождается». Зачем вонючей португальской деревенщине изысканные французские духи? Да для португальской вони они — худшее отдушивающее средство. Лучше бы закрыть Пиренеи, положив конец контрабанде идей, ведь через закрытую границу ни люди, ни идеи не пройдут, и пусть кривят рожу недовольные. Нам-то что. Мы должны быть самостоятельны — в данном случае! — и обходиться без соседей. А мир еще отблагодарит нас за этот урок. Слышать слова благодарности нам не впервой.
С годами Диого Релвас отказывался от своего умеренного либерализма и переходил на позиции абсолютизма. Теперь иной возможности все поставить на свои места он не видел. В Африке еще хватало места для тех, кого высылали из страны, — пусть там попытаются создать республику, вместе с черными, раз и те и Другие принадлежат к одной семье каннибалов.
Любой, кто увидел бы Диого Релваса таким раздраженным, счел бы, что резкость его высказываний в определенной степени вызвана неблагодарностью Розалии. В такое состояние мужчина, как правило, приходит не без женского участия. Так что же между ними произошло?
А то, что галисийка, войдя во владение двумя магазинами на Шиадо, начала выдвигать Релвасу свои требования, вплоть до требования жениться. Интересно, из какой, она считала, тьмутаракани он свалился на ее голову?! Из Бразилии, должно быть… Лисичка подловила Релваса, получив его подпись о фиктивной продаже доли в акционерном обществе, обязуясь отдавать ему проценты с прибыли, бумаги, действующей, пока он жив, — он ведь не был уверен, что после его смерти она удовлетворится одними магазинами, а дети получат все остальное. Он уступил ей — о, простодушие!.. Однако и полгода не прошло, как Розалия заговорила по-иному: она боялась, видите ли, потерять клиентуру, если узнают, что она всего лишь любовница, и так далее, и тому подобное, он же должен понять щепетильность положения, нет, она не о себе, она о клиентуре, о тех, от кого зависит процветание ее дела, они-то должны быть спокойны. Все это вызвало у Релваса улыбку: «О Розалия, уж не хочешь ли ты мне сказать, что из-за клиентуры я должен с тобой сочетаться законным браком?!»
И тут он увидел ее во всей красе: злобную, не скупящуюся на крепкие слова — подобное землевладелец вполне допускал в определенные моменты близости, но не сейчас, когда разговор шел о серьезном деле. И это он ей сказал. Тогда-то она, точно уповая на поддержку и помощь дьявола, и решила поставить на карту все, подпустив шпильку, что в таком серьезном деле, о котором шел разговор, самым смешным будет, конечно, ее согласие стать женой старика.
— Розалия, ты, как видно, за обедом выпила лишнего и, похоже, забыла, в чем я однажды тебе поклялся… Не вынуждай меня, чтобы я тебе это напомнил!
Но она все-таки вынудила его это сделать, и Релвас, не дожидаясь вторичной просьбы, сломал ей руку — господи боже! — в локте. И тут же отвез ее в больницу, а услышав из уст врача, что рука сломана, оставил ее на попечение медицины, зашедшуюся в криках и не знавшую, на что решиться — пожаловаться в полицию или промолчать. И она решила промолчать, все из-за той же клиентуры, именно так сказала Розалия одному их общему другу, подосланному к ней Релвасом с целью узнать настроение любовницы. «Розалия со своим пониманием чести торговки, неизвестно от кого унаследованной, пойдет далеко, пожалуй, еще станет президентом Ассоциации торговцев», — сообщил тот Релвасу с удовлетворением. Несколько недель спустя опять тот же общий друг пришел, но теперь к Релвасу, чтобы сообщить, что галисийку видели на Шиадо с молодым человеком, державшим ее под руку. Так лет двадцати с небольшим… По всему похоже, Розалия в ближайшие месяцы с магазинами расстанется.
Дней восемь Диого Релвас исходил желчью. То он мечтал подстроить банкротство своей бывшей любовницы, то поджечь ее торговые помещения, то сломать ей другую руку. И вдруг, доходя в жажде мести до исступления, вспомнил о Капитолине — юном живчике Алдебарана. Да он из нее принцессу сделает! Вся сложность только в том, чтобы не скомпрометировать честь Релвасов. А выход один — увезти Капитолину из деревни. Для того он и решил поговорить с ней и получить ее согласие жить в Лиссабоне, где для нее будет снят дом. Несколько дней он обмозговывал план действий, стараясь избежать опрометчивых поступков, что были уже не к лицу такому почтенному человеку. И тут вдруг на его голову обрушилось известие о том, что его внука Руя Диого видели с Капитолиной: они вдвоем, ну просто как два голубка, сидели на крупе лошади — похоже, возвращались с Тежо, во всяком случае, ехали с той стороны. Нет, дьявол над ним, над Диого Релвасом, не посмеется! И землевладелец тут же, воспользовавшись англичанкой как предлогом, отправил Руя к матери и перестал думать о нем как о достойном наследнике его владений. В Мигела Жоана Релвас не верил никогда и полагал, что будет лучше, если все им нажитое унаследуют его внуки и дети сообща, с тем чтобы после его смерти состояние не было пущено по ветру. Главную роль в этом сообществе должен был играть Руй Диого, которому он обеспечит более половины капитала.
И вот план полетел ко всем чертям.
Теперь он сам себе признавался, что упустил одну маленькую, но важную деталь: у внука были голубые и холодные глаза Араужо, и, кроме них, от отца своего он унаследовал болезнь араужской крови — безделье и высокомерие.
Именно это он и сказал Эмилии Аделаиде, когда та пришла к нему, чтобы своими собственными ушами услышать о прегрешениях Руя. Но Диого Релвас знал, что она не снизойдет до того, чтобы просить его о снисхождении к молодому человеку. Тем лучше. Что ж, он может гордиться, что она одна-единственная из его детей пошла в него! И то, что она пошла в него, на этот раз поможет ему освободиться от Руя без сложностей. Диого Релвасу Доставило удовольствие сказать ей, что он хотел дать внуку в будущем, доверив ему управление всем, что имеется в Рибатежо, конечно не раньше, чем лет через пять. Мигел Жоан остался бы с имением Дона Торкато, которое он, Релвас, купил ему в подарок по случаю женитьбы, ну и еще с кое-какими землями Алентежо. Но теперь он повременит несколько годков, пока подрастет Антонио Диого — старший сын умершего Антонио Лусио, подождет, когда тот достигнет возраста, позволяющего иметь обязанности. Этот его не обманет, он уверен. Он — настоящий Релвас с головы до пят.
Эмилия Аделаиде ответила, как всегда:
— Ну что ж, тогда все к лучшему. Я бы не хотела видеть моего сына кормящим тех, кому по праву принадлежит этот дом в той же мере, что и ему.
— Вы забываете, что этот дом пока мой, и только мой! И я в нем что хочу, то и делаю…
— Я не знала, что вы способны назначить наследника по выбору…
— Это единственная возможность отдать лучшему должное. Во всех я не верю. Высшие места должны быть в руках лучших.
— Тогда я должна вас поблагодарить за те надежды, что возлагали вы на моего сына…
— Да, я в него верил.
— Это меня немало удивляет. Он же Араужо… и, следовательно, слабый.
— Ты первая это поняла и раньше других сказала об этом. — Он не называл ее Милан и не смотрел на нее прямо. — Я ждал, что он окажется настоящим Релвасом, — продолжал землевладелец.
— Хотелось бы знать, что вы вкладываете в это понятие — быть Релвасом. Мы ведь все-Релвасы, но такие разные!.. К тому же я не раз от вас слышала, что Вильяверде с большими дефектами. А ваши дети — и Релвасы и Вильяверде в одно и то же время…
— Да, это так…
— Вы обманулись во мне и в Антонио… Да и Мигел Жоан, похоже, тоже вам не по вкусу. Выходит, настоящая Релвас — это Мария до Пилар?!
Землевладелец разозлился.
— Не вызывайте меня на то, чтобы я сказал вам, что вы…
— Что я в вашем доме.
— Что вы должны уважать меня! — крикнул Диого Релвас.
— А я вас уважаю. Я только пытаюсь понять, действительно ли из-за безнравственной англичанки мой сын перестал быть вашим внуком…
— Я его предупреждал…
— А Марию до Пилар вы тоже предупреждали?
— Что вы хотите этим сказать? На что намекаете?! Я знаю, что она вам не нравится…
Они оба стояли на большом расстоянии друг от друга, но избегали встречаться взглядами.
— Я только хотела вам напомнить, что Мария до Пилар и англичанка были близкими подругами… И Зе Педро может кое-что рассказать вам об их дружбе.
— Дружба эта всем известна, и первому — мне…
— Не знаю, все ли вам известно…
— Так скажите то, что известно вам!
— Я не живу в этом доме. И говорю только о том, что вижу собственными глазами. И даже не обо всем, что вижу…
— Это правильно.
Он опустил голову и, заложив руки за спину, стал прохаживаться по комнате, глядя в выходившее на лес окно. Своим молчанием Диого Релвас давал понять, что не намерен выслушивать намеки и она может уйти. И тут же увидел, что дочь раскаивается в возникшей теперь враждебности, раскаивается, но любую попытку примириться подавляет. И все же он ждал, что она что-нибудь скажет.
Кто— то открыл дверь. Диого Релвас обернулся. Дочь уходила.
— Вы уходите?!
— Думаю, что мы все сказали друг другу.
— Нет, я сказал не все.
И, не испытывая прежней неловкости, он подошел к ней, чтобы сказать то, во что он теперь был посвящен.
— Избегайте… я не о себе забочусь… не о себе и не о вас… а о ваших детях.
— Что?!
— Избегайте быть притчей во языцех… Я получил письмо, в котором мне рассказывают…
На ее лице появилось презрительное выражение.
— Я не думала, что вы верите подметным письмам…
— Когда-то, что известно мне самому, становится общественным достоянием, верю. Вам лучше держаться подальше от общества графини…
— Я вполне способна сама решить вопрос о моих привязанностях.
— Тем лучше… Только решите и то, кому вы отдадите предпочтение — ей или своей семье, так как то и другое несовместимо.
Он видел ясно, что такого поворота Эмилия Аделаиде никак не ожидала. Она побледнела и занервничала. Что-то хотела возразить, но отцовский взгляд остановил ее. И только взявшись опять за ручку двери, она решилась:
— Открыли бы глаза на то, что творится у вас под носом.
Она почувствовала спиной, что отец бросился ей вслед, хотела было выскользнуть из комнаты, но решила не делать итого. Он протянул к ней руку.
— Вы запрещаете мне давать вам советы?…
Вопрос нес в себе издевку. Диого Рол вас слегка коснулся рукой ее щеки.
— Я запрещаю тебе быть низкой…
Он выставил ее за дверь и тут же заперся, представляя, как дочь идет по коридору. Диого Релвас знал, что теперь они встретятся только тогда, когда один из них будет на смертном одре.
Так вот: нет, не подгнивший плод отравлял и портил кровь Релваса, как поговаривали его недруги. А то же самое, что заставляло вырождаться институты и людей. И детей… даже детей! Что же еще уготовит ему господь?!
Глава VII КЛУБОК ПЕЧАЛЕЙ
Ну так что же творилось v него под носом?… Действительно, что творилось у него под носом, чего бы он не знал?! Может, то, что они хотели объединиться, чтобы он, оставшись в одиночестве, понял всю тщетность предпринятых им усилии, направленных только на то, чтобы их же уберечь от случайностей судьбы?!
Он драматизировал, это ясно. Все это возраст, да, всему виной возраст, с которым пришло и это удивительное болезненное удовольствие, получаемое от наносимых ему обид. Он допускал необходимость жертвовать, отражал, и не раз, атаки совести и всеми силами стремился властвовать над людьми и направлять события в нужное русло. Л для чего? Диого Релвас любил задаваться подобным вопросом. Да для того, чтобы осуществить свою мечту — иметь вокруг себя гордящихся им, признающих необходимость следовать его примеру детей и внуков, которые окружат его лаской, тогда как он спокойно будет стареть, видя в каждом из них продолжателя своего дела, за которое он боролся ради их же счастья.
И он был уверен, что продолжение его самого в детях и внуках будет достойным. Ведь дети и внуки — это он, Диого Релвас в будущем. И на веки веков… Он будет незримо присутствовать и в имении Алдебаран, и в «Благе божьем», и в делах животноводства и земледелия, и в памяти слуг-везде, где имя Релваса было меркой достоинства и мужества… Хотя находились и такие, кто считал его вором и тираном.
Начинал— то он один, пятнадцати лет от роду. И как же теперь приятно сознавать, что один!..
Его руки создавали все постепенно. Для них? Возможно, бессознательно, но для них. Он знал, что они появятся, и готов был, если бы данная богом жена оказалась бесплодной, развестись.
О своей неспособности в подобном деле он даже мысли не допускал…
Когда же родилась дочь, хотя он желал сына, сына, чтобы как можно скорее получить уверенность, что есть наследник рода Релвасов, рода, который не должен разменять эту фамилию, он укрепился в своих возможностях по этой части. Дочь родилась и одну из ноябрьских ночей. Это была удивительно непогожая ночь. Когда он услышал детский крик, то ворвался в комнату роженицы и стал целовать ей руки. Этого он не делал никогда. В тот год ему исполнилось двадцать четыре года. В исступлении бросился он к конюшне, сам оседлал серую кобылу — на всю жизнь он запомнил ее цвет и имя, то была Тирана — и без плаща, галопом пустился в ночь (знать бы, если 6 на то была воля божья, куда в такой-то час и потоп), и только в пути пришла ему в голову мысль ударить в колокол церкви Алдебарана, чтобы оповестить всех о празднике. Однако у дверей он вспомнил, что у него нет ключа. И вот, спешившись и оставив лошадь под навесом, он всей силой своих могучих плеч приналег на дверь: раз, два, трудно сказать сколько, до тех пор, пока она не поддалась. Ощупью он добрался до алтаря и зажег там все свечи, а потом под гулкие раскаты грома и вспышки молний, озарявших землю, полез на звонницу. И как сумел, так и зазвонил. Но самому ему казалось, что он звонит прекрасно!
И, видя перепуганный народ Алдебарана, совершенно убежденный, что его созывают по случаю пожара или какого другого несчастья, веселился. Потом закричал оттуда, сверху, но гроза помешала собравшимся внизу его услышать. Тогда он спустился вниз, так же быстро, как и поднялся. Неф был полон людей, а ризничий Тонио Решина шарил глазами по алтарю, совершенно убежденный, что в церкви побывала воровская шайка.
Когда же перед ними появился Диого Релвас, они услышали:
— Сеньора родила дочь!..
И, хлопнув по плечу кого-то стоящего рядом, он вскочил па лошадь и тем же галопом, раня в кровь бока Тираны, пустился в обратный путь. Следующие два дня был праздник. Зарезали и зажарили на вертеле четырех молодых бычков, выкатили две бочки вина и подали более тысячи хлебов…
А вот теперь Диого Релвас знал, что заговорит с этой дочерью только тогда, когда один из них будет при смерти, и может так статься, что не узнает того, кто вдруг припозднится приехать.
Он думал о Эмилии Аделаиде, своей Милан, и предполагал, что и она, так же как он, страдает и, возможно, даже, уронив белые и длинные руки на колени, не причесывает свои великолепные волосы. Наводнение унесло у него Антонио Лусио, но благодаря ему он в сыне увидел сына; теперь разве какое другое несчастье — может, смерть — вернет ему дочь.
Поначалу он считал, что состоявшийся между ними разговор оставит разве боль, не больше, от сознания, что дочь отдалилась. И все. Но только поначалу, пока не стал думать, что конец размолвке положит лишь смерть — как она теперь его заботила! — которая придет к одному из них. И так он думал до сих пор, думал неотступно, точно подобная идея стала навязчивой, она утомляла его, тем более что он не мог кому-либо излить душу, ведь любой счел бы его побежденным. А-а! И все потому, что ни один из них не уступил: ни он, ни Милан. Ему даже нравилось, что случилось именно так, а не иначе, ведь он увидел: Милан и он похожи друг на друга, как две капли воды. Нравилось и пугало, так как вряд ли Диого Релвас мог рассчитывать на то, что, когда ему вдруг захочется увидеть своих внуков, ну хотя бы того же Руя, это будет возможно… А как он себя хорошо чувствовал в ее лиссабонском доме! Сидя в приятной полутьме и в удобном кресле, которое с некоторых пор внуки считали его креслом, он поджидал прихода Леонор Марии, она напоминала ему жену тем же печальным взглядом, ласковым и диковатым, и сразу обижалась, если он, прежде чем поинтересоваться ее успехами в музыке, спрашивал о сестре. Позже появлялась Мария Тереза, величественная и неприступная, несмотря на свои двенадцать лет, и чуточку расстроенная, если замечала, что он не принес ей пакет со сластями. Правда, в последнее время они играли в одну и ту же игру: Диого Релвас прятал пакет с лакомством под крышку пианино; Мария Тереза, видя его руки пустыми, надувала губки, дед притягивал внучку к себе, гладил по голове и лицу и просил ее и Леонор Марию сыграть в четыре руки «Весенний вальс», который начинался так (тут он принимался напевать всем троим известную мелодию своим грубым голосом). Обе тут же начинали улыбаться, и в тот момент, когда Леонор открывала крышку, Тереза, увидев две дюжины безе, которые дед заблаговременно по телефону просил туда спрятать, кокетливо и мило гримасничая, вскрикивала. Диого Релвас вспоминал о том случае с луной, вставал с кресла и целовал их в макушки, чуть наклоняя их головы к своему тучному телу.
Теперь все его привязанности в Лиссабоне были утрачены: вначале он порвал с Розалией, теперь с дочерью и внуками. Оставались разве что вдовы умерших друзей.
А может, все-таки что-нибудь еще?!
Да, конечно, собрания Акционерного общества и Ассоциация земледельцев, всякие банковские дела и дела фирм, политические сплетни, с каждым разом все более и более гнусные из-за вмешательства в политическую жизнь страны республиканцев, ставших теперь сверхпатриотами — они же выступали против английских и немецких притязаний на португальские колонии; ну, еще всякие закулисные анекдоты или сплетни о королевском дворе, особенно после самоубийства Моузиньо де Албукерке [62]. Все вокруг, конечно, болтали об адюльтере, ни о чем больше… Ну и что, с кем это не случается?!
«Любовь кружит головы всем, даже героям… Даже старикам», — думал Диого Релвас о себе самом и наваждении, объявившемся в образе Капитолины — этого дьявола в юбке, который лишал его соображения, делал безумным, не иначе, а то разве бы он выгнал из Алдебарана своего внука, хоть и под предлогом шашней с англичанкой, по которой сходил с ума Мигел Жоан. Он вспоминал историю Мигела Жоана с бабой поденщика Зе Каретника и сравнивал решения, которые принял тогда и сейчас. Если бы не этот проклятый соблазн — Капитолина, и тот и другой случай можно было бы назвать заурядно постельными и нужно было бы отнестись к происшедшему с должным высокомерием, лишь напомнив внуку, что он забыл то уважение к дому, которое строго блюли Релвасы: им ведь вменялось в обязанность во избежание сплетен и интриг искать подобную любовь, если таковая потребуется, на стороне, подальше от дома и своих земель. К молодым, нарушающим заведенный порядок, следовало проявлять терпимость. Ведь любви учатся ежечасно, и чем женщин в молодые годы больше, тем лучше, если это не наносит ущерба семьям своего круга, к сожалению, уже изрядно выродившегося.
Кроме наказаний и нагоняев, которые были чем-то вроде отправляемой требы для мужской половины сеньоров Алдебарана, молодежь все-таки всегда старались понять, быть к ней снисходительными. И то, что он выгнал своего внука, говорит о его слабости. Диого Релвас понимал, что он стар, стар и ничтожен, раз докатился до того, что возжелал свою рабу. Да как задумал все это обставить!.. Увезти Капитолину в Лиссабон, чтобы там, вдали от дома, вволю наслаждаться любовью, тогда как именно там, в Лиссабоне, чего-чего, а девиц для любви хватало и в любой момент можно было получить ту, что приглянется… Хоть совсем юную, хоть постарше… И даже в полном согласии с требованиями вкуса к росту, полноте, цвету кожи и волос. Дело только за деньгами.
А может — старался он себя как-то оправдать, — может, существует какая-то тайная причина, почему он поступает так, а не иначе.
Он знал о поведении Эмилии Аделаиде по брошенным в подметном письме намекам и видел, как умолкали друзья, когда разговор касался его дочери, причем обычно упоминалась и всем известная графиня — прелюбодейка и интриганка, немало было скандалов, связанных с утонченным распутством, жрицей которого она была. Очень возможно, что многое присочинялось: воображение алкает пищи, а пищу нужно находить. Правдой было то, что последнее время дочь вела несколько странную жизнь. Но он старался не касаться этого вопроса, всеми силами скрывая, что это его волнует. А все потому, что не хотел ставить ее перед выбором, который в конце концов, хочет она того или нет, разоблачил бы ее.
Да и какое у него было основание считать, что это испугает Эмилию Аделаиде?!
Нет, видит бог, он предоставил ей самой возможность сделать выбор, фатально неизбежный для нее, пленницы собственных слов; но тут же, думая об этих словах, чувствовал холод неотвратимой достоверности. Раньше, бывало, он высокомерно заявлял: «Кроме смерти, все поправимо».
Теперь он понимал, что жил мифом, этим мифом, как и многими другими, только для того, чтобы заставлять себя не идти на компромиссы, чтобы поддерживать импульс живой, деятельной силы, что был его секретом. И то, что он устанавливал для других, должно было ими неукоснительно исполняться. Той же неукоснительности он держался и в отношениях с дочерью, считая, что в данном случае нужно ждать полного и совершенного раскаяния. Хотя то, что Эмилия Аделаиде не раскается, знал, и очень хорошо…
Они слепо любили друг друга, по меньшей мере он хотел в это верить, так что кто-нибудь из них да уступит. Любили друг друга и восхищались друг другом. И восхищение это не допускало, чтобы один из них оказался слабым. То был бы наихудший сигнал, сигнал смерти, которая непоправима… А-а! Но он — нет, не уступит, это точно!..
Теперь все дни и ночи напролет он проводил в Башне или спальне, стараясь вырвать, оторвать от сердца, точно мясо от костей, терзавшую его боль. «Ну прямо хищная птица!» — думал он про себя самого. Хотя внешне — он был в этом уверен — это никак не проявлялось. Разве выражение лица могло выдать. И вдруг в одну из этих ночей, лежа на жалком ложе в Башне четырех ветров и не без удовольствия разматывая клубок печалей, который все увеличивался и увеличивался, — а он-то, он-то надеялся, что наконец размотает его и отложит в сторону, — Диого Релвас прозрел, правда, прозрению этому способствовал состоявшийся их разговор с Эмилией Аделаиде, бросившей ему ту зацепившую его фразу, — с какой целью?! Неужели только затем, чтобы привести его в замешательство?! Она сказала приблизительно так: «Открыли бы глаза на то, что творится у вас под носом».
Так что же творится v него под носом?!
И почему ему нужно открывать глаза?… Да, открывать глаза?… Это ведь все равно, что услышать, что ты слеп. Стар и слеп.
Однако; даже будучи старым и слепым, он должен прекратить терзать себя раздумьями и действовать. Увидев его действующим, все — он был уверен — согнутся перед ним в поклоне.
Снаружи поднялся ветер. Налетев на Башню, он зазвенел стеклами ее окон.
«Да, согнутся, точно под ветром… Как сгибается пшеница, когда налетает ураган», — зло подумал он.
Глава VIII КЛУБОК ПЕЧАЛЕЙ ИЛИ ВЕТЕР В ПШЕНИЦЕ?…
И пусть никогда она не поднимется, точно прошел по ней один из его свирепейших быков. Один из тех, что были отобраны им для отправки на ярмарку в Севилью, гот, что потряс даже Хиральду [63], оставив по себе легенду в Андалузии. Он уж отдал все необходимые приказы, чтобы было именно так, а не иначе. Тем же поездом, — что повезут партию быков, в двух вагонах последуют и семь лошадей с фаэтоном, чтобы за неделю до открытия ярмарки они могли, получив хороший рацион, отдохнуть от путешествия. Сопровождать их будет Зе Педро и сын Атоугии — живчик, вполне пригодный для манежа. Диого Релвас приказал сшить для них новую форму пастухов, хотя обратил внимание, что это Зе Педро не обрадовало. Ему, похоже, хотелось выглядеть кабальеро, раз уж он участвовал в бое быков, сидя на лошади и держа поводья.
— Тебе не нравится одежда?… Находишь короткой? Объездчик лошадей опустил глаза.
— Или стыдишься быть пастухом?… Что, разучился говорить? Подними голову…
Зе Педро поднял смущенное лицо.
— Нет, сеньор…
— Вот потому-то с сегодняшнего дня ты будешь ходить в этой одежде всегда. Как ходил твой отец и твой дед…
Диого Релвас спокойно поглаживал бороду, но пальцы его слегка вздрагивали.
— Никогда не стыдись ни отца, ни матери. Но если такое случится… у тебя есть только один способ от них избавиться: оставить службу в моем доме.
Парень встрепенулся:
— Хозяин недоволен моей работой?
— Доволен. Работой доволен. Но что-то в тебе я вижу новое… какую-то перемену, что-то… Хочу сказать тебе, чтобы ты всегда помнил и никогда не забывал, — тому, что ты участвуешь в корридах, ты обязан мне. Помни это!..
— Я знаю.
— Я знаю, сеньор, — поправил его землевладелец.
— Я знаю, сеньор Диого, — повторил объездчик лошадей. Какое-то время землевладелец молчал, чтобы слуга осознал, что должен быть покорным. Потом взял в рот сигару, хорошо разжевал ее кончик, посмотрел на него, точно желал удостовериться в остроте еще крепких зубов, и снова заговорил:
— Ну, так лошади готовы к ярмарке? Все должно быть в наилучшем виде… — Тон его голоса теперь был иным, он говорил дружески и нежно. Хотя не без хитринки.
— Хуже всего обстоит дело с лошадью барышни. Она чуточку подбирает под себя ноги.
— Это почему же?
Зе Педро медлил с ответом.
— Барышня давно на ней не ездит… Это всегда плохо.
— Я займусь этим.
Землевладелец задумался, снова посмотрел на сигару, дым которой, похоже, занимал его. Он делал вид, что не обращает внимания на парня, тогда как на самом деле все время держал его на прицеле. Диого Релвас чувствовал его беспокойство. По всему видно, приказ каждый день ходить в форменной одежде тому был не по душе, но землевладелец понимал, что должен сбросить парня с пьедестала, на который сам же и возвел его. Пустое тщеславие возмущало Диого Релваса, хотя в то же время ему было приятно, что те, кто у него служит, кичатся принадлежностью к дому Релвасов. Ведь это своего рода оценка хорошего работника и согласия этого работника с хозяином.
Хозяин принялся ходить, но все время держал спину слуги в поле зрения. Почувствовав себя неловко, Зе Педро решил повернуться, но Диого Релвас удержал его:
— Стой так!
Релвас понимал, что, когда тот стоял спиной, он мог свободно наблюдать за ним, тогда как Зе Педро чувствовал себя скованно.
— Ты уже отослал на конюшню лошадь, на которой ездила англичанка? — неожиданно выстрелил в него Диого Релвас.
Зе Педро вздрогнул. Это не ускользнуло от зоркого хозяйского глаза.
— Да, сеньор, отослал, — ответил Зе Педро после минуты молчания.
— Сколько же времени ты держал ее на манеже?…
— Животное всегда, когда она на нем ездила, уставало… Не знаю, что за дьявол сидел в этой женщине…
Диого Релвас обернулся, видя поплывшую по лицу парня улыбку.
— Находишь это занятным?
— Нет, сеньор…
И он развел руками, точно испугался вопроса. Землевладельца вывело из себя поведение парня.
— Могу ли я узнать… Это не очень хорошо, но не заметил ли ты чего-либо между нею и моим внуком?
— Ничего…
Он продолжал спрашивать, явно чувствуя необходимость начатого разговора. И сверлил взглядом собеседника, выжидая, не отведет ли он свой.
— Ничего!.. А мне вот сказали, что ты много интересного можешь о ней рассказать. Что, это не так?…
Удивительная сухость связала язык Зе Педро, он задвигал губами и челюстями.
— Она каждый день бывала на манеже…
— Да. Почему же ты не говоришь — с Марией до Пилар? И ты много раз ездил с ней в лес…
— Мне было приказано за ней следовать.
— Кем?
— Барышней.
— Хорошо. Ты свободен.
Широким шагом объездчик лошадей двинулся к двери: было видно, что он хотел как можно скорей оказаться подальше от хозяина.
Но Диого Релвас задержал его.
— Послушай, Зе Педро! Позаботься о лошади, которую выбрала моя дочь, особенно внимательно. Я бы желал, чтобы она хорошо выглядела в Севилье. Может, жениха привезем оттуда. Если привезем, получишь премию.
Он подошел к парню.
— Что же касается англичанки, поройся в памяти. Мне ручались, что ты многое о ней знаешь…
— Должно быть, ручались те, кто хотел мне плохого, — пробормотал Зе Педро.
— Возможно.
Тут Диого Релвас положил на его плечо руку.
— Знаешь…
Он хотел было пригрозить ему тем же наказанием, которое обещал карлику, но взял себя в руки, подумав, что вспугнет дичь раньше срока, так ничего и не достигнув. Глаза парня ему не нравились.
И он отослал его прочь.
Подойдя к секретеру, он прочел им же самим составленную бумагу и вычеркнул первую фразу. Как известно, день начинается с утра. Потом он прочел следующее слово: Капитолина.
Дважды повторил он это имя, но уже тише и нерешительнее. «Так кого я зову к себе, отца или дочь? Или обоих? Нет, девушку нет, зачем она? Что я могу ей сейчас сказать?»
Диого Релвас закрыл окно и сел на софу. Он чувствовал себя неважно. Встал, запер дверь на ключ и растянулся на софе во всю длину, прикрыв ладонями лоб. К вискам ползла головная боль. Он стискивал их запястьями, стараясь преградить ей путь. В начале весны Диого Релвас всегда чувствовал себя истощенным, вернее, усталым. В ушах, точно маленькие молоточки, стучала кровь.
Он прилагал все усилия, чтобы вспомнить тот день, когда впервые обратил внимание на Капитолину, доискивался причины возникшего к ней влечения. Может, это произошло в день королевского визита? Ведь сам король спросил его… да, это именно так, спросил, кто эта малышка, которая так крутит бедрами? Одно очарование! «Не могли бы вы, Диого Релвас, объяснить, почему подлинное веселье можно видеть только в женщинах из народа?»
Очень похоже, что именно с того момента он и положил глаз на Капитолину.
Что, собственно, в ней такого, от чего он пришел в беспокойство? А может, подобными вопросами не стоит задаваться? Большинство в таком деле не видят сложностей: предлагают служанке место в господском доме, потом возникают отношения более близкие, ну, а все остальное приходит само собой, просто и обычно, потом же, когда это становится ненужным, наскучивает или по какой другой причине, рассчитывают: получи, девушка, что тебе причитается, а если продолжает быть нужным, подыскивают мужа, чтобы иметь под рукой, становятся крестным первенца, которого не оставляют своими заботами. Теперь он, пожалуй, начинал понимать это. И оправдывать. Хотя еще не одобрял, но и это придет со временем. У него же дети и внуки, перед которыми он должен держать ответ, хотя кое-кто из них того не заслуживает. Однако, что будет, если они последуют его примеру и совершат еще худшие безумства. Ну хотя бы то, что натворил, будучи неженатым, Мигел Жоан! Или Эмилия Аделаиде, думать о которой значило посыпать рану солью, и так болевшую от сознания, что дочь продолжает вращаться в кругу графини.
Да, надо позвать отца Капитолины. Так будет разумнее. Он ему скажет: «Тебе, должно быть, известны прогулки твоей дочери с моим внуком. Не делай такое лицо — это ни для кого не секрет. Весь этот месяц я ждал, что ты сам ко мне пожалуешь. Ведь тебе, именно тебе следовало придти ко мне. Мой внук — ребенок, а твоя дочь — вполне взрослая женщина. Я не совсем понимаю, что она от него хочет. Он в мужья еще не годится, это же ясно!.. Так что я решил вмешаться в это дело. И давай без причитаний и шума. Я не хочу ни того, ни другого. Подыскивай себе место и уходи. Не делай такого лица! Я требую уважения к своему дому!».
Да он скажет что-нибудь в таком роде, конечно в зависимости от того, как поведет себя ее отец. Но это же обман, обман самого себя, ведь чувства его были иными, и хуже всего, что этот обман приведет совсем не к тому, чего он хочет. Выставить их вон значило отречься от того, к чему он стремился. Но отрекаться от своих стремлений было не в правилах Диого Релваса. Вот и выходило, что Руй Диого толкал его на поражение. И все же Релвасы не свиньи, чтобы есть из одного корыта.
Нет, он поручит разрешить это дело управляющему имением. Так правильнее это ясно. Ведь не может он тратить столько времени на решение подобных дел!.. В этом сомневаться не приходится. Да, он старел. Но не телом, телом он еще молод. А вот мыслил он уже не так, как раньше. Не так ясно. Да и с трудом. Очень долго приглядывался к тому, что собирался осуществить, чему противостоять. К примеру, что касается этого бездельника Зе Ботто. Разве он достиг чего-либо тем, что припугнул его?! Конечно же, нет. Фабрику все равно стали строить. И как только она начнет действовать, лучшие работники подадутся в промышленность. Да и все остальные тоже. Есть проблемы, которые полумерой решить не дано.
Так может ли он верно оценить то, что происходит вокруг?!
Да, дочь его попала в цель, это так!
Тут он услышал шум въехавшего в ворота экипажа и, подойдя к окну, приоткрыл ставни и глянул из-под занавески. Мария до Пилар возвращалась из церкви. Вот и с ее замужеством он все время откладывал. А теперь эта странная болезнь: затворничество, нежелание ни с кем общаться.
Почему?
Врач не нашел должного объяснения ее недугу и согласился с доводами падре Алвина. Когда наука и религия приходят к одному и тому же заключению относительно здоровья — дело дрянь! И тот, и другой говорили, что ее нужно выдать замуж, и как можно скорее, хотя ей всего двадцать четыре года. К тому же он заметил, что она стала подвержена мистицизму. И это уж совсем его не радовало. Наоборот, очень беспокоило. Однако то, чего он боялся, не подтвердилось: в монастырь ее не тянуло. И даже в воскресные дни, когда сам Диого Релвас считал необходимым идти в церковь, Мария до Пилар всегда находила предлог, чтобы остаться дома, в своей комнате.
И опять он вернулся к мысли, что пора найти ей мужа, хотя совсем недавно отверг сделанный им самим список возможных претендентов. Он не преминул даже воспользоваться ярмаркой в Вила и пригласил к себе в дом двух встреченных там молодых людей. Однако сам же, присутствуя при их разговоре с дочерью, разочаровался в обоих. Умом она превосходила и того, и другого. В таком случае к чему может привести брак, в котором жена даст мужу сто очков вперед? Только к разводу, к скорому. А то и к еще к чему худшему…
К счастью Мария до Пилар сама находила себе развлечения. После родов жены Мигела в ней проснулась материнская страсть к чужим детям. Что ж, и на том спасибо. Теперь в имении «Мать солнца» Мария до Пилар была единственной женщиной, занимавшейся благотворительностью. Нет, она не опекала стариков, как, бывало, ее мать — Жоана Ролин Вильяверде. Их, похоже, Мария до Пилар не любила или забывала. А вот на новорожденных она тратила все имеющиеся у нее деньги, подчас доходя до абсурда. Так, некоторые новорожденные по ее милости были одеты в шелк. Диого Релвас помалкивал, не понимая причуд дочери, хотя нет-нет да обращал ее внимание, что она обходит своими заботами пожилых людей: это по его понятиям, нехорошо. И приводил в пример мать, которая в первую очередь помогала именно им. Когда он заговаривал о матери, Мария до Пилар тут же просила его рассказать о ней побольше. И хотя портрет матери стоял в комнате Марии до Пилар, она очень любила, когда отец описывал ее красоту, и, как правило, завершала разговор одной и той же фразой:
— По вашим словам, она еще красивее, так что ни мне, ни Эмилии Аделаиде с ней не сравниться.
Он ее не понимал. Женские штучки… Усложнят все, что только могут, усложнят, запутают так, что сам себя не узнаешь. И в этом пальма первенства принадлежала опять-таки Жоане Ролин Вильяверде.
Удивительным и непонятным было и безразличие Марии до Пилар к лошади, на которой она должна была ехать в Севилью. И вот как-то вечером за ужином он ее спросил:
— Вы больше не ездите верхом на Пламени?
Лошадь получила такое имя из-за отливающего красным цветом крупа.
— Да как-то все не выходит… Пламя — имя-то какое, не лошадь, а огонь. На днях…
— По часу вы должны на ней сидеть каждый день. Женщины Севильи в верховой езде не имеют себе равных. Я бы не хотел, чтобы вы ударили лицом в грязь…
Из ее ответа он понял, что ей безразлична поездка в Севилью.
— Тогда лучше не брать ни ее, ни вас.
— Как решите, отец…
Это вызвало его раздражение. Мария до Пилар не стремилась услышать от него нежность или снисходительное подбадривающее слово, как обычно. Занервничала и попросила разрешения выйти из-за стола, как только съела фрукты.
— Вы забываете, что у меня другого общества… нет. Это — эгоизм. И вы знаете, что мне никогда не доставляло удовольствия на вас сердиться. Так что… С завтрашнего дня каждый день на манеж…
Ему показалось, что ей это не понравилось.
— Может, на манеже вам что-то доставляет неприятность?
— Нет, да нет, ничего, — ответила она с готовностью отрицать. — Не могу ли спросить, кто вас поставил в известность?
— О чем?..
— О том, что я не бываю на манеже…
— Как кто? Зе Педро, конечно. Или у нас есть еще кто-то, кто ходит за лошадьми?
То, что Мария до Пилар услышала, ей понравилось, хотя она уж несколько месяцев не была на манеже и не думала о Зе Педро. Выражение ее лица изменилось, она почувствовала облегчение. Подошла к отцу, поцеловала его и попросила пойти с ней к Тежо.
Ночь манила. Из глубин леса вместе с мягким шуршанием листвы доносился терпкий аромат трав и цветов.
«И воспоминаний», — подумала Мария до Пилар.
Глава IX В КОТОРОЙ ЛЮБОВНИКИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВНОВЬ
Безмятежность ночи Мария до Пилар ощущала еще несколько часов, пока лежала без сна, открыв окно и взяв портрет матери к себе на подушку, о которую облокачивалась. Она уже и сама было подумывала вернуться на манеж, но предпочитала, чтоб это ей приказали. И отец приказал. Совсем хорошо. Теперь, когда зажила ее телесная и душевная рана, страх, что она родит ребенка, прошел. А после того, как она трижды присутствовала при родах, рассеялся и тот кошмар, что преследовал ее многие годы, как и воспоминания о той ночи, когда сестра и братья притащили ее в стоящий среди леса домик и заставляли признаться в убийстве матери, — они тоже рассеялись, утратили свою значимость, хотя и раньше оживлять их в памяти ей радости не доставляло. И как хорошо, что она так никому и не рассказала, чего от нее требовали сестра и братья. Теперь смерть как таковая ей была не страшна. Нет, желать ее она не желала. Но если вдруг о ней задумывалась, то уже не пугалась. Ведь никакого особого интереса ни к своей собственной жизни, которой стоило дорожить, ни к чему другому она не чувствовала. Гордилась собой, что сама сумела подавить ужас, который внушало ей появление на свет живого существа, что разорвала кольцо тоски, которое, как она предполагала, могло, задушив ее, положить конец ее жизни. Все это было признаком восстановления здоровья.
И она снова начала встречаться с Зе Педро, но не для любви, ведь та любовь, что выпала на ее долю, ничего не принесла ей. Да и ласкам детей, которые спешили к ней, как только видели ее закрытый экипаж на улицах Алдебарана, она отдавала предпочтение. Мужская же ласка тоже неплоха, если, разумеется, не влечет за собой смерть.
В прямоугольник окна упал сноп лунного света и, точно вдруг обнаружив Марию до Пилар, бросился к ее ногам. Свесившись с кровати, чтобы лучше видеть, она принялась рассматривать Рисунок на ковре, который устилал в ее комнате пол и был куплен, как она припоминала теперь, в день, когда ей исполнилось восемь лет, и она, вот так же свесившись с кровати и ведя пальцем по рисунку, отгадывала цвета. В тот день Брижида, как обычно, после того, как Марию до Пилар уложили спать, пришла ее проведать, но Мария до Пилар ничего, ничего не просила рассказывать, ни одной истории из всех тех, что Брижида знала и что были одна интереснее другой, и даже самой ее любимой — о принце, который увозил принцессу на лошади, а их кто-то преследовал — она не помнила кто, возможно ведьма, и как только опасность близилась, принц бросал то горсть соли — и тут же разливалось океан-море, го камень — и тут же вставали неприступные горы, а потом — горсть муки, и все вокруг заволакивало таким туманом, какого никто никогда не видывал. Это место сказки — про туман — ей особенно нравилось, она даже не знала почему.
Но в тот день, когда к ней вошла Брижида, она притворилась спящей и принялась храпеть, как мужик, которого она однажды видела лежащим под навесом, — лишь бы потом броситься на этот большой, усыпанный разноцветными цветами ковер, похожий на животное с мягкой-премягкой шкурой. И вот теперь ей захотелось повторить все, как было в тот вечер, и она спрыгнула на ковер и растянулась на нем так, чтобы лунный свет падал прямо на нее. Но она забыла, совсем забыла, что в тот далекий вечер она столько времени делала, лежа на ковре. Не вспомнив, она поднялась и подошла к окну.
Отец, должно быть, в Башне, так как окна Башни светились слабым желтоватым светом от лампы, с которой он обычно туда поднимался. Что он кш делал?… Она его пыталась об этом спрашивать, но то, что он ей отвечал, считала нелепостью. И спрашивала много раз, и просила взять с собой, но он не брал. Что там могло быть? Почему отец проводил там столько времени?
Часы Алдебарана пробили два ночи. Тут же послышался шум идущего вдали поезда. Должно быть, не пассажирский, так как окон не было видно, но свет от локомотива воспламенял небо. Или ночь, что вернее. И лес. Да, она обнаружила это, когда посмотрела в сторону леса, вспоминая его сумрак, который обычно производил на нее сильное впечатление. А еще вернее, воспламеняя все вокруг. Никогда она не чувствовала себя настолько спокойно внутренне. Нет, не совсем то. Никогда не чувствовала себя столь свободной, глядя на лес: он всегда довлел над ней, властвовал, готов был схватить ее и вести, куда ему вздумается, он казался ей туннелем, да, живым туннелем. И особенно удивительно, что, страшась его, она все же верхом на лошади углублялась в его чащу. Это было вроде наваждения. А может, искушения — кто знает? — искушения открыть сокровенную тайну леса.
Мария до Пилар улыбнулась. Эта ночь, похоже, для нее действительно была полна тайны. Бывают такие моменты!..
И она решила не задумываться ни над чем, препоручив себя времени, которое было лучшим и единственным лекарем всего, — это она хорошо знала и прибегала к его снадобью в трудные минуты, когда чувствовала, что не в силах ничего изменить. А время — время изменяло все.
От висевшего у входа в конюшню фонаря на землю лился слабый свет, очень похожий на лунный, который с каждой минутой становился ярче. Время от времени со стороны конюшни доносилось ржание и прочие звуки, они вызывали в ее воображении образ Зе Педро — худощавого и стройного, великолепно владеющего искусством верховой езды. Она не считала его своим любовником, хотя и испытывала удовольствие, видя Зе Педро на манеже или верхом на лошади. Быть же его любовницей — это, верно, что-то иное.
Когда же усталость взяла верх над Марией до Пилар, она вернулась на кровать, где, казалось, ждал ее все еще лежавший там портрет матери, переложила его на тумбочку и, перекрестившись, тут же уснула.
Проснулась она легко, почти счастливая, разве чуть поздновато — который же час? — и без обычной усталости последних ночей, которые, казалось, отнимали у нее все силы, точно лежать в постели было труднее, чем стоять на ногах, крикнула Ирию, попросила приготовить ей ванну до первого завтрака и подошла к шкафу, чтобы вынуть костюм амазонки. Следовало бы приобрести новый, который она наденет в Севилье: нужно поговорить с отцом о поездке в Лиссабон. Кстати, они смогли бы и в театр сходить после ужина в ресторане, в котором всегда ели традиционную паэлью. «Такую не приготовят даже в Испании», — ручался Диого Релвас, приглашая к столу друзей, а те в шутку, конечно, тоже ручались, что в конце года в карман землевладельца идет часть прибыли с доходов, полученных хозяином ресторана за это кушанье. Бывать с отцом в ресторане в кругу веселых, общительных людей Мария до Пилар любила. Ведь отец всегда был центром внимания, особенно когда принимался рассказывать свои побасенки о быках и лошадях. И каждый раз новые, кое-кто ему даже советовал: «Вам бы писать, Диого Релвас!» Отец радовался услышанному, но тут же снисходительно признавался, что если начнет писать, то все испортит, это точно. «Ведь нужно, чтобы все было так же живо, как я рассказываю. В этом-то вся загвоздка… Никто же не пишет так, как говорит, говорить и писать — вещи разные. Я, когда пишу, теряю естественность».
Рассказывал же он свои истории с блеском, как актер. И даже те, что, случалось, повторял, всегда звучали по-новому. Как, к примеру, та, из дедовских времен, о лошади, что искусала и забрыкала одного пастуха. И лошадь и пастух друг друга недолюбливали, и Птичка — так звали лошадь — припомнила пастуху его несправедливость. Эту историю Диого Релвас повторял специально, как бы отвечая тем землевладельцам, которые считали лошадь клячей.
На этих ужинах в ресторане, как правило, бывал двоюродный брат короля. Говорили, что он либерал и республиканец. Сам же он держался заносчиво, всегда рассказывал язвительные и остроумные анекдоты, не щадя аристократов. Будучи холостым, любил появляться на улице с женщинами из простонародья, мстя, как говорили, одной даме, что променяла его горячую любовь на холодную постель одного старого дипломата. Если брат короля бывал в хорошем расположении духа, то посылал слугу за гитарой в свой дворец, который находился в Атерро, и принимался петь здесь, в ресторане, до глубокой ночи песни собственного сочинения, среди которых одна, о цветах, пользовалась большим успехом.
— Можно и в театр не ходить! — признавалась Мария до Пилар.
Однако отец никогда не задерживался с ней до конца этого шумного праздника, хорошо зная момент, когда нужно уйти, так как финал, как правило, был всегда один и тот же — двоюродный брат короля бил фарфор и того, кто подвернется под руку, и до тех пор, пока не появлялась полиция, его уносили на закорках, а он, одержимый яростью, громко кричал своим грубым баритоном: «Да здравствует республика!» Диого Релвас избегал быть свидетелем подобных нелепых сцен фидалго. Забавно? Да, действительно забавно, но всему свои рамки. А тут никаких! «С души воротит», — говорил землевладелец.
Все это припоминала Мария до Пилар, точно желала заглушить другие воспоминания, готовые прийти на память теперь, когда она должна была вернуться на манеж. Однако другие воспоминания, как это ни странно, не приходили, и, видно, потому, что все связанное с последней встречей Марии до Пилар и Зе Педро ушло куда-то, рассеялось как дым. Теперь, когда она, уже почти уверовавшая в свою преступность, не считала любовь местью за смерть матери, ей казалось, что все, что произошло между ними, было кем-то рассказано, а не ею самой пережито. И ее больную память будоражило то, что было значительно раньше: встречи с мисс Карри, их тайные пирушки, то, о чем они говорили и что делали. Вот то, что тревожило ее сейчас, ведь вполне возможно, именно это рассказала мисс Карри объездчику лошадей, после того как тот стал ее любовником.
В конце концов, чего она опасалась?…
Прощаясь, воспитательница почти зло сказала ей: «Ты остаешься одна… Я, было, хотела написать твоему отцу обо всем, чем мы занимались, да пожалела тебя. Однако не знаю, может, еще и напишу. Молись, чтобы я встретила, и как можно скорее, замену нашему цыгану. Иначе… иначе мне захочется отомстить».
Только теперь Мария до Пилар нашла в себе силы припомнить слова, сказанные мисс Карри, как и физическую травму, нанесенную ей Зе Педро. И вот каждый день, в один и тот же час слыша рожок разносчика почты, она приходила в ужас и убегала, прячась у себя в комнате. От мисс Карри пришло письмо?…
Прошло несколько месяцев. Сколько? Ей не хотелось их считать. «Нет, должно быть, отцу не стала известна их тайна и никогда не станет, — думала она теперь, — разве что воспитательница доверила ее Зе Педро?» И это предположение заставляло ее бояться парня. Хотя при всем при том объездчик лошадей не перестал быть слугой в ее доме, слугой, которым она с детства, еще играя с ним в лошадки, повелевала. А в последнее время, когда Зе Педро вдруг приближался к ней — это случалось очень редко, — она, боясь быть разоблаченной, приходила в замешательство. И тут же, не сказав ни слова, уходила, скрывалась в своей комнате. Сейчас же она шла на встречу с ним. Шла, так как нуждалась в этом испытании.
Мертвенно-бледная и дрожащая от страха — только ей одной был известен державший ее в плену страх, — Мария до Пилар довольно быстро пересекла двор, который вел к конюшне. Завидев ее, сын Атоугии тут же хотел было бежать к манежу. Но она остановила его окриком. Потом подошла к нему и спросила:
— Ты что, получил приказ предупредить кого-то о моем приходе?
Стоя в дверях конюшни, карлик Таранта приветствовал ее; Мария до Пилар ответила кивком головы, что пресекло его желание подойти и заговорить с ней — конечно же униженно, это ее, как правило, и раздражало. Карлик домогался ее поддержки, желая заменить на манеже сына Атоугии кем-нибудь другим. Но она поняла, что это только восстановит отца парнишки против Таранты, и поспешила уйти, скрывшись в коридоре, ведущем к манежу, даже не слушая ответа парня, смущенного ее грозным тоном. Сумрак в коридоре подействовал на нее угнетающе, ей стало трудно дышать. На мгновение она заколебалась.
С манежа доносился четкий, но грустный голос Зе Педро. Потом он смолк. Объездчик лошадей должен был знать, что сегодня утром она возвращается на манеж. Мария до Пилар была почти уверена, что он обязательно напомнит ей их встречу в лесу. Но это только подтолкнуло ее вперед, заставило выйти на арену и крикнуть, чтобы отрезать возможность отступления:
— Все готово?!
Она поняла, что тон вопроса его изумил.
— Как себя чувствует Пламя? — спросила она все тем же тоном.
В одежде пастуха, которая снова была на Зе Педро, он чувствовал себя униженным. Никакой развязности и тем более бахвальства, хотя взгляд остался прежним, тем, который ей был знаком. Только теперь к Марии до Пилар вернулось спокойствие.
Схватив поводья, она ловко вскочила в седло, потом, уже сидя, оправила платье. Стоя возле лошади, Зе Педро пристально смотрел на нее, пытаясь понять ее поведение. И все-таки рискнул:
— Я думал, что вы не вернетесь…
— Хотела бы знать, почему же?
Она смотрела на него с презрением — возможно, чтобы сразить его им и не дать ответить.
— Тебе идет эта форма. Не снимай ее…
— Вы хотите, чтобы я ехал с вами?
— Нет…
И она пустила лошадь к выходу.
— Я надеюсь, Зе Педро, что ты свое место знаешь.
— Не совсем уверен… — посетовал парень, идя рядом и держа руку на крупе лошади.
— Ну так ты рискуешь потерять службу…
Одним прыжком Зе Педро оказался перед лошадью, крепко держа ее за узду. Он что-то хотел сказать ей, но в этот самый момент в ложе во весь рост встал Диого Релвас.
Землевладелец сделал гримасу, продолжая молча глядеть на обоих.
Мария до Пилар поприветствовала шляпой отца и направилась к выходу с манежа, заставив лошадь идти боком.
— Как вам это? — крикнула она отцу, продолжая выполнять фигуру.
— Плохо…
Тон ответа ей показался тоже плохим, голос отца был чужим. По меньшей мере чужим.
Чуть позже, уже в Севилье, Мария до Пилар призналась Зе Педро:
— В то утро, на манеже, помнишь. Я его испугалась… Мне хорошо знаком сердитый тон его голоса. Но на этот раз я, слава богу, ошиблась.
Глава X ОХОТА НА ЗАЙЦЕВ…
«Все мы ошибаемся» — думал несколько раздосадованный Мигел Жоан в го время, как его партнеры считали, что он обдумываем, не лучше ли с противоположного борта толкнуть своею и карамболем загнать шар в угол, чтобы потом начать новую серию карамболей, способную обеспечить ему двенадцать, победных очков. Если он промажет, то предоставит соперникам возможность закончить игру. Тогда шары достанутся этому слюнтяю Салгейро, двоюродному брату жены — лучшему кию из шести участников партии. Он мог бы сыграть в защиту, не рискуя: ему ведь достаточно было ударить по красному, который, отскочив, послал бы своего от двух бортов вплотную к третьему шару. Все просто, но есть риск, что свой еще раз столкнемся с красным и даст возможность Салгейро провести серию ударов, а тому достаточно шестнадцати очков, и все в порядке.
— Ты нервничаешь, — пошутил Филипп Менданья. поправляя пенсне на своем курносом носу.
— Реплики из публики запрещены. Слишком хороши трофеи! — сказал То Ролин, сын Форгунато, унаследовавший от отца стройность и склонность к жульничеству.
Мигел Жоан покосился на них и снова начал тереть мелом кончик кия, стараясь не думать о Марии до Пилар, которая продолжала стоять в дверях. Он ведь ее спросил: мы берем Зе Педро? А она ответила, что нет, зачем им Зе Педро? Ее ответ несколько поколебал его подозрения.
«Все мы ошибаемся», — подумал он еще раз, стараясь как можно крепче упереться левой рукой о поверхность стола. Он слегка повертел кий, прицеливаясь в шар, потом коротким тычком ударил по шару, послав его в нужном направлении. Красный ударился о левый борт и прошел под грудью игрока, который замер, с удовольствием глядя за движением шаров. Теперь шары были рядом с угловой лузой, спешить нельзя: ведь, если он сделает один за другим одиннадцать карамболей, партия выиграна, и не только у соперников, но и у партнеров. На шесть очков больше, чем у Салданьи, и на шестнадцать — чем у То Ролина, который пытался вывести его из равновесия, хотя победа Мигела Релваса давала тому возможность быть вторым в выборе партнерши для завтрашней охоты.
В другом зале дамы ожидали результата розыгрыша. За ужином пришли к решению, что травить зайцев будут попарно и каждая пара с двумя собаками, не больше, с тем чтобы продлить удовольствие и не переловить всех зайцев сразу. Каждая последующая пара будет идти на расстоянии двадцати пяти метров от предыдущей, и эту дистанцию надлежит держать в течение всей охоты, тогда как слуги, которым положено вести борзых, двинутся неспешным шагом, чтобы не создавать большого шума и беспорядка.
Вот Салгейро и предложил, чтобы выбор партнерш был разыгран на бильярде. Шестеро мужчин должны были разделиться на две группы, и на долю той, которая выиграет, выпадает право выбирать первой, внутри же групп предпочтение отдается тому, кто карамболями обеспечит победу группы. Мигел Жоан теперь играл по принципу «все или ничего».
Всем для Мигела Жоана была в данный момент Жулиана Кинтела, муж которой находился в Лоуренсо-Маркесе, где определял границы владений Компании, что была создана в Лиссабоне на немецкие и французские капиталы и частично португальские, которые предоставил некий лиссабонский банк, решивший занять в колониях передовую позицию. Тоскующая по мужу Жулиана старалась забыться в кругу ухаживающих за ней мужчин, которых держала на своей орбите, как говорил Себастьян Телес — заносчивый петух с усами а ля кайзер, что по его понятиям было символом мужественности.
Пальцы Релваса дрожали сильнее по мере того, как он приближался к цели, хотя всеми силами он старался показать, что выигрыш его не волнует, и даже принялся заказывать игру, чтобы никто не думал, что хоть один из шаров был забит случайно, а все заранее рассчитано, как и этот удар белым от шара в лузу. Удар принес ему успех, и он продолжал говорить, хотя уже понял, что его многословие надоело Салгейро, одному из претендентов на руку Марии до Пилар, согласно прожектам отца, вместе с которым он договорился решить наконец проблему замужества сестры как можно скорее. Теперь он частенько собирал у себя, и с успехом, некоторых молодых людей, способных понравиться Диого Релвасу, раз уж Мария до Пилар была склонна к безбрачию.
У самого же Мигела Жоана планы были иные. Однако сейчас его занимали недостающие ему два карамболя, и это было главное. Он мечтал оказаться наедине с Жулиньей Кинтела и лучшего дня, чем завтрашний, просто не видел, тем более что понял — она согласна. Совсем легонько он толкнул шар, так что задетый им второй только дрогнул, а свой стукнул красный, стукнул очень удачно, и, откатившись к борту, тихонько пошел навстречу белому. Партнеры в восторге от победы зааплодировали и застучали киями по полу.
— Стоит ли продолжать? — заносчиво спросил Мигел Жоан.
— Играйте до конца, — сказал Филипп Менданья и шутливо, и зло.
— Если бы мой сын не спал, я бы позвал его закончить… Мария до Пилар улыбалась ему. Он ответил сестре кивком головы и снова вспомнил, что рассказал ему сын Атоугии о ней и Зе Педро. Так был ли искренним ответ Марии до Пилар?!
Он обошел бильярд, выбирая наиболее удобное положение, чтобы закончить игру.
— Это для новичка…
Мигел с высокомерием подкрутил ус — теперь он носил усы, как погибший Антонио Аусио, — и ответил:
— Для маркера все карамболи одинаковы, старина. И решают дело мои партнеры: ну, так заканчивать партию просто или?…
Между Бонфином и мужем одной из родственниц со стороны Вильяверде — Констансы Изабел, красавицы лет сорока, грудь которой Мигел Жоан называл не иначе как «алтарь родины», — и То Ролином возникли разногласия. И опять же принимать решение должен был Мигел Жоан. Он вернулся к тому борту бильярда, где стояли три тара, и стал готовиться послать своего, который должен был стукнуться о противоположный угол и сыграть в два борта. Мигел Жоан представлял весь ход игры на зеленом поле, но, когда стал заказывать карамболь, передумал. Что-то вдруг его забеспокоило. И он решил сыграть там, где был верняк, но тут же вернулся и под дружно повторенное постукивание партнеров киями и комментарии противников разыграл уже продуманную комбинацию.
Мария до Пилар объявила дамам результат игры.
— Передайте мужчинам, что объединяться мужу с женой запрещено, — крикнула Кинтела, великолепно выглядевшая в платье цвета увядшей розы с глубоким вырезом, обнажившим ее фарфоровые груди. «Ну просто севрский фарфор!» — отмечал лакомка Ролин-сын.
Стоящие вокруг бильярда мужчины услышали многообещающий запрет и приняли этот приятный запрет к сведению. «Уже знают результат», — сказал Мигел Жоан, и тут же всем стало ясно, кого он наметил себе в пару, чтобы гнать первого зайца, который будет обнаружен в Лезирии. То Ролин вынужден был, согласно этикету, выбрать хозяйку дома, он сделал это не без раздражения, хотя Изабел Салгейро Перейра Релвас была и хорошей наездницей, и приятной собеседницей, и даже без предрассудков, она любила пикантные анекдоты, которые ее мужа приводили в ярость. Намеченный план нарушил Бонфин: он выбрал Марию до Пилар, хотя знал, что Релвасы предпочитали, чтобы она досталась Киму Салгейро.
После состоявшегося разбора дам был устроен маленький концерт. Хозяйка дома сыграла Шуберта, а жена Бонфина, пышнотелая особа, ответила ей Шопеном, чтобы романтизмом исполнения и страстью музыки скрасить свою всем известную супружескую строгость. Бонфин вынужден был исполнить романс, хотя и сослался на боль в горле. Потом То Ролин предложил фадо, опять же на пианино, выговаривая Мигелу Жоану за то, что в его доме нет ни гитары, ни виолы.
— Это же, позволь тебе сказать, настоящее предательство Рибатежо.
Мария до Пилар вызвалась ему аккомпанировать.
Только около полуночи Мигел Жоан поехал проводить Марию до Пилар в имение «Мать Солнца». Они ехали вдвоем, хотя Менданья и Телес поспешили предложить свои услуги. После прошедшего вечером дождя ночь была прохладной.
— Ну, и?… — спросил Мигел.
— Что, ну и?…
— Развлеклись хоть немного?
— Развлеклась.
— Как вам показался Телес?
— Хороший молодой человек… Все хорошие… Но ведь совсем не это вы хотели меня спросить. Так говорите откровенно, что именно вас интересует.
— Да. Так вот я хотел бы знать ваше мнение о Киме Салгейро.
— Хороший…
— О, это уже что-то.
— Я сказала, что все молодые люди хорошие.
Цоканье лошадиных копыт отдавалось в ночной тишине. Хотя Мигел Жоан и вошел в соглашение с отцом, он не забывал о союзе с самим собой. У него были свои планы — это ясно. Теперь, когда сын Эмилии Аделаиде изгнан из имения, а двое других внуков — дети Марии Луизы Сампейо Андраде были тоже в стороне, он имел свои виды на будущее дома Релвасов, несмотря на то что его отпрыску шел всего лишь второй годик.
— Так вы действительно не думаете выходить замуж?
— Я никогда не допускала возможности остаться только теткой, — ответила Мария до Пилар после некоторого колебания. Она поняла, что не должна показывать неприятие брака.
— Хорошо делаете, что не торопитесь, — сказал Мигел и добавил: — Надеюсь, что сказанное мною не дойдет до отца…
— Он считает, что я несчастна. Так что подчас его заботы о моем браке меня волнуют. Придет день, и я с удовольствием выйду замуж. Но я надеюсь полюбить…
Мигел Жоан подстегнул лошадей.
— Этого еще не случалось?
— Когда мне было одиннадцать. Не спрашивайте, кто это был, теперь он мне безразличен… Да, я была влюблена. Это было и ужасно, и прекрасно в одно и то же время.
— Отец приказал мне найти вам мужа.
— Я знаю это и не собираюсь причинять вам неприятности. Если вы сочтете кандидатуру брата Изабел подходящей, я могу выказать к нему интерес. Наверное, это уж не такая плохая партия, — добавила она иронически. — Земли в Алентежо, страховые общества, инспекционный совет компании по производству спичек…
— А в наших руках — акции компании «Табак», — пошутил он ей в тон. — Но будет лучше, если отец не вспомнит об этом, потому что спичечные компании угрожают теперь табачным. И война объявлена не на живот, а на смерть. И отец в бешенстве.
— Для меня-то брат Изабел — просто дурак. А я желала бы выйти замуж по любви.
— Согласен. И считаю это разумным. И даже защищал подобную позицию, беседуя с отцом.
— Спасибо, Мигел. — Она улыбнулась, спрягав улыбку в ворот пальто. — Салгейро — дурак, То Ролин — туп и способен завести гарем, в котором будут все женщины Алдебарана… Телес… Телес — вешалка для усов…
Мигел рассмеялся удачной шутке.
— Ну что ж, вы ведете себя верно. И есть еще время, — добавил он, когда коляска въезжала в ворота отцовского дома и Жоакин Таранта бежал им навстречу.
— Так поговорим о Киме Салгейро… Его вы находите хорошим?…
Теперь намерения брата ей были понятны. Она могла рассчитывать на его поддержку и длить свое безбрачие хоть до отцовской смерти — конечно же, она ее не желала. А дальше сама жизнь покажет…
— Так в шесть утра на берегу Тежо, — напомнил ей Мигел Жоан. — А отец к нам присоединится, не знаете?
— Думаю, что нет…
Так берите с собой Зе Педро. Он хорошо ездит на лошади…
— Почему Зе Педро, Мигел? Он уже и так зазнался. Отец правильно сделал, заставив его надеть форму пастуха. От этого он совсем обезумел!.. Должно быть, чувствует себя оскорбленным.
Сказанное несколько успокоило Мигела Жоана.
В шесть утра Мария до Пилар была на пристани. Однако, кроме двух лодок, да лодочников, там никого не оказалось. По их мнению, несколько прохладное утро и ветерок предвещали ясную погоду.
На Марии до Пилар был купленный на ярмарке в Севилье черный жакет, отороченный бархатом, и кордовская шляпа с загнутыми вверх маленькими полями, приобретенная там же. Мария до Пилар знала, что была красива. Именно это сказал ей Зе Педро, когда она утром шла мимо манежа и, сочтя, что отец еще спит, задержалась там на четверть часика. Губы ее до сих пор хранили вкус поцелуев объездчика лошадей, а подбородок горел, даже болел от его небритых щек. Она готова была вернуться и отдаться ему прямо там, на манеже, как это уже не раз случалось.
Однако сдержала себя, приказала взять лошадь на бот, который будет перевозить животных, и пешком стала подниматься на высокий берег реки, придерживая руками кружева юбки, чтобы не зацепиться за кустарник, росший по бокам тропинки, что шла через тростниковые заросли, где уже начала петь проснувшаяся птичья стая. Пройтись пешком Мария до Пилар решила для того, чтобы хоть как-то охладить желание снова быть с Зе Педро. Похоже, окружающие что-то заподозрили. Во всяком случае, слова брата говорили именно за это, хотя она и схитрила, посмеявшись над тщеславием любовника. Любить? Нет, она его не любила, возможно потому, что они были такими разными. Во-первых, происхождение — это ясно. Ведь об их женитьбе и речи быть не могло — это абсурдно, но ей нравилось ласкать его, потому что он был красив, красивый волк, как называли они с мисс Карри стройного и худощавого Зе Педро, стройность его особенно подчеркивал пастушеский костюм, перепоясанный на бедрах кушаком. Она уже сказала ему, что отец приказал ей возобновить посещение манежа, но он не повеселел от услышанного. Теперь это был печальный араб — так она его называла.
Любить — дело иное: ведь бывали моменты, когда ей казалось, что между ними совсем ничего нет, она его отвергала, отшвыривала, как делают с растениями, которые вдруг увядают; теперь их связь ее не пугала, нет: она не боялась его и не очень увлекалась им. Как-то, когда Диого Релвас и Мигел Жоан отбыли в Алентежо на три дня, Зе Педро именно это и сказал ей вечером в лесу.
На горизонте уже брезжил рассвет, когда она услышала топот лошадиных копыт. Однако узнать всадников она сумела только тогда, когда те приблизились. Прибыли все, сразу. Впереди в компании свояченицы ехал То Ролин, оба на черных лошадях. То Ролин поприветствовал Марию до Пилар, назвав ее по имени и помахав рукой. И тут же поспешил объяснить, что опоздали они по вине Телеса, разволновавшегося из-за куртки, куртки жемчужного цвета, которая была специально сшита для охоты, а теперь забыта дома. Какого труда стоило — чуть ли не конгресс созвали, чтобы убедить его ехать в том, в чем он был.
Мария до Пилар улыбнулась брату, как только увидела его и его партнершу Жулинью Кинтела, сияющую и гордую своим роскошным костюмом амазонки, сшитым в английском стиле. Похоже, они были вполне довольны друг другом, что, собственно, изумления не вызывало; Мигел Жоан был красив, хорошо сидел в седле и умел держаться с достоинством.
— А говорили, ровно в шесть!.. Спросите шкипера. Уже половина седьмого.
— Телес…
— Теперь Телес будет всему виною, и даже желания каждого из вас поспать.
Подъехал еще один поклонник Марии до Пилар, гак и не сумевший сказать ей, как он мечтал о ней последние две недели. Он спрыгнул с лошади, чтобы продемонстрировать свою ловкость, но тут же пожаловался на вывих, поспешив сразу же забыть о нем, чтобы не выглядеть несчастным в прекрасных глазах Релвас, о которых он уже говорил за вчерашним ужином. «Глаза чистого золота!» — заключил он в экстазе, на что в ответ Мария до Пилар пошутила, приняв жалобный вид человека, чьи глаза стоят целый фунт — подумайте только, целый фунт.
— Обменяйтесь со мной своей партнершей, Нонфин, — попросил Телес Кабрал, отведя его в сторону.
— Не соглашусь, даже если вы мне отдадите свое имение в Келуш. [64]
— Вы, Жоан Бонфин, преувеличиваете!
— Нисколько. Судьба есть судьба! И я к ней отношусь с большим вниманием. Для меня она больше, чем законы.
Лошади были уже на боте, который, как утверждал шкипер, крупный мужчина, прибывший накануне из Вила-Франки, под парусом скорее дойдет до противоположного берега. Чтобы не мять свои новые костюмы, все, кроме Телеса Кабрала, сидевшего на носу бота в старом костюме, ехали стоя.
— Чудо! Чудо! — восклицал Филип Менданья, стоявший рядом с Констансой Бонфин, — он обращал всеобщее внимание на одетые в осенний убор берега. — Золотая стена! Мы едем среди изумруда и золота. Восход солнца на середине реки будет опьяняющим.
— Осторожно, смотрите, чтобы, опьянев, вы не свалились за борт, — посоветовал То Ролин презрительно.
Только если вы меня столкнете…
— Нет, это нет, я не способен искупать вас.
— А вы все умеете плавать? — спросила вдруг Жулинья Кинтела.
Как выяснилось позже, плавать умели только двое мужчин из всех находящихся на борту. Жулинья Кинтела тут же принялась рассказывать Мигелу и его жене, которая уже почуяла опасность, грозившую ее семейному счастью, что как-то в Каскайсе она три часа провела в воде. Это было истинное удовольствие.
На другом берегу их поджидала группа пастухов Релваса. Слышался лай борзых, скрытых высокой дамбой. Ища подходящего места, где бы спокойно на берег могли сойти лошади, шкипер повел бог вверх по течению, но тут же решил вернуться к только что сделанному тремя пастухами причалу. В знак почтения зеленые капюшоны пастухов были откинуты. Салса был среди них; его ветчинно-розовое лицо оттеняли почти белые бакенбарды. Он уже интересовался, не едет ли Диого Релвас: накануне он говорил, что поедет, появится на причале в последний момент, чтобы сделать сюрприз своим детям. Может, заболел?!
И как только Мигел Жоан спрыгнул на землю, Салса осведомился о здоровье хозяина, для которого по его же воле привез коня.
— Нет, благодарение богу, не заболел. Барышня Мария до Пилар едет из дому, но, похоже, никаких таких новостей не везет.
Между тем Мигел Релвас считал, что отец нарочно сказал Салсе, что приедет, так как этим хотел заставить его быть особо внимательным к организуемой охоте. У отца мания, что уважают только его и без него все в доме перевернется вверх дном. Если бы это было так, то конец света следовало ждать в тот день, когда он умрет.
Едва дамы и кавалеры появились на дамбе, свора борзых пришла в волнение, чуя, что предстоит свободная травля. Борзым очень хотелось быть спущенными с поводков, и они нюхали землю и травы, подвывая и скуля. Державшие их слуги с трудом справлялись с собачьим нетерпением, ожидая приказа хозяев.
В это время года Лезирия выглядела выжженной равниной, что особенно подчеркивала зелень, растущая по рукавам речушек и канав; тростниковые домишки и соломенные сараи конусами возвышались над ней, обнаруживая присутствие человека, что не сразу видел глаз. Здесь рядом и дальше виднелись пасущиеся стада и слышался печальный звон колокольчиков.
Охотниками было принято решение двигаться на юг в сторону Понта-де-Ерва. Разбившись на пары в соответствии с состоявшимся накануне выбором, они выстроились в шеренгу, которую из-за неопытности одних или горячности других, боявшихся отстать от тех, кто шел во главе группы, держать было трудно. Жулинья Кинтела, казалось, была недовольна доставшейся ей лошадью: почувствовав неуверенную руку, животное сделалось норовистым, оно ржало и отказывалось повиноваться. Уговаривая лошадь и похлопывая ее по крупу, Мигел Жоан помогал своей даме. Потом решил обменяться с ней и, сев на мятежную, преподал ей урок, сильно натягивая удила и давая шпоры. Оторвавшись от едущих за ними пар, он заставил лошадь перейти с шага на рысь и наоборот, потом пойти боком, все время держа голову вверх, и даже пустил в галоп до самого рва, где поднял на дыбы, и, развернув, принудил вернуться шагом, выбрасывая передние ноги, одетые в белую шерсть, — пятна, которые все время мелькали у него перед глазами.
— Попробуйте теперь, — сказал он Жулинье Кинтела, спрыгнув с седла.
Наездница вняла его совету крепко держать поводья, и лошадь стала послушной, хотя вначале все же поартачилась.
По приказу Мигела Жоана один из слуг спустил двух собак, которые судорожно стали обнюхивать землю — скорее по привычке, чем по службе, — потому что теперь они жаждали получить удовольствие от свободы, в то время как другие лаяли, все еще будучи на привязи. Мигел Жоан и его дама отделились от ряда, и, как только отошли на предусмотренную дистанцию, разговор опять пошел на ту же тему, что и перед отъездом на охоту: где и когда он смог бы с ней увидеться в Лиссабоне?… И чтобы она не говорила, что это может случиться только в час лунного затмения…
Жулинья Кинтела делала вид, что поглощена борзыми, но улыбалась, припоминая ревнивые подозрения, зашевелившиеся в сознании Изабел, которая шла следом в компании То Ролина — этого животного, которое она, Жулинья, пожалуй, предпочла бы иметь рядом с собой. Ей импонировал его развязный язык и манера держаться, вернее, отсутствие манер, как говорил Менданья, выведенный из себя комментариями То Ролина по поводу его восхищения волшебством утра.
— Вы отказываете мне в дружбе, Жулинья? — не отступал Релвас.
— Я готова дать вам ее.
— Так пригласите меня на чашку чая к себе… без Изабел, конечно. Я желал бы вас видеть каждую неделю.
— А я бы каждый день, — язвительно кольнула его она.
И тут, когда на горизонте засияло солнце, одна борзая подняла зайца, и заяц, преследуемый собаками и наездниками, которые окриками подгоняли собак, желающих настичь жертву, припустил по дороге большими скачками, ища, куда бы скрыться. Борзые почти нагоняли зайца, одна даже коснулась его лап, когда тот неожиданно отскочил в сторону и на какую-то долю секунды замер, чтобы получить возможность изменить направление, оставив собак с носом. Другая, рассвирепев от обмана, последовала за ним, высоко прыгая и мягко вытягиваясь. С вставшей дыбом шерстью заяц петлял, уходя в сторону канавы, где он видел спасительные кусты и траву, которые могли стать неплохим укрытием, но тут одна борзая настигла его и поддала ему с такой силой, что он покатился совсем в другом направлении; за ним ринулись собаки, однако охотники, едущие впереди, вернули их на прежний путь. Жулинья Кинтела была возбуждена, она дрожала, захваченная схваткой, кричала, кричала громче всех.
Мигел Жоан предупредил ее, что впереди канава и она должна быть готова ее перепрыгнуть. Заяц бежал именно к канаве и, похоже, именно там надеялся спрятаться. Какая-то минута — и он бы был таков. Борзые, казалось, почуяли опасность потерять добычу и увеличили скорость: чья возьмет? И вдруг разом исчезли в зарослях, и только спустя какое-то время растерянные, принюхивающиеся и лающие на обманувшего их зайца, след которого простыл, собаки появились вновь. И тут, в этот самый момент, прежде чем кто-либо успел заметить и вскрикнуть, спутница Мигела Жоана полетела в канаву. Мигел Жоан испугался, так как все это время был заворожен заячьей хитростью, которая почти спасла зверька или дала передышку. Все спешились, последовав примеру То Ролина, который полез в воду, чтобы вытащить потерявшую сознание Жулинью, тогда как пастухи прикладывали все усилия, чтобы вытащить переломавшую ноги, увязшую в иле лошадь.
Свора собак яростно лаяла.
Приняв нежданно-негаданно грязевую ванну, наездница жаловалась на руку. Она была бледна, хотела пить, да, ее мучила жажда. Пришлось отвезти ее в хижину одного сторожа, где ей дали тростниковой водки. Все остальные хотели продолжить охоту, хотя пары расстроились, так как Мигел Жоан считал своим долгом сопровождать пострадавшую спутницу, а То Ролин, побуждаемый настойчивостью жены Мигела Жоана, признал, что это его обязанность, раз уж он первым оказал помощь Жулинье, вынеся ее из канавы. Жертва больше не жеманничала, понимая, что смешна и дурно пахнет, однако этот случай сослужит еще свою службу в Лиссабоне, когда она будет его пересказывать, присочиняя так, как умеет только она. Но теперь о той было думать рано. Жулинья дрожала от купания в холодной и гнилой воде, привлекающей москитов и слепней.
Нет, возвращаться домой Мигел считал неразумным: на то потребовался бы час, не меньше, а Жулинья простыла бы и получила пневмонию, к такому выводу пришла и Констанса Бонфин. Кто-нибудь должен раздеться и предложить ей свою одежду, может, чья и подойдет.
Мария до Пилар быстрее всех нашла выход из положения. Она приказала одному из пастухов снять форму, да, зайти за кусты и снять, а потом принести в хижину, где Жулинью пока укрыли нашедшейся в доме сторожа волчьей шкурой.
Все остальные обсуждали возможность продолжать охоту. Спрятавшийся в кустах заяц все еще дрожал, хотя собаки лаяли теперь совсем в другой стороне.
Глава XI …И НА ЖЕНЩИН
Из жертв и охотников этой травли на зайцев, пожалуй, борзые больше всех могли пожаловаться на сорвавшееся удовольствие побыть на свежем воздухе: хозяева застряли в хижине из-за заносчивой и изнеженной Жулиньи Кинтела.
Ведь, кроме двух собак, тех, что сопровождали Мигела Жоана и Жулинью, ни одну не спустили с повода, а им так не терпелось получить свободу и гнать зайца под окрики и свист охотников, вознаграждающих их усердие лакомствами. Зато в заячье царство вернулся спугнутый было покой.
Возможно, именно поэтому собаки так много лаяли, лаяли и скулили, вынудив наконец Мигела Жоана приказать отослать их в дальнюю псарню, особенно после того, как одна рыжая сука принялась выть, что привело в полный ужас пострадавшую наездницу: она сочла этот вой плохой приметой, накликающей скорую и ужасную смерть. Жулинья тут же, как только борзая завыла, бросилась на покрытые циновкой нары и с головой спряталась под волчьей шкурой, и ничто, даже обилие блох, не принудило ее в этот праздничный день покинуть столь странное укрытие, в которое к тому же проникла одна воровская рука, что-то искавшая на груди дамы — без сомнения, очень важное, о чем говорила жадность пальцев.
— Собак уже нет, их увели, — прошептал ей томный голос.
— А рука? — тем же томным голосом спросила уже улыбавшаяся Жулинья.
— Рука просит разрешения остаться…
Но как только кто-то, появившийся на пороге, произнес: «Мы в Рибатежо, Жулинья. Не забывайтесь», — рука тут же исчезла и голоса смолкли.
То была Изабел Салгейро. Появившись в несколько неподходящий момент, она смотрела на раздосадованного мужа.
— Здесь все трусы должны держать себя как храбрецы, — продолжала она, не смущаясь. — Поднимайтесь, сделайте над собой усилие… Мигел Жоан очень опечален вашим состоянием. Отнеситесь к нему с сочувствием.
Дамы разделили между собой блошиное расположение, чувствуя, как блохи впиваются им в бедра в том самом месте, где предназначенное для верховой езды платье особенно плотно прилегало. И это, пожалуй, больше, чем что-нибудь, заставило Жулинью, которой предлагали руку помощи, подняться и выйти из хижины.
Свежий утренний воздух успокоил ее. Напоил кровь кислородом.
— Как эти блохи прожорливы. Они просто съели меня… Став невольным свидетелем разговора, состоявшегося между дамами, которые решили дать возможность и Констансе Бонфин разделить это кровопускание, То Ролин отпустил шутку: «Хижина эта типична, очень типична, нужно обязательно побывать в ней, чтобы понять происхождение всех па фанданго».
— Теперь я твердо уверена, что способна исполнить фанданго, — сказала, почесываясь, но уже улыбаясь, Жулинья. Но как только вышла Изабел, с ужасом оглядывавшая свою блузку, которую осаждали насекомые, нервы Жулиньи сдали и она принялась хохотать, подпрыгивая на скамье, которую ей предложили для отдыха. Страх как рукой сняло.
Потом она пришла в восторг от надетой на нее пастушеской одежды, припомнив Дона Мигела, своего короля, — настоящего, подлинного монарха крупных землевладельцев, который столько раз появлялся в одежде пастуха среди здешнего народа, безумно радовавшегося, потому что король шел во главе стада быков на скотный двор или арену, где его величество выступал в качестве форкадо, бросавшегося, правда под присмотром пастухов, на рога быку. Португальский трон, если бы не мания людей во всем быть одинаковыми, должен бы быть на вольном воздухе, в поле, или вовсе заменен конем, говорила Жулинья Бонфину, потомственному либералу по происхождению и убеждениям, который, молча, думал: «Прямое назначение красивой женщины — постель, особенно такой темпераментной, как Жулинья!»
Своенравная Жулинья высказалась против того, чтобы завтрак был подан где-то в другом месте. Почему же, здесь так симпатично, и они вроде бы стали бедными, без гроша за душой, и оторванными от всего мира; она даже предпочитала есть то, что найдется в этой хижине, словом — попробовать настоящий завтрак лезирийца.
Мужчины были с ней согласны.
Как хозяин, Релвас счел необходимым удовлетворить желание каждого, для чего и послал двух слуг на поиски настоящего завтрака для тех, кто не разделял нелепых вкусов Кинтелы, никогда не упускавшей случая показать свою экстравагантность. То Ролина заботило только, чтобы было вино, белое и красное, и, конечно же, багасейра [65] а не вода, так как нет ничего хуже воды — от нее в животе лягушки заводятся.
Маргарида Меданья похолодела, услышав заявление Ролина.
— Какие лягушки?
— Зеленые, моя дорогая. Зеленые лягушки…
— От здешней воды, конечно?
— Нет, нет. Лягушки заводятся от любой воды.
Только теперь она поняла, что землевладелец шутил, шутил, стараясь скрыть отвращение в откровенном смехе. А у нее, заметила она, даже в животе завертело. На что в ответ брат назвал ее наивной, дав тут же более верное определение, «дура». Мария до Пилар поднялась на дамбу, злясь, что из-за Жулиньи Кинтела она должна проводить здесь время и выслушивать плоскости Ролина и любезности Салгейро, всерьез вошедшего в роль влюбленного.
Салса принялся за приготовление бакальао [66], размельчая сушеную треску и приправляя ее со всей щедростью хорошим домашним оливковым маслом, уксусом и перцем, так что потекли слюнки, так-то! в то время как другой пастух в двух жестяных кастрюлях готовил белую фасоль со свининой на костре, разведенном из воловьего навоза. Жулинья Кинтела в облегающем ее тело костюме пастуха, надетом поверх другой одежды, найденной в маточной конюшне, продолжала выставлять себя напоказ, прекрасно зная, что ее бедра и груди особенно выделяются в облегающих ее штанах и прилипшей к телу рубахе, и не отходила от поваров, все время снимая пробы.
— Это необыкновенно! Чудо! — восклицала она, явно преувеличивая их совершенство, чтобы побудить к разговору остальных дам, сидевших молча. Мария до Пилар вернулась в хижину и тут же решила совершить прогулку на гнедом. «Проедусь немного», — сказала она брату. Ее слова тут же вывели Кима Салгейро из безнадежной скуки, в которую его вверг спор, затеянный Мигелом Жоаном и То Ролином из-за Жулиньи, ради победы над которой и тот и другой не скупились на слова.
Салса теперь подсушивал кукурузный хлеб; он резал его тоненькими ломтиками, чуть смачивал оливковым маслом и держал над слабым огнем, чтобы придать особый вкус.
— Еще долго? — спрашивала Кинтела, у которой, похоже, невероятный страх сменился невероятным аппетитом.
— У меня все готово…
И как только прибыло вино и завтрак, приготовленный кухаркой Релваса, села на скамью у огня и принялась есть бакальао руками (ведь нет лучше вилки, у которой пять пальцев!..) и тут же объявила о новой прихоти. Ей очень хотелось знать, крепко ли она держит мужчин в своей маленькой руке.
— Кто ест еду крестьянина, не может есть еду дворянина! Никакого обжорства…
Телес предпочел благородную еду в надежде (почти невероятной) понравиться Жулинье, но это кончилось его поражением. Он прочел это в глазах «замужне-незамужней» — так говорили о Жулинье Кинтела в салонах Лиссабона, ведь муж променял ее на первую встречную певичку, которая ему приглянулась. Было известно, что он отбыл в Лоуренсо-Маркес в компании одной испанки, дочери испанского гранда, — Жулинья сама о том говорила, призывая бога в свидетели.
Один из пастухов заиграл на аккордеоне народный напев, и тут же все дамы воодушевились, почувствовали себя раскованно, а Бонфин даже решил станцевать салтарино и пригласил жену Мигела Релваса. «Салтарино танцуется так же, как мазурка, — повторял, бывало, ему его дипломированный учитель танцев, — нужно воображение, и ничего больше».
Вино подействовало на всех: танцующих стало больше, обиды и неприятности забылись. Жулинья приготовилась было к фанданго с одним из пастухов, но тот, почувствовав настроение хозяина, отошел в сторонку, предоставив Мигелу Жоану показать свое мастерство. Ревнивая Изабел Салгейро на какой-то миг вспыхнула, точно ракета с огненным хвостом: бесстыдство мужа было у всех на виду, даже у слуг, так ему мало этого, он еще хочет из нее сделать посмешище. Нет, она на это не согласна. Мужчина, увивающийся за ослицей, сам осел.
И как только Мигел закончил фанданго и все ему зааплодировали, велела играть какой-нибудь парный танец; она подошла к То Ролину, готовая взять реванш, на что Ролин не без удовольствия согласился — он всегда считал, что женщины рождаются на свет только для того, чтобы бросаться в его объятья. Что касается Жулиньи Кинтела, то тут у него сомнений не было: она предпочитала его, втайне, но это было ясно всем и ему лучше всех. Он был на седьмом небе, напевал себе под нос и выделывал с Изабел Релвас невероятные па: бросал к себе на грудь, отталкивал, снова бросал — такого еще никто и никогда не видывал.
Мария до Пилар, сопровождаемая Кимом Салгейро, вернулась довольно поздно и очень изумилась общему настроению. Она выслушала еще одно долгое признание в любви, но дала крохотную надежду, и с нее достаточно! достаточно, чтобы отказаться от танцев, сославшись на усталость, вызванную длинной прогулкой на лошади. Что, она готова остаться незамужней из-за Зе Педро? Нет, не может быть… Она дорожит своей свободой и в любой момент может ею наслаждаться и вести себя, как ей заблагорассудится. Однако невестка, бросившаяся в объятья Ролину, человеку, который Марии до Пилар, как она сама признавалась, внушал ужас, удивляла: всем были хорошо известны его победы, которыми он хвастался. Мигел Жоан не обращал внимания на заигрывание жены с его двоюродным братом: он был ослеплен Жулиньей — пил с ней из одной кружки, брал на руки и кружился с ней по комнате, точно все вокруг вдруг исчезли и они остались одни во всей Лезирии, ни с кем и ни с чем не связанные и, уж во всяком случае, никем не видимые.
— Да он рехнулся! — шепнула Констанса Бонфин Менданье.
— Виноват-то не он, а она…
— Кто, Изабел?
— Нет, какая глупость! Жулинья.
И вдруг Жулинья решила сесть на лошадь и поехать к той канаве, в которую свалилась несколько часов назад, — видно, совсем потеряла голову от ухаживаний Мигела Жоана. Но поехала она не одна, а вдвоем с Мигелом Жоаном, и на берег Тежо, изумив всех присутствующих, даже пастухов, которые украдкой переглядывались, точно были повинны в бесстыдстве молодого хозяина. В эту ночь у них будет о чем посудачить у костра…
Измученная и раздраженная, Изабел Релвас объявила, что возвращается домой из-за сына, возвращается сейчас же, и если кто хочет ехать с ней вместе — пожалуйста, она возьмет лодку, чтобы перебраться на другой берег Тежо. Женщины поддержали ее решение. Женщины и То Ролин, который счел, что признание ею мужских достоинств оценено по заслугам и предложение сделано ему, и только ему, и стал нашептывать ей на ухо что-то нежное. На что тут же получил ясный ответ, который был услышан всеми:
— Не заблуждайтесь, Антонио Ролин, прошу вас. Умный человек умеет отличать даму от куртизанки.
— Это вы мне?! — спросил он без тени смущения.
Изабел изумила его наглость, она смерила Родина холодным, презрительным взглядом, возможно вкладывая в него и злость на себя самое за забывчивость: То Ролин славился умением отбрить. Он всегда похвалялся, что не упустит случая брыкнуть, если кто-то вдруг вздумает запрячь его и натянуть поводья.
— Послушайте, сеньора. Я должен послать эту дрянь куда подальше… Несмотря на свою глупость… — Он хотел улыбнуться, но руки его дрожали. — Я все же понимаю, KOI да со мной хотят лечь в постель, а когда используют, пусть даже безобидно, чтобы кому-то отомстить. Понимаю, но делаю вид, что не понимаю. Стараюсь не понимать, хотя и являюсь двоюродным братом вашего мужа.
Он выплевывал слова в ее сторону, хотя и видел, что она вот-вот расплачется.
— Это вы, дорогая, бросились мне на шею. Все свидетели… Будьте здоровы! Всего доброго всем!
Он вскочил на лошадь и, посвистывая, поехал вниз по дороге, помахав на прощание своей широкополой шляпой. Потом зло обернулся, но, только миновав ров, понял, что Изабел Релвас упала в обморок. За То Ролином следом ехали верхами три пастуха и Ким Салгейро.
Но То Ролин больше не поворачивался.
Не поворачивался он и в кровати в течение четырех дней, пока его лечили винными примочками после того, как слуги Релваса отделали его дубинками. Ким Салгейро при том присутствовал и остановил наказание лишь тогда, когда решил, что Антонио Ролин получил сполна.
Глава XII ИСКОРКА ЖИЗНИ В ОБЕЗГЛАВЛЕННОМ ТЕЛЕ
Диого Релваса все еще мучал кошмар от того, что он увидел своими собственными глазами. Лучше бы ему быть слепым, лучше бы его глазницы были пустые, чем зрячие после того сюрприза, что они преподнесли ему, ввергнув в тоску: он оказался неспособен убить обоих сразу, убить на месте преступления, определив тем самым цену, которой он расплатился бы за нанесенное ему оскорбление. Он чувствовал себя парализованным, совсем как в детстве, когда в кошмаре хочешь убежать, а ноги не повинуются от охватывающего тебя страха и ужаса.
У него болело тело, болела душа. И он понимал, что душа его не перестанет болеть до самой смерти, а может, будет болеть и после — после всего, что бы с ним ни случилось потом. Он никогда не думал, что кто-нибудь сможет его так тяжело ранить. Разорвать его душу, и навсегда, точно все, все, что его окружало и было близким, теперь, причинив ему нечеловеческую боль, умерло, одето в, саван и положено в гроб. И сколько же раз они над ним смеялись?!
Почему он не умер сразу же, поняв, что перенести это не в состоянии и должен жить, жить с единой целью — отомстить. Теперь, кроме ненависти, у него ничего не было…
И ничто не исцелит его от ненависти, даже смерть — она так ничтожна в сравнении с этой ужасающе огромной болью, которая превратила его в жалкое, беспомощное существо. Ничто не сотрет того оскорбления, свидетелем которого стали его собственные глаза, и он уже не может и не должен сомневаться…
Для него не осталось даже возможности сомневаться, да, даже такой малости, как возможность сомневаться.
Они вынудили его сосредоточиться на своей боли, замкнуться на ней, остаться с ней один на один, дозволить ей отравлять ему кровь. И это было все, чем теперь стала его жизнь? Возможно ли? Нет, он еще мог им ответить, мог. И чем скорее он это сделает, тем лучше. Лучше стать нищим, вернуться в ту комнату, где начинал жизнь землевладельца его дед, чем отказаться от мести, которая послужит назиданием всем и каждому.
И, поджидая возвращения Мигела Жоана с охоты, он удалился в Башню, сам не зная для чего. Или слишком хорошо зная для чего. Мог ли он предвидеть, что когда-нибудь окажется здесь, в Башне, морально раздавленным? Совершенно раздавленным. Ведь утраченного ему никто не возместит, хотя последнее слово еще не сказано, оно за ним. По крайней мере так ему казалось…
Как теперь было ему безразлично его богатство!.. Он понимал, что оно не монета и на него не купишь того, что утратил, но случись такая возможность — предложи ему кто-нибудь подобную сделку, ведь он — как это ни было ужасно! — не согласился бы, несмотря на то что готов молить небо облегчить ему тяжесть, свалившуюся на его плечи, которую он будет нести до смертного часа. Как не согласился бы и признаться в этой тяжести, так как сострадание ничего не даст ему, да он его и не примет.
Как во сне, ходил он по Башне, стараясь не глядеть в те окна, что выходили на манеж. Да, и вошел он сюда, в Башню, как вор. И второй раз в жизни не сказал своей обычной фразы: «Вот мы и здесь!» Ему стыдно было ее произнести.
Нет, не на встречу с отцом и дедом, как это бывало раньше, он пришел сюда, а для того, чтобы скрыться, спрятаться от себя и других. И скорее даже от себя, чем от других, боясь показать свою нерешительность.
Почему он не убил его?… Почему он не убил их обоих? Мог ли он признаться отцу и деду, что женщина семьи Релвасов, да, женщина их крови оказалась способной стать любовницей слуги?… Теперь он был в том уверен. Он сам все видел. И не мог сомневаться. Не мог даже для того, чтобы облегчить свою собственную участь. И это — дочь, которую он любил больше других, и слуга, которого ценил больше других. Он до последней минуты все еще не понимал, как он выдержал увиденное. Надо же, на его глазах рушилось то, что казалось вечным, что должно быть вечным. Да, бог его наказывал. Почему?! За что?! Или он должен и в боге сомневаться?! Может, он был тоже слепым, слепым поводырем слепых, идущих к яме?
— Отречься от бога? Нет, только не это, не отречение. Ни сегодня, ни потом, никогда.
Он разговаривал сам с собой, даже кричал, чтобы убедить себя самого. Но эхо здесь, в Башне, слабое, слова падали к его ногам.
Как радостно ему было, когда в то утро он, решив поехать с детьми на охоту, встал как можно раньше.
Он хотел преподнести сюрприз всем сразу, появившись на пристани вместе с Марией до Пилар. Но, подойдя к манежу, Диого Релвас увидел, что манеж пуст, тогда он решил крикнуть, но в то же время, никак себя не обнаружив, подошел к конюшне, совершенно уверенный, что Мария до Пилар обрадуется его решению. И вдруг он услышал смех и что-то еще, очень странное. В груди шевельнулось предчувствие. Стоя у дверей, он следил за ними. Рука потянулась к карману, но оружия в нем не было.
Возвращался он, боясь кого-либо встретить. И как это ему удалось, даже непонятно!.. Болело тело, болела душа… от трусости, что вдруг ему пришлось испытать. Да, он оказался трусом, по-другому его и назвать-то нельзя, хотя он бы дал своему поведению иное объяснение: он должен пережить все это, чтобы потом достойно отомстить, отомстить за испытанную боль и раздирающую его ненависть.
Других чувств у него не было, разве что тоска, которая нахлынула на него, разрывая паутину воспоминаний, но не для того, чтобы они исчезли, а чтобы противостояли только что пережитому. Похоже, ненависть становилась теперь главным в его жизни.
Да, возможно, именно так он желал встретить случившееся. И ненависть казалась ему той искоркой, благодаря которой в его обезглавленном теле еще теплилась жизнь, и он надеялся, что будет теплиться несмотря ни на что.
Не было ли это сигналом свыше?…
А трагическое лицо действительности — тоже знак свыше?!
И тут он впал в отчаяние и бросился на кровать, закрывшись с головой, возможно надеясь забыться хоть на время, так как стоять на ногах сил не было.
Глава XIII КОРОТКИЙ ДИАЛОГ О МЕСТИ
Два дня Диого Релвас не решался начать разговор с Мигелом Жоаном, боясь, что гот поймет всю глубину нанесенной ему раны. Он должен терпеть. И он терпел. Господь еще может спасти его: научить жить, презирая боль. Или господь надеется посеять в нем сомнение? Нет, в сомнениях и смирении он не нуждался. Он отвергал их, как потачку слабым. Он нуждался в мести, да, в мести, которая все уничтожит, коль защитить свою поруганную честь иным путем он не видел возможности. Диого Релвас не спрашивал себя, кто из них двоих — Мария до Пилар или Зе Педро — повинен больше. Они были виноваты оба в равной мере. И их нужно было уничтожить. Возможно, чтобы уничтожить и какую-то часть себя, невидимую для других, но знать, что месть совершилась.
К ночи он оставил Башню, чтобы, под предлогом болезни, лечь в постель. Ведь его пребывание в Башне говорит о событиях чрезвычайных. А он не мог дать повод к подозрениям Теперь правосудие должно свершиться тайно — печальный факт наступивших времен. И он не должен выдавать себя, во всяком случае сразу. Потом, конечно, все узнают, что вершил его он, а не кто другой, хотя указать на него пальцем вряд ли посмеют. Чтобы оправдать свое бегство от общества, он пригласил доктора Гонсалвеса, который нашел его в комнате сидящим в кресле. Несмотря на жару, у Диого Релваса не было сил снять пиджак: страдания его вымотали. Глаза красноречиво говорили о пролитых ночью и, видно, иссякнувших полностью слезах.
— На что сеньор Диого Релвас жалуется? — спросил его врач.
— На все. На то, что вам будет угодно, — тут же добавил Релвас. — Любое недомогание сгодится.
— Разрешите я вас послушаю.
— А, конечно, послушайте сердце, если оно еще есть…
Он хотел знать, может ли разлететься сердце, как, скажем, камень, на мелкие кусочки, если в него выстрелят подобным образом. Сейчас он ощущал, что оно разлетелось.
— У вас сердце юноши, — заключил Бернардино Гонсалвес.
— Это вы серьезно, доктор?
— Вы же знаете, что я вас никогда не обманывал.
Диого Релвас вдруг почувствовал себя легче, не очень понимая, что меняют слова врача. И принялся говорить о политике, возможно чтобы оглушить себя, призывая гром и молнии на голову правительства по поводу махинаций с монополией на табак. Это, по его словам, был жалкий маневр тех, в чьих руках были спички, и допустимый — тут сомнений быть не может — при определенной заинтересованности со стороны министров, которые желают взять бразды правления в свои руки. Какой стыд! Какая грязь!.. Непонятно только при всем этом поведение короля. Он верил Жоану Франко, и даже когда тот вошел в новую партию, изменив так низко своей и защищая либерализм, точно это было чем-то, что спасало от смерти или давало кому-то гарантии в том, что спасет.
Доктор привел ему в пример Коста Кабрала [67]. Может, маневр Франко тоже не выходит за пределы желания успокоить народ, ведь народ нужно было успокоить, и лучше всего — подладившись к республиканцам.
— А для чего же ружья? — спросил взбешенный Диого Релвас.
— Должно быть, чтобы стрелять…
— Тогда чего они ждут? Ждут, что те тоже за них возьмутся?… Бернардино Гонсалвес заметил, что, разволновавшись, Диого Релвас побледнел и снова сел, схватившись за сердце.
— Они нас потихоньку убивают, — сказал Диого Релвас с горечью, вдруг вспомнив жест зятя в тот день, когда он умер.
— Не раздражайтесь, Диого Релвас.
Израсходовав последние силы, он было решил отпустить врача, чтобы, избавившись от него, остаться наедине с тем, что его волновало и стало неотвратимой реальностью. В докторе его бесило безразличие. Ему хотелось припереть того к стенке, спросив, уж не думает ли он, что политику делают микстурами и припарками. И тут он потащил его к окну и принялся без всякого перехода тихо говорить ему:
— Скажите домашним что-либо, что сочтете возможным, скажите, что я нуждаюсь в покое и не должен никого видеть. Нет, не хочу пока никого видеть.
— Барышня очень обеспокоена…
— Неспроста.
Сказав «неспроста», он хотел улыбнуться, но тело его заныло. Он почувствовал испарину.
— Объясните, что ничего серьезного, нужен покой. И никакого шума.
— Будьте покойны.
Ну и хорошо, а-а, как хорошо! Он может быть покоен.
И он провел два дня, не снимая одежды, то полеживая, то сидя в кресле. Он пил воду и питался страданиями, то плача, го загораясь ненавистью, но понимая: в мести своей надо быть непреклонным, хотя дело касалось самой любимой дочери. Он видел ее маленькой девочкой и взрослой женщиной, теперь. И только сейчас отдал себе отчет в том, что жена умерла, чтобы дать ей жизнь. Только теперь он понял враждебность всех остальных своих детей к Марии до Пилар. Должно быть, у детей особая интуиция. Ведь он тоже что-то предчувствовал, да, предчувствовал, когда как-то утром, оказавшись на манеже, увидел, как Зе Педро держит поводья и смотрит на нее глазами влюбленного. Еще тогда он испытал желание всыпать ему розгами. Теперь-то он находил объяснение ее болезни, которую никто не мог распознать, и связывал ее с нежеланием ходить на манеж и ездить на лошади, которую она выбрала для поездки на ярмарку в Севилью. Ведь это он, да, он сам заставил ее вернуться на манеж, ведь она-то противилась. Он искал виновника, главного виновника того, что произошло, но голова Диого Релваса шла кругом и отказывалась осознавать факты.
Он приказал позвать сына.
Мигел Жоан вошел с опаской, уверенный, что отец заперся в комнате после того, как узнал, что произошло на охоте. Вошел униженно, с тем, чтобы просить прощения, но тут же понял, что отца не заботили его ухаживания за Жулиньей Кинтела, ни ухаживания, ни взбучка, которую получил То Ролин. Как видно, разговор на эту тему пойдет в другой раз. Отец никогда ничего не оставлял без внимания — это было не в его правилах.
— Садитесь, — сухо сказал он, обняв Мигела Жоана.
— Вам лучше?
— Да, уже лучше…
Диого Релвас подошел к окну, чтобы открыть внутренние ставни, он делал это медленно, очень медленно, точно руки не слушались. Думая, что сын видит его взволнованность, он тут же распахнул не только ставни, но и окно. Потом высунулся из окна и посмотрел в сторону манежа. Нахмурился, но сдержался.
— Как сын и жена? — попытался он спросить как можно естественнее.
— Диого Луис прекрасно, только сегодня о вас спрашивал. Изабел ничего. Похоже, забеременела… два дня, как объявила мне об этом.
— Ну что ж…
Ему было трудно начать. Он все время медлил, медлил сказать то, что хотел, хотя знал, что после того, как начнет говорить, проще будет скрывать свое состояние от Мигела Жоана. А может, нужно не скрывать, а быть откровенным, раз уж он рассчитывает на его сообщество? «Хотя, возможно, это сообщество ему и ни к чему», — подумал он с горечью. В другое время он бы все сделал сам, в одиночку, а вот теперь нуждается в помощи.
Но все— таки решение они должны принять вместе.
Он подходил к Мигелу Жоану, вопрошая себя: «Что это: спокойствие или осторожность? Да, чтобы все обдумать, нужно спокойствие». Потом решился. И первую фразу даже выпалил:
— Мы должны решить очень серьезное дело.
Мигел вскинул на него глаза, словно сказанное того заслуживало. И снова подумал об охоте.
— Да, очень серьезное…
Он беспокойно провел рукой по глазам, потом по усам, где задержал ее, как будто собирался их пригладить.
— Что вы думаете о Зе Педро?… Да, что вы думаете об этом типе? — настойчиво спросил он.
— Мы ему всегда доверяли. — Он пытался понять по выражению отцовского лица причину такого вопроса. — Что он сделал?…
Диого Релвас притворился, что не расслышал вопроса.
— Вы что-нибудь… заметили… О чем я вынужден говорить! Да, что-нибудь между ним и вашей сестрой?
Почувствовав тик левого глаза, Мигел Жоан кивнул головой и встал.
— Я даже приказал Манелу Атоугиа следить за ними… Я заподозрил… И даже был уверен, что он любовник этой… что была здесь…
— Все подозревали, кроме меня.
— Потом у меня было предчувствие…
— Почему же вы ничего не сказали мне? Всё от меня скрывают, всё.
— Я не был уверен и не хотел вас беспокоить понапрасну. — Он повернулся к окну. — Подумал, что вы сочтете мое сомнение злонамеренным. Она ведь…
— Я знаю, знаю. Увольте меня от воспоминаний, — быстро вставил Диого Релвас. — Ну, и к чему вы пришли?
Он пошел за сигарой к ночному столику и протянул одну сыну.
— Курите, можете курить… — Он чиркнул спичкой и закурил, разжевывая конец сигары. — Так к чему вы пришли?
— Ни к чему… Я знал только, что они часто разговаривают, ездят вдвоем в лес. Но не удивлялся…
— Да, понимаю. — Он оборвал его. — С детства я разрешал им быть вместе. Так?! Не об этом ли вы думали? — закричал он, тут же спохватившись, что кто-нибудь там, за окном, услышит.
Он подошел к окну и закрыл его, удостоверившись, что под окном никого нет. Только у конюшни, как всегда, сидел Таранта. Он посмотрел на него.
— Да, я знаю, что виновен… Однако это уже не исправишь. — Он больше ничего не скрывал. — Он ее любовник. Да, я в этом уверен. То, что я видел, сомнений не оставляет, да и не нужно было так долго смотреть… Такое, сказать по чести, я увидеть не ожидал, нет.
Испытываемые и тем и другим чувства были неодинаковы, и все же оба они не хотели верить действительности. Диого Релвас прислонился к косяку двери — а-а, как хорошо бы было рухнуть замертво — и дрожащими пальцами поскреб подбородок. И тут услышал, что сын обращается к нему, говоря:
— У нас нет другого выхода…
— Какого? — спросил Диого Релвас.
— Надо убить его!
При этих словах землевладелец опустил голову, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы, что жгли ему веки. И ответил:
— Конечно!
Они стояли друг против друга и смотрели друг другу в лицо.
— Я могу это взять на себя, — добавил Мигел Жоан. — Надо только продумать… чтобы ни на кого не пало подозрение…
— Нет, это надо делать иначе… Простите! К несчастью, я старше чуточку.
Они помолчали.
— Конечно, никто не должен указать на нас пальцем, но все Должны знать, что это мы. Мы это сделали, мы, а не кто иной. Вот так!
— Пожалуй!
Взяв Мигела Жоана за руку, Диого Релвас повел его в глубь комнаты, подальше от двери, на которую он нет-нет да поглядывал с недоверием по непонятной причине. Это было инстинктивное движение, которое он, хотя и считал нелепым, подавить не мог. Что такое нелепость? Не все ли нелепо?…
— Как вы думаете это сделать?…
— Еще не знаю… Шико Счастливчик — вот кто способен… — вдруг вспомнил Мигел Жоан.
— Да, но раньше нужно подготовить Зе Педро… чтобы он ничего не заподозрил. Нужно, чтобы оба были спокойны.
— Конечно. Тяжелее всего будет сказать это Марии до Пилар.
— Должно быть. — Он выпрямился. — Можете сказать, что я сойду к столу.
Диого Релвас почувствовал, что вопрос решен. Не думал он, что после того, как переговорит с сыном, ему так полегчает. А впрочем, почему же? Разговор должен был помочь ему успокоиться и помог. Да, он успокоился, теперь он это мог сказать.
— Мы встретимся с Шико Счастливчиком в моем доме, — сказал Мигел Жоан. — Так будет лучше…
— Согласен.
Он проводил сына до двери и пожал ему руку.
— Все должны знать, что с Релвасами не шутят. Это опасно!
Самое ужасное, что понести наказание должна и Мария до Пилар. Когда он об этом подумал, сердце опять заныло. Из рощи долетел резкий крик павлина и заставил его вздрогнуть.
Глава XIV ДИОГО РЕЛВАС НИ С КЕМ НЕ ХОЧЕТ ДЕЛИТЬ МЕСТЬ
Согласиться на то, чтобы сын все взял на себя, Диого Релвас не мог. Месть ведь была его, а не кого-либо другого, она принадлежала ему, он не хотел ее перепоручать. Так что нужно принять решение и действовать, хотя он знал, что это принесет ему еще большие страдания. А может, нет?… Месть ведь хоть немного, но облегчит его боль. Конечно же, облегчит — реванш всегда приносит облегчение, так что надо все хорошо обдумать и приступать к исполнению: идти вперед, зная, что час отмщения близок, что все рассчитано, все до последней мелочи, не упущена никакая самая малая малость. И помнить, что тот, другой, кому эта месть предназначена, в надлежащий момент должен догадаться, что его смертный час определен, что он приближается, но никаких ловушек, засад — ведь тогда человек может умереть раньше времени, так и не поняв, почему пришла смерть. Вначале надо внушить Зе Педро страх, чтобы тот засел у него в печенках, холодил внутренности, а потом убить. Но все не спеша, все в свое время, чтобы каждый успел надеть траурную одежду, насладившись местью.
Диого Релвас был способен сидеть во время завтрака рядом с Марией до Пилар, смотреть ей в глаза и, разговаривая с ней, ничем не пугать ее. А потом осуществить то, что задумано. Да, способен. А боль росла, ширилась, жгла его, но оставляла силы, чтобы довести задуманное до конца. Нет, идея Мигела Жоана ему не подходит. Они обсуждали ее в течение нескольких часов. Мигел предлагал подстроить несчастный случай, послав Зе Педро посмотреть быков. Все очень просто: один из быков пырнет его рогами, и они с отцом станут свидетелями состоявшейся мести. Уж они постараются дать ему умереть медленной смертью, той, которую он заслужил.
Землевладелец позволил себя увлечь воображаемой сценой: рога одного из его быков, быков, клейменных его, релвасовским, тавром, вспарывают живот этому негодяю, превращая его плоть в лохмотья, и жизнь отлетает от мерзавца с последним вздохом. Диого Релвас даже назвал будущего палача — шестигодовалого быка, которого никогда не посылали на корриды из-за его мощных рогов и тучного тела. Однако такая смерть слишком хороша для того, кто украл честь Релвасов! И хозяин Алдебарана переменил свое решение: «Нет, нет и нет, только не несчастный случай! Никто не поймет, что это нами подстроено. А потом похороны… Хуже всего, если придется похоронить его на кладбище, где лежат люди нашей крови».
Он обезумел от одной этой мысли. Да и все Релвасы были бы оскорблены. Нет, он не может навязать им подобную компанию. Это же оскорбление, настоящее оскорбление всем, и хозяевам, и слугам — в общем-то, людям одной семьи. Да даже отец этого мерзавца — он уверен — перевернулся бы в гробу, узнав такое. Мертвые заслуживают уважения, потому что ими держится жизнь. Настоящему Борда д'Агуа, тому, что умер, укрощая быка, конечно же не понравилось бы увидеть с собой рядом того, кто запятнал имя Релвасов. Пусть даже если это его собственный сын… Да-да, его собственный сын!
Разговаривая с Мигелем и, возможно, чувствуя, что сын считает его сраженным нанесенным оскорблением, Диого Релвас распалял свое воображение. А-а! все в нем обманываются, но нет, он и на этот раз выстоит. Гордость в нем взыграла: «Помнишь ли ты тот гигантский дуб, что растет в конце леса? Так вот! Однажды ночью — ты, Мигел, еще был ребенком — разыгралась гроза, да такая страшная, что всех перепугала. Молнии вспыхивали беспрерывно. И одна угодила в дуб, вошла в него, точно огненная шпага, вроде бы небо оскорблено было его размерами. Все вокруг задрожало. Казалось, пришел конец света. Так вот, дуб-то тот все еще стоит, несмотря на то что молния почти полностью выжгла его нутро. Вот так же и я… Это еще не конец, нет, я выстою».
Он знал, что это бахвальство. Кому-кому, а ему-то было известно, что сделала с ним эта боль, которую он постоянно чувствовал и которой вначале был придавлен, но он взял себя в руки, заставил себя принять решение и теперь хотел показать, что способен вынести всю тяжесть страдания.
Домой он вернулся поздно. И ночью один на один обдумывал отмщение, не раз чувствуя, что голова ему отказывает — кажется, вот-вот лопнет, — и гораздо проще взять ружье и пристрелить этого шелудивого пса. И все сразу кончится, кончится трагически, но урок будет дан. Но нет, над ним же посмеются! Его же назовут трусом!
Он пытал себя ненавистью, конечно, в надежде взбодриться и победить горечь утраты. Но победить не удавалось, горечь не проходила, он чувствовал ее и понимал, что она не пройдет. Да, он всегда был человеком разумным. Ему приятно было сознавать и испытывать это. В тот день, когда он поймет, что это не так, он найдет для себя достойный выход.
Диого Релвас пошел в лес, возможно затем, чтобы устать, чувствуя, что сон не приходит. А если придет, то с кошмаром. Однако свежесть раннего утра только взбодрила его, он даже почувствовал, что в лесу прохладно. Вспомнил о дереве, в которое угодила молния, и, пожелав увидеть его еще раз, стал искать к нему дорожку покороче. Плохо было то, что ему пришлось пробираться сквозь чащу, и темнота его угнетала, а может, к нему возвращалось спокойствие?
Как бы это было хорошо! Но возможно ли снова обрести спокойствие?… И как? Каким образом?
Один из его сыновей умер, и только когда это случилось, он понял его и признал за сына. Милан как ушла от него после их разговора, так и не возвращалась. То, что до него доходило, а именно что она собирается вступить в новый брак, радости ему не приносило — это ведь еще одно оскорбление, но он все же предпочел бы новый брак, чем ее беспорядочную жизнь. Если она это сделает, он возьмет Руя Диого к себе: он уже простил его. Да, он стал способен прощать… А теперь еще эта история с Марией до Пилар… А-а! Марию до Пилар он простить не в силах!.. Нет, никогда, до конца ее жизни… А она должна быть короткой. Лучше видеть ее мертвой, чем…
Не дойдя до дуба, он почувствовал усталость. Решил сесть на землю. Сколько лет он не садился на землю?! Верхушки деревьев качал ветер. Диого Релвас попытался вглядеться в густые заросли, но глаза отказывались что-либо видеть в этом мире тьмы, которая его подавляла. К нему слетел голубь и, сев рядом, стал смотреть на него. В этот самый момент проникший сквозь листву луч солнца вернул Диого Релваса к действительности: мерзавец, должно быть, уже на манеже? Начался рабочий день. И тут непрошеные, облегчающие душу слезы потекли по лицу землевладельца. Он встал, вспугнув голубя, который взлетел на дерево, где его ждала подружка.
«Ты стар, мой друг, стар!» — сказал он себе тихо. Но тут же приободрился, надеясь, что еще сможет показать себя и свою силу.
Только перед домом глаза его высохли. Диого Релвас смочил платок в водосточном желобе и провел им по лицу, провел медленно, шумно дыша, потом тряхнул головой и направился к манежу.
Карлик Таранта — сама униженность — приветствовал его, поднявшись со скамьи и держа берет в руке. Доносившийся с манежа голос Зе Педро подстегнул землевладельца, заставив прибавить шагу. В центре круга серая сухопарая кобыла повиновалась окрикам объездчика, который работал с уздечкой. Диого Релвас не стал наблюдать за ними, как это всегда бывало. Он спешил увидеть все, что творится вокруг Зе Педро, который уже шел к нему навстречу с непокрытой головой.
— Вам лучше, хозяин?
— Да. Я готов к новым делам, — ответил Диого Релвас, мельком взглянув на него и делая вид, что его интересует лошадь.
Он провел правой рукой по ее крупу, левая рука была тяжелая и болела.
— Партия быков для Мёриды отправляется в среду. Ты будешь сопровождать ее. Хочу, чтобы несколько дней ты был на Диете, я заинтересован, в корриде. — Потом, понизив голос, внимательно посмотрел на объездчика лошадей. — Можешь переменить одежду… У меня есть для тебя одно дело, но это дело секретное. Ты умеешь хранить секреты?
— Хозяину это ведь известно.
Какое— то время Диого Релвас выждал. Он чувствовал, что покрывается потом. Холодным потом.
— Мне нужно переправить в Испанию пять лошадей… После того как ты доставишь быков на место, ты перейдешь границу тайно. Поедешь в Монте-Прагал-де-Куба и переговоришь об этом деле t Шико Счастливчиком — он тебе поможет. Он тоже поедет… с лошадьми. Но об этом никому ни слова, ясно? Даже дома…
— А кому я передам лошадей?
— Я дам тебе письмо… Я и не подумал об этом. Покупатель объявится в Мериде.
— А в каком месте переходить границу?
— Боишься?… Если боишься, я найду другого.
— Нет, не боюсь, только я подумал…
— Где перейти, ты решишь сам. Это не трудно, найдешь кого-нибудь, кто подскажет. Какого-нибудь контрабандиста…
— Договорились, хозяин. Я все сделаю. Диого Релвас почувствовал головокружение.
— Я скажу в конторе, чтобы тебе выдали деньги. Счастливого пути! — добавил он уже у ограды. Потом ускорил шаг, точно нуждался в свежем воздухе, передохнул у выхода, прислонившись к стене, и пошел к Таранте только тогда, когда головокружение прекратилось.
И крикнул Таранте:
— Заложи экипаж. Через полчаса я еду в Лиссабон… Хочу поспеть на первый поезд.
В Монте— де-Куба он прибыл только поздно вечером на следующий день. Мигел Жоан хотел его сопровождать. Да, это было бы неплохо, но Диого Релвас отказался под предлогом, что сыну нужно оставаться при жене: Изабел капризничала, похоже, боялась вторых родов, и он, Диого Релвас, не хотел осложнять с ней отношений: хватит с него и холодности Марии Луизы де Андраде — вдовы Антонио Лусио. На самом же деле он решил все сделать сам: месть была только его, и мысль об этом становилась навязчивой, он боялся потерять право на месть, если разрешит сыну учавствовать в этом деле. К тому же он еще не додумал до конца, чем рискует, ведь если, к примеру, Шико Счастливчик возьмет и откажется, тогда зачем Шико Счастливчику знать, что в деле замешаны они оба. Осторожный человек ценится вдвое дороже.
И вот Шико Счастливчик перед ним.
Диого Релвас ему уже сказал, что от него хочет. Тот почесывал свою косматую голову и смотрел на него искоса — так обычно смотрит человек, не очень склонный принять предложение. Шико Счастливчик поморгал одним глазом, покачал головой и, когда Диого Релвас решил, что тот сейчас заговорит, уронил свои огромные ручищи между колен.
— Боишься? — спросил, презрительно глядя на него, Диого Релвас.
— Нет, сеньор, не боюсь, ни его, ни кого другого. Но если скажу, что я не боюсь правосудия, — солгу.
«Набивает цену», — подумал землевладелец. Слуга говорил тихо и размеренно, а глаза его хитро щурились.
— Ты же знаешь, что правосудию соваться сюда незачем… Все будут считать, что Зе Педро в Испании.
— Но хозяин хочет, чтобы я бросил его в навозную кучу, а это может плохо кончиться. Собаки… собаки, что бегают и везде все вынюхивают, найдут и его. И ведь никогда не узнаешь, когда им захочется это сделать. Может, как раз тогда, когда рядом будут люди…
Доводы слуги показались Диого Релвасу обоснованными, хотя были направлены против его идеи «бросить навоз в навозную кучу». Выходит, этот мерзавец недостоин даже навозной кучи: он хуже любого дерьма.
— Ну, так что ты думаешь?… Шико Счастливчик пожал плечами.
— Можно, — сказал он, — связать его и бросить ночью собакам. Не давать псам целый день есть — они разорвут его. Хозяин не хочет, чтобы он мучился?! — спросил он, увидев, что Диого Релвасу не нравится такой вариант.
— Так ведь твоя жена будет в курсе дела… Такого быть не Должно. Не хочу юбки в этом деле… Станут говорить о несчастном случае, а я хочу, чтобы он исчез бесследно.
Диого Релвас размышлял, жуя конец сигары и сплевывая. Кривил рот, чесал грудь. И повторил, точно убеждал сам себя:
— Я хочу, чтобы он исчез бесследно. Достаточно и того следа, что он здесь оставил… — Он подошел вплотную к слуге и спросил, не может ли тот бросить труп около Мериды, так было бы спокойнее. — Дам тебе пятьдесят фунтов золотом! — бросил он, чтобы Шико Счастливчик наконец решился. — Пятьдесят Фунтов!
— И клочок земли в три алкейре, годной под посевы, — подсказал слуга.
— Хорошо. Даю слово.
Только тут Шико Счастливчик поднял голову.
— Договорились!
И он протянул свою руку хозяину, который заколебался и взял ее только тогда, когда увидел, что слуга помрачнел. Диого Релвас пожал ее, крепко тряхнув, хотя это ему удовольствия не доставило.
— Дай ему почувствовать, что пришел конец его жизни. Не торопись. И отрежь его мужское достоинство. Отрежь и брось в навоз. — Диого Релвас говорил зло. — Или запихай ему в рот… Да, в рот, если сумеешь его раскрыть.
Какое— то время хозяин Алдебарана еще ходил по комнате. Шико Счастливчика перед ним уже не было, но образ Зе Педро, которого ему никак не удавалось представить принявшим смерть — кастрированным и лежащим у его ног, — маячил перед ним. Он видел его стоящим перед собой здесь, в этом зале с каменным полом. И в полной тишине слышал его смеющийся подтрунивавший голос.
Глава XV ВОТ ТАК-ТО ЛУЧШЕ
Да— а, интересно, как бы он смеялся сейчас, когда в порогах поместья появился огромный и решительный Шико Счастливчик, по выражению лица которого было ясно, что все прошло именно так, как того желал хозяин. Ненависть Диого Релваса кончилась: он был отмщен. Однако он понял, что смерть Зе Педро не принесла ему облегчения: полученное удовлетворение не вырвало из сердца шпагу горечи. Холодная и острая, она засела в его груди навечно, вернее, до тех пор, пока он будет дышать.
В том, что он приказал лишить Зе Педро жизни, он не раскаивался, нет, ведь тот попрал честь Релвасов. Но страдания парня кончились, а его — продолжались, возможно потому, что ему пришлось препоручить Шико Счастливчику то, что полагалось выполнить самому.
Он припомнил других умерших, надеясь этим вызвать образ убитого, но ничего не получилось. Тогда он попытался представить вместо их лиц лицо Зе Педро, но оно продолжало жить, улыбаться и унижать его, как бы говоря, что все осталось по-прежнему. Да, все осталось по-прежнему.
Диого Релвас услышал, как Шико Счастливчик настаивал, чтобы его пропустили — он хочет поговорить с хозяином, — и понял, что тот навеселе. Теперь Диого Релвасу предстояло пережить причастность к этому грязному делу: вынести загадочные взгляды и панибратство сообщника. Он соображал, как избежать всего этого. Заставить ждать слугу до тех пор, пока он устанет? Послать ему деньги с кем-нибудь? Пусть забирает свои пятьдесят фунтов и убирается с глаз долой!
Между тем Диого Релвас понимал, и хорошо понимал, что вмешивать в это дело никого другого не следует. Ведь даже сын не должен был вручить Шико Счастливчику то, что ему причиталось, да и у Шико Счастливчика не должно возникнуть никаких подозрений.
Плохо было то, что последние бессонные ночи окончательно вымотали Диого Релваса, ведь от страшной усталости и нервного напряжения он забывался на какие-то доли секунды, и даже в эти доли секунды его преследовал кошмар, и всегда один и тот же: он видел две сцепившиеся фигуры, различимые только благодаря лунному свету, который озарял лицо Зе Педро, другое лицо оставалось в тени. Оно было всегда в тени. Вдруг фигуры исчезали. Он слышал их тяжелое дыхание и крики. Но всегда, всегда озаренное лунным светом лицо было обращено к нему, наблюдавшему за схваткой. Из тьмы Зе Педро ему улыбался, уверенный в себе, бесстрашный, ничто не выдавало в нем труса. Руки Счастливчика, огромные, сильные, не отпускали парня, но он уворачивался от них, а голос Марии до Пилар — только голос, самое Марию до Пилар Диого Релвас не видел — подбадривал Зе Педро, и тогда Диого Релвасу хотелось подбодрить Шико Счастливчика, и он кричал, кричал, но крика не получалось, какая-то странная сила лишала голоса, а потом и сил, пригвождая Диого Релваса к месту, не давая помочь Счастливчику, уже упавшему наземь, — должно быть, это он упал, хотя в темноте ночи лицо разглядеть не удавалось, — а Зе Педро дубасил его ногами, точно бил в барабан, звук, во всяком случае, был такой же, вначале четкий, потом глухой. И Диого Релвас смотрел в залитое лунным светом лицо Зе Педро, на котором горели счастливым победным светом глаза, ищущие его, Диого Релваса, старавшегося теперь уйти от них, ищущих, находящих его, жалкого труса, который прятался и отступал, отступал до тех пор, пока не натыкался спиной на живую стену рук — должно быть, это были руки, собиравшиеся толкнуть его вперед, отдать врагу, победившему и требовавшему вознаграждения. Ты хотел получить убитого? Вот он — получи! Я возьму за свою работу меньше, давай двадцать фунтов: мне двадцати достаточно.
И только когда рука Зе Педро его касалась, Диого Релвасу удавалось крикнуть, и он просыпался, угнетенный, мучимый предчувствиями, что этот все время повторяющийся сон должен быть в руку: план его провалился. Каждый день он себя спрашивал: «Что я буду делать, если он вернется?…»
Теперь, раз появился Шико Счастливчик, а не Зе Педро, ясно, что дело сделано. И ему, Диого Релвасу, лучше бы Шико Счастливчика не знать совсем. Что сделано, то сделано, и баста, ему претила необходимость беседовать с убийцей и терпеть его как сообщника, который не преминет напомнить Диого Релвасу о сообществе. С другой стороны, заставлять его долго ждать значило подвергать дело риску. А если он еще и пьян, кто гарантирует, что у него не развяжется язык и он не начнет похваляться. Диого Релвас послал сказать ему, что не имеет времени принять его, пусть подождет, и уже знал его ответ: «Ладно, я не спешу, мне лишь бы свое получить…» Но если нет возможности избежать встречи, то зачем ее оттягивать?! Может, для того, чтоб выяснить, что за этим последует? Хотя боль, та самая боль, что не проходит, не пройдет, это ясно, что бы за этим ни последовало. Нет, отступать нельзя, только не отступление, нет, ведь отступление — лестница, точно лестница, на которой останавливаться бессмысленно: все равно придется идти до конца.
Диого Релвас никогда не бежал с поля боя и сейчас тоже бежать не собирался. Он исполнил свой долг отца и хозяина.
— Прикажите ему войти! — крикнул он в окно своего кабинета, неожиданно приняв решение. Вдруг, даже не осознав того, он решил как можно скорее распрощаться с Шико Счастливчиком. Теперь ему казалось, что он попусту тратил драгоценное время. Из ящика стола Диого Релвас вынул исписанную его рукой бумагу, в которой говорилось, что он жаловал Шико Счастливчику в безраздельное и безвозмездное пользование годные под посевы земли в Монте-де-Куба пожизненно. Прибавив еще один алкейре сверх того, как было договорено, даже теперь он желал выглядеть щедрым — в конце концов он всегда был таким для тех, кто выполнял его особые поручения.
Тут он увидел Шико Счастливчика в дверях.
— Входи, можешь войти.
Диого Релвас сел и сделал вид, что читает написанную бумагу. Смысл ее он знал наизусть, но слов, им самим написанных, не помнил, а сейчас не мог сосредоточиться, чтобы понять их, ведь все-таки надо знать, что он написал, и нельзя упустить никакой мелочи. Шико Счастливчик говорил. Диого Релвас видел его руку, которой тот опирался о письменный стол. Огромная, узловатая, беспокойная, она так сжимала край, точно была сведена судорогой. Глядя на нее, Диого Релвас подумал о гигантском скорпионе.
— Убери руку, — тихо сказал хозяин Алдебарана. Нужно было одернуть Шико Счастливчика, заставить его держаться должным образом, и немедленно. Счастливчик руку убрал.
Диого Релвас выдвинул другой ящик, что-то раздраженно поискал в нем. Потом тут же резко стал выдвигать все ящики подряд, оставляя их выдвинутыми. Встал, как-то странно дернулся. Потом вытащил белый мешочек из верхнего ящика и бросил его с ненавистью на стол. Шико Счастливчик следил за движениями Диого Релваса с идиотской усмешкой пьяного. Землевладелец взглянул на него.
— Чему ты смеешься?
— Да его вспомнил, — ответил тот тягуче.
— И что?…
— А ничего. Он там остался. Я его… в Испании… Досталось мне, конечно. Я даже не думал.
Помутневшие золотистые глаза Релваса смотрели на него внимательно, точно сомневались в происшедшем. «Где подтверждение, что он выполнил го, что требовалось?»
— Как только я ему врезал, он сразу понял что к чему. Заговорил о вас…
— Уволь от рассказа… Мне это не интересно. Говори о том, о чем спрошу.
Шико Счастливчик с досадой поморщился и тут же бросил на письменный стол сверток, который держал в левой руке.
— Вот здесь доказательство… Небось хозяин сомневается… Но я, слава богу, человек слова.
Землевладелец раскрыл мешочек с золотом и стал отсчитывать положенное Шико Счастливчику.
— Я решил, что лучше принести их…
И он принялся разворачивать сверток, но тут же схватил золото, складывая в стопки по десять. Все было верно. Да, сеньор, все в точности. Пятьдесят ровно. Это он отметил с удовольствием.
— А здесь я отписал тебе землю. И прибавил один алкейро еще.
Лицо Шико Счастливчика расплылось в улыбке.
— Вот это хорошо, спасибо, хозяин, за такое обращение. Он подтолкнул к Диого Релвасу сверток и пояснил:
— Можете развернуть, если желаете. Там его… целехонькие. Я решил, что лучше их принести.
Диого Релвас закрыл глаза и опустился на стул.
— Иди, иди отсюда и уноси это прочь, — сказал он усталым, надтреснутым голосом.
Шико в нерешительности взял бумагу и золото и подумал: «Вот попробуй пойми их, этих господ».
Выходил он, пятясь и согнувшись в поклоне, точно хотел, сложившись вдвое, уменьшиться, и все время держался за положенное в карман золото. Уже у двери он махнул рукой, в которой держал дарственную на землю.
— Я приказал кузнецу поставить решетки на окна в имении Монте-де-Куба, как просил хозяин. Сработал на совесть и получил сполна…
Вскинув глаза, чтобы приказать ему убраться вон, землевладелец Алдебарана остановил взгляд на куске кровавого мяса, все еще лежавшего на столе, и смерил слугу злым взглядом, не проронив ни слова. И тут же подумал о дочери.
Глава XVI МОЯ БАБУШКА МНЕ РАССКАЗЫВАЛА…
«А— а, если бы ты видел нашу барышню!..»
Сейчас я уже не припомню тех слов, что я услышал от бабушки об отъезде Марии до Пилар из поместья «Мать солнца». Не припомню не только слов, но и драматизма ее голоса, и особой выразительности ее старческого, сморщенного и грустного лица. Когда в Алдебаране стало известно, что тело Зе Педро нашли в Испании, все поняли, кто виновен в его смерти и кто приказал совершить преступление, однако сказать это вслух mак никто и не решился.
Мать убитого носила траур тайком. Все ждали ночи, чтобы, когда хозяин будет спать, пойти и ее утешить, оплакав вместе с ней ее сына.
Когда же стало известно, что дочь сваю землевладелец приказал отвезти в Алентежо, женщины Алдебарана собрались в оливковой роще и принялись молиться и плакать, очень надеясь увидеть Марию до Пилар перед отъездом. Все знали, что — то будет последний раз, когда они ее увидят, и последний раз, когда смогут сказать ей последнее «прости» в благодарность за то, что она не отвергла сына пастуха. Из случившегося они сочинили историю любви, которой никогда не существовало, гордясь в глубине души тем, что и у простых людей может быть несчастная любовь, такая же, как в романах, и даже еще красивее, чем рассказывают обычно в своих песнях о любви слепые певцы на сельских праздниках.
«Коляска стояла у ворот поместья, занавески на окнах коляски быт опущены. Надо же, даже карету не захотел ей дать, проклятый… Какой яд отравил сердце такого хорошего человека, боже правый!.. Слуги принесли чемоданы. Все плакали, каждый утирал рукавом лицо, а карлик Таранта — так тот схватился за поводья, желая увидеть барышню, когда ее выведут, но его тут же отвели на конюшню, потому что он не в силах был сдержать рыданий. Чуть позже появились хозяин Диого и барышня, которую он держал за руку. Борода хозяина стала белой, такой же белой, как кожа. А ведь смуглый был человек, и так побелел и телом и волосом. Такое может случиться только по воле божьей, только когда всевышний наказует, делая душу черной от угрызений совести. Казалось, хозяин Диого за руку-то ее тащил силком, а потом все узнали, что он ей еще шепотом говорил, а говорил он — „можно бы и ночью увезти, да хочу, чтобы все видели, как отец тебя наказал“. И все увидели, что он ей волосы-то отрезал, это ее-то красивые белокурые волосы, не волосы, а золото, красивее золота, они ее покрывали с головы до ног, точно королевская мантия.
Отрезал, как отрезают женщинам, которые спят с 'врагами во время войны, одел во все черное, боже небесный! Ведь у нее убили любовь, а теперь самое везли в заточение в Монте-де-Куба — туда Релвасы только в наказание ссылали людей своей крови. Женщины Алдебарана прятались в оливковой роще. Они боялись хозяина, но очень хотели увидеть барышню, из-за которой убили Зе Недра там, в Испании. А одна все-таки поднялась во весь рост и закричала: „Прощайте, барышня! Прощайте, нам вас больше не видать!“, и барышня ответила, помахав ей платком, который трепыхался в воздухе, как подбитый голубь, что вот-вот упадет…
Землевладелец поднял голову, видно, хотел наказать виновную, но на этот раз его отравленное ядом злости сердце дрогнуло, и все увидели, что он повернулся и пошел к дому. А коляска тронулась и вскоре исчезла в дорожной пыли…
Народ бросился ей вслед и закричал: „Прощайте, барышня! Прощайте, нам вас больше не видать!“ Мы бежали за коляской долго… Прошло меньше года… И мы узнали… далее тела ее он не привез в Алдебаран… Сам же, проклятый, отравленный ядом злости, заперся в Башне на четыре года. Должно быть, отравился-то он кровью совершенного преступления, раз уж собственную дочь не простил! Да, внук, да!.. Когда яд злости поражает человеческое сердце, лучше самому с собой покончить, чем дать волю этому отравленному сердцу!..»
Глава XVII ЧТО ЖЕ У НАС ЕЩЕ?
Крестьяне Алдебарана, конечно же, преувеличивали, говоря, что Диого Релвас провел в Башне четыре года. Такую судьбу им просто хотелось определить палачу романтической любви барышни и Зе Педро. И эта романтическая любовь стала бы легендой, если бы всем любительницам драматических и окутанных тайной переживаний было дозволено болтать о ней.
Он перестал появляться верхом на лошади в деревне — это так, как, впрочем, не появлялся и в поселке на шарабане, а предлогом была политика, которая теперь стала трясиной и в которой барахтались кретины: для людей умных и хороших она была делом неподходящим. Несколько часов он, безусловно, проводил в Башне, очень мрачный, с затуманенными слезой воспаленными глазами. Внешне он казался спокойным, хотя тут же обрушивался на того, кто ему перечил, как, например, Мигел Жоан, который вдруг принялся настаивать на том, чтобы одна партия быков была поставлена на корриду с благотворительной целью. «Суп для бедняков» — так он это называл, за что и был прогнан с глаз долой в присутствии управляющего и крестьян.
В это время Марии до Пилар уже на свете не было: она скончалась в Алентежо, куда он, чтобы не провожать дочь на кладбище, не поехал. Вот со дня ее смерти Диого Релвас и был во вражде с Мигелом Жоаном, который просил отца похоронить сестру на фамильном кладбище. Но тот не согласился: раз уж он решил, что она должна отбывать наказание в Монте-де-Куба, то так тому и быть и ничего менять он не намерен. В подобном нелепом упрямстве он вроде бы находил удовольствие, бичуя таким образом себя за ту ласку, что столько лет дарил ей, как будто это теперь что-то могло изменить. Себе же, оставаясь один, он говорил: «Отвожу душу».
И не простил Мигела Жоана, который, поддавшись на уговоры жены, съездил в Монте-де-Куба и присутствовал на похоронах «отступницы». Больше месяца Диого Релвас не принимал сына в своем доме, написав ему письмо, в котором говорилось, что он презирает тех людей, которым не хватает сил мужественно справляться со своими чувствами. Ему же было известно, что он ненавидел сестру, ненавидел и убрал с дороги нескольких претендентов на ее руку только потому, что страстно желал получить большую часть наследства. Так зачем же теперь делать вид, что удручен ее смертью?… Как раз сейчас-то Диого Релвас предпочел бы, чтобы Мигел Жоан продолжал ее ненавидеть.
Поговаривали, что Диого Релвас решил сжечь все мосты.
Однако если кто-нибудь мог бы увидеть его в Башне четырех ветров, где он находил себе убежище, понял бы, какую тяжелую драму переживает этот человек на самом деле. Его безумное воображение рождало явный бред, и он наказывал себя принесенным из конюшни хлыстом. Тот же, кому доводилось с ним разговаривать, считал, что таким спокойным он не был никогда. — Слишком ты спокоен, — сказал ему как-то Фортунато Ролин, — это признак старения.
— Ты всегда во мне обманывался. Что тут поделаешь, нет у тебя дара видеть людей насквозь.
— Когда они такие, как ты…
— И опять ошибаешься, Фортунато. У меня все на лице написано. А ты слишком раздражителен, чтобы быть внимательным и разбираться во всем, что видишь.
В этот вечер они все же остались довольны друг другом, так как общими усилиями сумели, восстановив окрестных землевладельцев против промышленной компании, претендующей на земли Алверка, отбросить строительство новой фабрики к Сакавену. Они оба были непоколебимы в своем желании воспрепятствовать проникновению промышленности в район и откладывали в дальний ящик все решения и подписи, тянули с ними до тех пор, пока представители муниципалитета и лиссабонских отделений не отвалили из Алверка. Вот в этот-то вечер за ужином Фортунато Ролин и выступил в защиту Мигела Жоана. И все вроде бы уладилось. Однако на самом деле Диого Релвас лишь решил выждать другого, более подходящего случая, чтобы подрезать крылышки этому едва оперившемуся птенцу, который не желал считаться, как видно, с теми доводами, которыми руководствовался отец.
Вот потому-то Диого Релвас и пошел на сына в наступление, как только тот, уже вступивший в организационный комитет корриды, захотел с ним поспорить. Хозяин Алдебарана указал ему на дверь, пригрозив, что вздует кнутом, если он опять появится в его поместье. Он не нуждается в подсказке, как ему помогать беднякам. Он помогает тому, кому желает, и ни к Чему ему красоваться своей щедростью.
В этот же вечер он написал Эмилии Аделаиде, которая так и не вышла вторично замуж, и своей вдовой невестке Марии Луизе де Андраде, приглашая их приехать к нему, и как можно скорее. И чтобы привезли всех внуков — он хотел бы их увидеть за столом по случаю своего шестидесятилетия, всех без исключения, и особенно Руя Диого, подчеркивал он дочери Эмилии Аделаиде, который «никогда не переставал быть самым любимым его внуком». Диого Релвас нуждался, чтобы около него был мужчина, а мужчины не было. Но он должен быть, и прежде, чем хозяин Алдебарана закроет глаза.
Так Диого Релвас раскрыл свои объятья сыну Руя Араужо, передав ему в наследство часть алентежских земель и создав сельскохозяйственное общество из своих детей и внуков, чтобы таким образом поделить между ними будущее наследство. Мигел Жоан отказался присутствовать при дележе, хотя Изабел Салгейро, его жена, все же появилась, с разрешения Мигела Жоана, конечно, чтобы подписать бумаги за своего старшего сына и двух дочек. Эмилия Аделаиде, вроде бы в знак благодарности, согласилась жить часть года в имении Алдебаран, хотя обеим ее дочерям необходимо было светское общество. Мария Тереза счала невестой банкира, капитал которого был вложен в консервные фабрики Алгарве. Они были хорошей парой — так говорили все. А нелюдимая Леонор Мария разрешала первенцу одного маркиза, пэра королевства, ухаживать за собой. «Младшая пойдет далеко», — комментировала мать, все еще молодая, хотя серебряные нити уже блестели в ее великолепных черных волосах. В Лиссабоне говорили, что Эмилия Аделаиде успокоилась после того, как ее избил любовник — англичанин, член дипломатического корпуса. Он приревновал ее, будучи как-то в доме все той же графини. Скорее всего приревновал (мы это только так и понимаем), приревновал за то, что семь собравшихся там пар решили сложить ключи от семи комнат, на бирках которых стояли женские имена, в большой кубок, полученный мужем графини на конных состязаниях в Каскайске, и тянуть жребий. Дипломат не совсем понял смысл игры, в которой принял участие, и, хотя был пьян, а может, именно потому, что был пьян, решил противостоять случайностям судьбы, увидев, что его любовницу уводит один фидалго.
И вот к сорока годам, скорбя о сестре, которую постигла такая участь, и вместе с тем понимая, что именно сестринская участь сдерживает отца и умаляет его претензии к ней самой, Эмилия Аделаиде возвратилась в Алдебаран, не ругая себя за те вольности, которые позволяла, чтобы избежать одиночества, — так, во всяком случае, она объясняла перемет своей жизни двоюродной сестре Мануэле Вильяверде накануне отъезда из Кампо-Гранде. Она желала вернуться к чистоте юности, это важно, очень важно, говорила она неестественным голосом, который Диого Релвасу знаком не был, а потому он не преминул это отметить, и властно, как всегда, в одной из бесед, которые они вели, как правило, ради утверждения основ их совместного будущего существования.
— Откуда у тебя, Милан, такой фальшивый голос? Он тебе так не идет…
— А я его брошу, только доношу и брошу, — ответила она шутя, хотя обратила внимание, что это замечание отца — своего рода условие их сосуществования, которое она вынуждена принять, тоже ставя условия, мягко, ненавязчиво, стараясь не обидеть отца и не остаться в обиде самой. Они достаточно хорошо знали друг друга и отлично понимали, что им следует избегать пустых стычек. К тому же теперь они оба, дополняя один другого, желали дать воспитание Релвасу Араужо, уже предупрежденному матерью о той серьезной роли, которую решил поручить ему дед.
Спустя год и тот и другая поняли, что игра стоила свеч. У Руя Диого была твердая рука, для того чтобы приводить в исполнение все дедовские приказы, ни с кем не сближаясь, даже с управляющими, которые, кстати, тут же ощутили случившуюся в их жизни перемену. Руй Диого убедил деда снова открыть манеж, и они вместе нашли хорошего объездчика: ведь нельзя же было допустить, чтобы другие коннозаводчики обскакали их в этом престижном деле. Гордый и заносчивый с матерью, Руй Диого сникал в присутствии деда, стараясь представить дело так, что хозяином в доме продолжал оставаться Диого Релвас. Руй рисковал и знал, что рискует, но, будучи в себе уверенным, испытывал удовольствие от того, что рисковал. Имея прекрасную память, он, как актер, готовился к встрече с дедом, стараясь поразить его своими познаниями, в сельском хозяйстве, хотя многих проблем земледелия и животноводства не знал. Он умел выслушивать слуг, почти не задавая им вопросов, и вовремя напоминал деду, который подчас забывал о возрасте внука, кое-какие подробности, ошеломлявшие старика.
— Но тебе же всего двадцать…
— Если точно, то девятнадцать.
— Тогда как же ты можешь это помнить?
— Возможно, это говорили вы, дед. Унаследовал память от вас, должен же я унаследовать от вас хоть что-то… Или н-нет?
— Похоже, все унаследовал, — улыбался Диого Релвас, видя себя во внуке. — Кроме глаз… Глаза у тебя отцовские.
Теперь старика не раздражал даже холодный взгляд Руя Диого. Диого Релвас почти забыл зятя. Как видно, пережитое им горе ослабило его память. Большую часть прошлого, теперь уже расплывчатого прошлого, да, возможно, и не принадлежавшего ему, застилал плотный туман.
После смерти падре Алвина место капеллана в Алдебаране занял молодой священник, большой любитель быков и лошадей. Он был требователен в вопросах культа, а потому согласился освятить вторую статую местной святой, которую Диого Релвас решил поставить в Башне четырех ветров, устроив там еще одну молельню. Землевладелец желал общаться со святыми каждое утро, хотя исповедоваться отказывался, нет, грехов за ним не было, объяснял он капеллану, и потому он не видел необходимости наносить визиты в исповедальню. Тогда падре Жоакин стал говорить о воспитательной силе примера: он должен прийти со всем семейством — по тем временам в церковь тащили каждого, — ведь только отсутствием бога в душах можно объяснить неподчинение свободных каменщиков и республиканцев. Страну должны спасти молитва и мужество. Мужества Диого Релвасу не занимать, так неужели же он откажется от спасения собственной души из-за нежелания прочесть время от времени «Отче наш»?
Эмилия Аделаиде сотрудничала со священником, раздавая на паперти свои воскресные подаяния, что привело Диого Релваса к решению передать в ее руки и его. Теперь ему было неприятно видеть толпу нищих у ворот имения: он не верил в их добрые мысли и почитал за глупость подавать этой подлой черни, способной принимать милосердную помощь из рук Релваса и тут же радоваться, хоть и не шумно, успехам врагов короны и святой церкви. Нет, пусть этим занимается дочь, дочь — пожалуйста, он согласен.
И вот как-то утром, спустившись во двор, Диого Релвас сел в коляску дочери, в которой она ездила к мессе. В ту же минуту Руй Диого велел заложить другую и, приказав сестрам сесть в нее, пустил лошадей в Алдебаран, неистово погоняя их, чтобы, опередив деда, предупредить падре о таком визите. По случаю возвращения землевладельца в церковь и великолепной, как утверждала Мария Тереза, проповеди падре Жоакина в ризнице был устроен маленький праздник. Когда же они возвращались домой, Эмилии Аделаиде припомнилась святая простота падре Алвина. Она никому ничего не сказала, но, будьте покойны, невзлюбила нового капеллана как раз после этой проповеди. Диого Релвас тоже осуждал божьего слугу и своего раба, но понимал и молодежь с ее восторгом, адресованным падре Жоакину; ведь молодежь падка на театральное слово, которым отличался юный священник. Заметив счастливую улыбку на лице отца, Эмилия Аделаиде спросила:
— Нельзя ли узнать, чему вы рады?
— О-о, пустое!.. Вспомнил одну свою речь, которую произнес в Ассоциации земледельцев… Председательствовал Бараона. Очень у меня тогда хорошо получилось. Я был доволен и речью и собой многие годы…
— Между тем сегодня гораздо больше причин для того, чтобы быть довольным собой…
Он получил похвалу, которая его раздосадовала: она не была справедливой.
— Не говорите так, Милан! Тогда я был почти мальчишкой… А теперь убеленный сединой старик, уставший от жизни. Не раз она меня лягала.
Ему захотелось поехать лесной дорогой, и он приказал кучеру свернуть к липам. Эмилия Аделаиде увидела, что он закрыл глаза, потом приклонил голову на подушку, но по движению отцовских пальцев, теребивших поля шляпы, поняла, что он не спит, а думает. О чем?! Хотелось бы знать. Возможно, о том же, о чем она. А она вспоминала Марию до Пилар и братьев, вспоминала, как они, радуясь мести, затащили ее в лесной домик и заставляли признать себя виновной в смерти матери, так и не поняв, до чего довели девочку. Для них троих, и особенно для Антонио Лусио, Пилар была виновницей. Нет, это даже не было местью, нет, а наказанием, и она, Эмилия Аделаиде, была зачинщицей, предложив судить ее так, как, по ее понятию, мог судить трибунал. Но сама-то она просто ревновала отца к сестре. Бедная Пиларика!..
Воспоминания о сестре привели, между прочим, к тому, что Эмилия Аделаиде погладила руку Диого Рёлваса, отчего на его лице тут же появилась улыбка.
— Вы меня любите? — поспешил он спросить. — Еще любите?…
— Вы же знаете, что да, люблю… Почему же спрашиваете?
— Я считал, что уже нет. Такой человек, как я, не способен поддерживать любовь детей к себе. Что ты, интересно, теперь обо мне подумаешь? Не говоря уже обо всех прочих…
— И вы никогда себя не спрашивали, почему так?
— Я слишком стар. Возможно! В некоторых случаях… я уверен, что так и нужно. Мир катится под откос, и люди, подобные мне, должны крепче держать вожжи.
— Думаю, что под откос он будет катиться долго. И даже очень долго.
— Тебе, Милан, так думать не пристало. Никогда не говори ничего подобного Рую Диого…
— Он сам все понимает… Считает даже, что понимает больше других. Это признак молодости.
— Ты думаешь, что опыт старика не так важен?
— Я этого не сказала и не подумала… Как же ты терзаешь сам себя, мой старый! Я просто считаю, что прошлое не повторяется.
— А ведь все мы должны сражаться за то главное, что ни в какие времена не должно быть забыто: уважение… порядок… Я думаю, Милан, нет нужды перечислять все. Вы это знаете не хуже меня.
— Мы должны привыкать…
— Привычка — начало отречения… В тот день, когда мы привыкнем к тому, о чем вы говорите, наступит анархия. Я уже думал о том, что будет с миром, когда такое случится…
— Да, хорошего будет мало. Но будущее неизбежно.
— Да, если его не готовить таким… А мы можем его подготовить.
— Возможно. Во всяком случае, это было бы неплохо, хотя и трудновато…
Коляска ехала медленно. Тихим, спокойным шагом шли лошади. Дышавший влажностью лес казался уставшим от суровой зимы: он жаловался, протягивая голые ветви, которые трепал холодный ветер.
— Завтра, если ты помнишь, годовщина революции в Порто, — сказал Диого Релвас, скребя совершенно белую бороду. — Так что же нас ждет еще?…
В этот же вечер, в час ужина, один пастух принес новость:
— Убили короля и принца.
Глава XVIII В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ЦАРСТВЕ АНАРХИИ
— Убили короля и принца…
Мигел Жоан с досадой повернулся, но продолжал говорить садовнику, что хочет привести в порядок самшитовую аллею. В глубине ее, он заранее это обдумал, прямо напротив фонтана-раковины из желтого фаянса с разбросанными по ней красными и лиловыми цветами, будет сделана большая птица, так сантиметров шестьдесят в высоту, с клювом, обращенным к воде, и чуть приподнятыми крыльями, точно, утолив жажду, птица собирается улететь. Это будет очень изящная, очень красивая вещь, обещал ему садовник, в знак уважения снявший берет, как только появился Диого Релвас. Кивком почти лысой головы он указал Мигелу Жоану на старого хозяина, явно обеспокоенного и зло чертящего носком сапога по почерневшему от дождей песку.
— Вы меня слышали, Мигел Жоан? — спросил землевладелец.
— Будьте добры подождать, я сейчас иду.
И он продолжал объяснять садовнику, с какой стороны клумбы должны быть посажены красные гвоздики, с какой — белые розы, а в центре наоборот: белые розы около красных гвоздик, а красные гвоздики около белых роз. И больше никаких цветов, только розы и гвоздики.
Диого Релвас отметил не только дерзкое поведение сына, но и его пренебрежение к только что услышанной новости. Ужасающей новости! Особенно печальной примете времени! Диого Релвасу казалось, что нужно действовать, действовать как можно скорее, поднять на ноги всех, кто против царства анархии. А она-вот вам, пожалуйста, здесь, агрессивная, наглая, с убийствами запросто, при свете дня, точно это охота на зверей. Ну чего еще не хватает, чтобы люди уразумели, что им и их состояниям грозит смертельная опасность? Если возможно было прийти к тому, к чему пришли, то ко всем чертям всех сомневающихся! Всех, кто не с нами, всех, кто против нас, надо давить. Никаких уступок! Уступки уже завели нас бог знает куда.
Последние годы он жил в стороне от всего итого, он целиком был занят своими личными бедами, а вот теперь на него обрушились зги неожиданные и ужасные события: убили короля и принца. Он все еще видел их перед собой, видел то утро, когда они прибыли к нему с визитом, слышал голос его величества, ему никогда не забыть теплый, дружеский тон короля, который отрицал то, что он, Релизе, предвидел; к несчастью, это случилось, Релвас как раз того и боялся, грустно, грустно, что он не приложил усилий, чтобы к его словам король прислушался. Выходит, и он среди виновных.
Ожидая Мигели Жоана, Диого Релвас вошел в гостиную, когда из внутренних комнат послышались щебечущие голоса двух его внучат. Так вот для них — это точно, — для них жизнь утратит смысл, если не будут приняты нужные меры. А отец развлекается, давая приказы садовнику, как будто (лучившееся его не касается. Вот эта безответственность Мигели Жоана всегда и выводила его из себя!
Диого Релвас направился к стеклянной двери, собираясь снова позвать Мигела Жоана, но столкнулся с ним в дверях. Мигел Жоан старательно вытирал ноги, в то время как Диого Релвас взирал на него с неприязнью.
— Я счел нужным попросить вас уделить мне несколько минут внимания. Вам не передали?
— Передали, но я… не мог поверить, что вы… Я предположил, что слуга ошибся.
Землевладелец, кивая в такт его словам, думал: «Что скажут обо мне, если я тебе разобью морду! И сейчас же… Не произнося больше не единого слова».
Так вот, вы, Мигел Жоан, ошиблись, а не слуга, вы ошиблись еще раз в своей жизни.
— Виноват…
Враждебность молчания стала явной.
— Я считал, что в такое время… Вы знаете, что убили короля и принца?
— Знаю. Это случилось, когда они возвращались из Вилы-Висозы… В них стреляли.
— Какие же вы приняли меры для охраны своего дома?
— Никаких! — ответил Мигел с той же холодностью. Диого Релваса ответ взбесил. Это уже слишком, он не чувствует даже отцовского настроения, которое вынудило приехать сюда, чтобы побеседовать с сыном.
— Не говорите мне, Мигел Жоан, что вы душевнобольной. И не смотрите на меня такими глазами. Хотя вы и сумасшедший, явно сумасшедший. Это единственное разумное объяснение, какое я могу дать…
— Возможно… Кто тебя сюда приглашал?
Диого Релвас размахивал руками, не в силах сдержать овладевшую им ярость.
— Не говорите «возможно». А признайте себя помешанным.
— Вот теперь мне понятно, почему вы лишили меня всех прав. Благодарю за объяснение, — согласился * Мигел Жоан с нарочитой учтивостью.
— Не усложняйте, Мигел, не усложняйте. Прошу вас во имя любви к богу, не вынуждайте меня переменить намерение, приведшее меня к вам.
Было бы лучше, если бы он держался спокойнее. У него опять возникло желание убедить сына разумными доводами — это большее, на что Диого Релвас был способен, ведь еще минута — и он поддастся эмоциям и тогда уж не ручается за последствия. Диого Релвас все время смотрел на стоящий на столе хрустальный кувшин, который ему так хотелось хватить об пол и увидеть, как он разлетится на мелкие кусочки. Может, тогда сын поймет, что должен переменить свой тон. Ведь Диого Релвас или был подчеркнуто вежлив, или подчеркнуто груб, либо — либо, он не умел себя вести иначе. И сын это знал. Да и все это знали. Так зачем же вызывать на грубость? Какую физиономию скроит Мигел Жоан, если он без обиняков скажет, что доверил внуку ведение дел в хозяйстве Релвасов только потому, что не считает сына сведущим в подобном деле? Что, этого тот добивается?!
Диого Релвас приехал сюда совсем не для того, чтобы усугубить уже имеющиеся между ними разногласия. Он приехал, вернее, его привела сюда предусмотрительность — дальний прицел или, возможно, желание установить разумные отношения.
Он повторил приблизительно то же, что говорил в тот день, когда Мигел и Андраде — отец его вдовой невестки — приезжали к нему относительно семейной кооперации, которую хотел создать Релвас. Делал он это явно нарочно и не смотрел в лицо сына.
— Вы, Мигел Жоан, меряете всех своей меркой. Я лично никогда не хотел вас ни унизить, ни обойти. Я хозяин дома — моего дома, имейте это в виду, и еще: запомните — все решаю я один, только один. Руй Диого без меня шагу не делает. И так будет до моей смерти. Каждую бумагу он будет подписывать у меня. Однако все это завтра же может перейти в ваши руки, Мигел Жоан, если другие члены семьи сочтут вас наиболее способным для такого дела. Так что все зависит от вас. Я счел уместным дать хозяйничать Рую Диого потому, что он самый взрослый из моих внуков, и для того, чтобы все оценили мое стремление дать власть в руки молодым, которые представляют будущее. Разве это непонятно? Но меня не захотел понять тот, кому следовало бы понять в первую очередь… Терпение! Говорю вам это с горечью и уверяю вас в своей решимости не менять то, что кажется мне хорошим. В этом я был, есть и буду непреклонным.
Да, он шел на соглашение, да, он шел на уступки, придумывая объяснения, которые казались бы правильными, не являясь таковыми. Он начал заботиться о внешней стороне разговора, да, и он стал играть в подобные игры. Это был факт.
— И я считаю, что, несмотря на го что у вас было важное дело, пусть важное, вы не должны были отнестись невнимательно к моему появлению. Ведь я, я к вам приехал, Мигел Жоан, я, ваш отец. И чего такого особенного я хотел от вас, в конце-то концов? Не так уж и много! Обсудить, с вами известие, и довольно прискорбное, и вместе с вами подумать о тех мерах предосторожности, которые следует принять во избежание непредвиденных действий республиканской канальи. И опять же: я пришел к вам… Это означает, что я превыше всего ставлю интересы нашего дома.
Он помолчал. Взял хрустальный кувшин в руки и сделал вид, что заинтересовался игрой его граней.
— Я приказал запереть ворота… Это — то элементарное, что надлежит сделать. У вас есть пистолет?
— Пистолет и четыре полных обоймы, — ответил Мигел Жоан, не поднимая головы.
— Поднимите голову… Вы же знаете, что я люблю видеть лицо того, с кем разговариваю. Чтоб все как есть, начистоту!
— Это не так просто…
— Что вы хотите этим сказать?
— Что не так просто забыть, как вы меня оскорбили в присутствии слуг, именно в присутствии слуг. Все остальное значения не имеет! Я ведь женат, и я отец троих детей. А вы, сеньор, обращаетесь со мной, будто я, ну… Диого Луис…
— Говорите дальше! Что вы еще желаете мне сказать?! Пользуйтесь случаем, выкладывайте.
— Я сказал все.
— Не много.
— Достаточно.
Диого Релвас поставил кувшин на бюро, когда услышал голос внука, отдающего распоряжение кучеру запрягать лошадей. Твердость в его голосе пришлась по душе землевладельцу. И он с удовольствием отметил, что твердость эту внук унаследовал от него, Релваса, хотя его порывистость явно была свойственна крови рода Перейра. Но твердость, твердость — от деда с материнской стороны. Да, он умеет приказывать. Так ведь это его внук, разве н-нет? — заметил землевладелец сам себе. Мигел Жоан истолковал его улыбку по-своему и стал слушать отца несколько по-иному, спокойнее.
К согласию они пришли легко: слуги, пользующиеся большим доверием, будут сторожить дома, верхами на лошадях, женщины и дети одни на улицах появляться не должны, капеллан Алдебарана отслужит десять месс, на которых будет присутствовать вся семья, и они пошлют как можно больше слуг на королевские похороны. День похорон короля и принца должен стать днем национального траура. «И днем наказания убийц», — заключил Мигел Жоан со свойственной ему заносчивостью. Он отдаст приказ управляющим отправить людей на похороны в лодках, это обойдется дешевле, не говоря уже о том, что, когда едут все вместе, нет возможности кому-то в Лиссабоне отлучиться и не присутствовать на похоронах. От этого люда всего можно ожидать, всего. К тому же не слышал ли он, что чернь готовится создать классовый союз?
Нет, этого Диого Релвас не слышал, никто ему об этом ничего не говорил. Кто же это?… Ну и ну! Что же смогут эти идиоты сказать друг другу? Вначале он заволновался, но потом счел полученное известие смехотворным. Мигел Жоан предлагал покончить с теми, кто собирался это сделать, и немедленно. Нужно разузнать имена зачинщиков и отправить их в кутузку, подведя все под декрет, подписанный королем накануне убийства.
— Я не читаю газет, — сознался обескураженный землевладелец. Интересно, о чем думает Руй Диого, не ставя меня в известность относительно таких важных дел?
Сын пояснил:
— По этому декрету, можно мгновенно выслать из страны, отправить в заморские колонии всех, кто повинен в преступлении, которое ставит под угрозу высшие интересы государства Главные руководители республиканцев арестованы… Так что схватить оставшихся на свободе и повинных в смерти его величества не так уж трудно.
— Жоан Франко не умеет вводить диктатуру, — с сожалением отметил сеньор Алдебарана. — Декрет запоздал…
Два дня спустя эту же самую мысль он подчеркивал, беседуя с Зе Бараоной, которому предлагал созвать директоров Ассоциации земледельцев и политических деятелей, опирающихся на земледельцев, как он называл себе подобных.
— Пришло время для решительного, твердого выбора. Мы каждого должны заставить взять на себя ответственность за создавшееся положение. Страна окажется на краю пропасти, если мы не будем бить тревогу. Слепые поводыри слепых не должны быть в наших рядах, Зе Бараона.
— Почему же вы отказались от места, предложенного вам в Ассоциации? Ваша вина не становится меньше от того, что вы видите опасность, — наоборот, увеличивается…
— Я своей вины не отрицаю… Но спрашиваю: пойдет ли ко дну земледелие, если такие люди, как мы с вами, исчезнут? Хочу думать, что нет. Хотелось бы думать, что нет. Однако я все чаще и чаще замечаю, что разложение тронуло людские души и делает свое дело…
— В нужный момент, Релвас, люди всегда находятся и держатся на высоте положения, вы пессимист…
— Я стараюсь себя проверить делом и извлечь из проверки урок. Диктатура Жоана Франко началась под звуки фанфар, а толк какой? Тут же все стихло и диктатуры как не бывало. Говорили, что причина — наш мягкий португальский характер: мы даже на корриде не убиваем быка! А результат налицо: убийство на улице, на глазах у полиции и королевской стражи. Декрет запоздал, Бараона. Теперь уже кнутом и пряником мало чего достигнешь…
— Посмотрим, что сделает новый король…
— От вас я бы желал услышать совсем иное, а именно: сделаем все возможное, чтобы новый король незамедлительно исполнил свой сыновний и братский долг. Хотя бы это!..
— Отечества создаются слезами, — ответил Зе Бараона, воспользовавшись фразой, сказанной им совсем недавно на одной из дискуссий в Эворе среди землевладельцев Алентежо.
— Лучше бы заставить плакать тех, кто собирается погубить отечество. В противном случае мы все будем у пропасти. Это я вам говорю. Похоже, что либерализм — модель нам чуждая и непригодная для португальской действительности. А если это так, то нужна диктатура, и серьезная. Без всяких компромиссов.
— Управлять страной, Диого Релвас, трудно.
— Без сомнения. Но тот, кто управляет, должен предвидеть трудности. Мы не можем идти на поводу у событий. Вот поэтому, и только поэтому, я настаиваю на срочности созыва земледельцев и политиков, которые были бы готовы взять на себя ответственность. И без демагогии… Или н-нет?
— А я потому же говорю вам, что сейчас не время для бравады. Путь мы найдем, без сомнения. Знать бы, на кого можно рассчитывать, — это во-первых… И не терять головы…
— Может, Зе Бараона, мы поймем, что теряем голову, только тогда, когда она покатится с наших плеч? Вот чего я боюсь!..
Глава XIX ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?
То были справедливые опасения.
Сколько же времени они еще будут идти, идти, держась за руку слепых, слепых поводырей?
Созвали Государственный совет, очень хорошо, прекрасно. И вот когда все признали, что необходимо усилить диктатуру, вдруг появилось правительство миротворцев. Выходило дело так, точно насилию еще должно было принести извинения, должно было пойти на соглашение с убийцами. А ведь если не хватило смелости сделать то, что надлежало, то нужно было хотя бы призвать новый кабинет к принятию мер устрашения. А что получилось? Стране предлагалась коллективная трусость. Что, он преувеличивал?! Тогда что же говорить об отказе от прошлого, которому приписывались все пороки? Кое-какие имелись, без сомнения, но теперь было не то время, когда можно было надеяться на их исправление, скорее наоборот, ибо страна нуждалась не в прочности власти, а в ее силе, без которой нет ни созидательного труда, ни душевного покоя. А что правительство делало?… Вместо того чтобы высылать за пределы страны всех подозреваемых в насилии, оно распахивало двери тюрем с политическими заключенными и убийцами короля, вроде бы сама корона прощала преступление и даже оправдывала его. Жоану Франко предложили отправиться в изгнание, и стране без стыда и совести была навязана монархия по английскому образцу, и это тогда, когда англичане хитрили, входя в сделки с немцами, чтобы украсть принадлежащие Португалии заморские территории. Страна подавала в отставку. И хотя он считал, что любое правительство в первую очередь должно обращать свои взоры на метрополию, отдавая предпочтение сельскому хозяйству, разработке полезных ископаемых, короче земле, — это совсем не значило, что земли, открытые нашими мореплавателями, следовало отдавать кому-то другому. Нация имеет право располагать резервами для будущего. Неужели те, что посягали на земли, принадлежавшие другому государству, не понимали, что они попирают священное право собственности?
И результаты не замедлили сказаться.
— Вот они, мои сеньоры, налицо, и без вашего на то разрешения. Землекопы организуют свою ассоциацию. Это, возможно, и смешно, если бы не было грустно. Ведь завтра их примеру последуют все остальные. Вот я и спрашиваю вас: мы что, готовы разрешить, чтобы нам ставили условия относительно оплаты труда? Когда я говорил об опасности, которую несет индустрия, многие пожимали плечами, считая меня выдумщиком. А теперь вот, полюбуйтесь: вместо рабочего дня от восхода и до захода солнца с вас спрашивают двенадцатичасовой рабочий день, и за большие деньги, не понимая, что все это кончится тем, что мы, землевладельцы, будем вынуждены оставить свои земли — ведь нам все тяжелее и тяжелее. Заниматься в настоящее время земледелием — это своего рода искусство весело беднеть. И если мы пойдем на их условия, то станем нищими. Или н-нет?!
— Да нас раньше, чем мы станем нищими, прикончат! — крикнул кто-то из зала.
— Верно! — откликнулся хор голосов.
Тут послышались хлопки, вначале нерешительные, потом уверенные, а уж потом все бурно зааплодировали.
В пылу требовательного, громкоголосого выступления Диого Релвас, казалось, молодел. Однако в его золотых глазах живости не было, и одна рука все время искала опору, чтобы другая могла подняться и, точно коса, резануть пространство.
— Что касается меня, то я уже решил, что не соглашусь ни за какие коврижки, чтобы кто-то из моих слуг принадлежал к этой ассоциации. Ведь за землекопами, за этой чернью, стоят образованные люди. И они хотят взять нас с той стороны, с которой мы больше всего уязвимы. Землекопов не наберешь на скорую руку, не пойдешь искать в другом месте. Однако и нашим заливным землям не обойтись без их лопат… Я люблю правду-матку. И потому спрашиваю вас: что же мы будем делать?!
Диого Релвасу удалось собрать в зале самых крупных землевладельцев и заинтересованных в этом вопросе председателей муниципалитетов. То, что ждать от собрания решительных мер нечего, он понимал хорошо, но хотел знать, на кого можно рассчитывать в его крестовом походе против организаторов будущей ассоциации. Инициатива в этом вопросе должна исходить от землевладельцев — это ясно, к этому он пришел на собрании Ассоциации земледельцев. А единства между ними не было. Они давали себя разобщить, а следовательно, и передавить, как ягнят. Он привел пример с земледельцами, а большинство присутствующих осталось безразличными к его словам, хотя он подчеркнул опасность, которую создавало возникновение первого сельскохозяйственного синдиката. Какой-то тип даже сказал, что нет закона, который запрещал бы трудящимся создавать свои организации.
На что в знак протеста Фортунато Ролин поднял свой крепкий кулак. Как же не хватало Диого Релвасу таких вот людей, способных, если нужно, взяться за винтовку! Правда, два года назад у Ролина было кровоизлияние и левая сторона наполовину осталась парализованной. Теперь это была, скорее, карикатура на сильного и решительного человека, каким он был раньше.
Выступления продолжались, не прибавляя ничего к уже сказанному. Многие просили слова, чтобы услышать самих себя или чтобы уколоть других, оскорбляя их публично. Вот тут-то один арендатор из Бенавенте и поднял голос против владельцев заливных земель, обвиняя их в слишком высоких арендных ценах.
— Этот вопрос сегодня не стоит на повестке дня! — крикнул ему Жоан Виторино с первого ряда.
— Меня приглашали для разговора о проблеме земледелия. И я здесь именно поэтому. И говорю, что земледелие страдает из-за недопустимо высоких цен на аренду земли, а совсем не из-за Ассоциации землекопов; что это такое, еще никто не знает, в глаза, как говорится, не видел. Цены и ведут к кризису в сельском хозяйстве.
Такое выступление нашло поддержку: кое-кто стал на сторону выступавшего, в зале зашумели. Диого Релвас улыбался. Это был еще один урок тем, кто с ним не соглашался. Ведь что ни день, то урок, если, конечно, быть внимательным к происходящему. Какое-то время он дал собранию пошуметь, потом попросил тишины. Собравшиеся должны подчиняться большинству, как известно. Иначе с пользой работать невозможно: ведь никто же не пришел сюда просто так, с целью провести свободное время или развлечься. Поэтому он попросил уважаемое собрание высказаться относительно конкретного случая: должно ли собрание заниматься сегодня вопросом арендной платы?
— Кто за? Прошу встать…
Встал только арендатор из Бенавенте, который с испугом смотрел по сторонам в ожидании, что встанут и другие. Да, их, конечно, не большинство, ведь организаторы собрания знали, кою приглашали, но все же здесь есть и те, с кем он говорил об арендной плате, и не раз, — так в чем же дело? Выходит, они решили оставить его в одиночестве? В отчаянии арендатор поднес руку к голове, думая: «Несчастный, несчастный, никогда тебе больше не арендовать и пяди этой земли». О том же думал и Диого Релвас, и те, что теперь ему улыбались: ведь арендатор, что похож был на попавшую в западню птичку, вызывал улыбку сострадания.
— Ваше предложение отвергнуто единогласно, — сказал хозяин Алдебарана. — Похоже, земледельцев волнуют другие вопросы, более важные для сельского хозяйства в целом. Арендная плата на землю — не долговое обязательство. Да и разве вас заставляют арендовать землю? Отвечайте!..
Арендатор покачал головой и развел руками, точно просил чьего-то покровительства.
— Я вам дам один совет: если вас не устраивает арендная плата, оставляйте землю. Это не проблема земледелия, это ваша личная проблема. А мы здесь совсем не для того, чтобы заниматься вашими проблемами…
— И будет лучше, если вы оставите зал, чтобы не мешать нам работать, — заметил То Ролин, не поднимаясь со стула.
— Верно, верно, — крикнули сразу несколько голосов. Перешептываясь, они спрашивали: «Кто же привел это чучело на собрание?» Ошеломленный председатель муниципалитета ответил, что этот человек попросил у него разрешения присутствовать на собрании, он счел это возможным и разрешил войти в зал. Тут Мигел Жоан встал с места и подошел к ряду, где сидел арендатор, предлагая тому выйти.
— Пожалуйста. Да-да, это я вам! Вы еще не поняли, что вы здесь лишний? Давайте выходите быстрее! У нас еще много дел!..
Диого Релвас счел благоразумным потребовать тишины, но зал зааплодировал инициативе его сына, понимая, что аплодирует и самому Диого Релвасу; потом, когда Мигел Жоан взял арендатора под мышки и почти донес до двери, загрохотал от смеха.
И успокоился.
Решение послать телеграмму правительству, в которой собрание требует бороться с анархией, было принято единогласно. Текст телеграммы зачитал тощий и молчаливый Перейра Салданья:
«Земледельцы Рибатежо и все собрание приветствуют Ваше величество, просят поддержания порядка, наказания всех предателей на благо Нации и Короны».
Из— за слов, шедших в конце телеграммы с больших букв, возник спор с Жоаном Виторино. Жоан Виторино считал, что слово «Корона» должно было идти перед словом «Нация», но не получил поддержки большинства, которое считало обратное. Тогда в знак согласия с большинством он протянул руку Салданье.
Когда собравшиеся в зале покидали здание муниципалитета, на дворе стояла ночь. На улице по углам жались неясные тени, скрывавшиеся в этой ночи. Диого Релвас пригласил кое-кого из землевладельцев поужинать, он хотел поговорить о важном деле: время не ждет и завтра уже может быть поздно. Жоан Ролин, старший сын Фортунато, предложил им свой дом — он всегда и всем был готов услужить, а тут такая честь — оказать услугу столь известным людям. Он был любителем этикета и полная противоположность отцу, старому Ролину, которому этикет нужен был как корове седло.
Хоть вина было и немного, дискуссия приняла беспорядочный характер.
Ролины высказывались за лобовую атаку против Ассоциации землекопов, после того как она образуется. Они считали, что тогда все средства будут хороши. А именно: в тот вечер, когда правление Ассоциации соберется, из окон должны полететь и мебель и люди, чтобы, как говорил Карлос Ролин, «все они, как можно скорее, оказались на улице». Мигел Релвас был с ним согласен, хотя сказал, что лучше бы «подпалить весь этот навоз».
— Хуже всего, — сказал Перейра Салданья, — что закон…
Но Жоан Виторино объяснил ему, что «закон — это мы, и никто другой», и если двор считает возможным бездействовать, то тому, кто первый столкнулся с беспорядком, надлежит все поставить на свои места. К примеру: схватить одного из этих типов и повесить голым на позорном столбе. Живьем и голого. А это гораздо хуже, чем убить.
Тут Диого Релвас напомнил им, что еще существует печать и другая сторона может найти основание для осуждения любого насилия.
— Сейчас модно заигрывать с народом, хотя, к чему это, — непонятно. Но что мы можем против моды? Пока…
— Так что ты предлагаешь? — спросил Фортунато Ролин, глядя на него гноящимся и немигающим глазом.
— Как и вы, считаю, что все средства хороши. Мы должны идти до конца… И можем начинать действовать хоть сегодня. Прежде всего следует узнать имена главарей и оказывать на них и их единомышленников давление. Вот вам первая задача. Я абсолютно уверен, что кто-то из этих типов работает у нас.
— Короче: разбить яйцо прежде, чем цыпленок вылупится сам, — пояснил улыбающийся Виторино.
— То самое. И после этого мы сможем преподать им урок. Мысль повесить одного из них голышом на позорном столбе, по-моему, гениальна! Поддерживаю ее целиком и полностью.
— Но надо иметь в виду, что они не боятся, — заметил То Ролин. — Да, те, кто не связан семьей…
— Тогда мы договариваемся и не даем больше работу главарям, не объясняя причин. Ведь никто не может запретить нам отправиться на площадь, где толкутся землекопы, ищущие работы, и выбрать из них тех, кто нам подходит. Перейра Салданья и я, члены компании, можем помочь в этом деле.
— Но даже если это так…
Ты, Фортунато, не веришь, что их испугает голод?
— Если дед мне разрешит… Все угольщики в Англии объединились и при случае помогают тем, кого арестовывают, — пояснил Руй Диого. — Не думаю, чтобы наши землекопы были одиноки, без поддержки.
— Хорошо. Предположим, они выстоят. Если так, то мы уже сегодня должны подыскивать доверенных людей, которые войдут в костяк этой организации. Им, если необходимо, можно и заплатить.
Присутствовавшие заулыбались, услышав предложение Диого Релваса.
— В этом случае мы в тот же день узнаем, что там происходит. И, когда будет их съезд, подыщем трех или четырех человек, вроде этого арендатора из Бенавенте. К этому я пришел, извлекая урок из сегодняшней встречи. С дураками всегда легче заварить кашу. И густую… — И, повернувшись к председателю муниципалитета: — Все остальное вы возьмете на себя. Обращая внимание на то, что Ассоциация — центр беспорядка, прикажите ее закрыть…
— Я не уверен, есть ли такой закон…
— Нет закона, который бы разрешал беспорядки. Посадите их в тюрьму или куда хотите. Но выполните свою роль…
Мигел Жоан вышел вперед и вручил отцу бумагу, объяснив шепотом что к чему. Землевладелец Алдебарана, с гордостью посмотрев на сына, утвердительно кивнул головой.
— Здесь есть один человек, который хорошо работает… Тут вот у меня шесть имен. Имена главарей Ассоциации. Из них двое служат у меня. Двое у Перейры Салданьи…
— Кто такие, кто они? — послышались вопросы.
— Один — сын старшего пастуха, Рамальета. И внук вашего кучера…
— Боа Вида?
— Нет, этот — человек деловой. Другого, Дескалсо…
— Ничего себе!
— А у меня? — спросил Жоан Виторино.
— Ты пока чист. Подождем до следующего раза, если такой будет.
Все были уверены, что дальше дело не пойдет, на этих все и кончится.
— Да это же воробьи! — сказал Мигел Жоан. — Их едят с рисом…
— Не говори «гоп», пока не перепрыгнул.
— А у нас кто? — спросил Ролин, попросив сына сунуть ему в рот сигарету.
— У вас один… Зе Фомекас.
— Кто это Зе Фомекас?
— Сын сторожа, — пояснил То Ролин.
— О, о его здоровье я позабочусь сам… И немедленно.
— Фортунато, никаких насилий! Мы же договорились, что чадо припугнуть семьи… Прежде всего надо заставить действовать такую силу, как страх. Это самая лучшая машина порядка.
— А мне бы хотелось отделать этого типа. Это ведь мой крестник. У меня есть на него право. Ладно, отыграюсь на его семье…
Диого Релвас сиял.
Он хотел, чтобы и сын и внук были рядом, но Мигел Жоан очень ловко, под предлогом дать прикурить Ролину, отошел от отца. «Нужно за него держаться, — думал землевладелец. — Если этот год пройдет как надо, отдам ему часть акций Компании заливных земель. Он их заслуживает. Но он должен получить их из рук племянника, чтобы не зазнавался».
И Диого Релвас широко улыбнулся, точно уже присутствовал при сцене передачи.
Глава XX СОЛНЦЕ СЛЕПИТ, ЕСЛИ НА НЕГО СМОТРЕТЬ, НЕ ПРИКРЫВАЯ ГЛАЗ
«Вот скоты, несчастные скоты», — думал так же, как и другие землевладельцы, Диого Релвас, хотя и не так убежденно, понимая, что для организации Ассоциации землекопов время самое что ни на есть подходящее. Ведь землекопы не жнецы и не полольщики, которых можно найти где угодно, хоть в Бейре, хоть у черта на куличках — словом, где работы мало, а рук много и низкая поденная плата. Тех, кто способен держать деревянную лопату чуть больше человеческой руки и ею поднимать землю заливных земель, возводя дамбы, что сдерживают мощные потоки воды в периоды наводнения, тех, кто способен по всем правилам рыть канавы для сточных вод и расчищать рукава рек, не так-то просто найдешь, да и обучишь не скоро. Он только теперь осознавал это по-настоящему, только теперь понимал, что должен обратить внимание на эту большую, такую же большую, как его хозяйство, истину.
И работы нужно проводить вовремя и не прерывать их, не откладывать на потом, ведь дождь о себе не предупреждает — сколько бы ты ни молился на небо, — а Лезирия требует чистых канав, чтобы вода могла так же легко, как пришла, уйти, ну и дамб тоже, чтобы не погиб труд стольких месяцев. Укротителю диких лошадей требуются годы труда, а укротителю реки, у которой сила львиная, — и того больше.
Ассоциация землекопов — дело рук людей образованных, плюньте ему в лицо, если это не так. К тому же своих людей он знал, знал как старых, так и молодых, все они тихие и хорошие, готовые по первому слову лечь под поезд, если он того потребует. И чтоб они, эти люди, как-нибудь поутру проснувшись, решили, что им нужна ассоциация? Нет нужды долго раздумывать, чтобы понять, кто ими вертит. А между прочим, новый король и правительство входят в сделки с организаторами беспорядков, отменяя закон, который мог бы привести тех в чувство, и вселяют в них уверенность, что насилие дает свои плоды, если действовать достаточно настойчиво, — тому яркий пример-отмена закона. И все это на голову земледельцев — тружеников земли, точно обрабатывать землю, предоставляя работу двум третям португальцев, — смертный грех.
Похоже, Португалия была обязана отдать все свои силы, чтобы кормить лиссабонских лентяев и еще ублажать их, потворствуя капризам и злобе. Надо сказать, что и республиканцы и либеральные монархисты обманывали народ, внушая ему, что в такой нищей стране, как Португалия, можно жить припеваючи. Они твердили о Европе, говоря, что и португальцам пора занять место в ряду цивилизованных наций. Но каких, каких наций-то?! Была ли хоть одна, которую можно было назвать цивилизованной? Если словом «Европа» именовался прогресс — смелость, евангельская миссия в мире и порядок, то назовите, какая страна была «Европой» раньше нас?! Однако если «Европа» — это анархия и отказ от традиций, то нам надлежит от нее откреститься, отойти в сторонку, стать связующим звеном, всего-навсего связующим звеном между Старым Светом, Латинской Америкой и Африкой. Тогда мы чувствовали, что на верном пути. Да и теперь мы должны бы быть верны духу той миссии, которая выпала на нашу долю и по части которой у нас большой опыт. Назначение нашего народа — о народе нужно говорить только в данном случае — оставить свой след на других континентах, не покидая своей родины. А родина наша — это земля, сельское хозяйство, да, господа, земля, мать национальных добродетелей.
Он помнил, что раньше у него было другое мнение, но теперь он считал, что только в возрасте шестидесяти лет человек способен по-настоящему проникнуть в подлинную суть вещей. «Суть — прекрасное слово, — подумал он. — В нем есть что-то от таинства. И если в своем развитии человек приходит к общению с непреходящими ценностями, то, значит, он достиг совершенства. Или н-нет?!»
Диого Релвас раздумывал над всем этим и многим другим, Делился с сыном и внуком, сидящими против него у конторки. Он все время поглаживал бороду, собирая в руку седые нити слегка вьющихся волос. Из полученных от других землевладельцев сведений было ясно, что землекопы своих позиций не уступят, во всяком случае так просто и быстро, как бы хотелось хозяевам. Релвас уже объяснял готовому пустить в ход дубинку То Ролину, что совсем не умно делать из них мучеников. И тем более героев. Сам же решил посмотреть, что получится у других, и отложил свое вмешательство на какое-то время. И что же принес ему этот опыт других? Перейра Салданья беседовал с родными Рамальеты и Дескалсо, конечно очень хитро, как старая лиса, и получил одни обещания: они собирались поговорить с молодежью, но так и не поговорили, тогда как одного хозяйского слова должно быть достаточно, чтобы все было исполнено. Но эта молодежь — отродье дьявола! И болела дьявольскими болезнями — как еще назвать все это?… Корь, оспа — болезни детские, разве не так? А политика — болезнь нынешней молодежи. Но это у них пройдет, как проходит корь и оспа, — все дело во времени…
Фортунато Ролин не выдержал и вздул своего крестника Зе Фомекаса айвовой дубинкой. Парень, придя в чувство, сказал-таки крестному — вот так-то! — убийственную правду, заставившую землевладельца взъяриться. «Да, если хозяевам наша Ассоциация не по вкусу, так это потому, что она хороша для нас…»
Сказанное Фомекасом произвело на Диого Релваса такое сильное впечатление, что он понял: пора действовать. Он просто обезумел от ярости. Куда же по этой дорожке они придут, а?! Мигел Жоан только что сказал ему, что настоящий главарь всего-Борда д'Агуа, двоюродный брат Зе Педро. С ним вряд ли договоримся — разговаривать с Борда д'Агуа все равно что поливать себя же самого грязью.
— Пусть отец простит меня за смелость, — сказал Мигел Жоан Диого Релвасу, — но я вижу только один способ пресечь его деятельность: позвать его тетку, мать Зе Педро, и сурово, по-рибатежски, поговорить с ней. Ведь эта чернь только такое и понимает: или ее племянник кончает свои дела с Ассоциацией, или пусть она ищет себе другой дом. Мы не хотим иметь в Алдебаране неблагодарных. В Алдебаране республиканцев не будет!..
— И не выплачивать ей деньги, которые она получает после смерти сына, — добавил Руй Диого, уточняя мысль дяди. — Только так надо действовать в отношении этих Борда д'Агуа.
Старый Релвас качал головой: нет, ни разговаривать с ней, ни лишать ее крова он не будет. Тому причиной были не угрызения совести, нет, с чего бы ему их иметь? Ведь тот, кто смотрит на солнце, не прикрывая глаз, слепнет… И он стоял на своем:
— Нет, мучеников не хочу, нет! Если мы такое допустим, пропадем сами.
— Так, выходит, лучше дать возможность создать им их Ассоциацию? — спрашивал внук.
Диого Релвас поглаживал бороду и, не зная, на что решиться, ходил по кабинету, повторяя, что не желает вспоминать дочь, однако ее образ он видел там, во дворе дома, она точно призрак сидела на гнедой кобыле, которую он приказал пристрелить.
Руй Диого кисло и деланно спокойным голосом предложил:
— Землекопы сейчас в Моушан-дас-Гарсес. Я это узнал вчера. Набрать несколько человек для…
— Здесь не наберешь, нет, они не пойдут на это, — сказал Мигел Жоан.
— Тогда надо привезти из Алентежо… А ночью подпалить их барак и, когда они будут выбегать наружу, отходить их дубинкой… Спросонья да со страху они не поймут, что откуда.
В ответ ему Мигел Жоан улыбнулся одними глазами. Ему не хотелось открыто соглашаться с племянником, но в глубине души он считал, что это хорошо: землекопы нуждались в серьезном уроке — пусть не петушатся. И добавил то, что сам желал сделать:
— Зачинщикам ухо надо резать!.. Пусть это будет клеймом. Тогда ни здесь, ни в Алентежо их на работу уже больше никто не возьмет.
Только тут Диого Релвас нашел в себе силы ответить.
— Ни уха, ни пол-уха!.. У себя в доме я не хочу ничего подобного.
Он все еще помнил тот сверток, что оставил у него на письменном столе Счастливчик, и как он потом должен был собственноручно бросить его в Тежо. Это он сделал на рассвете.
Вспомнил и принялся тереть руки, точно их все еще жег срам Зе Педро, находившийся в свертке.
Диого Релвас разозлился и велел им уйти.
— Да. Оставьте меня одного, хочу побыть один…
Раннее холодное утро. Диого Релвас один, верхом на лошади, злой и тревожный, со свертком в мешке, привязанном к седлу спереди. Мешок все время подпрыгивает в такт идущей шагом лошади. Диого Релвас спешит, но лошадь идет шагом. Шагом почти два километра. Два бесконечных километра. На одном из поворотов появилась какая-то фигура, смертельный холод объял Диого Релваса, в голову вроде бы вошло тонкое лезвие клинка, потом опустилось вниз до самого живота. И тут он услышал: «Доброе утро, хозяин!» Не в пример обыкновению он ответил, сам не зная почему, ответил вместо того, чтобы, как всегда, коснуться пальцами полей шляпы. Он продолжал спешить, но ехал шагом, чтобы не чувствовать прикосновения к своим коленям подпрыгивающего мешка: ведь от самых ворот усадьбы он старался, чтобы мешок не касался его колен. Но Диого Релвас все время слышал, как тот терся о кожу лошади, производя странный звук. Человек, который смотрит на солнце, не прикрывая глаз, слепнет, повторял он про себя всю дорогу, видя перед собой останки слуги, которые вез. Потом ему все же удалось забыть о мешке, и он даже подумал, что Счастливчик поступил вполне разумно, привезя этот сверток. У берега Тежо он отвязал мешок, крепко сжал его в руке, точно давя то, что в нем было, и, привязав к нему камень, бросил в бегущие воды реки как можно дальше от берега. Потом отметил место, чтобы знать, где это произошло, и видеть его, глядя сверху из Башни четырех ветров. Месть завершилась. Все. Конец.
А возвращаясь домой, уже совсем медленно, он думал о дочери. И из-за дум этих пришел в ярость. Он чувствовал, что проклят ею, да, проклят своей Марией до Пилар. Почему он не смог ее простить?…
— Нет, никому они не отрежут уха, — повторил он сам себе. Но память тут же выдала ему:
«Да, если Релвасам наша Ассоциация не по вкусу, то потому, что она хороша для нас, для народа…»
Похоже, то было ответной местью…
…И главарь был двоюродным братом Зе Педро.
Спустя неделю в один из вечеров трое Релвасов вышли из кабинета хозяина Алдебарана, улыбаясь. Эмилия Аделаиде нашла их в музыкальном салоне и решила устроить маленькую вечеринку. Обе ее дочери были в Лиссабоне, гостили у дядьев Араужо, и ей, как видно, не хотелось рано ложиться спать, а возможно, она тосковала по вечерам графини. Ее английский дипломат теперь жил в Греции, но продолжал писать ей, все такой же влюбленный, готовый вступить с ней в брак по первому ее слову, для него было достаточно одного ее слова, только одного, чтобы сесть на корабль и прибыть в Португалию. И хотя Эмилия Аделаиде знала, что не скажет этого слова, сознавать, что она любима, ей было приятно.
— Сегодня вы выглядите на десять лет моложе, — заметил ей Мигел Жоан.
— Этим вы хотите сказать, что я на десять лет старше, чем кажусь… Поверьте, меня это не радует.
Диого Релвас пробыл с ними до одиннадцати, потом ушел к себе, но прежде, конечно, поднялся в Башню. Руй Диого уже не раз приставал к деду с вопросом: когда же тот разрешит проводить его наверх.
— Не торопись, внучек. Когда я умру… — И с горечью добавлял: — Возможно, значительно раньше, чем думают окружающие.
Ведь только он знал клятву, данную самому себе перед алтарем защитницы Алдебарана.
Но в гот момент землевладелец о ней не вспомнил.
— Будем надеяться, что ночь пройдет так, как нам надо! — пожелал внук, когда, прощаясь, подносил грубую руку деда к губам. Оба взглянули друг на друга с надеждой.
И вот что-нибудь около четырех утра господский дом сотряс взрыв, разбудивший весь Алдебаран. Вскоре все узнали, что около кабинета Диого Релваса разорвалась бомба и в стене зияет дыра, в которую может пройти запряженная волами повозка. Мигел Жоан отбыл в поселок, чтобы сообщить властям о с учившемся, и власти незамедлительно прибыли.
К воротам имения «Мать солнца», теперь уже охраняемым полицейскими, со всех окрестностей стекался народ. По двору в одиночестве расхаживал Диого Релвас, расхаживал, поджидая приезда председателя муниципалитета, как думала чернь, сдерживаемая блюстителями порядка по ту сторону дороги.
Он расхаживал до тех пор, пока на дороге не появилась черная коляска Релвасов, в которой ехал Мигел Жоан и толстый, малоподвижный Теодоро Симоэнс с увесистой папкой под мышкой, которую он всегда имел при себе с того самого момента, как охрана порядка в муниципалитете стала его обязанностью. В двух метрах от Релваса он обнажил голову и тут же исчез вместе с хозяином в доме, опасливо взирая на зияющую дыру в стене. Он был обеспокоен, это точно. Жена Теодоро Симоэнса очень волновалась перед его отъездом, дважды бухалась в обморок, что, совершенно естественно, привело того в подобное же состояние.
С землевладельцем Алдебарана он беседовал недолго. Оба они очень скоро пришли к заключению, что действовать против Релваса могли только люди Ассоциации землекопов.
Может ли он дать какие-нибудь показания, которые помогут суду в деле расследования?
Были выслушаны слуги, один из которых — Шестипалый — сказал, что видел Антонио Борда д'Агуа около ворот имения так что-нибудь около двенадцати. Говорил ли он с ним? Да, он сказал ему «доброй ночи», но Борда д'Агуа ничего ему не ответил. Но то, что это был Борда д'Агуа, он узнал сразу по походке вразвалку и по росту. Второго такого верзилы во всей округе не сыщешь.
Глава XXI НОРОВИСТЫЙ КОНЬ
Карлос Атоугиа, ставший после смерти карлика конюхом, очень обрадовался, когда старый хозяин приказал седлать Бен Ура, крепкого бело-фарфорового коня, голубые вены которого, казалось, скользили под его молочно-прозрачной кожей. Слуги называли Диого Релваса королем, да, с белой бородой он действительно походил на короля, а конь — его трон, с высоты которого все — и люди, и вещи — ему казалось мелким.
Верхом на лошади Диого Релвас не появлялся в поселке уже года четыре. Впрочем, и раньше такое случалось нечасто — тогда, когда он желал о себе напомнить. И вот теперь арест Антонио Жоакима Борда д'Агуа, похоже, побудил его это сделать. Диого Релвас всегда поддерживал в народе миф о своем бесстрашии, даже когда от страха бежали по коже мурашки.
— Еду в логово карбонариев…
— Будьте осторожны с этим сбродом, — сказала Эмилия Аделаиде, глядя на него с восторгом. Она почувствовала, что сердце отца открылось ей и стало нежным. «Похоже, — подумала она, — сидевшая в нем столько лет ядовитая змея, что держала его в напряжении, убита. И он выходит из кокона, который свила боль».
Уже сидя в седле, Диого Релвас попросил подать ему тот хлыст, которым он любил поглаживать лошадиную гриву. Этим же хлыстом, как видно, он собирался встретить и своих врагов. Хозяин Алдебарана любил коней крепких, тех, что не теряли нервность от излишней полноты. Он не признавал полных — ни коней, ни женщин. Благодарение богу, и по сегодняшний день он не утратил чувства красоты. Последнее время он даже возобновил свои поездки в Сантана-да-Карнота, так дня на два, на три. Тайну свою старик хранил умело.
А что он там делал?! Ишь что захотели узнать! Я считаю, что всю подноготную такого человека, как Диого Релвас, рассказывать хоть и интересно, но не совсем удобно. Но если вы обещаете хранить тайну, то могу добавить, что там, в Сантана-да-Карнота, жила Капитолина, да, в маленьком домике, в глубине цветущего сада, где еще и сегодня есть гостеприимная тень от виноградной лозы, вьющейся около колодца с самой свежей водой во всем округе Аленкар. До чего же хороша там земля! Истинная правда, хороша!
В тот самый вечер Диого Релваса ждало одно из самых больших удовольствий жизни. Оделся он со вкусом: в коричневую куртку, на голове того же цвета, чуть посветлее, шляпа, на сапоге — серебряная шпора, та, что была на нем в день королевского визита. Но сегодня одна, сегодня было достаточно и одной. Он огляделся — вокруг вроде бы не было ни души — и позволил себе согнуться. Ведь сидеть в седле прямо ему уже было трудно и не по возрасту, что правда, то правда. Теперь он ехал на спине Бен Ура, расслабившись. Бен Ур не имел себе равных в благородстве. Ехал Диого Релвас, стараясь держаться в тени деревьев и стен. Однако, завидев какую-нибудь человеческую фигуру, тут же выпрямлялся и подхлестывал животное, которое, подняв голову, шло красивым танцующим шагом.
Тем же шагом Бен Ур вошел и в поселок, а на нем Диого Релвас, ну прямо монарх, которому сдался осажденный им город, — гордо сидя в седле, стремена на должной высоте, колени согнуты, руки на поводе — все легко, непринужденно, точно наездник и лошадь составляли единое целое.
— Все еще держится молодцом, — поговаривали те, кто видел его на лиссабонской дороге.
Метров за пять они поднимались и, держа шапки и плащи в руках, приветствовали его — сеньора сеньоров, который потчевал их кнутом и пряником. Он же, не поворачивая головы и не глядя в их сторону, прикладывал в ответ два пальца к полям шляпы.
Теперь, видя, с каким уважением его встречали, Диого Релвас сожалел, что так давно не выезжал из имения. Путь им был продуман, продуман как следует: он проедет мимо двери местного касика, где чуть придержит коня, показывая себя хорошим наездником (у Бен Ура был прекрасный боковой шаг) — пусть видят все, — потом двинется к тюрьме, даст тюремщику две серебряных монеты — пожертвование взятым под стражу землекопам (он считал необходимым, чтобы его традиционная доброта была и на этот раз всеми замечена, тем более что она была адресована этим лодырям), и на секунду заедет в муниципалитет, где посоветует председателю, в присутствии всех его подчиненных, быть снисходительным к этим двоим, хотя они и отрицают то, что для всех очевидно.
На обратном пути он посетит больницу, чтобы навестить больных, подойдет к каждому и потом, наконец, остановится у двери таверны, где обычно пьют и беседуют землекопы. Он знал, что Ассоциация не прекратила свою деятельность, и вкупе с другими землевладельцами готовил им отпор. Достойный отпор. Но желал взглянуть в лицо врагу. Увидеть врага во весь рост. Особенно сегодня, решившись на все (ему нравилось так думать, хотя он и знал, что у него уже не было прежней твердости). С Зе Педро Борда д'Агуа он расправился, как считал нужным! И там, где считал нужным… Однако после того они оба умерли, думал Диого Релвас, Зе Педро умер физически, а сам он — морально. «Нет, этим типам я не должен давать денег… Я даю пять мильрейсов для всех остальных заключенных».
Кое— какие воспоминания все еще его волновали. И тогда его глодала ненависть, воспламеняя кровь. И тут он не удержался и решил поехать в сторону Тежо, совсем забыв повернуть лошадь, которой вонзил в бок шпору, отчего животное встало на дыбы, не зная, в какую сторону податься, и персе гало слушаться и хозяйского окрика, и хозяйской плетки. Диого Релвас в злости и волнении стал его успокаивать:
— Э-э, Бен Ур, спокойно, спокойно, о-о!
Но конь храпел и ржал, возможно испугавшись крепкой руки хозяина. На какое-то время Диого Релвас отвлекся на то, чтобы подчинить себе животное, посвистывал и поглаживал его гриву. Наконец конь успокоился, поднял уши и, высоко вскинув голову, пошел танцующим шагом. Однако, чувствуя, что пальцы хозяина все еще дрожат, держался недоверчиво. И тут два укола шпорой напомнили Бен Уру, на чьей стороне сила.
В небольшой бухте в излучине реки стояли лодки и баркасы со спущенными парусами и вознесшимися к небесам мачтами. Бездельничающие носильщики травили маленького упрямого пса, вцепившегося в мешковину, которую один из парней старался у него отнять, волоча пса по земле, потом поднял его в воздух и стал кружить вокруг себя, отчего все пришли в неописуемый восторг и зааплодировали. Войдя в раж, парень не заметил, как оказался посередине пристани, и теперь уже кружил висевшего на мешковине пса, совершенно обалдевшего от столь обычного для зимородка или ласточки полета, кружил выше своей головы и не заметил коня Релваса.
Веселье мгновенно стихло, как только Диого Релвас заорал на парня и тсуг от страха выпустил и мешковину и пса, который, с визгом шлепнувшись оземь, тут же бросился к одному из баркасов, откуда его звали. Бездельники поднялись и приветствовали сеньора Алдебарана, хотя некоторые тут же вслед ему стали корчить рожи, передразнивая его, конечно, делая вид, что почесывают воображаемую бороду.
Диого Релвас поднял пальцы к полям шляпы и проследовал дальше, к таверне, дверь которой была распахнута. На земле, прислонившись к стене таверны, сидел маляр Норберто, такой верзила, что, похоже, и свою профессию избрал потому, что в стремянке не нуждался. Он надвинул на самые глаза кепку со сломанным козырьком и размышлял о своей проклятой жизни, при которой в кармане нем даже ломаного гроша, чтобы напиться, ведь пьяному печаль не печаль, ему и море по колено. Тут он услышал стук копыт и увидел совсем рядом лошадиные ноги, но не поднял голову. На душе у него было тяжело.
Диого Релвас приблизился к двери, поинтересовался, есть ли кто в таверне. Похоже, никого. Никого внутри не было. Может, он слишком рано пожаловал, а может, его надули, дав ложные сведения. Он хлопнул в ладоши, что по обыкновению делал в подобных случаях, но никто к нему не вышел, даже хозяин.
— Эй, парень! Эй, ты!.. Поди принеси мне из таверны газеты…
Поскольку маляр даже не шевельнулся, он склонился к нему и тронул его кончиком хлыста. Норберто приподнял козырек и посмотрел на него прищуренным глазом. Но с места не двинулся. Диого Релвас задрожал. Они смотрели друг на друга.
— Ты!..
— Это вы мне?
— А ты видишь здесь кого-нибудь еще?
Шутник и балагур Норберто посмотрел вокруг и глухо сказал:
— Нет, здесь никого больше нет.
— Так вот пойди к Корте Нова и скажи ему, чтобы он прислал мне с гобой газеты.
Маляр пожал плечами и вынул из-за уха самокрутку.
— Ты что, не слышал? — заорал землевладелец.
— Да слышал, слышал. Но я вот думаю… Да, думаю, какого черта ты сам не слезешь с клячи и не пойдешь за своими газетами…
И опять Диого Релвас почувствовал, что вроде бы холодный и острый клинок вошел в его голову и прошел до низа живота. Он поднял хлыст, намереваясь ударить негодяя, который тут же отскочил на приличное расстояние на глазах у испуганных парней.
— Как тебя зовут, как тебя зовут, бандит? — кричал землевладелец, зашедшийся в злобе.
— Сейчас скажу, как же, на-кась выкуси, — закричал маляр, прячась за угол дома.
Диого Релвас было решил преследовать парня, но потом отказался от этой затеи, зная, что станет мишенью для насмешек шайки оборванцев, если тот уйдет от него, а похоже, что уйдет. Хоть бы узнать его имя, черт подери! Но ему ответили, что он, должно быть, нездешний, никто его здесь раньше не видел. Должно быть, поденщик, а может, и какой-нибудь бродяга.
В этот самый момент Диого Релвас был готов поджечь поселок, если бы на то были силы. Но сил не было, и он прошептал:
— Канальи! Когда-нибудь вы поплатитесь за все…
Глава XXII А ЖУЧОК-ДРЕВОТОЧЕЦ ПРОДОЛЖАЛ ТОЧИТЬ…
Карлос Атоугиа услышал стук копыт Бен Ура, но удивился их странному ритму. Подбежав к воротам, он увидел мощное тело Диого Релваса обмякшим, точно тот был мертв и привязан к седлу. На зов Атоугии поспешил управляющий, и они вместе замерли в ожидании хозяина.
Землевладелец проехал мимо них, ни взглядом, ни жестом ничего не объясняя, и остановил лошадь у дверей конюшни. Управляющий взял у него уздечку, Атоугиа, встав рядом со стременем, помог Диого Релвасу сойти на землю. Хозяин был мертвенно-бледен и дрожал, глаза его были прикрыты полями шляпы. Один из слуг пытался заговорить с ним, спросить, не болен ли он, но старик не мог ответить: гортань ему не повиновалась, язык отказывался поворачиваться и произносить слова — слова проклятья, которыми хозяин обычно потрясал мир.
Не выпуская из рук хлыста — Релвасу хотелось исхлестать, разбить все, — он спустился на землю и пошел по двору, прихрамывая, пьяный от стыда и ненависти. Поднялся в Башню — а-а! да, он шел исполнить обет, данный защитнице Алдебарана. Но в Башню он вошел как вор, считая, что отец и дед вправе спросить с него за случившееся. Снял куртку, снял рубашку, вернее — сорвал их с тела и взялся за хлыст со свойственной ему яростью.
Он хлестал себя хлыстом, бил, сек, ругая последними словами.
Потом, устав, бросился на стул, который стоял рядом, уронил на его спинку голову и обхватил ее руками, точно старался спрятаться от солнца, которое радостно сияло и заглядывало в окна Башни четырех ветров.
«А— а! Нет, никогда, никогда больше я не выйду отсюда…»
А насмешливый жучок-древоточец медленно, но зло точил полученную в наследство от деда мебель, точил, глодал, пожирал, точно пожирающие время часы…
Книга третья АБСУРДНЫЕ ВРЕМЕНА
Глава I СТАРЫЙ ХОЗЯИН
Теперь они видели его только издали, никогда не слыша его голоса, видели сидящим у одного из окон Башни четырех ветров господского дома в имении «Мать солнца». Он наводил на них страх, почти ужас. Был чем-то вроде грозного бога их сельскохозяйственного племени.
И бог этот был ближе любого другого к своим рабам, но только тем, что каждый день при въезде и выезде из деревни они видели его величественную фигуру, однако ни один из них не мог преклонить пред ним колени и, смягчив молитвой, вымолить справедливость или милость, даже исхитрившись получить малую толику снисходительности у любого другого, менее жестокосердого из всех суровых богов.
Теперь они видели его только сидящим. Должно быть, он сидит, думают они, потому что видят лишь плечи да голову, всегда покрытую черной кордовской шляпой с жесткими полями и низкой тульей, которую он стал носить после того, как приобрел в Испании племенного быка-производителя, столь необходимого для его коров. Из-под полей шляпы видна его густая борода да усы. Теперь и усы и борода, должно быть, совсем белые, белее лошадиной слюны.
Он удалился в Башню несколько лет назад, трудно сказать когда, и, похоже, будет пребывать гам до скончания века, безразличный ко всему на свете, надменный и мстительный, хотя патриархальная жизнь в Алдебаране зависит все так же от него. Одни — те, у кого хватает воображения, — утверждают, что видят, как вечерами он расхаживает по Башне, глядя на заснувшие поля, точно сторожит покой семейного кладбища, другие рассказывают, что встречают его в сумерках, только в сумерках, верхом на черном коне, хозяин укутан в испанский плащ, тоже черный, и что в благословенные ночи фигура его сковывает своим молчанием тех, кто желает с ним заговорить, и они теряют дар речи.
Он стал легендой, легендой на веки веков, чем-то вроде святого и тирана одновременно.
Но те, кто еще помнит его могущественным землевладельцем, место которого теперь занял его внук, рассказывают деревенским детям, указывая на него чуть заметным кивком головы и быстрым взглядом, чтобы припугнуть их, что Диого Релвас был высоким, стройным и красивым человеком, с пронизывающим взглядом живых светло-карих глаз, цвет которых напоминал старое золото.
А голос?!
О голосе его говорят как о чем-то волшебном. Голос его, бывало, перекрывал все голоса, затыкая рот всем и каждому, завораживал, околдовывал, гипнотизировал, так что уйти не удавалось никому, все оказывались в его власти.
Однако в тот вечер, когда он удалился в Башню, голос ему, как видно, изменил. И даже два дня спустя, когда он собрал своих домашних в большом зале, чтобы выразить им свою последнюю волю, он произносил странный монолог все так же тихо, с трудом выдавливая из себя слово за словом. Диого Релвас старался казаться спокойным, но волнения скрыть не сумел, хотя дрожащую нижнюю губу и прикрывала борода. Он приказал всем сесть, сам же встал во главе стола, взялся большими руками за спинку своего кресла и пробежал глазами по лицам тех, кто смотрел на него с вопросом. Нет, он, что бы с ним ни было, не собирался отвечать на их вопросы и тут же постарался предупредить даже попытку о чем-либо спросить его. Они должны были слушать его — и все.
А говорил он им приблизительно следующее:
— Я дал обет заступнице Алдебарана, что, как только почувствую холод в крови, удалюсь в Башню, потому что считаю себя обязанным хранить престиж нашего имени. Ясность ума меня заботила всегда. Иметь ясный ум не так-то просто, он вроде бы… особые очки с разными линзами… И которая лучшая — подберешь не сразу.
Но я старался быть внимательным… Несколько лет тому назад, когда точно — мне сейчас вспоминать не хочется, я решил, что не сумею перенести причиненную мне боль. Но смог и не умер, так как, к несчастью своему, был физически крепок. И шел из последних сил, как раненый зверь, который ищет место, где бы умереть. Я сопротивлялся смерти. Сопротивляться помогали мне вы… Однако не думайте, что я считаю себя повинным в том, что кому-то причинил зло. Зла я не делал никому. Я только старался быть справедливым…
Два дня назад я почувствовал, что кровь моя застаивается. Когда-то это должно было случиться. Это неизбежно. Меня оскорбили, а я, вместо того чтобы убить мерзавца, который меня уничтожил морально, задрожал, сидя в седле. А раз так, то я перестал быть главой этого дама, которому все же еще могу помочь советом, но не крепкой рукой. Я жалок… но не потому, что лишен богатства, а потому, что лишен смелости и мужества, чем всегда славились Релвасы…
Мир болен, болен, и в том даже мы, Релвасы, повинны. Мой отец, к примеру, в либеральных идеях видел доброе. Ведь одна из набальзамированных лошадиных голов — голова коня Дона Педро. И отцу мы все, без сомнения, обязаны большей частью своего состояния, однако люди нашего склада не должны утратить нажитые ими блага, из-за этого самого либерализма, от гнусных последствий которого, именно гнусных, я не оговорился, мы и страдаем, страдаем гак же, как и все, веря в прогресс, приводящий данный богом мир к полному беспорядку. Ведь прогресс — это вымысел, вымысел злого гения.
Мы допустили развитие промышленности и убедились, во всяком случае многие, что приносимая ею польза ведет к анархии. И мы даже тогда, когда это было еще в наших силах, не преградили ей дорогу. А нерешительность в этом вопросе могла бы стать и роковой для сельского хозяйства, которое до сих пор есть и всегда будет единственной опорой для сбившегося с пути человечества. Страна катится под откос… Сейчас я думаю, что, может, и не плохо предоставить ей эту возможность. Бывают моменты, когда лучше и для себя, и для других подтолкнуть того, кто катится под откос.
Когда же страна окажется в беде, а это будет — бог тому свидетель, — мы сможем протянуть ей руку помощи, вернув страну к национальным традициям. Вот тогда и придет наш черед наказать ее и наставить на путь истинный: жить под сенью отчего древа добрых людей…
И это будут люди земли, только земли, вот увидите, потому что только земля учит различать и ценить непреходящие ценности, теперь явно забытые, которые нам в Алдебаране надлежит сохранять, чего бы это ни стоило, даже если для того потребуется предать огню всех предателей и отщепенцев. Огонь очищает людей и нации. Огонь и кровь…
Еще я хочу сказать, что с сегодняшнего дня проводником моих идей на этой земле и в этом доме станет Руй Диого. Каждый день он будет наведываться ко мне в Башню и со мной советоваться. Не обсуждайте того, к чему мы с ним придем. Тех, кто это будет делать, не ждет ничего хорошего. Верьте нам… Бог будет нам в помощь…
Он уже не мог совладать с волнением. Старался лишь удержать в повиновении тело.
— Никто не вставайте… Никто не смотрите мне вслед… Он направился к двери, а когда его помазанник поднялся со стула и поспешил преклонить пред ним колени, прося благословения, остановился, заставил его подняться и кивнул головой в знак согласия, услышав заверения Руя Диого:
— Оставьте их на меня, я с ними управлюсь!..
Но этот священный обет никто не услышал. Сказанное Руем Диого осталось секретом деда и внука.
Порывисто, точно стремясь сорвать швартовы, землевладелец повернулся и исчез в коридоре. Какое-то время семья слышала его удаляющиеся тяжелые шаги. Потом там, наверху, в Башне, стукнула дверь, из которой он уже больше не вышел ни живым, ни мертвым.
Глава II КОШМАРНЫЙ СОН ДИОГО РЕЛВАСА О ГОРЯЩИХ БОРОДАХ И ОСВОБОДИВШИХСЯ ЛОШАДЯХ
Между тем из жизни Диого Релвас не ушел, нет. Наоборот, удалившись от людей, он смог стать более непреклонным и, потрясая мечом правосудия, не испытывать усталости в руке. Он мстил всем, исходя желчью, преувеличивал свою горечь, точно испытывал необходимость терпеть позор, чтобы были основания никого не прощать. Все должны помнить его до скончания века. И не забывать, никогда не забывать…
Республиканские канальи похолодели бы от ужаса, увидев адресованную им улыбку Диого Релваса. Отсюда, из Башни, он видел их крохотными, они были для него насекомыми. И он давил их всех безо всякой жалости.
Однако присутствия духа и способности мыслить было недостаточно, чтобы все его желания и пророчества осуществлялись, и мгновенно. Он располагал землей, скотом, слугами, состоянием… Но достаточно ли этого? Должно быть, нет!
Мог ли он утверждать, что в данный момент был смел?
На этот вопрос он предпочитал не отвечать и себе самому. Да, пожалуй, на этот коварный вопрос он бы сейчас и не ответил. Смелость во многих случаях проявляется в способности сдержать свои порывы, в умении выжидать… А в тот момент, когда враг выдохнется, провести свою линию в жизнь, и решительно, чтобы изменить положение дел. Чего, собственно, он хотел?… Самого простого — возвращения к миру, покою, пребывая в котором люди обычно принимают существующую иерархию — кому хомут, кому хлыст — и каждый рад своей судьбе и не желает меняться местами в мчащейся колеснице. Если бы ему пришлось это высказать кому-то, он бы подыскал более мягкую форму: избежать хаоса, воспрепятствовать людям вернуться к животному состоянию…
И этот крестовый поход выпал на долю внука Диого Релваса и всех тех, кто понял, что только прочный союз с землей, неприятие чуждых нации идей, уклонение от соблазна подражать тому, что делается за пределами страны, будут залогом ее экономической стабильности, морального единства и сплоченности, потому что каждая страна — это самостоятельный, неповторимый мир. А лучше сказать: «Алдебаран — это целый мир». Точно, так. И мир, который важно уберечь от пустых миражей. Пусть каждый займется тем? что выпало на его долю, и здравый смысл вернется к пастве.
Между тем времена были совсем не легкие. Где была теперь традиционная мягкость нашего народа, такого ласкового, такого наивного? Это были издержки, издержки образования и доступного печатного слова. Плохой пример подавали и дети землевладельцев, которые стали заносчивыми от университетской учености. Возможно, стоило вернуться к временам, когда учение было уделом священников — людей, не способных употребить книжное слово во вред, хотя книгам вообще нужно было бы объявить войну, а часть их, особенно вредную, сжечь и пепел развеять над морем.
Теперь у Диого Релваса было предостаточно времени, чтобы поразмыслить над всем этим.
И хотя внук, боясь увидеть деда случайно задетым копытом какого-нибудь либерального животного, многое скрывал от него, Диого Релвас, следя за жизнью с верхотуры Башни, видел и понимал, что волна народного недовольства идет во всю ширь и вполне может на какое-то время захлестнуть и Алдебаран. На какое?! И весь драматизм положения состоял в том, что он не знал, выпадет ли ему судьба увидеть конец этого безобразия или же он сойдет в могилу среди разгула обезумевшей черни. Он надеялся на бога, что бог не обойдет его своей милостью и дарует ему первое.
Однажды ему показалось, что внук тоже поддался моде бороться за республику, которой следовали многие, оправдываясь тем, что так им будет легче добиться ее падения. Диого Релвас рассвирепел.
— Короля не выбирают, как не выбирают отца, которого должно слушаться! — кричал он, будучи на грани апоплексического удара и указывая Рую на дверь.
А оставшись один, принялся размышлять и с сокрушенной душой пришел к совсем прискорбным выводам: «Люди не в состоянии избрать своим уделом горести, а они — ужасающая примета времени и обрушиваются лавиной, которая способна святого сделать дураком, а героя — трусом».
Тут он закрыл окна и отдался гневу: кричал, бил себя в грудь, точно желал ее разбить, чтобы не пришлось ей страдать от грядущих обид. Бил и кричал до полного изнеможения. А накричавшись до одышки, заснул.
И всегда ему снились сны. Нет, не сны, а, вернее сказать, его преследовали кошмары.
Вот он едет верхом по высокой, очень высокой, покрытой зеленью горе, он даже не думал, что горы бывают такие высокие. На нем новые доспехи, в руках его щит и копье, шляпа земледельца на голове, для того чтобы всем было ясно, кто он такой. Его сопровождают другие всадники, тоже земледельцы, но без доспехов и оружия, в гривы и хвосты их лошадей вплетены, как для боя быков, шелковые ленты. Они едут под звуки выходного марша тореро, исполняемого деревьями, что стали музыкальными инструментами, едут с победным видом, и вдруг среди всеобщей радости и аплодисментов, которыми встречают их красивые женщины, слышится чей-то грохочущий, угрожающий голос. Кому он принадлежит, неясно.
— Кто это едет?! Ответствуйте, кто едет?!
Диого Релвас шепнул одному из сопровождающих, тому, кто ехал в шлеме, закрывавшем всю голову:
— Пошлите его ко всем чертям и не отвечайте…
— Верно, капитан! Должно быть, это еретик.
Предположение, передаваясь из уст в уста, дошло до головы кортежа, где развевалось боевое знамя крупных землевладельцев. Все смолкли, даже лошади не ржали. Слышался только четкий ритм лошадиных копыт, под которыми дрожала перепуганная и притихшая земля.
И снова стал вопрошать голос:
— Кто вы?!
— Кто мы?! Ты нас не знаешь?…
— Знаю, и очень хорошо. Тот, кто едет, спасаясь от одолевающих его мух, в центре, — Диого Релвас.
— Откуда ты меня знаешь? — закричал хозяин Алдебарана, приподнявшись на стременах.
— Я — Зе Педро Борда д'Агуа, тот, кто объездил того коня, что под тобой. Ты считал, что убил меня, так нет. Вот он я, мой бородач! И теперь пути тебе нет, если не скажешь, зачем едешь.
— Так я убью тебя во второй раз.
Ответом ему был взрыв смеха, смеха подонков общества — он это понял тут же, потому что люди приличные никогда не смеются таким разнузданным и бесстыдным смехом.
— Ты слышал, что я сказал? — спросил его разозленный Релвас.
— Слышал, но ты не проедешь!
В этот же миг вся конница безо всякой видимой причины остановилась, точно передние ноги коней были подрублены. Релвас посмотрел на свою лошадь и обнаружил, что она стоит на коленях, осмотрелся вокруг и увидел, что все до единого всадники сползли со своих седел, так как огромный ужасный серп срезал миллиметр за миллиметром ноги лошадей. С передних рядов несся страшный крик — то ли потому, что направляющие были ранены, то ли по какой другой причине, только едва Диого Релвас очутился на земле, как рядом с ним оказались другие паладины крестового похода землевладельцев, объятые дымом и пламенем.
Что же это, боже небесный?!
У его друзей и товарищей горели бороды, и они бежали, спасались бегством, толкаясь и дерясь друг с другом, в то время как лошади, встав на дыбы, превратились в людей и, махая передними конечностями, ставшими руками, хватали эти бегущие факелы и смеялись, бездельники, радуясь бегству наездников, хозяев всей жизни.
— Кончилась их власть! — воскликнул гнедой конь.
— Больше не будем ходить под седлом, — добавил другой, белый, на вид породистый. — Пусть ездят на ослах, если те согласны…
Тут Диого Релвас понял, что пропал. Он знал, что если Зе Педро окажется с ним рядом, то превратит его в факел. Объездчик лошадей сожжет его, в том нет сомнения. И, закрыв лицо, хозяин Алдебарана бросился бежать, преследуемый табуном рассвирепевших кентавров, которые повторяли его имя четко и мрачно:
— Рел-вас! Рел-вас! Рел-вас!
Вдруг ему пришла одна мысль — он еще продолжал быть человеком ясного ума. Бросившись наземь, он прикрыл голову, делая вид, что мертв, и первая партия кентавров, сорвав всю листву с деревьев, пролетела над ним. Еще одно преступление этих людей: полетели зеленые листья! Эти мерзавцы не щадили ни женщин, ни детей!.. Убийцы!
Но упавшие листья прикрыли Диого Релваса. Он глубоко вздохнул. Должно быть, спасся. Крики кентавров доносились до него откуда-то издалека, он слышал разве что их отдаленное эхо, но рядом с ним кто-то жалобно плакал. Это были всадники с обгоревшими лицами. Если он себя обнаружит, то они тут же убьют его, сочтя предателем. Да, и он не найдет нужных слов для оправдания. Почему не сожгли его бороду?!
И вдруг — сладостный шум! — он понял, что рядом журчит вода. Должно быть, это сбегающий с гор ручей, ему казалось, он видит его хрустальную голубую ленту. Диого Релвас поднял голову и прислушался еще раз, все еще недоверчиво оглядывая окрестность. Никого!.. Он был один. Слава богу. Никому не надо давать объяснений. И пополз потихоньку к ручью и с волнением припал к нему, смочив в нем свою седую бороду.
Секундой позже Диого Релваса испугал громкий саркастический смех, тяжеленная ручища опустилась ему на голову, грозя утопить землевладельца. От кошмара он очнулся в холодном поту, все еще считая, что он у ручья, хотя он не стоял на коленях и доспехи не стесняли его движений.
В юг самый удивительный вечер — кажется, погожий — его впервые посетили предки. Дед Кнут, улыбаясь, стукнул его по плечу, показывая (вой крепкие и крупные зубы — ведь он ушел в лучший мир, так и не потеряв ни единого.
— Неужто я грежу? — спросил сам себя Диого Релвас. Но тут отец — молодой человек в сравнении с ним самим, ведь он предстал перед ним в том самом возрасте, в котором скончался, — ласково спросил:
— Ну, сын, чем же ты так перепуган?!
Глава III МАЛЕНЬКИЙ АПОКАЛИПСИС
Только спустя какое-то время Диого Релвас, поразмыслив над всем как следует, решил поведать своим предкам, до нелепого молодым в сравнении с ним самим, о причинах, побудивших его удалиться в Башню четырех ветров. Может, Башне надо дать другое название. Ее лучше было бы назвать «Башней четырех циклонов».
Так или иначе, но он видел, что вынужден дать объяснение, ведь ясно же, что он не мог сослаться на желание составить им компанию здесь, в Башне, из чувства дружбы или потому, что решил провести с ними свой отдых. Он был уверен, что отец и дед побьют его, если он предложит им следующее:
— Ну так будем принимать здесь солнечные ванны! Наденьте трусы, да, только в трусах. Мы должны лечь на пол на десять минут. Первый раз — не больше десяти минут…
Сказать им подобное значило накликать на себя если не гнев деда Кнута и отца, то смех.
Что говорить, дел в доме по горло, проблем невпроворот и все требуют разрешения, так что оба они сочтут подобное предложение за полное безразличие к земледелию. «Они еще и наполовину не знают, какие у нас тут дела», — тихо сказал он.
Отдавая себе во всем этом отчет, Диого Релвас знал, что исповедь будет трудной. Иного ждать нечего.
Он начал мямлить, повторять то, что мямлил, все бессвязно, неразборчиво — ужасная, печальная картина.
В старости с ним происходило то, что никогда не сличалось в молодости, и это при том, что он был большим любителем поговорить, ведь даже неполных четырех лет от роду он, едва выучивший полдюжины слов, не больше, произнес, как рассказывали, тост в день рождения бабушки Леферины, вздорной алентежской ханжи. Это стало семейной легендой. Судя по всему, подобные таланты и сеяли раздор между стариками. Бабушка считала, что он способен стать если не епископом, то уж, во всяком случае, каноником — он ведь так читал молитвы. А вот дед Кнут был в этом вопросе прочив жены, но совсем не потому, что ненавидел сутану, нет, а потому, что, по его понятиям, Релвасам надлежало заниматься более полезным делом.
Хорошо еще, что сейчас он не услышал, как Кнут шептал его отцу, не то жалуясь, не то защищая внука:
— Похоже, Диого страдает разжижением мозгов. Бедняга! Не иначе как из-за юбки…
И все— таки один из них решился спросить Диого именно об юбке, что тут же его обидело: как они могли подумать такое!
— А-а, вы об этом? Нет, никоим образом не это! Мария Жоана Ролин Вильяверде была примерной супругой, хотя матерью не ахти какой. Я не люблю Вильяверде, но совсем по другим причинам, которые ничего не имею! общего с женской верностью… Все Вильяверде очень заносчивы. — Потом, гневно взглянув на них, добавил: — Похоже, сеньоры думают, что мое меч го было бы здесь, в Башне, если бы мне изменила моя жена?…
— Женщина — это исчадье ада… — подчеркнул дед, соболезнуя.
— А я еще почище… и если бы случилась измена, мое место было бы в тюрьме из-за двух смертей сразу. Я бы убил обоих, уверяю вас.
Но даже это он не сумел сказать так, как следовало. От негодования он стал заикаться и пускать петуха. Отец снисходительно похлопал его по плечу. Сразу видно было, что он умер, когда ему еще не было сорока, и сохранил свой возраст. «Если бы ты не был моим отцом, я бы тебе ответил», — подумал раздосадованный Диого Релвас.
Несколько часов подряд он молчал, не разговаривал с ними, раздумывая над причинами своего странного состояния. И пришел к заключению: давно не курил. Должно быть, поэтому. Сигара или сигарета были необходимы, чтобы четко мыслить. А интересно, в своем шестидесятилетнем возрасте он должен просить на то разрешения предков? Да, ведь он никогда не курил в их присутствии… Тут он зашел за одну из портьер и раскурил гаванскую сигару, почти с жадностью затягиваясь дымом, хотя все время злился, что должен делать это тайком. В Башне стало дымно. Правда, ни один из предков не обратил внимания на подобное оскорбление. Ну и хорошо.
Теперь он себя чувствовал много лучше. Удивительное дело!.. Верхом на лошади или с сигарой во рту человек себя чувствует иначе, заключил он. Да, вот теперь он способен во всех подробностях, не опасаясь за память и правильно произнося слова, рассказать о причинах, приведших его сюда, к ним, на постоянное жительство.
— Я предлагаю вам создать триумвират, который предпримет особые действия, чтобы возвратились добрые времена…
— А разве добрые времена когда-нибудь были?! — простодушно спросил отец. — В том-то вся и штука, что их никогда не бывало.
Дед Кнут, оставив без внимания сказанное, бросил:
— Вы, должно быть, не помните проповедь одного святого, брата Жоана, который как-то в присутствии Дона Мигела…
— Вон куда! Дон Мигел! — вмешался отец Диого Релваса.
— Замолчите, — снова заговорил первый сеньор Алдебарана. — Судя по тому, о чем говорил твой сын, только новый Дон Мигел впряжет этот народ в оглобли…
— Но что же сказал брат Жоан?
— Приблизительно следующее: «Сеньор! От имени бога и религии я прошу ваше величество, чтобы вы покончили с этой либеральной сволочью: это же безбожники и каменщики. И знайте, ваше величество, что есть три средства, чтобы с ними покончить: повесить, уморить голодом в тюрьмах и отравить, отравить, сеньор!».
— Теперь уже это невозможно, — пожаловался Диого.
— Невменяемый. Тогда прикажи дать им кнута! — прикрикнул на него рассвирепевший дед. — У меня это было первое средство…
На что отец-либерал возразил:
— Попробуй пряник…
— Останешься без руки… — зло пробурчал дед.
Остаток дня отец и дед провели в горячем споре, тогда как Диого Релвас размышлял, облокотившись на подоконник одного из окон. Размышлял долго, припоминая все возможные виды мести. Он желал всем сволочам медленной, мучительной смерти. Предки умолкали и задремывали. Потом снова принимались спорить и ругаться друг с другом, даже прервали свои отношения на несколько месяцев, а может, и лет, а Диого обдумывал, вынашивал планы, целиком отдавшись надежде получить реванш. Наконец в один из вечеров, когда его внук Руй Диого поднялся в Башню, чтобы поговорить с ним о делах земледельческих, Диого Релвас приказал ему сесть и изложил выработанный план. Зловещий, но достойный, как он хотел думать: достоинство для Релвасов было делом особым.
Однако в жизни, на практике, все складывалось иначе, чем в созревшем за многие годы дедовском плане. Но это не смущало Диого Релваса, ведь даже богам не всегда дано направлять мир их чудодейственными руками, возможно не всегда твердыми, ибо богам хорошо известно, сколько всего люди делают, прикрываясь их именами.
Правда, на Алдебаран сошел покой, печальный покой, хотя каждое воскресенье и все светлые праздники люди, нанятые Руем Диого, пускали фейерверк и играли на музыкальных инструментах на подмостках эстрады, которую Руй Диого приказал построить на деревенской площади. И жили в уважении. Любой хороший человек мог выйти на улицу и не опасаться плохого обращения со стороны кого-либо. И это самое главное.
Если бы Диого Релвас решил спуститься с Башни, путь его был бы устлан покорностью преданных животных, которые даже не скалили бы свои зубы.
Кончилась болтовня о прогрессе, который не что иное, как Дьявольские козни, чтобы обмануть простой народ, много раз забывавший о том, что только привычная бедность открывает врата рая.
И хотя ясный ум все еще тешит Диого Релваса, многие шепчутся о старческом слабоумии хозяина, а он, почитая себя человеком ясного ума, бредит, что его внук, одетый в средневековую одежду, крепко держит в своей мощной руке поводья какого-то удивительного, огромного животного, на спине которого сидят и он, и его отец, и его дед. Спина этого животного такая длинная, что на ней хватает места всем троим.
Что же это за зверь?!
Нечто вроде пятого зверя Апокалипсиса, непредусмотренного святым Иоанном, который был не способен изобрести Росинанта розового цвета, полуосла, получерепахи, слабого, если глядеть издали, но смело сокрушающего землю своей уверенной поступью. Время от времени он радостно ржет и прячет голову под чепрак и с тайным наслаждением подмигивает тому, кто дает ему корм.
Не сразу и поймешь — пусть себе Диого Релвас бредит, — едет ли кто на спине Росинанта или нет, так воедино слиты животное и седоки. Да и на самом деле они единое существо, единая крепкая воля. Релвасы продолжаю! быть абсолютными хозяевами Алдебарана, его живых и мертвых душ. Одних они обрекают на голод, других — на прозябание. Да и сами они стоят на месте, лишь в воображении скачут галопом во главе кавалькады. Деда Кнута начинает мутить — такой безумной кажется ему эта скачка. Он шепчет сыну: «Мы слишком гоним, Жоан! Так мы погибнем, свернем себе шею на каком-нибудь повороте…»
Сын раздраженно пожимает плечами и поворачивает голову в сторону Диого Релваса, который держит за локти внука, обучая его править розовым Росинантом.
Старик не признает, что все они уже в яме, в яме слепых.
Он чувствует себя отмщенным. Да, он, сельскохозяйственный бог, ощущает себя отмщенным за все оскорбления.
И в бреду величия и всемогущества верит, что все мерцающие звезды прекрасного неба, которое отдано в его полную и безраздельную власть, зажжены его дрожащей рукой.
Глава IV В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ВОЙНЕ С МАВРАМИ И СМЕРТИ СТАРИКА
Однако и звезд он уже не видит, и не потому, что слеп, как внук, а потому, что давно умер.
Или н— нет? Так он, бывало, заканчивал речь, стараясь произвести должный эффект.
Да, Диого Релвас умер. Вот уже десять лет, как умер, но в Алдебаране о том никто не знает. Это тайна!..
Они видели его только издали, никогда не слыша голоса (помните это, правда?), видели сидящим у одного из окон Башни четырех ветров в имении «Мать солнца», он наводил на них страх и ужас. Он нечто вроде грозного бога их сельскохозяйственного племени. Но теперь он мертв. Он умер по вине коварной судьбы в день «большой славы», выпавшей на его долю.
Ему грезилось, что он верхом на лошади бьет на большой равнине мавров. Некоторые из них напоминали ему Зе Педро и землекопов Ассоциации. Ему помогает Фортунато Ролин — он подносит копье, на которое нанизаны двое мавританских ребятишек, что еще живы и дрыгают ногами. Диого Релвас и Фортунато Ролин смеются, смеются вместе, они теперь кумовья — во всяком случае, так они называют друг друга. И вот они решают изобрести игру, чтобы попытать силу каждого. Каждый из них должен дернуть одного из ребят за ногу — развлечения ради. Война ведь дело развлекательное. И запах крови, и смерть, как видно, возбуждают.
Ролин предложил следующее:
— Тот, у кого в руках останется большая часть сопляка неверных, будет спать с дочерью мавританского короля.
— Идет! — крикнул Релвас почти победно. Но кум желал удостовериться в услышанном:
— А ты еще способен?
— Ты что, забыл, каким я был в юности?… То юность, она давно прошла…
— Ничего подобного! Я и сейчас себя чувствую молодым, молодым бычком. Мужчины нашей закалки перед любовью не пасуют.
— Да, правда твоя! — усмехнулся Ролин. — Ты был чем-то вроде страхового агентства для вдов своих друзей.
— Женщины были что надо… И девицы тоже. Помнишь Капитолину?! Лакомый кусочек, кум! (В мечтах респектабельный человек может не стесняться в выражениях.)
Они продолжали этот разговор до тех пор, пока мавританские ребятишки не начали плакать и не обратили внимание землевладельцев, что они, эти подлые, еще шевелятся. Тогда каждый взялся за ногу неверного, уперся в стремя ногой, чтобы Удержаться на коне, и по знаку Перейры Салданьи изо всех сил Дернул. Мощные мускулы Диого Релваса не подвели его, тогда как у изумленного Фортунато Ролина в руках осталась лишь стопа мавританского ублюдка. Диого Релвасу зааплодировали — все землевладельцы теперь стояли около Фортунато Ролина и Диого Релваса. На состязание пожаловал сам король, он сидел на вороном коне, украшенном золотом.
— Ну, займемся вторым? — победно спросил хозяин Алдебарана.
— Но теперь, если ваше величество дозволит, — сказал Ролин, обращаясь к королю, — приз будет иным: тому, кто выиграет, будут принадлежать все женщины этой страны и всех прочих стран, которые мы завоюем.
— Годится! — крикнули все конники разом, хотя сказанное было не по душе королю.
Однако на войне приказывают воины, а их величества повинуются. И вот под смех и подстрекательства двух групп, на которые разделились все конники, соперники схватили за ноги уже второго мавританского ребенка. Перейра Салданья попросил тишины, и, как только крикнул «три», Фортунато Ролин взлетел вверх с пустыми руками и покатился по земле вместе с конем, на котором сидел, конь не сумел устоять на ногах от сильного рывка крепкой руки Релваса. А Релвас уже кружил тело неверного над своей головой, бросив его потом за горизонт, куда, конечно же, гот должен был долететь мертвым. И тут же, прежде чем Ролин успел подняться, Диого Релвас, потрясая мечом, пронзил его, так как близился час грабежа, а в это время не щадят ни здорового, ни больного, тем более соперника, который минутой раньше оспаривал самок, — хоть одним, да меньше будет при дележе добычи: золота и драгоценное гей.
Страх пробрал присутствовавших до костей, и они бросились врассыпную, прочь с глаз сеньора Алдебарана, который спешился, чтобы отрезать голову Ролина и нацепить ее на кончик меча, не оставив никаких сомнений в своей победе.
— На мавров! На мавров! — закричал он.
Теперь он убьет всех остальных, ведь ни один не мог устоять перед грозным мечом Релваса. Он наносил им удары и снимал с раненых кожу, укрываясь ею, чтобы спастись от пронизывающего холода. Непонятного холода, которого никогда не знала эта жаркая страна. Но Диого Релвасу задумываться над этим не было времени, так как он убивал, убивал и убивал — и копьем, и огнем, и пулеметной очередью, и газом. Он уже не щадил ни женщин, ни детей, ради того чтобы никогда больше не было мавров на земле, той земле, что перейдет в его вечное пользование. Он чувствовал необходимость остаться на ней в одиночестве.
Теперь нужно было обезглавить последнего — халифа, ведь вся его свита уже лежала на земле. И вдруг, когда он готов был это сделать, в одной половине лица неверного он узнал Зе Ботто, мерзавца, выступавшего за развитие индустрии, и заколебался. Этого было достаточно. И тут же на равнине стали вспыхивать огни святого Иоанна, и из каждого поднимался мавр, сотни, тысячи мавров, и все пели — удивительная вещь! — ту проклятую мелодию, которая так хорошо была ему знакома…
От такого странного сна он очнулся в страхе. А может, он все еще спит?! Ведь гимн он слышал и сейчас… Диого Релвас поспешил к окну и увидел, да, увидел своими собственными глазами толпу своих слуг, идущих по дороге к Алдебарану и поющих, да, поющих и выкрикивающих лозунги.
Застарелая ярость с новой силой потрясла все его существо. И почти столетнее, еле державшееся на ногах тело рухнуло на кровать, как кирпичи старой, гнилой стены. Сердце замерло и остановилось, источая дурной запах. Так заснул вечным сном Диого Релвас, заснул на руках отца и деда, тогда как ангелы открывали ему врата небесные, чтобы великий святой человек вошел бы в них с должными почестями.
Рано утром в черной коляске деда, запряженной теми же дедовскими лошадьми, все в той же упряжке, с тем же дедовским кучером и в обычной для него форме, в кепи с блестящим козырьком, Руй Диого — все как всегда, точно в мире не было перемен — ехал по землям Алдебарана.
Едучи по подозрительно тихим улицам поселка, он внимательно, не глядя прямо, следил за теми, кто его приветствовал. И испытывал неудовольствие, когда его отягощенная камнями печень напоминала о себе. Он ехал как хозяин и деспот, внушая почтение. Все, казалось, от него зависело, все, но не все его приветствовали. И он знал это, знал с того самого дня, когда переехал в Алдебаран, но деду всегда говорил обратное, говорил то, что тому хотелось слышать.
Был ли он счастлив?!
Нет, этого быть не могло, ведь неприятностей ему хватало, и в том числе от родственников. Один из его двоюродных братьев, Антонио Диого, уже навестил его в кабинете, сжимая в руке револьвер и угрожая пустить ему пулю в лоб, если он не откроет сундук и не отдаст все, что в нем имеется. Близняшки дяди Мигела жили в Каскайсе. Будучи в разводе с мужьями, они совсем сбились с пути и, походя во всем друг на дружку, путались с любовниками, которые путали их, и со всеми с кем придется.
Сидя в глубине коляски, Руй Диого вспоминал неприятную историю, которую «доброжелатели» довели до его сведения, прислав анонимку:
«Вы, почтеннейший, считающий себя хозяином всего и вся, должны бы добиться, чтобы муниципалитет разрешил на лужайке резвиться детям, а то ведь Релвасы тайно подкупают муниципальных вершителей правды, и те разрешают валяться на лужайке взрослым».
Это была подлая месть скрытого врага. Но близняшки давали повод для подобного выпада, следуя тропой, проторенной их теткой, его матерью Эмилией Аделаиде, которая в свои годы не теряла времени на замаливание грехов. И возможно, потому, что считала избранную ею дорогу кратчайшим путем к святости. Умерла она, окруженная бедными, которые искренне ее оплакивали.
Когда же у дверцы коляски с кепкой в руке встал кучер, докладывая Рую Диого, что они прибыли, Руй поспешил в Башню, поднялся в нее, чтобы доложить деду о разговоре с крестьянами поселка. Руй был в плохом настроении, предчувствуя несчастье, как позже он говорил жене, сидя у нее в комнате, и потому не насвистывал, что обычно делал, когда поднимался по лестнице Башни. Он поднимался, ставя ногу на ступеньку и опираясь другой о противоположную стену. Руй знал, что на него никто не смотрит, и не лишал себя той забавы, которой предавался с того самого дня, когда дед избрал его своим поверенным и продолжателем дела Релвасов.
По обыкновению он постучал в дверь, спросил, может ли войти, и гут же открыл ее: старик был глух, а он не был слугой, чтобы дожидаться, когда тот услышит и ответит. — Вот и мы! — сказал Руй без особой радости.
Но, увидев распростертого на кровати бездыханного деда, бросился к нему, взял его холодные руки в свои, сжал, растирая, точно еще мог их согреть, вернуть к жизни. Делал он это исступленно, даже целовал их, понимая, что без деда, с именем которого связана его репутация, царствованию его придет конец. «Я лишился всего, лишился всего!» — шептал он горько. Потом, осознав невозможность вернуть к жизни остывшее тело, утер слезы рукавом жакета и, глядя на далекие заливные луга с редкими пятнами пасущихся на них табунов, принялся обдумывать случившееся.
И вдруг поистине божественный свет озарил его мозг.
Глава V СЛАВА ПОЧИТАЕМЫХ МЕРТВЕЦОВ
Лучше всего он выглядел сидящим.
Теперь, когда его набальзамировали, он казался поздоровевшим. И только что не разговаривал.
Руй Диого был поражен, когда победил отвращение, которое он испытывал, принимая участие в ужасающей операции по извлечению внутренностей деда, которые могли разлагаться. Бальзаматора он провел в Башню так, чтобы никто не заметил, и гам они вместе трудились около суток, то покуривая, то потягивая виски с содовой в минуты отдыха. Он даже стал насвистывать, довольный своей работой.
Руй — теперешний сеньор Алдебарана — был по-настоящему потрясен, когда узнал от бальзаматора, что дед начал гнить еще двадцать лет назад. Да, началось с мозга, странно, что этого никто не замечал. В разговоре с бальзаматором Руй признался, что нередко обращал внимание на то, что от деда плохо пахнет, но относил за счет иного. И вдруг, казалось бы по непонятным причинам, приступ рвоты вывернул наизнанку желудок Руя, вынудив таким вот образом расписаться в своем неуважении к деду: ведь он не страдал отсутствием аппетита по случаю его смерти и вчера съел трех куропаток. Вот тут-то бальзаматор и предложил ему выпить виски, чтобы прекратить рвоту. Теперь уже бутылка была почти наполовину пуста.
Когда же они стали одевать труп, Руй свистел вовсю. Одевание было делом нелегким.
Чтобы время шло менее заметно, Руй рассказывал бальзаматору о жизни деда. А бальзаматор Рую-политические анекдоты.
Оба посмеивались, хотя бывший хозяин Алдебарана не всегда любил подобные шутки. Однако сам, бывало, рассказывал забавные истории.
К ночи работа была почти закончена. Оставались разве что мелкие доделки. На голову деда — храни его господь! — Руй Диого надел шляпу и тут обратил внимание, что дед зелен, очень зелен. Это натолкнуло его на гениальную идею: он спустился к Жене, взял у нее все необходимое для наведения красоты — карандаши, пудру, румяна — и стал подкрашивать лицо деда, стараясь придать ему красновато-загорелый оттенок. Потом нарумянил ему щеки, растирая румяна пальцами, и пришел в восторг от потрясающего эффекта, полученного после приложенных стараний. Подкрасил губы, нарисовал прикрытые упавшими волосами брови и, отойдя на шаг, решил, что все готово. Руй Диого прищурил свои голубые глаза, чуть заметно кивнул головой и сказал:
— Превосходно! Превосходно!
— Не хватает только, чтобы он заговорил, — сказал бальзаматор, тоже пораженный результатами совместного труда.
— Нет, он просто живой! — сказал Руй, понизив голос. — Живой, как для нас, гак и для всех остальных. Мой дед не может умереть!..
Ему действительно оставалось только ожить, в чем, впрочем, никакой необходимости не было, особенно теперь, когда слуги и вассалы вернулись домой, усталые от здравиц во славу чужих побед. На улицах даже листва замерла, не шевелилась.
Бальзаматор вымыл руки и сказал:
— Старайтесь держать его подальше от солнечных лучей. Пройдя через стекло, луч солнца может воспламенить его… Помните, стекло сделано руками рабочих.
— Может, опустить занавеску? — спросил Руй Диого. — В ней спасение…
Бальзаматор кивнул головой и сделал новое предостережение:
— И не открывайте окон. Свежий воздух для вашего деда и нашего хозяина губителен.
— Есть опасность, что он простудится? — пошутил Руй Диого.
— Нет, много хуже. Берегите его от воздуха, именно от свежего воздуха…
Озабоченный Руй заткнул все имевшиеся в окнах щели газетами. Бальзаматор улыбнулся, считая его действия излишними. Однако все-таки стал сам ему помогать, так как цена за труд, на которой они сошлись, была вполне приличной.
Руй Диого оплатил его труд и обещание хранить тайну золотом и распрощался с ним, еще раз оглядев деда. На что бальзаматор заметил, уже берясь за ручку двери:
— И опрыскивайте его эфиром время от времени. Он будет еще живее.
И вот во славу почитаемых мертвецов Диого Релвас застыл на стуле, который точил жучок-древоточец, точил безжалостный бездельник. Похоже, злодей смеялся над ними.
— Самое ужасное для меня — это невозможность оплакать его смерть!
— Но он же жив, ваша милость! — напомнил ему бальзаматор с неожиданной веселостью.
— Да, жив, как и мы… — И под влиянием выпитого виски Руй доверительно сказал бальзаматору: — Между нами, старина, мы все мертвы.
— Это единственный способ прожить жизнь счастливо, — согласился бальзаматор, в душе не очень-то веря сказанному.
Глава VI СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Между тем большего одиночества, чем у Руя, не было, пожалуй, ни у кого. Семья от него отдалилась. Он чувствовал враждебность каждого, даже собственной жены, когда та со слащавым выражением лица интересовалась:
— Ну, как дед, как он себя чувствует?
Явно давая понять ему подтекст сказанного: «Когда же, наконец, этот тип умрет? Ведь ему уже сто минуло. Он что, не желает на тот свет вообще?…»
Неблагодарные, мерзавцы… Дед работал для них всю жизнь не покладая рук! Вот вам благодарность! Стоило бы их бросить на произвол судьбы и посмотреть, что из того получится. Но нет, он взвалил на себя нелегкую миссию и должен — он поклялся, что никогда от нее не откажется, — выполнить ее, хоть сознавал, что благодарности за жертву, которую он приносил, ждать нечего. Ведь он был связующим звеном шести поколений, с которыми будет спорить, убеждать и выражать их убеждения. И если возникнет необходимость — будет против них, ведь он абсолютно уверен: что бы он ни делал, он делает ради них.
В конце дня, как и раньше, он поднимался в Башню и запирался в ней. Он шел на встречу с прошлым.
Входя, он дурел от спертого воздуха, но потом привыкал, делая все то, что делал, бывало, здесь, когда беседовал с дедом. Руй Диого видел, что за ним следили, следили отовсюду, откуда было можно следить, за тем, что делается в Башне. Но он был тверд и часами пребывал здесь, стоя в почтительной позе перед сидящим у окна набальзамированным Диого Релвасом.
Он снимал с него шляпу, опрыскивал его эфиром, чистил щеткой его волосы и бороду, чтобы не дай бог они не приняли вид старой соломы. Потом поднимал занавеску, чтобы все могли видеть их беседующими, оставляя занавешенным выходящее на запад окно, чтобы жаркие лучи солнца не испепелили деда.
— Вот и мы! — говорил он еще раз.
Всегда находящиеся здесь прадед и прапрадед, явно интересуясь земледелием, присутствовали при их встрече. Руй Диого любил их слушать. Они всегда могли высказать свое мнение, хотя и поварчивали, что он единственный и неограниченный хозяин всех земель, слуг и скота.
Руй Диого открывал папку и, выкладывая бумаги на стол, давал им отчет во всех делах. Однако последнее слово было за дедом Диого. И только ради того, чтобы не утомлять его, Руй сам подписывал бумаги, подделывая его размашистый неровный почерк. Теперь он писал почерком деда лучше, чем своим собственным. И когда проверял что-либо, то смотрелся в зеркало, видя в нем глядевшее на него лицо Диого Релваса. Они теперь были похожи во всем. Разве только цвет волос да глаз отличал одного от другого.
Прапрадед Кнут начинал разговор, как только понимал, что дела бумажные окончены:
— Ну?! Как ты?
— Продолжаю тянуть лямку. С каждым днем становится труднее. Мир потерял голову, и только я еще ее сохраняю.
— Это хорошо, — соглашался самый старший Релвас. — Но что говорит мир?
— Бог мой, что он может говорить! — включался прадед Жоан де Менезес Релвас, самый молодой из всех, так как лицом он не менялся с тех самых пор, как умер от несчастного случая. — Для португальцев злословие — дело обычное. Пусть себе болтают, что им хочется.
— И когда ты только перестанешь быть добрым малым? — бросал в его сторону старый хрыч.
Диого Релвас подмигивал Рую, и оба они улыбались, приходя в восторг от перебранки Кнута с сыном. Это было делом обычным. Они всегда сцеплялись, хотя ясно было, что безумно любили друг друга.
— Я не изменюсь, — отвечал Жоан. — До конца буду либералом.
— И многого этим достигнешь? Давай, давай! А мы посмотрим. Вот Руй Диого нам еще расскажет, куда зайдут португальцы по этой самой дорожке…
— Вы правы… Португальцы неготовы к восприятию либерализма. Они не знают, что с ним делать. Злоупотребляют им.
— Но мы народ особый! — кричал ему прадед.
— Конечно, тут и говорить нечего. Это очевидно, — соглашались все.
— Вот именно, — заключил Диого Релвас, сидя на стуле. — Мы народ с большой политической интуицией. — И, доверительно, Рую Диого: — Бездельники неблагодарные…
Спор разгорался, но без желчи. Однако для Руя Диого последнее слово всегда было за Диого Релвасом.
— Нам, слава богу, всегда удавалось сохранить равновесие. За все свое существование Алдебаран и пятидесяти лет не страдал от чужих идей. За столько веков — это примечательно! Я сам, надо сказать правду, жаловался несколько раз безо всякого основания. Это говорит за го, что наш народ самый независимый, самый самостоятельный, ведь никто другой не может похвастаться такой уравновешенностью, таким уважением к традициям. И пусть многие, возможно досадующие на эту нашу уравновешенность, считают нас живущими в глухомани консерваторами…
— Это же похвала! — вставил Кнут.
— И она нас украшает! — добавил Руй Диого, поглаживая бороду и усы, тронутые первой сединой в шестьдесят лет.
— А что нам это дало? — спросил прадед Жоан Релвас.
— Честь!
— Нам этого достаточно! — добавил старший. — Пусть идут своей дорогой, все равно придут к нашей двери и постучат в нее.
— Уже стучат…
— Должен прийти новый Дон Мигел.
— О, отец! — запричитал Жоан Релвас.
— Да, да! Дон Мигел, — поддержали остальные. — Ради нашей славы…
Так они разговаривали, поверяя друг другу свои планы, исключая Релваса-либерала, который мог бы нанести оскорбление их чести. Без него лучше.
Кнут ведь однажды уже назвал его изменником. Да, признаться в этом было прискорбно. Руй Диого, все это время будучи на стороне прапрадеда, помалкивал.
Тот, кто увидел бы его в Башне четырех ветров и услышал бы, что он беседует с давно умершими предками, счел бы его слабоумным. Между тем назвавший бы Руя Диого слабоумным обманулся, ведь с тех пор, как существуют на земле люди, мало кому из них доводилось гордиться такой ясностью и остротой своею ума. Настоящий гений, гений даже для тех, кто не любит преувеличивать.
Это ему сказали однажды вечером, когда награждали самой высокой национальной наградой. Руй Диого сиял. Нет, не по случаю полученной награды, а от уверенности в том, что Релвасы получат графский титул, когда пробьет час абсолютной и традиционной монархии, которую страна ждала, пребывая в дремоте, но преданно! Но он об этом помалкивал. Однако деду хотел сообщить эту новость, как только представится случай. Это была дань уважения роду Релвасов.
И Руй Диого был уверен, что дед, сидевший на стуле, желая его поздравить, повернется к нему и встанет.
Глава VII ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОТОВ И ПТИЦ
Стоял январь. На землях Релвасов люди казались замершими и замерзшими. Каждый мирился с выпавшим на его долю «счастьем» — другого выхода не было.
И только коты были взволнованы и искали любовных приключений в окрестных лесах имения «Мать солнца» и на крыше господского дома. Сюда из голодного Алдебарана забрела рыжая кошка, рыжая в белую полоску, и принялась расточать неизвестные до сегодняшнего дня ласки местным господским котам. Никогда еще в имении «Мать солнца» не слышали такого мяуканья, даже луне за всю ее жизнь не довелось послушать такого громкоголосого хора.
Слуги были явно обеспокоены, не придет ли в ярость старый хозяин.
— Должно быть, он не слышит. Ведь ему сто десять лет… Крепкий старик.
Кухня господского дома тоже никогда не знала такого воровства. «Это все коты», — уверяли слуги. Свежей рыбе спастись от их цепких когтей не удавалось: во время готовки со стола исчезал самый лучший кусок. А ночью у этих тварей шел пир горой, пировали с рыжей кошкой и дрались. Дралось все кошачье отродье, даже кастраты, конечно же не за даму, это ясно, но за утраченную приятную, спокойную жизнь. Ведь тем, кто привык к покою, беспокойство не нужно.
Вот тогда-то один кот-лирик и решил преподнести рыжей красавице живую птичку. Он был совершенно уверен, что та получит особое удовольствие, когда такое лакомство окажется в ее лапках. Полный любовного пыла, кот притаился на крыше господского дома, где высилась Башня — самое любимое место для лесной птичьей стаи. Здесь все карнизы были увешаны лепившимися к ним гнездами, а воздух полнился птичьими голосами. Взобравшись как можно выше, кот изо всех сил старался дотянуться лапой до голосистых пернатых. Но безуспешно. Однако в своем намерении кот-лирик был тверд.
И в одно январское утро, все еще балуемое теплыми лучами солнца, кот, изучивший со всем тщанием птичьи повадки, растянулся на крыше и прикрыл свои хитрые глаза. Слетавшие на крышу воробьи нет-нет да задевали его своими крыльями. Они прилетали и стайками и поодиночке, и вот один из них, такой пухленький, пробежал по карнизу, клюнул росшую на ней травинку и, собираясь зачирикать, повернулся к коту хвостом. Тут-то кот и открыл свои глаза, рассчитал силы, разделявшее их расстояние и бросился на воробья.
Перепуганный воробей поспешил на соседнюю черепицу и, нервно захлопав крыльями, стал биться в окно Башни, не понимая, что перед ним стекло. Кот, тоже не видящий стекла, ринулся туда же. А так как у него крыльев не было и весил он значительно больше перепутанной птахи, то пробил головой стекло и оказался в Башне. Сердце кота забилось от страха, когда перед ним предстала внушительная фигура землевладельца, сидящего на стуле, который жучок-древоточец точил и точил… Коту показалось, что Диого Релвас встает, и он тут же, сделав три прыжка, выскочил в другое окно, разбив стекло вдребезги.
В Башню влетел ветерок, тихий, как легкое дыхание. Но к ночи ветер усилился, стал зло завывать, играя ветвями деревьев и налетая на крепкие стены господского дома.
И Диого Релвас рассыпался. Первый порыв ветра унес его руку, второй — голову. Он походил на известковую куклу. Бальзаматор предупреждал Руя.
Глава VIII ПОКОЙ, СЛАДКИЙ ПОКОЙ…
— Мерзавцы! — закричал потерявший голову Руй, бросая вызов всему миру. Тому безумному миру, безумному и неблагодарному, который забыл, чем обязан Релвасам, и отказывался следовать за ними в средневековый рай. Но он заставит его, этот Мир, обрести утраченный покой, утраченный из-за пустых идей, вызревших в беспокойных и злых душах.
«Я прижму их как следует, я им покажу!» — думал он, заходясь во гневе. Он ведь предвидел, предчувствовал. Кто же организовал убийство деда? Святого! Кто его совершил? Боже! Это все они, либералы, они везде и всюду и служат тем, кто ненавидит цивилизованных людей. Но он им покажет, он ответит им тем же. Теперь они использовали свежий воздух, чтобы покончить с дедом — драгоценной реликвией святой патриархальной жизни. Самое ужасное, что теперь он не сможет посадить его у окна, чтобы все видели, что он жив, жив… Выходит, нужно объявить о его смерти?!
— Нет, нет. Никогда! Только не это… — ответил он сам себе. — Что примется делать весь этот сброд?… (Сбродом для Руя Диого была и его собственная семья, страстно желавшая получить наследство, и так называемые друзья, готовые его предать, и враги — враги внутренние, враги внешние и все прочие, вместе взятые…)
И тут ему пришла одна мысль, мысль, от которой на его лице заиграла улыбка.
«Если они считают, что таким образом победят меня, то они ошибаются. Теперь, когда старика нет и некому меня наставлять, они узнают почем фунт лиха… Настоящая власть Релвасов придет теперь, со мной, вот так-то! Завтра же я покажу им где раки зимуют — выставлю чернь из имения „Благо божье“. Они думают, что если обрабатывали эту землю более ста лет, то она принадлежит им? Обманываются! И если они ее добром не оставят, я возьмусь за них как следует. Власть на то и дана, чтобы ею пользоваться!.. Земля — моя и должна быть возвращена законному владельцу».
Тут он вспомнил, что дед с гордостью не раз рассказывал ему об этих людях, но пришел к заключению, что дед только мешал ему сделать то, что давно пора. «К черту либерализм!» Руй Диого подошел к месту, где лежала пыль от Диого Релваса, и осторожно поднял ее вместе с курткой и севильскими штанами. Открыл окно, посмотрел вокруг и решил стряхнуть вниз, предоставляя ветру возможность развеять эту тонкую белую материю. Такую тонкую и такую белую, что над Алдебараном тут же повис туман, повис, затянул все вокруг плотной пеленой удивительной белой ночи, которую сторожили стервятники, готовые напасть на любого, кто нарушит сладкий покой ископаемых чудищ.
Эпилог
Если бы Диого Релвас приехал в поселок днем раньше или несколькими часами позже — кто знает? — возможно, маляр Норберто и поднялся бы перед ним с кепкой в руке, чтобы, услышав приказ землевладельца и почтя его за честь, оказать ему эту услугу — принести газеты.
Однако в тот жаркий день, ничем не примечательный среди прочих, этот человек самым неожиданным образом перевернул и мою жизнь. Кому довелось бы увидеть Норберто, уже пораженного болезнью, утратившего подвижность, ослабевшего, почти не способного держать в руках малярную кисть, вряд ли мог предположить, что благодаря его гордости и мужеству, хотя их и родило разочарование, наш могущественный сеньор будет выброшен из седла.
Возможно, в тот самый момент маляр Норберто, унаследовавший ярость не одного поколения, жившего в страхе, был действительно побужден к действию борьбой землекопов за Ассоциацию, но он явился тем — это точно, — кто ускорил освобождение нашей смелости, что находилась в заточении. Сами того не ожидая, мы вдруг освободились от рекрутского, разъедающего душу страха, родились для радости, для смеха над мифами. Ведь нет ничего более полезного и нужного для тех, кто всю жизнь был обижен и жил в страхе, как получить возможность смеяться.
И в этом до грубости безжалостном смехе смешивались — да и нужно ли было их разделять? — слезы, пролитые от радости, и слезы, пролитые от горя, так как и те и другие необходимы были людям, которые столько страдали.
БЕЛАЯ СТЕНА (роман)
I
Все многочисленнее становится кружок зевак у входа в кафе: здесь щеголеватые участники сельской корриды — боя бычков-первогодков — и землевладельцы; сюда подходят бродяги, чистильщики сапог, продавцы лотерейных билетов; и почти все они молчат, кто от изумления, кто от зависти, в глазах у всех возбуждение, а иногда взгляд становится отсутствующим: человек дал волю воображению. Чудится ему, наверное, что мчится он по шоссе и рядом с ним еще кто-то — кто-то такой, в чьем обществе ему никогда не бывать; сидят себе в двух глубоких черных кожаных креслах без ножек, а между креслами, около рычага переключения скоростей, — никелированная пепельница.
Удивляются, перешептываются, сблизив головы, кивают в знак согласия либо бросают ругательство, одни остаются, другие отходят медленно — то ли ошарашены, то ли двигаться лень. Сколько может стоить такая машина? Триста конто, а то и больше, объясняет чей-то равнодушный голос.
Тому, кто подходит узнать, почему собрались люди, почти не разглядеть низкой автомашины, прижавшейся к земле.
Сила ощущается в точных очертаниях кузова, надежно прикрывающего чуткий и мощный механизм, мгновенно реагирующий на прихоти и рефлексы того, кто будет им управлять. Автомашина похожа на чудовищную рыбину с полуоткрытой пастью и фасеточными глазами на крыльях. Она матово-свинцового цвета, без наглого блеска, свойственного машинам нуворишей; покрышки широкие, прочные, они придают еще больше устойчивости и мощи всему корпусу, которому нипочем безумие самых головокружительных поворотов.
Похоже, это какой-то прожорливый зверь, созданный для того, чтобы поглощать время и пространство.
Антонио Менданья, дон Антонио де Фаррагудо, женатый на одной из дочерей Руя Диого Релваса, сидит за рулем машины особого образца, выписанной из Италии. Удачный год — от пробки доход, никаких забот. Приехал в городок себя показать в очередном приступе бахвальства, успел потщеславиться ревом мотора на всех главных улицах, а теперь машина красуется у входа в кафе, где обычно выставляется на всеобщее обозрение все новое и дорогостоящее.
— Какую скорость выдает? — спрашивает Мануэл Педро.
— Больше двухсот в час. Уйма лошадиных сил, сам не знаю сколько.
— Вот это машина, дон Антонио!
— Жрет бензин как проклятая. Доставлена нынче утром. Вот обкатается, двину в Мадрид. Хочу узнать, за сколько времени доберусь.
— Часов за шесть, — говорит ветеринар.
— Если ехать ночью, может, и меньше пяти.
Дон Антонио Фаррагудо выказывает намерение выйти из машины, и толпа раздвигается, чтобы его пропустить. Опираясь о руль и о спинку сиденья, он выбирается наружу. Думает, что зарвался с этой покупкой: у него не хватит храбрости водить такую машину, хотя ему приятно представить себе, как он появится в ней в Каскайсе [68], когда направится в Гиншо [69], где по распоряжению жены выстроена еще одна летняя резиденция: бассейн с морской водой, бассейн с пресной водой, и все это на вершине скалы — может быть, для того, чтобы сеньоре чудилось, что она уплывает все дальше в море, раскинувшись на софе, которую выписали из Швеции, так же как и два комплекта кресел для гостиной.
Он выбирает столик около стойки, в самом углу, чтобы видно было машину. Заказывает минеральную воду. Приятели окружают столик, стоят и ждут, когда он кивнет, чтобы придвинули стулья. Сегодня будет угощать пивом, полагают некоторые. И не ошибаются. Разговор крутится по-прежнему вокруг машины: ну и силища, два карбюратора, ей хватит нескольких десятков метров, чтобы разогнаться до скорости в сотню, ничего удивительного.
Мигел Богач входит через главную дверь и направляется к столу. Его появление взволновало дона Антонио де Фаррагудо, он слегка побледнел, умолкает. Однако слова вошедшего рассеивают опасения дворянина, менее недели назад отославшего в суд ко взысканию его долговое обязательство. Но еще более, чем слова, в которых нет ни капли досады, успокаивает Менданью открытое выражение лица Зе Мигела, слишком веселого, даже наглого по мнению тех, кто знает, что он обанкротился.
Зе Мигел похлопывает приятелей по спине, заказывает пиво — ну разумеется, бутылочное — и вынимает сигару, которую облизывает и раскуривает с преувеличенной тщательностью. Поскольку кружок не раздвигается, он силой заставляет потесниться ветеринара и доктора Каскильо до Вале, своего адвоката до нынешнего дня, вталкивает между ними стул и садится, раскинув руки на спинке характерным для него панибратским жестом.
— Женщину не спрашивают о возрасте, а владельца машины — о цене. Но машина что надо, дон Антонио! Стоит трехсот пятидесяти тысячных, даже если вы заплатили меньше.
Владелец машины млеет в кругу своих придворных и расплывается в блаженной улыбке; возможно, он раскаивается в том, что послушался свекра, Руя Диого Релваса, по прозвищу Штопор, когда тот приказал, чтобы зять представил ко взысканию в секретариат окружного суда уже просроченное долговое обязательство. Дону Антонио нравится Зе Мигел: Зе Мигел оказал немало услуг ему и его любовнице, Зе Мигел — честный малый, дa, вот так, и не обиделся, что на него подано ко взысканию.
— Ты бы отдал за нее такие деньги?
— Отдал бы, дон Антонио, будь они у меня. Вы умеете выбрать вещь… Я всегда ценил людей, умеющих выбрать.
— Здесь у нас такой не купишь, — бахвалится дворянин, согревая бокал в исхудалых от туберкулеза пальцах. — Она как хронометр: не подведет.
— Если вы пожелаете участвовать в гонках, дон Антонио, вашу машину никто не обойдет. Это я вам говорю.
— Ты-то в машинах разбираешься.
Мигел Богач показывает мозолистые ладони. На пальце правой руки все еще красуется перстень с алым камнем.
— Мои пальцы привыкли к баранке чуть не с рождения. Я миллионы километров наездил, в мышцах рук они у меня. И могу сказать — здесь и где угодно: дон Антонио купил машину что надо. Хорошо, что вы умеете выбрать вещь и потратить с толком деньги.
— Мне ее нынче утром доставили.
— Пошли вам бог жизни и здоровья, чтобы радовались вы ей долгие годы.
— Спасибо, Зе!
Дон Антонио Менданья растроган отзывчивостью Зе Мигела, хотя и не очень глубоко. А может, Зе Мигел хочет попросить денег взаймы? Может, и получит…
— Когда я подошел к машине и разглядел ее, сразу сказал: эта диковина принадлежит дону Антонио Менданье. Здесь у нас в Рибатежо есть люди, у которых хватит денег на эту машину, найдутся такие, но я не знаю никого другого, кто решился бы прокатиться на этой лошадке. Чтобы почувствовать нутром такую машину, нужна порода. А вь, сеньор, разбираетесь в стоящих вещах.
Они обменялись заговорщическим взглядом.
— Мне еще обкатать ее надо как следует.
— Возьмите кого-нибудь, вам обкатают…
— На это мало кто способен. Сам знаешь, Зе. Обкатать такую машину не то что трубку обкурить.
— Уж конечно, не то! — вмешивается адвокат, не раскрывавший рта с того самого момента, как Зе Мигел присоединился к кружку. Он тоже был испуган его приходом. И хотя адвокат считает, что это наглость — вваливаться в кафе с сигарой в зубах, он предпочитает видеть Зе Мигела таким, как сейчас, когда он смирился со своей участью и не грозит расправой всему свету из-за того, что сам загубил свою жизнь.
— Чтобы трубку обкурить, достаточно выкурить сколько-то табака, чем больше, тем лучше. Любой старый рыбак из заядлых курильщиков с этим справится.
— Такая автомашина как породистый конь…
— Или как женщина…
— Породистая женщина.
— Такой конь, как мой Принц, стоит любой женщины.
Зе Мигел заговорил о коне, пытаясь выяснить, знает ли уже кто-нибудь о том, что произошло нынче утром. Обводит взглядом весь кружок и убеждается, что Карлос Кустодио не известил дона Антонио Менданью.
— Но такая машина стоит всех коней на ярмарке в Голегане.
— Всех, Зе?
— Да, сеньор. Стоит, могу поручиться.
Что сейчас на уме у Зе Мигела, не знает никто, кроме него самого. И он чует, что удобный случай от него не уйдет. Смекалистый, ловкий и хитрый, он плетет паутину, как задумал, нить за нитью, без спешки. Лишь бы удалось смыться отсюда до четырех.
— Цену мужчины определяет машина, которую он водит. И женщина, которую он ведет, — разглагольствует доктор Вале, уже оправившийся от испуга.
— Но вы боитесь женщин и машин, доктор.
— Не говорите так, Зе Мигел.
— Вот наш доктор и обиделся. А вы потерпите: никогда не видел я вас ни в приличной машине, ни со стоящей женщиной. Когда машина попадает к вам в руки, она теряет класс, вы их боитесь, сеньор. А что касается женщин, тут мы с вами понимаем друг друга…
Остальные смеются. Больше над растерянной и напряженной миной адвоката, чем над шуточками Зе Мигела, который рад его унизить. Курит себе сигару и пускает клубы дыма прямо в возмущенную физиономию своего транзистора, как называл он обычно в кругу своих Каскильо до Вале.
— Вы же сами попросили меня как-то раз, чтобы я образумил одну вашу красотку…
— Потому что она совсем спятила, а я не люблю осложнений. В отличие от вас.
— Вот-вот: вы сами все осложняете, а затем спасаетесь бегством, сеньор. Вы, сеньор, из тех людей, которые готовы бычка дразнить, если будут уверены, что в ответ бычок им только брюхо полижет.
— Ну и что?
— А то! Если нет у вас мужества, купите собаку и сидите дома.
Когда адвокат вскакивает, порываясь уйти, Зе Мигел кладет пятерню ему на предплечье, сжимает, сжимает и заставляет сесть снова, не отводя взгляда от разъяренных глаз доктора Вале.
— Побьемся об заклад…
— Я стою на своем, но биться об заклад не стану.
— Хорошо, оставим заклад в покое. Но попробуйте, доктор, сядьте за руль машины дона Антонио после обкатки, пожалуйста.
— И дай обязательство, — вставляет дворянин, вызывая новый взрыв хохота.
— Да, сеньор, и я готов дать обязательство: если доктор доберется до Лиссабона меньше чем за тридцать пять минут, обязуюсь пожертвовать головой.
— Кому она нужна, — парирует адвокат.
— А я ее не продаю, по крайней мере не стану продавать всяким прохвостам без роду-племени.
Все скопом топят Каскильо до Вале в потоке намеков и оскорбительных замечаний. Затем, натешившись до пресыщения, возвращаются к машине. Когда дон Антонио Менданья повторяет, что хотел бы выяснить, за сколько времени доберется в ней до Мадрида, Зе Мигел заявляет, что готов ехать с ним. До Мадрида больше шестисот километров.
— Если вы хотите, дон Антонио, будем вести по очереди. Я, конечно, не такой искусник, как вы, но у меня хватит сноровки дожать до ста восьмидесяти, когда дорога позволит.
— До ста восьмидесяти? Эта машина, что перед вами, может выдать и двести. Для того я ее и купил.
— Все зависит от обкатки.
— A y меня нет терпения ждать. Когда я сажусь в такую машину, мне нужна скорость, забываю о семье и обо всем на свете.
Все знают, что это похвальба.
— Если хотите, дон Антонио, я обкатаю вам машину. По всем правилам. Вы меня знаете.
— Серьезно?
— Серьезно! Слово мужчины!.. Буду следовать заводским инструкциям с хронометрической точностью. Ни километра лишнего, ни секундой меньше.
— Когда хочешь приступить, Зе?
— К вашим услугам, хозяин!
— Вот тебе ключи.
— Сейчас самое время.
Вынимает часы из кармана, смотрит. Остальные не обращают внимания на его руки, но руки у него немного дрожат. Самую малость. Особенно левая, он уже давно ощущает в ней какую-то тяжесть.
— Сейчас четыре. В семь тридцать вернусь.
— Можно, я с ним? — спрашивает ветеринар дона Антонио.
— Разумеется, можно, доктор.
— С вашего дозволения, дон Антонио, если будет на то ваше дозволение, покуда длится обкатка, машина моя. Во время обкатки человеку нельзя отвлекаться. Все идет в счет.
— Наш Зе Мигел заговорил, словно человек науки.
— Во всяком деле своя наука, доктор. И я тоже кое в чем поднаторел, хоть по виду и не скажешь.
Допивает вторую кружку пива, берет ключи от машины и направляется к выходу.
— Дошлый он малый, этот Зе, — комментирует Менданья. — Ему храбрости не занимать, на десятерых хватит.
— От храбрости ему теперь проку мало, — заявляет адвокат.
— У него еще остались козыри напоследок, насколько я могу судить.
— Мне-то нынешнее состояние его дел известно лучше, чем кому бы то ни было. Слишком высоко залетел…
Все отправляются пройтись, за исключением Мануэла Педро, который за все время слова не вымолвил. Мануэл Педро знает Зе Мигела лучше, чем все остальные. Зачем ему машина, что он затеял?! Когда Мануэл Педро подходит к двери, он слышит только гул заведенного двигателя.
Машина словно летит над асфальтом, она похожа на чудовищную рыбу.
Некоторое время люди глядят в ту сторону, где исчез Зе Мигел. А он вцепился в руль обеими руками, ладони еще влажные от волнения, которое не отпускало его до той самой минуты, покуда дон Антонио Менданья, дон Антонио Фаррагудо, и Такой-то, и Этакий, и Разэтакий, не вручил ему ключей. Теперь остается только заехать за девчонкой. Он знает до конца все, что с ним будет. На обратном пути он врежется в белую стену на повороте. Прямо в белую стену на повороте, в двух сотнях метров от Алдебарана, деревни, где он родился.
Он растворяется в ощущении скорости и почти забывает, на что идет. Даже не вспоминает, что у него болят руки. Особенно левая. Я сказал бы, руки у него плачут.
II
Если бы он мог выразить то, что чувствует, что начал чувствовать с тех пор, как осознал: невезенье зажало его в тиски, он сказал бы, что руки у него плачут даже во сне. Так оно и есть, да, так и есть, черт побери! Вот теперь это подергивание в пальцах. Пронизывающее, почти что боль, оно внезапно усиливается, заглушая медленное приближение тайной угрозы, смутно всплывающей в приступах тревоги — страха? Нет уж, черт побери, чего нет, того нет, — тревоги, ассоциирующейся у него в сознании с капелькой крови, крохотной и таинственной — неизвестно, откуда она взялась, но известно, куда движется.
Движется день и ночь, отчасти наугад, но всегда к одной цели, чтобы в какое-то мгновенье, которого ничто ему не предскажет, ринуться вслепую по лабиринту вен туда, где сердце. Ищет сердце, чтобы кольнуть его смертельным уколом, встряхнуть, как гончая зайца, а затем — конец.
Ему всегда представлялась капелька свернувшейся крови с маленьким ядовитым жалом, и он думал: так оно и есть, точно, но я не стану ждать, покуда она ужалит, ну да, он, можно сказать, уверен, что в нем уже образовалась такая вот капелька, пока его донимало то липкое муторное подергивание в пальцах.
Он слышал разговоры про все это много лет назад, посмеялся тогда — чушь какая, но потом, наедине с самим собой, всерьез задумался над этим нелепым открытием и почувствовал себя мельче песчинки, чем-то убогоньким, черт побери, потому что, го его понятиям, смерть должна набраться духу, чтобы вступить в единоборство с человеком, который принял ее вызов. Принял без страха.
И он столько думал об этом, что однажды ночью увидел во сне свой поединок со смертью.
Встреча была назначена на полночь, место было пустынное, вокруг росли стройные тополя, высокие и черные, как кипарисы, такими я их увидел, как вспомню, всего дрожь пробирает; я возвращался с поля вместе с моим дедом, с Антонио Шестипалым, мы ехали на лошади, я сидел на крупе, и на кладбище, на могилах, стали вспыхивать огоньки, огоньки забегали, и тут я спросил: дед, а дед, это что за огоньки, похоже на фейерверк, а он сказал, это души с того света, неприкаянные души, хотят поговорить с людьми; и там росли кипарисы; и потому, когда я увидел во сне свой поединок со смертью, тополя привиделись мне высокими и черными, как кипарисы.
На место встречи смерть прибыла на колесах. В повозке с четырьмя колесами, маленькими, без спиц, а потом они стали увеличиваться, огромные колеса, а на колесах — фургон, голубой, свежевыкрашенный; на обоих боках кузова — желтая кайма вкруговую и по букету цветов в середине. Белые, розовые и желтые цветы, а вокруг — мелкие зеленые листочки, и букет перехвачен черным шнурком, завязанным бантом. (Если бы через год-два после того Зе Мигел снова увидел во сне свой поединок со смертью и весь сон можно было бы пережить заново, смерть снова прибыла бы на колесах, но колеса, наверное, были бы другие, суперколеса и суперавтомашина, но только влекомая упряжкой лошадей, и был бы еще хлыст, но на него нужно нажимать правой ногой, когда хочешь, чтобы стрелка спидометра перескочила за сто пятьдесят.)
Но сейчас он идет со скоростью шестьдесят, может чуть больше, почти задремывает на прямом участке около Крус-Кебрада и даже не замечает, что на несколько секунд его обдает волной зловония. Вспоминает о поединке со смертью, который приснился ему более сорока лет назад, потому что не забыл еще деда и не забыл еще себя самого в ту пору, когда был мальчишкой и чуть не погиб из-за игрушечной деревянной повозки, которую сделал ему каретник там, в Алдебаране.
Его не отпускает навязчивое ощущение, о котором другие еще ничего не знают. Может, все дело в этом подергивании, остром сразу в нескольких местах, разбредающемся по пальцам обеих рук. И руки дрожат. Не очень сильно, не настолько, чтобы он мог подумать, что его впервые в жизни пробрала дрожь. По правде сказать, руки у него болят. Но ему приятно тешиться мыслью, что он ни разу в жизни не дрогнул. По крайней мере в таких случаях, когда на это стоит обращать внимание.
Самообман его устраивает — может, потому, что снимает все сомнения, становится понятно, зачем ему нужно это путешествие, на которое он отважился сутки назад. Или немного больше… Сейчас уже не имеет значения. Два, три, даже шесть часов — какая разница?… Да, разница есть в решающие моменты жизни. Когда, например, ты зависишь от прилива и отлива, суденышко идет по расписанию, иначе грозит столкновение; или нужно раньше всех поспеть на рыбный привоз, и гонишь автофургон по горной дороге как безумный, виток, еще виток, листья деревьев где-то внизу, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко, руки не болели и не болела душа, за рулем сидел человек, которому нужно было одно — опередить товарищей, чтобы получить надбавку, обещанную рыбниками-оптовиками; за рулем сидел человек, которому хотелось получить все, чего он жаждал со времен юности; а качали-то его не в золотой колыбели.
Сейчас, когда девчонка уже с ним, удалось заманить ее в машину, мысли его путаются, он чувствует какую-то режущую боль во всем теле и раскаивается, что потащил ее с собой. Сам еще не понимает, почему; а может, понимает, и слишком хорошо. Ему снова приходит в голову, что, если бы он уехал один, было бы лучше для всех.
Для кого — для всех?… Да, для кого? Кто они, эти «все», в конце концов? Ему видятся лица некоторых из них, прежде всего лицо человека по имени Руй Диого Релвас, у него почти седая борода, какое отношение имеет этот тип ко мне и к девчонке? А затем возникает другое лицо, оно заслоняет все остальные, и он видит его, хоть не поднимает глаз — может, от стыда и угрызений совести, лицо моего сына, черт, оно! — да, лицо сына, он знает, что сын мертв, но никогда не вспоминает его мертвым, хотя почти видит его лежащим на софе в гостиной, словно его уложили спать; какие были годы — сплошное головокружение.
Левая рука болит сильнее правой, она сейчас как будто ноет и тяжелее, чем та. Крепкая рука, черт побери! Рука, которая верно служила хозяину, когда тот испытывал гнев или желание что-то схватить, — служила безотказно, как плоскогубцы или тиски, вот именно, тиски, хватка, как у пса-боксера, когда тот вцепляется в добычу, ничего не видя от ярости, себя не помня, как он, Зе Мигел, сам себя не помнил, когда, уже не чувствуя ни рук, ни ног, обезумев от скорости, вел свой автофургон, груженный рыбой, по горным дорогам, где за каждым поворотом подстерегала смерть, не спрашивая позволения у господа бога. 'Там сразу видно, у кого хватит силы в пальцах и в мужском его хозяйстве на то, чтобы справиться с баранкой, а кто струсит, когда ведешь старую колымагу: при двадцати в час того и гляди развалится, а как выжмешь сотню, вся осядет на колеса и выдержит гонку в паре со смертью, как конь без узды.
Ему вдруг вспоминается дряхлая чубарая кляча, и его разбирает смех.
Глядится в зеркало заднего вида и замечает, что смеются у него только глаза, быстрые и озорные. Смеяться-то смеются, но словно подернуты дымкой от слез, которые он пролил нынче утром, обнимая другого коня, своего собственного, Принца, черного, воистину вороного, черного и с лоснящимся крупом.
Он не знал даже клички чубарого одра, старая упряжная кляча, столько же капризов, сколько хворей, сколько болячек на отощавшем от голода хребте. Ему слышится ржание чубарого, но оно Зе Мигела не трогает, он даже не знал клички того одра; и снова он жмет на акселератор, он как будто утратил способность что-либо ощущать, а может, ждет какой-нибудь реплики от девчонки, она делает вид, что не хочет разговаривать; и он не может признаться ей, что они уже начали самое важное в его жизни путешествие. Хоть сейчас-то есть что-то важное в жизни или по-прежнему всем все равно?… Банда мерзавцев!
Он повторяет оскорбительные слова вслух. Вначале почти шепотом, затем перекрывая гул двигателя на скорости сто десять, даже немного выше, но перекрывая ненамного, не давая воли голосу, чтобы девчонка не расслышала ругательств, предназначенных для других, для тех, кто отравил ему жизнь; но затем теряет самообладание и начинает выкрикивать ругательства, обращаясь заодно и к тем людям, что идут по прибрежной дороге; реки он сейчас не видит и знает, что не в состоянии сделать остановку на повороте возле Каскайса, там, где бухта.
Он всегда там останавливался на обратном пути из Лиссабона и хотя ничего не говорил, кроме: «Красивое местечко, блеск, как ты выражаешься, просто блеск», но долго смотрел на спокойную бухту, на ее сонные воды; море оттуда казалось неподвижным, а синева его — застывшей: синее пятно меж огней, замершее в ожидании чего-то.
Она спрашивает, не поворачивая головы:
— Что ты там говоришь?
Открыла рот в первый раз с тех пор, как они вышли из дому. Ей не хотелось ехать: она считала, что все было кончено, когда они встретились в последний раз две недели назад, — но мать уговорила ее поехать с помощью обычных доводов.
— Я уж думал, ты онемела, — говорит он равнодушно: все его внимание отдано машине и звуку мотора, когда он прибавляет скорость, переключая на третью, а затем на четвертую, и на поворотах слышится визг шин; но он укрощает машину, взявшись за руль левой рукой. Что за дьявольщина у меня с рукой?… Ревматизм, старческая болезнь. Либо — смерть?
Вопрос этот будит его, он встревожен, пугается сонной вялости, которой было поддался. (Понятно: может, в глубине его существа еще подрагивают, натянувшись до предела, последние стальные струны первобытной силы, игравшей в нем когда-то.) Он сильнее жмет на газ, давит на него всей тяжестью правой ноги, и автомашина тоже содрогается, и ему приходит на память его вороной, взвивавшийся на дыбы, когда он вонзал шпоры ему в бока.
Их обоих заносит, но машину сильнее, чем водителя.
Девчонка рассеянно вглядывается в безмятежную линию горизонта по ту сторону Бужио. Посасывает сигарету, кажется, даже полизывает и мягко выдувает дым, чуть раздвинув полные губы: сероватое облачко окутывает ее и развеивается от движения машины. Затем откидывается на черную кожаную спинку, перебросив через нее распущенные волосы — они у нее белокурые, красиво выделяются на темном, — и заводит глаза к небу, притворяясь, что мчится куда-то на крыльях мечты, а может, она и впрямь замечталась, хотя выражение лица явно заимствовано из какого-то фильма.
Он не обращает на нее внимания, ломайся на здоровье, мне неинтересно! — ему все еще немного не по себе оттого, что он сделал эту глупость, взял ее с собой; и наконец он бросается в водоворот скорости, словно ищет спасения от смерти, о которой только что думал, либо, наоборот, словно хочет перед последней решающей встречей еще раз увидеться с нею лицом к лицу в память о том поединке, который выдержал много лет назад, когда смерть прибыла к нему в голубом фургоне с зажженными фонарями.
Он отдался во власть головокружения, пытается забыть, забыть, сцепление — передача, нужно избавиться от всего, что было, но может ли человек забыть обо всем, хотя бы во сне? — крутит руль короткими резкими рывками, чтобы встряхнуть руку, заставить ее забыть о боли; нужно забыть, сцепление — передача, и машина в одно мгновение вылетает на поворот, затем двумя движениями правой руки он переводит ее на еще большую скорость, сознание становится смутным; Зе Мигелу хочется понукать машину криком, точно лошадь, чтобы выехала зигзагами к очередному откосу. Увеличивает скорость на повороте, шины визжат, вот сейчас я поставил ее на два внутренних колеса, он хочет, чтобы девчонка села прямо, ишь ты, изображает, что ей не страшно, словно ее хрупкое тело может противостоять стремительному движению осатаневшей машины. Ему снова вспоминается голубой фургон и дед. Он ждет, что девчонка испугается, ему нужно выяснить, до какого предела она в состоянии терпеть ощущение опасности, и он посматривает на нее искоса, улыбаясь горькой улыбкой, обжигающей губы, но видит, что девушка разрумянилась от восторга, стала еще краше, чем в минуты любви, этой дряни скорость нравится больше, чем я, он нажимает на акселератор еще сильней, чтоб тебе пусто было, выезжает на повороте за белую полосу, прочертившую асфальт, перед ним открывается пропасть, и у него ощущение, что сейчас он может разрешить все проблемы сразу.
Девчонка вскрикивает, хватает его за руку, сжимает, встряхивает, дергает его за волосы, а затем разражается бесслезными рыданиями, и вся дрожит. Зе Мигел тормозит, выводит машину на центральную полосу шоссе и затем мягко выруливает к деревьям парка. Ее пальцы все еще сжимают ему руку, и он говорит — жми, жми крепче, потому что ее пальцы разгоняют тягучую-медлительную боль, разжижающую ему кровь.
Ему хочется ударить девчонку, но он проводит рукой по ее волосам. Закуривает сигарету.
— Должно быть, у меня в голове не хватает винтика. Я чувствую это с малолетства…
— Ты спятил или пьян?
— Нет еще. Но мы выпьем вместе… Иногда винтик вылетает. В самые важные моменты винтик вылетает.
Умолкает на миг, думает о машине.
— Мы сейчас шли на скорости сто восемьдесят. Что случилось бы с нами, если бы у меня вылетел винтик на скорости сто восемьдесят? Превратились бы в кучу дерьма… В то, что мы собой представляем на самом деле. У меня всегда вылетает винтик, когда я иду на скорости сто восемьдесят.
Она успокоилась, соскальзывает с сиденья, кладет голову ему на колени. Знает, что ему так нравится. Он-то ей не нравится, никогда не нравился, но сейчас нужно его успокоить, она сама не знает, почему ей это нужно.
— Что ты хочешь сказать этим, дорогой?
— То и хочу, что сказал… У меня всегда вылетает винтик. Из головы. Из самой чувствительной ее точки. Потом становится на место, но когда-нибудь будет поздно, и все кончится. Я не раскаиваюсь, черт побери! Потешился вволю…
— Не понимаю, о чем ты.
— Сейчас нам уже поздно разбираться. Да, может, не стоит и пробовать. Не знаю, хорошо это или плохо; но уже поздно. Пропади оно все! Если бы можно было начать сначала, дела пошли бы по-другому. Но я не могу. Жизнь пырнула меня насмерть, как бык — лошадь пикадора. Я сумел выплыть, и мне этого не простили.
Он говорит глухим голосом, без крика. Она удивлена, хотя и не замечает, что слова его отзываются болью, влагой слез. Пытается отвлечь:
— Красивая машина. И цвет мне нравится. Ты ее уже купил, дорогой?
В ответ он лжет. И готов смеяться при мысли о том, какую шутку сыграет с владельцем.
— Триста тридцать пять конто. Заплачу сегодня, в половине восьмого.
Касается ладонью ее лица, осторожно ласкает, затем обхватывает пальцами ее подбородок и чувствует, что она покусывает ему руку. Он догадывается, что она закрыла глаза, но тело его уже не откликается на ее вкрадчивый зов.
— До вечера будем пить. Сегодня такой день, когда нужно пить. А когда стемнеет, вместе…
— Что будем делать?!
— Когда стемнеет, поедем на старую дорогу, что ведет на Вила-Франка. Это моя дорога.
— Почему?
— Моя жизнь ни с чем так не связана, как с этой дорогой. Воспоминания беспорядочно кружатся у него в мозгу.
— Вечером, когда стемнеет, в восьмом часу, она как огненная змея. Вечером вся дорога пылает огнем.
— Кто это сказал?
— Я сам…
Но он колеблется, знает, что она не поверит.
— Да нет, это не я сказал, но я так чувствовал. А сказал доктор Каскильо, ты его знаешь.
— Твой транзистор?
— Вот именно.
Он говорит это и смеется, смеется взахлеб, до слез. И чувствует, что голова девчонки, лежащая у него на ноге, тоже вздрагивает от смеха.
— Тварь! Болтливая тварь! Конечно, больше не быть ему моим транзистором, — говорит он с издевкой и болью. — Я ему больше не плачу, он больше не будет говорить за меня. Я больше не хозяин Зе. Ни для кого…
— Решил покончить с делами?
Он не отвечает. Ему хотелось бы выскочить на дорогу, позвать на помощь. Придет кто-нибудь? Не придет, он знает точно.
— Теперь не будет получать от меня пачки пятисотенных. Но быстро найдет другого. Торгует консервированным красноречием в маринаде, пять конто банка.
Немного удивленная, девчонка поднимает голову, глядит на него:
— Когда ты так говоришь, ты кажешься совсем другим человеком…
— Может быть… Я поздно начал говорить. Некоторые птицы лучше всего поют в брачную пору. Вы, городские, этого не знаете, вы мало что знаете; но того, что вы знаете, вам хватает, чтобы морочить людей. — И добавляет, чеканя слова: — Такие птицы поют лучше всего в брачную пору или перед смертью.
— А ты?!
— Я?! Откуда мне знать! Я потерял винтик, и теперь — навсегда. К черту! Ко всем чертям!
III
Мать-то не совсем это сказала, когда увидела, в каком состоянии его принесли домой, много лет тому назад. Неважно, сколько. Почти сорок. Как время идет, дьявол! Но он не забыл смысла ее слов, вынесенного ею окончательного приговора. Сурового и неумолимого — окончательного.
Ему еще слышится ее голос, не тот, каким она говорила с ним в детстве, а тот, каким она говорила с ним в памятную ночь горьких истин, это было в тысяча девятьсот сорок втором году, когда люди прекратили работу и пошли в городок протестовать против нехватки продуктов. В ту ночь мать разила его голосом острым, как отточенный нож, таким можно с маху перерезать даже струну гитары. Почему?! Мы с нею всю жизнь ссорились. Я ее любил, зла на нее не держал, но она всегда больше любила брата, чем меня, непонятно почему.
Она почувствовала недоброе, заслышав гул голосов, и вышла на порог. Сердце у нее так и подскочило, она выбежала из дому и оцепенела на пороге, не могла сделать ни шагу, когда увидела его на руках у Жоана Инасио, своего двоюродного брата с отцовской стороны.
Только выкрикнула режущим голосом:
— Проклятый мальчишка, у него винтика в голове не хватает. — И прибавила: — Мальчишку нужно прибрать к рукам, как жеребенка необъезженного. С ним нужно хлыстом да шпорами, но я справлюсь — кроме меня, его никому не обуздать.
Он не открывал глаз, дрожал, но притворялся, что расшибся до смерти. Разыгрывал роль — может, в надежде, что она расплачется при виде крови и всеобщего переполоха, вызванного его падением. Но Ирене Атоугиа словно приросла к порогу, только вся кровь от лица отхлынула; она потом призналась соседкам, что шагу не могла ступить, так перепугалась, но он-то слышал только слова ее, жесткие, непрощающие, озлобившие его.
Он так и не забыл тех слов. Время не смыло того пятна.
Если бы мать хоть раз заплакала из-за него у него на глазах, он, может быть, не стал бы затевать это путешествие, из которого нет возврата. А теперь он не в силах более ломиться в одну из тех дверей, которые, думается мне, может, и распахнулись бы под натиском его яростной силы и решимости.
Он утратил веру в себя. Возможно — но это моя точка зрения, всего лишь предположение, — с того самого дня, когда принес в жертву сына, чтобы сохранить верность одному из своих мифов. Одному из мифов, который получил из чужих рук уже готовым и обоснованным, в роскошной мишуре — престол для той породы мужчин, которые доводят до предела культ своей мужественности в первобытном преклонении перед грубой силой. И в безмозглой гордыне.
Женщины вызывают в нем растерянность. Они нужны ему, чтобы было перед кем похваляться силой и властностью, но он презирает их. Они возбуждают его, но он презирает их. Видит в каждой свою мать — и ни одна не заслуживает доверия. Если даже мать его не любила, думает он, какая женщина заслуживает его любви?… Лошадь лучше женщины. Лошадь признает власть хозяина: женщина никогда не признает власти любовника, разве что ей нужны ласки или предметы роскоши. В этот час, минута в минуту, женщина, которую он когда-то повел к алтарю, молится за него дома. Уронила руки на подол, закрыла глаза и молится: больше ничего не может сделать, чтобы отвести опасность, которой боится.
Они еще и словом не обменялись по поводу банкротства, но Алисе Жилваз чувствует, что миновала та счастливая пора, когда она была сеньорой. Этой честью она обязана своему мужу, никогда ей и не снилось, что она может залететь так высоко, но теперь ей не по себе от ощущения нависшей угрозы.
Когда-то она нанялась служанкой в поместье Релвасов, к сеньору Рую Диого и его детям, и прожила там почти десять лет, а потом Зе Мигел назвал ее женой в алдебаранской церкви. Сейчас ей приходит на ум, что он женился на ней, чтобы заручиться покровительством Релвасов. Это сомнение не дает ей молиться со всем пылом. Затем она начинает думать о сыне, молится и за его душу тоже. Ей его не хватает.
Сейчас Алисе Жилваз догадывается, и с каждой минутой все явственнее, что скоро придется ей продать усыпанный бриллиантами крест, который подарил ей Зе во время ярмарки четыре года назад. Крест стоил двадцать конто. Драгоценность, достойная королевы, сеньора, сказал ей лиссабонский ювелир. Сегодня она надела этот крест, хоть из дому выходить не собирается: просто подумала, что ей осталось носить его всего несколько дней. У нее на шее висит безделушка, цена которой вдесятеро выше, чем стоимость всего, что было в доме у ее родителей. При этой мысли ей становится страшно. Гордость ее сломлена, и она молится еще усерднее, надеясь набожностью отвести опасность.
Зе Мигел чувствует, что истина надвигается на него со всей неотвратимостью. Ему достались в удел одни лишь неотвратимые истины.
Он вспоминает о смерти, впервые она коснулась его почти сорок лет назад, и он знает, что смерть прибудет к нему на колесах. Сам выбрал ее и знает. Он назначал ей встречу в восьмом часу вечера около выбеленной стены. На этот раз он не уклонится, слово мужчины! Чтоб мне ослепнуть! Теперь назад не сверну. Отказываюсь жить по чужой указке. Глаза ему заволокло дымкой.
Вот он, след, оставшийся после того, как его лягнула смерть: тянется от выпуклости теменной кости до межбровной складки; рубец, плохо залеченный — понятно, мальчишка из бедной семьи, — красный, извилистый шрам, набухающий, когда Зе Мигел злится. Словно дополнительная вена. По этой вене, наверное, и должна была бы двигаться свернувшаяся капелька гнилой крови, которой следовало принести ему мгновенную смерть месяц назад. Да, в тот день, когда он убедился, что остался в полном одиночестве из-за сговора всех остальных, этой банды сволочей.
Но судьба отказывает ему и в этой малости. Обязанность принимать решение и действовать всегда оставляют за ним. Это уж слишком. Чтобы сама смерть отказалась помочь ему! Вот только невезенъевсегда со мною, черт побери! Хоть бы дали мне умереть христианской смертью. Хоть это! Но на него всегда ложится вся ответственность — полновесная, так, чтобы все признали ее за ним. Ладно, раз уж им так хочется — может, для того, чтобы испытать его до конца, — его решение, вот оно. Трус — нет, никогда я не был трусом. После семи, после четверти восьмого он не уклонится от свидания у белой стены, так похожей на ту белую стену, которую он видел в Бадахосе летом тридцать седьмого года. Дело было под вечер, было больно дышать, больно смотреть, больно ступать; на фоне стены чья-то фигура черным силуэтом, и взвод взял винтовки наперевес. Забудем запрещенные истории.
Почти сорок лет назад, мать сама ему рассказала, его принесли с разбитой головой, кровь так и хлестала. Малолетний великомученик, весь израненный и истерзанный, среди воплей плакальщиц и переполоха всей деревни, считавшей его покойником. Впереди Жоан Инасио, состоявший у Релвасов в конюхах при жеребятах; он взвалил племянника на плечи, словно подстреленного лиса, а позади — целое шествие, как в церковный праздник. Жоан Инасио и нашел его в беспамятстве у подножия тополя, там, где разбилась игрушечная тележка. (Вот теперь становится понятно, почему место его первой встречи со смертью представляется ему окруженным черными тополями.)
Чтобы не нарушить цельности спектакля, Зе Мигел притворился, что потерял сознание: во-первых, уже тогда, как и теперь, любил быть у всех на виду и на языке, но прежде всего для того, чтобы мать разжалобилась при виде его несчастья и хоть в этот раз перешла на стезю милосердия. Слишком быстро хваталась она за двойной кожаный ремень, чтоб поучить его разуму, когда он преступал границы, установленные ее женской рассудительностью.
Но ничего не вышло.
Она словно застыла в недобром предчувствии у косяка, а потом вынесла приговор, от которого ему больно еще и сейчас, когда он смотрит на безмятежную бухту, на медлительный пароход с желтой трубой, уже ведомый лоцманской шлюпкой. Я был несколько раз в Танжере и Гибралтаре; приятно плыть па корабле. Они с девчонкой вышли из машины, оба измочалены. Он ставит ногу на низенький каменный барьерчик, смотрит на кильватерную струю, которую пароход оставляет в водах Тежо, но мысли его заняты образами детства. Зулмира прохаживается по парку, поигрывает пятью камушками, подобранными на земле, потом подходит к нему.
Зе Мигел, словно дожидавшийся, пока она подойдет, чтобы заговорить вслух, пересказывает ей слова матери и прибавляет, прибавляет подробности: и то, что знает на самом деле, и то, что вообразил.
Зулмира, безразличная, занятая своими белокурыми волосами, которые она пытается подколоть, не разбирает его слов.
— Она меня стегала ремнем еженедельно, чтобы не сказать — ежедневно. А в заключение говорила всегда одно и то же: «Проклятому мальчишке нравится, чтобы с ним обращались как с диким зверем».
Ирене Атоугиа ошибалась. Мальчишке нравилась ласка. Но раз уж он не был склонен напрашиваться на ласки из-за своего строптивого нрава, он предпочитал, чтобы мать била его, а потом ела себя поедом — до того, что сваливалась в постель, измученная раскаянием и головной болью.
В таких случаях Зе Мигел тешился тайной радостью, словно хворь матери была местью за доставшиеся ему колотушки, как твердили в один голос все соседки. Но женщины были не правы, дело было совсем не в мести. Ему доставляло величайшее, почти бредовое наслаждение то, что в такие минуты гнев матери сближал ее с ним, он это чувствовал, все остальное словно исчезало начисто, они оставались вдвоем. Иногда я изводил ее только для того, чтобы она выкрикнула мое имя и погналась за мной. По ее милости я приучился не бояться побоев. Мне даже нравился свист ремня, когда он опускался мне на спину.
Меньшого, Мигела Зе, который был младше Зе Мигела пятью годами, она баловала почем зря, но у нее в глазах темнело от гнева и она осыпала своего старшего тумаками, как только замечала в нем черты мужа, задиры и бахвала, всегда готового ни с того ни с сего пустить в ход кулаки — и потому, что кровь у него была горячая, и потому, что вылезать любил, был у него такой порок. Смягчить мужний нрав ей было не под силу, и она переносила на сына упрямое стремление сделать из него «человека порядочного и уважительного», чтобы он был точно такой же, как все рабы, заслужившие похвалу Релвасов.
Обо всем этом и размышлял Зе Мигел, входя в полутемный бар.
— Два двойных виски. Неразбавленного. Вода хороша для лягушек.
Улыбается девчонке и отказывается от марки, которую предлагает бармен: делает это, чтобы придать себе вес, пускай не думают, что он вылакает первую попавшуюся смесь, которую ему нальют.
— Да, особого… И постарше… В виски ценится возраст, не то что в женщине. В женщине ценится молодость и сноровка, в виски — солидный возраст и беспримесность, в лошади — средний возраст и выезженность, но не чрезмерная, чтобы можно было приучить ее к хозяйским шпорам.
Девушка находит, что сейчас он не такой, как обычно. Его словно окутала пелена горечи, от которой он становится человечнее. Она испытывает нежность к нему. Был бы он всегда таким, может, она была бы с ним счастлива.
Зе Мигел продолжает говорить о прошлом. В первый раз за все три года их связи ему захотелось признаться, кто он на самом деле.
— Мы всегда жили чем бог пошлет, но я умею выбирать. Всегда все выбирал сам, и хорошее, и худое. Вышел из самых низов, как и ты. Много лет снимал перед этими сволочами шапку, а теперь обращаюсь с ними хуже, чем с моим конем. Я убил его нынче утром.
— Кого?! — переспрашивает Зулмира.
Он хрипло смеется; кривится, чтобы сладить с рыданиями, перехватившими ему горло. Продолжает медленнее, надтреснутым голосом:
— Я прикончил Принца выстрелом. Гублю все, что мне дорого. У меня в голове гул от выстрелов, от тех, когда я в самом деле стрелял, и от тех, когда я только хотел бы выстрелить. И от тех, когда стреляли другие по моему приказу. Права была мать, когда драла меня ремнем, я всегда был отпетый. У меня в голове винтика не хватает, я уже тебе говорил. И ты знаешь, что это правда. И ты еще не все знаешь.
Он замолкает — резко, демонстративно. Пьет виски — с шумом, вприхлеб, чтобы выразить свое презрение к самим стенам этого бара. В нем вызывает озлобление стоящая здесь полутьма. И вызывают озлобление полки с напитками, высокая стойка и кожаные табуреты, и цвет каждого предмета, и приглушенное освещение, и безразличный взгляд бармена, и чопорность официанта в глубине зала, в мягком алом мареве, расползающемся вокруг фонаря, и непонятная, дикарская музыка, которая доносится словно бы из стен этой пещеры, куда он забрался, чтобы напиться. Он рыгает и затем разражается хохотом; сует руку в карман брюк, вытаскивает пачку банкнотов по конто и рассыпает по столу.
— У меня хватит денег, чтобы купить все это дерьмо…
Ему вспоминается фургон и старая лошадь, которую он купил когда-то. Он хватает бутылку и пьет из горла, оттолкнув стакан. Девчонка поддерживает бутылку, чтобы он не пролил виски; судя по лицу, она испугана.
— Тебе страшно… Тебе страшно ехать со мной?
Она отрицательно качает головой — очень медленно, закуривает сигарету.
— Хочешь сигарету? — спрашивает она мягко и несмело.
Он хватает ее за запястье, сжимает; потом начинает поглаживать.
— Не хочу.
— Выкури сигару. Ты еще не курил сигары, дорогой.
— Я бросил курить…
— Боишься рака?
— Нет. Рак убивает медленно. А смерть должна прийти быстро, тогда, когда позовут.
— Смерти не прикажешь, и ее не выбирают.
— Не выбирают трусы, да — эти ничего не умеют выбрать. Но я-то умею. Родился в нищете и добрался до самых высот, а теперь мне все едино — что сжечь вот эту кучу денег, что выпить эту смесь, у нее вкус, как у лекарства, а люди твердят в один голос, что, мол, приятный… Я риска не боюсь: сколько раз возил контрабандой и виски, и табак. Я сын конюха, внук конюха — и нот, выбился в люди. Как — неважно, но выбился. Педро Лоуренсо, мой брат двоюродный, говорит, предатель я. Может, и так… Мне случалось голодать, ты себе и не представляешь как, да и сам я уже забыл, но однажды я вижу — проезжает хозяин Руй на коне, и я сказал парням — чтоб мне ослепнуть, если когда-нибудь и не обзаведусь таким же вот конем. Парни полегли со смеху, но они по-прежнему живут в нищете, а мне хозяин Руй пожимает руку и хлопает меня по спине. Мы с ним вместе дела делали…
Он проводит рукой по лбу, словно пытаясь остудить, — от воспоминаний о прошлом голова как в огне. Поглаживает шрам.
В тот раз смерть прибыла в маленькой деревянной тележке о четырех колесах, его мальчишечье тело с трудом умещалось в ней. Он с удовольствием взвалил тележку себе на плечо и поднялся по выложенному булыжником откосу на самый верх высокой и широкой насыпи, предохранявшей трубы лиссабонского водопровода. Время отступает назад, исчезает бар, красный глаз фонаря, предметы и окраска каждого из них, приглушенный свет, рука девчонки, грызущее чувство тревоги, на лбу у него еще нет шрама, он малец, хоть бы уцелел, бездельник, сорвиголова, вот-вот, таким я и остался, всегда был таким, черт побери! Он глядит сверху на приятелей по играм, сердце в груди сжимается от страха, руки и ноги холодеют, но он улыбается. Манел Аножо кричит ему снизу:
— У тебя же от страха в одном месте свербит, Зе Мигел.
— От страха у твоей бабки свербит, я знаю где…
Он пристраивает тележку на краю откоса, передние колеса ее уже на булыжнике, высматривает путь до самого низа, понимает, что нужно очертя голову бросаться вниз — выбора нет; знаком показывает друзьям, чтобы подались в сторону, и снова страх накатывает волной, бросая его в дрожь и вместе с тем вызывая потребность помочиться, словно так он избавится от ужаса, завладевшего всем его крепким приземистым телом.
— Так свербит, что ты уделаешься и обмочишься, — не унимается Манел.
У него дергается правая нога, но он медленно заходит за будочку колонки. Только там ему удается овладеть собой. Он кричит оттуда:
— Не расходитесь, вот только спущу водичку.
Винтик выскочил у него из головы. Пусть только какой-нибудь сукин сын посмеет над ним смеяться!
Он возвращается вразвалку, делает широкий взмах рукой, показывая ребятам, чтобы разошлись, но, не глядя на них, сейчас он хочет видеть лишь одно — тополя, стоящие в ряд, — и пробует тележку босой ногой. Садится в нее, отталкивается, отталкивается сильнее, тележка сдвинулась немного, сдвинулась еще и пошла; он закрывает глаза, и тележка летит вперед, сотрясаясь под тяжестью его тела; ему хочется закричать: он боится, что лопнет, если не закричит, — но снова берет себя в руки, затем остается только гул в голове, вся голова гудит, все ее уголки и закоулки, долгий гул ширится, затихает, снова гремит, снова приглушается, а Зе Мигел словно вот-вот изойдет болью, он истерзан, измочален, избит — тело колотится о края тележки, потом вытягивается судорожно, он еще пытается удержать в себе какую-то крупицу сознания, но и эта крупица пропадает где-то в глубине его существа.
Его друзья-приятели уже побежали к шоссе, петляя между деревьями.
Сухая трава была вся в крови, когда Жоан Инасио, состоявший у Релвасов конюхом при жеребятах, взвалил Зе Мигела себе на плечи, словно лиса с пулей во лбу. У въезда в Алдебаран на мальца выплеснули два кувшина воды, прямо в лицо ему, в надежде, что он очнется, хотя казалось, что спит он сном смерти — вечным сном. Он дернулся и вспомнил о матери. Подумал смутно, что теперь ей придется посидеть подольше у его изголовья, но ему не удавалось задержаться ни на одной мысли, потому что в закоулках головы снова загрохотало. Следом за ним двигалась сумятица воплей и причитаний; и он расслышал жесткий и холодный голос матери:
— Проклятый мальчишка, у него винтика в голове не хватает. Мальчишку надо прибрать к рукам, как жеребенка необъезженного. Хлыстом его да шпорами.
Он повторяет девушке всю тираду, которую, как воображает, сказала мать, хотя расслышал он только первую ее фразу. Девушка верит и сжимает руку Зе Мигела, толстые пальцы, разгуливающие по ее платью.
— Я три месяца пролежал в больнице… Почти неделю в коме, врач мне потом сказал. — Пытается сострить: — В коме или комом, а смерть меня испугалась. Знает, что я сам выбираю… И всегда выбирал все, что со мной приключалось.
Бравирует, чтобы не заплакать. В глазах у него какое-то жжение.
IV
Два года спустя дед увел его из дому и определил в подконюхи к Луису Пруденсио, зажиточному хозяину, арендовавшему земли Релвасов в Лезирия-Гранде. Он не мог прочесть ни буковки, будь она даже величиной с быка, хотя мать посылала его в школу доны Алдегундес; школа эта была чем-то вроде камеры пыток, где ребятня приучалась к инквизиторским способам воспитания — стоять статуей лицом к стене и сносить пощечины и удары линейкой, — зато выходили все оттуда покорными и запуганными. Или с такой ненавистью к книгам, что при одном их виде тряслись от страха.
Зе Мигел еле выучил всю эту скучищу: а-е-и-о. Он утратил всякий интерес к учению, потому что однажды услышал от учительницы, что она может выучить даже осла с водокачки. С теx пор высшим наслаждением его школьной жизни стало одно занятие — опровергнуть ее похвальбу. Он стал школьным шутом, чтобы отвлекать других мальчишек на уроках. Все делал шиворот-навыворот, не мог связать двух букв, цифры рисовал как попало; когда казалось, что он как будто выучил все хвостики и завитушки какой-то цифры или буквы, он тотчас выводил учительницу из приятного заблуждения, болтая хитрую бессмыслицу, от которой весь класс хохотал, а она корчилась, как на медленном огне.
Ему удалось ее унизить. Сорванцам комические уроки Зе Мигела пришлись по душе куда больше, чем нудная тягомотина учительницы. Вскоре все стали болтать чепуху, старались перещеголять друг друга. Дона Алдегундес, переспелая девица, впала в истерику: худела непонятно отчего, хотя и пила рыбий жир. Ходил слушок, что ей не хватает любовных утех и она страдает по бросившему ее пехотному младшему лейтенанту, который был крупным специалистом по части опустошения кошельков тоскующих дам.
За четыре месяца стараний ей так и не удалось добиться, чтобы внук Антонио Шестипалого называл «о» иначе чем «кружочек». Она грозила ему линейкой, зажатой в кулаке, и твердила в изнеможении:
— Это «о». «О»! Скажи — «о»!
Зе Мигел еще больше щурил озорные глаза, и, если учительница показывала ему заглавную букву, он отвечал старательно, с таким видом, будто открывал Америку: «Круг!» Учительница принималась ребром линейки, как ножом, бить сорванца по суставам, и тогда он спешил поправиться: «Ну значит, не круг, а кружочек».
В дело вмешалась мать: она задавала ему такие порки, после которых другому пришлось бы делать уксусные примочки; отец пригрозил, что отправит его пасти овец на хутор к дону Домингосу Эспаргозе, который прослыл придурковатым, но пользовался этой репутацией, чтобы морить своих батраков голодом. Зе Мигел не уступал ни на мизинчик.
Вся эта чертовня кончилась благодаря вмешательству Антонио Шестипалого, который как-то раз в субботу за ужином назвал все вещи своими именами:
— Парень ничему не выучится у этой мымры, хоть ты его убей. Он мой внук, и хорошо, что уродился в меня — крепок костью. Его не согнуть, он в пономари не годится. И нечего тут толковать, переливать из пустого в порожнее… Зе отправится со мною в поле. Если написано ему на роду быть медяком, он в серебряные монетки не выбьется; а если ждет его крупный выигрыш, он сам приплывет к нему в руки, так что не придется ему маяться — дно Тежо горошинами мостить. У малого есть удаль; незачем ее выбивать. Приготовьте ему котомку, купите пару башмаков, и в воскресенье вечером я возьму его с собой. Он пойдет помощником конюха к хозяину Пруденсио; все остальное — наше с ним дело.
Так оно и вышло, и вышло неплохо, черт возьми, потому что мой дед находил общий язык с любым человеком, даже если человеку не сравнялось и десяти. Когда он положил мне на плечо свою лапищу — до сих пор помню ее тяжесть — и повел — но по-доброму — разговор о том, что учителка, мол, навесила на меня ярлык осла, я ответил, чтоуэтой скорпионихи и до десяти считать не выучусь и, чем с ней вороваться, лучше отхвачу себе язык бритвой. Дед еще пытался меня урезонить, мол, то да ce, да разное-всякое, но я уперся и ни слова в ответ. Он все понял, сжал мне плечо и переменил разговор; а потом ладонью потер мне щеки — он всегда так делал, чтобы я быстрее стал мужчиной, чтобы борода быстрее выросла. Я еще не говорил, но нужно тать, что дед мой Антонио Шестипалый был конюхом при стригунах у Диого Релваса и однажды двинул его головой в челюсть, когда хозяин отвесил ему с маху две оплеухи перед всем честным народом, дело было в усадьбе, на празднике, после боя быков, и все из-за одной красотки, которая так и вешалась на шею моему старику во время фанданго. Диого Релвас владел землями, стадами, людьми, владел громами и молниями и всем, что было в Алдебаране и что было в мыслях у муниципальных заправил и в законах у лиссабонских министров. И мой дед двинул его головой в челюсть, отвесил точно и сполна, не смыть до конца дней. Незадолго до смерти Релвас совсем выжил из ума, все боялся, что обеднеет; а когда он умер, мой дед Антонио Шестипалый вернулся в родные края, и никто не посмел его тронуть. Никто пикнуть не посмел. Дед и вырвал меня из когтей этой гадины в школе и велел отцу купить мне башмаки, белые кожаные, прочные, и я смазывал их салом и гордился ими больше, чем генерал своим новым парадным мундиром со всякими звездами или что там у него. Больше я никогда не ходил босиком…
А теперь ему хочется походить босиком по бару. Может, потому, что бутылка уже пуста и он закипает злобой в хмельном тумане, отравленный все той же неотвязной мыслью, что побудила его попросить машину у дона Антонио Менданьи.
Мысль разуться приходит ему в голову внезапно и захватывает его. Рывками он развязывает шнурки, пальцы болят, левая рука болит, но он забыл о свернувшейся капельке гнилой крови; срывает башмак с левой ноги. У него потребность оскорбить кого-нибудь, кого-то, кого здесь нет, но кто принадлежит к тому миру, в котором сам он прожил последние годы и откуда его хотят вытурить. Теперь, когда он им больше не нужен, они вытолкнули его из своего круга, плевком вышибли из этой проклятой буквы «о».
Он улыбается горько, вспоминая школьные уроки. Сейчас ему приходится не лучше, может потому, что дед умер и не найти никого, кто мог бы понять его так, как понимал дед.
Официант наблюдает за ним из глубины возбуждающе светящегося марева, словно окутывающего его красным плащом.
— Эй ты!.. Да, ты, я с тобой говорю.
Официант приближается, лицо суровое, до улыбки не снисходит.
— Ты ходил когда-нибудь босиком?… Да, да, ходил, как голубь?! Голуби не носят башмаков.
— Нет.
— Жалко! Я бы отдал тебе свои, мне они ни к чему.
Ему еще приходит в голову стянуть с ноги носок и отхлестать им официанта по физиономии. Но здесь нет его друзей, прозванных в городке гладиаторами, так что никто не раззвонит потом об этом подвиге. Он хватает банковый билет, бросает официанту.
— Пятьсот сдачи, остальное тебе. Дети есть?…
Официант улыбается:
— Двое: мальчик и девочка.
Глаза у Зе Мигела стекленеют. Ударяет кулаком по столу, потом закрывает лицо руками. Перед глазами у него тело сына, лежащего на софе в гостиной, подушка под головой вся в крови. К Рую Мигелу смерть прибыла не на колесах. Только он, отец, знает тайну тех выстрелов, промаха быть не могло.
Девчонка пытается успокоить его, легкие пальцы поглаживают ему плечо. Она вспоминает о последней встрече, когда, казалось, между ними все было кончено. Ей пока непонятно, что же заставило его заехать за нею две недели спустя, тем более что она еще не замечает в нем признаков вожделения. В каждом его движении чувствуется озабоченность, он не такой, как всегда, слова его отдают печалью, даже кожа его отдает печалью — бледнее обычного, какая-то зеленоватая. Вот сейчас он рыдает — она видит, как сотрясается широкая спина. От виски, наверное… Или от чего-то другого, о чем она не догадывается?!
Когда две недели назад она сказала ему «отвези меня домой» и забилась в угол машины (не этой, другой) в приступе досады, она, возможно, еще надеялась, что он повезет ее в сторону Монсанто [70], машина словно сама собой скользнет в тишь осенней ночи, ласковой и лунной, и в какой-то миг кто-нибудь из них обронит слово или сделает движение, зовущее к примирению. В их отношениях была какая-то загадка. Вернее сказать, непереносимая очевидность, которую она предпочитала называть тайной. Между ним и ею вечно стояла мать. Неужели между Зе Мигелом и ее матерью все еще что-то было? Сегодня поехать ей велела мать… Семья привыкла к деньгам, которые каждый месяц выдавал Зе Мигел, и сейчас, пока не появится кто-то другой, без них денег было бы трудно: два конто в месяц — сумма в любом случае, особенно в доме, где отец зарабатывает чистыми полтора конто. Но нужно же было когда-то кончить этот роман, такой же банальный, как романы других девушек из ее квартала, — девушек, которые всегда возвращаются домой поздно и в машине, в которой виднеется чья-то фигура. В ту ночь они поговорили друг с другом начистоту. Начистоту, без ненужных условностей, но до ужаса жестко и обнаженно. Жестоко. Это означало разрыв, так было лучше для обоих, хотя очевидность пугала Зулмиру, надламывая ее неподатливый нрав.
По радио транслировали какую-то романтическую музыку, нелепую после всего, что было сказано. Он немного приглушил тук; может, в конце концов заговорит по-хорошему, подумала она: у них уже было так однажды, в Гиншо, в самом начале их связи, когда мать перестала ездить с ними из-за отца, который как-то раз в подпитии замучил их обеих мерзкими намеками и опасениями и потребовал, чтобы дочь ездила с ним одна, потому что иначе не разберешь, которая из них сводничает, а которая ложится с Толстосумом, как назвал он Зе Мигела в порыве обиды и ревности. До этой истории между ними ничего не было. Зе Мигел больше внимания оказывал матери, чем дочери, пресноватой на глаз знатока, загоравшегося при виде пышных колышущихся бедер матери.
Как-то ночью Зе Мигел признался: «Твоя мать — лакомый кусочек, ее хочется похлопывать, как кобылку. Постарайся потолстеть, а то ты похожа на воробышка». Когда он привез ее домой, она пожаловалась матери и поклялась, что никогда больше не пойдет с этим мерзким стариком, с этим сквернословом, выскочкой, ничтожеством, скотиной, разнервничалась, расплакалась, но мать улыбалась мечтательно, не замечая ее слез.
У Зулмиры возникло подозрение, что от нее что-то скрывают, подозрение перешло в уверенность, она снова стала ревновать его к матери — у матери цвет лица был как у цыганки, когда они вдвоем шли в церковь, все смотрели на мать. И она стала подмечать кое-какие двусмысленности, слова, которыми мать и Зе Мигел обменивались во время автомобильных прогулок, все тpoe сидели спереди, мать посередине, между ними, — чтобы огонь не кинулся на стружки, говорила она вкрадчиво.
Вот поэтому-то, когда отец потребовал, чтобы его перестали водить за нос, Зулмира взяла реванш, уступив ухажеру. Зе Мигел был ошарашен. Они с Зулмирой окончательно объяснились две недели назад, поговорили начистоту. Жестоко, но начистоту, впервые за три года банального романа.
Зе Мигел немного приглушил радио, словно вознамерившись погрузить их обоих в двусмысленную нежность скрипок. Когда въехали в город, она попросила высадить ее у дверей дома, где они встречались; ей хотелось побыть одной, может, чтобы выплакаться, а может, чтобы припугнуть его: она уже грозилась, что выбросится с балкончика восьмого этажа, хотя в глубине души ей стало смешно, когда она увидела, что он принял все всерьез: назвал ее дурочкой, «дурочка, глупышка, это не выход; ты молода, у тебя вся жизнь впереди, можешь выйти замуж за человека своего круга».
— А ты-то? Из какого круга ты сам? — спросила она с ненавистью.
Зе Мигел презрительно промолчал. Только увеличил скорость, безрассудно, не думая об опасности.
Когда машина остановилась у фонаря, Зулмира открыла дверцу — медленно, в ожидании слова, жеста, кивка или взгляда, в ожидании грубости хотя бы, в ожидании конца — а может, начала, она не знала сама. Усилием воли заставила себя выйти из машины, на тротуаре поколебалась, хотела было повернуть обратно — чего ради? — и оказалась на темной лестничной площадке.
Машина отъехала почти бесшумно, взяла с места легко, тем более что улица шла под уклон.
А сейчас они сидят в баре, ее рука лежит у него на спине, и она чувствует, что он беззвучно рыдает.
Ее охватывает мстительное чувство. Она тоже рыдала в ту ночь, когда одна-одинешенька бежала вверх по лестнице, опустив голову, чтобы не видно было слез, которые она хотела выплакать без свидетелей; и она знала, что не в состоянии прийти домой с таким известием.
Сплетницы со двора сразу догадались бы, что произошло, она угадывала их подлые комментарии: «Ох, голубушка, какое лицо было у Зулмиры, у дочки Палметаса! Что-нибудь не так с типом, который ее содержит, — дело ясное: может, денежки у молодчика кончились… Пускай теперь мамаша потрудится, а то знай себе толстеет».
Она хотела было достать ключ из сумочки. Но пальцы нащупывали то платок, то коробочку с лекарствами, то календарик, она любила носить его с собой — сейчас сама не понимала зачем. Мимо проехала освещенная клетка лифта. Зулмира пробежала последний пролет, где-то внизу зазвонил колокольчик, может на третьем этаже, где живет Лолита, девушка, что весь день ходит в розовом пеньюаре.
— Откройте, быстрей откройте, сеньора Энрикета!
Едва распахнулась дверь, она, не сказав ни слова, побежала по коридору. От боли ей трудно было дышать, и она влетела в комнату, не включив света: она и так знала, где кровать, и повалилась на нее, словно на доску, утыканную гвоздями. Почуяв, что пахнет скандалом, старуха хозяйка вошла следом за нею, попыталась разговорить:
— Может, вам нужно чего, барышня Зу?! — И в голосе, мягком, осторожном, вкрадчивом, была настойчивость.
Зулмира вытерла слезы и ответила, чтобы прекратить разговор:
— Нет, ничего мне не нужно… Сейчас ничего не нужно…
Всем что-нибудь да нужно, только вот что? — размышляет она теперь, сидя за столиком в баре. Решает, что ей нужно выпить еще, чувствует, что уже охмелела, ей хочется петь, то ли чтобы расквитаться с ним за боль, которую он причинил ей две недели назад, то ли потому, что она понимает — при ней ее молодость, у нее нет морщин, как у него или у матери, и ей осталось жить больше, чем им обоим.
Она не знает, не может знать, какие мысли побудили ее любовника взять ее с собой в эту поездку. И не задает ему вопросов. Может, боится, что он ответит и скажет правду.
V
Он и сам не понимает, почему взял ее с собой. А может, знает слишком хорошо, он столько времени раздумывал и откладывал, прежде чем позвонить ее матери, Марии Лауринде, которая и была настоящей его сожительницей в течение последних шести лет, когда он жил на широкую ногу, такая женщина, что закачаешься, черт побери: в теле, опрятная, свежая — лакомый кусочек, никто не дает ей ее лет, она чем старше, тем лучше, можно подумать, с годами только краше становится, понятно? Лакомый кус, воистину лакомый кус, глаза цыганские, тело тоже, как у цыганки — оливковое, и в каждом движении такая зазывностъ всезнающая, как ни у одной другой ни на этом свете, ни на том; женщина, всем телом познавшая науку любви, как ни один самый ученый муж не познал свою науку. Храм, как говорит доктор Каскильо, странные такие слова, храм прельщений или прельстительности, в общем, от слова «прелесть», что-то в этом духе. В день нашего знакомства я как раз заполучил третий грузовик — десятитонку; переправлял его в Лиссабоне паромом на тот берег с пристани Кайс до Содре.
(Так начинает Зе Мигел в угаре бахвальства. Пускай себе плывет на корабле своей разгулявшейся фантазии, пускай привыкнет к штурвалу, не прерывайте его, пожалуйста. Вот увидите, в сумятице вожделений и навязчивых идей у него за плечами появятся огромные крылья шалой птицы.)
Так вот, как я говорил, собирался я перебраться через Тежо на своей десятитоночке, не грузовик, а игрушечка, контрабандный товар, подмазал всех, кого надо (нажились они на мне, черт возьми, а теперь знать меня не хотят), выскакиваю из кабины и натыкаюсь на нее, стоит, уставившись на меня, как бычок распалившийся, простите за сравнение, а глаза ее цыганские так и вонзились в перстень с красным камешком, он и сейчас у меня на пальце, вот этот самый; я давай насвистывать и на часы гляжу, чтоб она видела, что они у меня золотые, часы-то сплыли три месяца назад, когда нужно было оплатить счет за покрышки; глядим мы друг на друга, и обоих словно током дернуло, мы после друг другу в разговоре сознались; и я думаю про себя: у нас с этой женщиной есть что-то общее, нас кровь друг к другу зовет, плоть и кровь, и что бы между нами ни стояло, а она должна быть моей, пусть ее охраняет хоть взвод Республиканской гвардии, пусть у нее есть муж, какая разница, на божьем свете всегда были рогоносцы, и, если одним станет больше, от тяжести башки этого вола земля не расколется. Подхожу я прямо к ней и начинаю не спеша и с важностью, как министр какой-нибудь: откуда, мол, я вас знаю? Мы уже встречались где-то и даже разговаривали. А она мне в ответ ледяным голосом, что с водителями грузовиков не знается, но глаза-то были не ледяные, взгляд мягкий, как лисий мех, а я ей: водитель грузовика? Я не водитель — не потому что считаю это занятие зазорным, но потому, что могу показать ей караван таких грузовиков, и все мои, а еще у меня есть усадьба и своя земля в Лезирии, я предприниматель, коммерсант и землевладелец, так-то вот. Она как в рот воды набрала, а я ей и то, и ce, плету себе, слава богу, всегда умел договориться с женщинами, а лучш, е было бы, чтобы я умел договориться с этой бандой мерзавцев, накинувших мне петлю на шею; но они просчитаются, ох как просчитаются, им и на этот раз не удастся втоптать меня в грязь.
(Меньше месяца назад Зе Мигел надеялся, что уговорит кредиторов подождать еще, потому что в воздухе пахло новой войной и он рассчитывал поправить свои дела, а им за отсрочку готов был заплатить любые проценты.)
Заливался как соловей, выдал па самом высшем уровне: мол, дома у меня не жизнь, а сущий ад, собираюсь разводиться, самое сложное — церковные дела, но все можно уладить, были бы деньги, люди рождены для счастья, вручил ей визитную карточку, просил позвонить, сам не знаю, что плел; открываю бумажник, набитый сплошь тысчонками, она прямо побелела, черт побери! Физиономия ее цыганская стала белее муки, а глазищи как фонари, так и горят; оцепенела, словно кролик, когда он, перебегая дорогу, попадает под свет фар. Вижу, момент благоприятный, она так и млеет, и, не теряя времени, приглашаю ее пообедать в Гинжале, посидели бы уютно в отдельном кабинете, поговорили бы о жизни, можно же быть просто друзьями; и когда я выдал ей весь романс, то да ce, да разное всякое, гляжу — она уже готова кричать: да здравствует свобода, и плевать ей и на семью, и на визит, хотя ехала она в Сетубал в гости, сама сказала; и стала мягкая, как крем, хоть языком ее слизни, а я-то уже распалился, руки дрожат, во всем теле дрожь, да и сейчас так, стоит только вспомнить эту кобылку: вот уж на ком погарцуешь всласть!
Мои руки все еще помнят ее, черт побери! Всю ее помнят, я ее выучилнаизусть, лучше, чем правила движения, когда сдавал на водителя — тогда я знал, какие мне зададут вопросы, но ни разу за всю мою жизнь, за эту жизнь, которую прожил я королем, сам сотворил, сам загубил — а каком ценой, и сам не скажу, сколько потратил смелости, сколько хитрости лисьей, сколько прыти конской, сколько лживости змеиной, сколько всего и всякого сколько, — никогда еще не знал другой такой искусницы в любовных утехах, сладко до боли, путешествие без конца и без точного маршрута, и каждый раз все у нее по-другому, словно россыпь карт игральных либо россыпь звезд по небу, а небо — тот ломберный стол, где от рук твоих ничего не зависит.
А когда я почувствовал, что набил себе оскомину, вылезает на свет божий ее муж и начинает разводить антимонии, что, мол, мы развлекаемся втроем, и тихой сапой подсовывает мне дочку, тоже лакомый кусочек, еще никем не надкушенный, от такого ни один мужчина не откажется, даже если придется пожертвовать несколькими годами жизни, черт побери! Что за жизнь у человека, который жизни боится и обертывает себя слоем ваты, чтобы не расшибиться обо что-нибудь твердое? Не жизнь, а кашица, жиденькая, безвкусная, нет в ней ни запаха утра, ни запаха ночи. Что такое жизнь? Что такое человек? Если не хватит у тебя смелости помериться с нею силами лицом к лицу, схватить быка за рога, разве стоит жить?… Как-то раз работал я в поле вместе с другими парнями — моими одногодками, ясное дело! — тут выезжает верхом наш хозяин Руй Диого, я и говорю парням, когда-нибудь и у меня будет такой конь, вороной, черный как смоль и мой собственный, точь-в-точь как у него. Я начал игру и выиграл коня, был на «ты» со всякими важными типами, от которых так и разит «вашим превосходительством», купил их благоволение, улестил их с помощью виски и всякой тонкой жратвы, а теперь они хотят мне нагадить, а может, уже нагадили, но я тоже их доил, пока мог, хотя они могут больше, чем мы, пока не пробьет час, как говорит мой двоюродный брат Педро, который уже сидел за политику, но я в такие дела не суюсь, на черта мне это надо, пропади оно все, человек может влипнуть в такое, что не приведи бог, и ничто не спасет ни его самого, ни домашних.
Не люблю я говорить про это. Впутался в темное дело, вся жизнь к чертям полетела; но моя история с девчонкой, с этой самой Зу (дурацкое имечко, а все прочее — дерьмо!), и с Марией Лауриндой все-таки ничего себе, у каждой из них свои достоинства, а люди видели, какая идет игра, и мне эта игра была по вкусу; я восседал на престоле, как король какой-нибудь либо святой, и из всей кучи деньжищ, что я просадил за те годы, когда жил без оглядки, мне не жалко лишь тех денег, что я потратил на них обеих.
Когда Руй Диого Релвас вызвал его к себе в усадьбу и, приняв в кабинете, с каменным лицом объявил ему, что забирает у него за неплатеж имение Монтес, сельскохозяйственные машины и орудия, тягловый скот и все три набора принадлежностей для верховой езды, помеченные вензелем Релвасов, которым Зе Мигел щеголял на улицах городка, Зе Мигел, Мигел Богач, как его тогда звали, задрожал всем своим крепким приземистым телом и сказал только:
— Хозяин Руй, не наносите мне такой обиды… Заклинаю вас женой вашей и детьми, душой деда вашего и всем самым святым на этом свете и на том, потому что я заплачу вам наличными.
— Ты уже второй раз обещаешь и подводишь меня.
— Никогда я не подводил вас, когда был вам нужен. Много раз ставил на карту жизнь, чтобы выручить вас. Вам это известно…
— Ты свое сполна получил или н-нет?… Не сполна?!
— Некоторые вещи дороже стоят, чем за них уплачено.
— Я тебе должен что-нибудь?! Если да, предъяви счет, обоснованный по всем правилам. Я никому медной монетки не должен… (Разве что банкам, подумал Зе Мигел.) А уж тебе — меньше, чем кому бы то ни было. На твою роскошную жизнь всех моих денег не хватит, понял?!
— Вот-вот начнется новая война, вы знаете об этом лучше меня, сеньор. И тогда я снова понадоблюсь, хозяин Руй; всем вам снова понадоблюсь. Назначьте проценты…
— Я не ростовщик.
У Зе Мигела вылетел винтик из головы, он надвигается на Релваса, раскинутые руки напряглись, лицо мертвенно побелело, под кожей пробежал холодок, что-то подступило к глазам, к горлу, вот-вот последует вспышка.
— Я уже заплатил вам из расчета двадцать процентов. Использовал клетки ваших быков, чтобы возить контрабанду в Испанию, а оттуда из Валенсии — куда угодно. Никогда из этих земель не вывозили столько контрабандного товара под видом экспорта быков.
Руй Релвас, Штопор, как прозвали его за честолюбие и пробивную силу, выдвигает ящик письменного стола и на стекло, прикрывающее столешницу, бросает один из револьверов, которые всегда держит у себя в кабинете.
— Ты можешь доказать свои слова?! Человек отвечает за каждое свое слово, а ты ни за что не отвечаешь: ни за слова свои, ни за долги, ни за то, что имеешь, ни за то, что теряешь.
— Положите пистолет обратно, хозяин Руй. И вы не будете стрелять, хозяин, потому что я теперь и выстрела не стою, и угрозы не испугаюсь, потому что теперь мне все едино. Вы, сеньор, и другие выгнали меня на арену, словно быка, заработали на мне, сколько хотели, а я все сделал, все и даже больше (хорошее времечко, Зе, хорошее времечко!), а теперь, когда я занимаюсь честным трудом и мне туго пришлось, теперь, когда я стал честным человеком, вы меня поставили на колени, как быка, хозяин, и хотите добить.
— Ты вошел в эту дверь — так вот, она открыта. Вон отсюда! И вдруг срывается на крик, словно в приступе буйного помешательства:
— И быстро, быстрее, чем вышел твой дед Антонио Шестипалый, потому что время сейчас другое, и я убью тебя как собаку… Так и будет, сам знаешь. И никто не даст за твою шкуру и медяка. Вон!
Эх, ребята-дружки, эх, белый свет!.. Если б мог я дать волю своей левой руке, одной только левой, да хватил бы его по-своему, разом порвалась бы та нить, по которой идут к нему минуты жизни, и ни минуты больше не видел бы он, старый козел, ни луны, ни солнца. Они вступили в сговор и теперь загнали меня в круг; у меня уже не было выхода… Если бы в кругу стояли люди, я бы вырвался, черт возьми, тогда я бы вырвался. Но круг был другой… Уложить одного было бымало для моей ярости, а уложить всех было мне не под силу. Никогда не стоит похваляться силой! А сейчас я как выжатый лимон. У меня всегда так. Либо все, либо ничего…
Но он все еще похваляется — лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание, не дать забыть о своем существовании. Всю жизнь это было главнейшим его желанием. Может, потому, что он хоть крепыш, но ростом не вышел. Но кто он там ни есть — коротыш, плутяга, профессиональный плясун, — он потешиться любит, и никому еще не удавалось обвести его вокруг пальца. Вот разве что теперь… Да и теперь еще поглядим! Я покуда не в нокауте, с ног меня не сбили, до этого далеко. Но он и сам понимает, и куда лучше нас, что теперь все его новорожденные планы повисают в воздухе, не в силах укорениться в реальности. И быстро погибают. Неистово рвутся на простор — и погибают, может, от избытка того же неистовства. Истощают себя в недолговечном порыве к самовоплощению.
Он заблудился в балагане кривых зеркал и сам не замечает, где находится. Тасует события, словно карты, искажает их суть. Искажает свою собственную суть. То все видится ему удлиненным, вытянутым, стремящимся ввысь, то съеженным и сжавшимся, все зависит от его минутного настроения, ибо он смотрит на мир взглядом больного, воспринимая людей и события в неверном преломлении. Он самоутверждается и впадает в растерянность, испытывает потребность совершить нечто значительное и необратимое, но у него над головой какая-то крышка, она давит на него сверху, толкая вниз или по крайней мере не давая выбраться из рокового круга.
Он физически ощущает, что его вот-вот раздавят. Как зеленого кузнечика, угодившего под безжалостный каблук.
А иногда он тешит себя мыслью о том, как ловко всех одурачил: им кажется, что он обессилел, у них во власти, все, как он сказал Рую Релвасу Штопору, когда тот принялся ему угрожать. Теперь, когда я стал честным человеком, когда я хочу быть честным, вы поставили меня на колени, хозяин Руй, и велите другим добить меня. Он вспоминает эти свои слова и кажется сам себе хитрецом, он все тот же Зе Мигел, который отправился в путь босиком, а потом перешел на «ты» с главой муниципального совета. С глазу на глаз, само собой: другим незачем было знать, что они вместе занимаются контрабандой.
Он все еще кажется себе хитрецом: он еще способен на неожиданный ход, еще одурачит тех, кто подготовил его падение или поверил, что он уже повержен, что не хватает только мулов, чтобы уволочь его труп. Такие мулы уволакивают с арены труп убитого быка в испанской корриде, испанская коррида для быка всегда кончается смертью. В конце концов, и жизнь — только коррида, всегда кончающаяся смертью: быков выпускают со сточенными рогами, они утратили чувство пространства, и тореро могут разыгрывать представление и делать с ними все что угодно без малейшего риска. Только бык остается беззащитным. Кажется, и с ним, с Зе Мигелом, происходит то же самое, спаси, господи, думает он иногда.
Но они ошибаются, думает он все-таки. Эта иллюзия ему необходима. Он не знает точных правил игры, в которую ввязался. Остался в дураках, как сам столько раз говорил о других, о тех, кого дурачил, кого водил за нос. Он верит, что у него еще осталось в запасе несколько козырей и он пустит их в ход в решающий миг. Но когда?! И какие?!
Он уже дошел до бреда в своих планах внезапного реванша. Еще две недели назад ему казалось, что он в состоянии разгрести обломки, оставшиеся после землетрясения, и начать сначала, и сделать лучше, и не совершать ошибок, и стремиться все вперед и выше, гораздо выше, откуда он сможет смотреть в лицо тем, кто обошелся с ним, словно с полотенцем из снятого ненадолго гостиничного номера.
Вот тогда-то, и только тогда, он скажет им несколько слов. Немного. Ему много не нужно. Он уже выбрал эти слова, со всей тщательностью, и выучил наизусть; слова увесистые, с подковыкой, поднесет каждому его долю на серебряном подносе, когда снова устроит прием у себя в усадьбе — угостит их виски, устрицами, виноградной водкой, бифштексами из филейной вырезки — и презрением. Напоит их допьяна виски и презрением.
План приводит его в восторг, он смакует его, обдумывает, доводит до совершенства, но через несколько дней — или через несколько часов — погружается в туман, и все стирается в тусклом одиночестве, на которое обрекает его действительность.
Стальные струны мужества порвались в нем. Его предали, разрубили на доли и поделили, поделили между собой, каждому по доле, словно эти сволочи предчувствовали, что он готовит реванш; поступили, как футбольные болельщики либо как богомолки, что делят меж собою реликвии и ладанки, чтобы потом щеголять ими перед простаками.
В нем возникают взаимоисключающие чувства, вступают в безрассудную борьбу, а затем сникают в бессилии — в безнадежности и бессилии. Мне перебили ноги молотками, которые я сам вложил им в руки. Негодование сменяется приступом уныния. Он расходует жизнь с той же скоростью, на которой сейчас гонит машину, и помнит, с какой скоростью неслась та тележка на деревянных колесах, которую смастерил алдебаранский мастер и в которой он впервые увидел смерть. Передергивается и чувствует, что очень устал.
Неужели не найдется такого парня, который помнил бы, кем я был и кем стал, и сообразил бы, что у меня хватит силы снова выбраться наверх?! Если бы кто-то помог мне вытащить лодку из ила, я был бы такому человеку всю жизнь благодарен, верен, как пес, даю честное слово, на этот раз настоящее, на этот раз надежное. Мои деньги будут его деньгами. Я готов пойти на любое дело, не пряча лица, мне все равно, а он может остаться в тени в ожидании прибыли. Чтоб мне ослепнуть!
Он подумал, что такой человек может объявиться в последний момент. Может, тогда, когда нотариус объявит распродажу его имущества, на которое уже будет наложен арест по приказу Штопора. Кипы гербовой бумаги, оплаченной им; каждая буковка — монета, каждый раздел, каждая подпись, каждая строчка, и все эти консультации, и доктор Каскильо, человек, который говорил за него, и молол, и тарахтел, и сочинял письменные прошения, и выдумывал причины для отсрочки, пытаясь отодвинуть роковой час, все приближавшийся с каждым мгновением — и приближавший тот единственно возможный и окончательный приговор, который вынесла ему огненная змея — не дорога, нет, а та, другая, жертвой которой он стал по их вине.
Прежде чем выйти из кабинета, он бросает последний взгляд на Руя Диого Релваса Араужо. Голос его почти срывается на крик, но он не обманывается видимостью. Он струсил. Знает: один' прыжок — и можно схватить пистолет, который тот выложил на письменный стол, вырвать пистолет из пальцев Штопора, стиснуть в своих, и пули разнесут череп старого козла. Но вспоминает про сына и колеблется.
— Вы побились об заклад, что погубите меня… Вспомнили, как мой дед Антонио Шестипалый головой заехал в челюсть вашему деду, и теперь мстите. Вы нарочно мне льготы давали — чтобы потом утопить, теперь знаю точно. Но вам нечего считать, сколько денег я потратил на женщин. У меня все, что надо, на своем месте…
Алдебаранский помещик передернулся.
— И мне вы не отрежете мужские причиндалы, как ваш дед — тому парню, что переспал с вашей теткой… Да, Зе Педро, тот самый, кого господа приказали убить. Ваши внучки еще…
Он уже раскаивался в том, что начал об этом.
Рот у него горит, он чувствует, что подписал себе смертный приговор. Теперь Штопор не выпустит его из когтей, пока не прикончит. У меня снова вылетел винтик. В худшие минуты винтик вылетает, и я сам не знаю, что говорю и что делаю. Очертя голову бросается прямо в омут:
— С какой-нибудь из ваших внучек приключится то же самое, не сомневаюсь. Господь не дремлет.
Когда слуги схватили его и выставили за дверь господского дома, Зе Мигел, Мигел Богач, позволил дотащить себя до двора, но там уперся и стряхнул с себя пинками и затрещинами повисших на нем холуев.
Руй Диого подглядывал за ним из-за портьеры. Зе Мигел увидел фигуру помещика и справился с одолевшим его страхом.
— Первый, кто коснется моей одежи, никогда больше не увидит солнца. Пропорю брюхо ножом, зубами заем. Заем зубами того, кто подойдет хоть на шаг. И плюю в морду тому старому козлу, он силен силой своих прихвостней. Но со мной сила на силу напорется…
Он поправил куртку, какие носят землевладельцы — никудышный из него землевладелец, — и пошел к воротам с высоко поднятой головой. Ему казалось, что он стал выше ростом, что ростом он чуть ли не с собственного коня, привязанного к ограде.
В эту-то минуту он и ощутил подергиванье и тяжесть в левой руке, на которую теперь жалуется.
Он медленно отвязал поводья вороного и вскочил в щегольское седло, твердо зная, что никто не посмеет преступить черту, которую он провел.
VI
Но сам-то он никогда не мог разглядеть черту, которую ему запрещалось преступать. Может, потому, что он никогда не смотрел вниз, и не мог разглядеть этой черты, поскольку взгляд его был устремлен в такие выси. Тут ему не помог даже инстинкт, тот самый, что позволяет иным животным угадывать опасность или перемену погоды. Ринулся прямо к собственному концу в сумятице дерзких и тщеславных поступков, твердо веруя, что родился со счастливой звездой во лбу, в то время как жизнь пометила ему лоб шрамом, оставшимся после первой его встречи со смертью.
— У этого мальчонки золотая голова, — говорил дед всем, кто слушал. Антонио Шестипалый не раз ошибался. А может, ему в голову не приходило, что внук залетит так высоко, он-то судил о его возможностях, ограничивая их естественными пределами, предначертанными тому, кто начинает подпаском и, быть может, в конце концов дослужится до старшего пастуха, если ему в жизни повезет. Он мерил собственной меркой, ибо сам не пошел дальше старшего табунщика.
Опасения возникли у его матери, когда она, к тому времени уже вдова, увидела, как отчаянно рвется он наверх; а ведь ей льстило, что он достиг такого положения. Но Зе Мигел никогда не слушал предостережений — он считал, что предостережения годятся только для тех, кто боится щедрых даров судьбы.
Мать растревожилась, когда увидела, как высоко занесла сына его жестокая энергия и на какой тонкой проволоке он балансирует. В решительные моменты он действовал так, что можно было восхищаться, но становилось страшно, хотя он пускал в ход и лисьи повадки, когда это было ему на руку. То он был спесив, как король в день подношения даров, то ныл, как профессиональный нищий; его изощренное воображение всегда — и мгновенно — подсказывало ему театральные эффекты. Он стал мастером по части хитростей в игре, которую вел, чтобы претворить в жизнь свои честолюбивые помыслы.
Но лишь очень немногие — кроме матери, помнившей, как она носила его во чреве, — видели, что под ногами у него тонкая проволока, одновременно и скользкая, и провисшая, и равновесие он сохраняет, раздавая взятки, так что в любой миг может сорваться. В безоглядности самолюбования он ни от чего не испытывал головокружения. Двигался все время вперед, не зная страха. Не зная страха — под самый купол, и ему показалось, что он сумел дотянуться до кольца — добиться привилегированного положения. И вот там-то у него снова вылетел винтик.
Враг жил в нем самом. Он никогда не мог одолеть его — может, потому, что никогда его не боялся.
Но теперь он чувствует, что враг душит его. Обвился вокруг его шеи огненной змеей — это и есть настоящая огненная змея, — сжимает медленно, миллиметр за миллиметром, в обдуманном неспешном наслаждении. Смертоносном и неспешном.
Вокруг него стеною стоят бандиты, его слово — но никто не слышит его голоса. И он чувствует себя оплеванным при мысли, что не сумел обзавестись ни единым другом там, под самым куполом, где привилегии. Он прошел до конца весь крестный путь унижений, а в награду получил лишь соболезнования по поводу зря потраченного времени. Все ошиблись. Он сам не знал, какой скользкой и провисшей была проволока, по которой он двигался вверх.
Голова закружилась у него слишком рано, а он не заметил. Эта болезнь поселилась у него в крови с того дня, как он увидел Руя Диого Релваса на вороном коне и возмечтал сравняться с помещиком, чтобы не снимать перед ним шапки, не в пример остальным членам своей семьи.
Теперь он сознает, что соблазны оказались предательскими. Только отказывается признать справедливым обвинение в том, что потратил на женщин больше, чем следовало. Нет, никогда я не тратил денег зря, разве что на этих бандитов прожорливых, совал им в пасть все самое лучшее. Но на женщин — нет… Много лет прошло. Он утратил представление о времени, и ему даже не хочется разобраться, что же сделал он с отпущенным ему временем.
Растратил впустую. О да, растранжирил время, как человек, который может не считаться с ним и расходует вслепую, чтобы быстрее пришел конец. Но женщины ничего ему не должны. Он смакует это соображение, толчет его в ступке воспоминаний, переворачивает так и эдак и приходит к выводу, что только от женщин была ему польза всю жизнь. За исключением матери.
В то далекое утро, помню все, как сейчас, он сидел за столом, голова его мальчишечья склонилась на клеенку, покрывавшую столешницу, клеенка в клеточку — белую и зеленую, а может, синюю, неважно, какого цвета.
Холодно.
Холод не такой, как сейчас, сейчас холод, от которого нет спасения. Холод конца. А для него самое худшее (сейчас или позже, в сумерки, как он рассчитал), самое худшее и самое ужасное — осознать, что его собственный конец никак не подействует на мир, который его окружает и в котором его отсутствие даже не почувствуется. Клоп раздавлен, но мир идет своим путем. А каким?! Об этом Зе Мигел не думает. Это вещи слишком сложные или лишенные смысла, ему не до них. Хватит с него других забот, его собственных, навевающих холод, от которого нет спасения, навевающих холод конца на конечные часы его жизни.
В то утро рассвет пришел словно босиком. Шагов его не было слышно. Сейчас гул прошлого звучит в ушах у него отчетливее, чем гул настоящего. Вот сейчас, в этот именно момент, Зе Мигел уже во власти будущего — ущербного, без отголосков. Осознай он это, он пришел бы в отчаяние. Он всегда стремился быть на виду; а его история — то, чем был он прежде, и перестал быть, и никогда не будет, — не найдет отзвука даже и на самых чутких струнах окружающей его жизни.
Рассвет бредет неслышно — босиком.
Он идет со стороны Лезирии, еще на ощупь, сам не зная ни звуков, ни красок, которые принесет с собою. Мачты баркасов и рыбацких шхун, черная полоса насыпи на том берегу, белые дома в игре светотени, отодвигающей их вглубь или выдвигающей вперед, сами люди, занятые беседой, или спящие, или просто призадумавшиеся, — все и вся только смутные тени, застывшие в ожидании чего-то неопределенного и очень конкретного, и оно никак не появится, а может, оно ускользает между пальцев у реальности, потому что реальность нездорова.
Слышны голоса. Слышен голос утренней звезды, к которому примешивается голос старого надоеды, возможно пьяного, — не голос, а хрип; вот и со мной что-то похожее: пишу историю Зе Мигела, а заодно подсовываю и свою собственную, и грустную, и несколько эйфоричную, но в ней мало интересного даже для меня самого, а тем более для других, тех, что засели за этот роман и ищут в нем пищу для ума или развлечение, и им дела нет до этой боли, возникшей в самой глубине моего существа и захватившей меня целиком, лишившей способности видеть; и рассвет тоже лишен способности видеть, он еле жив и так юн, он полон желаний и неосторожен, сейчас он наклонился над столом, покрытым клетчатой клеенкой — все равно, какого цвета, — на которую Зе Мигел опустил голову, явно усталую.
Из таверны доносится голос старика, он, видимо, расположился у самой стойки.
От вина он впадает в упрямство; остальные хохочут, когда он жестикулирует, грозя кому-то, кого не видно, но чье присутствие ощутимее, чем присутствие самого старика. Он выплевывает слова вместе с брызгами слюны, цедит их сквозь угол рта, снова повторяет и жует, словно хочет превратить в кашицу. Иногда сплевывает. Наверное, от горечи этих слов, которые зло бросает кому-то в обвинение.
Зе Мигел устроился за столиком, стоящим на улице, под деревом, ветви которого колеблются, когда задувает северо-восточный ветерок. Сейчас слышится только легкий шелест.
Утро приходит холодное, но спокойное. Спокойнее, чем паренек, прикорнувший в ожидании старшего табунщика Кустодио, который запаздывает. У ног паренька котомка, он ждет, ждет, всегда ненавидел ожидание, уже отошли два парома, в сознании Зе Мигела сны путаются с явью: он почти ничего не соображает от желания спать и от путаницы снов. Ему кажется, что он перерос ту жизнь, на которую его обрекли. Дед умер, друзей нет, дома все ненавистно, брат — чужой человек. Матери всегда был больше по душе брат, Мигел Зе, а не он, Зе Мигел. Кажется, и имена-то она дала им в шутку, чтобы их путали. Но он сделает все, чтобы быть не таким, как брат.
(Еще два-три месяца назад ему это удавалось. Его называли Мигел Богач, а брата — Мигел Бедняк. Зато теперь он богаче меня, жизнь — штука пестрая, черт побери! Кто бы мог подумать, какие повороты готовит мне судьба в этом мире?! В то утро… Но стоит ли говорить об этом?!)
Не переставая ворчать, старик побрел из таверны под градом хохота и насмешек и рухнул наземь, словно ослепленный светом зари.
Может, от вина он пьян меньше, чем кажется. Его измаяла горечь воспоминаний и нечто другое, потому что он замечает паренька и просит, чтобы тот помог ему подняться.
Ему достаточно опереться на руку малого, чтобы рывком встать на ноги и оглядеться вокруг. Улыбнулся чему-то своему, потом лицо стало грустным, но он снова растянул губы в вымученной улыбке.
Приглядывается к пареньку, садится за его стол. Вдруг оказывается, что голос у старика внятный, хоть и низкий, хрипловатый.
— Куда собрался? — спрашивает он, словно подбрасывая слова в воздух.
— На ту сторону. Я табунщик у Камоласа.
— Табунщик?… В твои-то годы — и уже табунщик?!
Зе Мигел колеблется, злится, кривит лицо недовольно, презрительно пожимает плечами. Пришлепнув к нижней губе полоску папиросной бумаги для самокрутки, вынимает кисет, высыпает на ладонь щепотку табаку, нарочно слегка ее просыпав, и завертывает самокрутку. Старик кряхтит.
— Такой, каким вы меня видите, табунщик я, так-то вот. В десять лет нанялся к Пруденсио, есть у нас такой землевладелец. Я не безглазым на свет родился. И учитель у меня был хороший: Антонио Шестипалый, мой дед, слыхали про такого?
Ответ старика кажется ему до горечи оскорбительным. Нет, никогда не слыхал он такого имени; и, поскольку лишь после затянувшейся паузы старик добавляет, что сам он нездешний, Зе Мигел набычился, повернувшись к старику спиной в знак презрения.
Но пьянчужка, одурелый, в рубахе, выбившейся из брюк, пытается продолжать разговор, тянет резину, хоть собеседник и не отвечает; морщится всем своим иссохшим лицом, потирает дряблую кожу щек и подбородка кончиками пальцев, словно заводя себя этими движениями, чтобы почесать язык с тем, кто подвернется. Вот хоть с этим парнишкой, ишь, чванится тем, что он уже табунщик; а можно и с ласковым рассветным лучом, а можно и с холодом, щиплющим ему ноги, уставшие от блужданий по одиноким дорогам жизни.
Кряхтит и философствует. Зе Мигел и ухом не ведет. Гром его разрази, старика! Он ему вина не ставил, за стол к себе не приглашал, пускай тот слушает, у кого терпения хватит. Старик не отстает, теребит рубашку Зе Мигела.
— Жизнь — она как икринка… Как икринка рыбки-бешенки. Что ни шарик — либо дрянцо, либо одна иллюзия. Иллюзия — красивое слово, я слышал его от одного доктора, убили его, подстрелили у самой двери дома. Иллюзия — это то, что мы видим, а на самом деле этого нет. Понятно тебе?! Взять хоть меня: мечтаю жить в богатстве и довольстве, а самому негде приткнуться и спотыкаюсь на каждом шагу. Вот и пью, чтобы дурнем себя не считать. А много ли мне надо, чтобы охмелеть! Капля винца на кончике пальца, со слезинку величиной, — вот мне и выпивка на несколько часов. Больше или меньше — это все иллюзии; больше выпивки или меньше, больше чего-то еще или меньше… Дошло?!
Зе Мигел как воды в рот набрал. Думает о Кустодио, старшем табунщике, о кобылах из своего табуна, а больше всего о серой кобылке по кличке Красотка — как звонко она цокает копытами на бегу, а когда стоит неподвижно, хороша как картинка. Может, и ее назвать иллюзией, так, что ли, старикан?!
Но Зе Мигел ни о чем не спрашивает, хотя ему надо бы скоротать время. Многим хочется, чтобы время проходило быстрее, быстрее, а в один прекрасный день они открывают, что время, флегматичный любезник, пожрало их, ибо это неравный поединок: с одной стороны — каждый из нас со своим неминуемым концом, с другой — бесконечность мира, а мы питаем иллюзию, что повелеваем временем, может потому, что заводим часы и решаем, отстают они или спешат.
Парнишка насвистывает с отсутствующим видом.
Старику это не нравится, он злится: заводит разговор о женщинах и злится; переходит на хозяев, кроет их: шайка мерзавцев, все они одинаковы! И орет во все горло, подыскивая хлесткие слова безжалостно и озлобленно. Затем поднимается рывком, хочет показать кукиш и валится ошалело в болото воспоминаний. «Валится» — неточно сказано: ложится на землю и пускается в философию.
Из-за противоположного угла набережной с гвалтом, воинственно заглушающим тихий голосок зари, внезапно появляется несколько неясных фигур.
VII
Зе Мигел поднимает голову и смотрит на неясную фигуру официанта, застывшего, словно в экстазе, в глубине бара под красным порнографическим светом прожектора. Он машет ему рукой, кричит: эй ты, не слышишь, что ли? — и делает вид, что не замечает девчонки, которую взял с собой в это путешествие.
Он остановил выбор на ней из-за ревности, которая мучит его при мысли, что Зулмира останется в живых. Это тревожное чувство овладело им три дня назад, когда он шатался один по этим местам и видел в машинах других девушек, которым мужчины платят иллюзиями.
Или ему показалось…
Да, скажем, ему показалось, что он видел ее с парнями ее возраста: какой-то тип, дон Неизвестно Кто, подцепил ее в субботу вечером на несколько часов, заполненных джазом и виски; приятель, приятельница, вот и компания; неизвестно, к чему это приведет, с чего начнется, чем кончится, может, стриптизом, если найдется комната с двусмысленным светом, как в некоторых фильмах, или если одной из девиц захочется выставить себя напоказ: жизнь быстротечна, все мы темним и даже зовем мечтою то, что дается взамен бесплатной проституции, когда на несколько часов обо всем забывают, улыбаются, и пьют, и говорят о Пикассо или о Бюффе [71], напуская на себя умный вид — все мы ребята что надо! — и спорят для виду о Зорбе [72], и говорят о своих упованиях, ставя под сомнение Зорбу-прогрессиста или придираясь к Зорбе-реакционеру, стороннику неокапитализма. Зе Мигел ничего во всем этом не смыслит, никогда не смыслил, терпеть не может, когда темнят, это не для него, он стар — по крайней мере по сравнению с девчонкой, сидящей рядом с ним; он не может себе представить, чтобы она, похрюкивая, отпускала любовь в рассрочку; нет, он не из передовых людей — даже в субботу, в-субботу-накануне-главного-розыгрыша-в-лотерее, если мне повезет, заполучу две тысячи конто; в воскресенье можно поехать в машине на пляж, а морская вода все смывает, даже если хлебнуть ее; я зла не таю, честное слово, говорит он официанту, который наконец подошел торжественной поступью — так выступает король в день коронации, — блистательный и смирившийся при мысли о чаевых.
Девчонка не понимает и улыбается. Официант вынимает из ящика улыбку номер два и нацепляет себе на физиономию, закрепив четырьмя кнопками с зелеными головками — говорят, зеленый цвет символизирует надежду; расшаркивается, внутренне отключился; теперь не обращаются к посетителю «ваше превосходительство», это обращение больше не в моде, достаточно, чтобы хватило умения понять посетителя, кто он, чем занимается. Этот в первый раз здесь, между ним и девчонкой больше двадцати пяти лет разницы, и зря он просматривает счет, это так мелочно — просматривать счет, даже если официанту вручается последний пятисотенный за этот месяц.
Зе Мигел не замечает всей этой техники умелых улыбок и умелого обслуживания. В шесть лет он усвоил точное выражение, определяющее ситуацию, в которой сейчас находится; но не произносит его, хотя оно слышится в каждом его движении.
«Я сижу в дерьме, понятно?» С улыбкой смотрит на официанта, не дает признанию вырваться даже в намеке и приказывает налить еще порцию в хрустальный стаканчик. Мышцы ног у него болят.
Улыбается в ответ на улыбку официанта и черпает силу в собственном отчаянии:
— Если бы ты соизволил заговорить… если бы все люди вроде тебя стали говорить, хорошенькая вышла бы история. Сущее наказание божье! Слава богу, что у меня нет дочки, а то досталась бы этим сволочам, они бы ее оплевали. По крайней мере этого удовольствия я им не доставлю; жалкая месть, но все-таки месть. А эта по годам могла бы мне быть дочкой, но она тоже не попадет к ним в лапы. Был бы жив мой парень, он был бы ей ровесником…
Рассекает полутьму лезвием голоса, надтреснутого от ярости:
— Только это ведь и уносишь с собой из жизни, разве не так?… Более или менее так. В наше время девчонки что хотят, то и делают, полная свобода, переспят с кем угодно за прогулку в автомобиле и за выпивку, сами не знают, что пьют, пьют, что дают, что вы даете, главное, чтобы на бутылке стояло «Vat 69» и чтобы захмелеть быстрее, тогда все кажутся довольными; а потом полная мешанина, все равно, чья рюмка, чья девчонка, одно и то же, разницы никакой, все годится, чтобы утолить жажду… Жажду чего — спрошу я, и тебе нечего ответить.
Зулмира подозревает, что Зе Мигелу кое-что известно; может, ее видели в машине с тем парнем в черной рубашке, смуглым и зеленоглазым, он сын маркиза, что-то в этом роде. Зулмира пытается успокоить Зе Мигела, но ей страшновато.
— Ты знаешь, что может утолить мою жажду?… А твою?! А вот этой?! Эта сама не скажет, но понять ее легко. Женщин и девчонок понять легко, все они — шалые птицы, хотят прикинуться кем-то другим; всем им хотелось бы сниматься в кино.
Чувствует, что разговорился не в меру, и умолкает; закуривает сигарету, выпускает клуб дыма, потом еще один — и подводит черту:
— Но эта, вот эта самая, не попадет к ним в лапы… что там она про себя думает, неважно, случится с ней другое, понятно тебе? Что она сделала, того ей не переделать, что думала, того ей не передумать…
Ему снова вспоминается то утро, пристань, появление ватаги людей, шумно переговаривающихся и хохочущих. Незачем нам высчитывать, сколько прошло лет. Старик растянулся на земле, может, захотел отдохнуть.
И Зе Мигел продолжает:
— Шоферил я когда-то, водил автофургон с рыбой. Хорошее времечко, черт побери, хорошее времечко! Не то что твоя жизнь — переливание из пустого в порожнее. У тебя не жизнь, а переливание из пустого в порожнее, вокруг — типы с деньгами да девки. Я несколько лет прожил в такой сумасшедшей гонке — теперь и сам не понимаю, как жив остался, — на линии Пенише — Сезимбра — Вила-Франка. А теперь я спрошу тебя…
Но не спрашивает, передумал. В нем сломалось что-то, вернее, разбилось вдребезги, как стекло, и настроение у него переменчивое, как флюгер, он сам не знает, чего хочет, что ему нужно, валит все в одну кучу, темнит, вдруг взрывается — вспышка веселья, которую он тут же гасит, сам не соображая, что делает.
Ватага рассаживается вокруг него, перекрикивается. Лежащий на земле старик недоволен:
— Потише вы…
Один из шоферов замечает оборванца, принимается подначивать:
— Эй, ребятки! Старикан снял номер в отеле «Под звездочкой» и не желает, чтоб его беспокоили. Правильно делает. Отель «Под звездочкой» — заведение из дорогих, но зато чистота какая…
— Я и на шелковых простынях спал, — бросает в ответ старик, уже не так досадливо; жмурится, чтобы не видеть встающего из-за реки солнца. — Спал в постели с двумя пуховиками, залягу и сплю себе… Спал только по утрам… — Он коротко хохотнул при этом воспоминании, вспыхнувшем с ослепительной яркостью. — Спал утром, потому как всю ночь трудился. Пожил всласть, но платило тело.
Антонио Испанец, скорее напоминающий тевтона цветом волос, ростом и мощью, поддевает:
— Видать, наш друг был королем.
— А то нет! Мужчина — король там, где распоряжается, он может распоряжаться целой страной, а может сердцем женщины. Я был королем в сердце женщины; хорошо быть королем в сердце чистой, намытой женщины, никогда не работавшей на солнцепеке. А я был.
Водители требуют вина, того, кисленького, винцо что надо, уж это точно, и пьется легко, и действует хорошо, пьешь и не замечаешь. Старика приглашают за один из столиков, все пьют, и Зе Мигел тоже пьет — с котомкой у ног, в ожидании старшего табунщика.
Опорожнив полбутылки, старик расхвастался. Говорит хрипло; иногда свистит заливисто, чтобы подчеркнуть важное место. Запускает в холодное утреннее небо воздушные шары похвальбы, надутые винными парами.
Начинает примерно так:
— Я из Алкошете, имел дело с кораблями и с быками. С кораблями делал что хотел, а с быками — что мог. Одолел несколько сотен быков. Сюда, в Вила-Франка, приезжал на ярмарку, выступал на арене много раз. Сам не помню сколько!.. Двадцать, а то и больше, не помню! Неважно. В те времена конные участники боя были почти все дворяне, я совершал круг почета в обнимку с ними, в зубах — сигара, в ту пору из публики на арену сигары кидали; и все они под конец жизни разъезжают на рысаках либо в автомобилях, а я под конец жизни дрыхну где придется, ем от пуза — так, что пузо с голоду подводит, пью вволю — сколько удастся подзаработать, столько и пропью. Стоило мне ухватить быка за холку, он свой норов бычий терял навсегда; сожму ему шею обеими руками, сдавлю ногами, и он становится послушный, как собака. Ласковей собаки… Я четыре ребра сломал на арене и одну ногу вдобавок, вот эту, эту самую, потому и хромаю.
Сжимает пальцами ляжку левой ноги, улыбается, грустнеет, щурит глаза, пускает слезу — две блескучие капельки, — ерзает, снова улыбается и, наконец, свистит.
— Как-то раз, на Кампо-Пекено [73] было дело, вышел на арену бык: рога загнуты книзу, сам как паровоз, с виду тихоня, копытами взбрыкивает, оградку, что вдоль арены, полизывает, словно удрать хочет; лошади не замечает, разве что на плащ обратит внимание, если у самой морды взмахнуть, и то пробежит немного, а потом остановится и роет землю копытом. А мычал, что твоя корова. Бросится на плащ — и замрет на месте; поглядит на лошадь — дон Жозе Проэнса выступал конным — и как увидит бандерилью, так и окаменеет, хоть ты разорвись! На все ему было плевать! Вся публика свистела. Дошлый бык был, и с норовом, и с опытом, и азбуку знал, и все книжки, по каким доктора-законники учатся, чтобы потом людей в дерьмо сажать. И вдобавок был весь черный, как доктора, что в суде заседают…
Водители слушали, не прерывая старика, хваставшего в свое удовольствие: речь о быках, и ладно.
— И вот говорю я моим ребятам: пойду попрошу разрешения схватиться с быком; этот дядя не уйдет в загон, не послушав, как фадо поется [74]. Если сумею на нем повиснуть, обломаю дружка. Стоят мои ребятки, помалкивают, словно все у них в семье поумирали оттого, что много говорили — горло застудили. Слово мое было для них законом, да вот промеж ног у них кой-чего не хватало. Того и гляди помрут от страха, и было отчего: весил-то бык арроб сорок, а то и побольше, и в бычьих премудростях смыслил больше, чем люди в быках. Бык всему выучится — и быстро, и хорошо.
— Лошадь большему выучится, — говорит Зе Мигел в тишине.
Старик-сказитель мерит табунщика недобрым взглядом и даже не удостаивает ответом. Лишь пожимает плечами, словно говоря: уж если в игре со смертью есть к чему придраться, можно гитару прятать в мешок. И продолжает:
— Бык выучится всему быстрее человека. Владей бык даром речи, он всех бы нас посадил в дерьмо, попали бы мы к нему под власть до конца дней своих. Это я вам говорю. И вот иду я на арену, я самый, тот, кого вы видите в этих отрепьях, подхожу к распорядителю с беретом в руке и прошу разрешения схватиться с быком. Он мне тут — ты что, с ума сходишь, а я ему — нет, сеньор, не схожу и никогда не сходил, но нельзя же потакать такому стервецу, а он головой качает, нет, мол, а я головой киваю, да, мол, он свое, а я свое, и тут дон Жозе Проэнса поворотил коня и выехал с арены, а я прыг на арену, хватаю пригоршню песка, тут весь народ повставал с мест и давай бить в ладоши, так хлопали — казалось, вот-вот все скамьи рухнут. Парень с рожком сыграл сигнал, каким команду вызывают, чтоб быка уволокла; распорядитель стражу зовет и велит им схватить меня; стража хочет выполнить приказ, а бык их ко мне не подпускает, а я растер руки песком и иду один, один-одинешенек, потому как ребят моих стража всех похватала, внутри у меня страх крепчает, но я держусь, держусь, как кораблик, когда ветер крепчает: подбоченился, подпрыгнул посреди арены, потом еще раз, чтобы он разглядел меня как следует, а сам пытаюсь расшевелить его криком: «Бык! Эй, бык! Бык-племенник! Эй, храбрый бык! Красавчик бык! Бык!» Только слова мои, сдается мне, за хвост его тянули, потому как стервец при каждом моем слове пятился назад. На арене слышно было, как муха летит; святые угодники в небесах, если есть такие, и те не могли шелохнуться, все стихло, даже ветер улегся. Если бы тогда мой рост померили, метров десять набралось бы. Бегу я к быку, останавливаюсь, хлопаю в ладоши у него под мордой, обзываю злыднем, даже похлеще обозвал, ах ты, мол, бык — сукин сын! — а он глядит на меня, глядит и ни с места. Стража — гвардейцы республиканские — оцепенели во рву вокруг арены как неживые…
Старик развеселился — то ли от рассказа, то ли от воспоминаний — и разражается хохотом. Но никто ему не вторит: все хотят знать, чем это кончится или что наврет старик, чтобы выпутаться из всей этой брехни.
— Становлюсь я на цыпочки и снова подпрыгиваю, да еще выше, хлопаю в ладоши, отступаю на четыре шага, даю ему преимущество в два шага, и бык… Ох, ребята!
Увлеченный рассказом, старик выскочил на мостовую перед столиками. Он больше не старый, не хромой, утроба не налита вином, душа не изголодалась. Кричит. Подпрыгивает и кричит:
— Бык поднял рога, наставил на меня, словно предупреждает — ну держись! — и как рванется на меня — со скоростью курьерского поезда, а сам величиной с церковь Эстрела, что в Лиссабоне, но морду высоко держит, прямо как ангел, прости меня, господи! Тут я думаю: вот бык, а вот человек. А он-то уже около меня, быстрее, чем я это сказал. Я ноги расставил на свой особый лад, руки растопырил, а он мне головой промеж ног и сунься, бычок-то!.. Ну, бык! Тут ты его и хватай, как король! Еще ни разу в жизни не было у меня такого друга, как он. Я так и уселся у него на холке, он давай мотать башкой, а я руками хватаю его за загривок, он трясет сильней, а я сжимаю крепче, так вокруг всей арены промчались, потом еще круг, весь народ в ладоши молотит, а я. об одном только думаю, неужели так у него на холке и останусь до конца дней, как же слезть мне с быка, когда ноги у меня дрожмя дрожат, то ли от нервов, то ли еще отчего, сущее наказание. Народ мне помог. Народ из этих краев. Поэтому я часто сюда наведываюсь, хотя меня уже не помнят здесь. Все забывается. А хуже всего то, что забывается все хорошее, а все плохое остается в памяти.
Въедливый Антонио Испанец напоминает старику, что бой имел место в Кампо-Пекено.
— В Кампо-Пекено или еще где, а помог мне народ из В ила-Франка… Неважно… Неважно, где было. Когда я сделал круг почета, а быка увели в загон, мне чего только не надавали, все, кроме пинков, но в этом смысле бык тоже показал себя молодцом… Бык — животное умное, и этот злыдень понял, что я совсем одинок. Уж как мне хлопали — я целое состояние в хлопках заработал, да и в деньгах тоже. Еще четыре раза выступал я с этим быком, в афишах оба наши имени значились, имя быка — «Мальчик» его звали — и мое тоже, неважно какое. Теперь я старик, потерял имя. Кому нужно имя человека, если он уже не тот, каким был, не тот, каким прославился?
Голос у него дрожит как от плача. И дрожат пальцы рук, перевернувших вверх дном бутылку. Только глаза не плачут, ибо старик твердит себе, что такие люди, как он, не плачут у всех на виду, тем более что он только что одолел быка весом в сорок арроб.
— Красотка появилась, когда я уходил с арены; и в ту же ночь, в ту же и в следующие я спал на шелковых простынях в постели с двумя пуховиками… Как король. Она вдова была. Вдова одного дворянина, и поэтому я монархист, хотя считаю, что дворяне только на то годятся, чтобы оставлять вдовушек нам в усладу… Хорошо было! Вот была женщина… Старше меня на двадцать лет, когда-то училась в консерватории. Да, вот так — в консерватории, она сама мне сказала как-то ночью, когда играла для меня на рояле. Все она могла сыграть… Все знала…
Поворачивается к Зе Мигелу и заключает:
— Если подцепишь когда-нибудь женщину старше себя, держись за нее. Будешь потом вспоминать ее до конца дней. И когда лишишься всего, как я, вспомнишь про нее и почувствуешь себя богачом. Когда человеку удается подцепить настоящую женщину, он чувствует себя богачом до конца дней своих. Это так же верно, как то, что мы сидим здесь на набережной, что сегодня понедельник, а у меня нет ни постели, ни куска хлеба. Расплачиваюсь своей жизнью за все радости, что мне выпали, но никогда я не был скрягой, а потому считаю, что поступил правильно. Считаю, что жизнь плохо устроена, но мне ее уже не переделать… Не будь я монархистом, стал бы анархистом.
И с этими словами он встает, молча подходит к дереву, садится. Садится и закрывает глаза.
Зе Мигел, Мигел Богач, тоже закрывает глаза, сидя в баре: забывает про официанта, про девчонку, сидящую рядом, вспоминает старика. Никогда не представлял себе его так отчетливо, как сейчас. Может, он придумывает ему лицо, но представляет себе лицо старика скуластым, изрезанным морщинами, их особенно много на лбу, в уголках глаз, на обвислой коже подбородка, сплошные морщины, их рисунок плохо вяжется с линиями лица; глаза большие, горячечные, черные, неизменно беспокойные; орлиный нос над безгубым ртом, искривленным, резко искривленным в улыбке, полной горечи; что-то горькое даже в очертаниях подбородка, выдвинутого вперед и глубоко вдавленного посередине. Щетина белая, решает Зе Мигел, вся белая, незачем уточнять, что были и черные волоски, и рыжие, не так уж много: глаза тоже ведь были не совсем черными, но казались черными, и Зе Мигел придумывает, каким тогда был старик — он никогда раньше не представлял себе его лица; вспоминает самое важное из того, что было сказано на набережной: «Когда человеку удается подцепить настоящую женщину, он чувствует себя богачом до конца дней своих…»
В то утро, едва старик замолк, водители ухватились за тему и повели разговор про Розинду, торговку рыбой, вдову; шестой год ходит в трауре, все тоскует по мужу покойному.
Антонио Испанец говорит:
— Дождется кого-нибудь, кто печаль ее похоронит, почует, как желание кровь ей горячит — оно у нее в глазах написано, читай, кто умеет.
Каталаррана выруливает наперерез:
— Боится, что на денежки ее позарятся, и нет такого мужчины, что сумел бы подобраться к ней, как тут ни старайся… И чем больше стараешься, тем скорее она улизнет. Она как тот бык нашего приятеля короля: никому не даст бандерилью воткнуть.
Зе Ромуалдо возражает:
— Все дело в том, как волна пойдет… Нет такой женщины, чтоб отказалась от плавания, лишь бы шкипер был настойчивый и сама она была бы не прочь. А Розинда только и ждет случая.
Еще кто-то ворчит, что знает ее издавна, работает на нее все эти годы, много видел молодчиков, что к ней пристраивались, но ее не проймешь.
Ромуалдо спрашивает с досадой:
— А зачем она ездит в Лиссабон каждый вторник? Может, повидаться с доном Педро и с Камоэнсом, раз муженек помер?
— Дела у нее.
— Вот именно, дела… Только какие? Об чем и весь разговор: какие такие дела?!
Антонио Испанец говорит — уже раздраженно:
— Ездит в банк, платит по накладным и едет в поезде обратно. Выезжает сразу после завтрака, а к семи уже дома.
— Откуда ты знаешь?
— Вот знаю. Я все про нее знаю. Ну и что?! Знаю — и знаю. Остальным знакомы безумные вспышки гнева, охватывающие их товарища, когда ему перечат, и потому все молчат. Антонио Испанец сидит бледный, ждет, что кто-нибудь полезет в спор.
Антонио Испанец чувствует, что сейчас он в том состоянии, о котором всегда говорит: «Тело у меня просит потасовки». Но поскольку все молчат, сам распутывает клубок:
— Розинда еще богаче, чем Лейтан. У нее куча денег, два дома на нее записаны и три автофургона, вы все их знаете. А капиталец в банке?… Если положить на одну чашу весов ее деньжата, а на другую ее поставить, одетую-обутую, перетянут монеты.
Зе Ромуалдо поддевает:
— Небось уже пристроился к ней, а, Антонио?
— Не твое дело… Я все про нее знаю. Вот знаю, и все тут. И хорошо, что знаю. Но она женщина серьезная.
Проводит рукой по белокурым волосам и умолкает.
Зе Мигел не упускает ни словечка из всего разговора. Когда старший табунщик Кустодио появляется и нужно спешить на паром, парнишка перекидывает котомку за плечо, бегом спускается к причалу и за всю дорогу ни разу не раскрывает рта. Даже не поворачивается в сторону Аландры, хоть обычно с тех мест не сводит глаз, даже не пристраивается возле руля, чтобы поглядеть, как пенится вода, вырываясь из-под рассекающей ее кормы.
Он знает Розинду. Все в городке ее знают. Но только теперь он начинает думать о ней как о женщине.
VIII
Ему не забыть, никогда не забыть той ночи, бессонной от вопросов, которые задавал он себе; та ночь живет в воспоминаниях, согревающих ему кровь, она всегда при нем, словно жизненно важная часть его тела. Всего лишь два месяца назад он попытался пережить ее заново, ту далекую ночь из времен своей ранней юности, когда он захотел выбраться со дна нищеты, на которую его обрекло происхождение.
(Мы уже немало знаем о том, чего домогался он и чего добился. Со временем мы узнаем его еще лучше, хотя нам не удастся проследить пройденный им путь во всех подробностях, так что каждый читатель может по собственному вкусу выбрать самое главное в лабиринте зеркал, где блуждает потерянно наш герой. Зе Мигел нашел выход, свой собственный, единственный, который может, как ему сейчас кажется, дать ответы на все вопросы человека, вылепленного из такой хрупкой глины, как культ силы.)
Всего лишь два месяца назад он пошел на конюшню и улегся в яслях, таких же точно, как те, в которых он размышлял в пору ранней юности: Зе Мигел надеялся, что на этом ложе снова наберется сил, чтобы стряхнуть отчаяние. Он всегда поступал так, когда ему нужно было поразмыслить, словно место само по себе придавало ему мудрости и отваги. Он позабудет ту ночь навсегда, но только позже…
Да, позже, когда его машина станет частью неспокойного тела огненной змеи.
Бестелесная, безгласная, без отзвука и отсвета, эта ночь затеряется в вихре равнодушного времени, принадлежащего другим. Станет ночью небытия. А для него она — все еще — самая важная ночь в его жизни. Это она породила его, ее утроба зачала — не только утроба матери. Эта ночь стала ему истинной матерью — страшная ночь, сотворенная им самим.
С того мгновения, когда его машина вольется в огненную змею и помчится к тому месту, которое он выбрал для себя, не останется никого, кто будет вспоминать ту холодную ночь, уже затерявшуюся среди всего того, что умирает раз и навсегда, умирает так окончательно и бесповоротно, что даже не может превратиться во что-то другое, как превращаются останки животных и людей, сухие листья, сгнившие корни, вырванные из земли, камни, выветрившиеся или распавшиеся в пыль, простые вещи: кажется, они ничего собой не представляют, а все-таки они — какая-то часть единого целого или становятся ближе к единому целому, когда обретают видимость небытия; и они участвуют в бытии, живут, хотя не видят и не чувствуют.
Только та ночь, решающая ночь его жизни, исчезнет из мира внезапно и навсегда. Раньше, чем он сам. Грустно все это, черт побери! Почему что-то говорит мне обо всем этом, хотя я уже почти ничего не помню?… Выпил полбутылки виски, и все отдаляется от меня, отдаляется и причиняет боль. Может, потому, что гангрена причиняет боль, воспоминание о той ночи отдаляется, остается лишь самое главное.
Ему восемнадцать лет, в нем таится сила, о которой он сам еще не ведает. Таится в ожидании, пока он пустит ее в ход, чтобы добиться чего-то своего, что принадлежало бы только ему, — сила скрытая, неведомая. Он плывет на пароме, он рассеян, мысли его далеко от табуна кобылиц, к которым он приставлен; даже Красотка, серая кобылка, которая так звонко цокает копытами на бегу, не занимает его мыслей в этот день.
День весь пронизан туманом, враждебным Зе Мигелу, надоевшим ему. Зе Мигелу нужна ночь, скорее бы ночь, солнце все никак не закатится, время ужина все никак не наступит, пора уж, черт побери! — пора уж человеку подумать о своем, о самом важном, пусть скорей затворятся ворота дня, на что он, этот день, такой длинный и так похожий на все остальные? Незачем тратить время подобным образом, оно еще может понадобиться в будущем, когда захочется удлинить какие-то дни либо ночи.
Зе Мигел ждет ночи.
Садится под гофрированным навесом у входа в маточную [75] и ждет. Ему не нужно ужина, он хочет остаться один, чтобы обдумать все, что услышал нынче утром от шоферов и от старика пегадора [76].
Он как во хмелю; сон тонкой нитью проскользнул в него, крутится внутри, дурманит его и баюкает, уводит далеко за пределы этого часа, а потом Зе Мигел весь сжимается — как раз в тот миг, когда нить сна опутывает его и, как на качелях, перекидывает в завтрашний день.
По топкому берегу волочится уже сходящий на нет отблеск заката. Растрепанные лоскуты света смягчают даль и очертания двух бараков, где живут батраки, отбрасывая на всё живые блики, постепенно вплетающиеся в пепельную ткань сумерек. Но перед этим на землю падает, обжигая ее, последняя судорожная вспышка цвета крови. Кажется, земля вздрогнула от ее горячечного прикосновения.
Зе Мигел никогда раньше не замечал этой минуты соития света и тьмы, возвещающей о пришествии ночи. И никогда еще ему не хотелось остаться одному в этот час.
Внезапно он ощущает потребность услышать свой голос и кричит в тишине, окликая кобыл, словно хочет напомнить миру о том, что ему придется считаться с ним, с Зе Мигелом. Ему нравится слушать свой голос, он кричит еще громче, и у него остается ощущение, что он видит, как крик его перелетает с кровли на кровлю, с овина на овин, покуда не вспыхивает в последний раз на стволах эвкалиптов Саморской рощи и не раскалывается на мельчайшие отзвуки, которые подхватывают сумерки.
В этот час батрацкая братия устраивается в бараках на покой после работы. Женщины, нанявшиеся на уборку риса, ушли почти месяц назад; с ними отбыла и Роза, Зе Мигелу ее не хватает, хотя, по его мнению, она была дурнушка, и потому он не любит, когда другие парни напоминают ему об этой победе. Но теперь, когда ее здесь нет, она представляется ему не такой тощей и развинченной, он вспоминает, какая тихая была она после всего, когда они встретились за тем полем сахарного тростника, где проходит главный оросительный канал, и как она держала его за руку и просила побыть с ней еще капелюшечку; никто не заметил, что мы ушли, шепчет девчонка. Зе Мигел высвобождал руку резко и грубовато и уходил по Камаранской тропке, чтобы люди думали, что он возвращается из таверны «Взбеленившаяся ослица».
Сейчас воспоминание о Розе Вагос с ее пресной любовью горячит ему кровь. Он вспоминает ночь их первой встречи на том поле, слова не понадобились: оба знали, чего им хочется; она только сняла черный поясок, вся дрожала, а после всего спросила робко, увидятся ли они еще, ей бы хотелось, если он не против. Зе Мигел не ответил — он в это время думал о жене старшего волопаса, о Марии Аугусте, воображал, что он с нею, и голос сборщицы риса вернул его к действительности. Но тем не менее он еще много раз ходил с нею за то поле.
Он бы и сейчас был не прочь проделать тот путь, потому что расстояние и отсутствие придают некрасивому лицу девушки что-то незнакомое и милое.
Ему восемнадцать лет, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! — жизнь еще не приобрела того привкуса, который станет привычным начиная с тридцати лет и изменится только за последние полгода — ему все время было тридцать лет, пока он карабкался вверх по проволоке; а теперь он свалился, и никто не протянул ему руки.
Все прошлое предстает перед ним — в горьком настоящем без будущего. Странное будущее, менее неведомое, чем какие-то куски прошлого, которые еще будоражат его, сохранили девственную нетронутость, словно он еще не ведает об их существовании. Он еще только-только притрагивается к ним и чувствует, что они трепещут от той безоглядной силы, которая заставит его раз и навсегда отказаться от места табунщика.
Вот уже и ночь навалилась сгустком тьмы ему на плечи, а Зе Мигел все ждет. Из сараев, куда загнали скот, слышатся голоса пастухов и жалобный перезвон колокольчиков, вызывающий у него в памяти знакомые до мелочей картины: тягловые волы, черные и послушные, уже улеглись в стойлах, кроме Стрижа, все еще не оправившегося после оскопления, все еще беспокойного, ему никак не найти места для своей мощной, огромной туши (трясет рогами непрерывно, подсовывает голову под брюхо Оливки, который уже позабыл о том времени, когда был свободным и неукрощенным быком, и все бренчит колокольчиком, унылый и униженный людьми); из маточной, где ночуют ожеребившиеся кобылы, до него доносится звон бубенца Красотки, она с каждым днем все ненасытнее в своей любви к сосунку, жеребенку в белых чулочках на передних ногах, — он носится как угорелый, когда его выпускают попастись на сжатое рисовое поле, чувствуется норовистая кровь чистопородного коня.
Зе Мигел тянет время, чтобы пробраться в маточную и лечь спать в ясли: он любит там понежиться. А сейчас мне надо выждать два часа, чтобы выбраться туда, где вьется огненная змея… Невезенье залезло мне в шкуру, с ним уже не сладить. На сей раз оно меня одолеет… Но я не позволю, чтобы всякая сволочь меня топтала, только не это, черт побери! Уж лучше ослепнуть… уж лучше околеть.
Когда в бараках для батраков становится тихо, на небо уже взошла луна.
Парнишка заходит в маточную, где ночуют ожеребившиеся кобылы, и пробирается в свой угол, но прежде подбрасывает еще соломы Красотке. Гладит ей морду и круп, похлопывает ладонью по бабкам и заду и что-то шепчет ласково, успокаивая жеребенка, уже наставившего тревожно ушки.
Здесь пахнет соломенными подстилками, на которых спит скот, и навозом, и ему нравился этот острый теплый дух. Животные, уже разлегшиеся на соломе или все еще жующие, шевелятся, чтобы поглядеть на него. Они знают его низкорослую широкоплечую фигуру, певучий голос и тяжеловесный звук шагов вразвалку. Зе Мигел заметил, что кобылы-матки любят, когда он около них, это составляет один из предметов его гордости, тем более что хозяин уже хвалил его в присутствии старшего пастуха Кустодио и Марии Аугусты, с мыслями о которой Зе Мигел засыпает каждую ночь, прости господи! (Со старшим волопасом шутки плохи, он заставил бы Зе Мигела сплясать фанданго под острием ножа, если бы заметил, что тот заглядывается на его жену.)
Ухватившись руками за бортик яслей, Зе Мигел перебрасывает тело внутрь, подгребает солому под голову, снимает зеленый берет и кладет себе на грудь; ему приятно, когда ничто не приминает его жесткие курчавые волосы, скорее закрыть глаза и пережить снова все, что было нынче утром на набережной, — все, что увидел, все, что услышал. Он предчувствует, что в жизни его, однообразной и непритязательной, будет резкая перемена; предугадывает ее, ибо ощущает в себе затаившуюся в ожидании неистовую силу.
Уверен, что так и будет.
Он еще не знает, как вырвется отсюда. Но знает, что вырвется. Как бы ни складывалась жизнь, что бы ни пришлось сделать, пусть худшее, пусть против желания, пусть наперекор самому себе, пусть наперекор тем, кто будет против него, честным трудом или иным способом, но он добьется своего, потому что еще мальчишкой решил: у него будет собственная лошадь, купленная на его деньги, взнузданная его руками, его собственная, и только его, приобретенная у Релваса, если удастся, так как, сколько бы он ни прожил, до конца дней своих не забудет того, что сказал ему его дед Антонио Шестипалый, когда они ехали в голубом фургоне, свежевыкрашенном, на обоих боках кузова — желтая кайма вкруговую и на обоих — по букету цветов в середине.
— Послушай, Зе!.. Как только сможешь, отделайся от этих стервецов, чтоб не разъезжали на тебе верхом… Все они стервецы! Пока есть им от человека прок, они с ним нянчатся, а как только надобность пройдет, выставят за ворота и меньше о нем пожалеют, чем об окурке. Не позволяй, чтоб они тебя целиком потребили, словно сигару. О себе думай!.. Как только сможешь, подавайся отсюда, найди себе занятие, чтоб от них не зависеть, и вложи в него всю свою силу. У тебя и сила есть, и мужество, пускай пойдут на пользу тебе самому. На хозяев работай как можно меньше, а захочешь — пошли их подальше, человек твоего закала с голоду не помрет. А начнут тебе разводить насчет чести, ты им кукиш покажи в кармане…
Зе Мигел забыл самое главное из того, что сказал ему Антонио Шестипалый, его дед, который вернулся в Алдебаран лишь тогда, когда Диого Релвас навсегда закрыл глаза. Зе Мигел забыл некоторые слова — может, потому, что они показались ему ненужными в ту пору, когда он вступил в круг хозяев жизни.
Сразу после того разговора смерть во второй раз вышла ему навстречу. Вот почему ему снится, что на поединок с ним она прибудет на колесах и случится это в полночь в пустынном месте, окруженном стройными тополями.
Он сидит на козлах рядом с дедом, и они по-дружески беседуют. Старик только что произнес те самые слова, которые Зе Мигел вспомнит потом, лежа в яслях. Разговор раззадорил Антонио Шестипалого, он хватает хлыст и хлещет норовистую лошаденку, которую выдали ему вместе с голубым фургоном. Хлещет лошаденку и вопит, выпучив воспаленные глаза; старик, похоже, спятил.
Лошаденка, ошалев от боли, разозлилась и понесла — скачет галопом в неистовстве, скачет, задрав голову, оскалившись, распустив по ветру гриву, рассекая грудью воздух, выбрасывая, словно в полете, передние копыта над дорогой, извивающейся между рвами и оросительными каналами, казалось, она огонь из ноздрей изрыгала в этой сумасшедшей скачке, а я глядел на деда, и мне хотелось заорать и заплакать, а дед вскочил, правит стоя, держит поводья в обеих руках, руки у него старые и иссохшие, словно корни, точно такие же, как у этого, который рассказывает сейчас историю моей жизни, исхудалые и старые, и дед натягивает поводья и погоняет лошадь, свистит, кричит, дергает за узду, бьет хлыстом, еще раз, голубой фургон кренится на повороте, и я выскакиваю на обочину, то ли сам выскочил, то ли фургон меня выплюнул, и тут же, прежде чем я успел хоть что-то сделать, хотя — что? — прежде, чем успел позвать на помощь, лошадь смерти налетает на стену вместе с моим дедом, я слышу ее ржанье, никогда больше такого не слышал, и тут ей пришел конец, им обоим пришел конец. Я не стал смотреть, не захотел, побежал, сам не зная куда, больше суток прятался в сторожке около водонапорной колонки, а домой вернулся, только когда услышал колокольный звон и сообразил, в чем дело, и пришел, чтобы проводить деда моего Антонио Шестипалого на кладбище. Слезинки не проронил, хотя весь налит был слезами, и по дороге услышал, что на той лошади было тавро Диого Релваса, которому дед мой поддал в ту веселую ночку в усадьбе у них, у стервецов… Лошадь везла фургон смерти, сколько лет потом снился мне этот фургон. Можно подумать, животина поняла, что говорил тогда дед, и поквиталась с ним, разделалась, как с каким-нибудь слабачком, а ведь мой дед Антонио Шестипалый был человек храбрый, черт побери!
И когда я лежал в маточной среди кобыл с жеребятами, я думал и о словах деда, и о том, что видел и слышал на пристани Вила-Франка; и я сказал себе, что буду шофером, по крайней мере шофером; в ту же ночь взял котомку и, не попросив расчета у Камолоса, хотя у него были мои деньги, ушел в город; знал, что домой мне нет дороги из-за матери. Она, по-моему, так меня и не простила. И я так ее и не простил. Пока она была жива, я посылал ей каждый месяц деньги, с того самого времени уже мог; я с ней неласков был, но она со мной не лучше, а когда она умерла, я купил ей свинцовый гроб из самых дорогих, а на могиле велел установить плиту белого камня, плита первый сорт, кучу денег отвалил, но люди знают — тут лежит мать Мигела Богача. Да, я покуда еще Мигел Богач…
IX
Сунул руку в карман. Слегка раздвигает пальцы и нащупывает пачку денег; сжимает пачку со злостью — знает: деньги эти принадлежат другим. Какой от них толк, если их не хватает на то, что нужно ему?…
Может, еще стоило бы сделать последнюю попытку, если бы сын был жив. Но сын не должен был жить после того, что узнал о нем Зе Мигел. «Позорил мое имя», — думает он, глядя на девчонку; и тут ему становится ясно, что имя свое он сам дал погубить или погубил, можно и так сказать, нет, так нельзя сказать, они должны были терпеть меня таким, каков я есть, я же столько для них сделал, а они выставили меня за дверь; Рибейро пригрозил мне, когда я сказал, что расскажу обо всем, что было; он сам дал погубить свое имя. И денег, которые у него с собой, последних его денег, не хватит на то, чтобы разнести весь бар, как он только что хвалился.
Эти банкноты не принадлежат ему. Он украл их у других, так считают все; нынче утром это бросил ему в лицо владелец одного гаража, который отпускал ему в кредит на десятки конто и бензин, и покрышки для колонны его обреченных на бездействие грузовиков. Теперь он всем должен, и ладно. Жалко только, что не нагрел их еще основательнее, не утащил их вместе с собой в омут банкротства.
Ласково смотрит на девчонку, ему хочется целовать ее, как никогда еще не целовал, покрыть медленными спокойными поцелуями все ее лицо — может, в поисках предлога, чтобы выдумать надежду, за которую стоило бы ухватиться. Проводит рукой по ее длинным распущенным волосам, закрывает налитые кровью глаза, бросает:
— Женщины мне ничего не должны… Даже ты ничего не должна, ты же не могла дать мне больше того, что дала…
— Не понимаю, дорогой.
— Ты и не можешь понять, да и я не скажу тебе сейчас ничего, что изменило бы то, что должно произойти. Ты меня не понимала. Да и сам я понял себя только сейчас. Но поздно. Очень поздно.
Он длит паузу, рассеянно ждет, потом продолжает:
— Ты знаешь что-нибудь о том, что с тобой будет?
Она изо всех сил отрицательно трясет головой, роняет испуганное «нет» и смотрит на него вопросительно. Официант подходит поближе в надежде расслышать что-нибудь: эта пара заинтриговала его. Он догадывается, что у этих двоих история не такая пошлая, как кажется.
Зе Мигел подхватывает нить, продолжая разговор:
— Вот и видно, что не знаешь. А я знаю, черт побери! Я о будущем знаю больше, чем о прошлом; вижу будущее яснее, чем то, что у меня перед глазами. Из того, что у меня перед глазами, я не все замечаю. Прошлое я уже подзабыл. А то, что произойдет через некоторое время, произойдет обязательно.
— Почему?
— Потому что я все решил. Когда я говорю «все» — это значит все.
Колеблется, не зная, продолжать или нет, возвращается к той же навязчивой мысли:
— Женщины мне ничего не должны. Ничего… Будь у меня время на воспоминания, я мог бы пересказать всю свою жизнь по жизни каждой из женщин, что у меня были. Если ты спросишь, много ли их было, отвечу — много. А может, и меньше, чем мне надо было. Как говорится, сколько надо мужчине женщин — семь с половинкой; так вот, у меня было больше. Но сколько бы их ни было, ты и есть та самая половинка из присказки. Ты слишком молоденькая для меня. Сейчас я все вижу ясно и понимаю — ты слишком молоденькая для меня. Но мне тяжело думать о некоторых вещах; поэтому-то я и взял тебя с собой в это путешествие.
— Я не в путешествие поехала, я поехала только на прогулку, дорогой.
— Это одно и то же. Путешествие и есть прогулка… У меня назначена встреча на семь вечера, хочу взять тебя с собой.
Смотрит на часы, улыбается.
— В нашем распоряжении час сорок пять минут. В нашем распоряжении уйма времени.
— Время быстро проходит.
— Для того, кто не знает, быстро.
— Не знает чего?!
— Того…
— Чего «того», дорогой?
— Что произойдет. Не бойся, все просто.
— Не понимаю, дорогой.
— Поймешь потом. Ровно в семь я заплачу за машину; так ч условился и от слова не отступлю. Затем переведу машину на твое имя…
— Почему?!
— Я никогда не дарил тебе ничего заметного, а ты заслуживаешь, чтобы эти стервецы тебя не трогали. По крайней мере я этого не хочу. Подумал и решил, что не хочу.
Зулмира ослеплена — ну и мысль пришла ему в голову, потрясающе! Но ее пугает тон, которым он говорит обо всем этом. Поэтому она не улыбается.
— Женщины мне ничего не должны… Ничего! Ничегошеньки!
Твердит свое, а сам думает о Розинде, о вдове. Да, той самой торговке рыбой. Той, о которой говорил Антонио Испанец в то утро, на пристани, когда он слушал старого пегадора и пришли водители рыбных автофургонов. В тот раз казалось, что еще стоит ночь, но вскоре взошло солнце; а теперь ночь была все ближе и ближе: для него теперь все время стояла сплошная ночь — так было последние две недели, а сегодня — в семь, чуть раньше, чуть позже, стоит ли обращать внимание на такие мелочи, — он отправится в главное свое путешествие.
И он говорит девчонке:
— Прогулка может оказаться путешествием. Что знаешь ты об этом?! Если бы я вдруг спятил и бежал с тобой куда-нибудь, прогулка обернулась бы путешествием. Покуда у меня еще есть власть над тобой… И другого мужчины в твоей жизни не будет, понимаешь? Я последний; хорошо быть последним в женской жизни. Когда не можешь быть первым…
— Ты был первым, дорогой.
— У тебя — да. Первым и последним. А что было в промежутке, не знаю.
Она смотрит на него удивленно, вопрошающе. Зе Мигел продолжает:
— Да, я хочу сказать, что ничего не знаю о том, что ты делала, когда меня с тобою не было. Свободного времени у тебя хватало; иной раз я звонил, и твоя мать говорила, что ты только что вышла с подругой. Знаю, что это значит: у меня тоже были приятельницы, которые приходили с подругами, и начиналось веселье, не разберешь, кто с кем и какая чья.
Он обхватывает лицо Зулмиры подрагивающими пальцами и заставляет ее смотреть прямо в глаза ему, словно может заглянуть в самую глубину ее воспоминаний; затем произносит медленно, слог за слогом:
— Сколько раз ты ходила развлекаться без меня?! Да, сколько раз ты выходила из дому после полуночи, когда я уже не мог позвонить, и веселилась напропалую вместе с другими девчонками твоего возраста?!
— Я не позволю…
— У нас час истины, понятно тебе?
— Но папа с мамой не отпустили бы меня, даже если бы я захотела, дорогой.
Зе Мигел раздражается.
— Твои папа с мамой, так и не удалось отучить мне их от этих дерьмовых замашек, твои мама с папой получали от меня каждый месяц по две тысячные бумажки. По одной за каждую, понятно тебе, что я хочу сказать?!
— Нет!
Она повторяет «нет» несколько раз, глаза у нее наливаются слезами, губы дрожат, ей хочется бежать отсюда, но она не может сдвинуться с места — ее не пускают и его руки, и боязнь сделать неверный шаг.
_ Твой отец, папаша Палметас, знал обо всем… По конто за каждую, понятно тебе? Конто за твою мать и конто за тебя. Яснее не скажешь. Мать твоя — роскошная женщина. Вы, нынешние, помешались на худобе, похожи на прутики.
Он проводит рукой по ее голове, долго ласкает ее, словно хочет выучить наизусть какую-то подробность, которая позже может ему пригодиться.
— Но теперь мне больше нравишься ты. Я еще не старый и никогда не состарюсь, теперь уже — никогда. Я знал одну женщину, ей было сорок пять лет, а мне восемнадцать, она еще жива, а моя песенка уже спета. Ее звали Розинда. Вот она-то и помогла мне выбиться в люди. Из-за нее у меня тоже винтик из головы вылетел; время от времени вылетает, и я устраиваю черт-те что. Красивая была… Красивая женщина, кожа белая, но не какая-нибудь блеклая, а розово-белая, вот так, скорее розовая, чем белая. Ушлая, могла провести кого хочешь, но со мной всегда поступала по-честному.
Зулмире надоели эти занудные пьяные излияния, ее не интересует исповедь любовника, она уходит в свои мысли, она уже далеко отсюда: сегодня пятница, по пятницам после обеда Мария да Лус уже свободна — она ведь по субботам не работает, и они. всегда собираются компанией покататься в автомобиле: виски, джаз, твоя рука в руке парня, как бишь его, дон Кто-то-Такой, Салданья или Аларкан, шикарный парень, все они шикарные парни, умеют тратить деньги — свои или девчонок, — настоящие товарищи, с ними приятно забыть про мерзкую скаредную жизнь, которой живет наш квартал и наш дом; Vat 69 или джин-тоник, чтобы капельку одурманить голову, а потом можно попеть или позаниматься немного любовью, не очень всерьез, чтобы никто не влип в историю и не было никаких беспокойств, когда подойдет известное число, в эти дни нас всегда оставляют в одиночестве, а родители выдумывают про нас всякие ужасы, но это все неверно, во всяком случае не такой ужас, как в их времена, когда праотец Адам был в любви всего лишь животным, исполненным важности и лишенным воображения, допотопным зверем, готовым растерзать свою жертву, ревнивым и норовистым, с ним невозможна была эта утонченная свобода.
Они по-прежнему сидят рядом, Зе Мигел перебирает ее волнистые распущенные пряди, она поглаживает ему бедро, улыбается, они улыбаются друг другу, официант тоже улыбается, но все они ничем не связаны друг с другом, потому что каждый занят своей собственной жизнью, какое ему дело до других? Каждый мужчина теперь — старый одинокий лев: в этих джунглях только и водятся что старые одинокие львы, а кто еще? — остальные сидят в тюрьме или вот-вот сядут, а кто им велел забивать себе голову глупыми идеями?…
В нашей компании по крайней мере можно не ломаться, размышляет Зу, не выдавать себя за серьезную девушку, рассчитывающую на замужество, потому что, если подумать, кто рассчитывает на замужество? Разве что после тридцати, когда найдется какой-нибудь тип, который попахивает старостью, а сам хочет нюхнуть юности, но ее все утратили, молодые и старые, моралисты и проститутки — даже проститутки на пятницу и субботу, продающие любовь, уже готовую к употреблению, как бульонные кубики, за прогулку в автомобиле — с откидным верхом само собой! — за капельку спиртного, за ужин под исступленную музыку, потому что ведь все мертвы, так пусть хоть музыка, хоть ударник из оркестра создают иллюзию движения и жизни; хватит и того, что приходится выносить одного из этих типов, что каждый месяц выдают вам два конто в полной уверенности, что за эту сумму все семейство обязано хранить им верность.
В это же самое время, минута в минуту, Руй Диого Релвас, Штопор, напоминает своему управляющему о долге Зе Мигела и просит его ускорить ход дела в суде.
— Мне не будет покоя, пока не узнаю, что этот субъект в тюрьме. Я не я, если не засажу его за решетку… Подмажьте кого нужно, чтобы дело шло без проволочек. Если ему предоставят отсрочку, сообщите мне, поеду сам. Меня-то послушают… Все знают, что я — друг министра.
Словно заслышав неожиданно повелительный голос Зе Мигела в тишине своего мирного дома — мирного и унылого, — начальник судебной канцелярии говорит жене:
— Сегодня к нам поступило дело Мигела Богача, не миновать ему приговора по статье «злостное банкротство». Всем он должен… Друзьям, недругам, государству, ссудным кассам, фонду по борьбе с безработицей и, само собой, прислуге. Теперь мне его жалко. Но ничего не могу для него сделать: через две недели самое позднее угодит в тюрьму со всеми потрохами. Милая будет история!
— Прогорел мгновенно…
— Знаешь, сколько стоят сережки, которые носит его жена? Угадай!.. Назови цифру.
— Три конто…
— Холодно, очень холодно.
— Два пятьсот…
— Лед.
— Пять конто!
— Холодно…
— Скажи сам, если знаешь. Как мне отгадать?…
— Двадцать конто. Ни больше ни меньше — двадцать конто. Так сказано в деле, и верить можно.
— Двадцать конто?! Должно быть, серьги, достойные королевы.
— С друзьями и женщинами он просадил несколько сотен конто. У него был пунктик — считал себя жеребцом-производителем — и промотал целое состояние со шлюхами. Теперь вот сидит в дерьме. Скорей всего, угодит в тюрьму со всеми потрохами, тогда узнает, как фадо поется. Кредиторы жмут на него со всех сторон, некоторые считают, что он припрятал часть денег, может, перевел на имя брата, Мигела Бедняка; на этот раз хитрость ему не поможет.
— Мерзавцам всегда везет: всегда найдутся такие, кто помогут мерзавцам.
— На этот раз едва ли: умел грешить, сумей платить…
В это же самое время, минута в минуту, Алисе Жилваз садится в кухне на табурет, ставит ноги на измызганную перекладину и опускает голову на стол, накрытый клеенкой. Она устала, почти без сил — вот уже две недели как не спит толком, заснет, а через час проснется в испуге, словно уже всю ночь проспала; а ведь она еще не знает всего, что случилось с Зе Мигелем. Они почти не разговаривают друг с другом. Однажды она спросила его, правду ли ей сказали по телефону, когда звонили в тот раз, она еще с портьерами возилась в столовой, тот, кто звонил, не назвался. Он ответил вопросом, голос был ледяной.
— Есть у тебя восемьсот конто? Вот именно: восемьсот бумажек по конто. Нет. А раз нет у тебя восьмисот бумажек по конто, заткнись и не раздражай меня.
Она не знала самого главного из того, что происходит. Ходила она к нотариусу закладывать имение Дос-Монтес, вид у всех в конторе был неприветливый, доктор ее фамилию прочел, фамилию мужа, она медленно вывела свою подпись, ей к большому пальцу камень особый приложили, смоченный черными чернилами, и велели чернильным пальцем ткнуть в бумагу, рядом с той строчкой, где она изобразила свою подпись.
Чувствует Алисе Жилваз, что прошло то время, когда была она сеньорой.
Горько ей вспоминать званые обеды и праздники, которые задавали они и дома, и в имении, когда приезжали ученые господа из Лиссабона и судейские, землевладельцы из Лезирии, военные, важные дамы, а она была «дона Алисе», вся в шелку, а в ушах сережки за двадцать конто, до чего же красивые! Дона Алисе то, дона Алисе сё, дона Алисе, что за чудо ваш рыбный суп, а тушеный лангуст каков — ради него мир в Корее заключили бы, вы не могли бы дать мне рецепт? Значит, в матлот [77]вы картошки никогда не кладете? Нет, никогда, никогда не кладу, ставлю на огонь все вместе, но без воды, помидоры сами пустят сок…
Для самых близких друзей, приходивших выпить виски, она была дона Алисинья; ваш Зе умеет принимать гостей, говорили все и один голос; она-то считала, что он слишком много тратит, как-то заговорила с ним об этом, а он ответил, что и людям, и лошадям по нраву тот, кто добрый корм им дает, но нужно приучить их есть из рук, если хочешь выдрессировать как следует.
Тогда эти слова показались ей забавными, но сейчас ей грустно. Грустно оттого, что она все думает и думает о тех давних временах, когда сидела на табурете не в этой кухне, а в кухне усадьбы Релвасов и видела за окном башню Четырех ветров, в которой умер хозяин Диого; и она предчувствует, что скоро ей придется вернуться к прошлому, даже скорее, чем можно предположить, хотя она знает за собой склонность видеть все в черном свете, всегда старалась она таким способом заговорить судьбу; а в глубине души она верит, что ее Зе способен начать все сначала с еще большей энергией. Она уже пообещала принести в дар богоматери Фатимской золотую цепочку — они ведь из самых низов, а выбились в важные люди, да, в очень важные люди, благодарение господу!
X
На рыбный рынок Зе Мигел прибыл рано утром.
Но перед тем зашел в ту таверну возле пристани, где слушал рассказы старого пегадора и шоферов, словно ему нужно было снова поглядеть на источник, в котором почерпнул он мечты, разбередившие его воображение в ту ночь, что провел он в яслях. Зе Мигел озирается, на губах улыбка. Садится за тот же столик, неподалеку от дерева, искривленного северо-восточными ветрами, не встревает в разговор, который ведут сидящие по соседству лодочники, улыбается, с него достаточно, что он в их компании. Выпивает всего один стакан — медленно, подолгу держа вино во рту — и просит разрешения оставить здесь котомку еще на некоторое время.
Он взбудоражен, но не торопится.
Ему необходима эта передышка, чтобы просмаковать удовольствие от сознания, что дорогу он находит сам, своими ногами. Что с ним будет, он еще не знает; хорошо идти вперед в мире, где все — тайна: и люди, и вещи, хотя он уверен, что сумеет повернуть их так, как ему выгоднее. Чувствует, что сможет, пуская в ход то сноровку, то силу, наладить все так, как ему понадобится, чтобы добиться осуществления своих желаний. Он еще сам не знает толком, чего хочет, но у него хватит воли и охоты удержать в своих руках поводья судьбы.
На рыбном привозе его оглушает гул голосов.
Зловонный рыбный дух — все пропахло рыбой. Проходят подсобники, волочащие на канатах ящики с бычками и сардинами (посторонись, посторонись!), подъезжают один за другим автофургоны из Пенише и Сезимбры, проехавшие на отчаянной скорости по дорогам смерти; а вот бредут одуревшие от усталости и бессонной ночи рыбаки с Тежо. В корзинах — улов: кефаль и усачи (животрепещущее серебро!), креветки и камбала, все это идет по дешевке, вот к рождеству наступит пора бешенки, тогда полегче станет, выкарабкаемся.
Представители сильного пола двигаются и говорят медленно, они устали, наработались, в то время как женщины, хитрые и языкастые, как всегда, размахивают руками, кричат, хохочут и задирают парней, которые, едва почувствуют под ногой твердую землю, то ли теряют аппетит к жизни, то ли кажутся сами себе слишком рослыми, чтобы тягаться с торговками по части выкриков и хиханек-хаханек, насмешек и двусмысленного зубоскальства.
Чиновники из налогового управления и комиссионеры заносят в свои бумаги сведения о состоявшихся сделках: первые — для определения размера налоговых поборов, вторые — чтобы знать, кому передать счета за неделю, полученные у ворот рынка от торговок, у которых на запястье висит мешочек с деньгами. Муниципальный инспектор надзирает за всей этой суетой; малолетние воришки выжидают удобного случая, чтобы поживиться рыбкой за счет невнимательности кого-нибудь из участников торга.
Зе Мигел оглушен гамом бабьих голосов (зловонный рыбный дух, все пропахло рыбой), тут его толкают, там пихают, отпускают шуточки в его адрес, какая-то девчонка спрашивает, уж не ищет ли он здесь быка, что от стада отбился, а Зе Мигел отвечает без заминки, уж он-то за словом в карман не лезет, до сих пор еще помнит, что тогда сказал:
— Высматриваю, не поймаю ли двуногую кефаль попригожей.
— Сетью ловишь или на крючок?
— Возьму голыми руками.
— Уйдешь ни с чем. Здешняя кефаль дурней кусает.
— Стало быть, поймаю — меня не укусит.
— Почему это?! Еще чего!
— Еще чего — а вот того. Дуростью никогда не хворал…
— Дурни своей хвори не чувствуют.
— Кефаль тоже не знает, как ее ухватят.
Оба увлечены тайным смыслом диалога, но девчонка при этом, не разгибаясь, моет сардины в лохани. Не сводят друг с друга смеющихся глаз, и с последней репликой Зе Мигел бросает выразительный взгляд на грудь девушки, словно давая понять, как он ее ухватит.
— Двуногая кефаль лягается, знал ты это, деревенщина?!
— Меня не очень-то лягнешь: я восемь лет с кобылами управляюсь.
— Значит, не сумеешь управиться с кефалью.
— Самое главное — на деле попробовать. Дело — лучшая наука.
— А знаешь, что у кефали чешуя в три слоя и вся колючая? Дело делать надо умеючи.
— На меня еще никто не жаловался.
— Покажи-ка свидетельство. Оно при тебе?!
— При мне, да не покажу…
— Вот так чудо! Оно что, за семью печатями?
— Печати давным-давно сняты.
— Ох, Иисусе! Значит, не годится оно. Выбрось собакам.
Зе Мигел выплескивает воду в лохань, подталкивает к ее краю еще один ящик с бычками, девчонка обмерла — в гомоне рынка расслышала окрик в свой адрес и говорит Зе Мигелу, чтобы тот отошел: хозяйка их заприметила. Зе Мигел спрашивает, как ее зовут, он привык начинать с этого вопроса знакомство с поденщицами и сборщицами риса, но Ирия молчит, пожимает плечами. Зе Мигел пытается втянуть ее в доверительное перешептывание; идет за нею до самых ворот, куда девчонка направляется с ведром грязной воды, которую выплескивает ему прямо на башмаки, заметив, что он засмотрелся на разгрузку автофургона, прибывшего из Пенише. Зе Мигел обнаружил, что в кабине автофургона Антонио Испанец: он вскакивает на подножку и спрашивает, не нужна ли ему помощь. Испанец не узнает парнишку, глаза у него слипаются после бессонной ночи, и он даже не удостаивает Зе Мигела ответом.
Только сейчас Зе Мигел замечает, что башмаки у него мокрые, оглядывается, но девчонка-рыбообработчица уже исчезла. Он находит ее занятной, но знает, зачем пришел, и разыскивать ее не пытается. Сейчас он весь во власти одного из тех внезапных порывов, которые будут свойственны ему всю жизнь; отыскивает укромное местечко, прячет там берет и башмаки, засучивает штаны и принимается выгружать ящики с крупной рыбой, не ожидая распоряжений и не думая об оплате. Ему хочется работать здесь, для того он и смылся из деревни, и он не станет ждать, пока его заметят. Он дело знает.
Ставя свой первый ящик туда же, куда и другие грузчики, он встречается глазами с нею. С кем, как не с нею, с Розиндой, самой главной женщиной в моей жизни?! Да, самой главной из всех, всем остальным дo нее далеко, теперь-то я ем себя поедом, да от этого сыт не будешь, сколько быни раскаивался в том, как поступил с ней и с самим собой тоже, с нами обоими: все козыри жизни были у меня в руках, а я их выкинул, черт побери! На этот раз у меня опять винтик из головы вылетел. Всегда вылетает в самый худший для меня миг, не понимаю, в чем дело, тут мать была права, она всегда это говорила, а я ей не верил. Никогда не верил, потому что мы не любили друг друга. А почему не любили, черт побери?! Он встречается с нею глазами, чувствует на себе ее взгляд, еще не успев поднять свой, вздрагивает, когда глаза их встречаются, и, притворившись, что вовсе не смутился, поворачивается к ней спиной. Когда он возвращается, она уже ждет.
— Эй, парень! Я с тобой говорю, с тобой, а не с кем другим. Она тычет в него пальцем и знаком подзывает поближе. Зе Мигел колеблется, краснеет немного и подходит вразвалку. Она морщит нос — характерная для нее гримаса (то ли плутовская, то ли кокетливая), складывает руки под передником из черной клеенки и внутренне посмеивается над победительно удалыми повадками парня. Говорит с ним вызывающе дерзко, словно не подпуская к себе.
— А ты знаешь, кто тебе деньги платит?! Знаешь, кто твой хозяин? Ты что, не понимаешь, о чем я?
— Понимаю, сеньора, но хозяина у меня нет.
— Кто тебе велел тут работать?…
— Никто.
— Тогда с какой стати ты таскаешь ящики?
— Чтобы не болтаться без дела. Не люблю болтаться без дела. Никогда не любил, почему — сам не знаю, не люблю, и все тут…
Он нанизывает фразу за фразой почти бездумно, потому что смущен жесткостью ее тона.
— Если тебе охота работать, чтоб согреться, займись своим делом. Я занимаюсь рыбой, но не думай, что в конце недели у меня получают столько, что денег девать некуда… — (Зе Мигел опускает глаза; опускает глаза, думает, что бы ей ответить, но умение не лезть за словом в карман утрачено.) — Ты здешний?
— Да, сеньора… Здешний я. — И добавляет после минуты молчания: — Я из ближней деревни, состоял при кобылах; может, вы слышали про моего деда…
— Кто был твой дед?
Зе Мигел улыбается, прежде чем ответить; он уверен, что потешит свое тщеславие. Разве найдется кто-нибудь в этих краях, кто не знал бы Антонио Шестипалого?! Но затем снова замыкается в себе: думает, что быть подсобным рабочим у торговки рыбой ниже его достоинства, и комкает ответ:
— Он умер несколько лет назад; его звали Антонио…
Но Розинда, вдова, уже отдает какие-то распоряжения мойщицам рыбы и забывает про Зе Мигела. Однако же она и много лет спустя будет вспоминать о нем, да и Мигел Богач, храни его, господи, тоже держит ее в памяти в тот самый миг, когда выходит с любовницей из бара и направляется к берегу моря в намерении освежить голову, кружащуюся от выпитого виски.
Навалившись на правое плечо Зулмиры и обхватив левое наболевшей рукой, Зе Мигел говорит:
— Она была пониже и потолще твоей матери. Женщина с норовом, черт побери! И красавица!.. Да, красавица: когда смеялась, на щеках появлялись ямочки; волосы волнистые, черные-пречерные, и глаза черные, прямо в душу проникали, посмотрит — и ты сам не свой, нет тебя, тени не осталось… Я обязан ей, что стал тем, кем был, а в том, что дошел до нынешнего, ее вины нет. Догадайся я вовремя, черт побери!.. Будь я в здравом уме, остался бы с нею до конца жизни.
Зе Мигелу никак не выразить то, что мучит его в этот миг. Ему не хватает слов, у него голова идет кругом от всего выпитого и от всего думаного-передуманого за последние недели. Память у него сдает, он валит в кучу события, путает то, что действительно сделал, и то, что хотел сделать. Сейчас он мог бы сказать, что почти все воспоминания, которые держал он у себя в памяти, сгорели как от пожара.
Зе Мигел должен был бы сказать, например, что, когда он познакомился с Розиндой, она была еще худощава; может, маловата ростом, но худощава. Да и малорослой ее, сказать по правде, не всегда можно было назвать, потому что вдова принадлежала к типу женщин, которые живут в непрерывном движении, меняются на глазах: у таких и лицо, и фигура, и темперамент преображаются в зависимости от того, что происходит у них в душе. Ей было лет тридцать пять, когда они познакомились, а в тот день она была и восемнадцатилетней девушкой, и шестидесятилетней женщиной, оплакивала покойного мужа и согласилась изменить его памяти, очаровала некоторых, кого подпустила поближе, оглядев смело, почти дерзко, и была резкой до грубости с другими, разозлившими ее тем, что пялились на нее больше, чем, по ее мнению, допускало приличие. То плакала беззвучно, словно глубина горя не давала выхода слезам, а через несколько минут рыдания сменялись хохотом, оскорблявшим ее свекровь, которая жила по соседству и считала Розинду виновницей того, что сына ее меньше чем за три месяца унесла скоротечная чахотка, несмотря на то что мать пичкала его тертыми желтками, рыбными супами и жирной свининой.
Когда вдова задумывалась, она становилась старше лет на десять, а то и на двадцать; но, если велась беседа, чем-то ее интересовавшая, она возвращалась в пору молодости — вся, от цвета лица, который из бледного становился розовым и свежим, до глаз, которые из печальных и прищуренных становились широко распахнутыми, ласкающими, даже вызывающими; они, как точно сказал только что Зе Мигел в разговоре с Зулмирой, прямо в душу проникали, посмотрит — и ты сам не свой, нету тебя, тени не осталось.
Может, и малорослая, но не толстая, нет, толстой она еще не была. Начала полнеть с того времени, когда он причинил ей горе, от которого она так больше никогда и не оправилась. Лицо у нее было овальное; скулы, выступавшие чуть сильнее, чем дозволяют каноны красоты, и нечеткого рисунка рот со слишком тонкими и поджатыми губами старили ее, да и подбородок слишком выдавался вперед, но, когда на нее находил стих веселой словоохотливости, подбородок казался задорно миловидным.
Самое красивое скрывала блузка. Об этом немногие знали, по большей части даже не догадывались. В порыве свойственного ему самонадеянного хвастовства Зе Мигелу случалось делиться с друзьями интимными подробностями, но он так никому и не рассказал до конца, чего она стоила, — может, чтобы никто из них не крутился у дверей ее рыбного склада.
В то утро Розинда встала с левой ноги, как говорили работавшие у нее девушки, когда видели ее хмурой и ворчливой. Ах да, правда!.. Вечно забываешь важные вещи: голос у нее тоже менялся в зависимости от настроения — тот, кто научился бы распознавать ее настроение по переменчивости глаз, мог бы угадать, каким заговорит она, голосом. Иногда голос был хриплый, в другие минуты — низкий, приглушенный и интимный, а то вдруг звучал удивительной живостью, когда жар в крови возвращал ей лукавство молодости. И тогда она не говорила, а ворковала, голос был зовущий, плутовской, зачаровывающий.
Сегодня Розинда-вдова встала с левой ноги, ей хочется браниться с целым светом; и поэтому голос ее звучит хрипло, когда по окончании выгрузки она подзывает паренька и сует ему полдюжины темно-бурых бычков.
— Тебе на завтрак.
— Что такое?! — Он прикинулся дурачком, чтобы собраться с духом и отказаться от предложения.
— Как «что такое»?… То самое! — И она протягивает ему рыбу.
— Я не просил платы, работал, чтобы согреться. У меня работа другая.
Она настаивает, глядит ему в лицо; позже ей придется сознаться, что его строптивость пришлась ей тогда по душе.
— Бери, без глупостей. Я до сих пор, слава богу, ни от кого не принимала одолжений.
— Да и я тоже, так и знайте, ваша милость. Не за тем я сюда пришел. Одолжений не оказываю и не принимаю. — (Но глаза у него смеются.) — Разве что в тех случаях, когда их оказывают как положено…
— Как?! Как это?! — Голос ее меняется от фразы к фразе.
— Жаровня и кучка угольков уладят дело. И вы мне ничего не будете должны…
Всю жизнь Зе Мигел умел чутьем определить, что ему подходит. Он мог быть строптивым или покладистым, поступать по наитию или по расчету, но в тот момент, когда нужно было действовать, ему всегда хватало решимости; поэтому сила его состояла в том, что он никогда не поступался ради выгоды тем, что его увлекало. Само собою, ошибался он нередко. Чаще, чем ему хотелось бы. Когда говорят «всегда», преувеличивают: «всегда» — слово с честолюбивыми притязаниями, слишком широкое полотнище, чтобы выкроить из него наряд, пригодный для действительности. «Всегда» в конце концов превращается в вымысел. Зе Мигелу не хватало дальновидности, когда он вскарабкался куда выше, чем мог, и там, наверху, на высоте, где он считал себя в полной безопасности, голова у него закружилась, и его в конце концов столкнули вниз. Одним кажется, что он еще висит в воздухе; другие считают, что он уже лежит поверженный. Но сам-то он знает, что последний шаг принадлежит ему, и продолжает тянуть время, чтобы доказать судьбе, что еще не утратил власти над будущим.
Будущее он знает, как собственную ладонь. Прошлое хранит в себе вопросы без ответов; настоящее подсовывает ему неожиданности. Но будущее — будущее я знаю полностью — то, что меня касается, чуть ли не минута за минутой до четверти восьмого, а где четверть восьмого, там и двадцать минут восьмого; как бытам ни было, я выбрал по собственному желанию и ни за что не отступлюсь. Я еду в последнее путешествие, и мне больно, не этого я желал; но сейчас распоряжаюсь я — тут пока еще распоряжаюсь я. Скамья подсудимых останется свободной, пускай они сажают на нее того, кому страшно. Мне не страшно…
Он повторяет последнюю фразу вслух, для девчонки:
— Скамья подсудимых останется свободной, пускай они сажают на нее того, кому страшно. Мне не страшно.
— Что ты хочешь этим сказать?!
— Почти ничего… Ты и я сейчас — почти всё, а через какое-то время, совсем скоро, можем обратиться в ничто или почти в ничто. Такое впечатление… Здесь, на пляже, у меня такое впечатление, будто в мире остались только двое: ты и я… Может, и хорошо было бы, если б только мы с тобой и остались в мире. Тебе понравилось бы?! — спрашивает он ее во внезапном порыве восторга.
— Все принадлежит нам.
— Все, кроме смерти.
Он идет по воде, не замечая, что ноги промокли, и говорит, говорит, говорит, словно сам себя не слыша, бессвязно, слова идут откуда-то изнутри, из самой глубины его раздумий.
— А если подумать как следует, нет смысла…
— В чем?!
— В том, чтобы на свете только мы с тобой и остались. Мы бы плохо кончили. Мы были бы так нужны друг другу, что у одного из нас, может у тебя по молодости лет, в конце концов возникло бы чувство, что партнер лишний. Кто-то всегда лишний… И кто бы сделал автомобиль, чтобы мы могли покататься? И виски, чтобы мы могли выпить?
— У нас много было бы всего, пока не наступил бы конец.
— Но большая часть вещей испортилась бы, пока мы бы до них добрались.
— А мы можем думать, что не испортились бы…
— Что мы от этого выигрываем?!
XI
— Что мы от этого выигрываем?! Ничего себе выход!
В восемнадцать лет, когда Зе Мигел рано утром появился на рыбном привозе, он не сумел бы задать себе этот вопрос. Да и не было бы смысла задавать его; он пока не знал тех слов, которые обозначают сомнение, даже если бы испытал это чувство. Еще не знал.
Есть сочетания слов, даже самых простых, принадлежащие определенному возрасту или определенной среде. В распоряжении каждого класса есть свой словарь, свой набор лексики, сокращений, соответствий, свои способы выразить тайное и явное — и все это четко разграничено.
В то утро всю жизнь Зе Мигела можно было записать с помощью полудюжины слов. Он знал их назубок, они составляли часть его силы. Из мига в миг обновлялись у него в крови.
Он купил теплый еще хлеб и уплетает бычков, разминая их пальцами, с голодной жадностью, обсасывает головки, обсасывает плавники, потом тщательно облизывает себе кончики пальцев, бросает объедки обступившим его кошкам и с интересом глядит, как кошки едят то, что он им дал. Пьет воду из кувшина — складская утварь, — думает, не выкурить ли самокрутку на закуску, но колеблется, боясь остаться без табака, когда проголодается, и в конце концов завершает завтрак не самокруткой, а сном, смыкающим ему глаза.
Просыпается оттого, что его обдало водой, словно вдруг пошел сильный дождь. Он испуган. И когда, все еще растерянный, осознает, что, наверное, та девчонка снова выплеснула на него воду из ведра — помнит, так уже было, — из помещения склада доносится смех, и смеются над ним.
В нем вспыхивает гнев, худой советчик, и его подмывает отпустить в ответ такое словечко, от которого и пекаря вгонит в краску, но среди неясных фигур он замечает Розинду, перемогается и вступает в игру. Под навесом, в кучке потешающихся над ним женщин, обнаруживает Ирию. Думает, самонадеянный, как всегда, что им еще придется его подождать, перебьются; направляется к тому углу, где оставил берет и башмаки, и собирается смыться.
— Что ты делаешь у себя дома? — спрашивает Розинда, вдова.
— Сейчас ничего. Ничегошеньки. Смылся оттуда.
— Я спросила, что ты умеешь делать.
— Много чего. Много чего хорошего.
— А именно?!
— Щелкать блох, тень отбрасывать. И работать люблю. По-настоящему люблю.
— А еще что?!
— Про остальное не скажу.
Девчонки снова хохочут. Зе Мигел прикусывает язык, чтобы не сболтнуть того, что напрашивается, и, зашнуровав башмаки, направляется к широкой двери.
— Если у вас, ваша милость, есть для меня работа, начну сейчас же. Мне бы хотелось поработать здесь. Мне нравится иметь дело с рыбой.
— А ты в рыбе разбираешься? — спрашивает с подначкой Ирия.
— Пощупаю руками, начну разбираться. И слепой, если что-то в руки возьмет, сообразит, что к чему.
— Если рыбу пощупать руками, она быстрей испортится, слышал об этом? — вставляет Розинда, чтобы подперчить беседу.
— Не всегда, я так думаю. Но если меня будут учить, я выучусь. Учусь быстро всему, чему надо.
— Читать умеешь?
— Читать, писать и счеты сводить. На нет. В этом деле я мастак.
Женщины не понимают, что он хочет сказать, и не подхватывают реплики.
— Пристроиться могу прямо здесь, в углу где-нибудь. Одеяло у меня есть. Насчет еды неприхотлив, было бы пол-литра вина. Пол-литра мне хватит.
— А пеленки сколько раз тебе менять? — поддевает его Ирия, которая уже заметила по косящим глазам деревенского, что раззадорить его — дело нехитрое. На слово скор.
Розинда отчитывает девушку:
— Не стыдно тебе? Свяжешься с ним, а после будешь жаловаться, что усач — рыба колючая.
— Ох, господи, тоже мне усач — есть нечего. Мал он слишком для меня, я с рождения голодная, тетушка Розинда!
Зе Мигел отпускает крепкое словцо; женщины посмеиваются над шуточками Ирии, которая не щадит парня — может, потому, что он приземист, а ей нравятся верзилы.
— Ты что, уже прикинула, какие у меня размеры? — ворчит парень, раздосадованный тем, что пыл его непрерывно остужают.
— По сравнению с тем, что мне нужно, нулевой у тебя размер, эх ты, горемыка. Мне подавай молодцов покрупнее, да таких, чтобы все было на месте, да чтобы одного молодца на семь женщин с половинкой хватило и еще осталось. Только тогда соглашусь.
— Придержи язык, Ирия! — вмешивается Розинда; обычно она не прочь послушать, как девушка разделывает кого-то из знакомых, но сейчас опасается, что разъяренный парень ответит совсем уж грубой непристойностью.
— Если вы его возьмете на работу, тетушка Розинда, вы его около меня поставьте. Обработаю вам эту рыбку в лучшем виде. Чешую сниму, потроха выпущу. Можете потом продавать кусками вразвес.
Взрыв хохота не дает Зе Мигелу ответить. Парень чувствует, что разговор становится чем дальше, тем солонее и, чтобы стать своим среди этих женщин, придется проглотить желание отбрить девчонку; и потому он отвечает на шутку с прежней ленцой, как будто включаясь в игру:
— Голова достанется тебе, бери, сам даю. Все прочее пойдет с аукциона.
— Кто предлагает голову, хочет, чтобы его поймали за хвост.
— А это как сказать, — отвечает внук Шестипалого срывающимся голосом; но затем берет себя в руки и бросает девчонке: — Если тебе по вкусу короткохвостые…
Розинда, вдова, вмешивается и прекращает перепалку: слишком уж затянулась и пахнет паленым. Велит девчонкам начинать засолку сардины, а сама поднимается по лестнице на верхний этаж, где она живет: фасад жилой части выложен белыми изразцами с синим цветочным узором и украшен двумя пузатыми железными балкончиками, покрытыми серебряной краской. Вдова ушла, и Зе Мигел не знает, как быть. Прислонился к кирпичной стене возле широкой двери, сворачивает самокрутку — и вдруг, даже не раскурив ее, срывается с места. Уходит в ярости, почти одурев от гнева: убежден, что Розинде пришлись не по вкусу его задиристость в разговоре, его наперченные шуточки, а может, она его расспрашивала от нечего делать, чтобы время убить. Было бы слишком большим везеньем в первый же день найти работу, думает он, пытаясь утешиться. Но досада возвращается.
Неугомонная Ирия выбегает следом и, догнав его, окликает посреди улицы. Деревенский парень поворачивается к ней — таким резким движением, словно ему в ляжку вцепился бешеный пес, — и сует ей под нос два кукиша, выставив торчком большой палец. И орет так, что на всю улицу слышно:
— Иди к себе на подстилку!.. Иди ублажай своих жеребцов, дочка такой-то и распроэтакой!
— Ой, Иисусе, матерь божья! — взвизгивает девчонка и бегом бежит обратно на склад, съежившись, словно боится, что ее увидят. Но удирает с хохотом, с пронзительным хохотом, которому вторят товарки.
Отомстив с лихвой, Зе Мигел раскуривает самокрутку и возвращается на набережную за котомкой. Он пришел как раз вовремя.
Начался вывоз ранних сортов винограда, и деловая суматоха стряхнула оцепенение спячки со стен городка. И на главной улице, где склады и конторы экспортеров, и на боковых улочках кипит и бурлит интенсивная жизнь в азарте биржевой игры, определенной таинственным курсом — лондонским или гамбургским. Простофили из провинции Трас-ос-Монтес рассуждают о фунтах и марках, о шиллингах и динарах, произнося с гордостью и с опаской эти иностранные названия — словно, именуя так деньги, которые поступают к ним на счет, они становятся на вершок выше самих себя.
Новости хорошие, мухи слетаются на мед: на винограде раннего сорта «диагал», отправленном в ящиках в Лондон, удалось заработать кучу денег; конечно, нужно вычесть стоимость досок и опилок, гвоздей, и перевозки и плюс комиссионные этому, тому и пятому-десятому, но цены на виноград в Гамбурге и Лондоне вознаграждают землевладельца за все тяготы; ранние сорта идут по хорошей цене, что правда, то правда, самое скверное — расходы на перевозку, но при всех обстоятельствах экспортировать выгоднее, чем сбывать на собственном рынке, и к тому же приятно сознавать, что англичане и немцы предпочитают к столу наш португальский виноград, красивые гроздья, так-то, сеньор, цена C.I.F. [78] и цена F.O.B. [79], все это не очень понятно, но человек становится на вершок выше ростом, говоря обо всех этих удивительных вещах, которых никогда не уразуметь трусам.
Подходят ослы, на них навьючены уже готовые ящики. Подъезжают фуры и повозки, в них корзины с отборным виноградом, а на складах сидят девушки, ножницами обрезают гроздья, удаляют испорченные или некрасивые ягодки, а затем передают товаркам, и те укладывают гроздья в ящики с опилками, которые потом заколачивают плотники: где тут гвозди и дощечки потоньше, парусники уже ждут погрузки у причальной стенки, нужно воспользоваться отливом и попутным ветром, чтобы добраться побыстрей до Лиссабона; ниже по течению — Лиссабон, в лиссабонском порту стоят суда, ждут винограда простофиль из Трас-ос-Монтес, увезут его далеко-далеко, какая честь, сеньоры, знать, что наш виноград отправится в Англию и Германию. Цена C.I.F. и цена F.O.B., выплата в марках и фунтах, если бы не вычеты и не комиссионные, недурные денежки, черт побери!
Первые партии винограда пошли по такому курсу, что дельцы упиваются в эйфории и уговаривают пустить на экспорт лучшие сорта; год будет из ряда вон выходящий, наш виноград — лучший в мире, мой лондонский агент дока по своей части, нужно быть начеку, чтобы вовремя отправить товар на рынок, в любую минуту можно заработать состояние либо все потерять.
Сколько ящиков прикажете?! Дельцам-то комиссионные обеспечены, даже если крестьяне залезут в долги по уши; это биржевая игра, неизвестно, что будет с курсом: то ли цены останутся прежними, то ли резко упадут, так что с трудом удастся покрыть расходы по закупке опилок; тот, кто отправит свой виноград за границу, останется внакладе, а как же, еще бы — но это обнаружится позже, когда придут бумаги, написанные по-немецки или по-английски, бумаги суровые, как нотариальные акты; из бумаг этих явствует, что простофиля из Трас-ос-Монтес, отдавший виноград, ящики, опилки и свой труд, обязан в придачу выплатить деньги за честь продать гроздья из своих виноградников куда-то за рубеж.
Зе Мигелу неведомы лабиринты, в которые заводит свою жертву этот мираж. Он догадывается, что руки его нужны, и предлагает их на первом попавшемся складе.
Разговаривает с человеком среднего роста, высохшим, как соломинка; тот слушает и рыгает, а сам все поглядывает искоса на девушек, чтобы не смели тратить свое рабочее время — его милые денежки — на разговоры про ухажеров и на сплетни. Штаны явно широки человечку, но подтяжки у него тугие-тугие, а парик из козьего волоса прикрыт кепкой в черно-белую клеточку, временами он осторожно снимает ее, чтобы утереть пот, хотя он не потеет.
Кивает, склоняет сморщенное личико к плечу, рыгает, корчит гримасу, разглаживает усы, очень черные, очень нафабренные, помаргивает то одним глазом, то другим и, наконец, оттягивает резиновые помочи, а затем отпускает — словно стреляет в птичку из рогатки. Подтяжки щелкают, человечек улыбается, начинает разгуливать по вымощенному плиткой помещению склада, гримасничает непрерывно и хватает гроздь белого винограда, еще зеленоватого (чтобы выдержал перевозку, если судно задержится, а то в Гамбурге или в Лондоне выгрузят гнилой виноград, которого и дрозды клевать не станут).
Зе Мигел бесшумно ходит за ним следом. Девушки перешептываются и посмеиваются, поглядывают на Зе Мигела, они, наверное, говорят о нем, а может, об этом потешном человечке, а может, о них обоих. Вышучивают кого-то, это уж точно.
В конце концов Зе Мигел спрашивает:
— Так как насчет работы?!
Человечек поворачивается к нему, выпучив глаза, выпятив губы клювиком, и говорит голосом скребущим, жестким и в то же время пискливым:
— Я же сказал — есть. Ты что, не понял?! Я кивнул тебе и привел тебя сюда, будешь подсоблять плотнику, подносить виноград женщинам и помогать при погрузке. Парень ты молодой, что понадобится, то и будешь делать. Понятно тебе?! — Он потирает руки, надвигает козырек на глаза, и козий волос парика, придавленный кожаной окантовкой кепки, топорщится у него над ушами.
Зе Мигел с жаром принимается за работу, которую на крик объяснил ему плотник, и осознает, что не договорился об условиях оплаты, только благодаря напоминанию того же плотника, который расписывает, что его ожидает:
— В обед суп и ломоть дыни; вечером ломоть дыни и суп. Два стакана вина и десять тостанов в день.
— Смываюсь немедленно, — заявляет, бравируя, Зе Мигел.
— Если сумеешь его ублажить, будет платить тебе по десять мильрейсов в неделю за особые услуги.
— Какие-такие услуги?
— Потом увидишь…
— Со мной у него ничего не выйдет…
— Тогда плохо твое дело. Начнет придираться к тебе из-за любого пустяка. Постарается выжить тебя до расчета. А если дождешься расчета, найдет способ недоплатить… Придумает, за что вычесть.
Зе Мигел не очень верит плотнику, но присматривается внимательней к человеку в подтяжках. Тот не сводит с парнишки взгляда, и Зе Мигел смущается, прячет глаза и весь уходит в работу, делая вид, что не замечает заигрываний сеньора Элиаса, совладельца и управляющего торговой экспортно-импортной компанией «Фрукты Португалии», имеющей представителей в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Амстердаме, Роттердаме и Гавре и основанной в 1898 году.
Сведения, полученные от мастера Аугусто, плотника, оказались не совсем точными. Вместо дыни сеньор Элиас приказал дать винограду — забракованные ягоды, — еще Зе Мигел получил похлебку и вареное сало, чтобы было что на хлеб положить; и еще была пол-литровая бутылка — одна на оба раза.
Работали допоздна, до самой темноты.
Последний парусник загружали при свете факелов. В загрузке участвовали все. Девушки-укладчицы, мастер Аугусто Дай-ка-Одну, подсобники, грузчики из профсоюза и сам сеньор Элиас. Когда парусник, отчалив, взял курс на Лиссабон, склад погрузился в безмолвие. Было слышно только, как щебечут девушки, направляясь в Кашоэйрас.
Зе Мигел остался — он должен еще запереть двери и проверить помещение, поглядеть, не обронил ли кто окурка, велит управляющий; сам сеньор Элиас проходит в каморку, служащую ему кабинетом: ему еще надо заполнить документацию. Парнишка, сидя на ящике, глядит, как он пишет, склонив голову к правому плечу, высунув кончик языка и зажав авторучку между большим и указательным, а остальные пальцы растопырив веером. У хозяина красивый почерк, говорил плотник Дай-ка-Одну. Может, потому и красивый, что он так выставил пальцы — торчат, словно тернии на венце Спасителя в церкви; а может, потому, что язык высунул, думает Зе Мигел от нечего делать.
Время идет медленно; наконец сеньор Элиас выходит из каморки с газометром в руках, вешает газометр на стену и садится у двери на высокий табурет, стоящий перед конторкой. Ерзает, но затем, найдя удобное положение, успокаивается. Тихонько посвистывает, снимает кепку, надевает себе на острое колено, мягким движением снимает волосяную накладку и вытирает лысину платком в табачных пятнах.
Глубоко втягивает воздух, вздыхает.
Зе Мигел чувствует, что щеки у него горят. Догадывается, что сеньор Элиас вот-вот заговорит: может, прочищает свой пискливый голос. И Зе Мигел прав.
— Сколько тебе лет?
— Восемнадцать! Почти девятнадцать… Девятнадцать исполнится в день святого Михаила. — Он старается не дать человечку заговорить и нанизывает слова одно за другим. — Потому меня и назвали так — Зе Мигел. А брата моего зовут Мигел Зе, это мой отец так подшутил. Отец был хороший человек, но любил выпить. Он умер в прошлом году, из-за того, что побился об заклад. Побился об заклад, вечером дело было, в таверне Манела Сиприано, народу полно было в заведении — землепашцы, скотоводы; отец и побился об заклад, что одним духом, не отрываясь, выпьет большую бутылку без всякой закуси, даже фигой не заест. Всю выпил, но даже говорить не смог, можно подумать, водка ему все во рту сожгла и слова все выжгла. Остальные, кто там был, захлопали, он встал, подошел к стойке, там стаканы с вином были, он все выдул до единого и стрелой к двери. Выскочил на улицу, поглядел на небо, взревел — прямо как бык, прости господи, — и рухнул наземь. Внутри у него все полопалось. Все нутро у него полопалось, я так думаю, сгорело и полопалось. Даже не вздохнул…
Он оглушил самого себя потоком слов и смолкает. Сеньор Элиас кивает, обмахиваясь накладной. Затем подвигает табурет к ящику, на котором уселся Зе Мигел, и дотрагивается до плеча парнишки. Тот вскакивает, стоит и смотрит в лицо собеседника.
Своим медоточивым голоском, писклявым и медоточивым, сеньор Элиас заключает:
— Стало быть, ты — сирота!
— Не знаю, — отвечает парнишка угрюмо и настороженно.
— Если нет у тебя отца, значит, ты сирота.
— Ладно, пускай. Сирота или кто хотите, меня это мало трогает.
— А матушка есть у тебя? — спрашивает старик умиленно.
В испуге оттого, что медоточивость медоточивого голоса сеньора Элиаса стала еще медоточивее, Зе Мигел толкает табурет, на котором сидит старик, выбегает из склада, припускает по направлению к пристани, натыкается на причальный канат какого-то судна, падает, давай вставай, вскакивает на ноги и исчезает в темноте, слыша доносящийся сзади истошный крик, взывающий о помощи.
Зе Мигел останавливается только у дверей склада вдовы: место кажется ему таким же надежным, как будочка при водонапорной колонке во времена его детства. Там он и ложится. Ложится и вскоре засыпает, и не мучат его никакие кошмары.
XII
— Кошмары стали мучить меня позже. Вот теперь не отстают, сам не знаю в честь чего!
Зулмира вынимает сигарету, смотрит на пачку и думает, что уже четырежды меняла марку после начала связи с Зе Мигелом.
Каждая марка сигарет — любовное приключение чуть посерьезнее обычных. Чтобы оживить воспоминания, она всегда курит те же сигареты, что и парни, с которыми она тайно встречается.
Зе Мигел сжимает ей руку, потому что вспоминает сына и то, что он сказал ему перед тем, как сын притих на зеленой софе в гостиной. Он не захотел видеть его потом, но знает, что сын притих, словно заснул.
— Спасенье от них только одно, и я знаю какое. Еще бы не знать!.. Неведение еще не самое худшее. Самое худшее — решиться. А я уже решился. Ты спросишь: а меня-то самой это разве касается? И я отвечу: больше, чем ты думаешь, потому что им не зацапать ни тебя, ни меня… Меня им не посадить на эту самую скамью, как бы им ни хотелось, а тебя не загнать в такое местечко, куда они обычно загоняют девчонок твоего возраста. Дошло?!
Зулмира в недоумении, но не задает вопроса, который вертится у нее в голове: «Что ты хочешь всем этим сказать?» И поскольку она молчит, Зе Мигел продолжает, не поворачивая головы и глядя прямо перед собой:
— А не дошло, так все равно. Я решил — значит, дело решенное, и что будет, то будет, черт побери! Когда через час мы доберемся до огненной змеи, наступит начало конца. На этой дорожке кое-что сгорает дотла.
Он колеблется, мнется. Жизнь еще привлекает его. А ее придется оборвать одним махом, чтобы не попасть в руки других, не угодить к ним под ярмо. Ему вдруг представилась в памяти пара быков под ярмом.
— А что такое огненная змея? Может, это дорога ночью, а может, жизнь, которую я выбрал; только сейчас я это понял. Огненная змея, где многие обжигаются, а то и сгорают. Как я… Но как выйдет, так выйдет. Теперь меня больше не мучают кошмары. Кончено. Сегодня ночью я буду спать с тобой.
— Ты же знаешь, ночью я должна спать дома.
— А то папа рассердится, верно? — Он говорит презрительно. — Но сегодня ночью мы будем спать самым лучшим в нашей жизни сном.
— Не настаивай, дорогой.
— Ты же часто возвращаешься на рассвете.
— С тобой, только с тобой, дорогой.
— И ты хочешь, чтобы я тебе верил?
— Снова начинаются подозрения, дорогой. А с кем, по-твоему, я встречаюсь?
— Всегда найдутся любители прокатить красотку в машине на параде девиц.
— Кончай шутить, дорогой. Все это не смешно.
— Ты разве не девица?
Зулмира надулась, вырывает у него руку и уходит вперед с возмущенным видом. Волны с мягким рокотом накатывают на берег.
Он идет позади нее, не пытаясь нагнать, хоть и окликает дважды или трижды. Замедляет шаги, чтобы девушка отошла от него еще дальше. Пытается догнать ее, взметая босыми ногами песок. Потом забывает про Зулмиру.
Вспоминает прохладу утреннего ветерка, разбудившего его у дверей Розинды. Прошло более тридцати лет, а кажется, что все случилось на той неделе. Он осязает всем телом реальность того, о чем вспоминает. По коже даже холодок пробежал при воспоминании, которое возвращается ему в душу во всей своей цельности.
Он садится на песок, повернувшись лицом к устью Тежо; солнце опускается за серое, похожее на замок нагромождение туч. Его захлестывает прошлое.
XIII
Тем ранним утром Зе Мигел проснулся внезапно от гула оптового рыбного рынка и от шума на складе вдовы. От ночного холода он чувствует себя непривычно легким. Вглядывается в сутолоку, обычную перед началом работы, но фигуры видны смутно, он еще не узнает людей по голосам, это придет через некоторое время. Подходят все новые рыбообработчицы, постукивая деревянными башмаками, смеясь и переговариваясь, заполняя, все своим присутствием. Сигналя, подъезжает еще один груженный ящиками автофургон, и шум нарастает.
Зе Мигел по-прежнему сидит у двери: утренняя вялость путами обвилась вокруг его тела, и он не спешит встряхнуться. С работой все уже улажено. Заслышав голоса на складе у вдовы, он быстро встает и переходит к соседней двери, к которой и прислоняется. От движения ему становится холоднее. Надо бы заморить червячка — чашечкой кофе и стопкой водки, помужски, — хотя он не отказался бы и от ломтя хлеба. Он думает обо всем этом с ленцой, делать ничего неохота.
Тело затекло и ноет, он вспоминает, как сеньор Элиас полетел с табурета, и хохочет. Никогда он не думал, что ему придется иметь дело с такими типами; надо было сунуться в экспорт-импорт «Фрукты Португалии», чтобы напороться на такого типа. Всех их следовало бы перебить, думает он.
Но через полчаса забывает про ту историю.
Да, только что он услышал добрую весть: Розинда, вдова, торговка рыбой, сказала, что у нее ему обеспечена постоянная работа.
— Все прочее зависит от тебя и твоей смекалки. И никаких шашней с моими девчонками; при первой же интрижке — а я все сразу узнаю, есть у меня пальчик-угадчик, как в сказках говорится, — ты уплывешь отсюда на всех парусах и с попутным ветром.
— Можете не беспокоиться…
— Присматривай за моим добром, как за своим собственным.
— Можете не беспокоиться…
— Мне нужен помощник; если сумеешь помочь мне, будет польза нам обоим. Я не богачка, как думают у нас, но кое-что у меня есть. И что у меня есть, того мне хватит… Тебе еще придется ездить вместе с шоферами. С ними нужен глаз да глаз.
— Можете не беспокоиться…
— Конечно, могу не беспокоиться, но ты, парень, помолчи! Дай мне подумать и поговорить. Когда я говорю, ты слушай. С ними нужен глаз да глаз, я не доверяю Антонио Испанцу. Позже объясню. А сейчас ступай на разгрузку. Будь благоразумен и не пори горячку, вот так!
Розинда, вдова, остается на рынке, а Зе Мигел идет на разгрузку и посвистывает в лад тысяче колокольчиков, звучащих у него в груди мягким звоном, как на шее у смирных быков. Сделан первый шаг на пути, который он намерен проторить собственными ногами, он еще получит вороного коня, столь желанного с детских лет, даже если потом его придется продать.
На первый же заработок он покупает кепку и еще — но это уже в кредит — рубашку из тонкой шерсти. Берет убирает в котомку, прячет все в укромном местечке на складе и посылает весточку домой, чтобы не думали, что он умер. Сознает, что понизился в ранге, но ждать он умеет. Слова вдовы подтверждают, что он не ошибся, когда оставил место табунщика. Он еще выйдет в шоферы. Обещает себе, что после первой самостоятельной поездки, когда наконец возьмется за руль, угостится вволю пивом. Должно быть, вкусное оно, пиво, размышляет он, высматривая фары автофургона из Пенише.
Ирия проходит мимо и даже не говорит «день добрый». А он говорит — шепотом. Хоть «день добрый» услышать, черт побери! А то живешь, сам не зная где: то ли на суше, то ли в воде.
Так проходит несколько месяцев. Он спит на топчане в складском помещении, получает еду с хозяйского стола и обзавелся курткой из овчины с черным мерлушковым воротником; у него уже есть ботинки, коричневые с белым, черный плащ с капюшоном на случай холода, чемодан из папье-маше, набитый всякой одежкой.
Вчера ему исполнилось девятнадцать. Вчера был день святого Михаила, и Розинда послала ему блюдо сладкого риса, большое блюдо, украшенное цветами из молотой корицы. Потом кликнула его с лестницы и спросила, не хочет ли он выпить бокал хорошего вина; он ответил — еще бы, а то нет, кто же откажется! Сладкое вино, свадебное, еще бокал, еще. В глазах у него все плывет, а язык развязывается. Он разговорился вовсю. Рассказывает вдове истории про быков и лошадей, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! — описывает кобылу Красотку и ее жеребенка, до чего же красивый, ножки высоконькие, а уж сметливый, чертенок.
Розинда, вдова, смеется и слушает как зачарованная.
Зе Мигел так славно рассказывает; у Зе Мигела такие славные глаза; Зе Мигел так славно смеется, и он такой славный, когда с восторгом повествует про быков и лошадей.
А на улице ветер гудит и гундосит, гремит стеклом балконной двери. Гудит и грохочет, грохочет и гундосит.
Зе Мигел все говорит и говорит. Рассказывает, откуда у него шрам на лбу, но еще не думает о том, что то была его первая встреча со смертью. Затем рассказывает про голубой фургон и про деда, про Антонио Шестипалого, того самого, который врезал Диого Релвасу.
Оба смеются. А отсмеявшись, не могут отвести глаза друг от друга. Розинда, вдова, велит ему сразу же идти спать. Парень не понимает, с чего это, было так хорошо: сладкое вино, приятный разговор. Ему даже захотелось сказать ей: «Чего ради спать? Ночи не только для сна!..» Он мог порассказать ей немало о бессонных ночах в поле, когда нужно было перегонять стада и табуны в степи, потому что река грозила уж очень разлиться.
Укладывается на топчан, но ему не спится. Слышит, как этажом выше, прямо у него над головой, вдова ворочается на пухлом тюфяке, набитом кукурузной соломой, и все говорит, говорит сама с собою — может, молится, может, думает вслух. Затем слышит шаги, вдова босиком прошла по всей комнате; он чувствует, что она остановилась за балконной дверью, глядит во тьму, а может, на луну, если ночь лунная, либо на фигуру прохожего, бредущего по улице к пристани. Он тоже был бы не прочь выйти на улицу проветриться. Понимает, какой хворью мается.
А может, запеть?! Кому будет хуже, если он запоет?!
Прислушивается и различает в тишине звуки ее голоса. Голоса и вздохов. Или стонов. Если бы Роза Плакса, старуха-служанка, уже заснула!.. Что бы он сделал?! А что должен сделать девятнадцатилетний парень, когда этажом выше вздыхает женщина?
Затем, уже много позже, когда часы на башне муниципалитета пробили два, этажом выше становится тихо. А в три ему вставать — надо наполнить водой чан для мойщиц рыбы, оттащить к двери пустые ящики. Что еще?! Сделать все, что требуется: на аукционе встретить и разгрузить автофургоны, привести в порядок счета.
Уж лучше встать, чем так валяться. В теле словно скачут шарики ртути, от желания больно, такое ощущение, что на руках наросли дополнительные мышцы — он чувствует, что руки налились силой, стали сильнее, чем прежде. Могут стиснуть кого-нибудь или что-нибудь, разорвать, изломать — или мягко обхватить тело женщины, которая тоже не спит, хоть ее и не слышно.
Он сует голову под кран, льет воду себе на грудь, затем, раздевшись, обливается с ног до головы. Успокаивается, теперь его меньше лихорадит. Снова растянулся на топчане, глядит в потолок, словно можно глазами просверлить доски, отделяющие его от вдовы. Руки у него дрожат, голова горит, он пытается привести в порядок мысли.
Проезжает поезд, земля содрогается от металлического неистовства скорости. Зе Мигел представляет себе, как вылетают из-под колес вихри пыли и бумажек, когда поезд по небольшому мосту уносится вниз, во тьму. Ради опыта Зе Мигел как-то раз забрался под этот мост, когда должен был пройти скорый из Порто; сидел на корточках, тихо-тихо; хотел проверить, будет ему страшно или нет. Струя воздуха отшвырнула его к стене, вокруг стало светло-светло от бессчетных искр и угольков, красивое зрелище, но он не мог выдержать и закрыл глаза, потому что страшный грохот пронизал ему все тело и, казалось, поток воздуха вот-вот унесет его вместе с пылью и бумажками, взметнувшимися вокруг.
Он снова вживается в тот миг — тогда ему представилось, что поезд тянет его за собой на канате и он летит по воздуху, словно бумажная птичка, то поднимаясь, то опускаясь по прихоти ветра. Страшно не было, нет, он ничуть не испугался, когда там, внизу, испытал внезапное наслаждение от металлического грохота и огня, хотя и расслышал чей-то крик, словно поезд сбил кого-то в своем все сметающем движении, а может, это был крик самого Зе Мигела, он не знал или не хотел признаться в этом даже себе; распрямился, оглушенный, и на четвереньках выполз на улицу, усталый, одурелый. Только когда он убедился, что дома остались на своих местах и они того же вида и цвета, что раньше, он наконец пришел в себя, только тогда, да, только тогда ему захотелось бежать, и он побежал на площадь, где были люди и можно было услышать человеческий голос.
В этот миг его полностью захватило воспоминание. Но сейчас он улыбается. Улыбается, сам не зная чему.
Вскакивает, торопливо надевает рубашку и брюки, босиком подходит к двери. Садится у двери и сразу же засыпает. Да, я уснул, но она не осталась без ответа; в девятнадцать лет мужчина — владыка мира, даже если мир не признает его владыкой; но женщина тоже может быть целым миром; да, женщина стоит целого мира, черт побери! Когда вскорости после того мы с нею повстречались, я еще ничего не знал о том, какими путями идут к главной цели, я сунулся к ней этаким жеребеночком, хотел подольститься, подладиться, а она меня словно ногой отпихнула — такой у нее был жесткий голос, жесткий и неприветливый, как всегда, когда дела шли не так, как ей по нраву; она задала мне жару, сделала из меня мяч футбольный, поручала самую грязную работу; можно было подумать: баба хочет меня доконать, чтобы я даже взглядом не посмел оскорбить ее достоинство. Тут я разобиделся, сделал мрачное лицо, думаю — надо держаться как мужчина: иду к ней и прошу дать мне расчет к обеденному часу; а она-то уже была на крючке.
Ну, тут и говорит мне она, как сейчас слышу: «Какой-такой расчет? Ты дурачок или притворяешься?» А я ей говорю так: «Мне никогда не правилась жизнь под кнутом. В поле мне случалось пришпоривать кобыл, но я их после этого угощал из рук стручками. Норовистым коням сахарку дают. Вы, ваша милость, начали ко мне придираться». А она мне тогда выдает в ответ: «Сразу видно, что у тебя в голове пусто, дурачок несчастный! Ты что — хочешь, чтобы я тебя на виду у всех на ручках носила? Пойдут разговоры…» А я стою на своем: «Не хочу я, чтобы вы меня на руках носили, но и под ноги себя класть не позволю!» И тут она мне такое говорит: «Я тебя под кровать к себе положу, возле ночного горшка». И подмигнула мне, изапела. Я выскочил за дверь, побежал на рынок, а в ширинке у меня горячо.
Вот уж чертова баба! Я почувствовал, что должен довести себя до изнеможения. Никогда столько не работал за всю свою жизнь; словно сам дьявол мне в тело вселился; пошел в одиночку разгрузил автофургон из Сезимбры, пошел помог девчонкам, с Ирией пересмеиваюсь, пускай вдова ревнует. К вечеру был полумертвый, весь потом изошел. Когда кончилась работа, свалился на топчан и вспомнил ту ночь, когда улегся в яслях, все думал, что же мне делать.
И тут я снова стал думать о жизни; мне всего лучше думается, когда я на спине лежу, брюхом кверху — такая привычка. Уснул, долго спал. Только открыл глаза, понять не могу, где это я, где же я, черт побери, потому что свет шел откуда-то мягкий, словно бы утренний; и тут я сел на топчане и сообразил, что заснул и проспал до зари.
И тут вдруг сдается мне, что на складе люди; оглядываюсь — никого, но ошибиться не мог, чувствую — есть здесь кто-то, не знаю сам как, но почувствовал, что кто-то еще, кроме меня, дышит этим воздухом, видит свет этот тусклый. «Кто тут?» Вижу, она стоит у двери на лестницу, палец прижала к губам, чтобы я не шумел; гляжу ей прямо в глаза, она свои опустила, говорю ей что-то, а сам дрожу, она молчит, а я ей тут, уже смелей: «Если вы, мол, рассчитаться со мной пришли, присели бы лучше на кровать». А она как в рот воды набрала!
Тогда кладу я eй, руку на плечо, ничего больше не сделал, не успел, потому что она птицей метнулась мне в объятия и сжала меня, аж ногтями мне в бока впилась, а сама плачет тихонько и, когда поцеловала меня — всем ртом, сказала только: «Не знаю, чем ты меня приворожил, бездельник!»
XIV
Четыре года спустя Розинда, вдова, повторила эти слова, обнаружив, что Зе Мигел состоит в связи с Ирией, которая уже успела выйти замуж и родить двоих детей. И на этот раз она произнесла их с ненавистью, в отчаянии, тем хриплым, полным горечи голосом, каким и теперь еще говорит с людьми. Нужно же было, думает она, приберегать себя для этого проклятого черного быка, который подарил ей самые прекрасные в ее жизни часы, а потом все разом отнял, променяв чистую и любящую женщину на ветреницу, на шлюху, готовую зубоскалить с первым встречным.
Что бы ни болтали злые языки, никогда Розинда, вдова, не отдавала своего тела, так чисто вымытого и такого игривого в минуты близости с Зе Мигелом, никому другому, разве что во сне, увиденном с закрытыми глазами, а то и с открытыми, потому что помыслами человека повелевает горячая кровь, данная ему от рождения.
Побалагурить и посмеяться она любила, как никто, а во взгляде и в танцующей поступи был даже вызов, но при всем том, «а ну-ка подайся назад, рыбка тебе не по зубам, сырьем не съешь, на сковородку не пойдет».
Она повторяла эту прибаутку бог знает сколько лет. И вдруг напоследок растаяла ради этого прохвоста, покрыла себя позором, не сумев утаить от людей, что оставляет ему местечко на своих льняных простынях. «Нет горя горше, чем слепота, когда нападет она человеку на глаза, и на руки, и на губы, и на все его тело, и ничего-то он не видит у себя под самым носом!»
Уж как она его одевала, как баловала — он при ней герцогом жил, прости господи! Двух бумажек по конто не пожалела, чтобы избавить его от военной службы, смотрела вполглаза на счета по расходам на автофургоны, которые он ей предъявлял, упросила людей влиятельных написать письма в его защиту в муниципалитет и в Лиссабон, когда его арестовали из-за каких-то политических бумаг, хотя кашу-то заварил его двоюродный брат Педро Лоуренсо; всегда, дура несчастная, была без ума от него, от бесстыдника, ему вся-то цена пять медяков, а она мужем собиралась назвать его в церкви (где же еще, помоги мне, господи!), в святилище богоматери Фатимской, словно там могли их поженить на веки вечные, словно там не достали бы их злые взгляды похабников, что насмехались над почти двадцатью годами разницы между ним и ею.
А когда она чехвостила его за неверность, у него, у черного быка, ни словечка раскаяния для нее не нашлось!
Но Розинда и до сих пор не знает, что именно она вывела Зе Мигела на тот путь, который он наметил себе в воображении, наслушавшись речей шоферов в то утро на пристани. Путь богатства и невезения, по которому повело его потом честолюбие и который завел его теперь в лабиринт, где за каждым поворотом — ловушка. Она — кто для меня она, если не Розинда, — самая главная женщина в моей жизни! Да, самая главная из всех, всем остальным до нее далеко; теперь-то я ем себя поедом, да от этого сыт не будешь, сколько бъг я ни раскаивался в том, как поступил, как поступил с нею и с самим собою, с нами обоими: все козыри жизни были у меня в руках, а я их выкинул, черт побери! Выкинул радиприхоти, от которой ни чести мне не было, ни радости, и не нашел для нее ни словечка раскаяния, а ведь был обязан ей всем самым красивым, что было у меня в жизни. Будь у меня в запасе слезы, я бы заплакал, и хорошо бгл, чтобы слезы были как расплавленный свинец, пусть бы лицо мне пометили, как смерть мне пометила лоб во время первой нашей с нею встречи, когда я был мальцом, и уже тогда у меня из головы винтик вылетел, всегда вылетает в самый худший момент. Все говорили, и не раз: я умею повернуть события себе на пользу, повернуть события и людей себе на пользу, но никто так и не заметил, что в худшие минуты у меня всегда вылетает винтик. Теперь вот ем себя поедом, да от этого сыт не будешь! Теперь вот выжидаю время, чтобы снова выехать на то шоссе, оно знает о моей жизни больше, чем я сам, потому что воспоминания теперь спутались и смешались, все путается в этом балагане кривых зеркал, как ты его называешь, теперь я сунулся в этот балаган, чтобы увидеть себя не таким, каков я есть, а может, именно таким, каков я есть, каким был всю жизнь, а они сумели воспользоваться этим и поставить меня на колени и теперь подбираются ко мне с пунтильей [80], чтобы добить последним ударом, ударом милосердия. Но тут они просчитались…
А может, и нет. Еще рано. Осталось полтора часа. Трусы — другое дело, трусы не умеют выбирать; но я-то умею, черт побери! Полтора часа иногда много значат. Да, полтора часа — это немало в решающие мгновения жизни.
В его усталом мозгу, замученном отчаянием, вдруг возникает еще одно воспоминание. Он вслушивается в бормотанье волн в темноте, идет рядом с любовницей, держа ее за руку, словно боится, что она убежит или что ее отнимет у него море и он не сможет взять ее с собой в это последнее путешествие; а перед глазами у него — та девчонка-поденщица, он видит и слышит ее, поденщицу-певунью, это было ночью, давным-давно, теперь не стоит вспоминать, сколько лет назад, потому что до новой встречи со смертью осталось самое большее полтора часа.
Он навсегда запомнит песню, которую она пела.
Это была поденщица из Кардигоса, среднего роста, смуглая. Ничего в ней не было красивого, разве что глаза, горящие, очень черные, и голос во время пения — словно ласковое журчанье, томное и печальное. Журчанье по тьме между холмами безмолвия.
Женщины, работавшие артелью на уборке пшеницы, попросили у управляющего разрешения устроить танцы. Танцы в темноте. Они привели гармониста, тощего и желчного дылду с лицом в веснушках; он надвигал шляпу на брови и играл «моды» [81] одну за другой по десятку подряд, не проявляя ни малейших признаков усталости. Играл и улыбался про себя — может, думал про все хорошее, что есть в жизни, — и, посасывая окурок углом почти беззубого рта, покачивал в такт музыке морковного цвета шевелюрой. Он-то и напомнил поденщицам в минуту перерыва между танцами, что стоит послушать девчонку из Кардигоса.
Мария Сарга заставила себя просить; товарки стали ее щекотать, и в конце концов она вышла к гармонисту. Пела сначала вполголоса, чтобы распеться, затем уже в полный голос спела куадру [82] про обманутую любовь и еще одну про тоску по родине — обе куадры ничем не отличались от множества других таких же, которые Зе Мигел слышал от поденщиц и батрачек, работавших артелями на пшеничных и рисовых полях.
Но вот Мария Сарга запрокинула голову и бросила свой вызов ночи:
Коли смерть была бы корыстной, Бедняки бы все потеряли!.. Богачи бы жизнь покупали, Чтобы лишь бедняки умирали.Зе Мигел до сих пор помнит, как потрясла его эта куадра. Помнит, как все упрашивали девчонку спеть еще раз и потом подпевали ей хором, вразнобой, каждый на свой лад. И помнит, что Мария Сарга пропела ее еще раз высоким звучным голосом, который был словно журчанье во тьме между холмами безмолвия:
«Богачи бы жизнь покупали, чтобы лишь бедняки умирали».
Он купил себе жизнь в смертельной опасности на рыбных трактах. (Но когда Розинда жалуется на неблагодарность сожителя, об этом она умалчивает.) Он купил ее себе в смертельной опасности на дорогах черного рынка и контрабанды, по которым вел машину без отдыха ночи и ночи напролет, а теперь утратит её через полтора часа самое большее, потому что другие поделили ее меж собою и отказываются дать ему отсрочку.
Смерть прибывает на колесах. Никто не знает, что думает он о встречах с нею. Он видел ее сотни раз. Мальчишкой в тележке, подаренной ему алдебаранским каретником, потом в голубом фургоне с желтой каймой по бокам, а потом на коварных извивах дорог, по которым перевозил рыбу, чтобы заработать премиальные у хозяев и славу среди шоферни, когда вести приходилось старые колымаги: при двадцати в час того и гляди развалится, а выжмешь сотню, вся осядет на колеса и выдержит гонку в паре со смертью, как конь без узды, как конь, впряженный в голубой фургон и погубивший его деда, старого Антонио Шестипалого. Во время этих гонок не было друзей: только поспевай погрузить закупленную рыбу; перед этим можно было покемарить в кабине, уткнувшись лицом в баранку, потом хватить стаканчик-другой виноградной водки, чтобы согреться и подбавить себе храбрости, а там давай жми на всю железку, давай гони во весь дух, срезай на поворотах, чтобы сократить путь, срезай и срезай, жми и жми, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! — и он несся, не глядя на маршрутный лист, почти наудачу, весь подавшись вперед, словно силой взгляда мог сладить со всеми трудностями пути, с угрозой заноса, с загадкой внезапных спусков — разгадка приходит позже, с опытом, когда вырабатывается бессознательное и безошибочное ощущение смертельной опасности; обгоняешь машины и повозки, и нет времени переключить указатели поворотов, гудишь, гудишь, вниз по зигзагам горной дороги, как в бреду, жми — убавь, жми — переключи, а волнуешься — волнуйся в одиночку, помощника нет, вдова экономит денежки на зарплате для помощника, шестьдесят — восемьдесят — сто, там сразу видно, у кого хватит силы в пальцах и в мужском его хозяйстве на то, чтобы справиться с баранкой, у кого не дрожат ноги от страха, а кто боится, тот пускай покупает собаку, тому незачем тратиться на водительские права; а глаза слипаются от желания спать, а пальцы ватные от усталости, а тело ноет от головокружительных скоростей, но нужно гнать вперед, сто — восемьдесят, восемьдесят — сто, сигналишь, сигналишь, словно взывая о помощи, либо пытаясь отвлечься, чтобы не свалиться на баранку и не загреметь невесть куда по какой-нибудь тропинке, где притаилась смерть, выжидая, когда ей удастся отправить на отдых водителя, мертвецки пьяного от желания спать, а другие машины наезжают сзади — вперед, вперед, кто приедет первым, получит премиальные, каждый за себя, выезжаешь на середину дороги, срезаешь на поворотах, лишая других возможности обгона, а хотят обогнать, пускай расплющатся, слетев вниз по откосу или врезавшись в дерево, потому что середина дороги принадлежит головной машине, а дорога узкая, на всех не хватает, а денег еще больше не хватает, так что приходится ставить на карту всю свою жизнь целиком, восемьдесят — сто, жми-жми, и всякому хочется прослыть чемпионом дорог среди прочих водителей автофургонов с рыбой, хотя на этих дорогах люди и теряют вкус к жизни — может, потому, что хотят жить получше, тут и эгоизм, и бравада, лишь бы привезти рыбу на рынок первым, чтобы пошла по цене повыше, сигналишь-сигналишь, но не слышишь сигналов тех, кто хочет тебя обогнать, ведь машины не могут пролететь по воздуху над остальными, а ты намеренно поднимаешь пыль, тучи пыли из-под колес, чтобы обволокла машины твоих товарищей, застя им дорогу, и чтобы они сбавили скорость и отстали еще больше; сумей продержаться на шоссе — или под откос со всеми потрохами; если за рулем парень с горячей кровью, то скорее ринется прямо в зубы к смерти, чем позволит, чтобы другие над ним насмехались, когда он входит в таверну, чтобы перекусить на скорую руку, выпить литр, спросить колоду карт и сыграть в суэку на деньги.
— Если нынче ночью ты выкинешь со мной ту же штуку, что вчера… Я с тобой говорю.
— В чем дело?
— Как бы не пришлось мне выпустить из тебя потроха вот этим ножом.
— У тебя что — дома есть запасная шкура?! На сколько пядей?
— Мужчин на пяди не мерят.
— Смотря кого и смотря кто сумеет снять мерку. С меня например — только портной и армейский сержант.
— Либо гробовщик, когда будет тебе гроб выбирать.
— Не будем про мертвых.
— А ты не делай того, что вчера. С товарищами так не поступают…
— Ты с каких пор этим делом занимаешься?!
— С тех самых, когда ты еще кобыл пас.
В разговор встревает Ромуалдо, подпускает шуточки, чтобы предотвратить взрыв. Сам смеется своим же шуткам, смеется тому, что слышит в ответ. На рыбных трактах он появился лет десять назад. Дважды попадал в катастрофу. Теперь всегда приезжает последним, говорит, лезть из кожи — не по нему, но на самом деле дрейфит: стал бояться дорог и машин. Тайным страхом.
Ромуалдо принимается тасовать карты, а Антонио Испанец между тем грызется с Зе Мигелом: сопляк, если хочет его надуть, пускай второй раз родится. Заказывают бутылку вина. Игра идет на деньги и на вино. Вино из тех, что ударяет в голову: больше пятнадцати градусов; его прозвали «задний ход»: после него многие, когда встанут, собираясь уйти, невольно пятятся.
Они уже покемарили в кабине, но недолго: как бы рыбачьи лодки с уловом не вернулись с моря еще до зари, тогда, стоит лишь зазеваться, другие машины опередят тебя часа на два, на три, осрамишься и перед хозяином, и перед всеми торговками-рыбницами, ожидающими товара.
Зе Ромуалдо сдает карты, в козырях — черви, снова раскуривает почти докуренную сигарету, морщится всем своим изможденным лицом, улыбается — у него хорошая игра; а Антонио Испанец засучивает рукава рубашки, чтобы Зе Мигел видел, какая у него татуировка на левой руке.
Они терпеть друг друга не могут из-за вдовы.
Испанец демонстрирует татуировку, чтобы напомнить партнеру о том, что в армии был штрафником: его на три года упекли в форх Элвас; но сейчас он хорохорится и грозится не столько потому, что намерен пустить в ход силу, сколько потому, что хочет нагнать страху на окружающих, хотя отчаянное и высокомерное выражение его голубых глаз и может испугать того, кто его не знает. Но Зе Мигел видит его насквозь: ему-то известно, сколько раз пытался Испанец добиться успеха у вдовы и сколько раз — счет им потерян — она выставляла его на улицу. Здоровенный мужлан, деревянный чурбан.
Таверна заполняется народом и дымом.
Шоферы, рыбаки, не вышедшие в море, бродяги и подсобники — все они собираются здесь, чтобы убить время или заморить червячка (вернее, опоить его). Здесь смеются, там дерутся, ссорятся, мирятся, спорят о способах выиграть в карты и о способах ловли сардин, обсуждают партию в бильярд и чью-то тайную интрижку. Все гуще становится круг зевак вокруг четырех игроков в суэку. В паре с Испанцем играет старый одноногий рыбак; ногу он потерял во время ловли в открытом море — акула ее отхватила, впилась зубами у самого колена. Держится еще молодцом хоть куда, делает вид, что исход игры его ничуть не трогает; лицо у него словно каменное, какие бы скверные карты к нему ни шли, хотя левая щека начинает у него заметно подергиваться, едва лишь он поплюет на пальцы — задолго до того, как сдадут карты, — и дергается, пока не начнутся расчеты, сам-то он все рассчитывает с дьявольской быстротой.
Свои карты он тщательно запоминает, чтобы не было непредвиденных неприятностей; при невезенье пошучивает; при удаче становится нестерпимо многословным, а когда на болельщиков и на игроков находит веселый стих, он только оттопыренными ушами шевелит, это у него означает смех. Память на карты у него нечеловеческая: он знает, кто с какой карты пошел и с какой пойдет. Старик играет в паре с Антонио Испанцем, тот нравится ему по виду — не только мощью и светлой мастью волос, почти белесых, но и блестящей голубизной глаз, оттенок которых непрерывно меняется в зависимости от настроения Антонио.
Зе Мигела старый рыбак побаивается, хотя тот и невеличка. Старик чувствует в этом парне скрытую силу, решительность, заметную и по твердой челюсти, и по жесткому взгляду; его не обманывает улыбка, которая у Зе Мигела всегда наготове для всех, кто с ним в ладах.
Старик заметил, что Антонио Испанец задирает парня, и предчувствует, что в любой момент дело может кончиться потасовкой. Они уже полгода, если не больше, поглядывают друг на друга косо. Старый рыбак Зе Мигела невысоко ставит, считает даже, что, если бы Зе Мигел дал Испанцу повод, они бы уже выяснили отношения — на кулаках. Трусоват он, Зе Мигел, думает старик не без удовлетворенности, хотя ни разу не видел, чтобы тот отвел глаза, встретив взгляд Испанца.
Нынче напряжение еще усилилось. Оба во власти взаимной ненависти, непрерывно вовлекающей их в спор. При каждом ходе противника Антонио Испанец передергивается, искоса бросает на Зе Мигела недоверчивый взгляд; Зе Мигел улыбается, не выпускает изо рта сигареты, притворно морщась от дыма, чтобы скрыть досаду. Свои карты он разложил на две стопки, то одну возьмет, поглядит, то схватит другую, сделает недовольную мину; держит карты на ладони, прикрывая согнутыми пальцами, и долго тянет с ходом, намеренно раздражая противника.
— Врач больного быстрей осмотрит.
— За игрой на разговаривают.
— Ты и святого из себя выведешь.
— В том случае, если святой не деревянный и ему не терпится проиграться.
— Еще поглядим, кто проиграется.
— Чего ждешь?
— Чтоб ты заткнулся. За игрой не разговаривают. У кого нервы слабые, тот пускай пасьянс раскладывает в одиночку. Зе Ромуалдо посмеивается и перешучивается с обоими. Они уже мерились силой рук в Вила-Франка, у него на глазах, побеждал всегда Испанец; но Зе Ромуалдо не сомневается, что любимчик Розинды еще поквитается с соперником. Он считает, что Зе Мигел — парень себе на уме, не зря у него улыбочка хитроватая, и пользуется раздражением Антонио, чтобы расстроить ему игру. Оба Зе, Мигел и Ромуалдо, уже выиграли три круга против одного, и Ромуалдо надеется, что на этот раз их противникам достанутся всего лишь две небольшие взятки.
Зе Мигел размышляет с безмятежным видом, поглядывает на стопку карт, что положил слева, ухмыляется стопке карт, что справа, и все постукивает по столешнице костяшками пальцев; вдруг поднимает руку вверх и с силой ударяет кулаком по столу — чтоб отвести дурной глаз, объясняет он болельщикам. Затем идет с козырей, швыряет на стол короля, делает вид, что пошел не с той карты, и досадливо морщится, но ждет, чтобы противник подобрал карты и сосчитал прикупы — тогда он обстреляет стол тузами.
— Ты корову себе купил, — говорит старый рыбак.
— Даже двух. Вон сколько прикупов, с пылу с жару, одна не свезет.
— За игрой не разговаривают.
— Твой партнер начал, я ответил. Скажи ему, чтобы играл молча.
Снова смотрят друг другу в глаза. Ромуалдо заказывает еще графинчик «заднего хода», опоражнивает свой стакан и снова раскуривает чинарик, зажатый в зубах, они у него как зубцы пилы — ни дать ни взять, оскалившийся волк. Антонио Испанец и старик взяли только первую взятку, в семнадцать очков, судья объявляет, что второй круг сыгран, записывает еще одно очко в пользу обоих Зе.
Присутствующие окружают их. Антонио оспаривает развитие партии, хочет пересмотреть подозрительный ход, но передумывает, потому что от раздражения он сам не свой и уже не понимает, в чем же, собственно, сомневается. В такие моменты Зе Мигел никогда ему не отвечает. Выждав время, цедит сквозь зубы:
— Вот бы мне выучиться так играть!
— Тебе и учиться незачем. У тебя есть корова.
— Две коровы, я же сказал. Купил двух коров, а сегодня куплю еще одну на те деньги, что унесу отсюда.
— Для невинных младенцев всякий ветер — попутный, — посмеивается старик.
— Хоть бы это нам помогло, — заключает Ромуалдо, в то время как Испанец торопливо сдает карты.
Пальцы у него дрожат. Зе Мигел сосредоточенно насвистывает фанданго, затем бросает:
— Пока мы не открыли карты, ставлю две бутылки пива. Кто мужчина, тот не откажется.
— Три, — отвечает Испанец досадливо.
— Договорились! Три бутылки пива и пять монет вдобавок.
— Заметано!
Зе Мигел берет свои карты, медленно делит на две стопки, как всегда, и улыбается с безразличным видом. Может, он и проиграет. Ставит на трефового туза, на этот раз выкладывает карту на столешницу мягко, осторожно. Противник следит за ним, стараясь понять выражение его лица. Зе Мигел велит принести сигарету, облизывает кончик с медлительностью знатока, сует в угол рта, но закурить не торопится.
Во тьме гудит сирена какого-то судна.
И сразу же всеобщее внимание отвлекается от игры; все пытаются разгадать, что означает этот сигнал, посланный с рыбачьей лодки на берег, но старик успокаивает собравшихся: не происходит ничего такого, что их касается. Улова можно ждать только к рассвету.
Около стойки разгораются страсти: кучка рыбаков отчаянно спорит, предмет спора — доля выручки, причитающаяся членам артели. Шкипера хотят получить побольше, хозяева не против, но считают, что разницу надо покрыть за счет общего заработка экипажа. Несколько человек предлагают самое святое средство, чтобы исцелить их от прожорливости: давайте останемся на берегу, пускай всю работу делают шкипера и хозяева, а после пусть все поделят между собой.
Шум действует на нервы Антонио Испанцу; в результате он пошел не с той карты, хочет взять ход обратно. Ромуалдо категорически против: игра идет на деньги, а деньги никому легко не даются, в карты играть — не коз пасти.
Зе Мигел закуривает сигарету. У него отсутствующий вид, может, это притворство, а может, он и в самом деле думает о чем-то другом, что больше его занимает.
Может, о счетах за бензин, которые он предъявляет вдове раз в две недели и в которых не все чисто, потому что он вошел в сговор со служащим бензоколонки, где заправляются автофургоны Розинды: Зе Мигел сделал вклад в банке, ему хочется, чтобы сумма росла побыстрее. Нет, не то. Может, о тайном союзе, который он заключил с Ирией — теперь у нее свое место на рынке, и он подбрасывает ей лишней рыбы: всегда можно недовесить, не заметить ошибки, сплутовать при расчете, потому что ему приходится две трети разницы, а на зарплате да на премиальных далеко не уедешь. Нет, не то. Может, о последнем своем разговоре со вдовой, когда она сказала, что собирается купить малый автофургон, чтобы развозить рыбу по деревням Трас-ос-Монтес, и предложила ему войти в долю — возьмется он вести торговлю? Или приобретет в рассрочку новенькую машину и возьмет все на себя одного? Нет, не то. Может, он думает обо всем этом сразу, а еще о том, как бы разозлить Антонио Испанца. Антонио Испанец дал маху, пошел с трефовой тройки, а мог выдать малый козырь, как-никак пятнадцать очков.
— Пускай пойдет с другой карты. В первый раз ведь…
— Игра есть игра, — наставительно говорит Зе Ромуалдо, не понимая намерений Зе Мигела.
Зе Мигел знает, что Испанец не принимает поблажек, но потому-то и предлагает дать ему поблажку — пускай все видят, на ком лежит вина за все, что может произойти между ними обоими в любое время.
— Мне потачки не нужны, раз ход сделан — значит, сделан, — обрывает Антонио голосом, режущим, как наточенное лезвие.
— Я-то в этом ничего худого не вижу и потачкой не считаю. Мне все равно… Если проиграю ставку, не обеднею. Не такой уж безденежный. Клади свою карту.
— Сказано — нет. Дважды одно и то же не повторяю.
— Твое дело, — заключает Зе Мигел, выпуская неторопливо колечки дыма.
Его противник проиграл два очка и нервничает. Заказывает три порции пива, швыряет монету в пять эскудо на стол перед внуком Антонио Шестипалого и чехвостит старика — не сделай он такую глупость, не выложи козырный туз раньше времени, можно было бы взять Ромуалдо голыми руками. Шико Балайо, старый рыбак, не остается в долгу, отвечает едко и, пересчитав карты, отодвигает колоду: он здесь не для того, чтобы грызться с друзьями.
Болельщики тоже взбудоражены, их так и подмывает спровоцировать игроков на что-то необычное, но что именно — могут решить только Зе Мигел и Испанец, и игрокам передается возбуждение окружающих.
Зе Мигел сдает карты спокойно (он один знает, что делается у него внутри), одну за другой, веером, перевернул козырную, как только Испанец разбил колоду, уже известно, что в козырях черви, и, в то время как остальные торопливо собирают карты, каждый на свой лад, Зе Мигел отрывается от игры, чтобы стряхнуть кучку пепла с кончика сигареты, а затем снова сует ее в угол рта и пожевывает в подражание сеньору Пруденсио, у которого он подглядел эту привычку.
— Четыре пива и пять мильрейсов! — предлагает Антонио.
Зе Мигел делает вид, что не слышит или не обращает внимания, и продолжает сдавать потихоньку-полегоньку, карту одному, карту второму, не торопясь, облизывая кончик указательного пальца и потирая им о большой, а левым глазом косится в сторону Испанца, ждет от него внезапной вспышки, хотя и не знает, в чем она выразится. Три бутылки пива подвинул поближе к себе, чтобы противник не забыл о своем проигрыше раньше времени; каждое движение продумано, оно часть маневра, который Зе Мигел разрабатывает флегматично и с угрюмым видом. Антонио Испанец раздражается еще сильнее. Потирает себе щеки, дергает кепку за козырек и принимает решение:
— Играю с тобой в последний раз.
— С чего это?! Не понимаю, с чего это.
— Мое дело. С тобой больше не играю.
— Мы ведь играем для развлечения. Чтобы время скоротать…
— Ты святого из себя выведешь. Копаешься, тянешь душу.
— За нами никто не гонится, и нас никто не ждет.
— Мне такая игра не по вкусу.
— Тебе лучше знать, что тебе подходит. Не хочешь больше, ищи себе других партнеров. Партнеров всегда хватает…
Испанец уже потянулся схватить его за рукав и встряхнуть, но сдержался. Повторяет ставку:
— Пока не заглянули в карты — четыре пива и пять мильрейсов.
Прикрывает свои карты лапищей, глядит в лицо противнику и ждет. У Зе Мигела в голове мешанина из наплывающих одновременно решений, но он делает вид перед самим собой, что никаких таких решений нет, гасит сигарету о каблук и сует себе за ухо.
— Я с тобой говорю! — ревет Антонио.
— Ты же сказал, что со мной играть не будешь… К чему тогда объявлять ставку?
— Чтоб сквитаться!.. Кто выиграет, пускай сквитается с проигравшими.
Зе Мигел кончиками пальцев барабанит по своим картам.
— Ты сказал — восемь бутылок пива…
— Я сказал — четыре.
— Сказал — четыре, но дважды, дважды четыре — восемь, если я не разучился считать. Или не восемь?!
Антонио Испанец стискивает ему руку, перехватив ее выше локтя. Вонзает ногти в руку противника и стискивает ее. Хочет сказать что-то, но чувствует, что начнет заикаться, если раскроет рот. Зе Мигел накрывает его подрагивающую от гнева руку своей спокойной ладонью.
— Мы же друзья, черт побери! Я считаю, что мы друзья… — Он делает вид, что побаивается противника, ему нужно утихомирить его, чтобы избежать поражения на глазах у всех.
— Не нужно мне твоей дружбы, — вспыхивает Испанец.
— А я все-таки считаю, что ты мой друг, хочешь ты того или нет. Потому что если бы я думал, что мы — не друзья…
Одним прыжком Зе Мигел перескакивает через скамью; теперь он стоит посреди таверны. Между обоими противниками образуется просвет — просвет в толпе и в гуле голосов. Зе Мигел приступает к объяснению: когда нужно назвать вещи своими именами, он не колеблется:
— Если б я думал, что я тебе не друг, дело пришлось бы решать без проволочек. Я малорослый, знаю, по сравнению с тобой я малорослый, но что ты мне можешь сделать — проглотишь? Даже если проглотишь, придется тебе выпустить меня из твоей утробы на волю. А на воле я пока еще человек, черт побери!
— Хочешь, попробуем?
Зе Ромуалдо становится между ними обоими, к нему присоединяется Балайо и другие рыбаки, знающие обоих шоферов. В ярости Испанец бросается на живой барьер, отделяющий его от Зе Мигела, выкрикивает угрозы, вытаращив голубые глаза, горящие злостью, а Зе Мигел между тем из-за уха достает недокуренную сигарету, сует в рот, и пальцы у него не дрожат. Он владеет собой. В ту пору я мог лопаться от бешенства, но притворяться, что спокоен как камень. Хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! Испанцу напоминают, что два товарища не должны ссориться из-за карт, так не годится, шесть сотен дьяволов, так не годится!
Длинный немного успокаивается; гнев его стихает.
Но он все-таки напоминает Зе Мигелу, что прошлой ночью тот чуть не сбросил его под откос, когда сделал вид, что собирается пропустить машину Испанца, а сам взял налево, и Испанец чуть не врезался в его автофургон, затормозив на полном ходу, чтобы не расплющиться у подножия Собрала.
Зе Мигел пожимает плечами.
— Померяйтесь, у кого больше силы в руке! — предлагает Зе Ромуалдо.
— Десять бутылок пива! — кричит Испанец, перекрывая общий гул. — Меряемся трижды, ставка — десять бутылок!
Вила-Франка, как зовут Зе Мигела здесь, в Пенише, подошел к стойке за новой сигаретой. Оттуда он отвечает на вызов:
— Сегодня с тебя не тот спрос, уж очень ты распалился. Я-то считаю, в мужчине главное — не сила руки или обеих рук, а сила всего тела. Все тело — вот что важно. Не будь мы товарищами, мне бы пришлось сейчас спросить с тебя по-настоящему.
— Когда захочешь, — орет Испанец.
— Не когда захочу, а когда нужно будет. Когда нужно будет, тогда и перейдем к делу. Но сейчас ты не в форме, Антонио. Не тот случай, чтобы в драку лезть.
— Померяйтесь силой рук, — настаивает Ромуалдо.
— Готов проиграть десять бутылок! — кричит Антонио Испанец в приступе бравады: он чувствует, что противник сдал позиции.
— Ты уже проиграл три в карты и мог бы проиграть еще пять, — отвечает Вила-Франка.
— А сейчас ставлю десять!
— Меряться со мной силой рук — не бог весть какое дело, Тойно! Ты почти вдвое выше меня. Осилишь меня в любом случае! Но если тебе охота радоваться победе, я кусать себе локти не буду. Левая рука против левой руки. Три раза, как ты сказал. Пять бутылок пива за каждый раз!
Испанец требует, чтобы он повторил; он повторяет.
Люди, разделявшие их живым барьером, расходятся. Зе Мигел засучивает рукава, шевелит пальцами, выбрасывает вперед кулак, как перед рукопашной, затем подходит к двери, вглядывается в ночное небо с деланным интересом и возвращается к столу, где его ждет Испанец, уже упершись локтем в замызганную столешницу.
— Пятнадцать бутылок пива! Я готов проиграть пятнадцать бутылок пива, лишь бы ты понял, что я тебе друг.
— За игрой не разговаривают.
— Мы еще не начали.
Зе Мигел сразу сообразил, что в этом состязании его малый рост — преимущество, он слегка пригибается, шаркает подошвами по цементному полу, проверяя, не соскользнут ли ноги с точки упора, сгибает их в коленях, сгибает дважды, замечает, что рука противника подрагивает; резко подавшись вперед, пригибается, упирается локтем в стол и хватает Антонио Испанца за руку. Тот глубоко вдыхает воздух и улыбается, стискивает пальцы соперника в своих, словно в клещах, стараясь лишить их подвижности, и напрягает мышцы в ожидании, пока Ромуалдо сосчитает до трех.
— Один!.. Один с половиной!.. Два!.. Два с половиной!.. Два с половиной!..
Выпирают напрягшиеся бицепсы, противники ждут последнее го слова. Сейчас Зе Ромуалдо на стороне Испанца. Некоторое время он вглядывается в обоих, пытаясь угадать, насколько силен каждый из них, и вдруг выкрикивает «три!» — сигнал начала. Оба выпрямляются, багровеют, стонут, пригибают голову, Испанцу понемногу удается сдвинуть с места руку противника. Зе Мигел поддается, потом пытается исправить положение внезапным рывком, но понимает, что сила на стороне Испанца, и прекращает сопротивление. Антонио Испанец трижды пригибает кулак Зе Мигела, так что тот ударяется о столешницу костяшками пальцев.
Присутствующие дают выход возбуждению в одновременном выкрике.
— Пять бутылок пива для Испанца! — объявляет судья.
Зе Мигел улыбается противнику, вытирает руку платком, закрывает глаза, набирает в грудь воздуху. Снова хватает лапищу, которую Испанец уже поднял вверх. Сжимает ее, стискивает, напрягается всем телом, едва Ромуалдо произносит: «три», пружинит плечо, кости его скрипят — он слышит этот скрип, такое чувство, будто мышцы вот-вот лопнут, и неожиданным толчком укладывает на столешницу руку противника. Испанец не сознает, что произошло, ему кажется, что его обманули, но он сдерживается.
— Пять бутылок пива для Зе Мигела! — снова возглашает судья, но на этот раз без восторга. Внук Антонио Шестипалого замечает разницу в тоне.
— Ничья, — объясняет он в свою очередь. — Последняя ставка — пять бутылок.
— Пять бутылок и десять эскудо! — поправляет соперник.
— Согласен!
Кружок раздвигается, люди словно боятся ввязываться в спор. Большинство стало на сторону Зе Мигела: он меньше ростом, соперник чуть не вдвое выше его, и всех поразила легкость, с которой Зе Мигел принял вызов Длинного. И к тому же Зе Мигел часто ставит вино для всей компании, умеет завоевывать дружбу, открытая душа, это уж точно, от него людям никакого зла — так считают рыбаки, посещающие таверну Горемыки. Вила-Франка — свой парень; никого не касается, что там происходит на дорогах, на дорогах все позволено, а он умеет поделиться заработанными деньгами с теми, кто ему помогает. Поэтому и автофургон его быстрее загрузят, и рыбу подкинут получше, и льдом переложат тщательнее, чтобы он довез ее свежей до места назначения.
Антонио Испанец еще не уразумел, что произошло. Знает, что проиграл; знает, что проиграл пять бутылок пива, и, самое скверное, осознает, что победил его сопляк, пацан, которого торговки рыбой зовут Вдовушкин Малец. Антонио Испанец полон решимости, но его мучит опасение. Сам не знает, чего опасается и почему; его беспокоит исход последнего раунда, а Зе Мигел улыбается болельщикам, лицо у него равнодушное, почти довольное.
— Ну, давайте! — объявляет Ромуалдо, тоже раздраженный.
Оба садятся в исходную позицию, упираются ногами, как удобнее каждому, Испанец раздвинул свои пошире — для него стол низковат; собравшиеся следят за каждым их жестом, подбадривают взглядом, и все ждут последнего слова судьи, а тот тянет: два, два с половиной, два и три четверти, три!
В приземистом теле Зе Мигела рождается спокойная ярость — он намерен победить, и болельщики угадывают это по выгибу спины, внезапно напружинившейся жестко и эластично, самозабвенно и необоримо, и точно так же напряглись мускулы руки, выпирающие и подрагивающие, противостоящие напору противника, который потерял самообладание от желания победить, почти ошалел от гнева, того и гляди, закричит. Зе Мигел сдерживает порыв соперника, проверяет его силы, чуть раскачивая руку, прикидывает в уме, выжидает миг, когда решимость изменит Испанцу, но чувствует, что пока не время, сдерживается, пробует сделать быстрый рывок, Испанец скрипит зубами и подхлестывает себя приглушенным ревом, Зе Мигел наращивает силу медленно, очень медленно, впивается ему тремя пальцами в тыльную сторону руки, чувствует, что тот поддается на миг, пора! — думает он молниеносно, собирается с силами, вкладывает их без остатка в одно-единственное движение, лицо Испанца искажается, и рука его падает на стол.
Зе Мигел заставляет его трижды стукнуться о столешницу костяшками пальцев. Испанец вырывается и, растолкав зрителей, без единого слова выскакивает за дверь.
Зе Мигел просит принести пять бутылок пива, пусть их запишут за Испанцем, придвигает три, выигранные в карты, и начинает открывать одну за другой, сдирая крышки о край скамьи; затем берет с полки кружку и льет в нее пиво.
— Пейте, кто хочет. Мужчин на пяди не мерят.
А теперь эта рука у него болит, крепкая рука, снискавшая ему такую славу среди водителей автофургонов в те часы, когда он ждал возвращения рыбацких лодок и баркасов, а потом несся как угорелый по этим дорогам, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! Немало ящиков пива выпито мной и всеми, кого я угощал, за счет побед, что одержала моя левая рука, та самая, которая сейчас ноет и чуточку тяжелее, чем правая, и пальцы которой, почти как боль, ощущают подспудную угрозу крадущейся исподволь капельки крови, медлительной и неуклонной, она может принести ему смерть в один миг. Он и боится, и хочет, чтобы так было, хотя предпочел бы врезаться в белую стену на скорости свыше ста.
Ему снова вспоминается песня Марии Сарги:
Коли смерть была бы корыстной, Бедняки бы все потеряли!.. Богачи бы жизнь покупали, Чтобы лишь бедняки умирали.Может, кто-нибудь захочет купить его жизнь?!
XV
Сказать по правде, он и сам не купил бы.
Теперь он даже не сможет поторговаться со смертью, предложить ей полновесную монету, разве что смутное обещание новой войны, еще похлеще той, я человек не для всякого времени, уже доказано, я гожусь только в те периоды, когда каждый устраивает свою жизнь, не беспокоясь о других, но ему не понять, даже если б ему разжевали и в рот положили, что сама смерть стала корыстной в мире, задубевшем от отчуждения.
Неторопливой и послушной стала она для тех, кто даже во время войны умеет купить себе местечко в тылу.
Зе Мигелу не дано знать многие тайны своей драмы. Он даже не подозревает, что песнь Марии Сарги стара, ей почти век, это наивная песнь былого времени, более простого, а теперь все служит предметом купли-продажи — все, кроме совести тех людей, которые яростно отказываются от всяких сделок. Зе Мигел не подозревает, что выбрал путь сделок. А может, теперь уже догадывается, но поздно. Его ущербное будущее — из времен минувших, существующих за пределами реального времени, которое принадлежит людям, по-настоящему человечным.
Жизнь покупается на пограничной черте, за которой — абсурд. Зе Мигелу это неизвестно — может, потому, что его монета не поднялась в цене за счет ажио [83] великих заговоров.
Ему показалось, что он у цели. Более того, он почувствовал, что оказался в кругу неприкосновенных, так и не поняв, что они допускали его в свой круг, пока им было на пользу неистовое честолюбие этого первобытного человека, служившего им верой и правдой.
Этот сложный и прихотливый разряд людей разборчив, чертовски разборчив, и рано или поздно, но непременно выталкивает из своей среды тех, кто не принадлежит к ней, не подходит или не приносит пользы. Зе Мигел больше не приносит пользы. Он мешает. Износился и мешает. Он — чужеродное тело, он — лишний. Общение с ним неприятно. Он стал грубым, у него оскорбительный тон.
Но его будущее принадлежит ему. Они оставили за ним право распорядиться собственным будущим, что не всем позволено; они дают ему во всей полноте и во всей мере ответственности право решить, какой смертью он умрет, если не предпочтет сесть на скамью подсудимых по обвинению в злостном банкротстве — в надежде на поблажку ввиду наличия смягчающих обстоятельств.
Но он уже сделал выбор. Всегда был человеком решительным.
Если к нему смерть прибывает на колесах, то у него есть «феррари», как раз для такого рода путешествия — прекрасного путешествия владетельного сеньора, снедаемого тревогами. По крайней мере по отношению к нему смерть не проявляет корыстолюбия. Дается ему сполна, почти не противясь, без рекомендательных писем и чеков на предъявителя, а ему самому в свое время немало всякого такого понадобилось, чтобы покупать разрешение на проезд и благосклонность влиятельных лиц, когда он занимался контрабандой и черным рынком.
Он всегда умел точно определить цену оказанных ему услуг. Многие из тех, кому он платил, теперь обвиняют его в расточительстве. И припоминают случаи, иллюстрирующие их рассказы, забывая о том, что поощряли его сумасбродства, может быть, потому, что его сметливость и богатство воображения восхищали их — когда были направлены на удовлетворение их прихотей.
Сам доктор Каскильо до Вале, которого Зе Мигел прозвал своим транзистором, иронически вздергивает бровь, когда вспоминает историю про полдюжины раков-отшельников: Вдовушкин Малец — кличка Зе Мигела в этих краях — послал за ними грузовик в Сан-Мартиньо-до-Порто, когда супруга лейтенанта Жулио Рибейро была беременна своей первой, Мито, и муж, а также друзья его опасались, что, если не удовлетворить какое-то желание доны Эмилиньи, это скажется пагубно на состоянии высокородного плода.
Зе Мигел знал, сколь ценны знаки благоволения лейтенанта, и платил за них не скупясь.
— Потратил конто на пустяки, — заключает словоохотливый юрист, благосклонно делясь с друзьями своими сведениями.
— Поговаривают, что полтора: за ними пришлось послать краболовов в бухту, и хозяин запросил по сто пятьдесят эскудо за штуку. Вот и считайте.
— Воистину князь эпохи Возрождения под личиной шофера. Дона Эмилинья таких денег не стоила.
— А тем более Мито, которая уродилась нудной привередой, — подводит итог Тараканчик из Управления финансов; голос у него писклявый — возможно, потому, что Тараканчик похож во всем на одну свою тетку с отцовской стороны, неприятнейшую особу с гадючьим языком: можно подумать, что дух ее поселился в долговязом теле племянника-чиновника.
Если бы Зе Мигел увидел, как они сидят в клубной библиотеке и упиваются мурлыканьем, тлетворным от избытка яда, он сказал бы, что ведьмы расчесывают волосы, потому что, хотя с языка у них ливмя льет злословие, они не скупятся на фальшивые улыбки в адрес тех, кто к ним подходит, сияют как солнышко при виде лейтенанта, когда тот, в высоких сапогах и со стеком в руке, направляется к ним, дабы рассказать кучу небылиц из времен своей службы в кавалерийской части в Торрес-Новас, где он оставил по себе славу враля и забияки.
Перемывают банкроту косточки, рисуя во всех подробностях картину суда: сущая круговерть, заимодавцы оттесняют друг друга, каждый норовит урвать кус, причем у многих не будет ни векселей, ни даже расписок; а Руй Диого Релвас, Штопор, у всех на виду будет дирижировать этим ростовщичьим духовым оркестром. Адвоката считают сообщником Зе Мигела, хотя те, кто так думает, тоже были его сообщниками; адвокат пытается обелить себя, ссылается на уголовный кодекс, он-де при всех обстоятельствах чтил его, как Священное писание. Есть слушок, что на него собираются подать жалобу в адвокатскую коллегию, кое-кто уже потирает руки от радости, кумушки счеты сводят — правда наружу выходит, правда — она как оливковое масло: всегда всплывет на поверхность; но простаки забывают, что оливковое масло бывает разного сорта, в данном случае оно грязное, зловонное, с горьким привкусом.
— Я помогал ему вести деловые переговоры, только и всего.
— Говорят, на суде он расскажет, сколько кому давал, какие делишки обделывал во время войны и кто его при этом покрывал, — уверяет Тараканчик; при столь изнеженном голосе цвет лица у него как у цыгана.
— А как он докажет, что это не инсинуация? — беспокоится Рибейро, чувствуя, что его репутация честною служаки под угрозой.
— Он надавал столько чеков, а чеки умеют говорить, как люди…
— И он замарает всех, кто с ним якшался, даже если ничего не докажет, это ясно.
— Сколько пошло пересудов по городу… Треплют почем зря имена порядочных людей, никого не щадят в угоду злословию и политическим страстям.
— Ну, со сплетниками-то я разделаюсь, укорочу им язычки, долго ждать не придется, ручаюсь!
— Клевета всегда какой-нибудь след да оставит, любезный друг.
Чувствительные нервы лейтенанта Рибейро вибрируют от циничного воркования Тараканчика, которому помог сделать карьеру его крестный, демократ из демократов; теперь Тараканчик держится от него подальше в чаянье, что это поможет ему продвинуться по службе; лейтенант Рибейро рассекает воздух стеком, сыплет проклятиями, смотрит в глаза Тараканчику давящим взглядом, своим знаменитым взглядом, неумолимым и холодным, наводящим страх на всякого, кто его перехватит.
Но вот с улицы послышалось цоканье подков — может, это Руй Диого на белом коне? — гневный голос Жулио Рибейро смолкает, оба его собеседника оцепенели, даже побледнели немного. Любопытно, вспоминается ли кому-нибудь из троих старая заезженная кляча?! Кожа да кости, вся в язвах и болячках, та, которую Зе Мигел купил как-то раз, чтобы угостить своих друзей пивом?!
Время в счет не идет. В счет идет то, что остается в нашей жизни. Все то, что остается в жизни, наделено даром присутствия, даже если существует лишь в чьей-то памяти.
Земля выжжена до того, что, кажется, вот-вот растрескается. Усадьба стоит на взгорке, откуда открывается вид на реку с заливными лугами по левому берегу и виноградниками и плодовыми садами по правому; но и здесь безветрие, листочек не шевельнется на вековом дереве, затеняющем двор. Сотрапезников спасает беседка из виноградных лоз, вьющихся по стене винного погреба и по металлическим подпоркам с двумя короткими перекладинами, через которые перекинуты почерневшие от времени шесты, увитые цветущим вьюнком.
На обед приглашены только мужчины, так им свободнее: можно говорить о чем угодно, не выбирая ни темы, ни слов; когда пьешь, никто не пристает с уговорами, и все завершится, как обычно, разговорами про девок, похабными историями и, может, ночной поездкой в Лиссабон, в которой примут участие самые заядлые ненавистники семейного покоя. Да уж известно, скажут дамы, беседуя в своем кругу, эти обеды у Мигела Богача всегда кончаются поездками по всяким непотребным местам.
На столе есть все, чего только могут пожелать любители поесть хорошо, а выпить — еще лучше.
Восемь мерланов из Сезимбры, свежевыловленные, колоссальные, с гарниром из яиц вкрутую, картофеля и зелени, обильно приправленные перцем, обильно политые оливковым маслом, все на этом столе в изобилии, а особенно одно авейрасское винцо, посмотришь на свет — легкое, нечто вроде кларета, а выпьешь — и с катушек долой, пятнадцать градусов, а то и больше, можно считать, все тридцать, так быстро возносит оно того, кто пьет, на седьмое небо выпивох, когда слова вязнут во рту, теряют слоги и в конце концов распадаются в вихревом круговращенье, непреодолимом, как при катанье по русским горам. А следом за мерланами уже подают благоухающее блюдо из свиных ушей и ножек с белой фасолью, и подливка такая, что хоть ложкой хлебай: морковь и мелко нарезанная петрушка, прелесть, как говорит глава муниципального совета сеньор доктор Карвальо до О, он уже несколько раз поминал Пантагрюэля и ручается, что повар получит золотую медаль, когда во время ярмарки будет проводиться конкурс блюд национальной кухни. Нигде в Европе не готовят так вкусно, как у нас, уж он-то поездил, знает, что говорит.
В промежутках, чтобы челюсти не соскучились без дела, блюда с креветками и тщательно прожаренными угрями, черные маслины, мелконарубленная курица с кайенским перцем, сардины в маринаде и прочие заполнители для брюха, как замечает некий лиссабонский сеньор, адвокат и старый исполнитель фадо, поющий обычно под аккомпанемент гитары и виолы, но неспособный спеть и корридо в состоянии слезливого опьянения, которое он неукоснительно приближает, осушая один за другим фужеры этого самого тридцатиградусного кларетика.
Пунцовая от счастья и тщеславия физиономия Зе Мигела излучает праздничное сияние в десять тысяч свечей, он острит, хохочет, хлопает в ладоши, призывая управителя — чтоб на столе всего хватало, теперь у него в доме всего хватает, война в самом разгаре, еще вчера бомбили Роттердам, колонна его грузовиков курсирует днем и ночью, сахар, треска, рис стали дефицитом, ему это все нипочем — вопрос денег: когда есть кредиточки, с голоду не помрешь.
Здесь собрались его друзья. Друзей у него хватает, черт побери!
Он знает цену каждому из них. Некоторые обходятся ему недешево, что правда, то правда, но услуг они оказывают немало, и услуги стоящие: с их помощью он получил это имение в Монтес и аренду на земельные угодья в Лезирии, так что возвратился хозяином туда, откуда бежал табунщиком; у него есть земли под пшеницей и под рисом, стада крупного и мелкого скота, вороной жеребец и гнедая кобыла с тавром Релвасов, на них он разъезжает по городку — по делам и просто ради прогулки, сейчас норовит припрячь к ним еще одну, чалую; а около Тежо три большие хозяйственные постройки, в одной из них, в конюшне, он любит проводить ночи и размышлять.
У него сохранилась привычка размышлять, лежа в яслях: вокруг запах соломы, подстилок для скота — едкий и возбуждающий запах, напоминающий Зе Мигелу о прошлом и как бы гарантирующий, что он на правильном пути и богатство его растет, хотя он не знает, во сколько оно оценивается. Приходно-расходная книга ему не нужна. Ее заменяет ему карман, текущий счет в двух банках — ему даже предлагают ссуды, — а еще его приобретения и аренды, пять грузовиков, всего вместе конто на тысячу, по его подсчетам; но он не знает, какова сумма его долгов.
Когда-нибудь узнает.
В данный момент мысли Зе Мигела заняты обедом, который он дает пятнадцати своим друзьям, за столом все — друзья. Банда мерзавцев! Высосали меня до мозга костей, а теперь вышвырнули на свалку, адвокаты и землевладельцы, представители власти и врачи, Тараканчик из Управления финансов, местные, сантаренские, лиссабонские, одни — англофилы, другие — германофилы, но здесь не говорят ни о политике, ни о ходе войны, все это проблемы другого времени, об этом попросил от имени хозяина доктор Каскильо до Вале, когда все сели за стол, «ешьте и пейте, друзья мои, inter amicos [84] не должно быть недомолвок, а тем более праздных споров (боже упаси! — ввернул ветеринар), дискуссий и взаимных подкалываний, даже легких, из-за чужих раздоров, которые не касаются нас в этот час безмятежного застолья, приятного, возвышенного, благородного, я сказал — благородного, и совершенно правильно, потому что еще Овидий, несравненный поэт, сказал в бессмертных строках, что donee eris felix, multos numerabis amicos, то есть в переводе „покуда будешь ты счастлив, у тебя будет много друзей“, а этот миг — миг счастья в сей тихой обители нашего неподражаемого Зе Мигела, человека, который с господней помощью создал себя сам».
И тут же, дабы сменить регистр после торжественной части речи, затянутой не к месту, выложил два новейших анекдота: один про попугая, другой про испанку, которая приехала в Лиссабон, чтобы накупить браслетов, — после чего немедленно развязались языки у всех сотрапезников, кроме доктора Карвальо до О, улыбающегося, но сдержанного в соответствии со своим положением самого сановного лица среди местных политических заправил.
Из семи своих соратников по достославной компании, прозванной содружеством «гладиаторов», лихие выходки каковой составляют предмет гордости, изумления и возмущения городка, Зе Мигел пригласил только обоих сыновей покойного хозяина Аугусто, прозванного Племенным Производителем и скончавшегося от голода, на который он сам себя обрек, когда его препроводили в суд за то, что он вцепился зубами в ухо цыгана-насмешника, обозвавшего клячей его коня по кличке Недреманный.
Братья явились оба в севильских костюмах: расшитая шнуром короткая куртка и низкая черная шляпа — и пока еще слова не сказали, раскрывали рот, только чтобы вкусить пиршественных яств, а едоки они знаменитые и неутомимые. Еще они знают толк в лошадях, женщинах и вине.
Однако ж, как шепнул на ухо братец Жозе Луис братцу Мануэлу Педро, сегодняшняя пирушка уж больно тонная и церемонная, да и Мануэлу Педро не по себе среди всех этих докторов и превосходительств.
Хозяин посадил их порознь и просил соблюдать благопристойность, пообещав, что устроит им пирушку в тесном кругу в Лезирии, где и сам он, и братья арендуют земли. Братья подавлены, едят молча, глаза и челюсти заняты тем, что на столе, оба склонились над тарелками и жадно глотают, кусают, вгрызаются, почти не пережевывают, но оба покуда выпили всего по рюмке, может, потому, что доктор Леонардо подзуживает Жозе Луиса в расчете подпоить его.
Всадники Апокалипсиса, как их прозвали еще мальчишками, сдерживаются и ворчат сквозь зубы. Ветеринара они недолюбливают за то, что он отказался принять на бойню четырех быков из их стада; выжидают удобного случая, чтобы свести счеты — за ними не пропадет, — но сегодня клялись и божились, что не нанесут обиды Зе Мигелу, другу и партнеру по махинациям с контрабандными пряностями. Хотят доказать, что не зря они дворянских кровей со стороны матери, каковая доводится внучатной племянницей в восьмом колене некоему графу Сендуфе-и-Бенсафрину, который околачивался в Гвинее во времена вывоза негров-рабов в Бразилию.
Тем не менее молва о подвигах братьев уже дошла до слуха гостей по вине Тараканчика, который пытается войти в милость к одному сантаренскому сановнику, обладающему влиянием на Террейро-до-Пасо [85].
Тараканчик собирается участвовать в конкурсе на место главного казначея Финансового управления, нацелился на это место, так как нужно же прокормить детей, и пытается рассказать влиятельному сантаренцу историю о том, как женился Пупа — прозвище, которое дали герою истории «гладиаторы», дабы его позлить.
Пупа к Зе Мигелу не приехал, жена держит его на коротком поводке, жалуется, что у нее начинается резь в животе при одной мысли о развлечениях, коим предавался ее муженек в компании этих разбойников, «да, опасных разбойников, которые сидели бы в тюрьме, если бы мы жили в цивилизованной стране», весьма самонадеянная сеньора с высшим образованием, специальность — геология, сложная наука; как утверждает Пупа, с ее помощью можно выяснить возраст и свойства земли, это служит предметом шуток Жозе Луиса, он часто спрашивает приятеля, как определяется возраст земли, по зубам, что ли, как возраст животных?
Тараканчик перегнулся на скамье, придвинул голову к уху Мануэла Педро и подзадоривает его, уговаривая рассказать сеньору доктору про потеху, которую устроили «гладиаторы» в ночь свадьбы Пупы; он уже успел нашептать на ухо сантаренцу историю про то, как младший сын Племенного Производителя выжег свое имя на спине у девицы, приведенной папашей.
— Не отмалчивайтесь, Мануэл Педро! Вы же все и затеяли, все ваши друзья говорят; никто не знает лучше вас, что там было.
— Хмельные забавы! — роняет землевладелец, не отрывая глаз от тарелки со второй порцией мерлана, стремительно убывающей.
— Так сам Нерон не забавлялся, да расскажите же!
— Вы знаете всю историю, сами и рассказывайте, сеньор. У вас смешно получается. Я человек простой, от земли, еле умею подписываться.
Заупрямившись, Мануэл Педро тычет вилкой в гарнир из зелени — его разозлило упоминание о Нероне, он решил, что Тараканчик имеет в виду одного типа из их города, заслужившего эту недоброй памяти кличку: в одной истории с убийством тип этот играл роль шпиона и к тому же был шантажистом и вымогателем.
Тараканчику понятно, что означает угрюмая мина Мануэла Педро, и он не настаивает: боится, что тот выкинет что-нибудь из своего опасного репертуара в самый неожиданный момент, может, даже сегодня, если авейрасский кларет ударит ему в бесшабашную голову.
Но сантаренский доктор не отстает, затем и приехал сюда, чтобы поразвлечься.
— Расскажите же, сеньор Мануэл Педро! Характер народа выявляется в обыденном. На мой взгляд, рибатежанин — не люблю слова «рибатежец» [86], оно недостаточно сурово для нашего истинного характера, — так вот, рибатежанин сохранил в себе, и даже в удвоенной степени, если угодно, сугубо мужские свойства, присущие нашей породе.
Не говорит — ораторствует, жестикулирует по-актерски, играет при этом пальцами, тонкими и длинными, как щупальца, растопыривает, собирает в щепоть, тычет перстами в воздух, помахивает ими, складывает ладони вместе, поглаживает одну другой, пощелкивает пальцами, перебирает ими в воздухе коротенькими рывками, словно играя на воображаемой гитаре, повисшей над тарелкой с мерланом.
— Порода — это нечто непреходящее, и именно она побуждает рибатежанина повиснуть на холке быка только ради того, чтобы завоевать улыбку женщины, даже если он изобьет ее потом у себя дома; она побуждает его вскочить на неоседланного коня или на коня в парадной сбруе, чтобы помчаться по следу зайца или вдогонку за опасным злодеем; она же побуждает его — ну, не знаю — схватить, например, дубинку и разогнать народ во время ярмарки, пить доброе вино, покуда с ног не свалится, но скверное выплеснуть в лицо тому, кто посмеет ему предложить такую кислятину, в которой и омочить-то губы для него зазорно.
— Вы должны записать то, что говорите, сеньор доктор, — подлизывается Тараканчик, уже захмелевший.
— Предпочитаю записывать то, что другие совершают. В данный момент я составляю нечто вроде «Руководства для истинного рибатежанина» — в духе руководства Триндаде Коэльо [87]. — Он снова поворачивается к Мануэлу Педро. — Потому и прошу вас рассказать мне историю той ночи. В ней есть красота, есть нечто первобытное, подлинное и возвышенное — этакий костер во славу любви и мужественности.
— Вас не вдохновляют эти слова, Мануэл Педро?
— Вы уж простите меня, сеньор доктор, сделайте милость, простите. Все дело не стоит подливочки к тем вот свиным ножкам, что несут на стол. Не говорить нужно, а делать, а сделанное в памяти держать. О сделанном толковать — только вкус отбивать…
— По-моему, история потрясающая, ясно вам?
Землевладелец нервничает, опоражнивает фужер, наполняет снова и снова, высасывает до капли, забыв про наставления Зе Мигела; а тот с председательского места делает другу знак уважить просьбу сеньора доктора, подмигивает ему хитрым глазом, словно уговаривая посодействовать по-мужски в тайной сделке. Тут недосказать, там пропустить, и потек рассказ.
Пупа, настоящее имя коего Алешандре Магно Гедес Сабино [88], бакалейщик-оптовик, обладатель доходных домов и прескверной репутации, носил генеральские звезды среди, «гладиаторов». Как-то в июле он едет на воды полечить печень, потребление воды — как наружное, так и внутрь — оказывает на него пагубное действие, и он объявляет друзьям, что наконец-то собирается жениться — на одной ученой даме, кончившей геологический факультет и измученной неудачными романами. Собутыльники находят, что новость попахивает бахвальством, знакомятся с невестой и проникаются неприязнью к ней. Свадьба играется по первому разряду, полный парад, мужчины во фраках, дамы в платьях декольте и при перьях, так что Всадники Апокалипсиса после церковного обряда отправили своих супружниц домой, руководствуясь мнением Мануэла Педро, каковой не желал, чтобы жена его якшалась с хористками, потому что все это напоминало ему ревю в парке Майер [89], момент апофеоза; и, если этих выставленных напоказ прелестей можно отведать, тем лучше, мужчина не из дерева, но жена, данная ему Господом богом, не должна видеть грешные дела, обычные в среде с сомнительными нравами.
Налегают на спиртное, исподтишка дают волю рукам, приходят в возбуждение, но праздник не принимает того оборота, какого просит их разгоряченное воображение, и у них в конце концов возникает чувство, что им недодали. Когда же новобрачные исчезают и «гладиаторы» узнают, что Пупа решил провести свадебную ночь у себя в загородном имении, Мануэл Педро вносит свое предложение, а остальные подхватывают его, ибо не дело это — выставлять друзей на улицу в неположенное время, не зря же «гладиаторы» учредили свои законы, поделом вору и мука.
— Давайте подъедем к Пупиному дому и устроим осаду, пускай вылезет из постели, даже если ученая супружница высматривает, сколько лет его земле…
— И пускай слазит в погреб и угостит нас яичницей-глазуньей…
— И сам пускай с нами поест и наклюкается, как положено, пускай не думает, нахал, что можно таким манером выставлять друзей за дверь.
Распалившись от гнева и от выпивки, компания садится в два автомобиля; приезжают, сигналят, сигналят, поднимают шум, Пупа появляется в испуге, но, завидев их, выплевывает ругательство и захлопывает окно у них перед носом. Жозе Луис хватает камень, швыряет его уверенной рукой и разбивает стекло. Это сигнал к атаке.
Но когда компания уже готова раскокать все стекла, Мануэл Педро снова выступает с гениальным предложением:
— Давайте подожжем дом, как кусты вокруг кроличьей норы. Пупа удрал, словно кролик, но вляпался: мы с ним обойдемся, словно он кролик и есть.
Зе Мигел берет инициативу на себя: выбил дверь сарая, топлива хватает, даже нашелся сухой сосновый сук, и они решают разжечь тут же костер, бросают в кучу даже мебель, обнаруженную в погребе, — все пойдет в дело, чтобы можно было вволю потешиться зрелищем. Один только Жозе Луис Вас Пинто спохватывается и напоминает брату, что надо бы предупредить Пупу: может, он захочет уладить дело по-хорошему и продолжит свадебный пир, на радость всей компании. Братец Мануэл Педро против примирения, но Жозе Луис считает, что предателю надо предоставить возможность загладить оскорбление.
Зе Мигел помогает Жозе Луису забраться на капот одной из машин, и тот формулирует предложение — и честное, и почетное для отступника:
— Пупа! Пупа из Пуп! Либо ты вылезаешь в подштанниках к своим старым и добрым друзьям, чтобы распить вместе бутылочку-другую, либо тебе придется приготовиться к прыжку в окошко!
Но тут зажигается свет, и фигура ученой дамы появляется у того же самого окна, к которому несколько минут назад подходил супруг. Компания притихла.
— Расходитесь по домам, любезные сеньоры! Ваш друг Алешандре умер…
И прежде чем новобрачная успевает объяснить, в каком смысле «умер» Алешандре Магно Гедес Сабино, покойный отныне, ибо события нынешней ночи обрекли его жестокому отмщению «гладиаторов», Антонио Калдас, форкадо-любитель и землевладелец, прерывает разглагольствования геологини:
— Эта баба убила Пупу! Захотела узнать его возраст, а он весь оброс салом и не выдержал — преставился!
— Давай сюда нашего друга! — кричит Зе Мигел, вскарабкавшийся на дерево.
— Хотим видеть Пупу! — подвывает, словно плакальщица, Калдас.
Тут вся компания хором начинает выкликать по слогам прозвище друга:
— Давайте Пу-пу! Давайте Пу-пу!
Струсив, Алешандре Магно хватает охотничье ружье, и в ночной тьме гремят один за другим два выстрела; тут же раскаявшись в содеянном, он прячется во внутренней комнате, куда втаскивает и новобрачную.
Компания даже не удостоила его ответными криками. Мануэл Педро берет руководство операцией на себя. Велит принести побольше, дров, поливает их бензином и поджигает, а остальные в это время, взявшись за руки, пляшут в хороводе вокруг костра, выкрикивая в такт все те же слова. Костер разгорается, языки пламени взвиваются все выше, и хоровод распадается. Калдас бежит к дому предупредить новобрачных о грозящей им опасности: ему вдруг вспомнилось, что он возглавляет добровольное общество пожарников и рискует лишиться места, тем более что Пупа — один из членов правления. Ищет ведро, кувшин, бадью — что-нибудь, во что набрать воды, нельзя же, чтобы история получила огласку; но Мануэл против.
— Пускай Пупа гасит вместе с женой.
В конце концов Калдас садится в машину и гонит в город. Пытается уладить дело без лишнего шума, но в пожарном депо народу мало, приходится бить в набат, в городке начинается переполох, строятся всевозможные предположения. Когда пожарная машина приехала в имение Алешандре Магно, огонь уже охватил верхний этаж, а новобрачные с перепугу через окно перелезли на росшую поблизости пинию, хотя пожар не добрался до главной лестницы.
Чуть подальше, на дороге, честная компания распевала песенки, сочиненные в честь славного события.
— А что же Пупа? — вопрошает сантаренский доктор, также пришедший в возбуждение. — Подал в суд?
— Подал было, но потом взял жалобу обратно, — поясняет Тараканчик, ликующий оттого, что сумел подарить автору «Руководства» прекрасную главу — Доктор Карвальо до О, возглавляющий наш муниципалитет, пригласил всех действующих лиц истории на обед, и все уладилось. Настоящие друзья по мелочам не ссорятся.
— А геологическая дама так и не простила обиды, — вставляет ветеринар.
— Говорит, что это грубость…
— Она родом из Миньо.
Адвокат делает заключительный вывод:
— Ну разумеется! Уроженцам Миньо никогда не понять бесстрашия и широты, свойственных душе рибатежанина.
Мануэл Педро по-прежнему угрюм.
Говорить о таких вещах — на его взгляд, значит лишать их таинственности и необычности. Он выпивает один за другим два фужера, кричит, что ему приходится сидеть голодным, наваливает на тарелку еще этой вкуснятины и нарочно проносит ее над самой головой Тараканчика. Тараканчик вздрагивает, соус из тарелки выплескивается от толчка, и Мануэл Педро, взвалив Тараканчика себе на плечи, тащит его под кран, хотя чиновник из Управления финансов клянется, что все в порядке, ничего страшного, тарелка его даже не задела.
Однако ничто не может спасти его от купания. Под смех сотрапезников Тараканчик возвращается к столу в сопровождении Мануэла Педро, который крайне с ним предупредителен, но хитрые глазки которого поблескивают недоброй иронией.
XVI
Когда на столе появляются свиные ножки и уши, глаза у обедающих расширяются от вожделения. Вот уж, должно быть, блюдо — высший класс. Запах один чего стоит.
Некоторые поднимаются из-за стола, чтобы утрясти съеденное и приготовить место для второго. А моллюски? А фрукты?
Зе Мигел открывает дверь в погреб, чтобы повеяло холодком, и многие, пользуясь случаем, пьют аррудское белое вино. Не винцо, а борзый конь: пьется легко, но ударяет в голову.
Хозяин дома предлагает сюрприз за сюрпризом: вот на столе оказалось блюдо с полудюжиной лангуст, целеньких, без обмана. Для любителей безголовых ракушек тоже есть кое-что. А на десерт появится салат из фруктов со сливками, изготовленный самою Алисе Жилваз; чудо, а не стряпуха, утверждает доктор Карвальо до О.
Зе Мигел принимает, словно владетельный князь, что верно, то верно. Ради друзей ничего не жалей.
Бренчат гитара и виола, музыкантов привез с собой лиссабонский адвокат, любитель старинных фадо, — хорошее времечко, Зе, хорошее времечко, — на блеклой физиономии адвоката появляется мягкая улыбка, выражающая ту самую смутную тоску, которая поминается почти во всех фадо. Просит pе минор, закрывает глаза, которые кажутся очень маленькими за толстыми стеклами очков, и начинает петь негромким низким голосом, без вывертов и фиоритур. Отчетливо слышится каждое слово, слова его собственные, как сообщает гитарист; а сотрапезники между тем кивают в такт или ковыряют в зубах, вид у одних мечтательный, у других — отсутствующий. Певцу хлопают, кричат «бис!»; музыкант, играющий на виоле, исполняет вариации на темы португальских народных песен, отличный обед в превосходной компании, жизнь — приятнейшая штука, ну еще бы!
Лейтенант Рибейро плавится от жары, ну и пекло, непонятно, откуда в таком тощем теле берется столько пота. Зе Мигел садится около лейтенанта, нужно бы переговорить об одном важном дельце, а лейтенант думает: вот бы сейчас кружечку пива с высокой шапкой пены.
— У вас случайно пива не найдется, Зе Мигел?
— Пива?! — повторяет хозяин дома, словно попав впросак — Нет, пива я не привез… Но добудем!
— Не беспокойтесь, дружище!
— Как это — не беспокойтесь, ради вас я на все готов. Нет, но добудем. Было бы желание, а добыть все можно.
— Кроме лекарства от смерти, Зе Мигел.
— Не знаю, лейтенант Рибейро. Смерть не хочет иметь со мной дело, может потому, что я умею смотреть ей в глаза.
— Знаете какой-то секрет? — вмешивается в диалог доктор Леонардо.
— Секрет простой и денег не стоит: мужество.
— У вас тот же подход, что у врачей, когда те прописывают обезболивающие средства. Что вы называете мужеством?
Зе Мигел отвечает улыбкой и выходит из-за стола, думая о том, как же удовлетворить желание Жулио Рибейро. Может, послать в город управляющего, попросить Жозе Луиса, чтобы тот отвез его на машине, — но такое решение кажется ему сомнительным, придется заставить гостя ждать, да не просто гостя, а лейтенанта, в дружеской услуге которого он сейчас нуждается.
Думая, как же быть, он выходит на верхнюю террасу, откуда видна дорога, ведущая в город. Вглядывается, видит какое-то движущееся пятно, что бы это могло быть, а что, если фургон Лугусто Молейры? — думает Зе Мигел. Если повезет, вот будет штука. Идет через виноградник широким шагом, почти бежит, поджидает у ворот: пятно исчезло за одним из поворотов извилистой и тенистой дороги.
Зе Мигел спешит вернуться к гостям. Жара иссушающая. Он старается держаться обочины, ускоряет шаг и на повороте обнаруживает, что не ошибся, вот повезло, перед ним действительно фургон Аугусто, оптового торговца прохладительными напитками. Кучер развозит товар по тавернам — придорожным и деревенским; и пиво, наверное, есть. Зе Мигел машет кучеру, кричит, чтобы подъехал быстрее. Ему так не терпится, что он идет навстречу фургону.
— Пиво везешь? — спрашивает Зе Мигел.
— Везу. Ящиков семь-восемь.
— Забираю все. Твой хозяин пускай получит деньги в гараже.
— Прошу прощения, хозяин Зе, но не могу, никак не могу, сеньор. Пиво для постоянных покупателей, сейчас его мало, не всем заказчикам хватает.
Отказ старого кучера разозлил Зе Мигела, он глядит на лошаденку, чубарую, тощую, костлявую. Вырывает у кучера хлыст, перехватывает поводья и объявляет свое решение:
— Покупаю у тебя пиво и все, что есть в фургоне.
— Никак нельзя, хозяин Зе, наберитесь терпения. Товар должен быть доставлен по назначению.
— Но я покупаю. Не можешь же ты отказаться продать мне то, что везешь. Если не продашь, здесь у меня в гостях сеньор лейтенант и председатель муниципальной палаты, скажу им, что ты спекулянт, и ты влипнешь в историю.
— Вы поймите, хозяин Зе, — ноет старик.
— Ничего не хочу понимать. Если боишься, что Аугусто тебя выгонит, я это улажу, все улажу, — даже предоставлю тебе работу в гараже, если понадобится.
Сам не слышит, что говорит, уже не знает удержу. Достает бумажник, вынимает две ассигнации по конто каждая, сует старику. Впихнуть бы их ему в глотку!
— Скажи хозяину, я все покупаю: напитки, фургон и лошадь. Завтра рассчитаемся.
— Никак нельзя, хозяин Зе, вы меня губите, ваша милость.
Губите старого человека.
Кучер пытается его разжалобить, но, видя, что сетованиями Зе Мигела не проймешь, дает волю гневу, размахивает руками, кричит; а Зе Мигел, посвистывая, ведет себе лошаденку за поводья. И думает при этом, что везенье всегда на его стороне, он всегда добивается того, чего хочет.
Но тут же вспоминает про голубой фургон с желтыми полосками, в котором вторично встретился со смертью. Видит лошадь, что мчится во весь опор, в глазах ужас, грива разметалась по ветру, дед стоит, натянув поводья, расставил ноги, пытаясь удержать равновесие, деревья проносятся мимо смертельным галопом, их с дедом обволокла туча пыли, поднявшаяся из-под подков и словно вызванная их звоном. Антонио Шестипалый бормотал: «Не бойся, внучек, не бойся»; он схватил деда за руку, хотел закричать, но сдержался; а потом поворот, ошалевшая лошадь выносит фургон на кривую поворота, толчок — и Зе Мигела выбросило в тучу пыли, словно лоскут, словно жалкий лоскут, ужас в глазах деда, дед попытался перехватить Зе Мигела на лету, отвлекся, да, одного мгновения было достаточно — того, когда дед захотел увидеть, что случилось с мальцом; и сразу же грохот столкновения, ржание лошади, а Зе Мигел бежит вперед по дороге с криками и плачем.
Зе Мигел кричит старику, который все не отстает:
— Не действуй мне на нервы!
— Это же. грабеж, хозяин Зе! — бормочет кучер, пытаясь удержать фургон за оглоблю.
— Еще одно твое слово, еще один шаг…
Зе Мигел перехватывает хлыст за рукоять, и ремень свистит над самой головой кучера.
— Я тебе всю физиономию исхлещу, сукин сын! Вскакивает на облучок, яростно хлещет лошаденку, чтобы пустилась галопом — то ли ему хочется напугать ее, то ли поторжественнее въехать во двор, где его уже ожидают друзья. Доктор Карвальо до О комментирует:
— Сущий бедуин: всегда добивается того, чего хочет.
— Иногда он внушает страх, — говорит кто-то.
Отдуваясь после подъема, клячонка потверже упирается задними копытами, старается выполнять все, чего требует понукающий ее жесткий голос; напрягается вся, от запененной морды до подколенок, но ослабевшие мышцы отказывают ей; она тяжело дышит на ходу, опускает беспокойную морду, на передних коленях язвы от падений. Лошаденка переступает трудно, поводя исхлестанным крупом.
Въехав во двор, Зе Мигел бьет клячу рукояткой хлыста; измученная) тварь шире вскидывает копыта, идет быстрее, хотя вся покрылась мылом и чихает.
— Прямо тебе мерин! — острит Мануэл Педро во всю глотку.
— Была бы кляча твоя, я купил бы ее для боя быков, — не отстает от брата Жозе Луис, о коем всем известно, что он опрометью бежал с арены, когда из загона на него вышел бычище с лировидными рогами. — Честное слово, Зе!
— Так она моя и есть. Удивляйтесь, сколько хотите, но кляча моя. Я купил все: фургон, одра и напитки.
Зе Мигел, держа шляпу в руках, поворачивается к лейтенанту:
— Вот вам пиво, мой лейтенант. В этом доме вы хозяин.
— Превосходно! Превосходно! — аплодирует адвокат, любитель фадо.
— Продаю одра и фургон тому, кто дает больше. Открываю аукцион: пятьсот мильрейсов. Вырученные деньги пойдут в пользу бедных и будут переданы в муниципальную палату.
— Спасибо, Зе Мигел! — вступает доктор Карвальо до О. — Вы человек достойный.
Зе Мигел приказывает управляющему выгрузить ящики; полит расставить их вокруг стола, чтобы его друзьям не пришлось утруждаться. Затем объясняет сотрапезникам, как будет проходить аукцион: он начнет с пятисот мильрейсов, а затем цена пойдет на понижение, как на рыбном привозе; кто захочет купить, должен только сказать «беру».
— Начните с конто, Зе Мигел, — советует доктор Каскильо до Вале. — Лошадь и фургон безусловно стоят конто.
— Еще как стоят, — подтверждает ветеринар, уже захмелевший и развеселившийся. — Если бы в Португалии была в ходу испанская коррида, за клячу дали бы сотенную. А так она сгодится на роль статуи, олицетворяющей флегму. Статуя за конто — дешевизна, почти даром.
Гости острят, похохатывают, благодушествуя во святой безмятежности.
Зе Мигел начинает торги, и, Когда доходит до суммы в шестьсот двадцать эскудо, слышится «беру». Все озираются. К аукционисту подходит Мануэл Педро с одноконтовой ассигнацией в руке и формулирует предложение:
— Даю конто за лошадь с фургоном.
— Тогда, значит, полтора, — поправляет хозяин дома. — Я с аукциона пустил только лошадь; фургон пойдет по цене, которую я назначу.
— Вы в своем праве.
— Право тут ни при чем, сеньор доктор. В делах между мной и Зе адвокат не требуется, порешим все сами. Добром или на кулаках, но порешим сами.
Мануэлу Педро требование приятеля не по вкусу: вино разгорячило ему кровь, жестокость просит выхода. Его сдерживает только присутствие властей. Понимает, что находится у них в руках, боится осложнений, но выжидает удобного случая, чтобы потешиться над ветеринаром и отыграться на нем. Зе Мигел отводит Мануэла Педро в сторону, уговаривает мягко, напоминая о том, что здесь адвокат из Сантарена, человек влиятельный в мире большой политики. Младший сын Племенного Производителя берет себя в руки на некоторое время, хотя и с досадой, и принимается за пиво.
Душно. Ветер пышет зноем, не смягчающимся даже в тени деревьев.
Зе Мигел глядит на фургон, и внезапно ему становится грустно. Он вспоминает сына. Сын мог бы быть здесь, с ним, если бы не два выстрела, что послышались в ту послеобеденную пору у них в доме, когда после их разговора Руй Мигел остался один в гостиной.
Зе Мигел думает о смерти. К нему смерть всегда приближается на колесах; она уже много раз назначала ему встречу: в игрушечной деревянной тележке, когда он был мальчишкой, потом в голубом фургоне деда; бессчетное множество раз на рыбных трактах, а главная встреча была в ту ночь, когда его стал догонять Антонио Испанец, после того как Зе Мигел уложил его левую руку своей и автофургон вдовы первым выехал из Пенише. В ту ночь он изведал страх. Никому не признался в этом, но почувствовал, как страх проник ему в самое нутро.
Теперь все это снова появилось у него перед глазами, как когда-то в зеркале заднего вида появился автофургон Испанца и надвинулся сзади на его машину: может, Испанец задумал столкнуть его в пропасть на одном из крутых поворотов Монтежунто; Зе Мигел крутанул руль, резко бросил машину в сторону, завизжали, скользя по асфальту, шины, завизжали тормоза, послышался крик, и машина Испанца врезалась в ствол дерева — и у Зе Мигела было такое чувство, словно земля вдруг разверзлась, словно сама смерть сунулась между ним и Испанцем, бросив обоим вызов на повороте дороги.
Лошаденка с разбитыми кривыми ногами вяло поедает корм, который управитель засыпал в поставленную перед клячей большую корзину. Время от времени поматывает головой, бубенчики позвякивают — позвякивают и приводят на память Зе Мигелу звон бубенца лошади, убившей его деда.
Он не пьян, покуда еще не пьян, но в голову уже полезли хмельные мысли. Может, угрызения совести из-за чего-нибудь, что я сделал, мало ли из-за чего, мне незачем было давать себе отчет, либо я притворялся, что незачем мне давать себе отчет, а в конце концов вот что из этого вышло.
Бубенец той лошади все звенит у него в ушах. Действует ему ма нервы.
Ему хочется остаться в одиночестве; он сам не понимает, что с ним: устроил обед, чтобы ублажить друзей и избавиться от одиночества, угнетающего его в городском доме: жена не в счет, бывают дни, когда она бродит по дому, как призрак, — и вот теперь он испытывает потребность остаться в одиночестве, сам не понимает почему, да и не стоит разбираться.
Уходит по одной из аллей в глубь сада, чтобы побыть одному (или не видеть фургона?), ускоряет шаг, почти бежит, у него перед глазами та лошадь, и воспоминание гонит его прочь от друзей, голоса которых не дают ему забыть о том, что люди близко, и служат своего рода спасательным кругом, за который он цепляется.
Ему становится стыдно, он останавливается: никогда не трусил, не трусить же теперь из-за какой-то нелепости. Кровь прихлынула к лицу, живее побежала по венам. Такое ощущение, словно вены набухли, напряглись; Зе Мигел потирает руки, затем подносит левую к лицу, проводит ею по губам и подбородку. Нужно взять себя в руки. Разглядывает лозы, подходит ближе, трогает листья, припудренные синькой — профилактика от филоксеры, — присел на корточки, любуется огромной гроздью белого винограда, ласково поглаживает ее, ягоды еще зеленоватые. Отрывает одну, жует, во рту горьковато, но спокойствие возвращается к нему, он ощущает его приближение, покуда неуверенное, пробует еще одну виноградинку, более зрелую, делает глубокий вдох, и ему становится легче, он словно выбрался наружу из туннеля, в котором задыхался.
И в этот миг слышится ржание клячи. Зе Мигел вздрагивает.
Эти звуки скребут ему по нервам, он снова теряет самообладание, испытывает потребность бежать, но заставляет себя стоять на месте, что он, одурел или спятил, нельзя поддаваться, какое впечатление произведет он на гостей — слабака, который струсил — отчего, да отчего же, в конце концов?!
Он возвращается во двор, на глазах у всех отшвырнул, корзину от лошадиной морды и вскочил на козлы. Все замолкают. По выражению его лица даже пьяные видят — что-то неладно. Не глядя на друзей, Зе Мигел хватает хлыст, берется за поводья, хлещет кривобокую клячонку, понукает, и вот уже фургон мчится по дороге, огибающей ту часть усадьбы, что поднимается над оврагом, на дне которого находится заброшенный песчаный карьер. Зе Мигел хлещет и хлещет лошадь, взгляд его скользит вдоль хребта ее и между ушами, он видит, как поднялась ее грива, и еще больше натягивает поводья, осыпал ударами тощий круп.
К гулу голосов у себя за спиной он не прислушивается.
Он слышит только собственный разъяренный голос, нет, никогда не знал я страха, никогда; поворот все ближе, клячонка уже мчится галопом, колеса скрипят, перед самым обрывом он натягивает и отпускает поводья, край обрыва все ближе, лошадь валится мордой вниз, он соскакивает назад, но налетает на глинобитную стену и падает.
Время от времени слышится ржание лошади, грохочет фургон, скатываясь вниз по склону; фургон разбит, на дне оврага найдут лишь груду обломков.
XVII
Жена Мигела Богача ждет мужа, сидя у окошка в своей комнате; ей страшно.
Она уже знает про историю с лошадью и фургоном, случившуюся в имении; ей рассказала соседка — у дурных вестей ноги длинные.
Городок полнится слухами. Каждый, конечно, толкует новость на свой лад, но все — в худшую сторону, думает Алисе Жилваз, ведь ее мужу все завидуют, три гадалки ей уже говорили это, и не столько из-за того, что он нажил богатство, сколько из-за того, что водит знакомство с важными людьми, с теми, кого величают докторами и сеньорами, слава господу!
Ее уверяли, что Зе нисколько не пострадал, ни царапинки; но она боится самого худшего. Переходит от окна к окну, отодвигает портьеру — справа всякий раз, — пробегает взглядом всю улицу от угла до двери дома, ей уже несколько раз казалось, что он идет, но она ошибалась, принимает за него всех мужчин с таким же, как у него, телосложением. Потом останавливается, сама не своя, проводит холодной ладонью по пылающему лбу.
Во всем теле дрожь — наверное, немного поднялась температypa. А может, дрожь — от предчувствия, что когда-нибудь она останется одна на свете; после смерти сына такие мысли приходят ей в голову. Теперь она боится своего счастья: ей кажется, что она должна будет заплатить за него неизбывными горестями, словно судьба в порыве досады захотела наказать ее зa богатство, напомнить ей о том, что начинала-то она служанкой в доме у сеньора Руя Диого. Там-то и начал за нею ухаживать Зе Мигел, когда приезжал в усадьбу узнать, не надо ли что перевезти — у него как раз появился первый собственный автофургон. Почти двадцать лет прошло с тех пор.
Вначале-то он совсем ей не нравился — уж слишком пронырлив, всем женщинам улыбается, глазки сладкие, разговоры с подковырками, словно с рыбными торговками разговаривает: известно, какие они бесстыжие на язык; сразу видно, что он немало времени с ними хороводился. Но с нею у него номер не пройдет, сказала Алисе Жилваз Зе Мигелу, когда тот хотел силой втащить ее в круг танцующих, дело было на празднике в честь Спасителя, посылающего смерть во благе; Зе Мигел, как видно, считал, что все, кто в юбках ходят, кроткие овечки, из рук едят. Он проглотил ругательство, она по его глазам увидела, что проглотил, повернулся к ней спиной, еще плечами повел, до того неотесанный, и ушел плясать к рыбным торговкам, такой живчик, со всеми в ладу; а вернулся в подпитии и в озорном настроении. И что учудил: купил у одной женщины целый лоток сластей и велел передать его ей, Алисе, но без всяких слов и приветов.
Ей и сейчас еще охота расхохотаться ему в лицо при воспоминании, какой ошалелый был у него вид, когда у него на глазах она стала раздавать направо и налево пирожки с творогом, коржики с корицей, медовое печенье с миндалем и бразильскую халву — всем, кто подходил, а когда ее благодарили и спрашивали, в честь чего угощение, Алисе Жилваз, хитрушка, показывала на Зе Мигела и говорила, что он дал такой обет Спасителю, если подрастет еще на два пальца. Но сама не съела ни крошечки, чтобы дурень понял раз и навсегда, до чего он ей противен.
Так они несколько месяцев подряд лягали друг друга, как сказал ей однажды Зе Мигел, когда они уже начали разговаривать у калитки.
Оба были с норовом; оно и к лучшему, потому что любовь должна быть трудной и с помехами, только тогда воды ее станут настолько прозрачными, что дно разглядишь. Цапались они долго, а слюбились быстро: и полугода не прошло, а уже стояли перед алтарем алдебаранской церкви, и у нее в подружках была барышня Бле, а в шаферах — жених барышни, граф и красавец парень, никто бы не подумал, что он окажется пьянчугой и грубияном, способным избивать дочку сеньора Руя Диого, словно мужлан неотесанный. Все поняли, какие у него были намерения, когда меньше чем за два года он промотал приданое барышни Бле и бросил ее в Мадриде, отобрав у нее все драгоценности. В усадьбе поговаривали, что негодяй написал тестю письмо, объяснявшее, почему он так поступил: он обнаружил у своей супруги незаурядные способности к распутству и считает, что самое лучшее — вверить ее заботам доки по части столь тонкого искусства, пускай обгложет косточку, а мясо все уже съедено.
Руй Диого Релвас, он же Штопор, поехал поездом в Мадрид на поиски не столько дочери, сколько зятя, но домой привез только дочь; что же касается графа, Релвасу удалось заполучить лишь сведения о нем, и то неутешительные.
Возможно, Алисе Жилваз вспоминает обо всем этом, чтобы утешиться в собственных горестях. Думает, что все мужчины — беспутные бабники, хотя, по ее мнению, виноваты в этом некоторые женщины, крысы-пролазы, а то и хуже, всегда готовы попользоваться за счет того, что мужчины как помешанные.
Кому и знать, как не ей. Ей в этом смысле муж не дает спать спокойно. Она знает, сколько у него любовниц — больше, чем в году месяцев; некоторые и живут чуть не по соседству, как эта нахалка из Байрро-дас-Виртудес, Алисе даже ходила к ней поговорить, когда ждала своего Руя Мигела. До сих пор краснеет при воспоминании об издевательском ответе этой твари.
Алисе Жилваз кладет правую руку себе на грудь, пытаясь ощутить биение сердца, передвигает ладонь — повыше, вбок и наконец обнаруживает: бьется слабо-слабо где-то глубоко в наболевшей груди. И женщина сразу же вздрагивает: у нее такое чувство, будто из-за потраченных на себя мгновений ей не хватит времени на заботы о муже.
Входит служанка, говорит, что жаркое уже готово, просит разрешения пойти за вином — неизменный ее предлог в эту пору дня, чтобы повидаться с моряком, который тискает ее по углам и отбирает у нее большую часть заработка. Хозяйка не отпускает — боится сидеть дома одна. Не хочется и вспоминать, каково ей по воскресеньям, когда во второй половине дня девушка уходит и Алисе торчит у окна, чуть не прижимаясь лицом к стеклу, в ожидании служанки либо мужа.
Услышав два выстрела в гостиной, она почуяла истину, ей страшно, ей никак не выйти из кухни, куда послал ее муж. В доме тихо-тихо, и от этого ей становится жутко, такое чувство, будто дом провалился в пропасть. Она не в состоянии шевельнуться, задать вопрос, вскрикнуть, хотя и не понимает толком, что же произошло почти у нее под боком после того, как она услышала гневный голос мужа, отчитывавшего сына.
Алисе знала, о чем они говорят. Ей на беду, вину за все случившееся Зе Мигел свалил на нее: она обращалась с парнем, как с девчонкой, до трех лет одевала в платьица, не выпускала из дому одного под тем предлогом, что он слабенький. Да, слабенький. В конце концов его определили в сантаренское сельскохозяйственное училище, чтобы сделать из него мужчину.
Однажды директор позвонил мужу по телефону, она встревожилась — что могло случиться? К вечеру Зе и сын вернулись, безмолвные, отчужденные; Зе не захотел, чтобы сын ужинал вместе с ним, никогда не видела она у мужа такого угрюмого и недоброго взгляда, а ей приказал садиться за стол, но глядел при этом в пол. Шрам на лбу у него побагровел и временами подрагивал; и временами Зе Мигел сжимал кулаки в знак отчаяния и ударял ими по столу, то одним, то другим, а потом разжимал пальцы и подносил их к лицу, словно испытывая потребность спрятаться от чьих-то взглядов или от света люстры с несколькими рожками. Она спросила мужа:
— С нашим мальчиком случилось что-нибудь?
— Все случилось…
— Что «все»?!
— Все, чего я ожидал.
— Но что?!
— Не твое дело.
— Я мать ему…
— Лучше было бы, если бы ты была ему никем. — И перешел на крик: — Лучше бы тебе не рожать его на свет. Или уж растила бы его по-человечески, а не портила. Ей девочку хотелось… Даже шить парня выучила…
— Но что случилось?!
— Ты получила то, чего хотела. Но разговор кончен раз и навсегда. Служанку уволь, чтоб она не догадалась, в чем дело; хватит стыда в школе. Лучше бы мне все лицо оплевали, глаза, губы…
Голос отказал ему, он смолк, сжал руками голову и вдруг вскочил, разрыдался в голос, взвыл, как пес. Она не хотела понять, нет, не хотела.
Потом Зе вытер глаза, голос у него стал жесткий, властный.
— Жить он будет на чердаке; чтоб здесь я его больше не видел. Если это случится, уйду из дому навсегда. И чтоб не выходил на улицу. Ни в каком случае… Что бы ни произошло. Даже если дом загорится.
Алисе Жилваз слышит шаги мужа на улице. Сама не понимая почему, испытывает страх. Смутный страх, от которого ей больно. Прислоняется лбом к стеклу, медленно трется о его гладкую холодную поверхность и ждет, когда щелкнет в замочной скважине ключ.
Ожидание затягивается.
Затем она снова слышит его шаги на улице, но он пошел быстрее и — она видит — в противоположном направлении. Она открывает окно, зовет мужа, хоть бы рассказал ей, что случилось, но он продолжает идти. Ей становится еще страшнее.
— Зе! Зе Мигел! Ужин готов!.. Куда ты?…
— В гараж.
— Надолго?
— Я не хочу ужинать. Поешь и ложись. Не жди меня.
— У тебя все в порядке?
— Все в порядке.
Зе Мигел идет куда глаза глядят, ночная тьма кажется ему уютной, он словно возвращается в материнское чрево отдохнуть от всего, что перечувствовал сегодня днем и что так вымотало его. Он устал от людских голосов, потому и повернул обратно, поднявшись к дверям на несколько ступенек. Ему неприятны звуки собственных шагов по мостовой, они отдаются у него в ушах, резкие и чеканные, словно он перемещается внутри шара с каменными стенками, по которым кто-то барабанит.
Со стороны Тежо веет мягким ветерком.
Зе Мигел делает глубокий вдох и улыбается ветерку, затем ускоряет шаг, чтобы ощутить его получше: как бы не улегся, пока он подойдет к берегу. Там, впереди, бухта, в бухте, может быть, два-три парусника на приколе с убранными парусами, они, словно псы, поднимут лай, если он подойдет слишком близко. Но у него таких намерений нет: он предпочитает смотреть издали, лежа в траве, еще теплой после дневного солнцепека, и покусывая сухой стебелек, как в те времена, когда был подпаском. Он испытывает потребность вспомнить прошлое, чтобы почувствовать себя живым вопреки сегодняшней истории, когда он столкнул в овраг фургон смерти.
Этот отчаянный поступок, который остальные истолковывают как проявление его дьявольски взрывчатого темперамента, самому Зе Мигелу непонятен. Он даже попытался дать ему объяснение, когда заметил, что кое-кому из гостей не по себе:
— Лошадь закусила удила, а я выпустил из рук поводья, чудом спасся. Когда я был мальчишкой, почти то же самое случилось с моим дедом, с Антонио Шестипалым. Я успел соскочить, сам не помню как, но дед поплатился жизнью.
Мануэлу Педро версия показалась малоубедительной. Вместе с братом он напал на Зе Мигела в погребе и без околичностей объявил ему, что видел, как тот столкнул клячу в овраг. Мануэл Педро только не мог понять, что за помрачение нашло на его друга — ведь жизнью рисковал. Зе Мигел чувствует, что Всадники Апокалипсиса восхищаются им, и дает волю языку: нужно придумать что-то, чтобы еще усилить впечатление.
— Вы же знаете, я сызмальства люблю лошадей. Потому и не могу видеть, как какая-нибудь старая лошадь, вся истерзанная, околевает медленной смертью. Мне тяжко смотреть на такое, черт побери! Мужчина, когда у него все на месте, если жизнь повернется к нему задом, найдет свой собственный выход. А животное нуждается в помощи человека, чтоб тот из жалости избавил беднягу от незаслуженных мучений. Так я и поступил с тем одром. Как только сел на козлы, подумал, что надо положить конец его мукам. Задумано — сделано! Выполнил свой долг.
Сейчас Зе Мигел вышел на самую окраину города, уже слабо освещенную, шагает и вспоминает, что он им сказал. Теперь по всем кафе только и разговору, что о нем, можно не сомневаться: Мануэл Педро и его братец не преминули рассказать, что произошло и как он объяснил им происшедшее, да еще кое-что прибавили из собственных запасов.
Никому и в голову не придет, что он сейчас в полном одиночестве гуляет по берегу Тежо. Никто его не знает. Да человек часто и сам себя не знает и лишь время от времени открывает то, что скрыто в нем и что погружает его в бездну, что либо превышает его понимание, либо унижает его, делает мельче в его же собственных глазах. В этот миг Зе Мигел переживает заново развязку жуткого сна, примерещившегося ему в детстве, когда смерть приняла его вызов и явилась на поединок в фургоне. И когда он увидел старую лошадь во дворе усадьбы, ему вдруг почудилось, что смерть отдыхает, набираясь новых сил.
Хотя он знает, что смерть повсюду — а может, именно поэтому, — его самомнение утолено мыслью о том, что совсем недавно он снова померился с нею силой и доказал, что не боится ее, либо что испытал потребность ощутить ее поближе, чтобы она могла завладеть им, если захочет.
Как бы то ни было, на душе у него становится спокойнее. Он переходит железнодорожные пути, слышит голоса, доносящиеся с берега и с бухты, голоса взрывают тишину, в темноте они — словно недолгие вспышки тусклого света. Зе Мигел ловит их в воздухе и чуть не натыкается на кого-то, кто пробегает мимо. Вздрагивает. Останавливается под деревом, смотрит вслед бегущему — лодочник, наверное, или рыбак, бежит босиком, потому и шагов не слышно; и Зе Мигел продолжает свою прогулку во тьме.
На траву он не ложится. Забыл уже, что собирался делать. С него достаточно того, что он чувствует себя живым и знает, что уже получил гораздо больше того, о чем мечтал мальчишкой. У него еще нет угодий в Лезирии, но он не сомневается, что будут и они. У него есть деньги, есть кредит; его автомашины без помех мчатся по охраняемым дорогам; у него есть друзья везде, где ему нужно, он умеет обзаводиться ими и сохранять их дружбу, война продлится еще долго, а во время войны требуются решительные люди, такие, как он, — даже в странах, которые как будто в войне не участвуют.
Он богат.
Наследника нет, что поделаешь! Он мог бы снова завести ребенка, но боится повторения беды. В этом смысле жизнь его подвела, крепко ударила, от такого удара свалится и самый закаленный. Он все вытерпел, все пришлось вытерпеть, хотя кровь кипела. С того дня, когда директор училища сказал ему правду, он стал другим человеком, хотя, может, сам этого не замечает.
Теперь он идет быстрее, безотчетно ускорил шаг. Разговаривает сам с собой, какие-то слова произносит вслух, словно собрался расчистить рану ножом. Потом ему становится страшновато в укрывшей его тишине, он решает вернуться в город, а может, поворачивает туда без раздумий, поддавшись зову огней.
Прошлое ему необходимо, чтобы почувствовать себя живым.
Цепляясь одно за другое, беспорядочно наплывают воспоминания: он сам не понимает, почему память выбирает одни, а не другие, если у него такой запас их, самых разных, уводящих в глубь детства и отрочества. Воды Тежо накатывают на низкий затопленный берег, и Зе Мигел думает о Розинде и об Ирии, об Антонио Испанце и о Баркасике, шкипере, который хотел улизнуть от него с грузом контрабанды.
В ту же ночь, но в еще более поздний час, он входит в гараж, где стоят грузовики его колонны, почти не разговаривает со сторожем и садится в кабину первого автофургона, который был записан на его имя. Ему приятно взяться за руль, сжать его в руках, как когда-то, но больше в правой, в то время как левая держала сигарету, когда ему не нужно было переключать скорость. (Теперь руль переставлен, не хватает бензина и покрышек, на некоторых машинах в обязательном порядке будут ставить газогенератор, это ему сказал один приятель из транспортной полиции.) В верхнем углу кабины, немного спускаясь на ветровое стекло, все еще висит цветная фотография киноактрисы, которую он выбрал спутницей в своих поездках.
При виде фотографии он чувствует, что растроган. Он был влюблен в эту женщину с огромными глазами, серыми и переливающимися, однажды он даже заплакал при виде. этих глаз, омытых слезами: она играла в любовной сцене на берегу моря, недвижно внимавшего полным страсти и тревоги словам прощания, которые она произносила. Он всегда выходил из кинотеатра об руку с нею, а потом они вместе ложились на его топчан на складе вдовы. Сколько раз лицо ее было последним, что он видел, засыпая, и первым, что он видел, пробуждаясь! Сколько раз на верхнем этаже, на постели вдовы, он сжимал ее в объятиях и впивался ей в губы!
Он улыбается своему тогдашнему простодушию. Ее образ дремал где-то в глубине его души, он почти забыл о ней, а теперь все всплывает на поверхность в его воображении, отправляя его в даль прошлого, где еще неизвестно о двух выстрелах, которые прозвучат в тревожно примолкшем доме.
И она гоже ему улыбается, хотя, может быть, сама грустит по кому-то другому. Раньше он и мысли не допускал, что в этой улыбке может быть грусть. Зе Мигел касается фотографии рукой и замечает, что пальцы у него дрожат — чуть-чуть, самые кончики, он переворачивает руку, подносит к глазам, долго вглядывается в линии на ладони, по которым цыганки предсказывают ему любовь, деньги, линия жизни резко перечеркнута, что бы это значило? Но если он справится с этой опасностью, то проживет до восьмидесяти лет в окружении внуков.
При мысли о внуках ему становится горько: нелепое предположение. Никогда их у него не будет. Внезапно он чувствует себя очень одиноким, приоткрывает дверцу кабины, окликает сторожа. Сторож по прозвищу Рыбий Хвост, малорослый и старый, подбегает во всю прыть, размахивая руками, глядит на хозяина снизу в ожидании распоряжений. Зе Мигел хлопает его по плечу.
— Бензин залит?
— Бак полон, бак всегда полон, как вы приказывали, хозяин Зе. Хоть сейчас в путь.
Много лег они ездили вместе в этой самой кабине. Рыбий Хвост состоял при нем помощником, уже тогда было ясно, что ему в люди не выбиться: выпивоха, непокладист, без семьи и без царя в голове.
— А помнишь то утро, когда мы возвращались из Испании и я заснул на повороте?
— Прах побери, еще бы не помнить. Такое, да не помнить!.. У меня в глазах потемнело.
— Я почти тридцать часов глаз не смыкал, не выпускал из рук этой штуковины. Хорошее времечко, дружище, хорошее времечко!
— Ты всегда молодцом держался, черт возьми! Приятно было глядеть, как ты управляешься с баранкой.
— Эти нынешние парни живут припеваючи. Получают за сверхурочные и еще недовольны. Я от вдовы ни разу медяка лишнего не получил.
— Ты от нее получал кое-что получше, хозяин Зе! Вдова была баба, каких мало. Готовая и жить с тобой, и умереть. Любила тебя, как ни одна другая. Вот уж, должно быть, звонкая была гитара!
Зе Мигел с наслаждением слушает старого сотоварища. Угощает его сигаретой, оба курят.
— Женщин хватает…
— Не скажу про себя того же, хозяин Зе. У меня смолоду судьба не задалась. Всю жизнь одних только шлюх и имел.
— Ты всегда больше времени вину отдавал. На женщину время нужно потратить, все равно что на пашню либо на кобылу. Время и силы. Все хорошее времени требует.
— Что правда, то правда! Я всегда и во всем торопыгой был.
— Но в то утро ты спас мне жизнь. Ты только дотронулся до руля, и я проснулся. Похолодел, когда увидел обрыв — вот уж воистину костей не соберешь.
Зе Мигел поднимается в кабину, снимает пиджак, засучивает рукава. Рыбий Хвост засмеялся коротким смешком.
— Всегда ты водил с засученными рукавами. В самый лютый холод иначе за руль не садился.
— Так я себя надежнее чувствую.
Включает мотор, протирает куском замши ветровое стекло изнутри. Рыбий Хвост берет лейку, заботливо заливает воду в радиатор.
— Как видишь, все в боевой готовности.
— Ты двигатели любишь больше, чем самого себя. Всегда ты был верным помощником, старый товарищ.
— Теперь я тебе уже не товарищ, хозяин Зе.
— Я тот же, что был.
— Ну уж нет, ты уже не прежний Зе Мигел. Тебя прозвали Мигелом Богачом, друзья твои — люди с капиталами…
— Мне они нужны, я их использую.
— Либо они тебя. Но не доверяй им особенно…
— Я умею маневрировать…
— Вот и хорошо. Хотя ты уже не тот, что был, ты мне по душе, как в пору нашей молодости. Немало мы пылили по этим дорогам!..
— Да толку нет.
— Ты сам только что сказал: все хорошее требует времени.
— Если дело начнется, я на той же стороне, что братва. Я все тот же, старый товарищ. Сейчас деньгами помогаю.
— Это уже кое-что. Без денег ничего не сделаешь.
— И больше, чем ты думаешь…
— Вот и хорошо, хозяин Зе.
Зе Мигел включает первую скорость и, проехав по двору, поворачивает машину к воротам. Переключает скорость, прислушивается: кажется, в моторе неладно, но, осмотрев его, убеждается, что все в порядке, и снова заводит машину. Рыбий Хвост подносит ладонь к кепке.
Поворачивает направо, хотя о маршруте пока не думал. Едет куда глаза глядят. Сейчас он не может заехать за Марией Лауриндой, своей лиссабонской любовницей, пришлось бы иметь дело с ее мужем. Да и поздно уже. Без семи минут десять.
Нет, в Лиссабон его не тянет. В одиночестве ему тоскливо, а сколотить компанию из четырех-пяти завсегдатаев кафе и заплатить по их счетам ему не хочется.
Он выводит машину на дорогу, ведущую в Пенише, — медленно, бездумно. Идет плавно на скорости между тридцатью и сорока, словно бессознательно убаюкивает сам себя. Только на склоне при выезде из города немного увеличивает скорость; ему доставляет удовольствие мягкое покачивание на следующих один за другим витках, уводящих в придавленные тьмою горы.
Устраивается на сиденье поудобнее, включает радиоприемник, проскакивает несколько волн с их гулом мелодий и голосов, некоторое время вслушивается в какой-то марш, но, догадываясь, что он служит прелюдией к сводке последних известий с фронтов войны, резко вырубает звук.
С гор, между которыми вьется дорога, струится аромат виноградников. При включенном дальнем свете можно различить даже цветные пятна гроздей; Зе Мигел придумал наконец себе развлечение — играть со светом. На одном из витков сноп лучей выхватывает фигуру человека, чернеющую в центре белого круга; Зе Мигел пытается вновь увидеть его в зеркало заднего вида, но фигура теряет четкость очертаний, исчезает в темноте, прорванной на мгновение резкой вспышкой фар и вновь сгустившейся.
Зе Мигел чувствует себя властелином шести светящихся белым светом шаров, беспокойных, но повинующихся движениям его левого башмака, носком которого он регулирует степень мощности включения, варьируя ее от максимума до минимума: Зе Мигел играет этими шарами, гасит их, мечет в стены домов и стволы деревьев, и у него такое ощущение, будто шары эти, ударившись обо что-то, возвращаются к нему, их тоже увлекла игра, и в непрерывном движении они то пронизывают тьму бледным лучом, то прорезают ярким.
На вершине холма Зе Мигел останавливает машину, смотрит на огни городка. Выключает фары и снова сворачивается клубком во тьме, словно в материнском чреве. Это сравнение вспыхивает у него в мозгу внезапно и смущает его. Он озирается, опасаясь неизвестно чего. Затем, пытаясь отделаться от этой внезапной непонятицы, смотрит вниз, во мрак, обнаруживает, вернее, угадывает, излучины Тежо. Когда ему надоедает глядеть в темноту, он снова едет в гору, дорога словно виляет среди огоньков.
На прямом участке, ведущем из Кабо, возникают вдали две встречные фары, пронзающие тьму, долгое время они кажутся неподвижными, отбрасываемые ими снопы света словно прикреплены к ним. Инстинктивно Зе Мигел отводит машину к обочине, поворачивает в сторону городка.
Темнота обволакивает его. Он закрывает глаза, пусть сгустится еще беспросветнее. О чем он думает? Вспоминает сына, как тот сидел в гостиной напротив него, побежденный им, униженный; напрягает мышцы, сжимает кулаки до боли в пальцах, ударяет левым о дверцу — может, для того, чтобы заглушить угрызения совести, не дающие ему покоя. Он думает, что выполнил долг — и по отношению к себе самому, и по отношению к сыну; судьба хотела оскорбить его, и он правильно поступил, не допустив, чтобы так продолжалось, — вот его мнение.
Шепотом бормочет: что плохого я сделал? За что?… За что?…
С того дня он чувствует себя как после ампутации. Он ранен, его точит изнутри неисцелимая язва, но ведь те два выстрела должны были прозвучать, иначе быть не могло; врач сказал после вскрытия — два выстрела, судья вызвал меня, хотел выяснить, что случилось, а я сказал — понятия не имею, слезинки не пролил, но внутри все у меня рвалось на части, такая проклятая боль — худшему врагу не пожелаю; хотя это только так говорится, на самом деле я в ту пору хотел бы, чтобы каждый из этих типов пережил такую боль, как я, когда у человека в самой глубокой глуби его души все словно в клочья разодрано. Ему становится тревожно при мысли о том, что он заперт во тьме; включает дальний свет, нажав на педаль до отказа, и только тогда открывает глаза.
Белая дорога висит в воздухе, по ней снуют бледные крупные песчинки света, дорога дрожит над бездной, словно призрачный мост, и ему хочется пробежать босиком по этому мосту до нескольких эвкалиптов, еще различимых у самой грани света и тьмы.
Сторожевые псы заливаются неистовым лаем, ошалев от этого странного света — как лунный, но холоднее и белее. Двойной сноп света прорезает во тьме скорбную дорогу.
— Что плохого я сделал, черт побери!
Зе Мигел выскакивает из машины, подбегает к какому-то дереву, кажется, это олива, хватает первый попавшийся сук, тянет, тянет и крутит, пока наконец не обламывает; когда сук у него в руках, он думает, не перебить ли стекла, словно тем накажет, исхлещет себя самого; он словно опьянел от ярости, которую вызывает в нем ощущение собственного одиночества. Стегает темноту наудачу. Потом трогает дерево в том месте, где был сук, и начинает ломать этот сук, пока наконец не чувствует, что силы на исходе и дыхания не хватает.
Он возвращается к машине, пошатываясь и намеренно подчеркивая это пошатывание. Нет, я не поддался боли, не дал ей истоптать себя, тут же решил — все, кончено. Только в этот миг он сознает, что вывел машину на давний путь — по рыбному тракту.
Неплохо, думает он, вернуться на дороги прошлых лет, когда он жил одним только честолюбивым стремлением — обогнать других шоферов.
Зе Мигел выключает фары, и все окрест погружается в безмолвно вопрошающую тьму. Зе Мигел берется за руль, включает скорость, он торопится добраться до одного места, он вспомнил про одно место, куда надо бы съездить, и машина срывается почти в прыжке, пронзительно и длинно провизжав покрышками по асфальту. Он весь напрягся, его опьяняет скорость, возникающая под тяжестью его правой ноги. У него такое ощущение, будто он перенесся на много лет назад, в то утро, когда мерился силой рук с Антонио Испанцем. Об Антонио — вот о ком он вспоминает во хмелю головокружительной езды. Сегодня ночью ему нужно вернуться в глубь прошлого, словно он жаждет угадать какую-то тайну, скрытую в нем самом.
Ему нужно взглянуть на дерево, в которое врезался Испанец, когда хотел на повороте сбить его автофургон. Зе Мигел даже ночью найдет это место. Он помнит его до мельчайших подробностей. Доедет с закрытыми глазами.
XVIII
И сегодня тоже он помнит место, но другое, то, где назначил встречу после восьми — уже отодвинул время на час и не сознает этого.
Выбрал место со всей тщательностью, среди многих других по этой дороге. Высчитал все подробнейшим образом, почти с хронометром в руках, минута за минутой, расстояние, скорость; короткий рывок — и стена, белая стена, ярко-белая, свежевыбеленная; а все остальное — на волю случая.
Через час он выведет «феррари» туда, где вьется огненная змея.
Ночью черная змея преображается в огненную и огненной остается всю ночь, словно Лиссабон извергает и снова вбирает в себя лаву, неистовствуя, как обезумевший вулкан. Река лавы пожирает километры, уносит людские жизни, это не имеет значения, люди умирают везде: отчаявшаяся девушка от снотворного, шестеро мужчин от пулеметной очереди, король или президент республики от безделья и от рака, старуха оттого, что оступилась — намеренно — и свалилась в подвал, ребенок от поноса или оттого, что его прислали, боксер от удара в голову, а крестьянин оттого, что его лягнул осел, муравьи оттого, что их муравейник залило водой, а неразумные люди оттого, что залили себе утробу вином, а женщины и дети оттого, что их залили с самолета напалмом, — и всем им очень повезло, потому что еще не почат арсенал чистых водородных бомб, которые могут залить смертью всю землю, чтобы никому не пришлось умирать бессознательно, умирать по собственной глупости или из-за собственного смирения, когда газетчикам достается всего лишь банальность — несчастный случай на улице, скучный и повторяющийся, как все, что лишено исторической масштабности. В порту подъемные краны разгружают суда: грузовики десятитонные, пятнадцатитонные, двадцатитонные; автомашины стоимостью в шестьдесят, восемьдесят, сто, двести, четыреста конто; неочищенную нефть, бензин, покрышки, смазочные масла и запчасти для замены износившихся или поврежденных во время дорожного происшествия, потому что автозаводы, выпускающие грузовики и легковушки, экспортируют не слишком долговечные автомашины, хорошо, если они продержатся полтора года — срок, за время которого должна быть выплачена их стоимость, если таковая будет выплачена; ведь людям надо выработать каллиграфически изящную подпись, а у долговых обязательств, под которыми человек выводит свое имя, разные сроки; и вот так-то человек просвещает себя и запоминает собственное имя. А поскольку до места надо добраться быстрее, все быстрее и быстрее, смерчи из металла, пластиков и каучука мчатся с головокружительной скоростью, в грохочущем безумии: восемьдесят километров в час, сто, сто пятьдесят, надо быстрей довезти головки чеснока, аппаратуру, потрясающе сверхточную, или красотку, которая обожает скорость и разъезжает в автомашине тайком от мужа или от родителей, а может, все знают, куда поехала она с автовладельцем. «Му love [90], я боюсь этого деревенского олуха, обойди его». А если автостраду загромождает крестьянская колымага либо стадо баранов, бредущее по дороге, словно двести лет назад, звенья цепочки, стоящей миллионы конто, сжимаются, скорость снижается, вот занудство-то! — и машины сталкиваются, вылетая за обочину, опрокидываются вверх колесами на поворотах, сгорают, срываются в пропасть, сбивают велосипедистов, убивают пешеходов — а затем уносятся прочь, быстрее, все быстрее, потому что время — не за тех, кто принимает на себя всю полноту ответственности, а за тех, кто успеет быстрее добраться до места.
А там, за дорогой, крестьянин, как встарь, ковыряется в земле, и на рассвете, как встарь, загружает фургон, который колченогая клячонка потащит по лиссабонским рынкам.
Краны вздымают грузовики — семитонки, десятитонки, двадцатитонки, бесчисленные лошадиные силы, тормозные системы, кузова, прицепы; грузовики и легковые машины приобретаются в долг, закладываются, у каждой два, пять, десять владельцев, у каждой вещи должен быть владелец, их снова закладывают, ими обмениваются, только что прибыла новая модель, выдает сто восемьдесят, чудо! Этот универсал со спальным местом? Вот присядьте, сделайте одолжение! Ну как?… Вы сами видите, каковы его преимущества… Цепочка, стоящая миллионы конто, становится все длиннее, прибавляются все новые и новые звенья, автозаводы работают безостановочно, люди пускай себе погибают, расплющившись за рулем, или на шоссе, или под всесжигающим напалмом, несущественно, заводы работают все так же, остановка возможна в одном лишь случае — когда наступает смерть от истощения, прогресс вездесущ, проносятся поезда, в цистернах бензин и нефть, прогресс вездесущ, акции переходят из рук в руки, но остаются в руках немногих, а кровь людская уже не в силах совладать с темпом, безумным, губительным, хотя есть компенсации, прогресс вездесущ, контуры кузова разработаны Бургетти, нежно-фиолетовая обивка с рисунком в стиле Марии Антуанетты, дивные тона, потрясающе, старина, стоит лишь заплатить первый взнос и подписать долговое обязательство, потому что если человек умеет писать и читать, писать и считать, что ему мешает поставить свою подпись в том месте, куда тычет пальцем симпатичный продавец? И вот автомашины со скоростью восемьдесят километров в час, и сто, и сто пятьдесят вылетают на черную змею, которая на ночь, на всю ночь, преображается в огненную, словно Лиссабон извергает и снова вбирает в себя лаву, неистовствуя, как обезумевший вулкан.
А там, за дорогой, крестьянин, как встарь, ковыряется в земле, и на рассвете, как встарь, загружает фургон, который колченогая клячонка потащит по лиссабонским рынкам.
Зе Мигел знает подходящее место для встречи после восьми вечера. Цивилизация — сложная вязь разных мест. Есть места, где можно убивать, и места, где рождаться; места, где любить, и места, где предавать; места, где наслаждаться, и места, где страдать; места, где утверждать, и места, где притворяться; места, где жить, и места, где умирать.
Он знает одно место, куда мог бы добраться с закрытыми глазами в случае необходимости. Но предпочитает, чтобы те, кто вытащит его из машины, увидели его глаза широко раскрытыми.
Зулмира берет его за руку, ласково сжимает ее. Ей кажется, что нынче вечером он какой-то странный. Либо говорит сбивчиво, и каждое слово как острый нож, либо погружается в долгое молчание, лицо каменное, глаза влажные.
Она ласково сжимает его руку и чувствует, что рука эта подрагивает, словно кровь в его венах, застоявшаяся в недуге, снова пришла в движение.
— Ты только что пошутил надо мной…
— Не понимаю.
— Ну да, дорогой, когда ты сказал, что сегодня заплатишь за новую машину, а затем запишешь ее на мое имя.
— У меня не в обычае нарушать обещания.
— По-моему, странно, дорогой, что ты мне даришь машину. Я ведь как раз просила тебя купить мне дом в Алгейране. Мне хотелось бы, чтобы у меня был собственный дом: они стоят дешево, дорогой.
— Моя мать говаривала, что стоят дешево только букашки-таракашки. А еще, что счастье было зелено и осел его съел.
— Не уклоняйся от разговора, дорогой.
— И не думаю уклоняться. Но хочу сказать тебе, что не люблю дешевых вещей, они быстро выходят из строя. Не стоит их покупать. И потом…
— Что — потом?…
— Сказать?!
— Говори, дорогой. Говори, не тяни.
— Если бы у тебя был свой дом, ты быстренько нашла бы себе мужа. В наше время мужа можно купить за дом с обстановкой, даже не за собственный, а за снятый. Если сдается задешево, само собой! Мужья и жены — дешевый товар.
— Я не выйду замуж, дорогой. Я-то?! Никогда не выйду замуж, дорогой, знаю точно.
Зе Мигел встряхивает головой, смотрит на море — может, для того, чтобы скрыть улыбку, которая еще кривит его губы, когда он поворачивается к девушке.
— Все вы хотите замуж, все, даже те, которые смеются над замужеством. Такие хотят еще больше остальных. Дураки быстро попадают в мышеловку.
— Разные бывают случаи, дорогой.
— Из меня дурака не сделать; женскими штучками из меня дурака не сделать. Я больше женщин знал, чем ты лет прожила. Понятно тебе, девочка?
В порыве досады Зулмира выпускает его руку; он хватает ее за руку, сжимает так, что девушка вскрикивает; хнычет, глядит на него с отчаянием: никак его не уговорить сделать то, чего ей хочется.
Волна захлестывает пустынный пляж.
— Почему ты за мной заехал?
Временами на него накатывает внезапная волна нежности. Может быть, стало бы легче, если бы он выплакался, уткнувшись лицом ей в колени, хотя он и презирает ее. Притягивает девчонку к себе и яростно целует, растянуть бы время, чтобы забыть обо всем; закрывает глаза, словно реальность надвигается на него снаружи, но ярость потухает от собственной лихорадочной избыточности, и он смотрит на Зулмиру, опустив руки, чувствуя свою вину. Его тянет исповедаться ей в своих помыслах и отвезти ее домой.
В какие-то мгновения он склоняется к такому решению, но потом пугается одиночества. Придется ей быть с ним до конца задуманного путешествия. Он понял это вчера, когда выехал на прогулку по прибрежной автостраде, идущей вдоль океана, в машине, которая будет внесена в опись его имущества представителями юстиции; и во время прогулки он видел девушек, они сидели рядом с водителем, положив руку на спинку сиденья у него за плечами, некоторые улыбались, таких было немного, но все они были готовы, подумалось ему, провести эти часы на безлюдной дороге или в комнате какого-нибудь семейного дома в Лиссабоне, так и спокойно, и много приличнее.
Он почувствовал уверенность, что и она отправится в такую поездку недели через две, если не раньше. И при этой мысли ему стало больно. Может, она ему теперь нравилась, хотя бы потому, что была с ним всегда, когда ему хотелось: не так уж много на свете людей, готовых предоставить себя в наше распоряжение, когда нам нужно, чтобы кто-то был под боком.
Да, иногда его влечет к ней, она молода, от нее веет жизнью, она кружит ему голову, рядом с ней он о многом забывает, ему не нужно напиваться, чтобы забыть о том, что произойдет через две недели, если он допустит, чтобы жизнью его распоряжались другие по собственной воле.
Доктор Каскильо до Вале прочел ему приговор:
— Либо вы раздобудете триста конто сегодня же, до четырех дня, либо дело плохо. Я со своей стороны перепробовал все средства, какие мог. Есть кредиторы, которые хотят посадить вас на скамью подсудимых. Доставайте деньги!
— Где?! Где мне достать их, сеньор доктор?…
— А вот это, сеньор Зе Мигел, вот это меня не касается.
— Значит, я должен проглотить пилюлю, так что ли? Должен отдуваться за всех. И только я один…
— Я сделал почти невозможное, чтобы вытащить вас из этой истории, сами знаете; но мои средства воздействия ограниченны. Моих слов уже недостаточно; в ваши обещания люди не верят.
— Вы вели переговоры с банками?
— Вел. Они уже не принимают ваших векселей: они считают, что вы уже не в состоянии нести ответственность за свою подпись.
— Короткая у них память…
— Банки не могут подвергать себя почти верному риску, Зе Мигел!.. Вы — человек разумный, должны разобраться в ситуации.
— Чепуха, доктор, чепуха! Давайте поглядим, как отнесутся к делу друзья; поглядим, сколько у меня осталось настоящих друзей.
— Вы не можете дать гарантий.
— Не говорите так со мной, черт побери! Вы хорошо знаете, знаете лучше, чем я…
— Зе Мигел!.. Вы стали утрачивать хладнокровие и говорить вещи, в меньшей степени соответствующие истине.
— Хотите сказать, я очки втираю?!
— Спокойнее, старина! Так мы не договоримся. Успокойтесь! Я понимаю, вы вне себя, еще бы — столько лет работы, и вдруг такое. В жизни все бывает! Вы делали дела, которые принесли вам деньги; в одиночку вам, естественно, было не справиться, а теперь вы не можете требовать от людей, чтобы они вернули вам то, что заработали в содружестве с вами.
— Но ведь скольким я помог, сеньор доктор? Вы помните? Мне не нужно напоминать вам, сеньор доктор.
— Вы человек щедрой души, Зе Мигел, что правда, то правда!
— Я был машиной, чтоб делать денежки для этих лакомок. Когда они чуяли опасность, сразу бросались ко мне: расписывали мне дельце, какое оно выгодное, доставали бумаги, чтобы можно было провезти контрабанду, им все легко было, ведь в случае чего я бы их не выдал. Никогда я ни одного имени не назвал!
— Так ведь и они никогда не скупились по отношению к вам, Зе Мигел! Дела делались по-хорошему…
— Но каштаны из огня таскал я, сеньор доктор! Я занимался всей черной работой и днем, и ночью, якшался с разным сбродом, рискуя шкурой, а они в это время поигрывали в картишки здесь в клубе или сидели спокойненько у себя дома, ждали, пока я набью им мошну. Я много денег заработал, сеньор доктор!
— Вам же выгода…
— Меньшая, чем люди говорят, сеньор доктор! Это же видно!..
— Вы утратили перспективы.
— Хотите сказать, сижу в дерьме?
— Не в этом дело, Зе Мигел. Хочу напомнить вам, что вы часто теряли голову и поступали вопреки моим советам. Припоминаете?! Похоже, что нет, но я напомню: когда война кончилась, я посоветовал вам продать автофургоны и погасить задолженности; расстаться с земельными угодьями, которые приносили вам одни убытки, хотя земля — ваше хобби, и приобрести доходный дом, а то и два. А вы что мне сказали?!
— Что все тогда думали: война будет продолжаться и моя организация еще понадобится. Это же в глаза бросалось.
— Вам одному…
— Американцы тогда подвели. Но они тоже окажутся в дерьме рано или поздно, если не начнут бомбить русских.
— Дайте яблочку созреть…
— Так а я о чем, доктор Каскильо. Пускай подождут!.. Кредиторы пускай подождут. Я выплачу все долги, но пускай подождут. Того, что у меня есть, хватит, чтобы всем заплатить, если люди не будут меня торопить, словно их припекло!
— Люди боятся.
— Когда похоже, что пес взбесился, всякий норовит швырнуть в него камнем, верно? Никто не помнит, сколько добра нес сделал.
— Про вас много слухов ходит, Зе Мигел.
— Я хорошо их знаю: когда война была в разгаре, почти все были за немцев, а потом, гляжу, почти все давай кричать ура американцам и прочим. В сорок пятом они насчет свободы распинались и всякого такого. Где же у людей честь, черт побери? Я-то всегда был за англичан, это всем известно. Дела вел и с теми, и с этими, дело есть дело, но всегда держался одной линии. Штопор просил меня, чтобы я спрятал его в случае чего. А теперь он говорит мне, что я много денег потратил на женщин. Ну потратил, и что?!
— Спокойствие!
— Спокойствие хорошо для внешнего вида, доктор Каскильо. Когда человек погиб, давать ему советы — дело зряшное. Не хотят они мне помочь, ладно. Мы друг друга понимаем. Хотят посадить меня на скамью подсудимых и свести со мной счеты, и честь у меня отнять, и достояние. Ну ладно же! В день суда я все судье выложу, никому пощады не дам. Все расскажу, язык без костей. Пускай зарубят это себе на носу.
— А доказательства?
— Какие еще доказательства?!
— Как вы все это сможете доказать?
— Свидетели будут.
— Какие?!
— Найдутся, и немало!
— В такие дела никто не сунется, Зе Мигел. Успокойтесь! Приведите в порядок нервы, старина!
— Подождать, пока они меня прикончат, как быка в испанской корриде, так что ли? Вы же знаете…
— Все, что я знаю, Зе Мигел, — профессиональная тайна. Все, что знаю, уже забыл. И вам нужно убедить себя сделать то же самое.
— Вы еще об одном забываете, сеньор доктор. Забываете, что я вам платил помесячно.
— За юридические консультации, и только. Меня в эти истории не впутывайте.
— Мы немало делишек вместе провернули, сеньор доктор.
— Не отрицаю, Зе Мигел, не отрицаю. Но если бы вы заговорили об этом на суде, мне пришлось бы опровергнуть вас. Когда люди — хозяева своему слову, они не выставляют чужое грязное белье на всеобщее обозрение. Понятно?
— Только мое можно, да? Но этот номер не пройдет, могу поручиться: прежде чем меня упрячут в тюрьму, я уложу двоих, а то и троих. На это меня хватит!
— До такой крайности дело не дойдет, Зе Мигел! У вас много друзей!.. Некоторых я знаю. Вам надо приготовиться к худшему, но не отчаивайтесь. Я продолжаю маневрировать. Ничего не продавайте, не то переполошите людей еще больше. Живите тихо, не разъезжайте по городу верхом и ждите.
— Ждать, пока меня подцепят на крюк? Правильно?! Вы считаете, что это хорошо, черт побери?
— Что я считаю, роли не играет. Нам нужно спасти, что возможно, чтобы вы могли начать жизнь заново. Силенок у вас хватит…
— Еще как хватит, доктор, еще как хватит! То-то будет потеха, когда я выскочу на арену, чтобы испытать свои силенки. Если вы мне друг, уладьте дело по-хорошему. Мне уже надоело. Того, что у меня есть, хватит, чтобы всем заплатить, вы знаете, доктор.
— Если дело не дойдет до суда. Потому что, если дойдет до суда, все ваше имущество подешевеет вдесятеро. Когда начинается аукцион, все теряет цену. А гут еще гербовая бумага, судебные издержки, черт в ступе — все на вашу голову, и вы кончите в тюрьме, Зе Мигел. Поэтому я вам говорю: добудьте триста конто — пусть даже за двадцать процентов на полгода.
— И вы даете гарантию, доктор?
— Теперь никто не может дать гарантии, Зе Мигел. Но это все-таки выход…
— Если вы меня выручите, я дам вам сотню конто чистоганом.
Доктор Каскильо до Вале — человек средних лет, неколебимо спокойный, иными словами, не испытывающий никаких эмоций по поводу судебных дел; в нем заметна склонность к полноте, лет через десять он из-за сей особенности будет казаться кому-то человеком весьма благожелательным, добряком. У него детское выражение лица, отчасти из-за того, что щеки у него как у простодушного мальчугана, отчасти из-за круглых глаз, которые часто глядят вопрошающе.
Однако жизнь заставила его отказаться от представления о незапятнанности покровов, коими в его воображении вплоть до третьего курса университета были окутаны кодексы. Теперь он постиг, что кодексы — те же комиксы, их можно повернуть и так, и этак, в зависимости от того, кого судят. В жизни он руководствуется драгоценным даром красноречия, в котором упражняется перед зеркалом, и содействием портного, который одевает его весьма строго, по-английски, даже в викторианском стиле. Если бы он жил в большом городе, он предпочел бы вести бракоразводные дела, по вполне понятным причинам. Но он обжился в этом городке, населенном крупными землевладельцами, погряз в скуке дел по дележу имущества, в исках помещиков против арендаторов и второразрядных биржевых плутнях. Женился он удачно.
Прошу понять правильно: женился на богатой. Супруга унаследовала недвижимость и капитал как отца, оптовика-виноторговца, так и холостяка крестного, занимавшегося экспортом фруктов; кроме того, ее любовник-миллионер, предъявлявший высокие требования к нарядам сожительницы и бывший ее наставником в утехах любви и изысках моды, придал ей некоторый лоск цивилизации. Жена адвоката почти не разумела грамоте, но со всем тем сумела привить супругу хватку отца и космополитизм любовника. Каскильо до Вале стал человеком практичным.
Он всегда презирал деревенскую смекалистость Зе Мигела, но помогал ему ориентироваться, покуда считал, что его можно доить: вымя было тщательно прощупано. А теперь сеньор доктор обратился к кодексам, ссылается на соответствующие статьи, короче, как говорится, спасает лошадку от дождичка, иными словами, открещивается от клиента, платившего ему на протяжении семи лет, и пытается усыпить его, чтобы предать на волю подлого милосердия той части кредиторов, положение которых устойчивее, чем у остальных.
Он умащает свой интеллект расхожей философией, как свою шевелюру — бриллиантином. И то и другое ему к лицу.
До женитьбы он неизменно входил в состав меню обедов и ужинов, устраивавшихся в ознаменование памятных дат. Приятно было послушать его. Ибо доктор Каскильо поминал Платона, Аристофана, Овидия, Сенеку или Рембо по поводу дня рождения землевладельца Такого-то, доны Как-бишь-ее или Сынка-Богатого-Папеньки, который сажал его за стол. Он неплохо пил, особенно белые вина некоторых сортов, очень молодые. Супруга, однако же, ограничила его публичные разглагольствования, поскольку надеялась увидеть его министром каких-нибудь дел или имуществ. Доктор Вале стал приберегать силы для этого великого момента, у него уже было наготове пять речей на разные случаи жизни, в частности, речь по поводу открытия монументального фонтана является чудом ораторского искусства, ибо начинается с первой недели от сотворения мира и кончается запуском ракеты на луну, и доктор Вале потчует своих слушателей нектаром поэзии из хрустального бокала грез.
Разговор с Мигелем Богачом расстроил ему нервы. Он чувствует себя так, словно угодил в клетку дикого льва, которому не дали снотворного. В растерянности расхаживает по кабинету, обставленному мебелью из гуайякового дерева, разговаривает сам с собой, впадает в уныние, потому что в глубине души он рохля — сам это говорит, — и в конце концов хватает телефонную трубку. Помнит, что Руй Диого Релвас его презирает (они еще сведут когда-нибудь счеты), но сейчас решил сообщить помещику о преступных замыслах Зе Мигела, зная, что Штопор может запутать его в тенетах обид и озлобления.
— Пусть приходит. Встречу его у ворот усадьбы.
— Спустите на него собак, сеньор Релвас. Ваших собак достаточно, чтобы держать его на почтительном расстоянии. А если вам понадобится содействие…
— Полагаю, что нет, доктор.
— Предосторожности нелишни.
— Как бы то ни было, весьма признателен. Ваша заботливость — свидетельство порядочности. Храни вас бог!
Каскильо до Вале раскланивается перед телефоном, пятится, придает медовую сладость своему жиденькому голоску и ждет, пока собеседник повесит трубку. Штопор, хоть и делает вид, что новости адвоката не произвели на него впечатления, торопится принять меры.
И дожидаясь, пока дадут связь с Лиссабоном, куда он намерен сообщить о готовящемся преступном акте политического характера, угрожающем ему и его близким, Руй Диого Релвас вызывает управляющего и объясняет ему, что нужно предпринять:
— Распорядитесь прочистить замочные скважины во всех наружных дверях. В садовой конюшне пусть дежурят трое вооруженных людей.
— Ночью?
— Днем и ночью. А ворота держать на запоре.
— Вы ожидаете революции, сеньор дон Руй Диого?
— Нет, не в ней дело, Шико Лопес. Не беспокойтесь.
И когда управляющий, немного побледнев, пятится к дверям, Руй Релвас дает еще одно наставление:
— И никому ни слова. От лишней осторожности вреда не будет.
Говорит это — и вдруг его захлестывает возмущение. В голову ему приходит тот же вопрос, что и Зе Мигелу:
— Если они не начинают превентивную войну, зачем им тогда бомбы?
В его сознании у бомб есть ярлыки с совершенно точным адресом.
XIX
Зе Мигел вылетает из кабинета, словно затравленный зайчишка.
В конце разговора с доктором Каскильо до Вале в нем зарождается надежда раздобыть триста конто, необходимых для того, чтобы остановить лавину опротестованных векселей и юридических актов. Всегдашняя вера в себя вспыхивает в нем с новой силой и воскрешает всезаполняющее чувство радости: он чувствует, что в состоянии еще раз одолеть судьбу, оттащить ее волоком назад, к тому самому дню, когда невезенье явило ему первое свое знаменье, как собаку волоком тащут к тому месту, где она напроказила, и тычут в него мордой для острастки.
Эти шелудивые псы еще заплатят за оскорбление, думает он, прислонясь к окну и теребя поля шляпы в рибатежском стиле. Но как только он подходит к застекленной двери, надежда на благополучный исход встречи улетучивается. Одна за другой рвутся нити веры, вернувшей было его к жизни. Когда Зе Мигел окидывает недобрым взглядом адвоката, который, восседая за письменным столом, делает вид, что поглощен бумагами в громоздящихся одна на другой картонных папках, он видит его смутно, как сквозь туман.
Но все же отваживается на риск:
— Через два дня деньги будут…
— Тем лучше, Зе Мигел, тем лучше. Поверьте, этим вы доставите мне величайшую радость.
— Может, псы еще обломают себе зубы.
Зе Мигел не может различить выражение лица Каскильо до Вале: то ли улыбается с подначкой, то ли вообще не поднимает головы над кипами процессов и исков. Зе Мигел почти ничего не видит.
Тот же туман обволакивает людей, которые встречаются ему на улице. Он идет напролом сквозь нереальный и враждебный мир. Ощущает себя черным силуэтом, врезающимся в густой пепел сумерек. Раздвигает их плечами, отталкивает — и чувствует, как сумерки тотчас же смыкаются у него за спиной, размывая отдельные фигуры с неопределенными очертаниями: может, деревья, может, люди, а может, большие недвижные птицы, поджидающие его. Либо шелудивые псы.
Ну конечно, собрались здесь, чтобы поглядеть, как он пойдет мимо. Преследуют его, окружают. Не переходят на бег; и он тоже идет шагом, голова слегка кружится, хотя он старается ступать твердо.
В иные моменты он верит, что удастся вырваться. Нужно быть внимательным, чтобы не прозевать первых признаков просвета. Но когда ему кажется, что выход найден, он обнаруживает — только тогда, — что ему оставлены одни тупики, что он увязает все глубже. Ему не выбраться из тумана, из колодца, заполненного липким сумеречным пеплом, в который он медленно погружается.
Ему вспомнился брат, Мигел Зе; последнее средство спасения — заложить ему имение Монтес. Все остальные отказались помочь ему почти без извинений. Настал час истины. Горько знать это.
Может, для него так и не найдется трехсот конто; а он стольким дал заработать. Но сотню обещал адвокату — непонятно, то ли чтобы тот с большей охотой постарался добиться того, что нужно Зе Мигелу, то ли чтобы разволновался, тоже утратил сон на эту ночь, которая скоро наступит. Мигел Богач теперь проводит ночи без сна — точно пережидает их минута за минутой, заполняя воспоминаниями о тех временах, когда уверенно шел по любой дороге.
Теперь он блуждает по лабиринту сомнений и ухищрений.
Еще вчера Мануэл Педро пришел к нему в гараж и забрал пять почти новых покрышек в счет десяти конто, данных им в долг Зе Мигелу, чтобы тот мог выплатить недельную зарплату водителям и погасить задолженность по плате за помещение. Даже друзья хотят, чтобы его растоптали. Куда теперь девались его друзья?! Хоть бы один остался для примера, черт побери! А я-то их угощал чем только мог и не мог! Никогда бы не дошел я до такого, если бы сидел сычом у себя в углу, как они. Но мне-то всегда становилось не по себе при мысли, что кому-то из моих друзей туго приходится и я ему нужен. Всегда больше думал о них, чем о собственного семье. А теперь ем себя поедом, да от этого сыт не будешь. Мои рабочие подали на меня в Трудовой суд из-за сверхурочных. Даже Рыбий Хвост и тот был с ними заодно, а ведь я ради них давал работу всей колонне, хотя, когда на ходу больше трех грузовиков, мне один убыток. Чуть им что понадобится, являются с кепкой в руках к хозяину Зе; хозяин Зе то, хозяин Зе ce, и никто не уходил без подачки, сколько бы я на них ни орал. Такой уж был у меня обычай!.. Теперь говорят: я, мол, мерзавец, и больше никто, эксплуатировал их и держал в черном теле; и язык у них поворачивается сказать такое! Даже пустили слух, что я прикарманил их взносы в профсоюзную сберегательную кассу, — только потому, что я не внес своей доли. А что такого?! Инспектор подал на меня ко взысканию, чуть не шестьдесят конто требует, забыл, что я ежемесячно выдавал ему конто за то, чтобы у него все бумаги были в порядке. А за что еще ему, сычу, платить, не за прекрасные же его глаза! И вот теперь он тоже мне пакостит, делает вид, что он тут ни при чем. Когда похоже, что пес сбесился, всякий норовит швырнуть в него камнем, черт побери! Он самолично приперся, чтобы вручить мне повестку о наложении штрафа. Ох, парни! Я света не взвидел, схватил его за пиджак и давай трясти, как чучело огородное; он весь побелел от страха. Я его об стену шмякнул, вышвырнул вон, как старую тряпку; он дал деру, сам орет, вид такой, будто не мужчина, а мальчуган, черт побери!
Зе Мигел рассказывает эти россказни и прибавляет к ним множество подробностей по своему обыкновению. Брат еще не сказал ему ни одного доброго слова. Пришел домой поздно вечером, сыновья выбежали к двери встречать его, в надежде, что отец, как всегда, возьмет их на руки и с ними вместе войдет на кухню, где возится мать; но они сначала рассказали, что дядя Зе пришел, давно его ждет, и, когда они услышали, что отец что-то проворчал, а сам и не приласкал их, как всегда, они сразу поняли смысл многих разговоров, прежде до них не доходивший. Но все-таки не отставали от отца, пока он не исполнил их желания.
Дядя Зе поднял глаза от клетчатой клеенки, покрывавшей стол, за которым он долгое время просидел молча, покуда мать жарила рыбу на огне очага. Мужчины поздоровались на расстоянии, не подав друг другу руки. И тут дядя Зе, Мигел Богач, сказал отцу, Мигелу Бедняку — так прозвали его люди:
— Мне нужно сказать тебе два слова.
— Можешь и больше…
И замолчали оба на некоторое время. Отец подошел к буфету, взял кусок сухого сыру, отрезал горбушку хлеба и стал жевать хлеб с сыром, откусывая большими кусками.
Мальчики переглядывались, пытаясь догадаться, почему взрослые люди притворяются, что не видят друг друга в такой тесной комнате, где их и слепой увидел бы. Мать взяла очередного бычка, обваляла в муке — не спеша, сперва с одного боку, потом с другого, — положила на сковороду, немного отвернув лицо, чтобы не брызнуло масло. Все поглядели на сковороду, словно в первый раз в жизни услышали, как потрескивает кипящее масло. Затем отец произнес:
— Ты хотел что-то сказать, говори…
Дяде Зе поглядел на отца, затем перевел взгляд на них обоих и на мать.
— Можешь говорить свободно.
— Я хочу предложить тебе одно дело.
— Мне?
— Да, тебе.
Когда Мигел Богач помянул про дело, мать внезапно повернула голову, на лице у нее появилось выражение испуга, и, лишь после того, как она перехватила взгляд отца и они поняли друг друга, мать снова занялась рыбой.
— Тогда пошли в комнату…
Дядя Зе с трудом встал из-за стола, притворно ласково потрепал по щеке обоих племянников и проговорил чересчур громко:
— Прошу прощения, невестка, это не потому, что при вас не хочу.
— Я ничего такого и не думала.
— Я всегда был вам другом, вы знаете.
— Никто и не спорит. Но мужской разговор есть мужской разговор. Я в делах ничего не понимаю и понимать не хочу. Может, так оно и лучше.
Когда Мигел Богач вошел в комнату, Мигел Бедняк ждал его, стоя у окна; он все еще ел хлеб с сыром, но теперь откусывал маленькими кусочками, словно боялся, что не расслышит, когда брат начнет рассказывать, зачем пришел. Мигел Богач остановился почти у самых дверей. В комнате ему было не по себе: он словно боялся, что его словам не хватит места. Мигел Бедняк снова предложил ему сесть, и он поблагодарил: нет, нет, большое спасибо, лучше постою, мне так удобнее.
Мигел Бедняк пожал плечами и замолчал, выжидая.
— Мне нужны деньги. Я задержался с платежами, и банк передал дело в суд. А по суду за все переплачиваешь.
Мать кладет голову брата себе на колени, баюкает его, медленно покачивая ногой, ее пальцы перебирают черные жесткие волосы Мигела Зе, и она напевает песенку про буку на крыше; и, когда глаза брата смыкаются, мать улыбается нежно-нежно. Зе Мигел подглядывает в щелку приоткрытой двери; ему одно обидно — что он не может подбежать к ним и разлучить их, растоптав брата. И он решает вбежать сломя голову, с криками, он опрокидывает табурет, и, когда брат просыпается, мать встает, хочет схватить Зе Мигела, а тот бегает вокруг стола, не дается. Мать говорит: не смей убегать, хуже будет. Можно подумать, в этого мальчишку дьявол вселился.
Мигел Бедняк ждал, что брат скажет дальше. Дожевав хлеб с сыром, стал скручивать цигарку грубыми пальцами в черных рубцах, приобретенных на работе. Он слесарь, у него своя мастерская по ремонту двигателей. Немногим более года назад нанял двух маляров и расширил дело.
— Я пришел выяснить, может, ты окажешь мне услугу…
Лицо брата оставалось все таким же замкнутым, он как будто не слышал слов Зе Мигела.
— Предоставлю тебе любые гарантии. Можешь взять любой грузовик по выбору, а хочешь — два.
— Мне в моей работе грузовики ни к чему.
— Отдам их тебе в обеспечение как залог, старина, непонятно, что ли?
— Я в таких делах не разбираюсь. Да и нет у меня денег, нечем тебе помочь.
— Подпиши вексель.
— Никогда не лез я в такие дела и не хочу. Я недоумок.
Зе Мигел всю жизнь ни в грош его не ставил, с самого детства. Когда в футбол играли, он держал его в загольных; как-то раз один парень из команды Зе Мигела ушибся, и все равно Зе Мигел не взял брата, предпочел продолжать без одного игрока. Еще недавно в разговоре Зе Мигел сказал о нем, ему передали: «Он славный парень, да вышел недоумком».
— Почему недоумок, вовсе нет. Просто не привык иметь дело с банками.
— И не хочу.
— Выручи, старина, по-братски, я в долгу не останусь.
— У тебя столько друзей!..
— Хоть бы один остался для примера, черт побери! А я их угощал чем только мог и не мог! Никогда бы не дошел до такого, если бы сидел сычом у себя в углу, как они. Но мне-то всегда становилось не по себе при мысли, что кому-то из моих друзей гуго приходится и я ему нужен.
Мигел Бедняк перестал слушать брата, доводы Мигела Богача его не растрогают. Мигел Бедняк смотрит на брата искоса, недоверчиво, сузив глаза щелочками, чтобы тот не разглядел их выражения. Глаза у обоих одинаковые, может, у Зе Мигела чуть посветлее. А в остальном братья непохожи. Мигел Бедняк вырос малость повыше, не скажу, что намного, но почти на полголовы; смуглый, далеко не красавец, рот до ушей, нос рубильником; он жмется в присутствии Мигела Богача, побаивается его. Подобно брату, Мигел Бедняк снедаем честолюбием, но умеет обуздывать буйные порывы тщеславия, ибо жизнь брата для него как открытая книга, которая учит его тому, как не следует действовать.
Он подавил ярость и теперь холодно спокоен, а потому проницателен. Говорит медленно, цедит слова с превеликой осторожностью, изображая благоразумие. Но внутренне он весь ощетинился, выставил колючки, как еж, хоть и улыбается с показным добродушием.
Только тот, кто близко его знает, способен догадаться, что Мигел Бедняк взволнован; признак тому — подрагиванье синеватой жилки на правой щеке и легкая бледность — лицо его, когда он обеспокоен, становится цвета неспелой сливы.
А брат, Мигел Богач, беспокоит его.
Мигел Богач продолжает свои россказни и прибавляет к ним множество подробностей по своему обычаю. Он еще не сказал никому ни одного доброго слова, после того как пришел сюда поздно вечером:
— Я его об стену шмякнул, вышвырнул вон, как старую тряпку; он дал деру, сам орет, вид такой, будто не мужчина, а мальчуган, черт побери! Все забывают, что у меня еще остался порох в запасе.
Зе Мигел уверен, что только с помощью бахвальства заставит брата уступить. Он чувствует — всегда чувствовал, — что Мигел Зе его боится, и снова повторяет себе, что, играя на сочувствии, он ничего от брата не добьется.
— Если ты раздобудешь мне сотню конто, заложу тебе усадьбу. Тебе стоит только захотеть — сегодня же раздобудешь сотню конто. Ты пользуешься кредитом.
— Моего кредита и на тридцать конто не хватит: я человек бедный. А к тому же, на что мне твоя усадьба? Мне оборудование нужно для мастерской — вот что мне нужно.
— Усадьбе цена пятьсот конто.
— Триста, Зе, если б она была не заложена. А ты ее уже заложил.
В первый раз они смотрят друг другу в глаза. И читают мысли друг друга. Взглядом им друг друга не провести, он у обоих одинаковый, и они знают один другого.
— Вспомни, что у меня двое детей, Зе!
— A y меня их нет…
— Насколько я знаю, нет. Был сын, но умер.
Кажется, что сын спит, лежа на софе в гостиной, словно его уложили там спать. В мнимом безмолвии дома грянули два выстрела, это случилось минут через десять после беседы, которая была у них в кабинете, около стеллажа, заставленного книгами, которых Зе Мигел никогда не читал. Столяр снял мерку, и Зе Мигел заказал: сделайте мне на семь с четвертью метров книг в переплетах. Книги по вашему выбору.
— Он был слабак. Вышел характером в материнскую породу и покончил с собой. Теперь мои наследники — твои сыновья.
— Я не возлагаю надежд на твое наследство. Думай о себе; ты всегда думал только о себе. Правильно делал: каждый должен думать о себе. Я теперь так и поступаю.
— Мы братья…
— Да, по словам матери.
— Ты что-то не то говоришь, Мигел!..
— Может, и так, старина! Братские чувства не для меня. Я человек бедный.
Когда-то много лет назад у них был очень долгий разговор. Мигел Бедняк решил начать самостоятельную жизнь и попросил Мигела Богача одолжить ему двадцать конто: он намеревался открыть мастерскую. И брат сказал ему: «Деньжонки выложу, но только если заведем общее дело: я даю деньги, ты даешь работу. Прибыль — пополам. Согласен?!» Мигел Бедняк покачал головой, сказал, что подумает, и никогда больше не заходил к брату.
— Если ты меня сегодня выручишь, завтра сможешь разбогатеть. Заведем общее дело.
— Общее дело я признаю одно: с женщиной в постели. Не люблю общих дел, они плохо кончаются.
— Сразу видно, что ты меня не перевариваешь, старина! Что плохого я тебе сделал?!
— Ничего. Если б сделал, мы бы поссорились. А так мы братья — каждый за себя, и никто не в обиде. Да и не могу я тебя выручить, Зе. Твоя лодка села на мель, но мне ее с места не сдвинуть, слишком тяжела для такого бедняка, как я. А у меня двое сыновей. Моя жена тоже ничего не подпишет такого, от чего могут быть неприятности.
Зе Мигел хватает шляпу, которую положил на кровать поверх покрывала, гневно впивается в твердый кастор ногтями: все-таки пытается растрогать брата, смотрит на него умоляюще. Делает два шага к дверям, как бы возвещая, что уходит. Но ему страшно уйти отсюда: он останется в одиночестве, и он боится — не людей, люди его уже не унизят, но своих собственных мыслей. Вот уже пять дней, как ему приходит в голову одна и та же мысль.
Мигел Бедняк устыдился своего враждебного тона: в добром слове никому нельзя отказать.
— Ты слишком далеко зашел, Зе. Много денег выбросил коту под хвост, а теперь тебе не свести концов с концами.
— Зато получил удовольствие, этого у меня уже не отнимут.
— Ты пожил всласть, Зе. Прямо как лорд. Всего у тебя хватало: и женщин, и машин.
— Еще будут, и долго. У меня покуда не весь порох вышел.
— Релвас подал на тебя в суд… А если такой тип выставит рога, он опасней, чем мьюрский бык, когда тот кидается на лошадь. Штопор тебя из когтей не выпустит.
— Потому-то мне и надо триста конто. Сотней конто заткну ему пасть. Остальные две сотни пойдут тем, кому больше всех не терпится; все прочие перебьются. Стоит головным баранам свернуть с пути, все стадо пойдет за ними следом. А если я смогу посадить их в дерьмо, то посажу. Начнись сегодня новая война, я стал бы первым человеком. Я создан для крупных дел, мелкие меня раздражают, мне тошно с ними возиться. Разразись новая война — и все они приперлись бы ко мне за вкусненьким, тут и настало бы для меня время мести.
— На такое у тебя силы не хватит!
— Это ты так считаешь… Я всех их скупил: всем им та же цена, что шлюхам. У них у всех душа шлюхи, все дело в сумме.
— Твоя беда, что война не начинается.
— Может, и так… Но дьявол не дремлет, он всегда ждет за дверью. Если ты мне поможешь, вот тебе честное слово, даю тебе честное слово, что ты станешь моим компаньоном.
— Я в своей жизни иду медленно, Зе, уж ты с этим смирись. Таким я создан — чтоб идти медленно.
— Ты же ничем не рискуешь, старина! Подпишешь вексель, что покупаешь у меня грузовики: тебе продали дешево. Кто придерется?!
— Не получится, Зе, не получится. Тебе все кажется проще, чем оно есть на самом деле. Сам на себя беду накликаешь…
— Ты так думаешь?!
— Уверен. И теперь они тебе не простят. Слишком много ты говорил. Это твоя слабина: всегда говоришь больше, чем нужно. Я твой брат, и, если ты мне что-нибудь продашь, мне не поздоровится. Я в эту историю встревать не буду, наберись терпения!..
Зе Мигел и сам твердо знает, что брат говорит правильно, но у него такое чувство, будто он услышал обо всем этом в первый раз. Он раздосадован — разъярен и раздосадован — и решает пустить в ход театральный эффект. Подходит к брату, хватает его зa руку, подводит к окну, вглядывается в улицу, словно боится, что подслушают.
— Даю тебе честное слово, что на скамью подсудимых не сяду. Не бывать тому! Эти подонки, которые меня не переваривают, эта погань жалкая, пусть они не надеются: им не удастся порадоваться, что я угодил под суд. Клянусь тебе прахом нашего деда! Если до этого дойдет, честное слово, если дойдет до суда, я покончу с собой!..
Последнюю фразу он выкрикивает. Выкрикнул и улыбнулся — без горечи, почти счастливой улыбкой.
— Ты мой брат… Если захочешь, ты сможешь меня спасти. Мигел Зе высвобождается резким движением.
Брат стоял напротив него и издевался над ним, потому что отец приказал ему вымыть посуду; это было наказание: он не захотел идти за кофе, заявил, что он не женщина, чтобы мотаться за покупками, дед нажаловался, и теперь он расплачивался за то, что язык распустил. Тут появился Зе Мигел, явно что-то затаивший: вид у него был грустный, но, когда он проходил мимо него, по пути в сад, стал говорить обидное: «Раз ты теперь в судомойках, смотри, не спутайся с приказчиком из лавки! Если он тебя обрюхатит, отец выгонит тебя из дому. Будь пай-девочкой!» На него внезапно накатил гнев, в глазах потемнело от ярости; и он стал искать что-нибудь, чем причинить брату боль. На столе блеснул кухонный нож. Зе Мигел перехватил его взгляд и выскочил их кухни. Кончик ножа вонзился в дверь, которую успел захлопнуть брат. Нож еще дрожал от силы броска; Мигел Зе поглядел на него, потом убежал в комнату, забрался под кровать и заплакал.
Он высвобождается резким движением, пытается что-то сказать, мыслей так много, они путаются, и он не в состоянии выдавить ни слова. Из кухни доносятся веселые голоса детей; он думает, что должен сделать что-то ради своей семьи, что не может допустить присутствия брата в доме, где умерла их мать, с которой Зе Мигел обошелся так презрительно. Слова теснят друг друга в смятении и тревоге, а голоса нет. И не в силах владеть собою от гнева, Мигел Зе бросается на брата, метя ему кулаком в переносицу, но за мгновение броска порыв ослабевает.
Зе Мигел, покачнувшись, пятится к двери; лицо исказилось было от испуга, но он тут же приходит в себя и, выкрикнув ругательство, тотчас возвращается, готовый дать сдачи:
— Я глаза тебе выбью, подонок!
Мигел Зе, угадав, что за этим последует, в два прыжка перескакивает за кровать, хватает стул и выставляет ножками вперед. Влетев в комнату, растрепанная жена Мигела Зе становится между братьями.
В дверях комнаты, словно свидетели, появляются сыновья.
— Прочь отсюда, сеньор мошенник! Прочь с глаз моих, да поживей!
Униженный, Зе Мигел идет к выходу, неотрывно глядя на брата. Невестка хлещет его словами:
— Вы тратили деньги, как хотели, мы никогда не сидели у вас за столом рядом с вашими богатыми друзьями, а теперь вы явились только за тем, чтобы ограбить людей, которые живут своим трудом.
— Вы пьяны, сеньора невестка!
Мигел Богач говорит это, чтобы уколоть брата, но Мигел Бедняк уже взял себя в руки. Успокоился, почувствовав, что Мигелу Богачу уже не вырвать у него ни медяка.
— Ступайте в ад!.. Ваша мать говорила про вас то, что вы заслуживаете, сеньор!
Мигел Богач почти бежит к порогу. Ему хотелось бы спросить у этой чертовки, что же говорила мать, но он боится услышать проклятие, которое мать оставила ему в наследство.
ХХ
Мать простила его в смертный час, ибо простила себя.
В тот миг она ощутила, как сурово обходилась со старшим сыном; ее суровость походила на ненависть — может быть, потому, что любовь для нее всегда должна была принимать видимость борьбы — напряженной, почти яростной, а перемирие было бы чем-то вроде неизбежной — хоть и желанной — передышки. Даже с собственным мужем Ирене Атоугиа была резкой и властной. Ей нравилось изводить его до тех пор, пока он не бросался на нее с яростью, граничившей с помешательством, чтобы потом вернуться к покаянным ласкам.
Тогда, и только тогда, она становилась на диво нежной.
Ее руки, огрубевшие от работы, становились словно шелк, она убаюкивала мужа прерывающимся от нежности голосом, завораживала все новыми ласками, воскрешая в нем тягу к своему телу, сухощавому, почти некрасивому, таившему под холодной угловатостью неожиданную пылкость. Когда он внезапно возвращался после долгой отлучки, она отвергала его ласки. И всего нежнее с ним была, когда он сникал, поддавшись усталости после работы или впав в апатию из-за какого-нибудь глубокого огорчения.
Ей нравилось восстанавливать то, что жизнь, казалось, разрушила непоправимо. В такие моменты у нее возникало ощущение, что она в состоянии воссоздать для себя самой то, что принесет ей радость. Таким образом она вознаграждала себя за подчинение, предписанное женщинам браком.
После рождения старшего сына она забыла про мужа. На ночь пристраивала ребенка у себя под боком, словно боясь, что его унесет ночным ветром далеко-далеко от нее. Отдалась ему целиком, брала его с собой на работу, не обращая внимания на измены мужа, который не терял времени и искал у других женщин то, чего ему недоставало дома. В сыне она души не чаяла, пугалась, когда он капризничал или слишком долго спал, поднимала переполох, металась во всей деревне, пытаясь выяснить, что с ним.
Но как только мальчуган начал ходить и мать обнаружила, что он бунтует против суровых законов, которым она пыталась подчинить его с помощью ласк, она стала придираться к сыну так же, как придиралась к мужу, хоть и боготворила его, словно статую святого в церкви, впрочем, святых-то она не изводила (ценами ревности и озлоблением. Зе Мигел так и не научился читать у нее в душе, может, из-за упрямства и склонности к ожесточению, характерных своих черт. И потому так и не было ему никакой радости от той незаурядной любви, которую мать таила от него всю жизнь.
Она обожала сына — и боялась его строптивой отваги, не в с илах перекроить нрав мальчишки по своей воле с помощью шлепков и нежностей. Родился Мигел Зе; казалось, это должно было растрогать старшего. Нежность к малышу, над которым она го ворковала, то ныла, омрачалась озорными выходками старшего, истинного ее сына. Подчинить его ей не удавалось, а потому она била его; мальчик же не мог догадаться о тайной причине ее ожесточенности.
Она давала себе волю ночью, когда все спали; тогда, подкравшись к его тюфяку, она целовала ему руки и говорила, как любит его. Разговаривала с сыном, словно с возлюбленным. Долго шептала нежные слова, почти без голоса, одними губами — и бред ее жаждущего любви воображения вознаграждал ее за неверность мужа, разменявшего в чужих постелях ее любовь на медяки.
В тот день, когда мальчугана принесли полумертвым и Ирене Атоугиа разразилась бранью и проклятиями, чтобы не выдать своих чувств соседям, привыкшим к ее неизменной суровости, она чуть не сошла с ума, кровь у нее кипела оттого, что не дала она воли материнскому чувству. Ночи напролет просиживала у изголовья постели сына, поверяя ему свои горести и затаенную нежность.
Кто сумел бы заглянуть ей в душу, понял бы, что брань у нее только на языке: глаза ее говорили о том, что она на сына не надышится. Зе Мигел так никогда ее и не понял. Он слишком любил мать, чтобы довольствоваться лишь малой долей ее нежности, и отсутствие взаимопонимания между ними наложило отпечаток на всю его жизнь: Зе Мигел всегда демонстративно презирал женщин, хотя и говаривал сам себе, что «человек без любви, как дерево без корней: иссохнут оба».
Когда он бежал из Лезирии, она пришла в ярость. Разыскала сына в городке. Собиралась за уши приволочь его обратно, как грозилась дома, вернуть под начало Кустодио, крестьянина до мозга костей, он-то сделал бы из мальчишки честного человека, такого, каким был дед Антонио Шестипалый.
Она разыскала его под вечер, еле на ногах держалась — столько исходила улиц, заполненных незнакомыми людьми; во рту у нее все горело от волнения, словно от недобрых слов, что приходят на ум даже во время крестного хода, когда вражда с кем-то не дает покоя. Сердце у нее зашлось, когда взгляд ее уперся в сына: босой, в лохмотьях, пропах рыбой, как она сообщила ему для начала.
Столько ярости было в словах у обоих, что они швырялись ими, как камнями.
— Вы мною больше не помыкаете, сеньора.
— Да ты слышишь ли, что говоришь, шалопут сопливый!
— Можете помыкать своим любимчиком, сеньора. А мною — не выйдет. Если матери сын не по нраву, она не может им помыкать. А я всегда был вам не по нраву: вы всегда меня любили точно из-под палки.
Она готова была разорвать его собственными руками, а потом осыпать поцелуями. Пальцы у нее ныли под бахромою шали, голова кружилась, она валилась с ног. И нужно было слушать его, а он стоял перед нею, разъяренный, и был способен оскорбить ее, если бы она подняла на него руку, как ей хотелось.
— Иди своей дорогой, старая. Иди своей дорогой и не надоедай мне!
— Послушай, Зе!.. Послушай, змееныш!
— Вы со мной только тогда разговариваете, когда хотите меня обидеть. Но это времечко прошло. Чем с вами жить, я бы лучше в море бросился.
— Да после таких слов, если бы выплыл, я бы тебя за волосы схватила и снова окунула, ты бы у меня всю воду выхлебал, какая в море есть. Чтобы не был псом шелудивым!..
— Пустите! Отпустите руку!..
Она увидела, как он повернулся и исчез за дверью склада.
Ирене Атоугиа побрела пешком в Алдебаран, заливаясь злыми слезами, которые жгли ей глаза, точно расплавленный свинец. Никогда еще дорога не казалась ей такой длинной! Никогда еще так не болела душа!.. Не раз она думала в тот день, что лучше было бы лечь на обочине дороги: может, смерть бы почуяла, что она не станет противиться. Почему в тот вечер молнии с неба не падали?
Зе Мигел побрел к топчану, с отчаяния впился зубами в двойное пуховое одеяло, что вдова ему одолжила. Юное его тело обмякло, словно он был старик, измученный жизнью. Он бы рад был броситься матери в ноги, пасть во прах и просить прощения, но слишком хорошо он знал мать, не мог он показать ей свое раскаяние. Он подумал, что из его унижения мать устроит праздник для Мигела Зе, своего любимца. А уж этой радости он ей не доставит, черт побери, как бы ни страдали его сыновние чувства, которые он таил от всех.
Но время и расстояние смягчили гордость Зе Мигела. Подкопив деньжат, он послал матери тонкой шерсти на кофту с одной торговкой, которая возила рыбу в Алдебаран, и до вечера ждал в тревоге, не возвратит ли мать подарок. Но хотя такая мысль и пришла ей в голову, Ирене Атоугиа переборола себя. Послала сыну в ответ носки, связанные на спицах, и кукурузный хлебец с поджаристой корочкой, как любил Зе Мигел.
После этого они снова стали видеться, но щадили гордость друг друга — приподнимавшую обоих, точно деревянные башмаки, хотя то один, то другой преднамеренно преступал строгие правила этой игры. Сразу же возобновлялись — столь же безудержно — обиды и ссоры, и оба подкидывали дровишек, чтобы новый пожар разгорелся как следует.
И мать, и сын наслаждались этой страстной враждой, причем ни он, ни она не могли верно истолковать поведение другого. И поскольку оба были строптивы и неуступчивы, то жили в состоянии незатухающей тяжбы, мучительной для обоих.
Как только Зе Мигел обзавелся собственным автофургоном, он стал ежемесячно посылать домой определенную сумму денег — отчасти из чувства долга вперемешку с желанием похвастать своей самостоятельностью, отчасти с целью приструнить мать, чтобы стала покорнее, раскаялась. Но деньгами ему никогда было не завоевать Ирене Атоугиа, женщину с таким строптивым характером — не дай бог. Ей не нравилось, как она сама говорила, чтобы ей подпихивали кормушку под нос, потому что доступность и изобилие не внушали ей доверия; и она выкидывала штучки одна почище другой, выдумывая всевозможные оправдания своим причудам.
Годы не смягчили в ней эту слабость тирана — гордыню, напротив, усилили, тем более что сын все больше отдалялся от матери, по мере того как обзаводился состояньицем и знакомствами среди городских заправил. В глубине души Ирене гордилась успехами Зе Мигела, но признавалась в этом только самой себе, а сына обвиняла в том, что он отказался жить с ней под одной кровлей, оскорбив тем ее материнские права и чувства; может, он воображает, что родился от какой-нибудь графини, которой цена — три медяка, а в рыночный день винтен — так говорила она в часы дурного настроения или когда хвастала отцом, одним из первых республиканцев в деревне. И все это она выложила сыну в глаза, узнав, что Зе Мигел угрожал своему двоюродному брату Педро Лоуренсо доносом в полицию, куда тот и угодил после восстания крестьян в Лезирии, на четвертый год войны [91].
В ту пору слава Зе Мигела достигла такого размаха, словно он был генералом. Он и был им — генералом, осыпаемым проклятиями, возглавляющим тайные операции в сражении, которое разжег голод. Зе Мигел пускал в ход влияние важных особ, купленных им по самой дорогой цене, и это позволяло ему водить за нос органы контроля и местные власти и, закупив партию муки или сахара в Валенса-до-Миньо, доставлять ее без потерь в случае необходимости хоть в Вила-Реал-де-Санто-Антонио. Опасность увлекала его. У него в распоряжении было восемь автофургонов, фургоны и двуколки, катера и речные транспортные суденышки, и он планировал использование сил и средств, не нуждаясь в директивах из какого-нибудь руководящего органа. Когда на него оказывали слишком сильное давление или разражался скандал из-за чрезмерной наглости, с которой он поставлял все, что требовалось, Зе Мигел позволял слугам закона захватить какую-нибудь мизерную добычу, дабы законность оставалась на высоте, а основную часть контрабанды отправлял другой дорогой, более свободной.
У него были сообщники и соглядатаи как среди портовых подонков, так и среди самых высокопоставленных персон. И всем он платил по высшим расценкам, установленным в каждом из них разрядов, ибо голод давал ему возможность возместить расходы на небезвыгодные для него щедрые подарки, званые пиры и кутежи в злачных местах Лиссабона, где расточительность его стала легендарной среди шлюх и сутенеров. Во время таких кутежей он выкидывал самые абсурдные номера, чтобы о нем пошла слава.
Городок узнал — у друзей весть вызвала улыбку, у тех, кто сносил Зе Мигела и его шайку лишь по необходимости, — гримасу отвращения, — что он и «гладиаторы» распорядились закрыть один дансинг, заплатив музыкантам, официантам и женщинам, с тем чтобы посторонних в зал не пускали. Рассказчики, надо полагать, преувеличивали, когда сообщали о потоках шампанского, струившегося по соскам и ляжкам Ев без фигового листка и Адамов в трусиках, плясавших в хороводе, который вогнал бы в краску любого профессионального распутника.
Затем, когда притуплённая алкоголем фантазия увяла, Зе Мигелу взбрело на ум заказать на ужин яичницу-глазунью — блюдо, которым он предпочитал завершать пирушки и оргии в плебейском вкусе. По кабакам и ресторанам квартала собрали в срочном порядке столько яиц, что аппетиту участников пира, хотя и разыгравшемуся от вина — красного или белого, безразлично, с перепою вкуса уже не разбирали, — было не осилить такого количества.
Но честь поджечь запал для завершающей фигуры фейерверка — огненного колеса — выпала Мануэлу Педро, воображение которого не знало удержу во время кутежей с женщинами. Хотя он уже был дедом двух взрослых внуков, его все еще озарял отсвет легенды о девушке, которую он пометил раскаленным тавром со своими инициалами, — достаточное основание для того, чтобы у него не было недостатка в почитателях из числа завсегдатаев ночных увеселительных заведений.
Вот это действительно поступок, достойный мужчины, черт возьми! Страшно, да, наверное, и больно, но такой знак внимания не изгладится до самой смерти, и какая-то женщина, уже в том возрасте, когда пора в отставку, может похваляться вечным свидетельством пылкой любви, приукрашивая событие по собственной воле и усмотрению.
Три молоденькие потаскушки, раззадоренные этой легендой, заигрывали с Мануэлом Педро. Для начала он заставил себя просить: детские забавы, рассказывать — только время терять, нужно предаваться жизни, а не воспоминаниям о ней, он еще кое-чего стоит, хоть и стар, а не поменялся бы местами ни с одним из этих мозгляков занюханных, только портят женщин своими потачками и не умеют дать шпоры в нужную минуту. От тщеславия у него словно крылья выросли, и он воспарил коршуном в выси своего воображения, бредя подвигами, достойными жеребца-производителя.
Музыканты играют пасодобль, рибатежцев разбирает тореадорская удаль, они пускаются в пляс, словно бросаются на быка, и Мануэл Педро тотчас оказывается в центре зала, он ухватил веснушчатую блондиночку и собирается содрать с нее черное вечернее платье на бретельках, расшитых блестками, уже немного потертое, но все еще эффектное. Он уже спустил молнию, идущую от середины спины до начала ягодиц, когда администратор подошел к нему и пустился в объяснения насчет того, что такого рода вольности здесь не допускаются, не потому, что он против, зрелище приятное, во Франции стриптиз — в порядке вещей, вся загвоздка в том, что здесь такие вещи делаются тишком, а ему приходится держать заведение открытым для всех, налоги он платит, но закон соблюдает, тем более что полицейский инспектор из их участка косо на него поглядывает из-за другого дансинга, совладельцем которого он является, и не сегодня завтра доставит ему кучу неприятностей.
Мануэл Педро весь передернулся. Девица в отместку обнажила одну грудь и попробовала станцевать сегидилью в стиле Праса-да-Алегриа, под хлопки в ладоши и выкрики «оле!»; шум разгорелся еще пуще из-за спеси Зе Мигела, который вмешался и стал расписывать администратору, на какой он короткой ноге с полицейским инспектором, а в случае чего он заплатит за убытки, заплатит за все, он никогда не бросал друга в беде, черт побери, заплатит, сколько нужно, если дело в деньгах, заплатит вперед, заплатит и переплатит, он только об этом и говорил, выставляя напоказ две пачки крупных ассигнаций, извлеченные из кармана фатовских брюк.
Администратор благожелательно отмахивался, ну вот еще, само собой, он знает, с кем имеет дело, но такая история ставит под угрозу репутацию заведения, потерпите немного.
Мануэл Педро увидел обоих в зеркале — зеркала высились между колоннами зала до самого потолка, и в них мелькали отражения всей веселой компании; его взбесила пылкая жестикуляция подпрыгивающего администратора, коротышки с головой, сверкающей от бриллиантина, и тут воображение подсказало ему, как наказать администратора за глупость и наглость. Мануэл Педро подбежал к столу, где стояла его тарелка с глазуньей из двух яиц, которые одна из красоток обильно посыпала перцем, чтобы возбудить его мужское естество; он заранее улыбался, предвкушая удовольствие от задуманной выходки, которой не могли предвидеть его собутыльники, заглядевшиеся на ошалевшую плясунью или поглощенные спором между администратором и Зе Мигелом, который упорно хотел оплатить убытки.
Когда Мануэл Педро вернулся с тарелкой в руках, некоторые предположили, что он запустит ею в лоснящуюся голову администратора, но до этого его изощренность не дошла. Он предпочел засадить глазунью в самую середку одного из зеркал, может, для того, чтобы стекло не позорили мерзкие физиономии кутил. То был сигнал к бою.
С восторгом одобрив инициативу Мануэла Педро, собутыльники последовали его примеру, вдохновленные хмелем, среди криков и толкотни, аплодисментов и взрывов хохота, в то время как администратор, изрыгая проклятия, призывал к порядку любезных сеньоров; подумайте, вы же сами напрашиваетесь на серьезные неприятности.
Белки и желтки стекали по колоннам очень медленно, словно наперекор граничащему с безумием исступлению гуляк, продолжавших ураганный обстрел зеркал; на колоннах оставались желтые и белые полосы, но обслуживающий персонал не решался вмешаться и положить конец бесчинству. Одна из девиц, упившаяся до бесчувствия, споткнулась о стул и повалилась с тарелкой глазуньи в руках прямо на ударника, который выбивал барабанную дробь, словно в цирке, во время заключительной части выступления воздушных гимнастов под куполом. Брюки и лацканы синего шелкового смокинга были забрызганы, и музыкант в ярости размазал остатки яичницы по бледному от разгульной жизни лицу девицы, словно мстя за какое-то тайное оскорбление.
Этого оказалось достаточно, чтобы всеобщее помешательство вылилось в драку, и все ринулись друг на друга, вооружившись тарелками, чтобы размазать яичницу по лицу первого, кто подвернется либо покажется наиболее безответным. В ход пошли подножки, поединки врукопашную с пинками, с затрещинами, кто-то погнался за кем-то, а затем свет погас и появились полицейские с дубинками под музыкальное сопровождение свистков.
Администратор взял свое, предъявив счет на расходы по уборке дансинга на сумму, которой хватило бы, чтобы навести чистоту в монастыре Мафры [92]; полиция взяла столько же на нужды церкви, и дело обошлось без суда, гербовой бумаги и адвокатской коллегии, за что следовало благодарить друзей Зе Мигела, пустивших в ход свое влияние.
Но скандал проник в городок через широко распахнувшиеся врата злословия. Обсуждалась наглость собутыльников: швыряться яйцами, когда их так трудно достать для детей и больных, которым они необходимы. Шутят шутки с голодом, негодовали самые смелые; есть вещи, которые можно терпеть, но ради сохранения общественного благодушия нельзя предавать гласности, тем более что неба сподобятся лишь те, кому на земле суждено жить в грязи и в лохмотьях нищеты.
— Ты шутишь шутки с чужим голодом, Зе Мигел! — тут же набросилась на него мать.
— И вы тоже против меня, матушка?
— Я хочу только, сын, чтобы ты вспомнил, в каком доме родился. Говорю с тобой так для твоего же блага! Люди в твоем положении не должны употреблять его во зло… Когда-нибудь бедным надоест терпеть, а когда бедным невмоготу терпеть, с ними никто не совладает.
— Тут вы ошибаетесь, матушка.
— Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Это я тебе говорю, Зе! В народе только и разговору, что о тебе, ты притча во языцех. Все знают, что ты тайком перевозишь продукты в своих грузовиках.
— Ложь. Вы бы поменьше слушали сплетни, сеньора.
— Думаешь, мне эти разговоры по вкусу?! Ошибаешься, Зе Мигел. Но еще меньше по вкусу мне то, что ты делаешь, потому что в один прекрасный день ты за все заплатишь, и дорогой ценой.
— Это все мой двоюродный на меня наговаривает, Педро, и другие головорезы вроде него.
— У всех у вас одно на языке, Зе Мигел. Все ищут кого-нибудь, на кого все свалить, всегда легче переложить вину или неприятность на чужие плечи.
— Знаю я Педро и его компанию…
— Да ты, видно, забыл, кто ты такой. Вспомни, твой дед Атоугиа был одним из первых республиканцев в деревне. Смекалистый был человек и совестливый.
— А я — нет?!
— Раз ты помогаешь — а ведь помогаешь — тем, кто тянет кусок изо рта у бедняков, как сказать мне про тебя, что ты совестливый! Не на ту дорожку я тебя выводила, уж поверь. Ты со своими дружками перевозишь всякую всячину даже в фургонах для быков, что Штопор дает тебе внаем.
— Кто вам это сказал?
— Все выходит наружу, Зе, все выходит наружу. Правда — как оливковое масло: рано или поздно всплывает на поверхность… не забывай об этом.
Старуха улыбается замешательству сына и пользуется случаем, чтобы припугнуть его, в надежде, что он покончит с аферами на черном рынке.
— Думаешь, никто не знает, что по твоему приказу в фургонах подвешивают колокольчики, чтоб таможенники думали, что ты везешь скот? Все выходит наружу, Зе, все выходит наружу.
— Ну так я выясню, кто тут на меня наговаривает. И эти жабы заплатят за свои поклепы: загремят со всеми потрохами в тюрьму, где не будет им ни луны, ни солнца, либо схлопочут несколько лет Африки.
— Двойная вина, Зе. Когда-нибудь мешок переполнится и прорвется.
— Если позволят, матушка.
— Пусть хоть через пятьдесят лет, а мешок прорвется, Зе. И чем позже, тем хуже будет. Всему свое время.
— Это как посмотреть…
— Сейчас время грабителей, Зе Мигел! А ты якшаешься с ними, сын. Война — сама по себе несчастье, а вы еще подливаете масла в огонь. Голод — плохой советчик, а людям становится голодно. О тебе уже повсюду идут разговоры, и в городке, и по деревням. Ты сам жил в деревне, вспомни, и тебе не нравилось, когда у тебя хлеб отнимали.
— Вы недобрые вещи говорите, сеньора матушка! Незачем говорить мне такое, и без того понятно, что вы меня не любите.
Голос у него становится жестким. Он поднимает вверх кулаки и угрожает — несколько театрально, колеблясь между своими чувствами и желанием, чтобы она взяла обратно обвинения, которые причиняют боль, которые ему странно слышать от нее.
— Вы никогда не любили меня, сеньора… Почему не признаетесь раз и навсегда? Признайтесь, черт побери! Найдите в себе мужество сказать, что чувствуете.
— А я только это и делаю. Да, Зе, как ни трудно мне, я только это и делаю.
— Ну ясно, душу отводите. Полезно для здоровья.
— У тебя одно на уме, сын. И не знаешь ты, да и никто не знает, и сама я не знаю порой, что чувствую в глубине души, когда вижу тебя на этой дорожке.
— Думайте обо мне что хотите, сеньора, думайте на здоровье. Но знайте: если я в состоянии зарабатывать деньги и ходить с поднятой головой, я не буду жить червяком земляным.
— А ты ходишь с поднятой головой?…
— Хожу, сеньора, вот так! Можете не сомневаться!
— Тебе уже не понять жизни бедняков. Валишь все в одну кучу.
— Разве не я посылаю вам…
— Не договаривай до конца, Зе. Ради всего на свете, не договаривай! — В голосе Ирене Атоугиа слезы, она боится поднять глаза на сына. — Если бы ты договорил до конца, нам никогда больше не пришлось бы свидеться.
Старуха с трудом поднимается, щурится, словно предвечернее солнце жжет ей глаза, и тащится к окну, ссутулившись еще сильнее. Все ее тело дрожит, она сжимает пальцы со старчески распухшими суставами, покачивает головой, не в силах отделаться от грустной мысли, которую хотела бы забыть, а затем направляется к двери, плечи ее вздрагивают от коротких, но причиняющих ей боль всхлипываний.
Зе Мигел думает, не взять ли ее под руку, колеблется, ему страшновато, он негодует, но сдерживается. Он бормочет — в голосе горечь, с которой ему не совладать.
— Вы уже уходите, матушка?!
— Я тороплюсь.
— Почему?
— Стыжусь.
— Чего?…
Ирене Атоугиа оставляет вопрос без ответа. Еле повернула голову. Руки у нее так болят — хоть кричи.
— Чего и кого, сеньора? — спрашивает Зе Мигел в надежде, что увидит ее униженной.
— Тебя и себя, Зе.
Иногда глаза их встречаются, и оба боятся того, что можно прочесть у них во взглядах. Зе Мигел неистово жестикулирует, чтобы скрыть отчаяние. Размахивает руками, мечется по комнате.
— У вас с головой неладно!
— Так и есть, неладно. И у всякой матери с головой неладно, когда она теряет сына.
— Когда мать сына не любит, есть один лишь выход…
— Оплакивать его, Зе.
— Ну и плачьте, сколько хотите. Плачьте в свое удовольствие.
— Иногда лучше оплакивать сына в гробу, чем со стыда. А сейчас мне стыдно, Зе.
— Того, что я даю вам деньги?
— Да, того, что ты даешь мне деньги, а я знаю, что они заработаны нечестно.
Ирене Атоугиа выходит за дверь, не оборачиваясь, маленькая и скорбная, словно хотела бы исчезнуть, укрыться от глаз жизни. Но она еще не все сказала сыну:
— Когда ты раскаешься, будет поздно.
— Мне не в чем раскаиваться! — Он уже не в состоянии держать себя в руках и кричит во весь голос, так бы и столкнул ее с лестницы, чтобы скрылась быстрее с глаз.
— Да будет так до конца. Но я предупреждаю тебя, Зе, и предупреждаю для твоего же блага: не перегибай палку, потому что беднякам уже невмоготу.
— Ну так пускай придут сюда сами.
— Ты этого хочешь?…
— Хочу!
— Но чего ради?!
— Чтобы все получили по заслугам. Если они хотят заварушки, будет им заварушка, и покруче, чем они рассчитывают.
— Ты теперь только такое и можешь сказать. Одни лишь угрозы, угрозы… Что ж, каждому суждено есть тот хлеб, какой он сам выбирает. И твой оставит тебе оскомину — чему быть, того не миновать.
XXI
Еды не хватает, еда на вес золота.
Точнее сказать, на вес голода, и дело не только в цене: сколько часов надо выстоять, чтобы отоварить продовольственные карточки, которыми некоторые спекулируют, сообразуясь со средствами тех, кто в состоянии заплатить. И та малость, что перепадает беднякам, достается им с запозданием и с недобрыми словами, в бюрократической кадрили разноцветных бумажек, усиливающих ненависть и горечь. На циферблате часов, показывающих время самопожертвования, для одних стрелки стоят неподвижно, но зато бегут быстро для тех, для кого время это — почти приятное время нечистой поживы. Дороги черного рынка длинны и приятны. Зе Мигел знает эти дороги, как мало кто; его соглядатаи и дружки прощупывают эти дороги и делают их мягче пуха с помощью крупных взяток; все они его партнеры и компаньоны по рискованной коммерции. Покупатели у Зе Мигела верные, поставщики надежные, дороги в его распоряжении, свобода действий приводит его в восторг, он бравирует своей нужностью. Ему хорошо известно, как живется в мире труда: сплошные несчастья и оскорбления, они-то и побудили его вырваться из порочного круга нужды.
Он боролся вместе с товарищами, чтобы не погибнуть от бездействия, но никогда не верил, что из этого круга им удастся когда-нибудь вырваться всем вместе: он считал, что они рискуют по-крупному — и зря.
«Выберусь сам, если смогу», — подумал он как-то раз. Хотя он был связан с другими, его испугали несколько дней тюрьмы, и он избрал путь перебежчика, не чувствуя ни малейших угрызений совести.
Для него все происходит с абсолютной естественностью, как награда за тщательность подготовки и риск. Когда Педро Лоуренсо называет его предателем, он огорчается немного, негодует, но продолжает бег вдогонку за колесницей фортуны, впрягается в нее, неизменно надеясь, что когда-нибудь займет место на козлах. И вот уже он забрался туда, чванится высокопоставленными друзьями и престижем; видно, голова закружилась от быстрого успеха, летит во весь опор, полагая, что твердо держит в руках вожжи.
Знает, что его ненавидят, иногда тяготится этим, но чаще упивается, наслаждаясь мыслью о том, что другие злобятся в досаде на его успехи. Собственными силами всего достиг, а то нет, — собственными силами! Кому обязан я достигнутым?! Всем, кому был должен, заплатил, мы квиты, всегда щедро платил за все услуги. Сейчас бы мне те деньги, черт побери! Но когда война кончилась, я никому не был должен и медяка. Первому, кто скажет, что это не так, плюну в глаза. Ненависть так ненависть; и он копит ее в себе теперь, когда даже родичи прячут от него глаза, платя ему вероломством.
Лейтенант Жулио Рибейро обеспокоен. Ему кажется, что люди стали мрачнее и скрытнее, чем раньше. Когда он проходит по некоторым улочкам городка, у него такое ощущение, словно он прорывает паутину из злобы и страха, причем злоба стала сильнее, чем прежде, хотя в его распоряжении есть средства, чтобы вырвать ее ядовитое жало, говорит он Зе Мигелу, вызвав его к себе.
— Вы знаете что-нибудь о том, что происходит? Что-то витает в воздухе, а что — непонятно, мои люди никак не ухватят.
— Не думаю, лейтенант Рибейро. Я знаю эту публику как свои пять пальцев.
— Где сейчас обретается ваш двоюродный брат, Педро Лоуренсо? В наших местах его не видно. Есть типы, отсутствие которых не предвещает ничего доброго.
— Этот одно может: языком трепать и горло драть.
— Неделю назад видели, как он выходил из дома вашей матери. Она говорила вам о его посещении?…
— Нет, она мне ничего не говорила. Мы теперь редко видимся. Да и никогда у нас не было особо теплых отношений.
— Могу я попросить вас об одном одолжении?
— Пожалуйста, лейтенант. Я всегда к вашим услугам, вы знаете.
— Заходите к ней время от времени.
— А что?… Что в точности известно?
— Дом вашей матери — самое удобное место для вашего двоюродного брата, там он может укрыться. Понятно?
— Значит, он у вас на подозрении…
— Я должен знать, где он сейчас. Это очень важно. Не знаю, известен ли вам его образ мыслей.
— Мы не разговариваем: вот уже три года как в ссоре.
— У вашего двоюродного брата важные связи, и ваша помощь в этом случае окажется бесценной. Скажите мне все, что вам о нем известно.
— Политикой попахивает, верно?
— Вот именно, приятель, вот именно! Можно подумать, до вас не доходит. Если б я не знал вас, решил бы, что вы прикидываетесь простачком, чтобы провести меня. Не забывайте, вы тоже были замешаны в такие истории.
— Для меня время детских шалостей миновало.
— Называйте это детскими шалостями. Эта нечисть проклятая расползается повсюду, как вши, и власти не могут допустить, чтобы они смущали наш покой. Кто им помогает, тот против нас.
— И против меня тоже.
— Потому-то я и начал этот разговор. Хорошо еще, что мы понимаем друг друга. Где бы вы его ни встретили, где бы ни увидели и за каким бы занятием ни застали — нам все интересно. Абсолютно все, понятно? Даже если вы сообщите, что там-то он пил воду из источника, там-то отдыхал под деревом, там-то спал на сеновале. Следить за велосипедистом становится трудно. Последнее время его видели в Саморе и Коруше…
— Его жена из Коруше.
— Не ищите алиби для других: мы-то знаем, что он беспрестанно появляется то на том берегу Тежо, то на этом. На этом его несколько раз видели между Азамбужей и Повоа. Но теперь он внезапно исчез. Плохой знак!..
Педро Лоуренсо совершает свои поездки ночью. Только ночью, когда темнота вбирает его в себя, как вбирает она деревья, колосящиеся хлеба и полевые цветы — все, что живет, подобно ему, для завтрашнего дня.
Луиза Атоугиа вышивает чепчик для сына, которого носит под сердцем, а мужчины, выйдя из барака, ведут разговор с кем-то, кто приехал на велосипеде.
Луиза напевает тихонько, почти шепотом, словно уже баюкает своего мальчика. Она хочет мальчика, поэтому вышивает на чепчике кайму голубым мулине, в два оттенка, — кайму из полевых цветов.
Вчера приступили к уборке пшеницы; сейчас по всей Лезирии много артелей жнецов, но на них обрушилась беда — голод. И не все можно объяснить войной, как это делают большие газеты, потому что воротилы черного рынка изымают из общественного снабжения большую долю того, чего не хватает жнецам. Кто выложит хорошие деньги, сразу получит все, чего захочет.
Хлеб черный, и хлеба мало; все меньше оливкового масла и риса; жница, трудясь от зари до заката, зарабатывает семь мильрейсов; хлеб черный, и хлеба мало; все меньше шпига и мучных изделий; владелец упряжки быков зарабатывает шестьдесят семь эскудо в день; хлеб черный, и хлеба мало; все меньше мыла и сахара; жнец, трудясь от зари до заката, зарабатывает тринадцать мильрейсов; хлеб черный, и хлеба мало; все меньше кофе и трески; владелец воловьей упряжки зарабатывает шестьдесят семь эскудо в день; хлеб черный, и хлеба мало; мало и черный, говорят жнецы, не понимая, почему все тяготы ложатся именно на них.Голод каждого существует сам по себе, отдельно от голода других; люди стоят в одном ряду, но боятся друг друга. И вдруг, посреди ночи, избавляются от страха. За стеной барака, в объятиях тьмы, люди ведут разговор с кем-то, кто приехал на велосипеде, а Луиза Атоугиа между тем поглаживает выпирающий безобразный живот, где шевелится смуглый черноглазый мальчик, очень хорошенький, наверное; мать еще не знает, что имя его будет Жуан, что он лишится ее очень рано, что двадцать три года ему исполнится 8 декабря в два часа двадцать минут пополуночи, как раз в тот самый миг, когда он переберется через границу, окоченев от холода, ибо зима выдастся суровая.
Но в эту жаркую ночь жнецы не спят. И не из-за жары, не из-за комаров, не из-за голода, не из-за страха. Думают и не спят.
— Попробуй уснуть, муженек! — шепчет Луиза Атоугиа, лежа рядом с мужем на циновке в бараке.
— Завтра мы идем в город.
— Что вы собираетесь делать?
— Требовать хлеба у муниципалитета.
— Я пойду с тобой.
— Нет, тебе лучше остаться. У тебя мальчик. Мальчик понадобится потом; да, потом, когда война кончится, все изменится.
— Что — все?!
— Ну и вопрос!
— Хорошо бы, если бы изменилось…
— Еще бы! Мы пойдем в муниципалитет, а они не любят, когда люди собираются все вместе.
— Тогда позволь мне идти с тобой…
— Нет, ты останешься. Ты нужнее, чем я: ты нужна нашему мальчику, ты его носишь.
Лейтенант Жулио Рибейро играет в бридж с Зе Мигелом, доктором Каскильо до Вале и новым муниципальным медиком. Играет плохо. Сам не понимает почему: никак не сосредоточится на игре — может, от мыслей о Педро Лоуренсо, которого его люди не видят уже почти две недели. Дело не в страхе, ему не страшно. Тревога приходит к нему ночью, в два часа ночи, когда кончается первосонье и вступает в свои права бессонница.
Он уже проиграл почти сотню эскудо. Выпил шесть бутылок пива, к рассвету жара спадает, но все равно он беспрестанно потеет. Обильный пот, запах как от марокканцев — страшно быть с ними вместе в час грабежей и утех плоти. У него перед глазами белая стена, вмятины на стене замазаны известью, вплотную к ней — истекающая кровью женщина, черные волосы откинуты назад, губы улыбаются, голова поднята. Чему ты улыбаешься, женщина?… На оливково-смутлом лице шевелятся только губы, словно посылая поцелуи будущему, но никто не примет будущего с ее губ, потому что дуло одной из винтовок нацелено ей прямо в рот и разнесет ей лицо, как только раздастся команда «огонь», и потухнет улыбка на этих губах, губах, губах…
Лейтенант Жулио Рибейро в раздражении обращается к партнеру:
— Чему вы улыбаетесь, доктор Вале? Да, чему вы улыбаетесь? Вспомнили что-то смешное?!
Остальные переглядываются в недоумении, а лейтенант бросает карты на зеленое сукно ломберного стола таким движением, словно тычет в грудь партнера штыком. Хватает форменную фуражку и выбегает; впечатление такое, словно за ним гонится кто-то, кто — вот нелепость-то — вскочил в открытое окно гостиной, где идет игра.
— Лейтенант не умеет проигрывать с достоинством, — комментирует медик, собирая фишки.
— Я ни разу не видел, чтобы он выигрывал. Казалось бы, ему должно везти с женщинами.
— И не везет?
— Тоже нет.
Зе Мигел еще не проронил ни слова. Он послал записку матери, да, послал: пусть предупредит двоюродного брата, а теперь он раздумывает, уж не проведал ли лейтенант о той бумажке, что он после обеда отправил в Алдебаран.
В этот час жнецы начинают выходить из бараков, отстоящих дальше всего от Кабо — той пристани на Тежо, где они договорились сесть на суда, чтобы добраться до города. Судя по небу, три пополуночи, двадцать минут четвертого, жнецам из некоторых артелей придется отшагать верных пятнадцать километров, тем более что женщины тоже идут — будут просить муниципалитет отменить карточки: тратить такую уйму времени, чтобы их отоварить, да еще и откажут, товар, мол, не доставлен, у бакалейщиков один ответ, сколько ни настаивай.
По немым тропинкам Лезирии в гневном молчании шагают жнецы, только раздается лай пастушьих собак, когда во мраке темными сгустками появляются стада быков и конские табуны, приходящие в движение при появлении людей. За северным горизонтом в ночном небе вкраплены огни городка. Они указывают дорогу к улицам, что проходят по гребню берега, кое-кто из жнецов узнает эти улицы на расстоянии.
Словно лучи звезды, десятки отдельных групп сходятся на тот же дальний свет; люди не торопятся: днем немало придется пройти; никто не предвидит, что произойдет, когда они выйдут на площадь перед муниципалитетом, часов в одиннадцать, потому что в это время приезжает сеньор президент.
Луиза Атоугиа провожает глазами мужа, выходящего из барака, кутается в одеяло и застегивает блузу, которую она расстегивает на ночь, чтобы Исидро мог сунуть руку ей между грудями. Когда родится малыш, придется ему забыть эту привычку, думает она, улыбаясь. А затем начинает прикидывать, как бы ей добраться до городка раньше одиннадцати, хотя муж ей запретил покидать барак.
Ну, схлопочет она подзатыльник-другой — подумаешь, ей уже пришлось узнать по опыту, насколько тяжела у Исидро ладонь, когда он разозлится, и ничего страшного, перетерпим. Уж лучше его досада, чем сидеть целый день в бараке, ждать новостей, изнывая от предположений, что там могло произойти, господи боже, что там могло произойти?
Педро Лоуренсо крутит педали в ночной темноте. Достает из кармана ломоть хлеба со свиной колбасой, откусывает большими кусками, медленно прожевывает. Доехав до поворота, где из каменного желоба вытекает струйка воды, останавливается, надолго припадает к струйке, затем смачивает голову, чтобы прогнать усталость, накопившуюся за две ночи без сна. Время от времени засыпает в седле, чувствует, что велосипед выкатил на середину шоссе, и пугается. Если бы с другой стороны выехала легковушка или грузовик, раздавили бы его за милую душу. Хорошо еще, что здесь редко кто-то появляется.
Насвистывает, крутит педали изо всех сил, перемогая усталость. Пока не рассвело, нужно добраться до пристани в Руйво, где есть перевоз: Педро Лоуренсо догадывается, что его ищут, он получил записку от Зе Мигеля, этот тип накоротке с муниципальными тузами, знает, что у них на уме, обслуживает их, но не забыл о дружбе, связывающей двоюродных братьев, бывших приятелей, — и то хорошо, не до конца исподличался.
Самые ранние из жнецов появляются в Кабо почти за два часа до отхода первого пассажирского катера.
Они договариваются выезжать порознь, небольшими группами, чтобы кто-нибудь из кондукторов не осведомил Республиканскую гвардию [93], из кондукторов на это вполне способен Пират, ему не доверяют: как-то ночью, по пьяному делу, рассказывают в порту, он показал полицейское удостоверение, чтобы припугнуть рабочего с цементного завода, когда тот завел (разговор насчет того, что в хлеб второго сорта подмешивают даже молотый лупин.
Женщины, более отважные, решают разжечь костер, чтобы вызвать лодочников. Они видели, что так делали охотники из Алентежо, хотя и не знают, что перевоз не по расписанию обходится дороже. Но сейчас им не терпится добраться до места, а почему, они сами не знают, до часа общего сбора еще далеко. Женщины не привыкли к таким приключениям, они торопятся, хотят сделать что-нибудь, ощущение собственной правоты словно жжет их.
Луиза Атоугиа сворачивает циновку, на которой спит вместе с мужем, и прислоняет ее к стене барака. Мужа она отпустила, но сама тоже решила переправиться на тот берег и к одиннадцати появиться возле муниципалитета. В бараке остались только четыре старухи и дети.
В этот миг в барак опрометью, словно пятки ему припекло, влетает управляющий и спрашивает Луизу, где все остальные, что произошло: выходит, можно бросать работу на второй день жатвы?
Луиза Атоугиа замирает, ошеломленная, сообразив, что управляющий может потребовать лодку, чтобы переправиться на тот берег и уведомить Республиканскую гвардию. На том берегу, в Альяндре, есть телефоны, а Мушан, где их артель работает, как раз напротив Альяндры; и зачем только существуют телефоны, если от них беда людям, которые одного просят — еды.
— Они пошли просить сеньоров из муниципалитета, чтобы присылали побольше еды.
— Но я здесь, выходит, кто — чучело, соломой набитое? Хоть бы слово сказали, записку оставили, предупредили как-то. Кто я здесь — последний бродяга, что ли?!
— Ну что вы, сеньор, как вы могли подумать, сеньор! Наши даже говорили о вас: мол, если бы все умели ценить работу людей так, как вы…
— Ты мне зубы не заговаривай, пустые слова. А что касается дел, слабаки так поступают, дрянные людишки. Я им потачки не даю, вот и отыгрываются таким манером. С такой публикой одно средство — хлыст, это я тебе говорю, Луиза Атоугиа.
— Вы же знаете, сеньор Анселмо, пищи не хватает, чтобы силы поддержать для страды.
— А таким способом добудут они пищу? Скажи ты мне: таким способом они ее добудут? Может, вы думаете, у муниципалитета есть запасы хлеба, с вами поделятся?
— У тех, кто может деньги выложить, всего в достатке…
— Еще бы! А вы добудете деньги таким способом — теряя рабочие дни?… Когда мы вам приказываем пропустить день, сразу клыки показываете. Но когда вам самим взбредет на ум побездельничать, вы бросаете работу, и дела вам нет до убытков, что терпят те, кто вам платит… Неразумно это, Луиза Атоугиа.
— А кто теперь разумный, сеньор Анселмо? Да, кто теперь разумный, когда день целый гнешь спину с серпом в руке, а ешь столько, что сил не хватает рукой шевельнуть?
— Да ведь не так это…
— Дитя не заплачет — молока не получит, старая пословица. Наши попросят, а те уж как-то пособят…
— В муниципалитете есть только бумаги. Я знаю, что почем, я тертый калач, Луиза Атоугиа! Я помню даже то, о чем вы все позабыли, но ведь с хозяином дело иметь приходится мне. Я за все ответ держу. Предлагали мне женскую артель, дешевле, чем ваша, а я за вашу хозяину слово замолвил. А теперь сижу в дерьме, схлопотал пару затрещин по физиономии. Так и надо! Так мне и надо! Кто меня просил дурью маяться, беспокоиться о скотах, которые не признают того, из чьих рук едят?…
— Так ведь к вам это никакого отношения не имеет. Никто на вас зла не держит, да и вы ни на кого, сеньор Анселмо. Клянусь глазками моего маленького, прости меня господи!
— Вы все слушаетесь дурных советчиков, Луиза Атоугиа. А мне одно остается делать: седлать кобылу и ехать подавать жалобу.
Луиза Атоугиа цепенеет, силы изменяют ей, но она вспоминает про мужа и его товарищей:
— Сеньор Анселмо, не сделаете вы такого! Не сделаете, я знаю…
— Да почему не сделаю?!
— Потому что вы на своем веку потрудились на той же работе, что мы, вы знаете, что народ прав. Народ ведь не злой.
— Неблагодарный он! Свора слабаков и дрянных людишек, это я тебе говорю.
— Сеньор Анселмо, ведь в это дело замешаны ваши родичи.
— А среди твоих родичей есть, кто ворует еду у всех у нас.
— Среди моих?!
— Да, среди твоих. Доводишься ты или не доводишься двоюродной сестрой этому мерзавцу Зе Мигелу?!
— Я не знаюсь с такими людьми, сеньор Анселмо. Вам же известно это. Только нашу кровь порочит, семейство Атоугиа не признает родства с тем, у кого нет ни стыда ни совести.
— Стало быть, ты тех же мыслей, что я.
— Не говорите мне, что вы против наших!
— Я на той стороне, где мне велят быть мои обязанности, Луиза Атоугиа. И поэтому сию же минуту еду в город.
— А если я вам скажу, что никуда вы не поедете?!
В крике Луизы Атоугиа звучит угроза, Луиза подбегает к двери, возле которой уже сгрудились четверо старух, оставшихся в бараке, потому что им не под силу добрести до Кабо; и, открыв складной нож, направляет лезвие в сторону управляющего. Рука у нее мелко подрагивает, но она старается не выдать своей слабости.
— Ты знаешь, в какую впутываешься историю?
— Знаю. Да, сеньор, знаю.
— Знаешь, что никогда больше не получишь никакой работы в этом месте?
— И это знаю…
— Тогда выпусти меня по-хорошему.
— Ни по-хорошему, ни по-плохому. Если вы сделаете хоть шаг к двери, клянусь вам моей утробой… не вынуждайте меня клясться, дядюшка Анселмо, не обрекайте мою душу на погибель.
— Ты уже погибла, Луиза Атоугиа, и не я тебя погубил.
— Вот по этой самой причине, если вы захотите выйти, мне придется оказать вам неуважение. Погибшая женщина советов не слушает, а я погибла, дядюшка Анселмо.
Управляющий понимает, что ему пока что не перейти границу, которую определили женщины. Размышляет над положением, в котором очутился, делает несколько шагов в глубь барака и присаживается там на одном из сундуков, в которых хранится добро членов артели. Снимает шляпу, вращает ее на пальцах, сам не свой от нарастающей досады.
Ветерок с Тежо доносит до его слуха сухой шелест налитых колосьев; управляющий вглядывается в потолок, словно изучая нечто, внушающее ему опасение, и замечает, что плотные полотнища паутины не колышутся. Различает отдельные слова из разговора женщин, секретничающих у двери. Одна из них возбуждена: видимо, боится последствий происходящего. Время работает на меня, думает управляющий.
Луиза Атоугиа следит за ним: вот он задвигался в полутьме — решил встать, пойти подслушать, что говорит одна из старух, Аделаиде Пато; она сидит на корточках у порога, ласкает внука, ползающего у ее ног. Солнечный свет бьет женщинам прямо в спину, может, им не по себе именно от этого, у них такое ощущение, словно простор Лезирии предательски грозит им какой-то обидой.
Нет, на тропинке никого, все вокруг опустело, словно вымерло. Даже золотистые волны хлебов кажутся безжизненными: полю не хватает жнецов. Здесь жизнь во всё вселяют руки людей — мужчин и женщин. Без них всё утрачивает смысл и силу.
Многие жнецы уже добрались до города, где всё для них чужое; бредут безмолвными настороженными группами; но под их печальной и строгой сосредоточенностью чувствуется странное волнение.
Из северных деревень также идет народ.
Все в рабочей одежде: заплатанные брюки, пропотелые рубашки, у некоторых в руках мотыги и серпы — как бы напоминание о том, что эти люди — не стадо нищих. Нет, не за милостыней они пришли, нужно, чтобы это поняли все, кто смотрит на них вопросительным взглядом.
Только теперь водители моторных катеров замечают, что народу сегодня — как в иной субботний день, когда наемные рабочие разъезжаются по своим деревням. Жнецы высаживаются на пристани и остаются там, дожидаясь назначенного часа: мужчины расходятся по тавернам, заказывают стакан вина, чтобы провести время, не вызывая подозрений; женщины отправляются на рынок, смешиваются там с толпой покупательниц. Некоторые жницы привели с собою детей, но женщинам трудно сдерживаться, когда те начинают просить фруктов или сластей и капризничать: что ни прилавок — сплошной соблазн, малыши не понимают, в чем дело, и хнычут, и ноют; ох, сеньоры, столько вкусных вещей! И на что только беднякам глаза?
Группы людей разбредаются, но какая-то скрытая сила против воли сводит их вместе, и, хотя они снова расходятся, не перемолвившись друг с другом ни словом, через несколько минут они опять сходятся в центре города, словно их гонит туда опасение, как бы не опоздать к тому времени, когда часы на площади спокойно и равнодушно пробьют одиннадцать раз и доктор Карвальо до О встретится с депутатами в конференц-зале, заседание открыто, господа, сеньор ответственный секретарь, соблаговолите огласить протокол предыдущего заседания.
Но в десять сорок по вокзальным часам — возможно, часы на площади показывают десять тридцать восемь — в бакалейной лавке Жуана Коутиньо три крестьянки набрали продуктов и, запихав кульки и свертки в ситцевые мешки, спрашивают продавцов, сколько с них причитается. Продавцы замечают, что у дверей лавки виднеется множество мужчин в выжидательных позах. Нелегко разобрать, угрожающий у них вид или умоляющий, потому что они не произносят ни слова, почти не двигаются, жизнь — только в глазах, что блестят горячечно и беспокойно на лицах, бледных от лихорадки — или от страха, крестьяне и сами не знают, отчего; но скверно то, что все они, вместе взятые, внушают подозрения Жуану Коутиньо, партнеру Зе Мигела по черному рынку.
Жуан Коутиньо предчувствует что-то, сам не знает что, вздрагивает, но берет себя в руки, ему вспоминается, как во время первой мировой, когда он служил приказчиком, народ разгромил лавку его хозяина, вылил на землю оливковое масло и керосин, растащил все, что было в мешках и ящиках, в жажде разрушения, при воспоминании о которой Жуану Коутиньо и теперь еще становится не по себе. Он поворачивается к одной из женщин, берет счет — он сделан карандашом на клочке бумаги — и быстро производит сложение. Надписывает кончиком карандаша цифры над столбиком, повторяет вполголоса, снова подсчитывает, еще торопливее, и называет сумму скороговоркой; заметив, что покупательница не расслышала, повторяет:
— Восемнадцать тысяч четыреста!
— Сколько?
— Восемнадцать тысяч четыреста!
— Сколько?
— Восемнадцать тысяч четыреста, третий раз повторяю. Женщина не отвечает, не смотрит на него. Она вошла решительно, сама вызвалась, но теперь колеблется, не зная, как выйти из лавки. Ее товарки держат себя так же, то ли хитрят то ли побаиваются, поглядывают на дверь, ища помощи, а мужчины кивают им медлительными кивками, поправляя закинутые за спину пиджаки.
Жуан Коутиньо подозревает, что вот-вот случится что-то непонятное и опасное. Он почти сознает, вернее, чует, что с минуты на минуту может произойти одна из тех сцен, которые гак напугали его в молодости, в 1917 году это было, забыл, в каком месяце, в сентябре, да, кажется, в сентябре. Ему кажется, что воздух сейчас на вкус такой же, как тогда, что от взглядов этих людей, от силы, напрягающей мышцы их рук, от недоброго их молчания воздух стал густым и вязким, как масло, этот воздух трудно вдыхать, он давит, душит.
Жуан Коутиньо нагибается, притворившись, что ему нужно передвинуть ящик, до половины наполненный треской, зовет на подмогу приказчика и, понизив голос, велит ему предупредить Республиканскую гвардию: выйти лучше через заднюю дверь.
Выпрямившись, он видит, что одна из женщин идет к выходу, неспешно, с преднамеренной медлительностью, словно хотела бы броситься бежать, но сдерживает себя изо всех сил, чтобы не произошло худшее. Жуан Коутиньо спрашивает кассира, заплатила женщина или нет, тот теряется, отрицательно качает головой, и тогда оба одновременно начинают кричать: «Эй, женщина! А деньги?»
Оба ждут, что она побежит, лучше бы бросилась бежать, но женщина не в состоянии ускорить шаг, не то что бежать — а может, не хочет показывать своим товарищам, что боится Коутиньо; и она поворачивается с неожиданным достоинством, словно желая узнать, чего от нее хотят.
— Вы не заплатили! — вопит кассир.
— И не собираюсь…
Она выдавила эти слова с невероятным усилием, но выговорив их, чувствует себя увереннее и кричит, выкрикивает во весь голос:
— Я работаю, и мне нужно есть, вы нас обкрадываете по-всякому, а я хочу работать, и для этого мне нужно есть. Да, тому, кто работает, нужно есть.
Можно подумать, других слов она не знает, твердит одно и то же; ей вторят обе товарки, к ним присоединяются мужчины; они вдвинулись на шаг в лавку.
— Тому, кто работает, нужно есть!
— Запишите в долг, если хотите, или вычтите из тех запасов, что идут у вас на черный рынок, — вмешивается муж Луизы Атоугиа, которая все еще стоит у двери барака с раскрытым ножом в руке.
Этот инцидент вспыхивает в центре городка; и почти одновременно слышится тревожный гул бегущих толп. Приказы лейтенанта Рибейро были недвусмысленны. Солдаты идут, ускорив шаг, с винтовками наперевес, они слепы от страха и от сознания своей власти, приказано, чтобы никого не было у окон, чтобы никого не было у дверей, чтобы никого не было на улице, чтобы никого не было на свете, у людей семьи, зачем им соваться в такие дела, сидели бы и ждали себе спокойно! Солдатам вслед свищут, глаза бы на них не глядели, в них бросают камнями, а они-то тут при чем? Солдаты переходят на бег, доктор Карвальо до О спешит укрыться у себя в доме, какой-то жнец остановился на углу, республиканский гвардеец ему грозит, а крестьянин спрашивает, разве улицы не для того, чтобы люди по ним ходили, солдат не понимает его слов, отталкивает крестьянина, хоть бы поскорей скрылся с глаз, но издевки и насмешки выкрикиваются все громче, люди угрожают, бранятся, горланят, бегут и снова появляются на другом углу, швыряют камни, толпятся, говорят, три человека уже арестовано, двое мужчин и женщина, какой-то мальчик подглядывает из-под шторы и думает, что жнецы плохие, мама молится и говорит сквозь слезы — да, плохие, старуха крестьянка плачет на тротуаре, клянется, что видела одного раненого, а другие твердят, что видели убитого, и группы распадаются, вновь сходятся, обращаются в бегство, возвращаются, лавочники запирают двери лавок, закрывают ставни на витринах, стало известно, что на одной улице перебили все стекла в витринах, один республиканский гвардеец убит, каким образом — никто не знает, кажется, угодил под выстрел, но еще никто не слышал выстрелов, никто не должен высовываться в окно, никто не должен торчать у двери, никто не должен ходить по улицам, доктор Карвальо до О глотает таблетку и звонит в Лиссабон, из Лиссабона ручаются, что уже выехали две бронемашины, жнецы бегут на площадь, и муниципальный колокол звонит набатным звоном, и церковный колокол звонит набатным звоном, и тут слышатся выстрелы — четыре выстрела, а может, пять — выстрелы в воздух, пули пронзают воздух, и он кровоточит невидимыми струйками крови — их четыре, а может, пять, и невидимая кровь каплет на головы ошалело бегущих людей.
Городок опускается на колени, глухая тишина. Тишина, распираемая ненавистью, которая в ожидании своего часа кристаллизуется в воздухе, простреленном четырьмя, а может, пятью пулями.
Гвардейцы гонятся теперь за собственными тенями, бегут по пустынным улицам, полнящимся безмолвными криками, невидимыми руками и тайной тревогой, каждая улица словно длинная и глубокая рана, такая же, как та, что осталась в печальном взгляде, которым Луиза Атоугиа глядит на равнину Лезирии, распростершуюся в ожидании.
ХХII
Ночью только лунный свет разгуливает по улицам городка под надзором республиканской гвардии. Ночь стоит душная от жары, но знобкая-знобкая, такая знобкая, что никто не выходит из дому. Распространился слух, что восемь человек из числа жнецов были отправлены в Лиссабон. Остальные вернулись в Лезирию на битком набитых катерах, на каждом по четверке республиканских гвардейцев с винтовками. Один из гвардейцев невесел.
Лейтенант Рибейро нашел Мигела Богача в гараже и передал ему кипу пропусков, чтобы он завтра же, именно завтра, отправил на своих грузовиках муку и рис, надо увеличить жнецам паек, такое решение было принято в муниципалитете по приказу из Лиссабона. Затем они говорят о Педро Лоуренсо.
Где он в этот час, Педро Лоуренсо?!
Ирене Атоугиа смотрит на сына, дивится тому, что он приехал навестить ее после всего, что произошло в городке, и упрямо твердит — нет, нет, она не видела племянника, не видела уже давно, а как давно — сама не знает, еще чего не хватало — помнить такие вещи!
— Кое-кто видел, как он входил сюда. Вам бы следовало соблюдать осторожность, матушка.
— Ради кого?
— Ради вас самой.
— Я думала, ради тебя.
Оба умолкают. Ирене Атоугиа продолжает прибирать в кухне, чтобы не смотреть на сына. Но как ни старается, ей трудно не замечать его.
— Кто тебя прислал сюда? Кто?!
— Один мой приятель, чтобы избавить вас от позора и не устраивать у вас в доме обыска.
— Может, они думают, я держу здесь продукты, что ты тайком перевозишь?
— Не шутите, матушка, дело серьезное, и не напускайтесь на меня все время. Вас послушать, можно решить, что я вам причинил зло.
— Больше, чем ты думаешь.
— Хочу попросить у вас прощения за тот разговор. Мы оба наговорили лишнего.
— А, ты вот о чем!.. Да нет, это всё пустяки. Люди в моем возрасте не стоят того, чтобы дети из-за них беспокоились.
— Вы меня прощаете?
— Об этом лучше не говорить, Зе. Всё осталось, как было. Ничего для нас не изменилось. Ты не изменился, и я тоже…
— Вещи меняются со временем.
— Если не меняются люди, остальное не имеет значения. Вещи не имеют значения.
Зе Мигел подходит к матери и кладет руку ей на плечо.
— Могу я обратиться к вам с одной просьбой?
Мать и сын вглядываются друг другу в глаза. Ирене Атоугиа чувствует, что у нее в глазах страдание, а может быть, и слезы, но не столько, сколько их у нее в глубине души, и она видит, что сын отводит взгляд. Ирене Атоугиа пытается подавить волнение словами.
— Если просьба честная…
— Честная.
— Говори.
— Не пускайте к себе Педро ночевать.
— Не беспокойся. Он больше ко мне не приходит, не дурак.
— Спасибо, матушка.
— Нет, можешь не благодарить. Потому что, когда бы он ни пришел, я открою ему, так и знай.
— Это может вам дорого стоить.
— Мой дом — не лавка, я не назначаю цены своим поступкам. А родство обязывает…
— Я вам роднее, чем он.
— Не скажу «да», не скажу «нет», Зе Мигел.
— Не ожидал я, что услышу от вас такое.
— Каждый стоит за своих друзей. Теперь у нас друзья разные. Жалко! Жалко, но это так.
Теперь Ирене Атоугиа сама хватает сына за руку.
— Ты пришел с плохим поручением, Зе. В такой день, как сегодня, в такой горький день, как сегодня, ты не должен был приходить сюда за таким подлым делом. Двери этого дома всегда должны быть открыты для тебя. Но приходи как сын. Не можешь прийти как сын — не приходи совсем.
— Я потому и пришел сюда, что я сын вам…
— Ошибаешься. Даже те, кого мы выносили в утробе, — не сыновья нам, когда изменяют родной крови и становятся на сторону врагов. Ни у меня в роду, ни в роду твоего отца таких не было.
— Каких «таких»? Не понимаю.
— Таких, которые пытаются выведать здесь, чтобы нафискалить там.
— Я защищаюсь. Педро и его дружки против меня.
— Вот именно! В этом-то и беда. Беда в этом, потому что я на стороне Педро и его дружков.
Зе Мигел пулей вылетает за дверь и скрывается в темноте, а мать опускает глаза и пытается притвориться дремлющей. То была одна из самых проклятых ночей в моей жизни. Бешенство ядом влилось мне в кровь, я дошел до того, что попросил тех из своих водителей, кому доверял: мол, если где увидят моего двоюродного брата, Педро Лоуренсо, пускай меня предупредят. Нет, что его сцапали, вина не моя. А была бы моя? Я из-за него столько вытерпел в ту ночь, что он заслужил от меня самого худшего. Я только рассказал лейтенанту Рибейро, что его видели со стороны Коусо. Когда сказала мне мать те злые слова, я так себя почувствовал, словно меня вспороли, взрезали сверху донизу иззубренным ножом с отравленным лезвием. Я пошел в темноте один-одинешенек, по тайным тропкам, от людей подальше, и говорил, говорил, сам не помню что, через холмы перебирался, что выходят к морю, все его искал, хотел разыскать в ту же ночь, избить до полусмерти — и кулаками бил бы, и ногами бы пинал. Да, уж я бы его отделал; если б зацапал, схватились бы мы не на жизнь, а на смерть, расквасил бы ему рожу, стало бы с ней то же, что с дыней переспелой, когда падает она наземь и вся расплющивается. Теперь-то я думаю, а, что я там думаю!.. Да уж, могу сказать: теперь-то я думаю — встретил бы я тогда кого-нибудь на велосипеде, заставил бы слезть и схватился бы с ним, кулаками бил бы и ногами пинал. А если бы тот не остановился, я бы в него выстрелил. А ведь, в конце концов, если посмотреть хорошенько, я друг моему двоюродному, Педро Лоуренсо. Я его уважаю. Не боюсь, чего нет, того нет, черт побери! Теперь я боюсь только себя самого.
Но в ту ночь я шагал как одержимый, словно его выслеживал. Часть моего существа хотела схватить его, а другая часть пыталась защитить. Почему?! Поди знай!.. Что же я, по каменным осыпям шастал в надежде поймать человека, который на велосипеде раскатывает? Нет, не такой уж я дурень. Хотя когда разбирает человека бешенство, легко угодить в дурни, я всегда владел собой, не терял головы, даже в худшие часы своей жизни.
Сейчас другое дело… Сейчас меня изнутри на части разрезали, хотят надо мной поизмываться, а этого я не допущу, никогда не допускал, и тем более не сяду на скамью подсудимых, чтобы надо мной смеялись все эти типы, которые завидовали моим деньгам и моей удаче. Жизнью своего тела я сам распоряжаюсь; а остальным теперь распоряжаются другие, те, кто воспользовались мной, а затем они подвели меня под суд, словно быка на арену выгнали, чтобы добить кинжалом. Слава богу, мать моя ничего этого не видит. Она меня прокляла, и, может, ее проклятье ко мне и пристало. Мне кажется, я и сейчас слышу ее голос: каждому суждено есть тот хлеб, какой он сам выбирает, и твой оставит тебе оскомину, Зе Мигел!
Ирене Атоугиа опускает глаза, притворяясь дремлющей. Может быть, хочет спрятать слезы, скопившиеся у нее внутри, слезы эти льются в самой глубине ее существа; когда сын выскакивает на улицу, ей становится холодно, но затем она с усилием поднимается и подходит к окну, вглядывается в темноту, отодвинув занавеску дрожащими узловатыми пальцами.
Ирене Атоугиа сейчас очень бледна, ночь жаркая, а ее пробирает озноб, сильнейший озноб, приходится пойти за шалью, укутаться. На усталых, наболевших глазах выступают слезы. И она пальцами изо всех сил размазывает слезы, точно это живые твари, убивает их, когда они ползут по ее морщинам, а сама бормочет какие-то слова, отрывисто, словно камнями в собаку швыряет.
Она даже ростом меньше стала, пришибленная горем оттого, что сын выступает против своих, враг утробе, что его выносила, груди, что его вскормила, коленям, что его покоили, несчастный, несчастный, знать не хочет тех, от кого на свет родился!
Несчастный и проклятый, зря она радовалась его богатству, тому, что хоть один ее сын выбился из нищеты, ошибалась, не вспомнила — где была у меня голова? — не вспомнила, что деньги идут с какой-то стороны, всегда с одной и той же стороны, а теряют деньги и потом умываются тоже всегда одни и те же.
Боль стискивает ее клещами. Хватает за плечи и встряхивает.
Она снова видит, как несут ее Зе Мигела, полумертвого, кровь хлещет из раны; та рана пометила ему лоб рубцом, но сейчас он помечен клеймом похуже, потому что народ говорит о нем как о враге: он ворует хлеб у бедняков — так говорили о нем жнецы, которым пришлось бежать из городка под дулами винтовок Республиканской гвардии, они рассказывали такое — кровь стынет в жилах; может, преувеличивали, но не верить нельзя.
Ирене Атоугиа уже давно не молится, почти забыла молитвы, которым выучилась у бабки с отцовской стороны, но сейчас читает их громко, вперемешку с проклятьями и жалобами.
Деревенские улицы опустели в эту ночь.
Едут конные гвардейцы, тяжело и похоронно отдается в ночи стук подков, вот-вот расколются под ними плиты церковного двора. Какой-то крик прорывает ночное безмолвие. Старухе не разобрать, то ли птица ночная кричала, то ли человек в беде, потом слышится свист, крики и свист, конский топот удаляется; а у двери ее дома стоит автомобиль, на нем Зе Мигел приехал из города.
Где же он сам, почему машина все еще здесь?!
Ей в голову приходит одна мысль. Она улыбается воспоминанию. Задувает огонек керосиновой лампы, тихонько приотворяет дверь, навостряет уши, прислушивается, они, наверное, уже далеко, с другого конца улицы как будто доносятся гневные голоса, и тогда Ирене Атоугиа испускает вопль, обвиняющий и такой громкий, что, она знает, его не могут не услышать конные гвардейцы.
Прячется за дверью и улыбается, прислушивается к тому, что происходит на улице, снова выкрикивает свой вопль-вызов, и тотчас подковы стремительно мчащихся коней разбивают тишину. Ирене Атоугиа запирает дверь и снова вглядывается во тьму из-за занавески.
Только потом она садится на пол и плачет.
XXIII
Хмель начинает выветриваться у него из головы. Постепенно выходит наружу; воспоминания прошлого — словно камни, которыми Зе Мигел пытается, хоть это и больно, сбить с себя непроницаемую оболочку опьянения. Стоит пробить эту оболочку в одном месте, и она сама собой разрушается сразу в нескольких других; а еще опьянение похоже на куцый огонек: быстро вспыхивает, быстро потухает.
Когда Зе Мигел вышел из бара, слова он выговаривал с запинкой, словно их выталкивало целиком, а какие-то слоги отрывались, слипаясь на языке, который еле ворочался во рту, вязком от алкоголя. Вернее, слова как будто попадали в мехи гармоники; она внезапно сжималась, а потом чуть растягивалась, но все-таки издавала какие-то звуки, выдавливая самые существенные слоги перевранного слова.
Но как только хмель начинает выветриваться — может, потому, что над песчаным пляжем дует свежий морской ветерок, — прежде всего от хмеля освобождается язык, он правильно выговаривает слова, хотя в голове все еще кружится медленно хоровод образов, неуправляемых сознанием, и время от времени Зе Мигел спотыкается или посмеивается.
Когда он вспоминал, как в последний раз был в доме у матери в ту ночь, слова он уже выговаривал чисто, но мысли еще путались.
И все-таки больно возвращаться к прежнему ощущению тревоги — той, которую испытывает живая плоть, когда кровоточит, — тем больнее, что ни в нем, ни вне его ничто не изменилось. Девчонка как будто слегка встревожена. Уж не выдал ли он себя неосторожным словом: сам не помнит, что говорил.
— У тебя лицо кислое. Что случилось?!
— Ничего, дорогой.
— Что значит «ничего»?…
— Ничего значит ничего!
— Тогда незачем делать такое лицо.
— Чувствую, что устала, дорогой. Вдруг почувствовала, что устала. Мы перепили. Я стала пить вровень с тобой и опьянела. У меня язык не ворочается, точно весь распух.
— Когда пьешь, обо всем забываешь.
— Ненадолго, дорогой. Ненадолго хватает. Хуже всего, что я, когда выпью лишнего, всегда вспоминаю, странное дело…
— О чем вспоминаешь?
— О чем-нибудь таком, от чего мне тошно делается.
— Скажи, о чем. Выложи, что у тебя на душе, легче станет. Когда выкладываешь всю правду, хмель проходит быстрей, чем от соды.
— Не стоит, дорогой. В моей жизни уже ничего не исправить.
— Я вижу, ты от вина грустнеешь. А меня от вина подраться тянет. Там, в баре, мне хотелось все разнести в клочья, всю обстановку, и светильники, и типов этих…
— Меня.
— Тебя — нет. Ты мне нужна.
Сжимает ей голову ладонями, заставляет глядеть себе прямо в лицо, глаза в глаза, сжимает крепко — зачем? для чего? — потом гладит ей голову.
— Ты мне нужна.
Она думает: дай-ка скажу старику что-нибудь красивое.
— И ты мне… Если бы не ты — вот честное слово, честное-пречестное! — я бы давно покончила со всем этим, дорогой.
— Ты меня так любишь?
— И никогда не любила никого, кроме тебя, дорогой.
— Рассказывай эти сказки другим.
— Не смей сомневаться во мне. Если бы ты оставил меня навсегда, я больше никого не полюбила бы. Не верю я людям, дорогой!
— Ну вот!
— Да, не верю. Может, потому, что не верю ни отцу, ни матери.
— Что они тебе сделали?
— Ты знаешь не хуже меня. Я заметила, между вами что-то есть… Между тобой и матерью.
— Потише, потише ты! Разговор опасный, думай, что говоришь.
— Вы с нею выпили и меня напоили. Стали хватать друг друга за руки, а я притворилась пьянее, чем была. Вы меня за нос водили.
— Не говори так.
— Мы с матерью часто вспоминаем тот день. Мы с ней творим правду друг другу, помогаем одна другой обмануть старика. — Она горько улыбается. — Старик давно обо всем знает. Может, раньше меня узнал. А потом меня подсунули тебе, чтобы люди не болтали. Это гадость, дорогой! Ужасная гадость!
— Не говори об этом.
— Сейчас мне хочется говорить, сама не знаю отчего, но хочется. У меня такое чувство, будто вот-вот что-то случится, дорогой, и нужно высказать все самое плохое, что у меня накопилось.
— Думаешь, скоро умрешь?
— Не знаю. Не знаю, в чем дело, дорогой. Но чувствую, что сейчас мне пора сказать некоторые вещи.
Они сели в машину. Зе Мигел смотрит на часы: осталось полчаса. Совсем мало, черт побери, мне не добраться раньше половины восьмого. Отпускает тормоз, ставит ногу на педаль сцепления, дает задний ход и, маневрируя, выезжает из парка с профессиональной ловкостью.
— Видала?
— Ты хорошо водишь.
— Машины — да. В некоторых местах могу водить с закрытыми глазами. Дорогу от Пенише до Вила-Франка знаю как свои пять пальцев. Все повороты, все спуски, дома, деревья, даже камни. Странно, как запоминаешь дороги.
Сцепление — передача, машина визжит на повороте — и прямо на повороте обгоняет малолитражку. Зе Мигел смеется, девушка вытирает слезу, оба оглядываются, и водитель малолитражки грозит им кулаком.
— Типчик перепугался: дрожит, как воробышек.
— Ты его так обошел, что и тореро в дрожь бросило бы.
Он не отвечает. Задумался над одной из фраз Зулмиры, наморщил лоб, шрам вздулся, побагровел. Он попробует узнать, что означают ее слова; к белой стене решил поехать попозже.
Чтобы не попасть на перегруженную магистраль Байши, он выезжает на автостраду, которая идет вверх, это направление на Кашиас, он снижает скорость, поворачивает голову к реке и чувствует волнение при мысли, что видит ее в последний раз. Рыбацкое суденышко выходит в море, еще два следуют за ним в кильватере по левому борту; Зе Мигел даже угадывает головы людей, только их и видно из-за бортов. Мысленно он переносится в Пенише, вспоминает, как на рассвете сидел в порту, в таверне Ильо, ожидая возвращения рыбаков, ел и играл в карты, хорошее времечко, Зе, хорошее времечко! К чему человеку память в такие минуты, как сейчас?… У девушки такое чувство, будто пленку грусти у него на лице можно прощупать пальцами, пальцами ощутить его боль.
— О чем ты думаешь?
— О чем думать не должен. По-моему, животные счастливее нас, людей.
— Животные говорить не умеют, дорогой.
— Может, для нас, людей, лучше, что не умеют. Мой конь, если бы он заговорил нынче утром…
— Принц?
— Кто же еще?!
— У тебя есть еще две лошади.
— Но конь только он, только он заслужил это название. С ним кончено…
— Что?!
— Ничего.
Нет, не буду ей рассказывать, как я убил его сегодня утром. Выстрелом. Он умер, как умер мой сын, — от пули. Я приношу смерть всему, что люблю, родился проклятым, мать мне много раз говорила; так мне на роду написано — губить то, что люблю больше всего.
Глаза его уже не видят реки, перед ними горделивая голова его вороного коня, вороной ржет от радости при виде хозяина, входящего в конюшню, и бьет подковами по каменным плитам, словно предлагая отправиться на прогулку по Лезирии. Все у меня заберут, кроме коня и девчонки. Конь уже вне опасности. На остальное в моем распоряжении немногим более получаса.
XXIV
Конь ржет, едва Зе Мигел появляется в дверях конюшни. Маленькие острые уши он наставил еще раньше, когда услышал нервное покашливание хозяина и его шаги на лужайке перед службами, где давно не видно никаких признаков работы. Из работников, нанявшихся на целый год, остался только старший конюх, Карлос Кустодио, долговязый и старый, на попечение которого перешел Принц и обе кобылы да три упряжки быков, о продаже которых Зе Мигел уже договорился с одним барышником из Бенавенте.
Барак для работников опустел две недели назад. Инвентарь остался под открытым небом, пускай себе ржавеет; а тот, кому он достанется, пускай посидит в дерьме. Из суда придут завтра делать опись всего имущества, предмет за предметом, с идиотской дотошностью, чтобы не остался внакладе закон, а заодно и авторитет Релваса, истинного хозяина всех этих земель и кредитора Зе Мигела, которому он ссудил крупную сумму под надежное обеспечение. Словно почуяв, что люди покинули эти места, травы, ожившие сразу после первых дождей, заполонили земли и тропинки.
Усадьба Мигела Богача уже не кажется обжитой. Скоро сюда пожалует юстиция — назойливая сеньора с косящим взглядом, неуклюжая и куда более губительная, чем стальник и прочие сорняки, потому что ей дела нет до чьих-либо интересов, она печется только о точном соблюдении сроков, проставленных в каждом документе, и думать не думает о том, что все эти формальности высосут жизнь из былого богатства и оно развалится и рухнет. На празднестве этой королевы самое главное — мелочи. Всему свое время — как разным стадиям проказы.
Конь бьет подковами в каменные плиты пола, предлагая хозяину отправиться, как обычно, на прогулку по Лезирии. В глубине конюшни две кобылы, сивая и темно-гнедая с отливающим медью загривком, равнодушно поворачивают головы. Они знают, что конюх придет за ними ближе к вечеру, и прорвавшийся в конюшню дневной свет не вводит их в заблуждение.
Карлос Кустодио остался стоять на пороге, следит за движениями своего бывшего хозяина, который уже не может распоряжаться ни им самим, ни даже травой на лужайке, так сказал ему вчера сеньор Руй Диого у себя в имении «Мать Солнца», куда по его приказу явился старый конюх. Из усадьбы не будет вынесено ни пылинки, что бы ни случилось.
Мигел Богач удивлен поведением работника: и тем, как тот поздоровался с ним, когда он вышел из автомобиля, и тем, что старик украдкой следит за ним — неотступно и безмолвно. Когда-то, много лет назад, может сорок, Зе Мигел работал у него под началом, и в глубине души Карлос Кустодио радуется краху внука Антонио Шестипалого. Как хозяина он его всегда терпеть не мог. Карлос Кустодио не забыл, что говорили про Зе Мигела во время батрацкого бунта в голодном тысяча девятьсот сорок втором году, не забывает и о том, как спесиво держится Зе Мигел с теми, с кем работал в те времена, когда был подпаском, а потом табунщиком при кобылах, хоть Мигел Богач и прикрывает спесь отеческой фамильярностью, от которой еще больнее, чем от его высокомерия выскочки.
Конь — иссиня-вороной, смоляной, с шелковистым крупом, муарово-переливчатым и лоснящимся так, будто он отлит из металла, — следит за приближающимся хозяином быстрыми ласковыми глазами, выпуклыми и большими, широко раскрыв их, чтобы лучше рассмотреть Зе Мигела, темная фигура которого почти растворяется в темноте конюшни. Хозяин свистит коню веселым коротким посвистом, приговаривает мягко: — Принц! Э-э, Принц! О-о! Красавец конь!.. Животное вздергивает мягкую губу, подрагивая кожей; на храпе, между расширенными ноздрями, белеет пятно. Задирает морду — сухую, квадратную, с тонкой, почти прозрачной кожей, под которой угловато выступают кости, округло — мышцы, под которой видно даже сложное переплетение жил, и спокойным движением подставляет загривок под ласковую руку Зе Мигела, который поглаживает ему гриву, затем холку, похлопывает по шее — легонько, любовно. Конь ржет от радости.
Зе Мигел растроган, растерян, не может совладать со слезами. Плачет без стеснения, не прячет слез, даже не утирает.
Он купил этого коня три года назад у Релваса; выбрал среди молодняка, и величайшее его наслаждение — появляться в городке верхом на этом коне, демонстрируя в ярмарочные дни его безупречную выезженность.
Сидя верхом на коне, помеченном тавром завода Релвасов, Зе Мигел ощущал себя на вершине величия, словно оседлал фортуну и теперь направлял ее по своей воле, мягко касаясь боков колесиками шпор. Женщины глядели на него из окон, а мужчины между тем восхищались Принцем и презирали его владельца, которого их досада лишь раззадоривала, поощряя его хвастливость. Он сам выбрал коня — по аллюру и повадкам. И конь, и всадник держались с одинаковой тщеславной заносчивостью, сдружившей обоих.
А теперь они встречались в последний раз.
Да, в начале вечера, в полвосьмого примерно, взрывом прогремит самое главное событие в жизни Зе Мигела. Об этом событии в городке долго еще будут говорить. В этом Зе Мигел был уверен. И наслаждался чувством уверенности.
На площади и на улицах, в общественных местах и в частных домах — да, везде и всюду, где собираются люди, Зе Мигел станет главным предметом разговоров и споров. И, быть может, тогда у него появятся друзья.
— У меня нет друзей, кроме тебя, — шепчет он коню. — Только ты никогда не предавал меня. Ни разу. Даже не верится, что на тебе тавро этого старого козла, предводителя шайки мошенников, что сначала заработал на мне, а потом меня же обокрал.
Он, Зе Мигел, бесстрашно и не прячась шел на риск во всех грязных делах, подстроенных Релвасом. А теперь сижу в дерьме; теперь ни от людей подмоги, ни от святых прощения. Сперва загоняли меня, как быка благородных кровей, а теперь хотят повалить наземь и добить. Но тут они просчитались. Не стоял бы Карлос Кустодио в дверях, Зе Мигел дал бы волю рыданиям. Только один мне оставили выход, черт побери! Он пытается успокоиться, чтобы можно было говорить с работником, не выдавая своих мыслей.
Зе Мигел глядит на ясли — он приходил полежать в них всякий раз, когда ему нужно было принять какое-нибудь важное решение. Много лет он полагал, что, если обдумает дело, лежа здесь, это принесет ему удачу. Но на этот раз его ранили насмерть. А он и не заметил поначалу — привык находить выход из любого положения и верил в себя.
Он не знал, что это было возможно лишь потому, что они позволяли ему найти выход. А сейчас не захотели позволить, потому что он больше не нужен.
Зе Мигел вытирает глаза и говорит тихонько, чтобы проверить свой голос. Оглаживает стати коня, легонько подталкивает его, чтобы стал в такое положение, в каком удобно его седлать.
— О, мой конь, о-о! Гулять, Принц, гулять.
Конюх говорит что-то издали, но Зе Мигел не слышит. Он взволнован мыслью, что прогулка эта будет последней, ничто другое его сейчас не трогает. И он не слышит Карлоса Кустодио, а тот настаивает, повышает голос.
— В чем дело?… Ты со мной говоришь?
— Да, с вами.
— Ну что?…
— Мне приказано, чтобы здесь никто ничего не трогал.
— А?! Ты что там несешь?
— Что мне приказано, чтобы здесь никто ничего не трогал.
— Не понимаю. У тебя что, другой хозяин?! Если у тебя другой хозяин, убирайся вон отсюда, да поживее.
И кричит отчаянно, надрывно:
— Живее! Прочь с моих глаз, Карлос! Смывайся отсюда, не то я тебя прикончу.
Деланного спокойствия как не бывало, Зе Мигел мечется по конюшне, бежит к конюху — тот пятится к дверям. Зе Мигел подступает вплотную к испуганному старику, ударом сбивает с ног, бьет по лицу.
— Кто тебе приказал?…
— Релвас.
— А что он сказал?
— Что ты здесь уже не хозяин, что здесь ничего твоего нет.
— Пока еще есть.
— Что он тебя упечет в тюрьму. И чтобы я остался сторожить…
— И ты остался, собака!
— Остался.
Старик, дрожа, поднимается с земли. Отходит боязливо подальше от Зе Мигела и говорит ему на расстоянии:
— Он сказал, что я останусь здесь в работниках и что у тебя уже нет денег, чтобы заплатить мне за эти две недели. Мне нужен хозяин.
— Сколько я тебе должен?
— Сто пятьдесят мильрейсов.
Зе Мигел хватает пятисотенную ассигнацию и подходит к работнику, протягивая ему деньги. Зе Мигел уже прикинул, что надо делать, и к нему возвращается спокойствие.
— Бери. Плачу тебе до конца недели. Релвас подшутил над тобой. Вчера вечером я выплатил ему весь свой долг. Мы квиты.
Конюх пятится, все еще не доверяя Мигелу Богачу.
— Бери. За четыре недели плюс премия. Что заслужил, то заслужил. Я на твоем месте поступил бы так же.
— Ты же знаешь, что…
— Тебе не за что просить прощения. Сам меня прости, что я тебя отделал.
Он отдает старику деньги, тот прячет их в жилетный карман, откуда свисает волосяная цепочка для часов. Зе Мигел похлопывает Карлоса по плечу и велит вывести Принца из конюшни и оседлать.
Затем Зе Мигел садится на чурбак у двери, закуривает сигарету, глядит на холмы, по которым лепятся дома городка. Тежо течет совсем близко.
Он вспоминает, как по ночам ставил в этом месте на прикол катера, груженные контрабандой. Потому и удалось ему уговорить Релваса сдать в аренду эти угодья, чтобы он мог прикрыться личиной землевладельца из Лезирии. Штопор, Руй Релвас, стал в конце концов его партнером по контрабанде.
Старик подводит к нему коня.
— Ты у меня по-прежнему будешь ходить за Принцем, так я решил.
— Если прикажешь…
— Сказал же — решено. В конце месяца найму новых работников. Умел бы ты читать, взял бы я тебя в управляющие. Ты надежный друг. Что было сейчас — не в счет. Я не из тех, кто держит камень за пазухой.
— Оно и лучше.
— И к тому же мы были приятелями. Помнишь ту батрачку, мы оба за ней ухлестывали? Славная была девчонка!
Карлос Кустодио улыбается воспоминанию. Взнуздал коня, пробует поводья и насвистывает.
— Досталась-то она тебе. Женщины к тебе благоволили из-за шрама.
— Я им рассказывал, что это бык меня пометил, и они верили. Люди всегда верят тому, что я говорю, не знаю, почему так.
Зе Мигел ставит ногу в стремя, быстрым движением садится в седло, конь снова ржет. Обе кобылы отвечают ему из конюшни.
— Дай-ка мне вон тот хлыст. Работник бежит выполнять приказ.
— Ты не обедай. Когда вернусь с прогулки, вместе поедим. В каком-нибудь шикарном месте. Хочу отпраздновать этот день вместе с тобой.
— Мне нельзя отсюда отлучаться, хозяин Зе.
— Никто здесь ничего не украдет. Задай корму кобылам, да побольше. Мы здесь будем крестьянствовать всерьез. Рис у меня здесь будет и пастбища.
— Ты знаешь толк в этом деле.
— А то нет. Сам увидишь. Поговорим обо всем, когда вернусь.
Зе Мигел улыбается Карлосу Кустодио, чтобы полностью развеять подозрения. Касается указательным пальцем полей шляпы в знак прощания, конюх заискивающе стаскивает с головы черный вязаный колпак. Но когда конь пускается рысью по тропинке, старик провожает всадника ненавидящим взглядом.
Карлос Кустодио думает: все понятно, этот тип, когда вернется, изобьет меня до смерти; если бы не старуха, я бы его уложил — всадил бы ему две пули промеж глаз, он бы с коня соскочить не успел.
Карлос Кустодио думает об этом и не знает, как быть. Старику здорово повезло, что сбежал. Я поклялся себе, что всю морду ему расквашу, как вернусь. Схватил бы его за шиворот, чтобы не упал, чтобы мне времени не терять, с земли его не поднимать, и надавал бы ему затрещин, пока глаза бъг у него в щелочки не превратились. Уж он бы у меня недельку света божьего не видел. Но он успел смыться. Вот еще один долг за мной остался неоплаченный.
Зе Мигел скачет по тропинке, пустив коня медленным галопом.
Он уже позвонил Марии Лауринде, чтобы та предупредила дочку, что он заедет за ней во второй половине дня, повезет покататься. Девушку он хочет взять с собой. Решение пришло нынче ночью, во время бессонницы, точное и бесповоротное. Вот уже пять суток, как он не в состоянии дать отдых голове, сомкнуть глаза. Но теперь, когда он решил, что ему нужно сделать, сумятица мыслей улеглась, и он чувствует себя спокойным, безмятежным и спокойным, как в ту пору, когда шел навстречу опасностям и должен был все одолеть. Ему кажется, что и сейчас он владеет тем же запасом храбрости. Рисуется перед самим собой.
Он знает все, что совершится до половины восьмого вечера. Он держит судьбу в своих руках, держит крепко, направит ее туда, куда хочет, — точь-в-точь как коня, на котором сидит верхом, да нет, судьба будет еще послушней, у автомашины нет никаких причуд в отличие от Принца.
Он все рассчитал заранее. Одно только будущее не скрывает от него никаких тайн, не прячет ни единого вопроса. Но как мучительно знать все до конца. А другой мести ему не изобрести, хотя эта и кажется убогой.
Как бы то ни было, Зе Мигел расквитается за поражение, которое потерпел: он уйдет от обступивших его врагов, которые делятся на два лагеря, возглавляемых людьми, ненавидящими друг друга: с одной стороны Руй Диого Релвас, его бывший партнер, с другой — Педро Лоуренсо, его бывший товарищ. Однажды при встрече он назвал меня предателем. Но кого я предал, в конце концов?… И кто предал меня?! Не хочу об этом думать, теперь уже незачем, теперь для меня все пути закрыты. Я попал в кольцо и теперь сижу в дерьме, черт побери! Левая рука немного отяжелела, в ней снова начинается подергивание, он вспоминает про сгусток крови с клювиком, блуждающий по жилам в поисках сердца.
Эта мысль ему не по вкусу, хотя так было бы проще всего. Но он уже сделал выбор. По крайней мере своим телом распоряжается сам.
Ему только неприятен пот, выступающий у него на ладонях, липкий, кисло и странно пахнущий. Ощущение такое, словно внутри у него что-то горит и от жара на ладонях выделяются крупные капли. Сколько их ни вытирай, того, что их порождает, ему не осилить. Может, это отстаивается ненависть, может, болезнь крови, может, страх. Он шпорит коня, понукает.
Принц переходит на полевой галоп, словно перескакивая через невысокие воображаемые препятствия; он летит вдоль насыпи, за которой тянутся оливковые рощи, седок почти отпустил поводья. Конь чувствует это, замечает, что настроение у хозяина сегодня неровное: то напрягается так, что удила причиняют животному боль, то как будто обмякает, конь узнает об этом по шенкелям, они словно теряют властную силу; может, хозяин отвлекся.
Коня удивляет и то, что хозяин хоть и разговаривает вслух, но не с ним. Да и голос удивляет коня — то еле слышный, то гневный.
— Есть три вещи, которых не получить от меня этим подонкам: не будет им ни обвиняемого для скамьи подсудимых, ни коня моего, чтобы покрасоваться на улицах, ни моей девчонки… Эти три вещи я с собой забираю — согласно приговору, что сам себе вынес. Есть еще у меня власть. По крайней мере над самим собой есть еще у меня власть.
Отчаяние немного отпускает его, когда ему приходит на ум план маленькой мести дону Антонио Менданье, который ближе к вечеру появится в кафе, чтобы похвастать своей новой машиной марки «феррари», ревущей серебристой ракетой, купленной на денежки жены, уроженки Бежо, каковая загребает две тысячи конто в те годы, когда на пробку урожай, а в прочие довольствуется пятью сотнями, что стрижет с арендаторов, возделывающих пшеницу.
Этот типчик тоже ведь предъявил ко взысканию вексель на сто пятьдесят конто за подписью Зе Мигела, хотя должен-то ему Зе Мигел сто двадцать, а то и меньше, за вычетом расходов по транспортировке товара на фабрики Аморы. Ладно, вексель есть вексель, ничего не попишешь. Он, Зе Мигел, сказал — ну, конечно, сеньор дон Антонио, само собой, потому что сразу же придумал, как ему поквитаться с Менданьей: выманить у него ключи от купленной накануне автомашины и отправиться на ней в последнюю поездку.
— Этот тип узнает, каким образом хотел я разделаться с ними со всеми: навредить им всем так, чтобы помнили меня, раз уж не могу всадить по пуле в череп каждому. А одному кому-нибудь — не стоит труда: слишком много бы их осталось на развод.
И когда он в первый раз произносит вслух эти слова, внезапно чувствует желание кончить побыстрей.
Боится, что разнюнится, пощадит коня, и они пустят его с аукциона — там, за дверью здания суда, жеребец португало-арабских кровей, почтенные сеньоры, вороной, тавро завода Релвасов, отзывается на кличку Принц, цена для почина — два конто, кто больше, почтенные сеньоры? Зе Мигелу кажется, что он слышит голос аукциониста, каковой по распоряжению превосходительнейшего главы окружного суда приведет в исполнение закон, писанный Релвасами; Зе Мигел слышит голос аукциониста Соузы, кислый и равнодушный, но не без нотки удовольствия, так же как и взгляд, которым Соуза окинет присутствующих — взбудораженных, собравшихся здесь, дабы принять участие в гражданской казни человека, которого ненавидят больше всех в городке и которому больше всех завидуют, а это я и есть, да, я самый, Зе Мигел, Мигел Богач, подпасок и табунщик, водитель рыбных автофургонов, крупный арендатор и воротила с черного рынка, контрабандист и владелец семи грузовиков и усадьбы, все заложено-перезаложено, я партнер старого Релваса, что в квадрилье этих тореро за главного, за матадора, а еще я партнер лейтенанта Жулио Рибейро, и лавочника Коутиньо, и председателя муниципальной, палаты, и такого-то, и растакогото и так далее, и тому подобное, целый список пенкоснимателей и мерзавцев, конца ему нет, но кто сидит в дерьме, так это я, я остаюсь без гроша и умру по горло в долгах и в сифилисе и по горло ублаженный женщинами, и ненавистью, и виски, и конями, и всеми радостями, а чего же вы хотите, может, чтобы я просидел всю жизнь, глазея на проходящие поезда! Радостей, что я получил, у меня уже никто не отнимет…
Но обрывочные эти слова он выплевывает с тревожной иронией, ранящей до крови, и сам же передергивается от этих слов, мешком обмякает в седле, а конь в знак протеста взвивается на дыбы, призывая хозяина погарцевать и покрасоваться, как в прежние удалые времена.
Когда конь и всадник подъезжают к огороженному выгону, где пасутся быки, Принц пугается и ржет: он узнал быков по запаху и по медлительным движениям голов; он отскакивает к самому краю тропинки, забирает вбок, вбок, какой-то бык ревет возле самой ограды из колючей проволоки, и конь переходит в частый, хотя и не очень собранный галоп, наставив твердые внимательные уши.
Зе Мигел очнулся, поддергивает удила раз, еще раз и, заставив коня убавить ход, пускает его по другой тропинке, которая приведет их к конюшне, где Карлос Кустодио в этот миг седлает сивую кобылку, чтобы убраться подобру-поздорову.
— О-о, Принц, о-о!..
Конь переходит на свободный шаг, ставя копыта на всю поверхность, теперь он несется вперед не колеблясь, дрожь унялась, он вскидывает копыта легче, равномернее, ставит точнее. Животное успокоилось — потому, что опасность позади, и потому, что хозяин гладит ему гриву — той же рукой, что через мгновение быстрым яростным движение выхватит из кармана револьвер. Густая молочно-белая пена, выступившая из-под узды, подчеркивает черноту коня — черен, как спелая тутовая ягода.
Человек дрожащей рукой наставляет револьвер. Тот самый, которым несколько лет назад воспользовался сын. Двух пуль хватило. Сколько понадобится для коня?! Все, я выпустил все, разрядил всю обойму, пуля за пулей, выстрел за выстрелом — боялся, что оставлю одну для себя. Для начала пришпорил его, чтобы он пошел машистой рысью, и, когда мы были метрах в ста от служб, у меня слезы хлынули, потекли по всему лицу, я плакал навзрыд, на крик, отпустил поводья, вел его в шенкелях, мне вспомнился тот раз, когда я верхом на нем ждал, когда погонят быков, и один свирепый бычище чуть не поддел рогами его круп, с той поры он стал бояться быков, узнавал их по запаху; а у меня все тело ныло, несчастный, несчастный, куда девалась твоя былая храбрость? И я сую дуло револьвера прямо в правое его ухо, и меня разбирает раскаяние, все тело мое ноет до крика, конь чует опасность, пугается, переходит в бешеный галоп, чуть не скидывает меня наземь, я кричу ему, но голос мой не действует на него, не то что раньше; и тут мы подлетаем к оврагу, что зовется Собачья Погибель, мне становится страшно, знаю, ему не перескочить, я весь разобьюсь, и девчонка достанется им, и я тоже, черт побери, ну уж нет, ни за что! Хватаю Принца за шею, прижимаюсь к ней лицом, лицо мое все в его пене, его шерсть вся в моих слезах, заряжаю револьвер и стреляю, стреляю, стреляю — и я услышал, как у меня в голове отдаются выстрелы, что пробили голову моего любимого коня, у меня было такое чувство, что пули пронизали одновременно все закоулки и у меня под черепом, и у него, неся муку и гибель, а он все летел, я вспомнил деда и голубой фургон смерти, а может, Принц мстил за клячу, что я убил; а затем мы упали вместе, я и не заметил, он ржал предсмертным ржанием, а я выл от раскаяния, несчастный, несчастный, у тебя не хватает мужества даже на то, чтобы прикончить одного из тех, кто испоганил тебе жизнь.
Я телом чувствую, как подо мною жизнь из него уходит. Он еще бьется судорожно у меня под ногами, я устал, выбираюсь из-под него, он смотрит на меня говорящими глазами, словно спрашивает, за что, и я бросаюсь наземь, хотел бы сам всего себя изломать, плачу навзрыд, на крик, все громче, и выпускаю в глаз ему остаток обоймы; да, всё, что было, и вот голова его уже лежит неподвижно в луже крови. Я видел кровь коня моего там, где были его глаза. Я видел кровь коня моего на его вороной шерсти, он казался красно-гнедым. Я посмотрел вокруг и увидел только кровь, всё было в крови, и я побежал к бараку, мне нужен был Карлос Кустодио, зову его, обыскал всю конюшню, вижу, что нет на месте сивой кобылки, Еврейки, и тут я понял, что он сбежал.
Ему здорово повезло, что он сбежал. Я поклялся себе, что всю морду ему расквашу, как вернусь. Схватил бы его за шиворот, чтобы он не упал, чтобы мне времени не терять, с земли его не поднимать, и надавал быему затрещин, пока у него глаза бы в щелочки не превратились. Уж он быу меня неделькусвета божьего не видел. И пускай потом бы жаловался Релвасу. Но он уже успел смыться. Вот еще один долг за мной остался неоплаченный.
Но как бы то ни было, им уже не покрасоваться верхом на Принце. Он достанется крысам, ласкам и коршунам, и они заслуживают его больше, чем эта нечисть, которая уже высчитывает, как бы заполучить его с аукциона, что откроется за дверью здания суда, жеребец португало-арабских кровей, почтенные сеньоры, вороной, тавро завода Релвасов, отзывается на кличку Принц, цена для почина — два конто, кто больше, почтенные сеньоры, кто даст настоящую цену? Настоящая цена ему — шесть пуль да костяк. Пускай расхватают его кости и высосут из них мозг, если позволят им лезирийские коршуны, и вороны, и прочие твари. А теперь мне нужно спокойствие, чтобы довести дело до конца. Уже недолго осталось — меньше получаса. Хуже всего, что время сейчас идет так медленно. Тянется и тянется, словно бык жвачку жует.
Вспоминая те минуты, Зе Мигел испытывает смятение. Но для него все так и было. У него есть своя версия истины, согласно которой нельзя рассказать ничего сверх того, что он увидел — и выдумал, — сидя в седле.
Когда первая пуля пробила череп Принца, он задрал раненую голову во внезапном ужасе, взметнув передние копыта в воздух движением, исполненным отваги и решимости. Широкие ноздри еще больше раздались, вопрошающие глаза закатились, и он испустил ржание — долгое, разнесшееся на полмили вокруг. Прежде чем конь почувствовал боль, холодную боль, сразу превратившуюся в огонь, разодравший, прожегший его вены, он был оглушен грохотом выстрела, что разнес ему мозг.
Но он еще успел проскакать несколько метров отчаянным галопом, забыв уроки опытного пикадора, обучавшего его в Эворе, тревожась лишь об одном — как бы спасти хозяина, вонзавшего ему шпоры в самую чувствительную часть брюха. Он проскакал галопом метров десять или немногим больше, вздыбив гриву, но после третьего выстрела встряхнул головой и, упав, уткнулся храпом в землю и снова заржал — заржал в последний раз полным смертной тревоги вибрирующим ржанием.
XXV
— Боишься, случится что-нибудь?
Машина мчится по Лиссабону в сторону площади Ареейро. Зе Мигел решил проехать по этой части города, вспомнив о комнате, которую он снимал на проспекте Жоана XXI, на этаже, принадлежавшем Сесилии, модистке. Встречаться с женщиной в доме у модистки очень удобно: женщине незачем говорить дома, что она собирается на мессу или к парикмахеру: можно позвонить и узнать, не появились ли в ателье какие-нибудь новинки.
— Ты что — не слышала, что я спросил?
Зулмира возвращается к действительности, отогнав поглощавшие ее мысли. Регулировщик остановил движение посреди улицы Фонтес, и Зе Мигел поворачивается к девушке, смотрит на нее недружелюбно, чувствуя, что сейчас она далеко от него. Они обмениваются вопросительными взглядами.
— Ты говорила тут: вы с матерью помогаете друг другу обманывать старика.
— Да…
— В чем же вы друг другу помогаете?
— Да ну еще!
— Никаких «да ну еще», не смей так отвечать, не люблю, чтобы со мной разговаривали таким тоном. На меня это не действует, я не реагирую. В чем вы друг другу помогаете?
— Когда уходим куда-нибудь вместе, дорогой.
— Или когда твоя мать уходит куда-нибудь? Девушка смотрит на него дерзко, вызывающе.
— А тебе нужно знать, уходит она куда-нибудь или нет? По-моему, не нужно. Ты ведь уже сказал мне, что между вами все кончено.
— А она тебе что говорит?
— Что все кончено, дорогой.
— Но в таком случае?!
— Что «в таком случае»?
— Зачем ей нужно обманывать старика?
Зулмира чувствует потребность заставить его поревновать.
— По-моему, это уже не твое дело. Тебя не должно интересовать, что она делает. И меня тоже… Каждый устраивается, как может, дорогой, разве не так?
— Твоя мать обыкновенная шлюха. Дешевка бесстыжая.
Позади гудят другие автомашины, требуя пропустить их.
Регулировщик открыл движение, а Зе Мигел, ослепленный гневом, не сразу это замечает. Затем отчаянно срывается с места, обходит то справа, то слева вырвавшиеся вперед машины, бросая на девушку быстрые взгляды. Ведет рывками, переключая свет фар, чтобы ему уступили дорогу: ему не терпится поскорее прибыть на место.
— Ей бы в ее возрасте следовало научиться стыду.
— Не вижу, зачем бы. Стыдом не заплатишь за квартиру и сыт не будешь.
— Я даю тебе два конто в месяц.
— Некоторые и по пять получают, да все-таки прирабатывают на стороне.
— Что-что?!
— Между вами все кончено, ты сам сказал, дорогой.
— Да, но она — твоя мать.
— Ну и что?
— Как «ну и что»?!
— Ей ведь тоже нужна любовь.
Это естественно: любовь всем нужна, дорогой. Кому больше, кому меньше, но всем. Она нашла себе дружка.
— Который думает о тебе.
— Не знаю, дорогой. Может, и думает, не знаю. Мы чужими мыслями не распоряжаемся. Или, по-твоему, я виновата?
Но тут Зулмира вспоминает, что Зе Мигел обещал подарить ей эту машину, ей не совсем верится, но как знать, и она начинает заигрывать с любовником. Улыбается, похлопывает его но руке, раскуривает сигарету и протягивает Зе Мигелу.
— Ты что, принял разговор всерьез, дорогой? У тебя совсем нет чувства юмора.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Что ты быстро выходишь из себя, что ты относишься к людям без доверия. Все женатые мужчины, дорогой, помешаны на том, что только их жены — серьезные женщины. Всё потому, что замужние смеются меньше, чем остальные женщины.
Зулмира хочет перемирия, но тут же возвращается к прежней позиции — враждебности. Ей действует на нервы то, как он ведет машину — толчками. По рукам его, слегка подрагивающим, девушка видит, что он озабочен; она отыскивает музыкальную передачу — музыка йе-йе, — посмотрим, может, успокоится, может, еще больше разозлится.
На улице идет мелкий дождь. Асфальт блестит, от этого ночь еще чернее, так ей кажется; люди укрываются от дождя в подъездах, под низкими балконами. Зе Мигел чувствует, что хмель снова одолевает его, он словно кружится в медлительной карусели. Может, все это из-за игры городских огней. Он приглушает громкость приемника и кричит Зулмире:
— Если бы ты знала, что умрешь через полчаса, да, через полчаса или даже раньше, что бы ты хотела сделать?
— Никто не знает, когда умрет, дорогой.
— Но если бы ты знала?
— Если бы знала…
Она не понимает смысла вопроса: он кажется ей глупым. Она бы и не прочь была так прямо и сказать Зе Мигелу, но он сейчас нервный, может ответить каким-нибудь хамством в своем духе. Однажды он высадил ее из машины — не этой, другой, — когда они возвращались с пляжа, и ей пришлось пройти пешком больше двух километров, пока она не добралась до станции в Синтре.
Автомашина буксует на вязком от размокшей пыли шоссе; Зе Мигел прибавляет скорости, улыбается, с силой дергает руль, проверяя надежность управления, и наконец начинает насвистывать.
— Все люди должны были бы знать, когда они умрут.
— Ты говоришь сплошные глупости, дорогой.
— Не всегда.
— Лучше поговори о чем-нибудь веселом. Расскажи что-нибудь про «гладиаторов», историю с яичницей, потрясная история, или ту, про доктора, которого вы окунули в канаву после обеда, и он боялся, что там и умрет…
— Вот видишь?!
— Что я должна видеть?!
— Ты тоже заговорила о смерти. Тот доктор струсил, потому что дал волю страху. А я не дам.
— Ты же не знаешь по опыту, что это такое, дорогой.
— Знаю лучше, чем ты думаешь. Видел смерть лицом к лицу, и раз десять, если не больше. Может, поэтому и не ощущаю страха. По крайней мере, страха перед смертью. Жизнь часто куда хуже. Как по-твоему?
— Не знаю. Я слишком молода для таких мыслей.
— Иногда ты говоришь, что умереть тебе ничего не стоит.
— Смотря когда.
— В каком смысле «смотря когда»?!
— Смотря в какой момент. Иногда я думаю, что жизнь — мерзость, дорогой. Иногда — нет. Не знаю, есть ли загробное царство, дорогой.
— А сегодня?
— Сегодня как раз мне хорошо, дорогой. Когда ты рядом, мне всегда хорошо. Я хотела бы жить с тобой.
Расчувствовавшись в порыве легковозбудимой — почти профессиональной — нежности, Зулмира сентиментально роняет голову на плечо Зе Мигелу.
Они выехали на Ареейро, Зе Мигел объезжает площадь, шины визжат на поворотах, словно рубчатая их поверхность выпускает когти, цепляющиеся за асфальт. Выезжая на проспект Жоана XXI, он поднимает глаза на окна комнаты Сесилии-модистки: хотелось бы увидеть эту комнату еще раз, не так мимолетно, а девушка думает, что он демонстрирует машину людям, которые теснятся в подъездах или торчат на остановке в ожидании трамвая.
Потом, резко прибавив скорость, Зе Мигел выводит машину на проспект, ведущий к аэропорту. Зулмира думает, что «феррари» хватит тридцати метров, чтобы разогнаться до сотни в час, какое удовольствие — скорость, дорогой, а в низкой машине еще шикарнее, такое чувство, будто взлетаешь или стелешься над самой землей, как ласточка, когда наступает их время.
— Сейчас ведь нет ласточек, правда?
— Нет. С чего ты вспомнила про ласточек?
— Просто так…
Она протягивает правую руку и усиливает громкость радио. Знакомый голос поет: «Et maintenant, que vais — je faire?» [94]
Чтобы добраться до назначенного места, восемнадцати минут хватит, ну, может, двадцати, оттого что дорога мокрая, думает Зе Мигел, выбрасывая за окно окурок. Он знает огненную змею как свои пять пальцев. Мчится, с почти математической точностью меняя скорость: сто — девяносто — сто десять, — и даже не глядит на спидометр. Ощущает скорость ногой, упирающейся в акселератор.
При виде красного пятна — рейсового автобуса на Калдас — Зе Мигел рывком сворачивает влево, сигнализирует обгон, нервно переключая фары, и немного набавляет скорость, пока не доезжает до поворота; сцепление — передача, переходит на третью, шины визжат, девушка упирается каблуками в каучуковый коврик, словно в попытке затормозить, и Зе Мигел недружелюбно улыбается.
Когда он ведет на высоких скоростях, его сознание работает особенно четко. Ему никогда не нравилось тащиться по-черепашьи. Машины для того и задуманы, чтобы ехать со скоростью свыше восьмидесяти. Нога его давит на педаль все сильнее и сильнее: Зе Мигел знает, что руль ему повинуется и он ведет, куда хочет. И сам выбрал, куда едет.
По другой полосе движется мощный встречный поток грузовиков — семитонные, десятитонные, двенадцатитонные, вот она — огненная змея, вереница красных огоньков извивается, оставляя красный след, след этот — как светящаяся кровь; здесь уже нет регулировщиков, быстро едет тот, у кого хватка хорошая.
Зе Мигел сует руку в карман пиджака и достает флягу с коньяком, с которой никогда не расстается. Отпивает глоток, затем передает девушке. Та только пригубливает и делает гримаску. Зе Мигелу при этом вдруг вспоминается история, которая вышла у него с Баркасиком, владельцем шлюпки, перевозившей контрабанду. Жалко, что из-за темноты реки не разглядеть.
И тогда была непроглядная ночь, непроглядная, словно деготь, ночь. Безмолвная и спокойная. Все было слышно. Угадывалось даже ненужное: подозрения, страх, паутина вопросов — все, что существовало за пределами туннеля, который шлюпка прокладывала в ночи и в водах Тежо. Зе Мигелу казалось, что до слуха его доносится даже дрожь прибрежного тростника — шелест, который вот-вот взорвется грохотом и выдаст его; и еще ему казалось, что видневшиеся вдали огни наделены голосами, что они, словно призраки, бредут по черным и тихим водам.
Один из гребцов, сидевший на носу, поднял голову; Зе Мигел почувствовал на себе его взгляд, вспомнил лицо этого человека, смуглое дочерна, рябое от оспин, с изуродованной ноздрей, и встревожился, сунул руку в карман; только нащупав револьвер, приободрился, овладел собой, хотя ноги у него еще дрожали от внезапно нахлынувшего безудержного волнения. В тот миг он осознал полное свое одиночество. Он был во власти этих пятерых, и лица их теперь представлялись зловещими его воображению. Он кожей чувствовал, что эти люди сейчас не такие, как тогда, когда он увидел их в первый раз. Ощущение было неприятное, почти мучительное.
Зе Мигел занимался контрабандой немногим более двух месяцев.
Теперь-то он нюхом сумел бы определить, когда команду разбирает страх или донимают предчувствия, как настроены люди — покинут ли его при первой же опасности или готовы следовать за ним без оглядки, как Шико Молчун, которого пристрелили патрульные, когда он не выполнил приказа остановиться.
Но в ту недоброй памяти ночь Шико Молчун греб на носу, и Зе Мигелу взгляд его показался подозрительным. Сомнения новичка, сказал бы теперь Зе Мигел, если бы спросили его мнение о верном прохвосте, сумевшем умереть на посту, как подобает мужчине. Но в ту ночь Зе Мигел не доверял даже самому себе. Едва приняли они груз с баржи и гребцы направили шлюпку вверх по течению к Палье, любая рыбачья лодка, любое транспортное суденышко стали внушать ему опасения. Он утратил веру в успех. Хлюпанье весел по воде звучало у него в ушах не так, как в другие ночи. Волна холода обдала его напрягшееся лицо, пронзила сердце, точно цыганский нож. Я в ловушке, подумал он. Какие только мысли не приходили ему в голову!.. Проклятая ночь, мне почудилось, что придется еще раз взглянуть в лицо смерти. Смерть словно притаилась под водами Тежо. Если бы можно было, я бы смылся; но пришлось вытерпеть, и в итоге я остался в выигрыше. На шлюпке виски и табаку было больше чем на пять сотняг, целое состояние на волоске, не считая прибыли. Он завяз в паутине страха, был близок к панике. А может, приказать им держаться ближе к суше и, выждав верный момент, прыгнуть в воду и поплыть к берегу? Но терять, так хоть не всё — и Зе Мигел решил, что донесет на сообщников, чтобы получить свою долю, когда их схватят, однако тут же сообразил, что в этом случае перед ним навсегда закроется возможность заниматься этим делом. Он начал пробовать силенки в контрабанде, вступив в одну группу, глава которой находился в Танжере, и вскоре у Зе Мигела завелись хорошие денежки. На них он приобрел свой первый фургон — десятитонку. Так неужели обращаться в бегство при первой опасности?! Нет, чего не было, того не было, и не думал я прыгать в воду, может, потому, что плаваю так себе. И потом, а револьвер-то на что, скажите, пожалуйста? Ну ладно, он решил, если что, пригрозить им револьвером, чтоб оставались по местам, а может, прикрикнуть, пусть знают: он без колебаний пустит пулю в лоб тому, кто хотя бы двинется ему навстречу.
Ночь была подходящая и для контрабанды, и для всего прочего.
Когда воды Тежо выносят на берег труп, что произошло на самом деле? Многие ли знают, что произошло? И кто скажет правду? Газеты о таких случаях повествуют туманно; кто прочтет, подумает, что причина — душевный кризис, толкнувший беднягу на самоубийство; несчастный человек может покончить с собой, для этого свободы у него предостаточно; а затем жизнь перемалывает события, и все в конце концов забывается, словно упавший в колодезь камень, который бросил мальчик: поглядел в водяное зеркало, и захотелось узнать, что получится, если он это зеркало разобьет. Вот и смерть в такую ночь не больше вызовет шуму.
Он захотел подбодрить себя и подумал: человек лишь раз умирает, черт подери! В любом случае, помрет — и конец; но мысли эти отдавали горечью. Жизнь для Зе Мигела только начиналась. Ион многого от нее ждал, уже тогда чувствовал, что может ждать многого — а стоило ли? — его еще не покинули честолюбие и отвага, которыми он хотел обладать в детстве, когда мальцом увидел старого Релваса на коне и решил, что его, Зе Мигела, хватит на то, чтобы выйти помещику в ровни.
Позже, случалось, Штопор трусил — он уже тогда был стар, и Зе Мигел уговорил его войти в дело по сбыту муки на черном рынке, три четверти прибыли Релвасу, одна — Зе Мигелу. Патруль Республиканской гвардии заподозрил неладное при виде такого количества фургонов с быками, приказал остановиться. Ладно, о прочем умолчим… Все уладилось: я выложил тысчонку — в пользу бедных или кого другого, — и фургоны снова двинулись к месту назначения. Самое скверное было, когда мы рассчитывались; этот подонок решил, что я утаил от него конто, никогда не видел я такого подозрительного и прижимистого типа, и дело уладилось только тогда, когда я сказал ему: хозяин Руй Диого, я внук Антонио Шестипалого, вы знаете, и не променяю своей чести на такие жалкие деньги. И тут я деру точно такую же ассигнацию, рву на мелкие кусочки и швыряю в корзину для бумаг. С тех пор он всегда мне доверял. Но я свое взял, чтобы проучить его, старого дурня. Сейчас могу сказать: когда я возил муку, обжуливал его на весе, кило, а то и два с каждого мешка.
Пока Зе Мигел раздумывал, шлюпка Баркасика поднималась вверх по течению со всей осторожностью, не ставя парусов, хотя со стороны Палмелы дул благоприятный ветер — палмелонец, как зовут его пастухи и лодочники.
В ту непроглядную ночь Зе Мигела не покидало такое чувство, будто жизнь уходит от него все дальше, ночь была черна, как деготь, и казалась еще черней от безмолвия команды, казалась враждебной и такой настороженной, что Зе Мигел сразу догадался о замыслах владельца шлюпки, немногословного головореза из Алкошете. Зе Мигелу никогда не нравилось это лицо: худое, вытянутое, подбородок башмаком, глаза светло-голубые, почти серые, острые, как кончики ножей; глубоко вдавленные морщины, голос недобрый и хриплый, на щеках никаких признаков щетины. Он был вдвое выше Зе Мигела. Казалось, он был выточен из соснового ствола, чтобы украсить нос судна: высокий, мощный, не кулаки, а кувалды, огромные ступни — но движенья такие легкие, что его прозвали Баркасиком. И вот Зе Мигел отважился ступить на его шлюпку, еще не зная, какой конец ему готовит этот человек.
Ему захотелось выкурить сигарету, чтобы обдумать, что же предпринять в решительный момент. Но на борту нельзя было зажигать огонь. Пограничные патрули прочесывали реку, и шлюпка шла, не зажигая сигнальных огней, рискуя налететь на другое судно и потонуть.
Шлюпка медленно направилась к берегу Лезирия-Гранде. Зе Мигелу стало ясно, что Баркасик намерен посадить суденышко на мель около Понта-д'Эрва, отнять у него груз, да еще и жизнь в придачу, если Зе Мигел откажется рассчитываться по расценкам трусов. Сердце у него в груди заколотилось во всю мочь: Зе Мигел чувствовал, как удары отдаются в кончиках пальцев.
Он подкрался к борту шлюпки, и один из кормовых гребцов шепнул ему:
— Глядите не свалитесь. Если свалитесь в воду в этом месте, никто вас больше не увидит.
Зе Мигел не стал отвечать из осторожности, чтобы гребец не заметил, что язык его не слушается. Он был уверен, что, заговорив, наверняка выдаст свое состояние. В этот момент все было поставлено на карту. Когда он увидел, что выбора нет, он положил руку на револьвер и встал перед старшим. Оба смерили друг друга взглядами, уже привыкшими к темноте.
Зе Мигел шумно высморкался, втайне испытывая свой голос. Теперь он был уверен, что может им пользоваться, и тогда быстрым прыжком он отпрыгнул за спину старшого.
— Выводи на середину реки, Баркасик!
— Прилив низкий, можем застрять.
— Выводи. Низкий он там или высокий, а груз — мой.
— А лодка моя.
— Больно много знаешь. Выводи и давай к середине. Понял?
— Если застрянем, пограничники сцапают нас, как шалых воробышков. Угодим в ловушку.
— Меня живьем не возьмут, черт побери! Когда я иду на такое дело, жизнь я оставляю дома, в пудренице моей бабы.
— Я хожу на такие дела десять лет и собираюсь проходить еще десять.
— А я начал пару месяцев назад и хочу кончить по-быстрому. У меня шесть пуль в револьвере, да еще две полные обоймы. Для себя мне двух довольно; остальных хватит для патрульных или для тех, кто со мною свяжется.
— Если будет на то воля божья, они не понадобятся! — сказал Баркасик после долгого молчания.
— Оно бы хорошо, да паленым попахивает, ясно тебе?
— Со мной неудач не бывает, можете убрать оружие.
— Ты не бойся, Баркасик. Оно стреляет, только когда я пальцем нажму, но, уж когда нажму, шесть пуль выпустит одну за другой. Прямо как пулемет, черт побери!
Рукоятка руля скрипит под тяжестью старшого, упершегося босыми ножищами в борт шлюпки. Прилив достиг наивысшего уровня, и это помогает гребцам, шлюпка пошла быстрее, а может, гребцы почувствовали себя увереннее, выйдя из Тежо. Два часа утра; луна не показывается.
— Далеко еще? — спрашивает старшой, не поворачивая головы.
— Да нет… За мостом Порто-Алто, немного повыше.
— А машины у вас наготове, чтобы мы разгрузились побыстрей?
— У меня всегда всё в полном порядочке.
— Не знаю: мы работаем вместе в первый раз.
— И надеюсь, что не в последний.
Зе Мигел протягивает старшому бутылку водки, трижды дотронувшись до его плеча стволом револьвера, чтобы тот лишний раз почувствовал, что он ему не доверяет. Баркасик отпивает два больших глотка и передает бутылку первому гребцу по левому борту.
— Вы, хозяин, парень что надо, но уж больно недоверчивы.
— Знак, что я встревожен.
— Чем это?!
— Боюсь себя самого, и только. Иногда начинаю раньше времени.
— В таких делах хладнокровие нужно, хозяин Зе.
— Нужно-то нужно. Да я предпочитаю начать раньше времени, чем кончить позже, чем надо. Кто вовремя не поспевает, тот в дерьме застревает.
Они шепчут друг другу на ухо, в странной интимности. Секретничают, как влюбленная парочка или двое друзей, еле внятно, приглушив голоса, чтобы никто не расслышал.
Растительность по берегам колышется от порывов палмелонца; иногда плывущим становится страшно, словно из ветвей и трав доносятся угрожающие выкрики.
Теперь, может быть, станет понятно, почему в баре Зе Мигела охватил приступ злобной ярости. Виски в его представлении связывается с риском, опасностью, страхом, это напиток, с которым он имел дело в тревожные ночи, грозящие гибелью.
Когда ящики были выгружены, Зе Мигел договорился со старшим встретиться на берегу в Беато.
— Завтра, как свечереет. Хочу отблагодарить тебя и договориться о новом дельце. Работаем исполу, идет?!
Когда они сошлись вдвоем на пустынном берегу близ Беато, оба пустили в ход и кулаки, и ноги. Зе Мигел схлопотал больше, чем выдал, но зато руки потешил и обзавелся верным другом на весь остаток жизни. Баркасик был бы не прочь схватиться врукопашную: если бы он подмял Зе Мигела под себя, он бы от него мокрое место оставил, Зе Мигел и сейчас так думает. Но Зе Мигел не дался, бился на расстоянии, легко отскакивая и нанося удары головой и ногами. Хуже всего были пять затрещин старшого, расквасивших противнику всю физиономию; но и Зе Мигел в долгу не остался, дважды двинул старшого в скулы, так что у того тоже всё лицо распухло. Поквитались, одним словом.
Устав, оба почувствовали, что удовлетворены, и вместе вернулись в Посо-до-Биспо. Вошли в первую попавшуюся таверну обмыть раны водкой, и Зе Мигел потребовал шесть двойных красного. Только тогда они поглядели друг другу в глаза — открыто, без досады. Торжественно подняли стаканы до уровня носа в знак мира и дружбы и осушили залпом. Затем разбили стаканы о стойку и распрощались.
Когда Зе Мигел вышел, Баркасик возвестил присутствующим, торжественно покачав головой: — Вот парень так парень!.. И начал рассказывать, что произошло.
XXVI
Алисе Жилваз подозревает, что через два месяца ей придется покинуть дом, где она так долго жила сеньорой.
Придут судейские, продадут с молотка мебель, контрабандные ковры, фарфор и постельное белье, а еще семь люстр со стеклянными подвесками: Зе Мигел купил партию, а она распорядилась повесить по всем комнатам, одна попала в ванную. И зачем только ее Зе Мигел выписал из Лиссабона семь с четвертью метров книжек для трех стеллажей?
Люди смеялись, когда, садясь на унитаз, видели — люстру с подвесками. В городке узнали об этом и тоже смеялись. Но Алисе Жилваз не понимает, что тут смешного; она считает, что все это злобные пересуды завистников, ей не под силу их унять.
Алисе Жилваз велит приготовить ужин к половине девятого, суп с кориандром и яйцами и тушеную говядину, говядина тушилась в томатном соусе, должно получиться вкусно; но жена Мигела Богача не знает, что через два месяца ей придется искать по всему городу место домашней прислуги. Перед этим она узнает, что такое голод — безнадежный и постыдный, и голодать она будет, сидя на софе, той самой, на которой двумя выстрелами убил себя ее сын.
Ни одна из сеньор не придет составить ей общество, не позвонит, чтобы узнать, не нужно ли ей чего-нибудь. Жена лейтенанта Рибейро не пригласит ее в кино.
— Дона Алисе, вам надо отвлечься: не можете же вы до конца своих дней переживать это горе. Ваш муж не будет против, если вы пойдете со мной. Составим друг другу компанию.
Алисе Жилваз не спросит, не будет ли в фильме выстрелов.
Да, при звуке выстрела она всегда разражается рыданиями, странными, неблагозвучными: словно воет раненое животное. Когда это случилось с нею в первый раз, все остальные зрители услышали, в зале зажегся свет, люди подумали, случилось что-то. Потом ее отвели домой, и некоторые сказали, что все это преувеличения, достойные кухарки, сразу видно, что она не настоящая сеньора.
Зе Мигел думает о жене, сидя в машине.
Сейчас он ведет со скоростью восемьдесят пять, шоссе полого спускается к Сакавену, Зе Мигел все сбавляет и сбавляет скорость, нажимает на тормоз, как бы полиция не остановила, только время зря терять. Он думает о жене, вечно она ставит себя в дурацкое положение, надоело, никак ее не обтесать, а ведь зналась с цветом общества — так полагает Зе Мигел в неизлечимом своем самомнении. Вторично замуж ей не выйти, не та женщина, любовником не обзавестись, бедная вдова, мужу которой все завидовали; в конце концов наймется в какой-нибудь дом среднего достатка, готовит она хорошо, понимает толк в приправах, чистоплотней не найти.
Ей неизвестно, что, в сущности, произойдет. Он никогда не разъяснял ей сути дела, хотя про закладные она знает. Жене нечего совать нос в его жизнь, мужские дела есть мужские дела, никаких советов, даже в постели. Когда предъявили первый вексель, он чуть было не попросил у нее бриллиантовые серьги, чтобы, заложив их в Лиссабоне, оплатить его. Но потом понял, что за этим векселем последуют другие, и решил не вступать в объяснения. По мнению Зе Мигела, в анормальности сына виновата жена, он ее кровь унаследовал, в этом Зе Мигел не сомневается, он так и не простил ей, что она во время его отлучки выпустила сына из дому, где отец решил продержать его взаперти до того дня, когда отправит за границу, в Германию или, может, в Англию — там на такие вещи внимания не обращают.
Из-за нее ему пришлось начать тот разговор с сыном.
Поток машин, эта огненная змея, жжет своими раскаленными извивами асфальт старой автострады в изнуряющей лихорадочной спешке. Новая автомашина дона Антонио Менданьи — один из беспокойных члеников ошалелой рептилии.
Зе Мигел вспоминает сына; Руй Мигел, казалось, спал на зеленой софе с золотистыми цветами, так потом рассказывали, лицо у него было такое спокойное, такое отрешенное, револьвер лежал у ног, на контрабандном алжирском ковре.
Это воспоминание будоражит ему нервы, он жмет на газ, чуть не налетает сзади на автоцистерну, но скорости не убавляет, сцепление — передача, выворачивается чуть не из-под самой автоцистерны, перед ним возникает другая автомашина, Зе Мигел сигналит фарами, прибавляет скорость, еще, девчонка вскрикивает, «феррари» проскальзывает между обеими автомашинами проворным и чутким существом, словно его кузов обрел эластичность и сжался, угодив в узкую расщелину между двумя металлическими стенами, готовыми растереть его в порошок.
Зе Мигел смотрит на соседнее сиденье и улыбается.
Зулмира с трудом переводит дыхание, завалившись на правый бок, свесив руки. Она закрыла глаза в миг опасности, но еще не открыла их и откроет не сразу. Она бледна, левая щека подергивается; волосы в беспорядке рассыпались по плечам, по темно-синей, плотно облегающей блузке со стоячим воротником. Зе Мигел видит в воображении ее груди — может, из-за них и не хочет, чтобы она осталась жить: белые, розоватые, черная родинка на левой, если бог меня пометил, стало быть, изъян заметил; и притрагивается к ним правой рукой, чтобы пальцы вспомнили почти полуторагодовалую близость. Захваченная врасплох, девушка взвизгивает.
— Мне что — уже нельзя тебя трогать?
— Нельзя, дорогой, никак нельзя, гонишь как сумасшедший. Я не для того с тобой поехала, чтобы разбиться. Если тебе жизнь надоела, разбивайся в одиночку; я к твоим неприятностям отношения не имею, дорогой.
— Заткнись ты, черт побери, а не то по носу получишь!
Зе Мигел хотел подвергнуть ее испытанию, приучить к опасности, чтобы она не испугалась, когда они подъедут к стене. Белая стена, недалеко от усадьбы Релвасов, Зе Мигел знает каждую пядь ее сверху донизу. Жители Алдебарана пишут на ней свои жалобы. Ее прозвали народной газетой. Сейчас стена свежевыбелена, белая-белая.
— Во всем был виноват тот тип, ты же знаешь. Я попросил разрешения на обгон, они разрешили, и я вышел вперед.
— Ну ясно.
— Испугалась?…
— Еще бы, дорогой.
— Раскури мне сигарету.
На эти несколько минут, что отделяют его от стены, ему захотелось мира. Последние пять месяцев его вымотали. Те, кто помогли ему отсрочить развязку, сделали эту развязку еще тяжелее: нарастили проценты, торопят с выплатой. Зе Мигел остался без друзей в самый неподходящий час. Он подумал было, не бежать ли в Бразилию. Когда-то он был способен добраться туда любой ценой. Деньги и разгульная жизнь расслабили его; да, может, именно в этом все дело. Зе Мигел не сознает этого, перекладывает всю ответственность на врагов.
Зулмира передает ему раскуренную сигарету и закуривает сама.
Зе Мигел сворачивает налево и останавливает машину на стоянке, где часто отдыхал в те времена, когда водил свой первый автофургон, купленный на деньги Розинды-вдовы. Притягивает Зулмиру к себе, обнимает.
Ему одному знать, откуда этот порыв, оттого ли, что на несколько минут ему захотелось мира, оттого ли, что вспомнилось то время, когда он останавливался здесь, чтобы заниматься любовью с одной из придорожных проституток. Розалии было пятнадцать лет. Она всегда ходила с ивовой корзинкой. Волосы красила в желтый цвет, не волосы, а пакля; но сама была милая. Выучилась тайнам своего ремесла очень рано и во всех тонкостях. Смеялась по любому поводу и без повода, ей рассказывали что-то, и она смеялась, ее тискали, и она смеялась, ее били, и она убегала смеясь. Ее настоящее имя было Мария Рита, и ей было пятнадцать лет.
На огненной змее всего хватает.
Насилие, любовь по дешевке, предприятия ценою в тысячи конто, комнаты, сдающиеся на несколько часов, сосредоточенные и молчаливые люди, пьяницы, выкрики которых обращены то ли к кому-то поблизости, то ли к небесам, и непрекращающийся безумный поток грузовиков — семитонных, десятитонных, двадцатитонных — и легковых автомашин ценою в пятьдесят, восемьдесят, сто, двести конто, мощностью во столько-то лошадиных сил — целая вереница миллионной стоимости, она растет, множится, удлиняется, приходит в неистовство, пышет ненавистью, беснуется — черная змея, которая обращается в огненную на ночь — на всю ночь.
— Отчего умер твой сын? — спрашивает Зулмира; она лежит, положив голову ему на колени.
Зе Мигел обеими ладонями сжимает ей виски. Хотел причинить боль, но жмет несильно, почти ласкает.
— Не хочешь говорить, дорогой?
— Не хочу.
— Я слышала, он самоубийством покончил. Это правда?
— Если знаешь, зачем спрашиваешь? — говорит он в ответ с раздражением. — Женщины вечно задают вопросы, когда знают ответ. Вот и мать у меня была такая. Повторяла одно и то же, пока не выведет человека из себя.
XXVII
Руй Мигел стоит перед отцом, глядя ему в лицо, напряженный, почти агрессивный. Глаза юноши подернуты печалью, печаль обволокла ему лицо, кожу холодит странный холодок — холодок неприязни к отцу, презрение к которому он впервые почувствовал три года назад, в ярмарочную субботу. Зе Мигел не знает, какое отвращение внушил он сыну в тот пропахший свининой и съедобными ракушками вечер: сначала подросток наблюдал, как его пьяный отец хвастает отвагой и меткостью по ярмарочным тирам, а затем увидел его трусость, когда Зе Мигел повалился наземь от затрещины одного рыбака по прозвищу Невод, не пожелавшего безропотно сносить тумаки, которые Мигел Богач рассыпал направо и налево. И сейчас, три года спустя, у сына перед глазами помертвевшее со страху лицо отца, который успокоился лишь тогда, когда республиканские гвардейцы уволокли рыбака в камеру при участке.
Поединок взглядов кончается тем, что сын, униженный, опускает глаза. Зе Мигела снова охватывает ощущение провала: даже если бы ему изменила женщина, променяв на другого, было бы не так страшно, как сейчас. Руй Мигел обманул отца в самых честолюбивых надеждах, которые тот строил для них обоих. Кто еще его обманет?! Да, кто еще?! Может, еще кто-нибудь захочет над ним поглумиться?
Он создал для себя в воображении идеальный образ и надеялся, что сын сможет воплотить его во всей конкретности, а сын не смог. У Зе Мигела хватает и денег, и друзей, чтобы протолкнуть сына в тот круг, в котором сам он всегда стремился жить. Протолкнуть его в ту запретную зону, открытую лишь для своих по крови и по интересам, где самого Зе Мигела только терпят, он это знает. Да, терпят, и не больше.
Зе Мигел мечтал, что сын будет таким же сильным, как он сам, и что же? Сильным и отважным. И вот сын стоит перед ним, струсив, понурив голову, руки дрожат, тело безвольное и беспокойное, вот закрыл глаза, словно от внезапного приступа какой-то режущей боли, между густыми бровями углом сошлись две морщины. Зе Мигелу хочется дотронуться до волос сына, притянуть его к себе и умолять собраться с силами, чтобы стать таким, каким его хочет видеть отец. Сначала он допускал, что все это детские шалости, да, обычные проказы, может, в Сельскохозяйственном училище его заставили старшие? Но теперь сомневается в этом, даже уверен, что ему не удастся отучить сына от худшего из всех пороков, какие только могут быть у мужчины.
Он только что отомкнул дверь чердака, где держал сына взаперти, приказал ему выйти, не называя по имени, и вот Руй Мигел стоит перед ним, во власти отцовских рук, готовых избить его или приласкать. Зе Мигел любит сына. И чем сильней любит, тем сильней ненавидит. Да, ненавидит. Что я дурного сделал, за что мне такое несчастье? Он вспоминает день, когда повел сына к парикмахеру обкорнать девчачьи локоны, жена плакала, упрашивала подождать еще два месяца, ну хоть месяц. Руй Мигел смирился, сидел, покусывая губы, его мальчишеские плечи вздрагивали каждый раз, когда ножницы отхватывали очередную прядь почти белокурых кудрей, под конец все-таки расплакался. В тот момент Зе Мигелу сын даже нравился.
— Мужчина никогда не плачет, даже если потроха кому-то выпустит и руки измарает. Хочешь быть тореро? Тореро не носят волосы, как у девчонок.
Он тогда решил взять сына с собой на ярмарку — в костюме рибатежца и верхом на смирной серой кобылке, которую купил специально для него на голеганской ярмарке. Повел сына к портному, чтобы тот снял мерку для серой куртки и таких же брюк; Мигел Богач хотел, чтобы сын был одет точно так же, как он сам: шляпа с низкой тульей и твердыми полями, невысокие севильские сапожки на каблуках и со шпорами, кончик белого платка высовывается из кармана куртки. Они с сыном вызвали восторг в рядах простонародья, когда ехали встречать быков для воскресной корриды; в кавалькаде властителей Лезирии они были как свои.
День ничем не омраченного блаженства, никогда жизнь не казалась ему столь покорной честолюбивым замыслам, которые он вынашивал столько лет. Штопор при всем народе пожал ему руку и велел крестнику ехать слева от себя, любуясь лихой посадкой этого мальчугана, в котором он узнавал самого себя в детстве, почти так же, как узнавал себя во внуке, сыне барышни Бле и беспутного графа. Зе Мигел провожал их глазами, они ехали шагом. Он ехал следом, но на расстоянии, ослепленный и взволнованный, по щекам у него текли слезы, и он не стыдился их, не пытался унять, потому что даже не ведал прежде, что радость может быть такой глубокой и внезапной. Из некоторых окон раздались рукоплескания, и он услышал свое имя, да, это крестник Релваса-Штопора, сын Мигела Богача, Руй Мигел, даже не верится, что мальчик родился в такой семье, лицо как у дворянина, — принц, добавил от себя Зе Мигел в этот ничем не омраченный час блаженства.
Он роздал билеты на бой быков почти всем своим людям. Хотел, чтобы видели, как он сидит у себя в ложе вместе с друзьями. Алисе Жилваз осталась дома, она еще не умела носить перчатки и неловко чувствовала себя в шелковом платье, сшитом в Лиссабоне специально к этому дню. Незадолго до начала корриды она почувствовала недомогание: мигрень, объяснила она мужу, но на самом деле была не в силах совладать со страхом, от которого шла кругом голова, да, она боялась, что, когда ее увидят в коляске, кто-нибудь крикнет вслед — глядите, кухарка Релвасов вырядилась баронессой; или что будут смеяться над ее замешательством, а муж выбранит ее за робость, как в тот вечер, когда они пошли в кино, и она споткнулась в проходе и упала на колени к потехе завистников из партера, свора чванных голодранцев, не платят булочнику, чтобы потолкаться среди людей с деньгами. С нее довольно было полюбоваться мужем и сыном из окна. Они ехали в наемной коляске, чрезвычайно гордые друг другом: ее Зе курил сигару, не сводя упоенных глаз с сына, а мальчонка засунул руки в карманы куртки, как его учили, и при каждом движении поглядывал на отца, чтобы удостовериться, что делает все правильно и в соответствии с принятым в Рибатежо ритуалом поведения будущего землевладельца.
Зе Мигел узнавал в нем самого себя мальцом, родной мой сынок, родной мой, а теперь от избытка презрения он не может назвать его сыном, злобное волнение сжимает ему горло, голос стал хриплым, срывается, и слова не выговариваются, словно все жилы у него порвались от отравляющего душу стыда, который он чувствует при мысли о том, что весь городок судачит о нем и презирает его; в чем состоит его отцовский долг, черт побери? — в том, чтобы спасти сына от насмешек, от пересудов злопыхателей, что толпятся у дверей кафе и таверн кучками, откуда доносятся взрывы злорадного хохота: мстят ему за богатство, подлецы, многих из них он угощал пивом, и вот теперь они рвут в клочья его имя по вине сына, а Зе Мигел так желал, чтобы сын его облагородил семейство Атоугиа, в котором из поколения в поколение все были пастухами да батраками.
Презирать собственного сына — черт побери, выпадало ли кому-нибудь горе тяжелее среди жизненных невзгод? Раздирающая боль нарастает в груди у тебя и раздирает сердце и жилы, все до единой, обжигает их, дочерна обжигает. Он пытался запугать сына, хлестал ремнем и злыми словами, от которых самого его жгло огнем, даже когда он произносит их мысленно, а тем более вслух. Ему и повторять их не нужно, и без того он приходит в неистовство. Бессмысленно жестикулирует, не помнит себя, весь заходится внутренним криком в этот весенний день — ах, как прекрасна весна! — а теперь он ее словно не чувствует, она бесстыже насмехается над ним, над тем, что теперь ему не в чем сомневаться, и это хуже смерти.
Когда Зе Мигел велел жене запереть сына на чердаке, он задумал дать тому время на раскаяние, в надежде, что в один прекрасный день Руй Мигел придет просить у него прощения и пообещает начать новую жизнь: даже воры и те исправляются — разве не так? — человек в силах исправиться, весь вопрос в том, чтобы понял, что ему на пользу, а что — нет.
И вот вчера, вчера вечером, он сидел за столиком на улице близ кафе и пил пиво в обществе Мануэла Педро и Коутиньо, и гут приходит брат, отзывает его в сторону и рассказывает, что (торож с бульвара застал его сына в объятиях какого-то юноши. Зе Мигел потерял голову. Публичный позор сына он воспринимает как удар, безвозвратно сгубивший все честолюбивые замыслы, взлелеянные им для них обоих. Над ним нависает угроза краха. Непоправимого. Он почти смирился с этим.
Что ему делать?! Дыхание у него учащается, и сердцебиение гоже, он весь напрягся. Вздрагивает от любого звука.
В то утро, проходя по рынку, он встречает Антонио Испанца; тот, уже старик, сидит у двери таверны, ест лупин, и Зе Мигел видит, что он глядит на него с ухмылкой. Поддавшись внезапной ярости, Зе Мигел подскакивает к старому шоферу. Он сорвался с тормозов, какой-то разрушительный порыв лишает его самообладания; он хватает Испанца за лацкан пиджака и спрашивает:
— Ты над чем смеешься?
— Я?!
— Да, ты; над чем ты смеешься?!
— Убери сперва лапы, потом разговаривай.
Антонио Испанец высвобождается резким рывком, теряет равновесие, но кто-то, выбежав из таверны, поддерживает его сзади. Зе Мигел останавливается на пороге, из таверны на него пристально смотрят какие-то люди, Зе Мигел пытается понять выражение их глаз.
— Теперь человеку и посмеяться ни над чем нельзя, — объясняет Испанец друзьям. — Этого типа допекло, так он думает, люди ему должны давать отчет, почему им смеяться охота.
— Ты выйди, повтори это на улице, — бросает Зе Мигел, чувствуя, что кровь кипит у него в жилах. Он весь в поту; его руки клещами тянутся к шее Испанца, пальцы растопырены, словно он хочет снять с нее мерку.
— Мне захотелось смеяться, ну и что? А если даже над тобой или над кем-то из твоих?
— Скажи, над кем! Только сунься на улицу, я тебе уши оборву!..
— Ты свою спесь прибереги для других случаев. Когда-нибудь мы еще поговорим…
— Давай сейчас поговорим, Испанец. Я не из робкого десятка, тебе известно.
— Нет, сейчас нет. Сейчас все козыри у тебя. Но когда-нибудь придется тебе держать ответ — передо мной или перед кем другим.
Несколько мужчин подходят к порогу таверны, возле которой стоит Зе Мигел. Один из них, смерив его взглядом, шепчет:
— Оставьте старика в покое, почтенный. Старик вас не трогал.
— Смеялся он.
— Ну и что?! Значит, нам уже и смеяться запрещено? Хоть посмеяться, черт побери! Хоть посмеяться, ты, чертов сын! Что же, бедняк уже и посмеяться не волен?! Вам-то какое дело, почтенный сеньор Зе?! Вы что думаете — люди только над вами могут смеяться?!
Люди, вышедшие из другой двери, постепенно окружают его. Антонио Испанец выходит вперед и улыбается.
— Тебя червь спеси гложет, Зе! Но когда-нибудь тебе туго придется… Когда-нибудь ты за все заплатишь.
— Выйди сюда и повтори. Если ты мужчина, выходи на улицу и поговорим.
— Оставьте старика в покое, хозяин Зе! Антонио вас не трогал.
Почуяв, что дело пахнет поражением, Зе Мигел в порыве ярости бросается на Испанца. Окружающие хватают его за руки, держат крепко; не в силах шевельнуться, он волей-неволей приходит в себя. Не скрывая бешенства, поворачивается спиной к собравшимся и, почти пробежав по проулку, исчезает за углом.
Ему нужно скорее попасть домой. Взлетает вверх по лестнице через две ступеньки, отталкивает жену, в тревоге выбежавшую ему навстречу, и устремляется на чердак, куда сын вернулся после скандала на бульваре. С усилием всовывает ключ в скважину, поворачивает неловко и в конце концов высаживает дверь плечом.
И вот перед ним его Руй Мигел, изможденный, ослабевший настолько, что не в силах даже поднять голову, поглядеть на своего отца. Зе Мигел пытается разглядеть в нем хоть какие-то черты образа, который он для себя создал, вспоминает, каким был он сам в его возрасте, когда состоял в подпасках под началом у Пруденсио, щеголял, как все пастухи, в грубых башмаках и берете и был счастлив и полон честолюбия. Весельчак, храбрец, не знал себе равных в искусстве таврить подтелков и балагурить с девушками. Он сбегает вниз по ступеням, кивком приказав сыну спускаться следом. Алисе Жилваз поджидает обоих в коридоре, вглядывается в лицо мужа, пытаясь понять, что он задумал, не может ничего разобрать, но чувствует, что должна сказать ему что-нибудь, и поскорее. Только — что?
— Это я его выпустила…
— Можешь не говорить, я и так знал, что его выпустила ты.
— Пожалела его, сидел взаперти.
— А меня кто пожалеет, мне же все это расхлебывать?! Никто! И ты не пожалела! Я ведь — дурень, что за всех отдувается, сукин сын, что все вытерпит.
— Не делай ему зла…
В ответ Зе Мигел так толкает ее, что она отлетает к стене.
— Эти сволочи уже смеются надо мной на улице. Даже старики меня задирают. Скоро за мной, как за придурком каким-нибудь, мальчишки начнут гоняться, камнями швырять. И все по твоей милости и по милости этого типчика, этой дамочки, позорящей мое имя. Никто никогда не смел надо мной глумиться, а теперь глумится надо мной вот этот тип, мой родной сын.
— Успокойся, Зе!..
Зе Мигел входит в гостиную, протолкнув сына вперед, и яростно захлопывает дверь. Затем распахивает ее с той же злобой, натыкается на жену, мертвенно-бледную, неподвижную, и говорит угрожающе, что нечего ей торчать тут у него под боком, подслушивать их разговор, пускай убирается в кухню, скроется с глаз, хорошо, если бы скрылась с глаз навсегда, раз уж не сделала так, как он ей велел и как было бы лучше для них всех.
— Ты виновата! Во всем, что случилось, ты виновата! Передала ему свою жиденькую кровь, избаловала его, изнежила, а теперь вдобавок не сделала так, как я тебе велел и как было бы лучше для всех. Не плачь! Нечего тебе плакать!..
Он ждет, пока Алисе Жилваз скроется в коридоре. Она уходит опасливо, сжавшись, словно от холода, а Зе Мигел все сильнее ощущает себя презираемым, изгоем, которого грозят замуровать. Только теперь, когда жены уже не видно, ему вдруг вспоминается одна история, объясняющая причину издевок Антонио Испанца. Эта история, запрятанная в глубинах его памяти, вспоминается ему теперь во всех подробностях.
Это было еще до того, как они с Испанцем померились силой рук на рассвете в Пенише. Тогда они были добрыми товарищами. Был с ними в тот вечер и Педро Лоуренсо.
Воды Тежо перехлестнулись через парапет, так высок был прилив; они трое, да еще Зе Ромуалдо расселись на скамьях, лицом к двери таверны, где заказали вино. Было восемь часов, может, с минутами. Да, точно восемь; как раз когда они попросили жаровню у Марии Розы, прошел лиссабонский пассажирский. Он не забыл этой подробности, сейчас все мелочи всплывают в памяти; Розинда, вдова рыбака, подарила ему ко дню рождения черную самарру — овчинную куртку с пелериной. При необходимости он мог бы точно припомнить дату.
Они принялись жарить на жаровне сардины — круто посоленные, как они любили. Кукурузный хлеб, черные маслины, отдававшие лимоном и тимьяном, и средней величины сардины, чуть покрупнее плотиц, хорошенько натертые солью. Их ели руками, перекидывая с ладони на ладонь, если они были слишком уж горячие. Чешуйки светлые, маленькие — не стоило труда чистить рыбешек и шкерить головы. Зе Ромуалдо даже сказал в шутку: «От головы до хвоста все рыба!», перефразировав одну из заповедей тавромахии: «Бык всюду бык от головы до хвоста».
Разговор перешел на пикадоров, как они втыкают бандерильи почти в самый круп быка; посмеялись. Раскаты хохота Антонио Испанца звучали громко в те времена. Их слышно было всем, кто пересекал железнодорожные пути или направлялся к стоянке речных транспортных судов.
Мимо проходила Мария Эмилия, она была пьяна, шаль волочилась по земле, платок сбился на спину. Зе Мигел предложил ей съесть сардинку и выпить винца; она подошла, ступая с напряженной твердостью, чтобы удержаться на ногах. Кто-то с оттяжкой шлепнул ее по заду, казавшемуся шире из-за просторной и плохо пригнанной юбки, она пошатнулась, выругавшись, и повалилась на Ромуалдо; тот высвободился, и женщина растянулась на панели. На помощь к ней поспешили Педро Лоуренсо и Испанец, не испытывавшие охоты выслушать поток ругани, которым она всегда поливала своих обидчиков.
Но на этот раз все случившееся показалось ей смешным, она уселась на панели, и Зе Мигел протянул ей ломоть кукурузного хлеба, на который положил сардину. Набережная была залита лунным светом, мягким, почти без желтизны, воды Тежо светились, и пятно света, сжатое берегами, казалось под луной, как и все вокруг, синевато-фиолетовым.
Немного времени спустя — они как раз почали третий литр — появился Цыпочка, гомик с ухватками уличной девки, в штиблетах из голубой парусиновой плетенки, в брюках медового оттенка, плотно облегавших мягкое место, и в спортивной рубашке-сеточке с короткими рукавами. Ромуалдо послал ему издевательский вздох, а Мария Эмилия принялась поносить его ремесло, которое Цыпочка в пику ей стал превозносить весьма словоохотливо и во всех подробностях.
Ехидным слушателям даже не пришлось подливать масла в огонь — и без их участия между шлюхой и гомиком завязалась ярая перепалка на тему о том, у кого род занятий почетней и прибыльней; начались взаимные обличения; вылезли на свет секреты, пошли в ход попреки — словом, содом и гоморра.
Сражение выигрывала Мария Эмилия, не только потому, что была бойчее и разнузданней на язык, но и потому, что четверо мужчин держали ее сторону против педика и все подзуживали ее не жалеть подробностей, касающихся Цыпочкиной биографии того периода, когда он был сожителем одного моряка с учебного судна.
Всего этого оказалось достаточно, чтобы вывести Цыпочку из равновесия, и он предпочел смыться, причем почти рысцой. Обнаружив слабое место противника, женщина пустилась за ним вдогонку, хотя ноги у нее заплетались от хмеля, и скрылась из глаз.
Четверо друзей снова занялись вином и сардинами. Зе Мигел притих. Ромуалдо, вечное трепло, не оставил без внимания молчаливость приятеля и стал уверять, что голубенький с ним заигрывал.
— Со мной?… — негодующе переспросил внук Антонио Шестипалого.
— Только слепой бы не заметил, — поддал жару Испанец.
— Будь у меня власть, собрал бы я всех таких молодчиков и случил бы с жеребцом-производителем из лезирийской Ассоциации сельского хозяйства. И пришел бы им каюк.
— По-моему, болезнь это, — заметил Педро Лоуренсо, раскладывая над угольками новую порцию рыбешек.
— Какая там болезнь!.. Вот если бы мой способ применить, тогда бы они заболели.
— Не плюй в колодец, Зе Мигел! — хохотнул Ромуалдо. — Элиас-экспортер только на старости лег стал заходить с кормы; поди знай, что с тобой может случиться!
Осатанев от одного только предположения, Зе Мигел вскакивает со скамьи, пытается сказать что-то, но язык его не слушается; все его тело обдала волна жара, он глядит на друзей с вызовом. Может, вино ему кровь горячит, думают те. Нет, дело не в этом, ему на этих гадов смотреть тошно, когда он их видит, у него кулаки чешутся.
— Если бы среди моих родичей завелся один такой…
— Притерпелся бы ты, как все прочие, Зе.
— Я бы его к себе на расстояние взгляда не подпускал, клянусь вам всем, не сойти мне с места. А будь он мне сыном, я бы его убил.
Антонио Испанец улыбался, сидя у дверей таверны. Только теперь Зе Мигел понял причину его насмешки.
Сейчас весь городок смеется над тем, что с ним случилось, мстит ему — что плохого сделал он людям? Столько труда — и чего ради, сеньоры! Человек выбирается из грязи дорогой ценой — такова жизнь! — и вот сын родной грязью его марает — всего, с головы до пят, словно породила его чужая зависть, а не отцовская кровь, в роду отца есть только настоящие мужчины, у них все как надо, пусть порасскажут об этом женщины, которые близко их знают, — а теперь такое! Как будто мало было того, что произошло в училище, директор с глазу на глаз и во всех подробностях пересказал ему все, что видел старший надзиратель; а теперь как же, сеньор директор? — теперь забирайте его с собой: Руй Мигел должен быть исключен; и потом они идут к машине, лица тех, кто наблюдает за ними, одни глядят на его сына, другие прячут глаза, Зе Мигел сжимает ему руку выше локтя, вталкивает в машину; невдалеке от города останавливается возле сосновой рощи, уводит туда сына, мой мальчик, мой мальчик! и там молотит его кулаками и ногами, раскровянил ему все лицо, разнести бы его в клочья, скрыться бы с ним вместе куда-нибудь, где их никто не знает, а потом на руках относит сына в машину; сын как неживой, оба они как неживые, а на другой день нужно заставить себя выйти на улицу, чтобы никто ничего не заподозрил, уволить служанку — тайну знают только они трое — и требовать от сына, чтобы этого никогда больше не было — никогда, слышишь! — и думать, что нужно послать его за границу, где на это не обращают внимания, и держать его в наказание на чердаке, словно он болен проказой или чем похуже; а во время отлучки отца, на пять дней уехавшего в Танжер по делам контрабанды, мать позволяет сыну выйти на улицу, и сразу же эта весть, ее приносит брат; да, я с самого начала заметил, что все в кафе замолчали; на меня старались не смотреть, черт побери! Я заказал пиво для себя и для всех, кто был за столиком, и тут входит Мигел Зе, все умолкают, Мануэл Педро насвистывает и поворачивает свой стул к стойке, а брат говорит мне: будь так добр, подойди.
На улице солнечно, вот издевательство; по улице проходят люди, вот издевательство. В жизни других ничего не изменилось, судя по видимости, а его глазам даже видимая сторона вещей представляется искаженно. И люди, и предметы словно заражены каким-то неизлечимым недугом, растлевающим их изнутри.
У него руки ноют, когда он хватает стул, что стоит у окна. У него уши болят от обычных звуков, раздающихся в тишине примолкшего дома, и еще оттого, что доносится боязливое дыхание кого-то, кто у него за спиной, и от всех шумов извне, не только от гудка паровоза — поезд проходит там внизу, а дальше деревья бульвара, где сторож застал его сына в объятиях другого парня (и поезд не сойдет с рельсов, чтобы уничтожить следы и раздавить сторожа, он сидит себе, сворачивает самокрутку, кажется, что тревожный свист вырывается не из трубы локомотива, а из-под пальцев сторожа, чуть-чуть нажимающих на папиросную бумагу); но все шорохи, отзвуки, вопли говорят ему о людской враждебности, как в тот день, когда он угодил в засаду: он ехал верхом по тропинке, что зовется Долгонькой, и кучка женщин закидала его камнями, так что пришлось спасаться бегством.
Сейчас, наверное, около одиннадцати.
Солнечные лучи бьют в стену дома напротив, и по белизне ее движутся четкие тени прохожих. Люди поднимают голову замечают в окне фигуру Зе Мигела, и каждый раз Зе Мигел вздрагивает, отступает немного, пряча лицо, а потом пытается опознать соглядатая. Ему кажется, что необходимо их всех опознать. Но лица словно составлены из неправильных кусков, не подходящих один к другому; все спуталось, ему никого не узнать, в глазах рябит, все застилает темной пеленой от слепящего солнца, такого яркого, и лица исчезают в этой тьме.
— Скажи мне, правда ли это, Руй! Расскажи мне правду. Смотри на меня. Не бойся.
Сын медленно приподнимает голову, колеблется, поднимает еще, и Зе Мигел видит, что в глазах у него стоят крупные слезы.
— Не плачь. Теперь, когда ты замарал мое имя, плакать нечего. Вчера ты свел на нет все, чего я добивался всю жизнь. Ты же мне обещал…
— Думал, смогу.
— И не можешь?
— Нет, отец.
Зе Мигел хватает сына за руку, бьет кулаком в подбородок так, что тот чуть не падает, затем притягивает к себе. Чем больше он его любит, тем сильнее ненавидит. Затем отбрасывает его на зеленую софу, лихорадочно трет ладонь о ладонь, словно обжегся, дотронувшись до сына. Дыхание его становится беспорядочным, учащается, он почти задыхается.
— Но почему?! — теперь он уже кричит, и его не волнует, слышно на улице или нет. — Говори живей — почему?!
— Понял, что не могу.
— Не получается?…
— Нет.
Ответ сына разит его наповал, хотя ждал он именно такого ответа. Может, только чтобы не вслух, безмолвно; он бы сам представил себе ответ, голос не нужен. Но голос сознался — до конца. И все завершилось — или начнется сейчас, чтобы завершиться полностью. Зе Мигел уже обдумал, что сказать сыну. И он должен сказать все это сам. Сейчас. Если бы выговорилось…
— Ты знаешь, что я не хочу, не соглашусь, не могу согласиться, чтобы ты марал наше имя.
Он подходит к окну, мой мальчик, мой мальчик! Что сделал ты с собою, сын? Когда он поворачивается к сыну, лицо его искажено, зубы стиснуты, кулаки разжались, пальцы напряглись от гнева и дрожат. Он тянется к лицу сына, и тот, трус, прикрывается, обхватив голову руками.
— Смотри на меня!
Зе Мигел вынуждает сына глядеть ему в лицо, садится напротив. Сейчас он скажет, что задумал. Спокойствие тоненькой струйкой просачивается в него все глубже. Струйка спокойствия вперемешку с потоком боли, и боль все нарастает.
— Люди смеются над тобой и надо мной. А мне этого не надо. Как-то раз я сказал при людях, что убил бы такого сына, как ты. Не думал, что у меня родится такой…
Он поднимается неуклюже, сердце разрывается от бессильной пронзительной боли. Солнечный свет играет на поверхности синей стеклянной вазы, ее блеск как оскорбление, он хватает вазу и швыряет в зеркало, отражающее и сына, и его самого. В этот миг он хотел бы раздробить оба отражения. Звон разбитого стекла приводит его в неистовство. Он бросается к стене, прижимается к ней лицом, выкрикивает что-то бессвязное, сам не знает, что плетет, смотрит на сына, сын кажется чудовищем Зе Мигелу, разъяренному тем, что тот все еще здесь, перед ним. Он отскакивает от стены, останавливается посреди гостиной, ярость его безудержна, он крушит все, что попадается под руку, хватает стулья, разбивает о трехногий стол и об стены, топчет обломки, ему кажется, что под ногами у него его сын, он топчет его, пинает, лишь бы уничтожить, лишь бы выхлестнулось бешенство, не унимающееся в разгоряченной крови.
При виде своего лица в осколке зеркала не узнает себя. Пугается собственных глаз. Внезапно останавливается, переводит дух; вокруг следы разрушения. Опершись локтем о стол, сжимает кулак, но опускает его медленно. Проводит ладонью по лбу — нет ли жара? — затем по всему лицу, сразу постаревшему; кончиками пальцев медленно стирает пот, смотрит на сына и встречает ответный взгляд, в котором уже нет страха.
Возвращается к мысли о том, что его отцовский долг — защитить сына от людских насмешек, он его создал, сын принадлежит ему, только он, отец, должен распоряжаться его будущим; он сует руку в карман и нащупывает револьвер, сжимает его, сжимает крепко, и наконец садится спиной к сыну. Пятнышко солнечного света ползет у его ног.
— Я сказал однажды…
Собственные слова причиняют ему боль. Ему хочется повалиться на пол и заплакать.
— Сказал однажды, что убил бы сына, если б он опозорил меня так, как опозорил ты. Поклялся, что убил бы.
Он сидит не шевелясь, гранитно окаменев от напряжения, сжимает веки и чувствует, что глаза под ними наболели, как две раны. И заставляет себя выкрикнуть то, что хочет сказать, рывком, от которого непроизвольно раскидывает руки.
— Ты заслуживаешь, чтобы я убил тебя, пристрелил.
Затем подбегает к сыну, прижимает его к себе — хотел бы задушить его в этом объятии, тревожном и нежном; гладит ему волосы.
— Не получается… Не могу. Я уже пробовал раньше и не смог.
XXVIII
Зе Мигел приносит из столовой рюмку, наполненную неразбавленным виски. Отпивает глоток, еще, ощущает жжение в горле, трясет головой — почти непроизвольно, яростно, пока наконец лихорадящий жар алкоголя не разливается по всему телу. Внезапно хватает револьвер, боится взглянуть на него, дрожит, но пытается заглушить свои мысли словами:
— Люди мужественные умеют умирать, понятно? Мужчина при необходимости умеет выбрать момент, когда нужно позвать смерть.
Выдавливает, выталкивает слова. В промежутки между словами врывается боль, заполняя их до отказа.
— Я уже много раз встречал смерть лицом к лицу и никогда не отводил взгляда.
По улице проезжает машина, сигналит отчаянно, может, в ней прибыла смерть, и Зе Мигел вслушивается, пока рев клаксона не растворяется в привычных звуках тихой улицы, на которой стоит их дом.
Зе Мигел начинает объяснять, как действует револьвер. Он берет себя в руки, овладевает собой, мышцы рук напряжены, он чувствует это, но дрожь их унялась. Внутри же все в нем содрогается. Тщательно заряжает. Дело простое.
— Видишь, дело простое. Приставляешь к уху, вот так, не прижимай…
Рыдания подступают к горлу, вот-вот вырвутся, он кладет револьвер на софу, идет по комнате, останавливается у окна. Солнце бьет в лицо, он ждет, что скажет ему Руй Мигел; может, хоть пообещает, что еще раз попробует. Теперь время идет быстро. Молчание затягивается, и Зе Мигел спрашивает, сам не понимая, как может открывать рот и говорить:
— Хочешь еще раз попробовать, может, получится?
— Нет, не стоит труда. Не могу.
— Может, удастся.
— Нет…
— Может, получится, попробуй.
— Нет!
— Попробуй.
— Я все делал — и не смог.
Они разговаривают доверительно, полушепотом, словно разрабатывают во всех подробностях план мести, собираясь убить кого-то. Очень скоро, через несколько минут. Они не глядят друг на друга, чужды друг другу, и все же они — сообщники. Руй Мигел захвачен предложением отца, соглашается с ним без страха, какое наслаждение — самому решать свою судьбу, он понимает — когда он нажмет на курок, все вокруг исчезнет; уверенность в том, что так и будет, приводит его в восторг, самому решить свою судьбу — это же потрясающе. Ничто никогда не зависело от его воли, а теперь ему подвластно всё, всё без исключения: пульсация мира, вещи, которые исчезнут, люди, которые смолкнут, воздух, свет весны.
— Кто будет плакать, так это мать, — говорит он без всякой агрессивности.
— Да, она будет плакать. Мы оба будем плакать.
— И ты?! Почему?…
Никогда не обращался он к отцу на «ты», он презирал его, и это началось тогда, в субботу вечером, на ярмарке — помнится, около тира стояла проститутка с крашеными волосами, усталая и чтарая; а теперь они с отцом близкие друзья. Отец дарит ему предмет, который позволит ему самому решить свою судьбу. Руй Мигел притрагивается к револьверу, улыбается — все еще несмело, а может, недоверчиво, — берет его, перекладывает с ладони на ладонь, поглаживает влюбленно.
Теперь в выражении его лица нег ничего робкого, ничего женственного.
— Да, я буду плакать, — повторяет Мигел Богач с горечью. Он не может совладать со слезами. Но ему нужно договорить свою мысль до конца.
— Потому что я сделал для тебя очень много, и все было напрасно.
Руй Мигел снова улыбается, он кажется счастливым; судорожно сжимает руки отца, потом целует, прикладывает к своему лицу и снова целует. Зе Мигел резко вырывает свои руки из рук сына, словно тот замарал их поцелуями, трет ладонь о ладонь, даже в машине их больно жжет от прикосновения сына.
— Выпей немного виски.
— Выпей сам.
— Согревает. И поднимает настроение.
Обоим слышатся шаги в коридоре, тихие, как возня шашеля в оконной раме. Зе Мигел спрашивает:
— Алисе, ты?
Ему отвечает безмолвие спокойного дома. Руй Мигел берет отца за руку повыше локтя, отводит к двери, просит:
— Уйди…
— Может, лучше закрыть окна.
— Нет, день такой хороший.
Смотрят друг на друга долгим прощальным взглядом. Зе Мигел отводит глаза, может, он должен сказать что-то, но что? Он бросается к двери, толкает ее, не в силах повернуть ручку, опрометью бежит по коридору.
Он еще успевает услышать, как щелкает ключ в замочной скважине. Иногда дверь не запиралась с первого раза, приходилось снова и снова поворачивать ключ, так ее и не исправили толком, а на этот раз она закрылась с первого поворота.
Зе Мигел сбегает по лестнице, он без шляпы, скорее бы уйти отсюда, ему хочется уйти подальше, может, у сына не хватит храбрости, и тогда, может, они попробуют снова, еще один раз, было бы хорошо, но сейчас он сделал из него мужчину, там, в гостиной, остался мужчина с револьвером наготове, курок уже взведен, сын решит, да или нет, жить ему или умереть, стоит ли начать сначала или все кончилось вчера, на бульваре, когда появился сторож. Зе Мигел чуть не столкнулся с кем-то, перебегая через дорогу.
Дневной свет чист, он озаряет выбеленную стену, прочерчивая ее бегущей тревожной тенью Зе Мигела, а ведь еще несколько мгновений назад он ощутил возвращение спокойствия, как и подобает человеку, который совершает нечто само собой разумеющееся, необходимое, чтобы вся жизнь не пошла прахом. Я слишком долго пробыл с сыном, думает он, открывая дверцу машины.
Но, очутившись внутри машины, он, сам не понимая почему, ничего не узнает.
У него такое ощущение, будто он не знает, где тормоз и сцепление, будто он никогда не касался этого руля — да и никакого вообще. Он не узнает педалей, делает попытку, сцепление — передача, медленно заводит машину, с трудом включает первую скорость, люди смотрят, с трудом включает вторую, люди останавливаются, нога на сцеплении и правая рука действуют вразнобой.
К счастью, гараж недалеко.
Да и незачем уезжать куда-то далеко. Алисе Жилваз слышит два выстрела в глубине дома, в гостиной, что это было, господи? Слышит два выстрела и начинает плакать тихонько, еще приглушеннее, чем прежде, словно боясь разбудить кого-то, кто спокойно спит на зеленой софе. Она догадывается, что опоздала. И ей страшно оттого, что она опоздала. Прикладывает платок к губам, чтобы соседки не услышали, не понимает, что случилось, лучше не знать. Где же сын? Где же муж? Что произошло между ними, господи?!
XXIX
Через полчаса звонит телефон, а она не подходит. Зе Мигел звонит из гаража, звонит настойчиво, просит свой номер и тотчас вешает трубку; он утратил представление о времени, раздражается, да ну же, барышня, да ну же!
Его настойчивость действует телефонистке на нервы, она объясняет:
— Я вызываю больше пяти минут, никто не подходит.
— Свяжитесь снова.
— Наверное, дома никого нет. Телефон в порядке…
— Но мне никак не поговорить, барышня. — А я что могу поделать, сеньор?!
ХХХ
Теперь уже ничего, барышня телефонистка. Да и что могла бы ты сделать?! Успокойся, не твоя это печаль. Пусть голову тебе заполнят голоса и номера, пусть оглушат тебя, как можешь ты слушать наши разговоры? Знаешь, я прихожу в ужас при мысли, что ты посвящена в такое множество моих тайн.
Не нервничай: ты не входишь в этот роман. Ты понадобилась мне только для того, чтобы описать эти полчаса, всего только полчаса, в течение которых другая женщина не хотела слышать твоего вызова, потому что боялась любого звука. И боялась потому, что все ее догадки были не так ужасны, как непосредственная реальность.
Перед сном — может быть, для того, чтобы не чувствовать себя таким одиноким, — я прошу тебя дать мне такой-то номер и беседую с тобой несколько мгновений, очень недолго, но твой голос остается со мной, составляет мне общество. У тебя красивый голос, да, красивый, это тебе уже говорили. Не испорть его. Голос у тебя голубой, ясный и нежный, а тебя вырядили в черный халат — в этой блестящей черной сарже ты кажешься такой печальной.
Не знаю, по ком ты носишь траур, может, по всем нам, может, только по юноше, который неподвижно сидит на софе, очень спокойный и отрешенный — абсурдной отрешенностью тех, кто избрал абсурд. В конце концов он стал презирать собственное тело — подумай, такой юный! — и захотел освободиться от него навсегда.
Отец его переживает теперь ту же драму, но по другим причинам. Чтобы истребить в себе самом то, что ему не по вкусу, он движется к самоуничтожению, потому что теперь лишь оно спасет его от иронии окружающих. Сообщники бросили его на произвол судьбы. Они видят, что он ранен, и преследуют его, окружают, покусывают, возбужденные, как учуявшие кровь акулы. Вокруг него акулы, что собрались попировать одним из своих же. Он сослужил им службу, но слишком уж быстро вознесся, это их обидело, а еще то, что им приходится якшаться с человеком низшего разряда.
Зе Мигел вырвался из безыменной массы благодаря своей дикарской силе, а теперь те, кто тянули его на свою сторону, отшвыривают его обратно, но он уже утратил сам себя, он сам себя свел на нет. Не усвоивший правил игры человек низшего разряда будет принесен в жертву золотому тельцу, и теперь уже навсегда. А сам он считает, что проклят, хоть и не сознается в этом. Поэтому разрушительная сила его личности, как сказал бы психиатр, обращается медленно, но верно против своего носителя. Медленно — и со скоростью сто восемьдесят километров в час, в мощной автомашине, несущейся к белой стене.
Думаю, и ты тоже, телефонистка, согласилась бы поехать с ним, если бы он пригласил тебя, уговорил сесть в машину и прокатиться вдвоем: куда поедем? — в лесопарк Монсанто, по прибрежному шоссе?
Поскольку в этот момент ты чувствуешь на себе чужой взгляд, ты пожимаешь плечами, делаешь презрительную гримаску, а между тем и тебе никуда не деться от соблазнов автомашины, предмета, созданного человеком и пожирающего своего создателя — понемногу или мгновенно: жутковатый пир.
Наше время — разгар цивилизации, охватившей мир вещей. И в тебе, телефонистка, уже многое — от вещи, умеющей слушать, говорить, гулять, умилять, умолять, и кричать, и плакать; а когда ты думаешь, ты не думаешь, хотя тебе кажется, что да; и это хуже всего. Нет, я не хочу тебя обидеть. Но мы говорили об отце того юноши, сидящего на зеленой софе, — юноши, которому дали револьвер.
Психиатр сказал бы, что револьвер — абстракция, тем более что мальчик воспользовался им, чтобы убить самого себя; в конечном счете в чистом виде гнев отца, его стремление к убийству нашли свое выражение в ударах кулаком, которыми он пытался обезобразить лицо сына, надеясь таким путем сделать его другим человеком. Если бы кто-нибудь из нас сообщил Зе Ми телу, отцу, что гнев рождается во чреве у страха, он закричал бы, что никогда не испытывал страха, нет, чего нет, того нет, никогда, докажу через несколько минут; а ведь именно гнев и страх диктуют свою волю его рукам, сжимающим руль прожорливой машины, когда он, торжествуя, ведет ее к белой стене.
Как капельки воды, столетиями сочащиеся из мига в миг в глубине пещеры, в конце концов преображаются в камень сталактитов, так гнев и страх окаменели теперь в душе у Зе Мигела. Психиатр сказал бы, что у Зе Мигела гнев постепенно сосредоточивался на нем самом, так что в конце концов разрушительная сила оказалась направленной против самого индивидуума.
Обрати внимание, телефонистка, как усложняют психиатры то, что ты выразила бы так просто; а ведь тебе самой они упрощают жизнь, спасая тебя от бессонницы и от тревоги посредством облатки или таблетки.
XXXI
— Хочешь таблетку?
Зе Мигел слышит, но не отвечает. Вглядывается в поток огней, мчащихся перед ним и ему навстречу, словно не желая подвергаться риску до момента прибытия на выбранное им место.
— Давай остановимся возле какого-нибудь кафе, и ты примешь таблетку, дорогой.
— Зачем?! Никогда не принимал ничего такого. Зулмира открывает сумочку, роется в ней, ищет.
— Когда у меня расшалятся нервы, я принимаю одну-две и прихожу в норму.
Вертит тюбик в пальцах, показывая Зе Мигелу.
— Я хорошо себя чувствую. Давно не чувствовал себя так хорошо.
— Когда ты переключаешь скорости, такое впечатление, будто ты хочешь разбить машину, дорогой. У тебя лицо — как после кошмара: можно подумать, ты призрак увидел.
— Просто не привык еще к машине.
Они едут не спеша, влившись в огненную змею, ползущую по шоссе со скоростью семьдесят километров в час. Фары грузовиков, спешащих в Лиссабон, бьют им в глаза; Зе Мигел держится поближе к обочине, не сводит глаз с камней обочины; после слов девушки он стал очень внимательным.
— Машины — они как лошади и как женщины: требуется время, чтобы к ним привыкнуть.
— Ты всегда говоришь плохо о женщинах, дорогой.
Она смотрит в окно со своей стороны на вереницу красных огней, они словно пятна крови на вечернем шоссе; вспоминает, как он сравнил это шоссе с огненной змеей, и верно, змея — извивается, ползет, исчезает вдали, то медлительно, то с головокружительной быстротой.
— Можно подумать, женщины причинили тебе зло, — прибавляет она после паузы.
— Может, так и есть…
Почти кричит — чтобы сомнение почувствовалось отчетливей. В мыслях у него снова мать. Она не постарела, лицо у нее такое, как в ту пору, когда он был мальчишкой; сидит возле очага, нянчит брата, на прикрепленной к стене полке — керосиновая лампа, в очаге языки пламени лижут черный котелок, в нем ужин, на улице лает собака, напевный голос матери, брат закрыл глаза, улыбается, словно на вершине блаженства; свернулся клубочком у нее на коленях и улыбается, отец еще не пришел, должно быть, сидит в таверне; на ужин похлебка капустная, похлебка, и больше ничего, похлебка и краюшка хлеба, и то слава богу, и то слава богу! Зе Мигел злится оттого, что мать баюкает братца, кричит, что голоден, в этом доме людей морят голодом, мать велит ему замолчать, но не встает с места, Зе Мигел швыряет табурет на пол и пинает, мать грозится — грозится, что встанет и задаст ему, от него только мокрое место останется; он в ответ — лучше умереть, чем голодать, и тогда она опускает брата на пол — чуть не сталкивает — брат просыпается в испуге, плачет, а мать гонится за Зе Мигелом, тот убегает для виду, но бежит вполсилы, приноравливаясь к ее шагу, чтобы она быстрей его поймала; кроме них, в доме никого, темно, она бьет его, попала по губам, голова дернулась, но он не плачет, вопрос чести; во рту влажно, кровь, наверное, да, кровь; ему вспоминается, как горячая кровь залила ему лицо, когда он полетел в деревянной тележке вниз по склону, мать грозится убить его, он стоит на своем, обзывает ее последними словами, мать снова бьет его, а все-таки она с ним все это время, й то хорошо! Мать велит ему замолчать, а он не замолкает, стоит на своем, она хватает его за уши и приподнимает, уши вот-вот оторвутся от головы, он кричит, ну и вид был бы — безухая башка, он кричит, мать хватается за ремень, говорит — он, мол, такой же, как и дед Антонио Шестипалый, весь перековерканный, вышел в деда, тот тоже весь перековерканный, а он думает про соседа, про горбатого сапожника; падает на пол, сучит ногами, так чтобы матери досталось по больному колену, мать хлещет его ремнем, дышит тяжело — ему слышно, и все тяжелее и тяжелее, удары слабеют, молчи, Зе, молчи! Он слышит, мать плачет, у этого мальчишки винтика не хватает; да, ну и что, разве это преступление, если винтика не хватает; а потом они плачут вдвоем, и она тащит его к кровати, и раздевает, и укутывает одеялом, и ему становится спокойно-спокойно, так спокойно на душе, что он сразу же делает вид, что уснул, ждет, когда она поцелует его и скажет шепотом:
— Такой пригоженький и такой зловредный, весь в деда, в Антонио Шестипалого.
Лицо матери представляется ему таким же, как тогда, моложе, чем у него сейчас, но голос ее всегда вспоминается ему таким, каким был в ту ночь, когда они говорили о Педро Лоуренсо и появился конный патруль Республиканской гвардии. Полный боли и суровый голос. Зе Мигел мог бы повторить каждое ее слово, со всей точностью, если б в этом был смысл, да, теперь уже смысла нет, я уже — частица огненной змеи и мчусь со скоростью между шестьюдесятью и восемьюдесятью к белой стене на повороте, я знаю, чего хочу, со смерти сына прошло пять лет, иногда мне думается, что все началось с того дня, а теперь я знаю, что все кончится через несколько минут, совсем немного. В тот день я показался сам себе сильным, как никогда, отказался от сына, никогда не соглашался я с вещами, которые были мне не по вкусу, а чего ради, черт побери! Да, чего ради?! — если сейчас на меня обрушились разом все беды, и ни одного друга, все сбежали, все смылись. Какая-то частица его существа предала его, и, не сознаваясь в том даже себе, он гонит машину к тому повороту, чтобы уничтожить, раздавить именно эту предательскую частицу.
Он отказывается признать ее в себе, а между тем эта частица его существа, пусть притихшая от угрызений совести, стала еще проницательней от сознания угрожающего ему краха и все-таки еще жаждет самоутверждения хотя бы в самом крахе — потому-то и надо ему оставить память о своем имени, связав его с белой стеной на повороте, к которой он мчится.
— Поедем через Вила-Франка? — спрашивает Зулмира, счастливая и испуганная оттого, что он впервые соглашается показаться рядом с ней на людях в городке, где живет.
— А что такого?… Мне хочется, чтобы ты была со мной: я всегда делаю, что хочу.
Девушка ощущает прилив гордости: ведь это доказательство, что он относится к ней с уважением. Она растрогана. Чувствует, что за сегодняшний день стала ему куда ближе, чем за все предыдущее время. Под влиянием этого открытия придвигается ближе к нему, касается его плеча с непроизвольной покорной нежностью.
— Ты жалеешь, что чуть не бросил меня…
— Да, теперь я никогда тебя не брошу.
— Повтори за мной: вместе и в жизни, и в смерти.
Зе Мигел глядит на девушку, обнимает ее правой рукой за плечи и прижимает к себе, прижимает изо всех сил, с ожесточенной нежностью. Около Кампо-да-Фейра он сбавляет скорость, пропускает другие машины вперед, сворачивает к арене для боя быков и останавливает машину. Обводит кабину тревожным взглядом, словно ощущая чье-то присутствие. Зулмира целует его в щеку, ищет губы. Он чувствует, что лицо ее влажно, касается пальцами лба девушки, он пылает.
— Ты плачешь… Почему?!
— Теперь я знаю, что ты меня любишь. В первый раз чувствую, что любишь.
— Ревную к другим.
— Ты еще не повторил, что я просила, дорогой.
— Что именно?! Не помню. Проси, чего хочешь.
— Что с тобой сегодня, дорогой?
— Ничего.
Они целуются долго-долго, словно желая свести на нет что-то, что разделяет их — или слишком сближает. Губы Зулмиры у самого его уха, она шепчет — тихо, но настойчиво:
— Повторяй за мной: всегда вместе — и в жизни, и в смерти.
Зе Мигел отстраняет девушку, чтобы заглянуть ей в глаза, ему ничего не видно в темноте, он включает лампочку в потолке кабины. Ему нужно знать, что означают ее слова, не догадывается ли она, чем кончится поездка, отсюда до стены три километра самое большее.
Проходит поезд, земля на миг содрогается. Грохот взбудоражил его, он повернул лицо к окну и вспомнил, что остановил машину около кладбища. Сердце его сжимается.
— Не хочешь поклясться?
— Хочу.
— Тогда повторяй, дорогой.
— Вместе…
— Всегда вместе…
— В смерти.
— Нет, не так, дорогой. В жизни и в смерти.
— «В смерти» все включает. До самой смерти — этого довольно. — Он понижает голос, говорит шепотом. — Разве не так?
— Так, но сейчас тебе не следовало бы говорить это, дорогой. Сейчас слишком хорошо, зачем тебе говорить о таких вещах…
— Они-то и есть самые верные. Поганая штука, но в жизни нет ничего вернее.
Зулмире не разобрать, то ли она его обманывает, то ли шутка обернулась против нее самой. Сейчас она уже не вспоминает ни парня в черной рубашке, ни инженера-строителя, который возит их с матерью покататься в машине, все трое на первом сиденье, она посередине, как в то время, когда у них с Зе Мигелем только начиналось. Ее приводит в восторг мысль о том, что, может быть, они когда-нибудь поженятся.
— Если бы сын мой был жив…
— Не говори об этом, дорогой.
— Никто не знает моей тайны. Если бы ты знала о ней, если б стала меня расспрашивать, я все равно сказал бы то же самое и мысли у меня были бы те же самые.
— О чем ты?!
— О том, что мне нечего раскаиваться. Так было лучше для него и для меня. Только матери не понять, что так было лучше для всех.
— Она — мать.
— Ты же только что осуждала свою…
— Душу отводила, все это глупости. Без нее было бы куда хуже, дорогой.
— Моя мать никогда меня не любила. Только одно сказала верно — что у меня винтика не хватает. И это правда. В какие-то мгновенья, в самые опасные, у меня винтик из головы вылетает, я совсем другой делаюсь, полоумный какой-то. Говорю, чего не надо говорить; поступаю, как не надо поступать. Может, не надо было мне брать тебя в эту поездку…
— Боишься, нас увидят вместе?
— Нет, не в этом дело. Я даже хочу, чтобы нас увидели. Ему становится горько при мысли, что он тайком уводит ее из жизни. Он теснее прижимает девчонку к себе, сажает на свое сиденье — черное, кожаное. Но другим он ее не оставит, чего не будет, того не будет, как бы ему ни было больно.
— Если бы когда-нибудь тебе причинили зло, всю твою жизнь порушили бы, смешали бы тебя с грязью, а то и хуже, могла бы ты оставить своим врагам что-нибудь из того, что тебе дорого?!
— Нет!
— А могла бы ты… — (Сказать ей?) — Могла бы ты убить и умереть?
— Смотря по обстоятельствам. Бесполезное слово камнем падает между ними.
Зулмира берет его за руку повыше кисти, пульс бьется быстро-быстро; рука у него горячая, обжигающая ее тонкие пальцы. Биение его пульса отдается у нее в руке, оно прерывистое, неровное, почти агрессивное.
— У тебя немного поднялась температура, дорогой.
— Нет, я в порядке.
У него болит левая рука, весь левый бок болит, отяжелел, неотступная и необоримая тревога давит на него, точно неудобная ноша.
— Я спокоен. Спокоен, что называется. Не могу объяснить. Мне бы другого хотелось…
— Чего?!
— Чего-то не такого простого. А может, невозможного. Но этого мне не добиться, вот я и выбрал — выбрал единственно возможное.
— Не понимаю, дорогой.
— Во всех случаях жизни есть выход, поняла? Иногда — только один. Люди знают какой, но не ищут его. Не ищут, потому что не могут. А я могу.
— Почему?!
— Я всегда способен был выбрать то, что хочу, и дойти до конца. И в плохом, и в хорошем — иду до конца. Не жду последнего удара кинжалом, как бык на арене.
Внезапно он умолкает. Дыхание и сердцебиение у него учащаются. Зулмира смотрит на часы, вспоминает, что он договорился встретиться с кем-то в полвосьмого.
— Уже тридцать две восьмого.
— Он не уйдет, пока мы с тобой не приедем, не сомневаюсь.
— Из-за машины?
— Вот именно. Знает, что я обязательно появлюсь возле белой стены на повороте. Я назначил место и не подведу.
Зе Мигел включает зажигание.
— Когда я занимался черным рынком и контрабандой, я всегда являлся на место встречи. Ни разу никого не подвел. Несколько минут ничего не решают… Сейчас по крайней мере.
Медленно нащупывает ногой сцепление. Сейчас он заставляет себя делать все очень тщательно.
— А вот они меня подвели: когда действительно понадобились, их и след простыл. Их мои дела не трогают. Только одно их трогает — нажива. Во сне ее видят, ради нее на все пойдут. Я за наживой никогда не гнался.
— Сегодня тебя не поймешь.
— Но три вещи им не достанутся, только три, но главные. Не будет им ни коня, ни женщины, ни преступника. Это моя месть.
Снова пошел дождь. Мелкий и частый; ветер с Тежо легонько нахлестывает его. Сцепление — передача. Фары выхватывают из темноты железнодорожный шлагбаум, поливая его белым светом, прочерченным струями дождя. При виде товарной станции Зе Мигелу вспоминаются утренние часы, когда он красовался здесь верхом на Принце, участвуя в потехе, которая состоит в том, что верховые гонят быков к арене или загонам; он слышал в гомоне голосов свое имя, крестьяне снимали кепки, колпаки и береты, день добрый, хозяин Зе! А он гарцевал, высоко подняв стек, крепко держал поводья, выставляя напоказ свою спесь — как же, начинал подпаском, а вот чего достиг.
Чего же?
Возвращается в прошлое. Глубокая грусть смыкает ему глаза. В ноздри ударяет запах влажной земли. Будь он один, поговорил бы сам с собой о тех временах, когда его будоражил крепкий пряный запах Лезирии его детства, плоской, черной, — одиночество, одиночество, мальчик верхом на лошади, совсем один, голубой фургон смерти, дед, выпрямившийся во весь рост, прыжок в пустоту, такое ощущение, будто он летит в пространстве, а при этом — мучительное чувство растерянности и страха и горькое удовольствие при мысли о том, что сейчас он уходит в ту же сплошную черноту, в которой очутился, выпав из фургона. Еще вспоминает он клячу, старую лошадь, которую прикончил, загнав в овраг.
Поворачивается и глядит на Зулмиру. Избегает ее взгляда, хотя ему приятно чувствовать, что она сидит рядом; ищет ее руку. Выезжает на центральную улицу. Зулмира следит за ним, скользит по его лицу вопросительным взглядом и слышит в ответ:
— Можешь положить руку мне на плечо.
— А ты знаешь, где ты?
— Как раз поэтому. Хочу, чтобы все видели меня с тобой. Хочу, чтобы до них дошло, что ты моя.
— Твоя — кто?!
— Моя кто угодно; все равно. Любовница, жена — одно и то же. Я никому не обязан давать отчет.
Зулмира улыбается. Приоткрыв рот, поправляет высветленные волосы, разбросанные по спинке сиденья, берет две сигареты, раскуривает одновременно, одна для Зе Мигела: поцеловав его, вкладывает сигарету ему в губы.
— Ты счастлива?
— Да. Никогда не была так счастлива, как сегодня. Если бы ты всегда был такой… Ты необычный — другой, лучше. Почему ты не всегда такой, как сегодня?!
Зе Мигел смотрит прямо перед собой, мигает фарами, жмет на газ, глушитель хрипит, мелодичный гудок посылает свой волнообразный звук между струями дождя, перекрывая монотонный стук капель в ветровое стекло, за которым Зулмира угадывает смутные фигуры прохожих, вглядывающихся в кабину «феррари».
Наверное, говорят о нас, думает она и злорадствует: жене быстро станет известно — может, подаст на развод, а там видно будет.
— Зе! Зе Мигел! Как хорошо чувствовать, что мы оба счастливы, дорогой. Мне хочется кричать, что я люблю тебя.
Зе Мигел не отвечает. Подносит правую руку к ее подбородку, трогает. Он уже не чувствует запаха намокшей земли, он уже за пределами мира, дорога, по которой он мчится, повисла в воздухе, его уносит все дальше и дальше.
— Хорошо лежать в постели, когда идет дождь, — говорит девушка.
— Хорошо врезаться в струи. Люблю водить под дождем.
Выехав на площадь, он замедляет ход. Останавливается напротив кафе, откуда вышел почти три часа назад, уговорив дона Антонио Менданью разрешить ему испытать новую машину. Теперь он хочет, чтобы все видели его с девушкой, и сигналит. Люди выходят к дверям, появляется официант. Зе Мигел подзывает его знаком, спрашивает:
— А дон Антонио?…
— Ушел недавно. Сидел тут, боялся, как бы вы не разбили его машину, хозяин Зе. Кажется, еще не застрахована.
Зе Мигел, не сдержавшись, хохочет от души, выходя из машины, широко открывает дверцу, чтобы все эти типы увидели его спутницу. Подходит к стойке, просит коробку сигар. Перебирает разные, посылает официанта отнести порцию виски сеньоре, оставшейся в машине.
— Да, порцию виски, малый. Что, не знаешь, что такое виски?
Замечает в глубине кафе доктора Каскильо до Вале в обществе Тараканчика из Управления финансов. Подходит к витрине с наборами шоколадных конфет и покупает самую большую коробку. Платит одноконтовой ассигнацией, кассир растерян, у него нет сдачи, ни у кого в кафе нет сдачи.
— Заплатите позже или завтра. Зе Мигел отвечает задиристо:
— Ну гляди, можешь ли поверить мне в долг? Оборачивается.
— Вечер добрый, доктор Каскильо. Не заметил вас, извините. Сеньор Барата [95], добрый вечер.
Адвокат и чиновник ворчат что-то себе под нос.
— Когда приедет дон Антонио Менданья, передайте ему, пожалуйста, что машину я забираю себе. Прекрасная машина!
Подходит к их столику и пожимает обоим руки намеренно крепко, юристу больнее, чем чиновнику.
— Всего доброго, господа! Всего доброго, Манел. Спасибо за доверие. Запиши, сколько там за мной.
Возвращается, пожимает руку кассиру.
— Прощай, приятель!
Смотрит на него растроганно. И выходит — почти выбегает — из кафе.
У всех дверей и окон кафе возникают фигуры посетителей, провожающих его взглядами.
Зе Мигел вручает коробку конфет Зулмире, садится и выбирает сигару. Обрезает кончик перочинным ножом, облизывает сигару, вертит в пальцах, разглядывает, снова проводит по ней языком и только потом сует ее себе в рот, пожевывая конец. Девушка уже включила электроприкуриватель, в машине есть и он, держит наготове. Зе Мигел делает три-четыре затяжки, снова разглядывает сигару и включает зажигание. Машет рукой знакомым: «Всего доброго! Прощай, приятель!..»
При первом рывке стартера «феррари» словно подскакивает, ревом взрывает тишину, оставляет позади красное пятно фонаря, он — словно око, неотступно следящее за машиной. А «феррари» — словно раненый зверь, по блестящей полосе гудрона за ним тянется красный след.
— Сейчас все меня видели. Хочу, чтобы меня видели…
— Ты где живешь, дорогой?
— Выше по склону.
Зе Мигел нажимает на газ, стараясь забыть, забыть, думает о голубом фургоне, о деде, сцепление — передача, ведет одной левой рукой, прижимает ее к боку, медлительное нудное подергивание все не отпускает, нужно забыть, забыть, девчонка сжимает ему плечо, придвигается ближе, от последней порции виски она охмелела, принимается напевать, love will find you some day [96], от бешеной скорости у обоих кружится голова, Зе Мигел немного пригибается вперед, дождь прекратился, но он не выключает «дворника», который втискивает тьму за стеклом в тесные пределы, отграничивая их, словно непогрешимый, точный маятник, but why sit around and wait? [97] — машина подскакивает на вмятинах, и у них обоих такое ощущение, словно они растянулись плашмя на асфальте, а машина умчалась вперед, this could be the night [98]! Сознание улетучивается, он еще думает о сыне, сын сидел на зеленой софе, он тоже сидит — на черном сиденье, оба кончают в одинаковой позе, встречный грузовик слепит Зе Мигела дальним светом фар, Зе Мигел гонит ему навстречу, расстояние между ними все сокращается и сокращается, как соблазнительно, водитель грузовика рывком уводит машину вбок и кричит что-то; высунувшись из кабины, девушка поет, глаза ее закрыты, она как в полусне, ничто ее не тревожит, она думает, что, если они поженятся, она, может, даже будет ему верна.
Зе Мигел обгоняет машину за машиной, поворачивает руль влево, крутит его короткими рывками ноющей руки, увеличивает и увеличивает скорость, не убавляя света фар, они включены на всю мощность, чтобы он разглядел белую стену, белую-белую стену на повороте, чуть не доезжая до Алдебарана, его имя надолго запечатлеется на этой стене, он сбавляет ход, сигара погасла, он выбрасывает ее за окно, прижимается лбом к стеклу, но стержень «дворника» мешает разглядеть, что там, снаружи.
— Ты любишь меня, Зе?
— Молчи.
— Ну скажи, что ты меня любишь.
— Не действуй на нервы. Молчи!
Дорога перед ним пустынна, черна и пустынна.
Она немного поднимается вверх, сужаясь вдалеке и как бы образуя воронку. Недолго осталось. Да, не сцапать им ни преступника, ни девушки. Преступник и девушка уходят от них вместе. Она поет. Он и не слышит, что она поет. Прибавляет скорость, давит правой ногой, еще сильней, скоро он все забудет, все забудет, покрышки визжат на повороте, неприятный звук заглох позади, появляется участок, засаженный оливами, одни оливы похожи на человеческие фигуры, склонившиеся над дорогой, другие моляще простирают руки, никто их не слышит.
Никто никого не слышит.
Теперь длинный отрезок точно по прямой. Зе Мигел выжимает из двигателя всю его мощность, сто двадцать, в ушах у него стоит звон, от хмеля скорости у него мутится в голове, он сам себя не помнит, губы кривятся в усмешке, девушка думает, что он улыбается, а может, он и вправду улыбается, кто знает, у него возникает ощущение, что время подвластно ему, что он обращает его себе на пользу, что он распоряжается жизнью и вознесся над нею, вознесся над остальными людьми, сцепление — передача, он хотел бы забыть, куда мчится, но чувство опасности приводит его в волнение, ему хочется пить, во рту пересохло, глаза расширились, выпучились, неотрывно глядят в светящуюся пыль, летящую от включенных на всю мощность фар, встречные машины пусть жмутся к обочине.
— Поймайте меня теперь! Поймайте, если можете! Поймайте! — кричит он.
Девушка в растерянности прижимается к нему.
Поворот уже скоро, он в конце прямого отрезка. И на повороте — белая стена, белая-белая, как та стена в Бадахосе, к которой приникло, как пригвожденное, чье-то тело. Этот кто-то, безымянный, садится между ним и Зулмирой, кто же это? — а может, это сын, тоже возможно, он касается лица Зе Мигела, дотрагивается до плеча, обволакивает звуками знакомого голоса.
Зе Мигел идет на скорости сто шестьдесят, выпрямился на сиденье, окаменел, жмет на газ сильней, еще сильней, в голове мутится от звона, приятно испытывать ощущение, что тебе подвластно и время, и воля других людей, и машина, которая движется так, как ей прикажут твои руки, и слушается только тебя, и покорна, и только ты теперь повелеваешь тем, что произойдет. Руки у Зе Мигела вспотели.
Через миг ночная тьма словно взрывается — возникает белая стена.
Теперь в машине трое, они давние и близкие знакомцы, все тесно прижались друг к другу. Зе Мигел растерян, ему хочется закричать, он отталкивает девушку, хватается за руль обеими руками, руки в поту, болят, жмет на газ, на спидометр смотреть незачем.
Девушка спрашивает:
— Долго еще осталось?
Кто увидел бы ее с дороги, подумал бы, что она дремлет. Волосы упали ей на лицо. Мать в этот миг беседует с кем-то по телефону, говорит полушепотом, нет, сейчас она выйти из дому не может, дочь еще не вернулась, может, завтра под вечер.
Зулмира улыбается, приоткрыв рот, ее тоже опьяняет скорость, и снова повторяет вопрос, на этот раз громче, ей нужно, чтобы он ей ответил, а почему, она сама не знает. Зе Мигел всем телом наваливается на руль. Мир становится бесконечно малым, он всего лишь кокон, и взгляд Зе Мигела молниеносно пронизывает его насквозь, словно взгляд отделился от человека и сам по себе летит по шоссе вперед. Слезы застилают глаза; плакать приятно: слезы гасят угрызения совести, гасят страх, гасят мир, Зе Мигел чувствует себя таким легким, таким легким, — только взгляд, сам по себе, летит во мраке к белой стене.
Зе Мигел жмет и жмет на акселератор, белая стена надвигается на него, машина остановилась, а может быть, и нет, осталось недолго, девчонка! — осталось только несколько мгновений, увидишь, как будет хорошо, белая стена набирает скорость, она как раз на повороте, глаза его округлились, он снимает ногу с акселератора, для чего?! — ему страшно, руки мокры, кричит безголосо, может, выскочить — нет, никак, машину заносит влево, руки, наверное, уже не слушаются его, он примчался сюда, чтобы умереть, но вот какой-то пронзительный звук втягивает его в себя, грохот взрыва рвет его в клочья.
Он летит внутри этого пронзительного звука, словно внутри извилистого туннеля, кто-то кричит снаружи, за стенкой этого кокона, куда его втянуло, — кто же это кричит? — а затем он забывает обо всем, что привело его сюда.
Грохот несется к горизонту по безмятежным полям.
XXXII
Он знает, что может открыть глаза, — и не хочет. Может, боится, что выдаст свои тайные намерения в сумятице звуков и боли, в которой он запутался. Если ему удастся выжить — а он снова хочет выжить, как в тот самый миг, когда рванул руль влево, — ему нужно будет кое с кем посчитаться. Он еще не выбрал, с кем именно. Возможно, это будет нетрудно: да, это нетрудно.
Он угадывает смутные фигуры наклонившихся над ним людей. Затем кто-то касается его лба, и он снова обретает способность хоть что-то чувствовать, которая приходит на смену сковавшей его летаргии. Руки и ноги у него как в кандалах. Почему? Все тело — сплошная безысходная боль.
Только глаза не болят, но он предпочитает не открывать глаз. Так никто не поймет, что он возвращается в бой. Медленно, словно ползет по дороге, нащупывая ее лицом и ладонями. Выбирается из черного замкнутого кокона, из втянувшего его в себя пронзительного звука, а куда выбирается, еще не осознает. Пытается понять.
Проводит языком по сухим губам, шершавость их царапает язык; кто-то осторожно смачивает ему губы.
— Ему повезло, — говорит чей-то голос. Голос этот — мужской. Чувствует, что ему не шевельнуть ни рукой, ни даже пальцами. Попытался сделать это под простыней мгновение назад, и ничего не вышло… О чем он вспоминает?… Делает усилия, пытаясь связать хоть как-то нити прошлого, схватывает некоторые из них, но, едва только хочет соединить их, чувствует, что все они от него ускользают. Отказывается от дальнейших попыток. Склонившиеся над ним люди слышат, что он глубоко задышал, но они не знают, что Зе Мигел в это мгновение отказался пока от попыток разобраться в случившемся, хотя и пробует начать все сначала. Но он утомился, задремал.
Тело девушки вскрыли два дня назад, а он не знает. Мария Лауринда, мать, завалила гроб цветами. Мертвым всегда достается много цветов, потому что при жизни это было им недоступно: цветы стоят дорого. Отец Зу постарел за эти дни, и, может быть, он тоже не знает, по какой причине инженер-строитель помогает ему выйти из машины, которую предоставил в их распоряжение на время похорон девушки.
Эксперты сообщили дону Антонио Менданье, что отремонтировать машину невозможно, а Зе Мигел не знает. Не знает — и не огорчается тому, что скромная месть его не удалась, ибо, возможно, страховка даст свои результаты и дон Антонио получит новую машину. Дворянин застрахован по всем правилам: руководство фирмы знает его рассеянность и выполняет элементарный долг, объясняет инспектор — он считает, что этот полис, существующий пока лишь в его воображении, — в идеальном порядке.
Председатель суда входит в зал заседаний, где ему предстоит заняться текущими делами и процессами. Зе Мигел не знает, что в связи с одним из них подписан ордер на его арест. В больнице только через Дна дня узнают, что пациент с койки номер двадцать семь находится под следствием и должен быть заключен в тюрьму. С белой стены в одном месте содрана штукатурка, видны камни, четыре-пять даже выбиты, валяются между стволами апельсинных деревьев в прилегающем саду. Люди еще останавливаются в этом месте, чтобы побеседовать о катастрофе. Большинство считает, что Зе Мигел был пьян; вот тип — ни стыда, ни совести; не скажешь даже, что внук Антонио Шестипалого. Зе Мигел не вспоминает о белой стене, сейчас он думает о деде, о поездке в голубом фургоне с желтыми каемками.
Ко мне, думает он, смерть всегда прибывает на колесах, а я даю ей пинка, даже когда она вот-вот схватит меня.
— Вы слышите, что я говорю? — спрашивает женский голос. Зе Мигел апатично поворачивает голову.
— Попробуйте заговорить. Вы можете говорить… Сделайте усилие.
Он шевелит губами, со страхом разлепляет веки. Чахлый послеполуденный свет внушает ему страх. Слепит его. Где я? Не помню. Ни одного знакомого голоса. С трудом различает две неподвижные фигуры в белом. Чего они хотят? Этот вопрос пугает его, может, потому, что он снова услышал пронзительный звук, снова попал в туннель, по которому летит со скоростью сто восемьдесят рядом с кем-то, кто спрашивает, долго ли еще осталось.
И тот же вопрос задает Алисе Жилваз регистратору, продающему талоны, что дают право родственникам посетить больных. После того как она пошла к лейтенанту, а тот отказался принять ее, Алисе Жилваз чувствует, что осталась в мире одна-одинешенька. Никто не позвонил ей домой. Было бы так хорошо, если бы кто-нибудь ей позвонил!..
Около больницы на скамейке сидит какой-то мужчина. Посматривает беспокойно по сторонам, но улыбается при виде другого мужчины, что подходит держа в руке сумку — в таких рабочие обычно носят еду. Они здороваются, беседуют негромко, оба явно следят внимательно за всем происходящим вокруг. Затем — что такое, не пойму, — вновь прибывший садится на скамейку, а тот, что ждал, берет сумку и уходит в неярком предвечернем свете, шагая широкими шагами и оглядываясь. Быстро доходит до угла, там останавливается, закуривает.
Затем продолжает путь, теперь он спокоен. И начинает насвистывать.
Странно!
Неужели есть еще люди, способные насвистывать?!
Рассказы
ПОЕЗДКА В ШВЕЙЦАРИЮ
Жили они впятером в одном доме. Спали впятером в одной комнате, как в больнице в общей палате. Рядом была маленькая комната с душем, служившая также кладовой. В комнате, куда нужно было подниматься по лестнице, они устроили нечто вроде столовой и клуба. В середине — большой стол, купленный вскладчину, восемь стульев (порой заходил кто-то из приятелей сыграть в «семь с половиной»), и овальный столик с вазой без цветов, чернильным прибором с двумя чернильницами, которым никто не пользовался, и три картины на побеленных стенах.
Таким образом, у них было нечто вроде семьи. В Африке самое главное — это не нажить «невроза», пагубного недуга, который похуже тропической лихорадки. Они держались друг друга, довольствуясь малым, и кому-то из них временами приходилось ободрять других, и потом они тратили меньше, чем если бы жили в гостинице или пансионате. Из экономии они брали пищу только на троих, в забегаловке, что рядом с улицей Висельников, и слуга-негр по прозвищу Подхалим носил хозяину Ребело три набора судков, чтобы он не обвешивал их на обедах.
Мысль о путешествии пришла в голову Барросу. Действительно, это было неплохо придумано. Было это в воскресенье. По обыкновению после обеда перед прогулкой в такси они впятером сидели в кафе «Бижу», потягивая пиво и играя в кости. В этот день стояла ужасная жара: казалось, что от земли исходит пламя. Яркий свет резал глаза, в теле ощущалась слабость, и пальмы на площади Сальвадора Коррейа стояли не шелохнувшись, с поникшей кроной, уныло склонившись в сторону моря.
И они чувствовали себя так же, как эти пальмы. Да, и они в душе стремились к дорогам, ведущим из бухты туда, к тому миру, что за океаном…
— Четыре очка с первого захода! Годится? — сказал кто-то из них, неважно кто.
— Тебе сегодня здорово везет, — заметил другой.
Баррос сидел в бездействии, ожидая, когда ему передадут стаканчик для игральных костей, и безучастно блуждал взглядом по витринам кондитерской. Он не был лакомкой, но ему нравилось разглядывать пирожные и шоколадные конфеты, причудливые формы пирожных и шоколадные обертки. Именно в этот момент он заметил коробку швейцарских карамелек. И в эту жару, в эту страшную жару, когда даже камни, казалось, могли воспламениться, ему вспомнились горы и прохлада. Он глубоко вздохнул и сказал четырем приятелям:
— Было бы здорово оказаться сейчас в Швейцарии…
— В Швейцарии?
— Да, в Швейцарии. Там, должно быть, прохладно. Coy за залился смехом:
— У тебя губа не дура!
— Это страна, куда я больше всего хотел бы поехать. Трое других тоже рассмеялись, и, наверное, никто из них не смог бы сказать, смеется он над каламбуром Соузы или над идеей Барроса.
А тот небрежно бросил кости, удовольствовавшись двумя очками, и тут-то и высказал предположение:
— А мы бы могли совершить поездку в Швейцарию.
— Ого, хватил! В Швейцарию…
— Почему в Швейцарию?!
— Ну… Это красивая страна. Должно быть, красивая… Мне бы хотелось пожить в одной из деревень в тех долинах. А в горах наверху лежит снег.
— Я никогда не видел снега, — сказал Перейра.
— А я уже видел один раз; это похоже на белые лепестки, как у ромашки или розы, — пояснил Силверио, потирая руки, сложенные на коленях.
— Ты сегодня прямо поэт, — пошутил Соуза.
— Нет, честное слово, именно так: лепестки, крохотные лепестки, падающие на тебя.
Они помолчали несколько секунд. Фрейтас все еще тряс стаканчик с игральными костями, но, казалось, делал это машинально. Потом и он притих.
— Но как?
— Что «как»?
— Как мы смогли бы поехать туда?
— Ну…
Почти каждую фразу Баррос начинал этим «ну», произносимым приветливым тоном, которое было вроде катапульты для других слов, выстреливаемых очередями. Но сейчас это был вопрос, обращенный к самому себе, а может, пауза, чтобы привести в порядок мысли, взбудораженные воображением.
Остальные не сводили с него глаз. Они тянули пиво маленькими глотками, удерживая его во рту, чтобы продлить удовольствие.
— Ну, так что?! — спросил Фрейтас, раздраженный молчанием. На лицах друзей он прочел, что ему следует помолчать.
Баррос медлил, он чувствовал, что предложение, которое в целом было продумано, можно высказать, но он опасался касаться деталей. Он знал, что даже один просчет может все испортить. Перейра ухватился бы за эту ошибку и камня на камне не оставил от этого плана — ведь его страсть портить другим удовольствие была всем хорошо известна. Посмотрев на Перейру, он увидел усмешку в его синих с желтыми крапинками глазах.
— Наверное, мы могли бы пойти пешком…
— Перестань острить, — вмешался Силверио. Баррос пожал плечами и громко сказал:
— Если мы захотим… Ну, если бы мы захотели, мы смогли бы поехать… Все пятеро… Если Перейра захочет… Думаю, мы сможем взять отпуск в одно время.
— Отпуск — это самое простое, — возразил тот. — Деньги… Деньги, вот что важно. Без денег и пива не будет, не то что Швейцарии.
— Вопрос в том, захотим ли мы… Я-то решил. Никогда раньше не думал об этом, но сейчас уверен, что я поеду…
— Если чего не случится…
— Ну… Конечно, меня может свалить лихорадка, и мне придется отправиться в более длительное путешествие. Но не будем говорить о лихорадке. Я повторяю, если все обойдется без болезней.
— Ну и как ты это себе представляешь? — настаивал Перейра, грызя заусеницу.
— Нужно экономить.
— И ты способен что-то скопить?
— Если захочу…
И, повернувшись к остальным, Баррос изложил то, о чем он думал:
— Мы находим жилье на всех, нечто вроде студенческой республики… Как делают студенты в Коимбре. Мы сумеем накопить в месяц более пятисот анголаров [99].
— Как это?!
— Я же говорю как, — раздраженно ответил Баррос. — Аренда дома обходится в триста анголаров. Каждый платит за себя.
— Жилье обойдется в шестьдесят анголаров, — подтвердил Соуза.
— Точно, шестьдесят. Это немного, — сказал Силверио. Баррос попросил у официанта лист бумаги и принялся за подсчеты. Остальные пустились фантазировать, когда убедились, что смогут найти жилье за шестьдесят анголаров. Фрейтас уже строил планы заехать в Париж. Ведь это было бы по пути, наверняка по пути. Карты у него не было, но Париж, как ни крути, лежал на пути в Швейцарию. Он вспоминал о «Мулен Руж», о длинных и красивых ножках в черных чулках, выглядывающих из-под белых плиссированных юбок, словно цветы на тонких стебельках. Именно поэтому Альбина, его любовница, натягивала черные шелковые чулки, чтобы предстать перед ним после ухода последних клиентов. Соуза считал, что лучше заехать в Голландию посмотреть мельницы и каналы, потому что женщины — женщины есть повсюду, даже там, черт побери! Но ему нравились голубые глаза. Силверио отдавал предпочтение Италии из-за Венеции:
— Должно быть, здорово, если мы скажем, что хотим поехать на площадь Россио [100], ну да, Россио, это там, в Венеции, сесть на пароход и поплыть… А с девушкой, должно быть, еще лучше.
Перейра продолжал улыбаться, в то время как Баррос что-то говорил, приводя какие-то цифры и потирая от возбуждения руки, словно его бил озноб при мысли о такой возможности. Через некоторое время, когда Фрейтас уже спорил с Силверио из-за Парижа и Венеции и когда явился официант, встревоженный шумом, решив, что спорят о футболе, Баррос поднялся с листком бумаги в руке и, опрокинув кружку, разлил остатки пива.
— Все так, как я говорил… Точно так я и думал. Через три-четыре года мы сможем туда поехать.
— Но как?! — вмешался Перейра с тем же провокационным видом.
Баррос поднял руку и снова уселся.
— Очень просто. Цифры умеют говорить, как и люди… За жилье — шестьдесят анголаров, за негра-прислугу — пятнадцать анголаров…
— Пятнадцать анголаров?
— Да, разделив на пять. Одного негра достаточно для услуг.
— Конечно, достаточно! — согласился Силверио.
— Продолжай, — попросил Фрейтас, поглаживая свои рыжеватые усы.
Немного помолчав, Баррос продолжил:
— На еду — двести пятьдесят анголаров, а на прачку…
— Одна прачка на всех? Нет, не пойдет… Я свою не оставлю, — сказал Соуза. — Мне жаль, но я ее не оставлю.
— Она его хорошо обслуживает, — отпустил кто-то двусмысленную шутку.
— Ну, это мое дело. Я не буду менять прачку и свою не отдам никому другому. Потерпите!
— Значит, нанимаем прачку для четверых…
— Я еще не знаю насчет четверых, — пояснил Баррос — Вот Перейра еще не сказал, хочет ли он.
— Ясно, что хочу. А пожалуй, точно хочу. Из того, что я не запрыгал от радости и не строю планов, вовсе не следует, что я не хочу ехать… Конечно, для меня это будет Непросто. Я слегка выпиваю, не прочь сыграть в карты…
— Значит, бросишь играть и пить.
— Легко сказать. У меня свои слабости. И хорошо, что они у меня есть, ведь я мужчина!
— Ну как хочешь, — сказал в заключение Баррос. — Я думаю, что можно отложить за год восемь тысяч эскудо. Этого вполне хватит.
— Восемь тысяч?
— Да, около восьми тысяч. Мы перестанем ездить каждое воскресенье в такси, и только это даст почти три тысячи за год, если мы не захотим урезать и другие расходы: стоит ли нам так часто ходить в кино?…
— Смотреть такие фильмы…
— Нет, от кино я не могу отказаться, — с сожалением произнес Силверио, который заглядывался на дочку владельца кинотеатра.
Все рассмеялись.
— Что в этом смешного? — раздраженно спросил Силверио. — Вы над всем насмехаетесь…
Но Баррос уже продолжал:
— Живя в одном доме, мы реже станем бывать в кафе, это уж точно. Будем проводить время за разговорами…
— Или устраивать побоища, — пошутил Соуза, толкая локтем Фрейтаса.
— Как захотите… А сейчас надо решать. Ты что скажешь? Перейра кивнул головой.
— Ладно, значит, решено! — заключил Фрейтас. — Будем искать жилье.
Так они и нашли дом, в котором стали жить все вместе. Два окна дома выходили на улицу святого Антонио, а одно окно, выходящее на противоположную сторону, находилось в комнате, где они ели и отдыхали по вечерам. Нужно сказать, что это было чудесное окно, откуда виднелось море, и только поэтому стоило снять дом. Соуза называл его «окном грез». Он никогда не смотрел на уродливый и грязный овраг, нависавший над футбольным полем Кокейрос. Его взор устремлялся вдаль, переходя от золотого песчаного острова, по-змеиному изогнувшегося, к стоявшим неподалеку судам, которые прибывали, привозя с собой воспоминания детства. Ему нравилось смотреть на океан и без судов. Океан был огромен, и над его волнами хватало простора для любых фантазий. Он никогда не вспоминал, что в море около Луанды водились акулы.
— Я боюсь только акул, которые ходят по суше, — сказал ему Силверио, неловко затягиваясь из огромной трубки, которую он завел для форса. Когда он начинал курить, друзья, потешаясь над ним, говорили, что трубка курила Силверио, настолько он казался тщедушным и нелепым. Но тот считал себя похожим на одного киноактера, лицо у него было точно такое же, а остальное для него не имело значения: ведь было ясно, что он никогда не станет фотографироваться во весь рост.
Соуза, любивший жаловаться и говорить о своей тоске по Лиссабону, часами просиживал у того «окна грез». Остальные, подшучивая над ним, называли его «певцом», а он, улыбаясь, качал головой с той легкой усмешкой, когда не хотят разговаривать. Он ничего не отвечал, но никогда и не говорил, что ему нравится эго прозвище.
Предстоящая поездка в отпуск все больше их объединяла, только Фрейтас был менее всех увлечен этой идеей. Ни у кого не хватило смелости сказать ему, чтобы он оставил свою любовницу Альбину, белую проститутку, которая жила недалеко от пляжа Мутамбо вместе с одной девушкой с Зеленого Мыса. Фрейтас понимал, что они хотят поговорить об этом, друзья чувствовали его нервозность, и как-то вечером за ужином он заявил, что она даст деньги на расходы в Швейцарии. Все замолчали, убежденные в том, о чем он только догадывался. Это был его самый большой недостаток. Они знали о его ревности, однажды он даже их просил, чтобы они к ней не ходили, а это означало, что вопреки заверениям Фрейтаса деньги шли совсем на другое.
— Ну, это его дело, — произнес Баррос, едва тот вышел. — Я не намереваюсь вмешиваться в это. Уж я-то точно еду.
Все остальные согласились с его словами, хотя приятного в них было мало: им казалось — и, возможно, они были правы, — что Баррос видел в этой поездке единственную возможность переносить тоску этой жизни в Африке.
Однажды вечером они убедились в правильности этого предположения.
Они услышали, что Баррос поет, подходя к лестнице, затем он взбежал, перепрыгивая через две ступеньки, словно всем им выпал крупный выигрыш. (А ведь и точно! Каждую неделю они играли в спортлото из двадцати номеров, и число, оканчивающееся на семь, не казалось им несчастливым — за семь недель уже было три розыгрыша. В один день их номер выпадет, это уж наверняка.)
Всегда любопытный Силверио пошел открывать дверь, спрашивая «что случилось?», и тут появился Баррос, торжествующий и с охапкой бумаг в руках, тогда как никто не понимал причины подобного восторга. Только Фрейтас еще не пришел: он всегда возвращался позднее, он совсем помешался на этой Альбине.
— Ну-ка посмотрите на это! — сказал наконец Баррос, вдоволь насладившись ожиданием друзей.
И он бросил на большой стол бумаги, которые принес с собой.
— Бюро путешествий прислало мне все эти проспекты… Оказывается, там еще красивее, чем я думал… Чудесно! Прекрасно, черт побери!
Все трое взяли, каждый наугад, по красочному проспекту и заулыбались, переглядываясь украдкой, кивая головой: здорово, чудесно, просто чудо, а Баррос как безумный метался из стороны в сторону.
— Посмотрите на озера… Соуза! Ты когда-нибудь видел озеро?
— Озеро?!
— Ну да, озеро.
Это был красочный и соблазнительный мир фантазии. Прелестные девушки с охапками цветов улыбались им; все чудесно: яркие бабочки на страницах книги, горы, высокие сосны, деревни, голубые глаза, подвесные дороги, и снег, и прохлада, тенистые дороги и озера.
— Нет, я никогда не видел озера. Прокатиться по нему на пароходе, должно быть, просто мечта…
Озеро Люцерна[101]. Лугано. Берега Женевского озера.
— Эх, какая красота! — закричал Силверио.
Они как будто ехали на поезде через горы, катались на лыжах, нежились в голубой и прозрачной воде и, мокрые, не успев обсохнуть, — чудесно! прекрасно! — отдыхали на лугах, усеянных цветами, все было в цветах: и снег, и горы, и улыбки, они побывали в Цюрихе и Лозанне, видели Монблан и Юнгфрау[102].
— Да, черт побери! Четыре тысячи сто пятьдесят метров! Вот это да!..
— Ну что?! — говорил Баррос, обращаясь к каждому из них, словно все это было его творением. — Прав я был или нет?
Соузе хотелось поехать в казино «Курсааль».
— А если мы заедем в Италию посмотреть на озеро Мади-соре? — напомнил Силверио. — Это совсем в другую сторону?
— Да пошел ты со своей Венецией… — оборвал его Перейра. Потом, притихшие, погруженные в мечтания, они сидели за столом и разглядывали проспекты, то едва касаясь их кончиками пальцев, то крепко стискивая их, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. Эта тишина встревожила Подхалима, заглянувшего в дверь и заставшего их в таком молчаливом унынии.
— Можно идти за едой, хозяин?
— Чего?
— За едой…
— Иди куда хочешь. Оставь нас, убирайся к черту!
Позднее, когда пришел угрюмый Фрейтас, все четверо обняли его и заставили протанцевать по кругу, напевая, а он пытался вырваться из объятий приятелей, впавших в состояние безудержной и дурашливой веселости.
— Да вы что! Дураки! Что случилось?… Отпустите меня! В чем дело?
Месяцы тянулись еле-еле. Неторопливые. Жаркие. Тоска! Пенсию заработать не так-то просто!
Иногда вечером, измотанные тоской по родине, они развлекались игрой в «семь с половиной», делая ставку по анголару, чтобы как-то скоротать время, а проспекты, развешанные по стенам, сулили им прохладу и дни, полные новых впечатлений. Теперь пиво они пили лишь тогда, когда у кого-нибудь из них был день рождения. Они вели вялые разговоры, и Баррос, одержимый, как в первый день, когда он принес проспекты, под конец вмешивался в них, вселяя бодрость своей уверенностью. Баррос знал, что он-то отправится в путешествие, и никогда не показывал признаков утомления. Его счет в банке постоянно рос, каждый месяц по семьсот анголаров, еще нужно было набрать двадцать тысяч (конечно, если не подкосит лихорадка…). Силверио ходил в кино регулярного курить стал меньше. Трубка была для него теперь почти что украшением.
Время от времени кто-то из них терял спокойствие, возвращался позже, едва здоровался и бросался на кровать, накрывшись с головой и всю ночь ворочаясь. Это был верный признак того, что он напился пива и был недолго у белой женщины, а может, ходил к кому-нибудь поговорить о поездке в Швейцарию. Самым плохим было то, что на это уходили деньги. В отделе, где они работали, их стали звать «швейцарцы», но на эти шутки они не обращали внимания. Баррос был умереннее других. Он выходил один, шел к Прайя до Биспо, и ему была хорошо известна дорога к хижине Жозефы, рослой негритянки, которая каждый вечер была пьяна и мирно занималась любовью.
Как-то ночью, было около трех часов, Перейра вернулся невообразимо пьяным и, разъяренный, принялся кричать, расхаживая вокруг койки Барроса, чтобы он убирался ко всем чертям со своей Швейцарией («Знать ничего не хочу о Швейцарии или как ее там, ничего больше не хочу, я не желаю быть монахом: я выпил пива, десять кружек, ну и что! А тебе какое дело? Ты мне отец? Барахло! Только этого не хватало сейчас; пошел ты со своей Швейцарией!»). Кто-то запустил в него башмаком, чтобы он дал им поспать, и Перейра наконец улегся в прихожей, обливаясь слезами. Сначала были слышны всхлипывания, а затем в раскаянии он заплакал, как ребенок, навзрыд («Прости, Баррос, я пьян, выпил красного вина, честное слово, но это не вино на меня так подействовало, это проклятая маслина, что я съел, она вывернула меня наизнанку…»).
Подобные истории следовали одна за другой, и тем лучше, поскольку в противном случае ожидание отпуска в Европе обернулось бы кошмаром, чему и Баррос не смог бы воспротивиться.
Дни — это не просто дни, тысяча чертей, и в определенные дни человеку, живущему в Африке без семьи, хочется потешить себя каплей алкоголя, веселым разговором с новыми лицами, женщиной, ужином из жаркого на вертеле, чем-нибудь необычным, чтобы человек не чувствовал себя мертвецом и не желал смерти. Алкоголь дает ощущение временной смерти, притупляет шипы жизненных уколов, веселит нас, если только вино не пьет кто-то чересчур грустный, как Соуза: тот переставал думать о своих печалях, лишь когда бывал здорово пьян. Но у этого и кличка была Певец.
Случайно Соуза оказался тем, кто принес эту новость в «республику». Некий негр-переписчик из газеты «Политика и Сивил» пригласил его на вечеринку, и он туда собирался. Нет, нет, он чувствовал, что не в состоянии выдержать праздничный вечер в этом же самом доме. В рождественский вечер вспоминается родной край и семья, но о матери думаешь больше, чем о братьях. Кто захочет, тем он устраивает приглашения, это дешево — за тридцать анголаров ужин и танцы до утра.
Перейра и Силверио согласились тут же, тридцать анголаров ни к чему не обязывали, они это и сказали, глядя на Барроса (дочего же нудный тип, хуже монаха, бесит только то, что он держится).
Как они и ожидали, празднество его не заинтересовало.
Он смотрел, как они собирались, надевали элегантные костюмы и рубашки, а Подхалим торопливо начищал им башмаки. Силверио даже купил новый галстук-бабочку синего цвета в крапинку и не уставал любоваться им. С ними ничего нельзя было поделать. Фрейтас улегся на кровать, отвернувшись от всех, а Баррос уселся у «окна грез», как Соуза, который в этот вечер словно помолодел на десять лет.
Вечеринка проходила в Ингомботасе, там были и мулатки. Танцы под проигрыватель, пластинки с медленной музыкой, слушая которую словно погружаешься в сладостную истому, ледяное белое вино, а что дальше — кто его знает. Никогда не знаешь, чем окончится вечеринка с мулатками.
— У вас добром не кончится с этими метисами.
— А ты кончишься в Швейцарии, в какой-нибудь больнице, — ответил возбужденный Перейра, выходя первым и напевая что-то.
Снизу, с улицы, Баррос слышал их удалявшиеся голоса, потом он повернулся к окну и стал смотреть на залив, положив подбородок на руки. На какие-то мгновения луна словно замирала, на мысе виднелись черные листья пальм, в ночи не чувствовалось ни единого дуновения, и небо, усыпанное звездами, источало бархатистый свет. И тишина…
— Во сколько ты уходишь к Альбине? — бросил он в глубь комнаты.
Фрейтас ему не ответил. Тогда он поднялся и подошел к приятелю.
— Спишь?
— Нет.
— Во сколько ты пойдешь к Альбине?
— Сегодня я не иду…
— Поссорились?
— К сожалению, нет.
По тому, как резко Фрейтас качнул головой, он понял, что товарищ нуждается в его обществе.
— Давай-ка сыграем в «семь с половиной». У нас будет свой праздник: выпьем по стаканчику и сыграем несколько партий по десять анголаров, чтобы скоротать время.
Керосиновая лампа на большом столе мигала тусклым желтым светом.
— Плохо себя чувствуешь?
— Нет.
— Думаешь о семье, я знаю. Это проклятая ночь. Не в состоянии сладить с собой, человек сильнее тоскует в одиночестве. Да он и на самом деле один. Если бы мы хоть могли угадать, что там дома…
— У меня нет семьи, о которой я бы беспокоился. Мой отец знать обо мне ничего не хочет.
— Именно это я и думаю. Иди-ка сюда, сыграем… Фрейтас наконец уселся на кровати, потом встал. Был он какой-то вялый. «Наверное, его слегка лихорадит», — подумал Баррос.
— Ну давай!
И он тут же уселся за стол, прибавив пламя в лампе.
— По пять эскудо за партию?
— Ты с ума сошел. Так мы совсем разоримся. Сыграем лишь для забавы.
И Баррос пошел за бутылкой вина и двумя стаканчиками. Сначала он наполнил стакан приятеля, затем свой и стал рассматривать вино на свет. Фрейтас тасовал карты.
— Посмотрим, кто сорвет банк. У Барроса был король.
— Одну закрытую карту, — попросил Фрейтас, показывая уже сданную ему. — Другую… Еще одну… Держи, у меня перебор, мой банк лопнул.
Банкомет перевернул свою карту и стал тасовать колоду.
— Хорошо, если бы и мы могли лопнуть с такой же легкостью, — со злостью бросил Фрейтас.
— Успокойся. Мы уже знаем, что значит прожить здесь тридцать лет до пенсии…
— Дного Као[103] не следовало бы рождаться, — говорил Фрейтас тем же тоном, набирая карты, пока у него снова не случился перебор. — Не хочешь по пять эскудо? Можешь выиграть еще, чтобы поехать в Швейцарию.
Баррос как-то странно на него посмотрел.
— Значит, тебя не только это интересует?
— Скажи, чего тебе надо? Или хочешь подраться со мной? Потерпи, сдачи я тебе не дам. Не сегодня, когда я тебе составляю компанию.
— Мне не надо ничьих услуг. Ты знаешь, что я не люблю одолжений.
Одним глотком он допил свой стакан, еще раз его наполнил и снова выпил с тем же раздражением. Затем поднялся, опрокинув стул.
— Мне надоело, мне надоело все это! Даже Швейцария. Я уже не могу вас слышать с этой ерундой. Мне это все осточертело. То, что ты любишь, появляется лишь в консервных банках. Все законсервировано, даже женщины. И мы должны гнить здесь, чтобы заработать. Отказываешься от жизни из-за пенсии, которую получаешь чаще всего, лишь когда сгниваешь.
— Ты болен…
— Это раньше я болел. А сейчас нет. Я дрянь, но мне надоело все это.
— Сходи к Альбине.
— Я тебе уже сказал, что сегодня ночью не могу. Приехали типы из глубинки, понимаешь? К тому же я не нуждаюсь в твоих советах… И ты меня не карауль…
Баррос встал в раздражении.
— Это ты мне говоришь?
— Кажется, здесь больше никого нет.
— Почему бы тебе не поговорить с Педро Алешандрино [104]? Да, с памятником Педро Алешандрино? Не знаешь, где он стоит? Там, рядом с почтой… Так что с ним разговаривай.
Фрейтас пришел в себя и пробормотал извинение, затем подошел к окну, и Баррос увидел, что у того дрожат колени, он свесился над балконом, втянув голову в плечи, словно хотел спрятать ее.
В овраге залаяла собака. Она, должно быть, лаяла на выплывшую луну, округлую, словно пробоина в небе.
— Побереги свои нервы.
— Я же попросил у тебя прощения, — сказал уныло Фрейтас.
— Ты знаешь, что я твой друг… У тебя ведь нет ко мне претензий?
— Нет, если бы не поездка в Швейцарию… Фрейтас отвернулся. Его глаза заблестели.
Баррос его не понял. Он погладил подбородок и пригубил свое вино, посмотрев его на свет, перед тем как опрокинуть весь стакан.
— Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Никто не заставляет тебя ехать… Если предпочтешь Париж, пожалуйста! Поезжай, куда тебе захочется. Я не командую тобой… И никем не командую. Я вспомнил о Швейцарии и что?! Поэтому ты думаешь обо мне плохо? Я бы хотел поехать вместе с вами, но если вы не захотите ехать, то что я могу поделать?
И улыбнулся, подходя к окну.
— Конечно, в Париже веселее. Но, ты знаешь… Наверное, это блажь, у каждого из нас свои странности. Я никогда не видел озера, окруженного горами, со снежными вершинами, и хотел бы проплыть по нему. Это блажь! Конечно, у каждого из нас своя… Повернувшись к ночи, Фрейтас сказал:
— Мне это все обойдется дешевле. В субботу… остается немного…
Уловив, что голос друга прерывается, Баррос взял его за плечи. Тот рванулся всем телом, но Баррос повернул его к себе, пристально глядя на него.
— Что с тобой? Говори! Что — в субботу! Что будет в субботу?
И он не давал опустить ему голову, придерживая его за подбородок.
— Так что же будет в субботу?
— Ревизия… Теперь понимаешь?
— А при чем тут ты?
Хотя Баррос и задал этот вопрос, он уже начал догадываться, в чем дело, когда товарищ отошел от него к окну. Хотелось во всем удостовериться самому, было просто необходимо, чтобы Фрейтас рассказал, что происходит, по крайней мере нужно было, чтобы он смог признаться Барросу: вдруг он сможет еще что-то для него сделать, иначе какие же они друзья? У Барроса еще оставались некоторые сомнения, не хотелось верить этому, наверное, чтобы не переживать так за оплошность Фрейтаса, который по сути своей всегда был хлюпиком, а не ловкачом, каким ему всегда хотелось казаться. Но почему он ничего не сказал? Пусть бы сказал что угодно — это из-за Альбины, из-за тебя и твоей проклятой идеи о поездке в Швейцарию, мне не хотелось, чтобы вы поняли, что я не могу скопить денег, и я играл в лотерею, которая разыгрывалась в Лиссабоне, чтобы выиграть «по-крупному», и проиграл, а в субботу приезжает ревизия, и какой отчет я им дам?
— Но что произошло, Фрейтас? Выкладывай, скажи что-нибудь… Ты ведь знаешь, что я твой друг…
— Какой мне прок сейчас от всего этого? — ответил тот прерывистым голосом.
Баррос протянул руку, чтобы приободрить Фрейтаса, но ему вдруг стало неловко, он не терпел пустых слов и заметался по комнате, словно за ним гнались с кнутом: ему стыдно было смотреть на товарища, и он не мог вспоминать об этих разноцветных листах, присланных из бюро путешествий, которые сам расклеил на стене. (За двадцатидневный отпуск — и занятия спортом, и воздушные процедуры на высоте от 375 до 2000 метров, и плавание по озерам, Швейцарская Ривьера, Монтре, Веве, Виллар…)
— Из-за какой-то девки… Это невозможно… Скажи, что это произошло из-за нее! Да говори ты, черт побери!
Прислонившись к оконному стеклу, смотря куда-то вдаль, Фрейтас чувствовал, что он не в состоянии выжать из себя ни слова: все было так просто и очевидно, у него в кармане был точный подсчет недостающего в сейфе, нужно было лишь показать его приятелю, но он считал, что другим ни к чему переживать из-за этого — у каждого своя жизнь, они здесь сносили все, чтобы получить пенсию и обеспечить себе спокойную старость, и он не мог, он не должен был впутывать их в эту неприятность, в эту огромную неприятность, которая окончится на побережье метрополии нанковой одеждой арестанта и номером ссыльного на левой стороне груди, а на голове — соломенная шляпа с черной лентой, если ее позволят носить. Вот каким будет конец его приключения, начавшегося два года назад; мать была права, говоря ему: не уезжай, зачем тебе деньги, на что они, она даже упала перед ним на колени, умоляя его остаться. А ему хотелось показать себя мужчиной; мы зарабатываем себе на жизнь на нашей земле, а здесь одна вшивота, но внутри у него что-то оборвалось, точно так он себя чувствовал и сейчас, усталым, ужасно хотелось плакать, рыдать навзрыд в эту рождественскую ночь, чтобы там, далеко, мать услышала его; он был убежден, что она плачет, вспоминая о нем, она оплакивает их двоих, поскольку мужчина не может выказывать слабость, даже если он и проявил слабость из-за женщины, заполняющей ему жизнь на чужбине, куда все, кроме лихорадки и одиночества, привозят в консервных банках, как тоску от сознания своей ненужности. Это горькое ощущение ненужности, когда человек начинает думать, что жить нужно, лишь чтобы выжить.
Он почувствовал, что его хватают, трясут, он подумал еще вырваться и повернуться к этой заразе Барросу, придумавшему дурацкую затею поехать в Европу, Фрейтас знал, что стоит лишь ему разжать Барросу руки, как он отделается от него: ведь Баррос был слаб физически, но ему не хотелось делать это, потому что судьба уже предрекала ему решетку в зале суда, где он предстанет перед судьями (Встаньте, подсудимый, словно подсудимый мог когда-нибудь подняться после того, как сделал то, что сделал). И почему?! И для чего?! Чтобы заплатить за пиво, играть в «семь с половиной», убивать время, словно ожидая того, чего никогда не будет, а жалованье, 1275 анголаров, — это милостыня, пожираемая уплатой по чековой книжке, нужно лишь поставить свое имя внизу на квитанции — и вперед!
— Эй, да говори же! — кричал на него Баррос. — Хоть скажи, что думаешь делать! Играй со мной в открытую, черт побери! Но делай что-нибудь… скажи что-то…
Он отвернулся. Сначала качнулся всем телом, всматриваясь в ночь, потом медленно повернул голову, все еще глядя вниз, свет лампы ударил его по глазам, ослепил их, он видел рядом с собой лишь ноги товарища, стоящего у стола, за которым Фрейтас будет есть до субботы, завтрашней субботы…
— Тебе хватит десяти тысяч? — прошептал Баррос, словно боясь быть услышанным.
Сейчас уже он убегал, он не мог ни секунды стоять спокойно, все существо его изнемогало, он жалел о сказанном, какое мне до этого дело? — но в то же время какое удовольствие в поездке, если друг в тюрьме, ведь у него ничего нет, кроме друзей…
Он прошел в спальню, не сообразив, где его кровать, голова кружилась, он говорил сам с собой, возможно, чтобы утомить себя, всю ночь у него будет бессонница от раздумий об одном и том же, а другие развлекаются: Силверио, должно быть, уже напился, остальные тоже, завтра они будут, смеясь, рассказывать о своих похождениях, каждый на свой лад, всегда забавно, когда они идут куда-нибудь вместе. Но завтра все они узнают, что произошло с Фрейтасом.
— Фрейтас! Эх, Фрейтас!..
А зачем остальные должны об этом знать?…
КОГДА УЛЕТАЮТ ЛАСТОЧКИ
Они любили друг друга без памяти: вся ткань их жизни будто сплеталась из слов, обращенных друг к другу, из движений ищущих рук, из страстных и умиротворенных взглядов, а мир был расцвечен яркими красками, одинаковыми для обоих.
Этот мир, казалось, открылся им в мгновение первой встречи и даровал спасение от чистилища, где некогда они предавали себя в объятиях других: свершилось таинство прозрения во всей чистоте и непреложности.
Даже разъединенные пространством, они чувствовали друг друга. Пространство между ними было заполнено неудержимой любовной страстью: так и хотелось соединить их — ведь яростный пламень алчной стихии мог опалить и зажечь нас самих. В конце концов они сожгли себя в огне страсти, а ветер, которому не терпелось увидеть пепел их любви, загасил этот огонь.
Я понял это вчера.
Тому, кто не знал их, могло показаться, что двое влюбленных заботятся о доме, о том, как бы получше устроить себе гнездышко.
Она говорила ему о цвете стен: все время после обеда ушло у нее на выбор красок по каталогам — что, если добавить к ярко-красному немного охры, может, тогда получится нужный оттенок? Они уже облюбовали лимонно-желтую софу, два кресла густого темно-зеленого цвета — всё как нельзя лучше подойдет к современному столу из металла и стекла, и еще книжную полку светлого, очень светлого дерева, чтобы переплеты книг выглядели красивее.
Ей хотелось побольше света, яркого света; он поморщился и нехотя возразил, что предпочитает полумрак, мягкий, не раздражающий свет.
— Не хочу жить как в аквариуме.
И верно. Они сейчас как две рыбы в аквариуме.
Со свойственной ей мягкостью она настояла на своем, хотя ее нарисованные брови на миг недоуменно дрогнули; он согласился, пусть она делает, как хочет, но голос его, точно стальной хлыст, рассек обманчивое спокойствие дома.
Далекие, не глядя друг на друга, они надолго замолчали. Они уходили друг от друга, но я не знаю куда. Ни ей, ни ему не хотелось отступать первым.
И пока не пришло время откровенных упреков, они еще пытаются удержать ускользающий призрак страстной любви, которую оба с жадностью испили до дна, — вот и меняют мебель и цвета вокруг, а в действительности все в их сердцах уже окрашено в тусклый, мучительный, безысходный цвет — цвет пепла.
Не буду доискиваться, чья тут вина, да это и не важно.
В доме уже царит одиночество; они одиноки даже среди случайных друзей, которых зовут к себе в гости, лишь бы не молчать вдвоем. А может, и потому, что страшатся услышать то, в чем каждый из них не смеет признаться даже самому себе.
Теперь лишь случайность, любая, пусть самая нелепая, может вытащить их из этой трясины, куда завело обоих выжидание, но и тогда горький осадок исчезнет нескоро. Или никогда…
Она объявила, что устроит вечеринку под предлогом перемен в доме. Он снисходительно улыбнулся и попросил не забыть бутылку виски для него…
Он говорит сухо и горько, и слова его падают, как осенние листья. Воздух словно рассыпается на осколки, когда он встает и через всю комнату направляется к портрету, который писали с него два года назад. Картина уже старше его любви.
— Если рисовать меня сейчас, нужно изобразить тут высохшее дерево…
— Это надругательство над деревом…
Он [105] оборачивается и ждет, что она скажет дальше. Она [106]берет сигарету и прикуривает, чиркая спичкой о шершавую кожу сумочки, — как бы поджигая затянувшееся молчание.
ТОРГОВКА ФИГАМИ
Я гляжу туда, в глубь времени (что же я сделал со всеми этими годами?…), и думаю, как это было хорошо, что я — жил, и как это хорошо, что мне еще — умирать или жить… Вот сейчас, когда прошлое длится во мне, именно в этот миг, когда я не знаю, кто я и чего же мне хочется, я чувствую, как увлекают меня с собой голоса и радостный гомон, ласки — или обещанья, так и оставшиеся в глазах или в незавершенном жесте, который едва было встрепенулся в чьих-то руках.
И совсем вдали, и все такое же ослепительное, как в тот день, единственный, когда я увидел тебя, раскрывается потрясение четырнадцатилетнего мальчишки. Я так и не узнал твоего имени, чуть коснулся твоей кожи, а ты и сегодня еще — одна из самых настоящих женщин моей жизни. Одна из тех немногих, кому умирать на одной подушке со мной.
Мы были на школьной террасе. Не могу вспомнить, почему в тот день вышло гак, что в десять мы могли свешиваться с балюстрады. Нам нельзя было пойти в перемену на игровую площадку, и оставалось одно — разглядывать улицу в пятнах тени от деревьев, выстроившихся вдоль противоположного тротуара.
Одни играли на сигареты, спорили, какой марки машина, чуть она появлялась на повороте у Жункейры со стороны Белена, другие мечтали о свободе, наслажденья которой мы были лишены, воображали себе кино, девчонок с Байши [107], таинственные прогулки, которых никто из нас еще не пробовал; еще кто-то боролся за золотой пояс Констана Ле Марэна — «Champion de l'Europe et du Monde» [108], как объявлял его шпрехшталмейстер в Колизее, а несколько человек разучивали танцевальные па, воображая, что обнимают знакомых девчонок, под звуки charle-ston'a и танго…
Я старался разглядеть Тежо — там, за песчаным берегом, — чтобы вновь передо мною встала наша пристань, те места, где я снова и снова рождаюсь на свет, каждый день.
Эту мечтательность и прорезал молодой и веселый твой голос, расхваливая фиги, что ты несла в корзине. И сейчас же вся команда дортуара старших еще больше высунулась за каменную балюстраду, отыскивая тебя там, внизу, на улице, и в глазах этих, взволнованных юной любовью, ты ступила на качели, босоногая девчонка, чтобы реять в долгих дортуарных ночах и в романах, которых нам так и не пришлось пережить… А может, мы больше и не живем ими — в том очаровании, которое твой голос раскрыл в интернатском затворе.
Самые смелые спрашивали, почем ты продаешь фиги; ты отвечала с улыбкой, гордясь, конечно же, восхищеньем ребят из школы. Взяла из корзины фигу, очистила, ловко и красиво, как могла ты одна, босоногая девчонка, и стала есть с таким удовольствием, как будто только того и хотела — не знаю уж чего! — потому что в твоих глазах смеялись удовольствие и обещание.
Купить фиги у тебя не мог никто, потому что денег не было, да и нельзя было спуститься вниз к тебе — как было обойти строгий инспекторский надзор?!
Потому, наверное, и нашла твоя женская интуиция игру для кавалеров в голубеньких слюнявчиках — игру в плоды и любовь.
— Вы же ничего никогда не покупаете, знаю я, — кричала ты с улицы, приложив раковиной руку к красивому рту.
— Дай ягодку — поцелую, — отважился кто-то.
Ты сделала вид, что не расслышала предложения, а может, оно и не дошло донизу, поскольку все мы подхватили его, прежде чем ему дойти до тебя, — и ты закричала снова:
— Да я так дам… Только вот выберу, кому… Вот ему, ему…
И ткнула пальцем в гроздь нетерпеливых голов, притиснувшихся одна к другой как раз над тем местом, откуда ты бросила нам вызов.
— Мне?
— Нет, не тебе…
И все поправлялась, покамест не дошла до меня, не сказавшего еще ни слова, неспособного даже жестом выразить свое восхищение, — должно быть, именно и только потому ты и выбрала меня. Но какая там разница, почему…
Я был оглушен, поражен. Больше, чем если бы мне на голову полился звездный дождь или мой Тежо доплеснул до туда, чтобы унести меня с собою. Я распахнул руки, помедлил мгновенье и, помню, пустился бежать, полетел по каменным ступеням, глупый, счастливый, не обращая внимания ни на какие запреты. Я вбежал в музыкальный зал, открыл окно и вымахнул к ограде, отделявшей меня от тебя, от твоих ягод, обещаний.
— Добрый день! — прошептал я, боясь, что от моего голоса оборвется сон.
— Добрый день!.. Любишь фиги?…
— Люблю…
Ты протянула пригоршню ягод, и я принял их, дрожа, не умея рассказать тебе то, что я чувствую и как ты добра ко мне, моя любимая. Мы только смотрели неотрывно друг другу в глаза, не знаю, улыбались ли, да нет, конечно же, улыбались, ты, должно быть, ждала, что я скажу еще что-нибудь, а все слова затаились в глубинах моей крови.
Возвращаясь, я опять прыгнул в окно, ты подняла руку, и я несмело помахал тебе. И снова поплелся, только так медленно, настолько я был переполнен тобой, что, когда инспектор схватил меня, я не мог, не хотел, ни к чему мне было бежать.
На восемь дней я остался без прогулки.
Да и тем лучше. Потому что в тишине, пока я отбывал свое наказание, мне снились часы нашей с тобой чудной любви, которая и сегодня все еще поет у меня в крови, несмотря на то что долгие годы разлучили нас.
Где-то теперь ты, моя такая давняя любовь?!
СТРАНИЦЫ ЗАВЕЩАНИЯ
Написано в 3 часа утра в одну из мучительных ночей в безумном порыве и с чувством обиды на непонимание другими.
Во всех моих книгах, буквально в каждой из них, живут женщины как воспоминания обо мне прежнем; они сохранились в них такими, какими я любил их, такими, как были, пока непонимание не разлучило нас.
На страницах моих книг они останутся волшебно прекрасными, навсегда покорившими меня тем совершенством и красотой, в которую я их облек; младенчески чистые, непорочные и познавшие чувственную любовь — сейчас все они принадлежат только мне одному, которого могли бы одарить, но так и не одарили истинной любовью.
Их столько, что я даже не знаю, не являются ли они все чистейшим вымыслом, иллюзией, которой я стараюсь заменить то, в чем жизнь мне часто отказывала. Я всех их выдумал, сам создал их силой воображения из той непостоянной материи, каковой является человек; в поисках той единственной, которую мне так и не удалось найти, я сделал их совсем не такими, какими они, вероятно, были. Тем лучше. Неудача — признак слабости, но, повторяю я, тем лучше, потому что она, истинная, единственная, и не должна была появляться на страницах раскаяния моих книг.
И как чудесно возвратиться к ним, снова погрузиться в свои прекрасные видения и обладать ими, детски простодушными, доверчивыми, чистыми, воскресив в себе юношескую нежность, волнение, безумную жажду любви и обожания в ней вечно ускользающего, эфемерного; и я затворюсь в этой пустыне интимнейших стремлений своей души, где никогда не бывает эха, но постоянно живут смятение и обыденность давно минувших ночей.
Сотворенные из легенд, все они и поныне живут во мне, но ни одна из них в сумраке ночи не видится мне отчетливо и ясно. Имена не важны… Да и зачем они?
Когда я думаю о тебе, мне вспоминается оскорбленное целомудрие в затянувшейся драме неутоленных желаний и вожделения;
о тебе — влажное, как роса, прикосновение певучих губ, ярких, как цветок, распустившийся на твоем увядшем лице;
о тебе — ласки, безудержные и порывистые, как ураган…
об этой — затаенная восторженность, чтобы не спалить, самую заветную мечту;
о той — всплеск ушибленных рук, которые я целовал, чтобы смягчить боль;
о тебе — испепеляющий огонь страсти, мучительной и сладкой, благодатной и одновременно отнимающей разум;
о тебе — крупный рот, очаровательный в своей неправильности, целуя который я столько раз умирал без всякого сожаления;
и, наконец, та огромная любовь, что затерялась на углу какой-то улицы; ей, единственной, я остался верен в своей постоянной неверности; в ней и живой укор, смешение тирании и преданности, и сожаление, которое возродило меня и изменило так, что я сам себя не узнаю;
и многие-многие другие, то ли пригрезившиеся мне, то ли живущие в моем воображении или словах…
По ним всем и по каждой в отдельности эта застарелая мужская тоска, превратившаяся в одержимую мечту о новой женщине, которую и разум отвергает, и глаза не воспринимают, и руки отталкивают, а она, несмотря ни на что, все ночи напролет ласково гладит мою голову, и голова моя разламывается от мучительного восторга… Просыпаюсь — но ее уже нет со мной. Знаю, что мне ее никогда не найти, найти ее невозможно, разве что на страницах еще не написанной мною книги, на которых и появится эта восхитительная женщина, но ей я никогда не смогу громко сказать:
— Здравствуй, моя любовь!
А дням уже не рождаться — они все заметнее увядают в причудливой игре света.
И я, опьяненный мечтой, нахожу любовь лишь на страницах моих романов, которые уже не принадлежат мне.
В них остается моя жизнь и тоска, мечты о завтрашнем дне и неудачи, друзья и враги, честность и угрызения совести, стремление к звездам и грубая реальность, ранившая, как кинжал, меня и женщин, которых я любил.
Пусть меня проводят в последний путь живые женщины, те, кто захочет прийти. Опустите меня в могилу, а цветы оставьте нетронутыми на лугах, где они распустились. Мне же достаточно одной красной розы…
Писатель умер от меланхолии, извечной болезни глупцов. Вместе с ним умерли все женщины его маленького вымышленного гарема. И поэтому ни одна не явилась на его похороны.
Несмотря на худобу писателя, ни одна не вызвалась нести его тело к могиле, а может, они сохранили жалостливое воспоминание о бедном дурачке, демонстрирующем к деревенском цирке свой номер глотателя шпаг.
Час погребения, говоря по правде, тоже был не самый подходящий — в четыре часа дня все либо работают, либо в темноте кинозала живут воображаемой жизнью фильма.
А сейчас появляется оборотень, которого тоже мучит болезненное воображение. Это, должно быть, поветрие…
ПРОКЛИНАЯ СВОИ РУКИ
Терзаемый безысходной тоской, парень вошел в таверну, спросил бутылку вина и, вернувшись к порогу, устремил потухший взгляд вдаль, за дома, будто где-то там осталась его душа или преследовавший его дикий зверь. Он казался испуганным и взволнованным. В руках он сжимал боль, которая рвалась наружу.
Длинный как жердь, кости да кожа, он горбился, и ветхая, грязная рубаха выскакивала из жеваных штанов. Лицо у него было как у робкого ребенка.
— Ну и жизнь, — почти крикнул он, глядя на улицу. Вероятно, с жизнью у него были свои счеты, раз вот так он мог бросить ей злой упрек. Заметив наше присутствие — я хотел понять, к кому он обращается, — парень огляделся и крикнул горе:
— Зачем человеку жизнь?
Потом, презрительно-покорно пожав плечами, снова шагнул в таверну и сел на краешек скамьи, стоявшей у стены. Взял бутылку, поднес ее к свету, который шел из открытой двери, и поставил на мраморную стойку.
С силой тряхнул он своими длинными руками, понимая, что, если бы не они, не был бы он здесь, так далеко от своего дома. Будь он прокаженным, он мог бы жить в родном краю милостыней.
Должно быть, потому он так зло смотрел на свои руки.
Сдвинув на затылок засаленную кепку, парень сорвал с шеи платок и вытер им выступивший пот. Не мог, как видно, он сидеть, ничего не делая.
Потом, взяв в руки бутылку, он вежливо сказал:
— Ваше здоровье!..
В ответ раздался благодарный гул голосов.
Тогда, вытерев рот рукавом рубахи, парень стал пить. Все мы, повернувшись в его сторону, смотрели на него. Он это понял, почувствовал наши взгляды. По всему было видно, что такое внимание ему непривычно, и он, бравируя, допил все до последней капли. Опять вытер рот, протянул пустую бутылку хозяину и попросил еще.
— Это я готовлю себе постель… На вине спится лучше, чем на циновке.
Отпустив шутку, сам он даже не улыбнулся. Да и никто из нас не нашел в ней ничего смешного.
— Вчера этот сукин сын поставил мне фонарь. Только сегодня заметил. Мы с приятелями приехали в Буселас ночью. Приехали на сбор винограда к хозяину Сойзе, Тоино де Сойзе. А этот сукин сын шофер стал ругаться, требовал пятьдесят миль-рейсов. Пятьдесят мильрейсов за пол-легуа! Небось с Сойзы не посмел бы больше десяти взять. А с нас… Надо же! Свой своего обдирает. Хуже не придумаешь, что тут говорить!
Его передернуло, он вдруг умолк, но тут же заговорил еще резче:
— К вину каждый тянется, а к справедливости… Чтоб этот сукин сын, обобравший нас, оставил эти деньги в аптеке. Худшей беды я ему не желаю. Вот моя беда хуже.
Он поднес бутылку ко рту, на этот раз его не вытерев, и одним глотком осушил половину.
— Черт побери, трястись два дня в поезде, потом на грузовике в поисках работы — и все зря! Ведь там, где я родился, ее не найдешь, хоть тресни!
Я не понял, почему он посмотрел именно на меня. Его потухшие, тоскливые глаза вдруг зло сверкнули.
— Сеньор хочет сказать… земли мало. Как бы не так. Кое у кого полный достаток и земли хоть отбавляй. Живут что твои графы. Три-четыре жнейки пустят на поле — и порядок! А мы, мужики, хворост собираем, как бабы, за каких-нибудь восемнадцать мильрейсов в день. Кто хочет, конечно… А кто не хочет, тот — лодырь. Тому — голод и тюрьма.
Его снова передернуло.
— Женская работа для мужика, — продолжал он, усмехнувшись. — Вот почему те, кто там остаются, — бабы, а не мужики. Как-нибудь женщины соберутся и кастрируют их. Если бы моя мать вовремя сделала это с моим отцом, меня бы не было на свете. — Но сказанное, видно, не удовлетворило его, и он добавил: — А уж коли я родился, надо было меня о стенку головой… — Он тяжело вздохнул. — Ну и жизнь! Вам, наверно, не по душе моя компания… Ведь мы, приезжие, отнимаем работу у тех, кто здесь живет. Так? Точно я говорю?…
Вино делало свое дело, и скоро мысли его стали путаться, а язык заплетаться.
— Точно! Разве нет? А из дома уйти в чужие края — что может быть хуже? Дома-то и стены помогают. Любая боль проходит. У нас в округе ни один шофер не сдерет пятьдесят мильрейсов за пол-легуа. Это все равно что ограбить слепого. — Он снова с силой тряхнул руками. — Тебе вот нравятся твои руки? Ну скажи, нравятся?!
— Они мне ничего плохого не сделали!..
— А хорошего?
— Без них я бы…
— A y меня наоборот. Если бы у меня их не было, я бы не оставил свои края. Я бы, может, с голоду подох, но не уехал, нет. Пошел бы милостыню просить. Любой подал бы калеке. И хворост не заставили бы таскать… А ты, я вижу, из тех, что хворост таскают? Ну нет, уж лучше родиться бабой и солдат ублажать.
И парень с ожесточением плюнул на пол, будто надеялся вызвать землетрясение.
Примечания
1
Об особом влиянии Ф. Гладкова на виднейших неореалистов Алвеса Редола и Соэйро Перрейро Гомеса см.: Pinheiro Torres А. «О movimento neorealista em Portugal via sua primeira fase». Amadora, 1977, p. 30.
(обратно)2
См.: Ряузова Е. А. Роман в современных португалоязычных литературах. М., «Наука», 1980, с. 38.
(обратно)3
См.: Ряузова Е. А. Роман в современных португалоязычных литературах. М., «Наука», 1980, с. 39.
(обратно)4
Nam or a F. Em Torno de neo-realismo.- In: «Un sino na montanha». Lisboa, 1976, p. 232.
(обратно)5
Mendes Jose Manuel. «Charrua em Campo de pedras». Lisboa, 1975, p. 171.
(обратно)6
Ibid., p. 166.
(обратно)7
Ibid., p. 139.
(обратно)8
Ibid., p. 80.
(обратно)9
Ihid., р. 38.
(обратно)10
(1880–1922) — управляющий компании «Братья Беринг и К°». — Здесь и далее примечания переводчиков
(обратно)11
Бразилия была провозглашена Федеративной республикой 15 ноября 1889 г.
(обратно)12
Имеется в виду Британский ультиматум, предъявленный лиссабонскому правительству 11 января 1890 г, в котором Португалии предлагалось вывести войска из долины реки Шире (Мозамбик), что и было осуществлено.
(обратно)13
Саламанкады (исп.) — слово образовано от названия испанского города Саламанка, где заключались железнодорожные сделки.
(обратно)14
Фонтес Перейра де Мелло, Антонио Мария де (1819–1887) — португальский государственный деятель Первым начал осуществлять постройку железных и шоссейных дорог, телеграфа, вводить сельскохозяйственное и промышленное обучение
(обратно)15
Возрожденцы и прогрессисты — две политические партии (группировки), которые сменяли друг друга v кормила правления на протяжении второй половины XIX века; возрожденцы выступали за сохранение феодально-абсолютистского строя, но считали необходимым идти на уступки крупной буржуазии.
(обратно)16
Доктором в Португалии называют человека, получившего высшее образование.
(обратно)17
Дон Педро (1798–1834) — имеется в виду Педро IV, король Португалии, он же Педро I Освободитель, император Бразилии, он же граф Браганский, который боролся против захватившего власть в Португалии и объявившего себя абсолютным монархом Дона Мигела (1802–1866) и его сторонников, мигелистов.
(обратно)18
так были названы контрреволюционные события 1823 г., в результате которых конституционный режим был отменен и восстановлен абсолютизм.
(обратно)19
Название земель, расположенных в округе Бежа на юге Португалии.
(обратно)20
Я иду с войны (исп.).
(обратно)21
Независимость Бразилии была провозглашена 7 сентября 1822 г.
(обратно)22
«Бифштексами» в Португалии называют англичан.
(обратно)23
Земли, принадлежащие монастырям.
(обратно)24
Порядок наследования в Португалии, при котором недвижимое имущество переходило к старшему сыну
(обратно)25
Гомес Фрейре де Андраде (1757–1817) — известный португальский генерал. Принимал участие в политической борьбе своего времени. Казнен либералами.
(обратно)26
Имеются в виду испанские короли Филипп II (1556–1598), Филипп III (1598–1621), Филипп IV (1621–1665).
(обратно)27
Замок (франц.)
(обратно)28
Очень важно (франц.).
(обратно)29
Фешенебельный квартал Лиссабона, изобилующий дорогими магазинами.
(обратно)30
Последний крик (франц.)
(обратно)31
Елисейские поля (франц.).
(обратно)32
Когда льет дождь, но светит солнце, То дьявол ходит под оконцем С мешком булавок за плечами, Чтоб строить козни каждой даме(галисийск.).
(обратно)33
Кушетка (франц.).
(обратно)34
Диас Феррейра, Жозе (1837–1907) — известный португальский юрисконсульт и политик; в 1892 году был президентом королевского совета и министром.
(обратно)35
Оливейра Мартине (1845–1894) — португальский публицист, историк, политик
(обратно)36
Район заливных земель по берегам Тежо
(обратно)37
Участник португальской корриды, который в конце боя бросается на быка с голыми руками и повисает на его голове. Усесться на быка верхом — высшее достижение форкадо.
(обратно)38
Накидка (франц).
(обратно)39
Португальская народная песня.
(обратно)40
В народе существует поверье, что после полуночи около колодцев и источников собираются ведьмы, они расчесывают волосы, танцуют и поют.
(обратно)41
Желто-голубой флаг дома Релвасов — флаг скотовода, поставляющего быков для коррид в Испании
(обратно)42
Бразильский народный танец.
(обратно)43
Книга Иова, 1л. 3, 9, 10, 11, 12.
(обратно)44
Графский род, связанный с королевским домом Браганса. Графский титул этим родом был получен из рук короля Жоана IV (1604–1656).
(обратно)45
«Пятнистыми» абсолютисты называли либералов во времена Либеральных войн.
(обратно)46
Провинция на юге страны.
(обратно)47
участник Либеральных войн, возглавивший банду мигелисгов, действовавшую в Алентежо и Алгарве
(обратно)48
Марсал Эспада, Антонио Жоакин (1803–1851) — участник Либеральных войн, противник абсолютизма.
(обратно)49
Интзе Рибейро, Эрнесто Родолфо (1849–1907) — португальский политический деятель, глава партии «Возрождение». Феррейра Франко Пинто, Жоан (1849–1907) — крупный португальский политический деятель.
(обратно)50
Гунгуньяна — могущественный вождь племени ватуас, хозяин земель Газа (Мозамбик), который восстал против португальского владычества. Умер в порту-1альской тюрьме на острове Асорес в 1906 г.
(обратно)51
13 февраля 1897 года был принят закон о высылке из страны смутьянов-республиканцев.
(обратно)52
Поселок на правом берегу Тежо недалеко от Лиссабона
(обратно)53
Ветер с горы Палмела, находящейся на левом берегу Тежо.
(обратно)54
Красивый (исп.).
(обратно)55
Рейльяк, граф де — крупнейший австрийский банкир. В 1899 г. приезжал в Лиссабон потребовать у правительства уплаты долга по документам, подписанным Доном Мигелом
(обратно)56
Здесь: в любых других статьях (исп.).
(обратно)57
Падре Ангонио Виейра, или Португальский Златоуст (1608–1697), — известный иезуит; оратор и писатель.
(обратно)58
Мыс на острове Acoрес
(обратно)59
Дело (исп.).
(обратно)60
Кингела, Жоакин Педро, граф де Фарробо (1801–1869) — португальский финансист, большой любитель искусства
(обратно)61
Карлота Жоакина де Борбон — королева Португалии (1785–1830), противница либеральных идей, мать Дона Мигела
(обратно)62
Албукерке, Жоакин Моузиньо де (1855–1902) — португальский офицер, участвовавший в борьбе против африканского царька Гунгуньяна в Мозамбике, после чего был с почестями встречен в Лиссабоне, назначен воспитателем детей короля Дона Карлоса. Окончил жизнь самоубийством по неизвестным причинам.
(обратно)63
Квадратная башня в Севилье, считающаяся восьмым чудом света, — памятник архитектуры времен мавританского владычества; построена в 1184–1198 гг.
(обратно)64
Живописное место и районе Синтры, где находится королевский дворец Дона Педро IV.
(обратно)65
Португальская водка.
(обратно)66
Национальное португальское блюдо из трески.
(обратно)67
Коста Кабрал, Жоан Ребело да (1805–1881) — известный португальский юрист, советник Верховного суда.
(обратно)68
Фешенебельный курортный городок близ Лиссабона.
(обратно)69
Курортное местечко неподалеку от Лиссабона.
(обратно)70
Лесопарк под Лиссабоном.
(обратно)71
Бюффе, Бернар (род. в 1928 г.) — современный французский художник.
(обратно)72
Герой греко-американского фильма «Грек Зорба», имевшего огромный успех. Зорба, по отзывам критики, воплощает средиземноморское мироощущение, дионисийскую радость жизни.
(обратно)73
Лиссабонская арена для боя быков.
(обратно)74
Португальская народная песня; поговорка равнозначна русской «Узнаешь. почем фунт лиха».
(обратно)75
Специальная конюшня для недавно ожеребившихся кобыл с сосунками.
(обратно)76
Пегадор — от pegador (порт.). Букв.: «хваталыцик», название участника португальской корриды, который появляется, когда нужно повиснуть на быке, обхватив его за шею; то же, что форкадо.
(обратно)77
Кушанье из отварной или тушеной рыбы под соусом.
(обратно)78
C.I.F. — cost insurance freigt (англ.) — цена, включающая стоимость, страховку и фрахт.
(обратно)79
F.O.B. — free of board (англ.) — франко-борт, коммерческий термин, означающий, что определенная часть расходов по транспортировке товара совершается за счет продавца и не оплачивается покупателем
(обратно)80
Кинжал, которым добивают быка в испанской корриде.
(обратно)81
Один из видов народной песни в Португалии.
(обратно)82
Четверостишие — вид народной песни.
(обратно)83
Экономический термин: превышение рыночной цены золота и прочего.
(обратно)84
Среди друзей (лат.).
(обратно)85
Старое название лиссабонской площади, где сосредоточены министерства. Сейчас — Праса-до-Комерсио.
(обратно)86
Уроженец провинции Рибатежо. Сантаренский доктор предпочитает первую форму второй как более «португальскую» и «исконную».
(обратно)87
Триндаде Коэльо, Жозе Франсиско (1861–1908) — известный португальский писатель и журналист. Доктор намекает на его книгу «Руководство по вопросам политики для гражданина Португалии».
(обратно)88
Алешандре Магно — Александр Великий (так называли Александра Македонского); в сочетании с вполне распространенной фамилией и прозаической профессией имя это производит комический эффект.
(обратно)89
Квартал увеселительных заведений в Лиссабоне.
(обратно)90
Моя любовь (англ.).
(обратно)91
Имеется в виду вторая мировая война, в которой Португалия непосредственного участия не принимала, но через португальские порты осуществлялись транзитные перевозки нефти и продовольствия из Латинской Америки в Германию.
(обратно)92
Небольшой городок близ Лиссабона; там находится знаменитый монастырь, один из национальных памятников Португалии.
(обратно)93
Республиканская гвардия в дореволюционной Португалии — вооруженные силы внутренней безопасности.
(обратно)94
Что делать мне теперь? (франц.)
(обратно)95
Фамилия Тараканчика — Barata — означает по-португальски «таракан».
(обратно)96
Когда-нибудь любовь тебя найдет (англ.).
(обратно)97
Но зачем сидеть и ждать? (англ.)
(обратно)98
Может быть, это и есть та самая ночь! (англ.)
(обратно)99
Денежная единица в колониальной Анголе.
(обратно)100
Центральная площадь в Лиссабоне. Силверио ошибочно полагает, что эта площадь находится в Венеции.
(обратно)101
Русское наименование — Фирвальдштетское озеро.
(обратно)102
Горный массив и вершина в Беарнских Альпах в Швейцарии, высота 4158 м.
(обратно)103
Као, Дного (1440–1486) — португальский мореплаватель, достигший в 1482 году берегов Анголы.
(обратно)104
Алешандрино, Педро (1729–1810) — известный португальский художник.
(обратно)105
Окончив геологический факультет, занимается продажей сельскохозяйственной техники. Начал учиться, страстно желая постичь тайны земли, по которой ступает. Теперь же он страстно жаждет другого — заполучить мощный «феррари». И все свои надежды возлагает на то, что тесть продаст кору пробкового дуба.
(обратно)106
Два курса историко-философского, один курс юридического факультета, первое замужество в двадцать, второе — в двадцать два; думает, что больше замуж не пойдет, но считает, что достаточно разбирается в мужчинах, чтобы наслаждаться жизнью. И все свои надежды возлагает на то, что отец продаст кору пробкового дуба.
(обратно)107
Район, где сосредоточены увеселительные заведения Лиссабона.
(обратно)108
Чемпион Европы и мира (франц.).
(обратно)


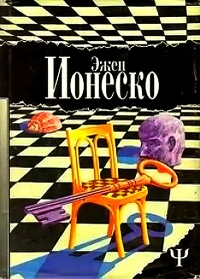
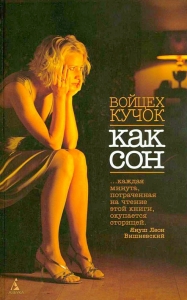
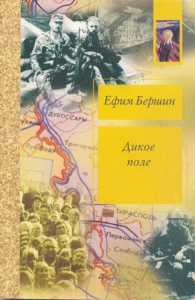
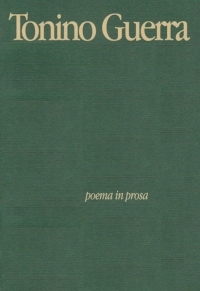
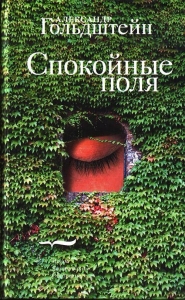





Комментарии к книге «Яма слепых. Белая стена. Рассказы », Антонио Алвес Редол
Всего 0 комментариев