Яков Капустин Веревочка Лагерные хроники (из записок Марка Неснова)
Книга издается в авторской редакции
Верёвочка
Семён Маркович Соколовский проснулся чуть раньше удара рельсы, сунул босые ноги в валенки, накинул на плечи телогрейку, оторвал от листа газеты четверть с двумя чёрными рамками некрологов и, уже по пути захватив шапку, выбежал из барака. Шаркая валенками по утоптанному снегу, он бегом направился к уборной.
Уборная была большая и длинная, сбитая из необрезных досок и побелена известью.
Она стояла метров за пятьдесят от барака и продувалась со всех сторон. От утреннего холодного ветра постройка гудела и скрипела. А её настил от хождения полусонных зэков угрожающе потрескивал. Находиться в ней больше требуемого организмом времени не было никакой физической возможности.
Покинув уборную, Семён Маркович также бегом вернулся в барак, умылся под краном в холодном умывальнике, побрился механической бритвой, и отправился вместе с бригадой в столовую.
Из тридцати членов бригады на завтрак пришло только одиннадцать человек, и пришедшие могли вдоволь поесть негустой перловой каши и запить её горячим кофейным напитком.
Соколовский прихватил свой хлеб, взял пайку дремавшего ещё соседа, ссыпав с хлебушка сахарок в кулёчек, и поспешил в барак готовиться к разводу.
Свой хлеб он положил на нижнюю полку в тумбочку, накрыв специальной тряпочкой.
На работе у него складывался неплохой приварок, поэтому всю пайку можно было оставить до вечера.
Зона была рабочая, давно уже не голодала, а потому хлебушек не игрался и не воровался.
Из своих пяти лет Семён Маркович досиживал последний месяц двушки, работал дневальным в конторе лесозавода и, по лагерным меркам, был неплохо устроен.
Он и сам был доволен своим положением, поэтому каждый вечер просил бога, в которого никогда не верил, о том, чтобы в его жизни ничего не менялось, потому что уже летом подходила ему половинка и, при нынешнем раскладе вещей, светило ему досрочное освобождение. Он обоснованно надеялся оставить хозяину своих пару лет, как говорили местные остроумцы.
Дома его ждала жена, дети и внуки. Имелась веская надежда, что начальство снова примет его на овощную базу доработать пару лет до пенсии.
Об этих приятных душе предметах и размышлял Семён Маркович, натягивая телогрейку, на весь свой, скопившийся за два года гардероб, когда, вдруг, его рука, опущенная в правый карман телогрейки, замерла.
По спине прошла горячая волна, и остановилась где-то под левой лопаткой, в горле слегка запершило, почувствовался металлический привкус, а тело само собой опустилось на койку. Умом ещё ничего не было осознано, а весь организм уже почувствовал беду.
В кармане не было верёвочки, которой Соколовский затягивал на поясе телогрейку, прежде, чем натянуть поверх неё ватный бушлат.
Кому-то, конечно, такое событие может показаться настолько пустяшной и низкой ерундой, что и мысль на этом задерживать неприлично, а не то чтобы переживать или привлекать чужое внимание. Но так может думать только глупый дурак, который и зимы-то боится только потому, что не успел купить жене обещанного модного зимнего пальто.
Такому поверхностному человечку и в голову не придёт представить себя в колонне, окруженной автоматчиками и собаками. А уж, о том чтобы ежедневно ходить в такой колонне в течение многих лет, по три-четыре часа, при сорокаградусном морозе с ветерком, ему и присниться никогда не может.
Такие в лагере и найти себя не могут, и погибают первыми.
Для Семёна же Марковича и его попутчиков по дороге на промзону прогноз погоды зимой был самой главной новостью в мире. Уж во всяком случае, много важнее, чем чехословацкие события или урожай в нечернозёмной зоне.
Итак, обнаружив пропажу весьма ответственной части своего гардероба, Соколовский осмотрел все места, где верёвочка могла оброниться, а не найдя её, стал лихорадочно соображать, где бы что-нибудь подходящее найти, чтобы успеть подпоясаться до развода.
Ни у кого рядом свободной верёвочки не было, и он пошёл к бригадному шнырю, венгру по фамилии Ач.
Ач был человеком вздорным и наглым. Бригадир часто давал ему в зубы, но Ачу всё было, как с гуся вода и, вот уже почти год, он неплохо шнырил в бараке, устраивая и бригадира и бригаду. А шнырить в рабочей бригаде дело нешуточное, и не каждому под силу. Унеси-ка, попробуй, для начала, тридцать пар мокрых валенок одной ходкой в сушилку, да ещё пристрой их поближе к печке так, чтобы утром не побили тебя этими валенками.
Семёну Марковичу очень не хотелось обращаться к хамовитому Ачу, от которого он всегда ожидал какой-нибудь издевательской подлянки, но времени не было, а обстоятельства складывались чрезвычайные – рельса уже прозвучала давно, и бригада продвигалась к выходу.
То ли у Ача было хорошее настроение, то ли вид у Семёна Марковича был совсем унылый, но шнырь не глумился, как обычно, а протянул кусок голого толстого алюминиевого провода:
– На, подвяжись пока, а там придумаем что-нибудь, – он больно хлопнул ладонью Семёна Марковича по плечу и добавил весело:
– Не бзди, еврей, будь веселей! Найду я твою верёвочку.
После, уже по дороге, Семён Маркович вспоминал – сказал Ач «твою верёвочку» или «тебе верёвочку». Потому что это было очень даже не одно и то же.
Не надо быть слишком опытным зэком, чтобы понимать, что верёвочка верёвочке рознь. Шёлковая, или там вискозная, или, не дай бог, какая-нибудь батистовая за день развязываться или ослабляться будет раз за разом. А попробуй-ка поперевязывай узелок потуже голыми руками при тридцати пяти с ветром.
Скрученная же из простыни или нижнего белья, к примеру, так может и вовсе не развязаться в самый необходимый организму момент.
Ещё очень жалко было именно эту верёвочку потому, что хранил её Семён Маркович от самого следственного изолятора.
Верёвочку эту в следственной камере молодые жулики сплели из распущенного хлопчатобумажного коричневого носка, да так споро и умело, что Семён Маркович только диву давался.
Сам он к умелостям всяким был не приспособлен, и такую верёвочку ему не сделать было ни за что. А пацаны, шутя да поругиваясь, сплели это чудо за полчаса, и потом этой верёвочкой забрасывали «коня» через решётку окна в соседнюю камеру, на высунутый веник.
А когда понадобилась верёвочка подлинней, уже для более далёкой камеры, эту за ненадобностью, Митька Рябой отдал Семёну Марковичу со словами:
– Пользуйся, дед, на здоровье, да помни мою доброту.
Семён Маркович сначала этой верёвочкой завязывал свой мешок с вещами, и только потом, на севере, когда увидел, как зэки экипируются зимой на утренний развод, начал использовать веревочку по новому назначению, и она его за две северные лютые зимы, ни разу не подвела. Верёвочка туго перетягивала талию, а завязывалась и развязывалась легко и просто, как шнурки от детских ботинок. Кроме того она была очень пластичной и ужимистой, и не мешала, когда Семён Маркович нагибался или садился.
Вот… А он так беспечно к ней относился. Любой из кармана телогрейки мог спокойно её стащить.
Пока дошли до лесобиржи конвой дважды сажал колонну на снег. Один раз задрались жулики в тарной бригаде, а второй, когда собака укусила сопровождавшего колонну вольнонаёмного представителя. Эти сидячие остановки вконец измучили Семёна Марковича.
Проволока на поясе не амортизировала, как прежде его верёвочка, а при наклонах больно сдавливала живот и не давала дышать. На корточках сидеть было совершенно невозможно, и Семён Маркович стоял на коленях, пригнув голову от ветра и от страха перед собакой, которая захлёбывалась лаем в метре от его лица. От такой позы ломило мышцы спины и шеи. В конце концов, он совсем ослабил проволоку и до вахты промзоны стягивал руками полы бушлата, каждую минуту запахивая их потуже, потому что через ватные рукавицы пальцы держали совсем плохо.
Была ещё задержка у вахты – пропускали вагоны под погрузку.
В контору лесозавода Семён Маркович вбежал совсем замёрзший и измученный.
С нижней частью тела было всё в порядке – выручали хорошо подшитые валенки и ватные брюки поверх теплых кальсон и хозяйских штанов. А вот выше пояса, как он ни приноравливался потуже запахнуться, мороз и ветер всё равно пробирались в самые потаённые места.
Он прислонился спиной к высокой, покрытой чёрной жестью печке, обогревавшей контору, и стоял так, пока не испугался, что может затлеть бушлат.
От ночного сторожа у печки еще лежала поленница из колотой берёзы, так что пару часов у Семёна Марковича в запасе было.
Он уже поменял воду в графинах, подмёл в коридоре и в двух кабинетах, помыл чашки и заварной чайник у директора, расчистил тропку от дороги до крыльца, когда в контору вошёл директор лесозавода Блохин Николай Павлович.
Он прошёл сначала к мастерам, протянул руку десятнику Коле – валютчику из Ленинграда. В сторону вольнонаемных, вечно пьяненьких, мастеров даже не глянул и, уже выйдя из их кабинета, взглянул на Соколовского:
– Здравствуй, Семён Маркович.
Соколовский очень гордился тем фактом, что директор только его в конторе называл по имени отчеству.
От зэков Семён Маркович наслушался о Блохине множество всевозможных легенд, но чаще всего говорили, что «Блоха» в прошлом ссученный «вор в законе», что крови на нём воровской немерено, и что в центр страны он боится ехать до сих пор.
Семён Маркович в этих премудростях не разбирался и разбираться не хотел. Он видел, что директор с ним вежлив, справедлив и добр.
Знал он также, что вся его жизнь и будущая свобода зависели от директора, а потому верил ему и старался во всём угодить, хотя директор ничего не замечал и не требовал.
А когда Блохин оставлял, якобы для уборки, чай, сахар, а то и полбанки сгущенки, то роднее и ближе человека для Соколовского не было.
По его пониманию, не мог Блохин делать что-то несправедливое. Уж больно он прям и могуч, для хитростей и несправедливостей.
А что там было пятнадцать-двадцать лет тому назад, ещё при Сталине, он знать не желал. То было в другой эпохе.
Однажды Семён Маркович подслушал разговор десятника Коли с вольным прорабом строителей Лизогубом о том, что семья Блохиных одна из самых приличных и уважаемых в посёлке. После этого он ещё больше зауважал и полюбил директора.
Подходила пора идти колоть дрова, а петушка Циферблата всё ещё не было.
Когда жулики не таскали Циферблата по будкам, укрыться от холода тому было негде, и Семён Маркович пускал бедолагу на крылечко в тамбур и даже наливал иногда горячего чаю в циферблатову кружку.
Петушок был сильным, красивым парнем, бывшим боксёром, забитым и затюканым до самой невозможности. Он готов был делать для Соколовского всё на свете, а уж дрова колол с радостью.
Сегодня помощника не было, и Семён Маркович, печально вздохнув, запахнул телогрейку и, заколов полу в самом низу булавкой, поплёлся к куче берёзовых чурок, с трудом волоча за собой колун с приваренной, вместо топорища, длинной железной трубой.
Дрова были вперемежку со слежавшимся снегом и, пока Семён Маркович с трудом выковыривал из снега тяжёлые и скользкие чурки, ватные рукавицы обледенели и потяжелели.
Труба никак не зажималась руками, и колун опускался на чурку вкривь и вкось, сбрасывая её с большой сосновой плахи. При каждом же наклоне, телогрейка растопыривалась между пуговицами, и впускала очередную порцию обжигающего холода.
Семён Маркович, окончательно устав и замёрзнув, посеменил в контору.
Как он мог раньше любить есенинские стихи о белых берёзках?
Именно из-за этой тонкой белой кожицы чурка абсолютно неуправляемая в руках со скользкими рукавицами.
В конторе (когда не было директора) ошивались и грелись разные типы, но надежды на их помощь не было никакой. Оставалось только уповать на чудо.
Семён Маркович уже совсем отчаялся и испугался, когда из кабинета вышел десятник Коля. Он был не в валенках, а в котах, какие лагерные сапожники продавали по три рубля, и в теплом зелёном свитере под горло. Свитер сверху донизу был зашит большими стежками.
Семен Маркович знал эту примочку. При очередной облаве на свитера зэки рвали на глазах у контролёров свитер и проходили. Зашитый же дома по разрыву он грел также, а новая облава могла быть очень даже не скоро. А в случае чего, можно было порвать снова.
Коля натянул на уши подшлемник и пошёл во двор.
Десятник был крепкий, слегка полноватый парень лет тридцати. Он жил сам по себе, был при деньгах, и умел держать себя достойно с любым окружением.
Когда Семён Маркович услышал стук колуна, он подбежал к куче, соображая по дороге, что Коля, наверное, из окна видел его мучения.
Он стал подкладывать под колун чурки, а Коля шутя их колол, да так лихо, что отколотые части разлетались по сторонам.
Семён Маркович быстро выдохся, а Коля расколов ещё десяток – другой поленьев пошёл в контору.
– Ну, на сегодня тебе, Маркович, хватит.
Соколовский побежал за ним и, сдерживая прерывистое дыхание, уже в дверях обрушил на Колю слова благодарности.
Дров хватало даже ночному сторожу на пару хороших закладок, и Семён Маркович, отдохнув, отправился в столовую. После еды, он забрал у кухонного истопника Колин обед – жареную картошку с мясом, специально приготовленную поварами для блатных и денежных.
Коля, как всегда, оставил немного для Семёна Марковича, и Соколовский, покушав, запил съеденное директорским чаем с Колиной конфетой «Ласточка».
Всё складывалось неплохо, и только страх перед обратной дорогой, да потеря верёвочки не давали возможности думать о хорошем.
В жилую зону колонна буквально неслась трусцой. Мороз, и так уже невозможный, всё крепчал, а ветер усиливался. Конвоиры говорили, что на термометре в батальоне сорок четыре. Они сами вжимались в высокие воротники меховых тулупов и постоянно приплясывали.
Собаководов с собаками не было. Какой сегодня побег?
Всем хотелось скорее добраться до тепла.
Колонна минут за двадцать добежала до переезда и остановилась часа на полтора – тепловоз сортировал на стрелках вагоны, периодически выезжая на переезд.
Наиболее молодые и бесшабашные зэки не зло и грязно переругивались со стрелочницей, немолодой, но приятной на лицо, женщиной, а она отвечала им ещё более заковыристыми прибаутками из цветистого лагерного фольклора. Это вызывало у зэков хохот и восторг.
Однако, Семён Маркович замёрз совсем и уже не делал попыток согреться.
Его валенки от частой смены температуры за день повлажнели и, если на ходу ещё неплохо держали тепло, то при стоянии всё больше и больше остывали. Тело от этого тоже не могло удержать тепло, и он боялся сделать лишнее движение, чтобы не растерять последнее.
Он во всём винил и, насколько умел, ненавидел того гада, который украл у него верёвочку, и только эта ненависть ещё давала ему силы как-то держаться.
Где-то там, в глубине души он, конечно, понимал, что верёвочка в этих обстоятельствах никак помочь не смогла бы. Но принять и поднять эту мысль к вершине своего сознания, и признаться себе, что злость его не имеет под собой основы, он никак не мог, потому что без этой злости и ненависти к воображаемому вору, его покинули бы последние силы.
Ввалившись в барак уже совсем не осознавая себя, Семён Маркович упал на табуретку у жаркой печки и тупо уставился в пол.
Ему было печально и горько оттого, что он такой никчемный и неприспособленный к жизни человек, оттого, что на своём веку он никогда, ни с кем не дрался, и ещё оттого, что посадили из всей базы только его одного, далёкого от серьёзных дел человека.
А больше всего ему было досадно и обидно, что кроме жены он никогда не знал и не любил ни одной женщины на белом свете.
Жизнь была прожита неинтересно и невкусно – так по всему получалось.
И, если бы ему именно сейчас сказали, что он вот так, прямо в эту минуту, здесь умрёт, без всякой боли и мучений, он бы, не задумываясь, согласился.
Ему было так жалко себя и свою осиротевшую семью, что он даже потерял время и место.
От внезапной боли в колене он очнулся. Напротив сидел улыбающийся Ач.
– Не бзди Сёма, будешь дома! – сказал весело Ач и ударил ещё раз.
– Твоя? В умывальнике на полу нашёл.
На ладони у Ача лежала его, Семёна Марковича, верёвочка. Он узнал бы её из тысячи других. Даже с закрытыми глазами.
Он взял верёвочку в руку, она была мягонькая и теплая; крепко сжал, и сразу почувствовал, что всё вокруг изменилось и приобрело другие очертания и цвета. Он уже определённо знал, что всё наладится и будет теперь хорошо, как прежде, и ему уже было стыдно за предыдущие мысли и свою позорную слабость.
Он как-то по-новому ощутил себя и почувствовал своё тело. Болели пальцы на ногах, и Семён Маркович вспомнил, что первым делом нужно было снять валенки в сушилку.
Но сначала необходимо было поблагодарить Ача. Сказать тому, что он самый хороший на свете парень, и что Семён Маркович всегда знал об этом, и что он навеки теперь его, Ача, должник.
Он хотел всё это произнести, но вместо слов изо рта вырвался какой-то нелепый звук, потом всхлип и Семён Маркович, вдруг громко, как в детстве, навзрыд заплакал.
Не искушай Господа, бога твоего
Если бы итальянский криминолог Чезаре Ломброзо увидел честное и ясное лицо Юры Селивёрстова, он бы перевернулся в гробу.
Но, и перевёрнувшись, он бы увидел, как его стройная теория, что преступные наклонности отражены на человеческом лице, разваливается на глазах.
С Юриного лица можно было писать портреты святых, счастливых отцов и строителей светлого будущего. Юноша, выросший у папы-полковника и мамы-врача, в свои двадцать лет был кандидатом в мастера спорта по гимнастике и играл на фортепьяно.
И, тем не менее, Юрий Игнатьевич Селивёрстов был убийцей.
Нет, он не подкарауливал ночью работниц швейной фабрики, идущих домой после второй смены. И не нападал на инкассаторов, чтобы завладеть их выручкой. Он даже не бегал по улице пьяный с ножом.
Он просто застрелил «деда» в армии.
– Я уже готов был застрелиться сам, потому что от побоев и унижений не осталось никаких сил. Но когда один из дедов сказал, что сейчас они сделают из меня Юлию, я всадил в него очередь, о чём никогда не сожалел.
В лагере Юра жил весело. Был при родительских деньгах, относился ко всем доброжелательно, а для большего спокойствия тёрся возле меня и моей семьи, что нас нисколько не напрягало, потому что парень он был с понятием, хотя и никогда не стремился в «калашный ряд».
После тотального беспредела, которым всегда славилась советская армия, строгий режим казался Юре верхом законности и правопорядка.
Здесь нужно было отвечать только за свои поступки, а не жить по милости или немилости двадцатилетних «дедов», которые ещё вчера сами были лишены, каких бы то ни было, человеческих прав. И если облик их изменился до неузнаваемости в связи с переходом в категорию старослужащих, то мораль оставалась рабской, но уже бесконтрольной.
В лагере ничего подобного не было, хотя случалось всякое, как могло случиться, впрочем, и на воле.
С самого начала Юра присоседился к нашей семье и, не особо мешая, обеспечил себе ещё и защиту от всевозможных случайностей и глупостей, которыми полнится любое человеческое сообщество.
Юра мне всегда нравился за весёлый нрав и доброжелательность. Работал он у меня десятником по отгрузке вагонов.
На поселение Юра вышел на полгода раньше, а потому, узнав, что меня оставили работать в городе, приехал меня проведать со своей будущей женой, тридцатилетним директором поселковой школы.
Когда женщина ушла по своим директорским делам, Юра рассказал нам о тех радужных перспективах в виде квартиры и машины, которые ждали его в случае законного брака.
– А с чего ты решил, что она уживётся с тобой, если с двумя предыдущими мужьями не ужилась – спросил его Толик, наш общий приятель.
– Так они же оба бухали, а я вообще не пью.
– Так она у тебя или дура, или стерва. Если выбирала пьяниц, то дура, а, если доводила мужиков до пьянства, то стерва – не унимался Толик.
– Марк, а ты чего молчишь?
– А что ты хочешь от меня услышать? Можно жениться по любви, или по интересу, а ты женишься ради интереса.
– А какая разница.
– Не скажи, Юра! По интересу летают в космос или женятся на хорошей женщине, пусть пока и не очень любимой. А ради интереса женятся на машине и квартире. А это уже дешёвое фраерство. А Бог не фраер. И с ним шутки плохи.
– Так что мне не жениться на ней, по-вашему?
– Юра! Мы уже не на зоне, чтобы тебе говорить, как поступать. Ты сам видел ползоны таких умников и знаешь не хуже нас, куда это приводит. А как говорят умные люди, только дураки учатся на собственных ошибках. Тебе жить, тебе и решать. Нам-то что?
– Ну, всё! Вы меня убедили…
…Приехав в Юрин поселок по делам, я отправился к нему в гости, поздравить с рождением дочери.
Увидев у меня в руках бутылку коньяка, его директриса что-то буркнула и исчезла в другой комнате.
Мы с Юрой пошли на кухню поговорить. Пить мы не стали, потому что Юра скривился в сторону спальни. Мы проговорили уже минут пятнадцать, когда жена резко открыла дверь и, подойдя к нам, заорала на Юру:
– Я что должна тебе каждый раз напоминать, что к пяти привозят молоко? Или мне бросать ребёнка и бежать самой?
Юра попросил меня подождать, а сам выбежал в магазин.
Его жена опёршись о холодильник и скрестив на груди руки молча меня разглядывала, потом спросила:
– Может, скажете, что я не права? У вас такое лицо.
– Насчёт молока? Почему – же? Правы. Хотя я бы от своей жены за такой тон ушёл.
– Много вы понимаете в семейной жизни. Вот женитесь, тогда и посмотрим.
– Послушайте, Лида, один еврейский анекдот, он короткий. Поспорили два еврея о том, какие доски использовать в бане на полу – строганные, или не строганные. Строганные лучше, но дороже. Поспорили серьёзно. Почти до драки. Пошли к раввину. Первый привёл свои доводы, и раввин ему сказал: – Конечно, ты прав рэб Лейзер. Потом привёл свои доводы второй, и раввин сказал: – И ты прав рэб Мендель.
Вмешался служка раввина Менухим. – Рэбэ, не может же быть, чтобы оба были правы в споре по одному и тому же вопросу?
И рэбэ печально сказал: И ты прав Менухим. – Так что же делать с досками, рэбэ? – Берите обязательно строганные, но кладите строганной стороной вниз.
– Ну, и что же умного сказал Ваш раввин? – спросила Юрина жена.
– Ну, во-первых, он сказал, что все, по-своему, правы. А во вторых он думал не о досках, а о людях его местечка, которые должны жить в мире и дружбе. Может евреи и живут дольше всех на земле, потому что пытались больше думать о людях, чем о досках. Поэтому, если о молоке, то вы правы, а если о семейной жизни, то это тихий ужас.
– Что же мне одной всё делать? Я тоже работаю, и зарабатываю не меньше.
– Нет, конечно, он должен помогать, но это должно его радовать, а не унижать.
– Ну да, я ещё должна забивать себе голову, чтобы ему угодить.
– А представьте, каково вашему мужу предстать передо мной, человеком, чьё мнение он ценит, затюканным подкаблучником? А перед самим собой? Полагаю, хорошим это не кончится. И, чтобы это понимать, не обязательно быть женатым. Великая мадам де Сталь два века тому назад сказала, что мужчина должен чувствовать себя королём, и только одна женщина на Земле должна знать, что вместо короны её каблук. Но мужчина никогда этого не должен заподозрить.
– Ну, ладно, мне надо к ребёнку. До свиданья.
Я не дождался Юры и ушёл, чтобы не опоздать на поезд.
По дороге я думал о том, что говорил банальные прописные истины, о которых дети должны узнавать в детском саду, а тут директор школы…
…Прошло много лет.
Проездом я оказался у Толика в Херсоне. Он только купил новую «шестёрку», и вызвался отвезти меня в Нальчик, где я тогда жил.
Мы уже подъезжали к Ростову, когда я вдруг вспомнил, что это родина Юры Селивёрстова и предложил Толику заехать к его родным передохнуть, а заодно и узнать, что там с Юрой.
Мы оба были почти уверены, что его супружеская жизнь хорошо не кончилась. Дай Бог не трагически. Через справочную мы быстро нашли Юриных родителей и от них узнали, что Юра работает механиком в автосервисе.
Он ничуть не изменился. Был такой же весёлый и заводной.
– Поехали ко мне, с женой и дочкой познакомлю.
Нас встретила незнакомая женщина постарше Юры и девочка лет тринадцати.
Когда мы остались одни, Юра заговорил:
– Если бы вы знали, сколько раз я вас вспоминал? Не знаю, что ты сказал моей бывшей, но месяца на три она как-то поутихла, а потом всё началось сначала. Я уже стал бояться домой приходить. То на охоту, то на рыбалку – лишь бы не дома. Выпивать стал. А дома ещё хуже. Всё не так. Чувствую, что уже нехорошие мысли в голову лезут. Лагерь стал сниться. Как-то поехал в Сыктывкар зуб мудрости удалять, да так и не вернулся. Сел на самолёт и улетел. Года четыре, как женился – у неё муж в Афгане погиб. Ни разу не поссорились, аж не верится, что такое бывает. В прошлом году её девочку удочерил. Дом достраиваем. Родители помогают. Всё путём. Вот так. Правильно ты говорил, что не надо играть с Богом в прятки. Он дешёвки не прощает.
Мы выпили за Юрину семью, переночевали и поехали в Нальчик.
Убийца Сталина
Я встречал не много людей на свете, рассказам которых верил до конца.
Обычно человек, если и не врёт, то рассказывает свое представление о событии, или ту версию, в которую искренне верит сам.
Но есть люди, которым веришь, что бы они ни рассказывали.
И не только оттого, что тебе кажется, что они не умеют врать, но и потому, что ты убеждён – рассказчик способен сделать то, о чём говорит. И даже больше.
Таким человеком был мой душевный приятель и настоящий русский человек Николай Гаврилович Гавришевский.
Впервые я увидел его на турнике. Мне, человеку абсолютно не спортивному, было удивительно наблюдать, что этот немолодой инвалид выделывает на снаряде.
Потом я увидел его в рабочей зоне, когда мы после развода шли в сторону конторы. Он раззадоривал попутчиков:
– Ну что, молодёжь, кто рискнёт? До конторы. 300 метров. Пачка чая. Ну!?
Глядя на то, как он хромает на ногу с дугообразной голенью, у кого-нибудь появлялась охота легко выиграть.
Николай побеждал всегда.
Проигравшие никак не могли ни осознать и принять свой проигрыш. В ответ Коля загадочно улыбался и повторял:
– Спортом, спортом надо заниматься, мужики. И курить надо бросать.
И снова, назавтра кто-то попадался, и проигрывал пачку чая.
Коля досиживал свой четвертак. Он уже сидел больше, чем я прожил.
Но никогда и никто не видел его угрюмым или расстроенным.
В свои, под пятьдесят, он был невысок, худощав и необычайно свеж.
– Спорт и доброе отношение к людям – залог душевного и физического здоровья – часто любил повторять Николай Гаврилович.
Работал он шнырём (дневальным) в конторе лесозавода.
Подружились мы не сразу, но крепко и надолго.
И хотя он не приветствовал мою дружбу с блатными, разговоров на эту тему у нас не было, да и быть не могло. В лагере каждый крутится, как хочет и как умеет, не выходя за рамки приличия, за которыми легко можно получить по голове.
У уважающих себя людей, (и на воле тоже), не принято лезть к собеседнику в душу и задавать лишние вопросы. Захочет человек – расскажет сам.
И однажды Коля рассказал мне свою невероятную, но обычную для нашей страны историю.
– На фронт я пошёл добровольцем из педагогического института. Сразу попал в артиллерийское училище, и командиром батареи провоевал месяцев пять, когда меня перевели в полковую разведку. Закончил войну под Прагой в госпитале, а домой попал аж в начале сорок седьмого. Меня, капитана, инвалида, до увольнения из армии определили в районный военкомат.
В то голодное время жилось нам лучше других, за счёт моей работы.
Многие умирали от голода. Ходили слухи о людоедах.
Чёрт меня дёрнул влюбиться в жену сослуживца, майора. Даже не так. Это она меня к себе затащила.
Жили мы у моих родных уже больше месяца, когда МГБ за мной приехало в пять утра. Оказывается, её муж написал заявление о том, что я выражал недовольство политикой правительства, (что было правдой), и грозился убить Сталина, чего не было и быть не могло. Но мне быстро сварганили дело и влепили двадцать пять лет, которые тогда стали давать всем подряд, вместо расстрела. На суде я сказал этому гаду, что сбегу и застрелю его. С этими мыслями и ушёл на этапы.
Видя мою хромоту и уродство, конвой обращал на меня внимание в последнюю очередь, и в один прекрасный момент на вокзале, когда приблатнённые пацаны замутили заваруху, я пошёл на отрыв, вскочил на проходящий товарняк и ушёл.
Короче, добрался я до Кировограда и прихожу в дом, к моему обидчику. А у него дома моя любовь, да ещё и с пузом. Может даже и от меня.
Упали они оба в ноги, умоляют не убивать этого подлеца. А я бы, наверное, и не смог. Я же боевой офицер, а не палач.
Заставил его написать правду о доносе и повёз в МГБ. Ему дали пять лет за ложный донос. А мне, к уже отсиженному, добавляют срок до двадцати пяти – и на Север.
Конвой там понаписал, что я совершил нападение, ударил часового и пытался завладеть оружием. В пятьдесят седьмом статью про Сталина мне отменили, а четвертак за всё остальное оставили.
В шестьдесят первом, когда меняли кодекс до пятнадцати, мне оставили четвертной, как особо опасному и не ставшему на путь исправления преступнику. Потому что никогда я в их ментовских играх не участвовал. Работал, как мог, и всё. Вот так и сижу. Осталось полгода, а чувствую себя пацаном. Ни война, ни тюрьма меня не состарили. Жить хочу, аж подпрыгиваю.
В конторе, когда не было начальства, обычно собиралась братва. Порешать производственные вопросы, поиграть в карты, выпить, почифирить и прочее.
Как обычно в субботу, когда из начальства одни зэки, компания из пяти-шести человек устроилась играть в углу коридора в карты, поставив на стрёме какого-то жулика.
Играли, выпивали, чифирили, трепали языками.
Коля подметал пол и, добравшись до них, попросил пересесть, на что Митя Проходчик ответил матом и оскорблениями. Коля промолчал и отошёл по своим делам.
Проходчик был здоровый тридцатилетний парень, с храмом Василия Блаженного во всю спину. Вряд ли он когда-нибудь спускался в шахту, но почему-то кличка у него была шахтёрская. На зоне он блатовал, но в калашный ряд его не пускали.
За ним тянулся хвост с Украины, где он выступал по лагерному радио и призывал всех стать на путь исправления. Была у ментов, наряду с красной повязкой, такая мера по опусканию блатных. На чём-то его подловили и он прогнулся. Никто его за это не осуждал, но и по первому кругу уже катить ему не позволяли. А по низам он был в авторитете, и не многие хотели с ним связываться.
Он уже был прилично поддатый, когда ему захотелось чифиру и он крикнул Коле:
– Ты, хромой сучёнок, а ну завари там чайку покрепче.
Коля продолжал заниматься своими делами.
Через некоторое время Проходчик опять повторил свою команду, но Николай никак не отреагировал. Тогда Проходчик поднялся, подошёл к Коле, который нагнулся над дверцей печки и, прижавшись своим передом к его обтянутому заду, сделал несколько недвусмысленных телодвижений.
Что произошло дальше, никто не понял. Все только видели ничего не понимающего Проходчика с огромной щепкой, торчащей из обеих сторон его шеи.
Коля уже стоял возле остальных.
Проходчик рухнул, хрипя и захлёбываясь. Было понятно, что помощь ему уже не нужна… И только Коля был спокоен.
Всё это время я был у себя в кабинете с Пашей Королём по кличке Дурак. Фамилия у Паши была Кузьмин, но клички было две. Именно так и говорили: Ну, Паша Король, что Дурак. Паша был лет на десять старше меня. Большую часть срока он провел в психбольнице, но был добрым, интересным и очень интересующимся человеком. Говорить со мной он мог часами, когда не играл в карты.
Боялись Пашу все. Он был из очень уважаемой лагерной семьи, всегда смешлив и приветлив, что многих расхолаживало и дезориентировало.
И когда они, вдруг, получали по голове еловой вершинкой, многие не могли понять, где они себе позволили с Пашей лишнее.
Мы выскочили из кабинета, быстро разобрались в чём дело, и Паша, обращаясь ко всем присутствующим, безапелляционным тоном сказал:
– Значит так! Зовём ментов с вахты и все, как один, показываем, что Проходчик сам пьяный упал и напоролся на щепку. Попробуйте только запороть мне в косяк. Поубиваю, козлов.
Козлы, конечно, было лишнее, но все промолчали. Тем дело и кончилось.
Через пару недель Коля ушёл на свободу.
Я долго получал от него письма, пока сам не ушёл на этап.
Он писал, что женился, работает с братом в мастерской металлоремонта и доволен жизнью.
Меня это всегда радовало.
Ласточка
Если на воле человеческие мечты и фантазии всё-таки ограничиваются возможностями, способностями и реальными потребностями человека, то в лагере эти фантазии безграничны.
У зэка есть прочная опора, на которой держится его самомнение и самоуверенность. Это его несвобода.
Нечто подобное, было у многих представителей советской интеллигенции.
Многие из них считали, что будь у них свобода (и отсутствие партийного давления), они бы были хорошими бизнесменами, писателями или просто очень успешными людьми.
Может быть, поэтому рынок и свобода наибольшее разочарование принёсли в России именно интеллигенции, которая до этих благословенных времён, во многом, жила в иллюзорном мире.
Да! Так вот. Мои фантазии не были так далеко раздвинуты, кроме, конечно, того, что я собирался управлять государством.
Сиюминутно же я мечтал о том, чтобы в Большом театре послушать оперу «Евгений Онегин» и встретить когда-нибудь свою Ласточку.
К «Евгению Онегину» меня побудил показанный у нас фильм «Музыкальная история», а Ласточку я хотел видеть всегда.
Ласточкой её назвала моя соседка Люда, у которой она ночевала, поскольку мама моя была человеком строгих правил.
Утром Люда позвала меня к себе и показала мою спящую подругу.
Солнце из окна освещало её каштановые волосы, свисавшие к полу.
Лицо было светлым и красивым настолько, что Люда не удержалась и сказала:
– И досталась же такая Ласточка такому обормоту.
С Людкой мы в детстве ходили на один горшок, и был я для неё ближе родного брата, поэтому она свою любовь ко мне выражала чисто по-родственному. Так, с Людкиного благословения она и стала Ласточкой.
То, что она любила именно меня, было загадкой для всего техникума, где мы оба учились.
Потом меня выгнали из техникума за серьёзную драку, а её лишали стипендии и писали её родителям письма. Но она всё равно меня любила, и ни на что не обращала внимания.
И только однажды она сказала:
– Мне это всё надоело.
А произошло вот что. Шёл концерт. Мы сидели на последнем ряду актового зала, когда по проходу от сцены к нам подошёл парень и что-то сказал моему приятелю Тёне. Тёня повернулся ко мне:
– Меня там толпа убивать пришла.
Нас было трое.
Извинившись перед Ласточкой, я вместе с остальными, направился к выходу.
В коридоре Крыжа (третий из нас) взял со стола в коридоре толстую пластмассовую палку с полметра длиной, которую оставили строители-ремонтники, а я засунул за пояс тридцатисантиметровую металлическую линейку.
Когда мы вышли на высокое крыльцо, толпа нам показалась безразмерной.
Двое от неё отделились и направились в нашу сторону.
Тёня был боксёром, а Крыжа профессиональным хулиганом, но оба уставились на меня, хотя я и драться не умел, и был моложе их обоих.
Как разогнать толпу, мне было более или менее понятно, а вот что делать с двумя здоровенными парламентёрами я не знал.
– Если этих двух вырубите, остальные разбегутся, отвечаю.
Мы не торопясь подходили к парням, которые, ухмыляясь, смотрели на свои потенциальные жертвы.
Тёня кулаком, а Крыжа палкой ударили одновременно, и парни грохнулись на землю прежде, чем в расслабленной толпе кто-нибудь, что-нибудь понял.
Они только увидели бегущего на них с огромным ножом в руке парня, который орал во весь голос.
Толпу я разгонял не впервые, и знал, что делать это легко, потому что в толпе никто не может принять решение.
Толпа развернулась и понеслась вдоль улицы, а я неуклюже за ней бежал. Нестерпимо болела спина, надорванная на первой институтской практике.
Еле добравшись до общежития, я пришёл в Ласточкину комнату и упал на её кровать.
Тогда-то она и сказала без всяких эмоций:
– Мне это всё надоело.
А я, дурак, взял и перестал к ней приходить.
Ей, конечно, передавали, что видели меня с другими девушками. Но я искренне считал, что я встречаюсь с Ласточкой и люблю только её. А всё остальное так, ей назло.
На суде её не было.
Но потом мать рассказывала, что она приходила и плакала, и говорила, что если бы я ей пообещал, она бы меня ждала.
Потом она писала мне, но моя бурная лагерная жизнь и побег этому не способствовали, а когда через много лет я попытался её разыскать, то получил ответ из адресного бюро, что проживает она в Североморске 3, закрытом военном городке под Мурманском.
О том, чтобы туда проникнуть, не могло быть и речи, а письма писать в неизвестность было опасно. Страшно было помешать ей жить.
Так прошло 24 года после нашей последней встречи, в течение которых я никогда о ней не забывал, и время от времени перепроверял её место жительства.
Летом 1990 года мне вдруг ответили, что Ласточка проживает на Украине в городе Жданов.
С моим водителем Юрой мы часто ездили на машине в Москву. На ночь, обычно, останавливались в Донецке, чтобы переночевать. Наутро я сказал Юре, что мы проскочим в Жданов по делам.
Юра позвонил в квартиру, и семнадцатилетняя девушка сказала, что мама обычно, приходит домой на обед.
Я узнал её издалека по походке. Неспешная походка задумчивого человека.
– Тебе совсем не идут усы – сказала Ласточка, не выразив удивления.
– Ты не удивлена?
– Нет… Что я, тебя не знаю. Знала, если живой – приедешь.
– Мы можем где-то посидеть?
– Наверное.
И она пошла в дом.
Минут через двадцать она вышла из дому вместе с дочерью:
– Знакомься Оксана – это Марк. Он мог бы быть твоим отцом.
Чувствовалось, что они подруги, и тайн у них нет.
Мы расположились в ресторане и стали болтать. Вернее я болтал, а она сидела и периодически плакала.
– Тебе что так плохо живётся? – спросил я.
– Да, нет. Всё в порядке. Только тебя не хватает.
– Я тоже всегда тебя помнил.
– Я чувствовала.
– Что же делать?
– Позовешь замуж, пойду. А любовницей быть не хочу. Противно.
– Я не могу. У меня жена хорошая, да и предавать я не умею.
– За это и люблю. Ну и ладно. Ты мне не звони и не пиши. У меня на это сил нет.
– А Оксане?
– Это, как договоришься.
Мы с Оксаной как-то быстро подружились и стали перезваниваться.
Она мне однажды сообщила, что у мамы был инфаркт, но всё слава Богу.
Оксана окончила институт и вышла замуж.
Недавно у неё был день рождения, и я послал ей в подарок красивые серёжки.
Попытался написать стихотворение. Не очень. Но последние строчки вроде бы получились:
…Я не её, она чужая, У каждого своя семья, Но я до боли возражаю, Что ТЫ, увы, не дочь моя.Твой несостоявшийся отец Марк Михайлович Неснов.
Право на убийство
О том, что институт смертной казни в России не имеет никакого смысла, я понял достаточно давно.
Поэтому введение моратория на её применение считаю вполне обоснованным и рациональным, хотя бы потому, что к заметному снижению преступлений смертная казнь не приводит.
Зато заметно повышает градус жестокосердия в нашей стране, где с милосердием и так не очень благополучно. Кроме того, слабость нашей правовой и судебной системы не всегда может гарантировать населению, что меч правосудия разит именно того, кто это заслужил. Только по одному резонансному делу убийцы Чикатило казнили десяток невиновных.
А по менее известным и резонансным?
И хотя жертвами этих ошибок являются обычные граждане, большая часть народа с возмущение воспринимает мораторий, совершенно не желая слушать мнение юристов, психологов и статистические данные, полагая, что лишение жизни виновного (а часто и не виновного) кардинально решает проблемы. Хотя, по моему мнению, эти проблемы, от такого способа их решений, только множатся.
Говорю это потому, что считаю себя более осведомлённым в этом вопросе.
Однажды жизнь заставила меня вынести смертный приговор, ибо не существовало иного способа спасти окружающих.
Произошло это много лет тому назад, когда на нашу вполне благополучную и относительно спокойную зону прибыл этап из Азербайджана.
Азербайджанцы и до этого были на зоне. Но эта группа пришла из местных сытых лагерей, где их статус продолжал определяться связями со свободой и деньгами родителей.
Никакого уважения мрачная, забушлаченная северная публика, спокойно борющаяся ежедневно за своё выживание, у них не вызвала.
И они, ничего не поняв, и не желая ни в чём разбираться, начали беспредельничать, как это делали в родном городе на своей почти домашней зоне.
Было их немного, человек двадцать. Но это были сытые парни, крепко завязанные землячеством во главе с сорокалетним Ильясом, который шёпотом выдавал себя за вора, что при его поведении и миропонимании, кроме усмешки, вызвать ничего не могло.
О ворах мы в эти годы слышали приблизительно тоже, что и о героях-челюскинцах.
Где-то, когда-то.
Но усмешки усмешками, а вступать в конфликт с беспредельщиками никому не хотелось, так как кроме крови и больших сроков на особом режиме ничего из этого выйти не могло.
Эта публика творила беспредел по низам, а к уважаемым людям пока не приближалась, что и позволяло ей вольготно себя чувствовать и уверовать в свою вседозволенность и безнаказанность.
Не знаю, как бы это всё закончилось, но однажды они наехали на Толика Мирошникова, тридцатилетнего десятника на разделке леса. Толик был спокойный мужик, никуда, кроме работы не влезавший, а потому и пользовался уважением среди всех нормальных людей.
Ильяс и его отморозки стали давить на Толика, заставляя приписывать объёмы, которых они не имели, чтобы дать им заработать приличные деньги. Поскольку Толик упирался, они по пьянке избили его, а потом изнасиловали и повесили на стройке, имитируя самоубийство.
Однако сами они, кроме оперчасти, ни от кого ничего не скрывали, а наоборот, бахвалились, угрожая всем остальным.
Все уважающие себя и уважаемые парни понимали, что шутки кончились и пора эту публику остановить, пока не поздно.
Мой приятель и очень путёвый хлопец чеченец Хамзат заявил, что он пойдёт и завалит Ильяса и ёщё пару этих козлов. И хотя в Хамзате никто не сомневался, (все знакомые мне в зоне и на воле чеченцы были людьми слова и чести), но я сказал, что никто не должен из-за этих тварей получить срок, а надо кинуть под танк того, кого не жалко.
На зоне не жалко только петуха (пассивного педераста). Не мной это придумано. Такие это законы. И такая там жизнь. Положение петуха на зоне можно определить как запредельное. Он не имеет права сидеть за одним столом с народом. С ним никто не может вести беседу без последствий для своего положения. Его может ударить, избить и использовать даже самое ничтожное существо. Никто из уважающих себя людей не обидит петуха, но и серьёзно заступиться за него немыслимо. Падение этих людей настолько беспредельно, что многие предпочитают возможности быть опущенным, смерть.
Как правило, опустить можно только за неуплаченный карточный долг, хотя, как и в гражданской жизни, бывает всякое, но крайне редко.
Поэтому часто появляются скрытые петухи, у которых только один пользователь. Они страшно боятся огласки и готовы на всё, чтобы этого не случилось.
Именно такого скрытого педераста я и поручил найти, а также собрать информацию на его хозяина и скупить все его карточные долги, чтобы загнать и его и его подопечного в угол.
Настоящих картёжников в лагере процентов пять, а то и меньше. Эти люди играют постоянно имея сложный финансовый баланс, который на первое число, (как правило это день расчётов), должен обязательно иметь положительное сальдо из хороших денег, а также возможность под свою личность, в любой момент, перезанять нужную сумму, чтобы уплатить вовремя.
Остальная публика – это любители, которые очень часто попадают на бабки и великое для них счастье, если их деньги приплывут к таким, как я, кто просто заставит их отрабатывать долг на определённых условиях.
К завтрашнему утру, после нашего разговора, я уже знал, что Толик Питерский давно имеет в тайных любовниках Колю Егорова, приблатнённого пацана из бригады погрузки.
Когда-то он заплатил за Колю долги. Все думали, что по землячеству, а оказалось всё сложнее.
Но Питерский был скользкий и хитрый, как угорь тип, мог и не сдать своего любовника, а потому нужно было загнать и его самого в угол.
К концу месяца Питерский вдруг обнаружил, что все его долги находятся в нашей семье, которая не хочет брать переводом даже хорошие деньги, от надёжных его должников, а перезанимать ему на зоне никто не хочет.
Вся зона, кроме тупых азербайджанских отморозков, догадывалась о наших манёврах и все затаились, играя в нашу игру. Общий долг Питерского нам составил две с половиной тысячи, и он, ещё вчера уверенный в своём денежном балансе, почувствовал как горит его задница.
Он прибежал ко мне, умоляя поговорить с Мальком и Япошей, играющими членами нашей семьи, но я сказал, что не мне, студенту, заниматься их разборками.
Япоша же и Малёк на него наехали за то, что его скрытый петух сидит с хорошими ребятами за одним столом, и только за это самого Питерского надо наказать. И что после 12 ночи, часом расчёта, им займутся.
Питерский упал на колени и завыл, обещая сделать, что угодно, лишь бы его не опускали.
Тогда – то и было ему поставлено условие, вместе с Колей завалить ночью Ильяса.
А за это обещали ему долг простить, а Колю петухом не объявлять.
Для Питерского это было большим счастьем. Кто хоть немного знает, о чём речь, тот поймёт.
Утром, дружки пришли будить Ильяса, который был с головой накрыт одеялом, и, откинув одеяло, они увидели своего мёртвого пахана с торчащей шляпкой двадцатисантиметрового гвоздя из левого глаза.
В панике они побежали к азербайджанцам, которые раньше были на зоне и сами страдали от беспредела своих земляков, чтобы просить у них защиты и убежища.
Но земляки сами начали их избивать вместе со всеми обиженными и недовольными.
Кто успел, убежал на вахту, кто-то выпрыгнул в запретку под вышку. Остальных били до собственной усталости.
Как ни странно, оперчасть не очень свирепствовала.
Только Коле добавили три года, потому что он на суде заявил, что его хотели изнасиловать.
Нормальный парень такого бы не сказал, но Коле – скрытому петуху простительно.
Вот при такой безвыходной ситуации мне и пришлось принимать это решение, потому что не существовало на всей Земле силы и власти, которая могла бы спасти потенциальные жертвы от приговорённых мной злодеев. У государства же(на воле) достаточно силы и средств, чтобы изолировать виновных, а возможно и невиновных, дабы уберечь окружающих.
Само же убийство ничего хорошего не делает ни с судьями, ни с исполнителями, ни с болельщиками.
Даром это не проходит ни для кого.
Поэтому я и считаю, что применение смертной казни не имеет смысла, если существует другая возможность спасти окружающих.
Алла Борисовна
Память человека имеет свойство убирать в свои дальние кладовые такие вещи и события, которые могут вызывать ненужную тревогу и огорчения. Наверное, это защитная реакция организма.
За долгие годы пребывания в лагере я тоже забыл массу не очень нужных мне вещей и спокойно обходился без них – и в жизни и голове. Но три вещи занозой сидели в моём сознании и, если и не мешали жизни, то устойчиво напоминали о её ущербности.
Я больше семи лет не видел детей, не смотрел телевизора и не ел настоящей жареной картошки по-украински, на сале с луком и шкварками.
Мальчика я встретил в нашей парикмахерской и даже погладил его по голове.
Картошку со шкварками мне специально организовали друзья, нажарив её на сале со свежим луком, а не сушёным, которым обычно нас кормили.
С телевизором проблема была куда сложнее, потому что инструкциями его наличие в системе не предусматривалось.
Но когда я впервые оказался в маленькой конторе на лесобирже десятки, куда меня пару дней назад доставили по этапу, о таких глупостях, как телевизор, я и думать забыл.
В небольшом кабинете сидело человек пять заключённых, и вели обычный для такой ситуации трёп, когда входная дверь резко отворилась, и на пороге появился невысокого роста офицер с майорскими погонами и форме конвойных войск.
Все, естественно, встали, полагая, что он пожелает сесть, и для этого захочет взять чей-то стул. Но майор, кивнув в знак приветствия, оглянулся, увидел в углу деревянную урну, перенёс её к столу и, усевшись на неё, стал о чём-то тихо разговаривать с пожилым вольным десятником по фамилии Гус. Поговорив пару минут, офицер, так же кивнув присутствующим, вышел из кабинета, поставив урну на место.
За свой долгий срок я видел немало офицеров разных званий и должностей. Большинство из них были нормальными людьми без патологических отклонений. Но такой простоты и беспечности я у офицеров никогда не отмечал, потому что расслабляться с урками не рекомендуется, как не рекомендуется этого делать и в гражданской жизни с обычными людьми, чтобы потом не чесать удивлённо свой затылок.
Однако в жизни я уже кое-что соображал, а потому сразу понял, что так может вести себя только очень сильный и уверенный в себе человек, без всяких заморочек и комплексов.
Жулики мне объяснили, что это командир батальона охраны майор Болдин, мужик крутой, но справедливый и порядочный. Рассказали даже историю, как на разводе он подрался, на равных, с одним из заключённых по кличке Вовча и, несмотря на полученный синяк, не позволил наказать драчуна, хотя жизнь заключённого находится полностью во власти конвоя.
Вовча – сорокалетний бесшабашный ростовский босяк и хулиган, провёл половину жизни в лагере и действительно, как он мне сам потом рассказывал, его бурную биографию украшал и такой случай, которым он очень гордился, потому что не каждому после подобного приключения удалось бы остаться живым и здоровым.
Прошло уже около месяца, как я возглавил производство на лесобирже, когда меня разыскал майор Болдин для серьёзного, как он сразу сказал, разговора.
– Марк Михайлович – сказал он после приветствия и дежурных фраз – я знаю, какой на бирже бардак и недостача, но попробуй подумать, может быть, ты сумеешь хоть немного мне помочь. Уже три месяца никто не может решить проблему. Начальство поручило построить в батальоне теплицу, чтобы выращивать овощи для солдат и офицерских семей, но никаких фондов и денег не даёт. А так просто никто ни доски, ни бруса не отпускает, потому что и без этого огромная недостача. Мне для начала хотя бы кубометров пять-десять. Я готов заплатить и деньгами и продуктами и водкой. Что скажешь, то старшина и привезёт. Подумай, помоги, ну очень тебя прошу.
– Василий Николаевич, пускай ваш старшина привезёт спецификацию, а я всё сделаю и ещё дам пару машин для обмена на стекло и цемент.
– Ну, слава Богу! И что я буду тебе должен? – спросил комбат.
– Да, ничего мне не надо, у меня всё есть, спасибо – и я повернулся, чтобы уходить.
– А в твоём деле написано, что ты хитрый и корыстный человек.
– И правильно написано. Только у нас с тем, кто писал, разные представления о корысти. Для него корысть – это взять и водку и деньги, а для меня – заслужить уважение человека, который мне нравится.
Василий Николаевич посмотрел на меня с интересом, потом улыбнулся и, молча, протянул руку. Мы обменялись крепким рукопожатием.
Маленький, пожилой и шустрый старшина батальона, прапорщик Сидун толково и расторопно руководил немалым подсобным батальонным хозяйством, где выращивались и свиньи и куры и даже несколько коров. Мы сразу поняли друг друга, друг другу понравились и, как это обычно бывает у нормальных людей, подружились навсегда.
Я всё сделал по их заказу, и ещё добавил доски для обмена с другими организациями на нужные материалы и оборудование.
С комбатом мы иногда виделись, говорили о строительстве, работе и других пустяках. Пару раз он приглашал меня пообедать в конторе с принесённым им коньяком и закуской.
Наши отношения были просты и доверительны. Такие отношения иногда складываются между заключёнными и представителями руководства.
Они, как правило, достойны и деликатны. Офицеру не придёт в голову спросить уважаемого им зэка, откуда в зоне водка, как и зэк не станет спрашивать офицера о системе охраны. Эти темы не пересекаются, иначе отношения исчезают, или превращаются в дешёвый жандармский фарс. Уважающие себя люди такого в общении не допускают ни в лагере, ни на воле. Есть запретная территория, куда приличным людям вход запрещён. И неважно, ты зэк, или министр.
Теплицу благополучно построили и, не знаю, как на солдатских столах, но у офицерских жён свежие овощи стали появляться.
Однажды в разговоре с комбатом я обронил фразу, что уже тысячу лет не видел телевизор.
– Сегодня я тебе вечером телевизор организую – пообещал комбат.
На подходе к жилой зоне, после съёма, меня отвели в сторону, и сержант сказал, что часовой доставит меня на территорию батальона.
Рядовой восточной наружности пошёл в сторону штаба батальона, а я, не торопясь, поплёлся за ним.
В кабинете комбата находилось четыре офицера.
На столе стояло четыре бутылки коньяка, десяток свежих огурцов и две открытые банки свиной тушёнки.
После того, как офицеры допили коньяк, а я, только пригубив, съел половину тушёнки и огурцов, пришедший из санчасти фельдшер увёл меня смотреть телевизор.
В санчасти я устроился на больничную кровать и уставился в телевизор, не веря в свершившееся чудо.
Программа была одна, но меня всё равно радовали и сводки с полей, и успехи нефтяников, и достижения космонавтов.
А потом запела Алла Пугачёва. Это имя я помнил с 1966 года.
Я часто вспоминал эту робкую, симпатичную девочку, и очень жалел о том, что у неё не задалась карьера.
Потому что она подарила нам пару чудесных песен, одну из которых я часто напевал вместе с девчонками из института по дороге с занятий:
Робот! Ты же был человеком, Мы бродили по лужам, В лужах плавало небо.Это были не те зубодробильные комсомольские песни, которыми нас кормили по радио. Нет! Эти песни перекликались со стихами молодых поэтов, которые переворачивали сознание и звали куда-то в неведомое и свободное:
Что – то физики в почёте, Что-то лирики в загоне, Дело не в сухом расчёте, Дело в мировом законе…Жалко было девочку с запоминающейся фамилией и приятным голосом.
И вот я, к своей великой радости, почти через десять лет, снова её слышу и вижу. Победившую на каком-то фестивале. Бойкую, красивую и счастливую.
– Ай, да умница! Ай, да молодец! Ну как мне не верить в чудеса и в своё светлое будущее. Вот тебе и телевизор. Вот тебе и Пугачёва. Из прошлого. Из небытия. Ура!
Радио в зоне включалось утром и вечером под надзором замполита. Больше крутили местный магнитофон, чем включали центральные программы.
Я до сих пор не могу слышать, в общем-то, неплохой ансамбль «Песняры», потому что пару лет просыпался под одну и ту же их песню:
Любая Алёна я ж вады баюсь, Пацалуй спачатку, бо я утаплюсь.Мои познания в современной музыке отставали на века. Потом я слышал Пугачёву несколько раз по радио. А после уже слышал и видел её много и часто.
Как-то так получилось, что моя вольная жизнь, моя любовь, моя учёба и карьерные успехи продвигались вместе с успешной карьерой теперь уже Аллы Борисовны Пугачёвой. И я считал её для себя талисманом, молясь за её здоровье и успехи.
Через много лет после памятного просмотра телевизора я, по дороге на юг, решил заскочить в Орёл к моему верному товарищу подполковнику Болдину, с которым мы навсегда подружились на севере.
Он командовал какой-то учебной частью и был доволен жизнью.
Вечером, в ресторане, которые я терпеть не могу из-за шумной музыки, девушка на сцене негромким голосом пела песни из репертуара Пугачёвой. Чем-то она мне напоминала Пугачёву-девочку из моей далекой юности…
Я много раз уже слышал эти песни, но девушка так проникновенно их исполняла, что я, вопреки своим правилам, заказывал ей песни ещё и ещё. Потом мы простились в аэропорту и расстались под впечатлением и обаянием пугачёвских песен. Вот так, я и продолжаю жить, наблюдая за карьерой и успехами Аллы Борисовны Пугачёвой.
Я верю в свою звезду, как и в звезду любимой мной великой певицы, которая в трудные для меня дни подарила мне надежду.
Кому на Руси жить хорошо
Хорошо тому живётся, У кого одна нога, Тому пенсия даётся, И не нужно сапога. Частушка советского времениВыдающийся советский офтальмолог Святослав Фёдоров рассказывал в середине восьмидесятых по телевизору о том, что незрячие инвалиды из «Общества слепых» отказываются от операций по восстановлению зрения, чтобы не потерять положенные слепым выплаты и льготы.
Юрий Иванович Долгополов не имел левой руки, но это его никогда и нисколько не огорчало. Он был уверен, что будь у него обе руки, он давно бы уже погиб или умер от голода. А так, отсутствующая рука была ему пропуском в разряд льготников, и это выручало его на протяжении всей его нелёгкой жизни.
Руку он потерял в сорок втором, в танковом бою, за два часа до плена. Немецкий врач, без наркоза, отрезал всё то, что раньше называлось рукой, и Долгополов отправился с колонной пленных на станцию, откуда их отвезли в рабочий лагерь под Киевом.
За войну Юрий Иванович сменил много лагерей, и везде ему находилась работа для одной его руки. То он таскал уголь в кочегарку, то воду на кухню, то колол одной рукой дрова, и везде ему что-то перепадало сверх скудной лагерной пайки.
После освобождения из плена, его, прямо из Германии, отправили на Колыму, где он тоже все просиженные восемь лет прибивался то к бане, то к кухне, то к санчасти, но ни разу его не отправили на общие работы, где помирали от голода и холода его земляки и товарищи.
Освободили его сразу после смерти Сталина, и Юрий Иванович уехал к себе в село в Херсонскую область, откуда он, двадцатилетний тракторист-комсомолец добровольцем ушёл на войну.
Юрий Иванович женился, нарожал детей, обзавёлся хозяйством, и был доволен своей жизнью, пока не случился пожар на зернохранилище, а его, сторожа, начальство застало спящим и не очень трезвым.
Комиссия обнаружила хищение и умышленный поджог, а потому Юрия Ивановича осудили на четыре года и отправили в колонию строгого режима, как ранее судимого.
Было, конечно, обидно и неприятно, но Юрий Иванович надеялся, как и прежде, перекантоваться пару лет где-нибудь при кухне или бане, да и уйти по половинке домой, благо статья у него не тяжёлая.
Попав на зону в центре города Винницы на Украине, он с удивлением обнаружил, что там, кроме него, таких инвалидов больше сотни.
А, значит, на всех кочегарок и кухонь не наберётся.
– Ну, буду тогда сидеть в жилой зоне и плевать в потолок – решил для себя Долгополов.
Однако вскоре он понял, что никто не позволит ему бездельничать, и что все инвалиды колотят ящики почти наравне со здоровыми работягами, потому что по закону 3-я группа инвалидности является рабочей.
Другое дело, что на воле, каждый инвалид может подыскать себе посильную работу. Но в лагере таких работ 2–3, а инвалидов набралась почти сотня, потому что собрали их по всей Украине.
А на каждого заключённого спущен план, и будь добр начальник колонии выполни и отчитайся. А не то положишь погоны и партбилет. И в лучшем случае, загонят куда-нибудь на север.
Самая лёгкая работа бить ящики. Но как одноруких и одноногих можно заставить это делать?
Начальник колонии, бывший фронтовик, отказался издеваться над инвалидами. Тогда управление прислало заместителем начальника по режиму ретивого капитана, который заявил, что у него мужики и без обеих рук будут давать по две нормы.
Он собрал всех безруких и безногих и объявил, что все, не выполнившие норму, будут ночевать в изоляторе до тех пор, пока не собьют в день 32 ящика, что и составляет 80 %. Это и так для них большая льгота.
Переночевав пару недель в холодном и голодном карцере, безрукие инвалиды приспособились работать и выполнять план.
Однорукий сбивщик ящиков набирал в рот десяток гвоздей шляпками наружу и, держа в руке молоток, брал щепотью гвоздь и, прижимая шляпкой к рукоятке молотка, вгонял его в дощечку. Гвоздь стоял. Затем с одного удара он забивался по самую шляпку.
Из управления стали ходить проверяющие, и удивляясь такой прыти и виртуозности, доложили в Москву, что есть возможность распространить такой опыт на всю страну.
Но научиться работать одной рукой было ещё полдела.
Главная беда была в том, что заготовки для ящиков поступали нерегулярно и в недостаточном количестве. Хозяйство было плановым, а потому дефицит тарной дощечки был такой же, как и остальных изделий и товаров в стране.
Поэтому главной задачей для инвалидов стала заготовка сырья, которое периодически подвозилось на автомашине.
Сначала нужно было эту машину не прозевать, а потом взобраться на неё и, выбирая нужные пакеты заготовок, сбрасывать их напарнику, который сложит их в кучу и сохранит до прихода товарища. Происходили настоящие сражения, которые ежедневно заканчивались чьим-то падением с кузова и разбитыми лицами.
Позже бригада разбилась на звенья по 4–5 человек, и это уже была сила, способная и заготовить сырьё и защитить себя.
Основная масса как-то приспособилась к существующим условиям, а кто не вписался, то пошёл по кругу лагерных мытарств с изоляторами, БУРами, потерей оставшегося здоровья и, конечно же, права на досрочное освобождение, что тоже для немолодых семейных людей дело не последнее.
Вот в такую бригаду и определили Юрия Ивановича Долгополова, которого сразу все стали называть «Долгорукий».
Поскольку Юрий Иванович не нашёл среди бригадников земляков, то первое время ему пришлось работать одному, что сделало его жизнь невыносимой с самого первого дня.
В конце смены у него было разбито лицо и болела спина от падения с кузова. Сбил он всего шесть ящиков, и был предупрежден начальством, что норму он может не выполнять только одну неделю.
Но к концу недели у него получалось не больше десяти, хотя сбивку он почти освоил. Но нужного количества сырья добыть он не мог, несмотря на то, что бывал каждый день избит до крови.
Шагая всю ночь от холода по камере сырого изолятора(а топить должны были начать только 15 октября, через неделю), Юрий Иванович проклинал свою судьбу за то, что война отняла у него руку.
Ели бы он потерял ногу, то сидел бы сейчас на стуле и колотил ящики двумя руками, а сырьё ему подвозили бы к рабочему месту на тачке. Такая вот была льгота у безногих инвалидов.
А потому это была самая привилегированная публика в лагере, которой, не спавший третью ночь из-за немыслимого холода, Юрий Иванович завидовал, как он никогда и никому не завидовал.
С добрым утром, тётя Хая!
Кто не знал в начале семидесятых в Одессе Сеню Шмушкиса, тот в Одессе не жил. Тот в Одессе прозябал. А кто в Одессе прозябал, тот просто не имел возможности иметь такое счастье, как знать Сеню.
Сеня не ходил по улицам пешком, его нельзя было встретить в шумных цехах канатного завода, и он никогда не появлялся на стапелях судоверфи Одесского торгового порта.
Сеня был завсегдатаем лучших одесских ресторанов, ипподрома и тайных публичных домов, коими Одесса славилась всегда.
В друзьях у Сени были самые уважаемые люди Одессы и их жёны, потому что Сеня мог всё. И даже чуточку больше. И ещё чуть-чуть сверху.
Кроме всевозможных услуг, уважаемые начальники и их жёны могли получить у Сени неограниченный кредит, который не обязательно надо было возвращать.
– Какие между друзьями могут быть счёты? Я вас умоляю. Оставьте у себя этих пару копеек.
От всех этих друзей, особенно тех, которые были поставлены следить за соблюдением социалистической законности на вверенной им территории, требовалось всего ничего. Просто не обращать внимания на Сеню и его тайную жизнь, о которой знала вся деловая Одесса.
Сеня контролировал «левую» трикотажную промышленность области, что приносило ему доход, о размерах которого он имел весьма смутное представление. Но, как любили говорить одесские шутники: «Всякому овощу – свой срок».
В журнале «Огонёк» появляется пространная статья с множеством подробностей и фактов, которые впоследствии и легли в основу уголовного дела.
Друзья сделали всё возможное, и Сеню не расстреляли, что могло очень даже запросто случиться. Они заботились о Сене и на протяжении всего срока, который он отбывал в украинских колониях.
Сеня усвоил уроки своего папы, знаменитого одесского ювелира, которого Советская власть неоднократно обирала, и сдал государству весьма незначительную часть своих украденных у родной страны сокровищ, рассовав их предварительно по своим многочисленным родственникам, от Одессы до Биробиджана.
А поскольку исторически сложилось так, что в еврейских семьях не очень принято пропивать или растрачивать чужие деньги, то Сеня смело мог считать себя состоятельным человеком.
К его чести нужно сказать, что и вся его многочисленная родня тоже не бедствовала.
Честно отсидев свою десятку на Украине, Сеня вышел на поселение и был отправлен на север, где я и имел счастье с ним познакомиться.
Это был высокий сорокалетний красавец с квадратным подбородком и исключительно честными глазами, какие и могут быть только у профессионального жулика.
Через пять минут после того, как нас представил друг другу его начальник полковник Седых, я уже читал, любезно предложенную Сеней, статью из Огонька, чтобы, по мнению её героя, я имел представление, с кем имею честь знаться и, соответственно, проникся уважением.
Полковник Седых сказал, что Семён Борисович будет заниматься снабжением, и попросил, по возможности, ему помогать. С полковником нас связывала многолетняя взаимная симпатия, и я пообещал ввести Сеню в «круг».
Несмотря на то, что Сеня не имел права покидать район Управления МВД, начальство посылало его в разные концы страны, чтобы он «решал вопросы. Он даже однажды три дня пробыл в Москве, где вместе с заместителем начальника Управления защищал фонды на следующий год. У него сохранился паспорт старого образца и набор всевозможных документов, которые он предусмотрительно не сдал при аресте.
Сеня говорил:
– Пока я за ними вожу портфель с деньгами, они меня будут катать везде.
Однажды я встретил Сеню в городе Ухта в вестибюле гостиницы Тиман, где я проживал, пока сдавал зимнюю сессию.
Он поведал мне, что его послали к газовикам и нефтяниками, чтобы он купил у них полушубки, которые в МВД были положены только конвойным войскам. Деньгами нефтяников не удивишь, и Сеня привез с собой десять круглых жестяных килограммовых банок чёрной икры.
По гостинице он шатался вместе с местной знаменитостью, режиссером из Душанбе по имени Алишер. Каким-то образом тот застрял на севере и был кумиром местных наиболее энергичных и свободолюбивых девчонок.
Когда Сеня перекладывал в номере в очередной раз свой чемодан, одна из банок упала на пол ребром и не желала больше закрываться.
Дарить такую банку было невозможно, и Алишер предложил спуститься в ресторан и выпить водки под эту банку.
Они спустились в ресторан вместе с молоденькой девицей по имени Марина, и подсели за столик к мужику, у которого на груди светилась звезда Героя Социалистического труда. Героев на севере немало, и ничего удивительного в этом не было.
Оркестр, заметивший Сеню, прекратил играть танцевальную мелодию, и заиграл для Сени зажигательную «С добрым утром тётя Хая», зная, что пять рублей за это Сеня пришлёт с официанткой.
Они уселись за стол, освободили фруктовую вазу и выложили в неё, на глазах изумлённого героя-нефтяника, килограмм чёрной икры.
Затем Сеня подозвал официантку и, положив ей в карман фартука четвертной, сказал, вспомнив своё одесское барство:
– Вот что, Цыпа, нарежь нам буханку черного хлеба, только мягкого, и принеси килограмм масла и кастрюлю варёной картошки. И водки.
– Сколько?
– Сколько донесёшь. Стой! Отнеси сотку оркестру, пусть играют только мою музыку, а десятку дай Паганини, чтобы приходил сюда за столик играть.
Через пару часов девица Марина за столиком с трудом пыталась удержать равновесие, а мужик-нефтяник нёс всякую околесицу.
И только два наших героя-красавца ещё как-то терпимо держались под еврейскую музыку и рыдания скрипки.
Наконец, с помощью двух парней из оркестра Марину и Ивана Николаевича, как представился нефтяник, утащили в его номер и расположились на отдых рядом за столом.
Закуривая сигару, Алишер достал огромный пистолет-зажигалку, и, прикурив, положил его на стол.
Вышедший из туалета нефтяник, увидев пистолет, перепугался, но Алишер его успокоил, сказав, что они не бандиты, а сотрудники английской военной разведки, прибывшие в Ухту с целью прекратить добычу тяжёлой нефти, путём подрыва шахтного комплекса.
А спящая девушка никакая не Марина, а английская радистка по имени Кэт Гамильтон – капитан отдела диверсий Ми-5.
Поигрывая у носа Героя Социалистического труда пистолетом, оба проходимца начали вербовать несчастного пьяного мужика, а убедив сотрудничать, заставили написать расписку, что он готов к службе в Ми-5 за три тысячи рублей в месяц и банку чёрной икры.
В перечне его заданий было составление карты месторождений, кража платёжных ведомостей с нефтепромыслов и убийство председателя профсоюзного комитета. Мужик, не переставая пить, на всё соглашался и, подписав бумагу, рухнул на пол прямо у стола.
Наржавшись вдоволь над своим остроумием, несостоявшиеся агенты уложили мужика рядом с девицей и отправились спать.
Наутро, привыкший просыпаться рано, независимо от количества выпитого накануне, мужик встал и увидев незнакомую женщину рядом с собой, а также огромный чёрный пистолет на столе, сразу всё вспомнил и запаниковал.
Кое-как одевшись, он выбежал из номера и, проскочив мимо оторопевшей дежурной, помчался прямо в милицию сдаваться.
Выслушав такой бред от, не вполне трезвого человека, который представлялся не иначе, как кавалер Золотой Звезды, дежурный майор отправил, на всякий случай, наряд в гостиницу, который привёз всю честную компанию в дежурку.
Расписку о сотрудничестве отыскали в номере у Алишера в урне, а пистолет так и лежал на столе. Девицы в номере не было. Она исчезла вместе со звездой героя.
Когда я подошёл к дежурному администратору, чтобы оставить ключ, то услышал от неё дикую историю об английской разведке и аресте моего близкого знакомого.
Я позвонил своему приятелю – директору кирпичного завода, и мы, прихватив по дороге помощника городского прокурора, отправились в милицию.
Ко времени нашего приезда расторопный майор уже выяснил, что Алишер находится во всесоюзном розыске и закрыл его в обезьянник.
Найдя у Сени волчий билет поселенца, майор тоже не был расположен миндальничать И тут подоспели мы.
Переговоры закончились тем, что вернули Сене только удостоверение поселенца взамен на четыре банки икры.
– И чтобы нашли звезду, иначе дело так не закончится – предупредил майор.
По банке икры получили директор и помощник прокурора, а Сеня остался почти без икры и без денег в моей компании и мужика-нефтяника, который требовал назад звезду.
Появилась Марина и сказала, что отдаст звезду за две банки икры, так как её всю ночь использовали.
Сеня пытался возражать, но она безапелляционно заявила:
– А я не виновата, что вы все кастраты.
Увидев, как легко Марина приобрела икру, нефтяник, прикрепив к пиджаку звезду и окончательно осмелев, заявил, что согласно его расписке, ему тоже полагается банка икры.
У Сени, от такой наглости, отвисла челюсть.
Он попытался вступить в спор, но я твёрдо ему сказал:
– Отдай Сеня, спокойней будет.
Икры у Сени больше не осталось, но и, слава Богу, претендентов на неё тоже не было.
Сеня сидел опустошённый и раздавленный.
– Сеня, пойдём в ресторан, хоть поедим и отвлечёмся.
В ресторане никого не было, и только на эстраде пианист что-то репетировал на рояле.
Увидев Сеню, он во всю мощь своего инструмента заиграл «С добрым утром тётя Хая».
– Марк! Держи меня, или сейчас здесь будет море трупов – заорал Сеня.
Обед был испорчен.
Вор – имя существительное
Господи! Если бы кто-нибудь только знал, как я не люблю Москву. Эту суету, толчею, спешку и равнодушие, которые даже соображать мешают. Если бы не дела, никогда бы сюда не приезжал.
Но больше, чем Москву, я не люблю москвичей. Это ещё из лагеря.
За все мои двенадцать лет я дружил только с двумя москвичами. С другими же москвичами мне всегда было сложно, потому, что они считали, что знают обо всём на свете. А это не только скучно, но и опасно, ибо они вечно попадали в какую-нибудь халэпу, как говорят на Украине о неприятных приключениях.
Потом, уже на свободе, я встречал много достойных и интересных москвичей, но внутри навсегда осталось лагерное представление о них.
Но больше, чем Москву и москвичей я не люблю вечерние рестораны.
И когда мой приятель Аркадий, вместо картошки с селёдочкой под пиво и хорошую беседу дома, предложил поехать в крутой ресторан на его новой «Волге», восторга я не выразил.
Ресторан оказался действительно неплохим, и кормили вкусно, но то, что происходило на эстраде, повергало меня в уныние.
Четыре девицы в купальниках совершали телодвижения, а долговязый парень в канотье сопровождал этот странный танец приблатнёнными песнями.
Я эти песни и в лагере не слушал, а слушать их на воле совсем уже лишнее.
Самым неприятным было то, что музыка и пение заглушали наши разговоры.
За моей спиной сидели две семейные пары, по виду учёные или крупные начальники.
Наконец музыка затихла, и сидящий за мной человек, подозвав официанта, сказал:
– Землячок, будь добр, передай этому Карузо четвертак, пусть прекратит петь эту лабуду.
Текс, интонация и порядок слов выдавали бывалого сидельца. Да и голос показался мне знакомым. Я оглянулся. Это был Саша Дубина. Он тоже узнал меня.
Мы обнялись и вышли в фойе поговорить.
Аркадию и его жене я представил Сашу как учёного-физика из Дубны.
Саша сказал, что его четвертак закончился уже давно, и он с тех пор живёт в Москве, имеет цех ширпотреба при психбольнице. Чахотку подлечил, женился. Так что всё терпимо.
…Туберкулёзный барак стоял в углу жилой зоны, и был огорожен колючей проволокой. Несмотря на открытую калитку, движение через неё было небольшим, потому что остальные сидельцы, да и надзор с охраной, ходить сюда опасались, боясь заразы.
Но уважающие себя парни ходили без всякого, потому что такие мелочи как заразные болезни не входили в перечень их забот и опасений. К тому же пренебрегать хорошими людьми из-за их заболеваний для путёвого хлопца немыслимо.
В кругу чифиристов мог сидеть и «тубик» с кровохарканьем, и сифилитик с язвой на губе. Банка с чифиром шла по круги без всяких задержек.
Причисляя себя к определённому кругу, я тоже придерживался присущих этому кругу правил и норм, а потому пропадал у тубиков довольно много, потому что обзавёлся там и друзьями, и приятелями.
Жил барак весело и сытно. Крутились большие деньги, водка и анаша. Дым стоял коромыслом, но только настоящий дым и мешал мне, потому что за всю мою жизнь курить я так и не научился.
Почти каждый день кто-нибудь умирал, но это никого не отвлекало от дел, коими каждый был занят. Повсеместно шла игра в карты и нарды, рекой лилась водка и ходили по кругу полулитровые банки с чифиром. Весело…
Саша Дубина держался особняком. Не то, чтобы он отделялся от компании.
Это было невозможно. Он просто внутренне был закрыт. Не смеялся, а улыбался. Не кричал, а тихо и неторопливо говорил. Выглядел он очень представительно. Был высок, красив и прекрасно сложен.
Уже потом, много позже, я понял, что он походил на актёра Михайлова из фильма «Мужики».
Рассказывали о нем легенды. В прошлом вор, один из самых авторитетных, в стране. До сих пор не написал отказа. Скрывается за болезнью и не лезет в калашный ряд. Считает себя обычным мужиком.
Говорили еще, что на нём немереное число трупов, то ли сорок, то ли пятьдесят, после «сучьей войны», поэтому ему не приводят срок в соответствии с указом от 1961 года, когда на усмотрение администрации четвертаки снизили до пятнадцати.
А ещё рассказывали, что Саша Дубина разоблачил и подвёл под нож авторитетнейшего вора по кличке Дипломат, которого боялся весь Север.
Сам Саша о себе ничего не рассказывал, но о нём постоянно шептались и жулики и администрация.
На момент нашего знакомства сидеть ему из двадцати пяти оставалось лет пять-шесть.
Подружились мы по-настоящему на больничке, куда я попал с язвой, а Саша периодически подлечивал лёгкие. Гуляли мы часами по дорожке, обсуждая житейские дела и вселенские проблемы.
Однажды я предложил ему написать в Москву пару кляуз, чтобы попытаться сократить хотя бы пару лет из его срока.
– Ты не представляешь, что у меня там понаписано. В Москве в обморок упадут. Хоть бы по концу срока отпустили.
– На тебе действительно висит гора трупов?
– Вагон и маленькая тележка. Как-нибудь расскажу.
Но рассказать не получилось. Сначала не было настроения, а потом забыли.
Уважающие себя люди не очень любят копаться в чужом прошлом. И без этого понятно с кем имеешь дело. А любопытство не самое почитаемое в лагере человеческое качество.
…Теперь же мы сидели в вестибюле московского ресторана и нас уже не связывали никакие лагерные порядки и нравственные установки. Мы были два уважаемых, неплохо обеспеченных, гражданина, обременённые обычными житейскими и семейными заботами.
Я уже начал делать свои записи в тетрадях, а потому деликатно напомнил Саше его давнее обещание рассказать о своих приключениях в эпоху «сучьих войн» в послевоенное время.
И Саша начал свой рассказ:
– За всю свою жизнь я не только никого не зарезал, но и не украл ничего.
Я работал учеником токаря на заводе после школы и, как все городские пацаны, шкодничал по Москве. Однажды, после очередной драки, мой дружок стянул с пьяного часы и забрал бумажник. Мужик оказался полковником авиации.
Нас четверых повязали и дали от десяти до двадцати пяти.
Мне одному из всех уже было восемнадцать, поэтому и дали больше всех, хотя ни часов, ни денег я и не видел.
Ещё в тюрьме я прилепился к ворам. Во-первых, к кому-то нужно было примкнуть, чтобы уцелеть, а во-вторых это были москвичи из нашего района. За них и держался. Приняли меня уважительно, потому что держаться достойно я умел. На зоне тоже был с ворами.
Когда на Микуньской пересылке менты стравили воров с суками, и сук перерезали, воры отправили меня и ещё одного парня, тоже с четвертаком на вахту, чтобы менты могли закрыть дело.
А то могли выдернуть любого. А нам терять нечего. Просто добавят снова до двадцати пяти.
У самих воров статьи, обычно, были лёгкие и срока небольшие.
– Идёшь на этап вором – сказали мне на сходке.
И хотя я ни по каким данным и понятиям на вора не тянул, к этому времени воров уже так потрепали, что было не до особого выбора. Я был уважаемым в воровской среде парнем, хвостов у меня не было, и был, что называется, крепким мужиком. Так я стал «вором в законе».
В те времена у ментов была практика, долго на одной зоне людей не держать, поэтому я кочевал по зонам, везде имея хороший воровской авторитет.
Однажды я попал на воровскую зону, где было человек двадцать воров. В основном молодняк. Из старых воров были только двое: парализованный дед, по кличке Старик и сорокалетний москвич по кличке Дипломат. Старик лежал в санчасти в отдельной палате, а Дипломат вершил на зоне все дела. Был он не по делу и беспричинно жестоким.
Любая сходка кончалась чьей-то смертью. Он так мог убеждать, переворачивать разговор и загонять в угол несогласных, что ему почти всегда уступали, чтобы самим не попасть под нож.
Старик, у которого в палате обычно и собирались, бросал свою палку от злости и возмущения, но ничего не мог противопоставить искусству и жестокости Дипломата, который, почти всегда, требовал чьей-то смерти.
Я тоже старался не высовываться, потому что красноречием никогда не отличался, а боялся Дипломата, как и все остальные. Но однажды произошло событие, которое и мою жизнь поставило на грань. Дело в том, что у Дипломата был свой личный «петушок» москвич Славик, которого пользовал только он сам. Никто прикоснуться или обидеть Славика не посмел бы. Обычно Дипломат водил его в баню, где они и запирались вдвоём.
Как-то вечером меня подловил пацан, по имени Дима и сказал, что ему надо со мной поговорить один на один.
От того, что он мне рассказал, я чуть не упал в обморок. Оказывается Славик, с которым Дима дружил ещё в Москве, рассказал ему, что это не Дипломат его имеет в бане, а он Дипломата, который под страхом смерти держит при себе Славика в качестве тайного активного любовника.
Говорить об это Славик боится, так как пока дойдёт до выяснений, его просто зарежут. И он просил Диму рассказать это мне, потому что остальных боится. Дима сам в панике, от того что узнал эту тайну.
Что делать? Рассказать? А вдруг это провокация самого Дипломата.
Промолчать? Тоже спросят. На вора льют чернуху, а я промолчал и не спросил с клеветника. Куда ни кинь, везде нож маячит. Что делать?
Иду к Старику. Рассказал.
– А я-то смотрю, что у него не воровская жестокость. Точно, педераст! Теперь тебе, Дубина, надо всё так обстряпать, чтобы нам всем под нож не подставиться, а то эта сука и с чужого хрена себе прибыль выкрутит.
Короче, собрал я пять человек, кому мог довериться. И договорился со Славиком, что он втихаря откроет задвижку в бане.
Славик сам трясётся. Ему и под нож не хочется и петухом оставаться в глазах всей зоны невозможно.
В общем, тихонько босиком входим в баню и включаем свет.
А Славик как был в позе, сзади Дипломата, так, не вынимая, обхватил его руками и держит. Тот вырывается, извивается, а сорваться не может.
Тогда он поворачивается в нашу сторону и заявляет:
– Вам эти сучьи провокации не пройдут, педерасты!
От такой наглости все растерялись, а Славик разжал руки.
Эта тварь хватает кусок стекла и прёт на нас размахивая. И тут уж я не растерялся, схватил трап с пола и врезал ему по башке.
Принесли Старика из санчасти и тут же, на сходке, постановили: Дипломата резать.
А он очухался и нам заявляет:
– Какие же вы после этого воры, если педераста на сходке обсуждаете, да ещё и резать постановляете. С вас же за это потом воры и спросят.
Мы аж ахнули. И тут, сука, вывернулся. Ну, Дипломат, одним словом.
Что делать?
Старик и говорит:
– Пусть фраера ему по вене какую-нибудь гадость запустят.
Все воры ушли, а пацаны ему керосин со слюной по вене запустили, он и издох.
Вся зона вздохнула с облегчением, а я стал героем лагерных легенд, потому что Дипломата знали и боялись по всему Северу. Вот такие скорбные дела, Марик…
Так закончил Саша свой рассказ.
Мы ещё немного поговорили, выпили на прощанье, обнялись и больше никогда, в этой жизни, не встречались.
Овчарка
Когда она шла по асфальтовой дорожке мимо штаба в сторону санчасти, вся зона замирала.
Выше среднего роста, в строго подогнанной майорской форме, на высоких каблуках, делающих ее вызывающе привлекательной, она не шла, а плыла, пожираемая плотоядными взглядами заключённых, которых она воспринимала не более чем как биологическую массу.
Крашеные в золото волосы и ярко-красная помада на полных губах возбуждали мужской контингент зоны сильнее, чем любая Мэрилин Монро. Она не скрывала, что ей нравится проходить сквозь строй «голодных» мужчин, но никогда и никого своим взглядом не удостаивала.
На приёме в кабинете санчасти, куда она приходила на пару часов, она была сухой, вежливой и профессиональной.
Как правило, в коридоре сидел офицерик, чего в других местах не встречалось.
О её любовных похождениях ходили немыслимые легенды.
Было ли это правдой, или обычным для такой ситуации трепом, неизвестно, но то, что её боялось всё местное начальство, а зэки из-за нее гробились по изоляторам и БУРам было известно доподлинно.
Какие у неё были покровители неведомо, но она ни с кем из начальства не считалась. Это было заметно даже последнему из сидельцев.
После ранения, моя левая рука всё ещё плохо слушалась, болели почки и я, чтобы отмазаться от работы пошёл к фельдшеру на приём.
Больше, чем на день освобождения он не давал, и я вынужден был записаться к ней, понимая, что могу отправиться прямо из её кабинета на «цугундер», как старые урки именовали изолятор.
Она долго читала мою историю болезни, время от времени поглядывая на меня, потом закрыла её и уставилась на меня как на чучело в холле зоопарка.
– Ну, и о чём же мы думали, когда собирались в побег – во взгляде её было любопытство и презрительное недоумение.
– Тогда думал о многом, а сейчас думал бы только о вас – ответил я, не задумываясь, и посмотрел на неё, как посмотрел бы на пожилую учительницу географии.
Это её смутило. Обычно её или боялись, или жёстко хамили. Я же просто разговаривал.
Зона находилась в центре города Винницы, народ сидел малосрочный и, в основном, пришибленный. От разного рода отрицаловки начальство быстро избавлялось, заставляя надевать красную повязку, или устраивая мориловку с последующим этапом.
Я попал туда случайно, из-за ошибки судебной канцелярии. Впрочем, тоже ненадолго. Такие экземпляры, видимо, ей ещё не попадались.
Выглядел я, как студент старшекурсник гуманитарного вуза, ничего уголовного в моей внешности не наблюдалось, вёл я себя просто и естественно, и групповой побег на машине со стрельбой, заложниками и ранениями, о котором гудела тогда вся Украина, со мной явно не вязался.
Но она была дамой не робкой, и смутить её надолго одной фразой было непросто.
– Вы что, так и влюбились в меня с первого взгляда? – разговор был ей явно по душе, потому что казался для неё привычным и беспроигрышным.
– Да, нет, я люблю другую женщину, просто растерялся от вашей красоты, раньше думал, что таких не бывает – говоря это, я был прост и искренен.
– Это я накрасилась – засмеялась она, и доверительно положив на мою руку свою, добавила, – я вам, наверное, уже в матери гожусь – шар покатился в мою сторону, и она ждала, как я выкручусь из её материнской искренности.
– Таких женщин материнство не портит – я смотрел ей прямо в глаза.
– А вы наглец, вам не в то место пуля попала – она вопросительно посмотрела на меня, и мы оба весело рассмеялись.
В кабинет заглянула медсестра, наверное, подумала, что её грозная начальница смеётся от щекотки. Видимо смеялось она не часто.
– Приходите в среду, будем делать руке массаж и подберём процедуры. Придёте?
– Доктор, можно я расскажу вам анекдот?
Она насторожилась.
– Вернее притчу. «Упал грузин в глубокий колодец, никак не выбраться. Проходивший мимо другой грузин спрашивает его: Кацо, ты подождёшь пока я сбегаю в село за верёвкой? Подождёшь? А что же мне де-е-елать? – возопил несчастный».
Она захохотала:
– Я боялась, что вы расскажете пошлый анекдот и всё испортите.
– Может быть я испорчу вам жизнь, но пошлого анекдота вы от меня не услышите.
– А вы опасная штучка.
– Мадам! Я ещё хуже.
– Вы совсем не боитесь меня?
– На ваши погоны мне плевать, а вы, хоть и стерва, но умная, а умным я всегда нравился.
– Другой бы уже сидел за это десять суток, а то и больше.
– Другой бы вам такого не сказал, а не посадите вы меня, потому что вам со мной интересно и приятно – и я ушёл не прощаясь.
Я был доволен собой и предвкушал уже счастливые неприятности.
В следующий раз она была сама обходительность, но я чувствовал, что она приготовилась меня покусать, и был настороже.
– Признайся, что ты всё время обо мне думал? – не глядя в мою сторону, сказала она.
– Ты мне даже приснилась – я отметил, что мы уже на ты.
– И в каком же виде, если не секрет? – посмотрела она лукавым взглядом.
– Не секрет, я читал тебе свои стихи.
– Так ты ещё и поэт – сказала она обречённо, но ехидно.
– Ну, поэт это слишком ответственно для моей легкомысленной натуры, но бабам нравится. И тебе понравится.
– Я разбираюсь в поэзии и сама иногда пишу.
– Если тебе не понравится, то ты меня сегодня не поцелуешь:
Ты оборотнем в жизнь мою вошла, И я, уже предчувствуя опасность, Уверен, принесла тебя метла, Хоть и не верил в эту несуразность…– Ты меня считаешь ведьмой?
– Ну не ангелом же тебя считать?
– Скажи, а какая та женщина, которую ты любишь.
– Настоящая.
– А я!?
– Ты хочешь выглядеть, а она хочет быть. Она меня презирает за то, за что ты будешь любить.
– Ты уже решил, что я тебя буду любить; не много ли берёте на себя юноша?
– Господи! Да мы же с тобой одного поля ягоды. Ты же всю жизнь ждала меня. Только со мной ты и можешь разговаривать как с зеркалом.
– Почему же ты любишь другую.
– Потому, что, в отличие от тебя, я себе таким не нравлюсь.
– А каким ты себе нравишься?
– Ну, не то, чтоб нравился, но терплю себя лагерного, где прежде, чем сказать, нужно крепко подумать.
– Ты хочешь сказать, что со мной ты не думаешь?
– Думаю, но не мозгами.
Возникла пауза. Я спросил:
– Ты не боишься со мной тут долго сидеть, да ещё с лейтенантом в коридоре?
– Это они меня все боятся, потому что я скоро буду женой замминистра.
– Ну, ты, мать, даёшь!
– А что ж? Пора остепениться, у меня уже дочь взрослая.
– И что, твой дурак-министр?
– Зам. Он не дурак, он хороший. Уже десять лет упрашивает ехать к нему в Москву, а я хочу всё официально. Вот он там и крутится с разводом. Слушай, я тебе рассказываю, как будто мы сто лет подруги. С чего бы это?
– Мне женщины верят. Я им не лгу. А во-вторых, вижу их сквозь шелуху.
– И что же ты видишь во мне?
– То, что ты ревёшь ночами в подушку.
– И ты меня жалеешь?
– Ту, которая ревёт. Кстати, как тебе моё стихотворение?
– Проверю, если не содрал, буду должна.
– Обижаешь, мать.
– Ты подчёркиваешь мой возраст.
– Да нет, это я ёрничаю от смущения.
– Я сама себе удивляюсь, я зэков никогда за людей не считала. Я вообще мало с кем по-дружески общаюсь. А тут чёрт те что, сроку конца не видно, а ведет себя, как директор Советского Союза.
– Это потому, что мне терять нечего, и на свободу я любым путём не рвусь. Мне и здесь весело. Скажи, этот лейтенант, не твой любовник?
– А что, хорошенький.
– Ты, даёшь! Ты со мной и спать при нём будешь?
– Ничего, крепче будет любить.
– Ну, ты и курва, как в такую можно не влюбиться? Так и хочется тебя задушить.
– Колготками, я где-то читала. Послушай, а за что у тебя такой срок огромный.
– Да за растрату.
Она обошла стол, наклонилась и поцеловала мой лоб:
Не ври, ради бога… Уходи уже, горе моё.
Когда я вышел в коридор, лейтенант встал.
– Счастливо земляк – по-доброму попрощался я.
Физиотерапевт из городской больницы занимался моей рукой, нефролог лечил мои почки, а в промежутках, мы наслаждались с ней болтовнёй. Наш трёп иногда переходил в нормальный разговор, но долго на нём мы удержаться не могли, и нас всё время заносило на игру, от которой мы начинали уставать.
– Меня вообще-то от мужиков тошнит – сказала как-то она.
– А как же весь этот эротический маскарад?
– Это мой способ жить и добиваться всего, чего хочу; отчим с двенадцати лет приучал меня к этому. До сих пор вспоминать жутко.
– А я, дурак, всё жду, когда ты сама ляжешь.
– Тебе совсем плохо, да? Впрочем, что я, дура, спрашиваю – она выглянула в приёмную, где сидел её офицер Саша, и закрыла дверь на ключ.
Потом стала передо мной на колени и расстегнула мои брюки…
– Ну что легче стало? – она отвернулась к окну, подкрашивая губы.
– Спасибо, ты настоящий друг – мне было неловко.
– Хоть сейчас не издевайся надо мной. Интересно, как ты про себя меня называешь? Наверное стерва или курва? Скажи, мне приятно, когда ты меня оскорбляешь. Курва, да?
– Если бы всё было так просто. У меня и язык не поворачивается тебе сказать.
– Ну, скажи, пожалуйста! Ну, я даю тебе слово, что не обижусь. В конце концов, я сегодня заработала.
– Не забудь, ты дала слово. Овчарка Менгеле.
Она прижалась ко моей спине грудью и положила руки на плечи:
– А что такое менгеле?
– Кто. Это доктор из Освенцима, которого разыскивают все разведки мира.
– И ты меня считаешь такой низкой тварью?
– Я тебя люблю – сказал я серьёзно, а поэтому нам пора прощаться. Буду проситься на этап; к тому же менты меня напрягают насчёт красной повязки. Пока по трюмам не затаскали, надо сваливать.
– Они сделают так, как я им скажу, не волнуйся.
– Не оскорбляй меня, Лена, не могу я жить по милости женщины, даже такого друга, как ты, ещё привыкну.
– Ты впервые назвал меня по имени, Марк! Дождись, хотя бы, пока я уеду в Москву.
– Вот они на мне и отыграются за все свои унижения. Твой Саша первый. А так, я их быстро заставлю от меня избавиться.
– Так они тебя и испугались!
– А я сочиню на них кляузу в КГБ.
– О чём?
– Это неважно. Изощрённый мозг битого фраера придумает такую дурь, что они будут рады на ничью.
– Господи! Как бы я хотела, чтобы ты был рядом. С тобой я пытаюсь себя уважать. Мне так просто и легко с тобой.
– Я не могу быть рядом с женщиной, потому что я мужик, и это она со мной должны быть рядом, а вот помнить и молиться за тебя буду всегда. Может, тебе немного легче будет жить на свете.
Пока гуляла моя жалоба, шли разбирательства, и формировался этап, мы общались почти ежедневно и она меня лечила…
Каждый раз она находила время и возможность «снять с меня напряжение», и каждый раз нам обоим было неловко и как-то стыдно после этого. Любовников из нас явно не получалось. Мешало возникшее между нами доверие.
Я уже сидел в «воронке» для поездки в «вагон-зак», когда меня вытащил наружу конвой и Саша, её лейтенант, передал мне мешок с продуктами, сказав шёпотом, что в мыльнице пятьсот рублей. Больше ни с ней, ни с Сашей я никогда не виделся, но редкий был в моей жизни день, чтобы я о ней не вспоминал по-доброму и с печалью.
…В жалобе, адресованной КГБ, я обвинил начальство колонии в том, что они, наверное, похищают деньги, выделенные на наглядную агитацию, и поручают заведомым бездарям рисовать уродливые портреты вождей революции и членов Политбюро. А враги советской власти устраивают под этими портретами сходки, где издеваются над самым святым, что есть у советского народа. Если не будут приняты меры, я обещал написать в ЦК КПСС.
Приехал из винницкого областного КГБ майор Кронов, и я ему показал действительно не лучшего качества, картины, до которых никогда и никому не было дела. Майор был мужик умный, понимал, что формально я прав, и как ещё на это посмотрит вышестоящее начальство, неизвестно. Он спросил, зачем я гоню эту дуру. Я объяснил, что хочу свалить на этап без приключений.
Он дал мне слово и выполнил его.
А говорят, что от КГБ был только вред.
Воровская честь
«Воровская честь не позволяет»… Это выражение Славка Туляк употреблял довольно часто. Говорили, что в прошлом он был «вором», но уже лет пятнадцать, как жил простым «мужиком».
В брежневское время воров уже не было, и только однажды в туберкулёзном бараке я встретил нескольких воров-прошляков, которые потихоньку вымирали.
Более конфликтного человека, чем Славка Туляк, я в жизни не встречал. Среди уважаемых людей такие – большая редкость.
Славку многие боялись, потому что заводился он с пол-оборота и шёл всегда до конца, что не предвещало оппоненту ничего хорошего.
Во рту у него не было четырёх зубов, которые он сломал, укусив от бессилия, металлическую дверную решётку, когда в БУРе медсестра обозвала его козлом.
В карты с ним играть садились лишь самые отчаянные или глупые, потому что, играя, Славка создавал крайне нервозную обстановку, которая деморализовала партнёра и не давала возможности думать об игре.
Поэтому когда в зоне узнали, что Лев Моисеевич согласился играть со Славкой, в углу у их койки собралось с десяток парней.
Кто-то из интереса, а кто-то и для страховки.
Лев Моисеевич был знаменитым питерским картёжником. Менты пристроили его на пятерик за дела, к которым он имел косвенное отношение. Несмотря на первую судимость, Лев Моисеевич плавал в лагере, как рыба в воде, оставаясь при этом мягким, интеллигентным сорокалетним евреем.
Он был в одной из самых уважаемых и денежных лагерных семей, в которой был и мой душевный приятель Паша Дурак. Мы с ним часто общались, но без особой близости. Увидел же я Лёву впервые, когда он разучивал на гитаре песню Пахмутовой «Постарею побелею, как земля зимой».
У Льва Моисеевича была типично еврейская внешность, дополняемая приличным животом и непомерно длинным носом.
Игра в карты меня интересовала только как результат, который и влияет на жизнь зоны. Карточные долги являются инструментом, дёргая за который кредиторы вершат невидимые, но главные, лагерные дела.
Я лежал в противоположном углу на Пашиной койке и читал журнал «Новый мир».
Игра шла уже около часа, когда Славка, уже проиграв приличные деньги, начал заводиться. Сначала он после очередной неудачи, стал себя «лаять», обзывая погаными словами, типа, «ну я козёл, ну что я за тварь»… Себя в игре лаять можно, это на игру не влияет. Потом он уже стал биться головой о стойку верхней койки, и все уже понимали: сейчас он начнёт лаять Льва Моисеевича, чтобы своим окровавленным лицом и оскорблениями выбить Лёву из колеи и изменить ход игры.
Переход к оскорблению партнёра – самый ответственный момент. Ведь неизвестно, как поведёт себя партнёр, захочет ли он пойти на конфликт и оскорбить обидчика, или промолчит.
Все были в напряжении, потому что за Лёвой стояла его семья, а за Славкой его жестокость, смелость и отчаяние.
И вот когда Славка в истерике, продолжая биться о железную кровать головой, произнёс: «Ну ты посмотри, как этому пидору везёт», он, неожиданно для всех, получил от Льва Моисеевича удар в челюсть и слетел с койки на пол.
Ничего предпринять он не мог, потому что вокруг стояли парни. Да и все понимали, что Лёва кругом прав, и Славке тут ловить нечего.
Лёва был, как всегда, спокоен, а Славка поднялся и, молча, ушёл.
Слух о том, что Лев Моисеевич «посадил, за дело, Славку на сраку» оглушил даже самых непосвящённых. Поскольку у Славки было много недоброжелателей, новость перетиралась без конца. Все понимали, что предпринять Славка ничего не может, потому что мужик он с понятием, но как он сохранит своё лицо в дальнейшем, тоже было загадкой. И как он, при своём характере, сумеет с этим жить, тоже никто и предположить не мог.
Славка почти ни с кем не общался и был весь на нервах.
В принципе, такой случай никак не ронял его лагерной чести – он облаял – ему врезали, – но для Славки это была трагедия, потому что со своим воровским прошлым он носился как дурень с писаной торбой. Только осознание своего превосходства и лагерной безгрешности давало ему опору для жизни и самоуважения.
У меня со Славкой были добрые отношения, и я всегда помнил, как он делился со мной половиной своей дополнительной пайки, которую ему в БУР подгоняли блатные.
Мне, новичку на этой зоне, было сложнее, чем остальным, и Славка всячески меня опекал, выделяя из сидящих «хороших» парней. Со мной это был спокойный и рассудительный человек, мечтавший о нормальной жизни, но не веривший в своё будущее.
После происшествия со Львом Моисеевичем, он стал обходить даже меня, и все мои попытки поговорить, чтобы разложить всё по полочкам и успокоить его, ничего не дали. Жить униженным, даже без всеобщего осуждения, ведь никакого лагерного прокола он не допустил, Славка Туляк был не в состоянии.
По концу месяца Славка заплатил проигранные деньги и пришёл ко мне в барак.
Он вручил мне конверт и сказал прочитать и отдать, кому следует.
– Пока не читай. Узнаешь, когда надо.
Затем он хлопнул меня по плечу и горько улыбнулся.
Часа через два Славку Туляка нашли около кочегарки с заточкой из напильника в сердце.
Мы с Пашей Дураком вскрыли конверт и прочитали слова, написанные детским корявым почерком:
«Менты. Никто не виноват. Я сам. Надоело.
Вячеслав Николаевич Назаров. Туляк».
Под текстом чернел его отпечаток пальца.
Тело его увезли на продуктовой подводе и, говорили, что похоронили на поселковом кладбище.
Вспоминаю я Славку часто, потому что невозможно забыть человека, который делился с тобой своим хлебом.
Каким бы он ни был.
Карьера
Все строительные работы в жилой зоне наша бригада закончила. С понедельника мы – двадцать четыре работяги – отправляемся в рабочую зону. А там уже работают две бригады строителей по пятьдесят человек в каждой. Специалисты не чета нашим. Опытные мужики, в летах.
Настроение наше было, прямо сказать, поганое. Не найдём работы – нас раскидают по другим бригадам. В строительные не попасть, отправят в общие. Хорошо ещё, если в рабочие бригады. На зоне и без нас человек двести безработных.
Я уже год, как руководил бригадой. За это время она превратилась из «отстойника в жилой зоне» в мощный молодой коллектив, где не было ни блатных, ни затюканных.
Парни приобрели специальности, готовы были по моей команде и горы свернуть и морду расквасить. Я отладил всем приличный заработок, хороший быт и защиту от беспредела.
Принял я бригаду, как лучший звеньевой-землекоп.
В зоне никогда не было своей воды. Возили машинами. По два тазика в бане на человека. Все попытки добраться до ключевой воды упирались в проблему грунтовых вод и плывунов. Десять метров, а там сплошной плывун.
Когда я досидел свой БУР и вышел на зону, меня, как склонного к побегу, определили строителем в жилой зоне без вывода на менее охраняемые объекты.
Я копал с ребятами пожарный водоём в мёрзлом грунте, и как-то само собой возглавил звено.
Один мужичонка, в прошлом шахтёр, предложил мне на дне водоёма вырыть колодец по шахтному методу. Когда плывун не даст возможности бетонным кольцам опускаться ниже под своей тяжестью, внизу быстро вычерпать грязь, установить опалубку, вычерпать снова воду, и между стенами опалубки и землёй влить бетон вперемежку с арматурой. Потом опалубку снять, шов заделать – и так повторять до появления ключевой воды.
На шестнадцати метрах пошла хорошая вода, да такая мощная, что парня, который был внизу, еле-еле успели поднять электролебёдкой.
Установили мотор, трубы, и проблема с водой была решена. Водовозки стали возить нашу воду даже в посёлок. Всего мы вырыли вчетвером три колодца.
Зарплату бригадир платил выборочно, исключая мое звено, за что и получил, в конце концов, по голове. Так я стал бригадиром и сумел создать боевой рабочий коллектив.
И вот для бригады наступило время тревог и испытаний.
С утра пришёл в контору на лесобирже. У начальника и без меня дел невпроворот, а тут ещё и в отпуск не отпускают.
Часам к девяти представился. Дескать, из жилой зоны, строители.
– Да, мне Иван Фомич звонил, хвалил и тебя и бригаду. Но у нас не жилая зона. Тут для раскачки времени нет. У меня своих строителей сотня, а вот очистить от мусора и запустить после ремонта площадки с бревнотасками некому. Заелись мои строители. В общем так! Одну бревнотаску будут очищать и готовить люди Чутуева и Пригорницкого, а вторую даю тебе. Сделаешь за неделю – поставлю твою бригаду цех строить. Инструменты попроси у кузнеца, он парень деловой.
Идём смотреть объект работы. Заваленные мусором две площадки для разделки леса, а от них тянутся две двухсотметровые бревнотаски, давно захламлённые корой, ветками, брёвнами и мелким обрезками. Карманы под пакеты для отгрузки под брёвнами и мусором не видны. Работы на два хороших месяца.
На одной из бревнотасок покуривают строители, о которых говорил начальник лесобиржи. Мужики степенные и откормленные. Они – специалисты, обиженные таким заданием. Подхожу к своим расстроенным парням, заведомо бодр и весел:
– Вот что орлы, судьба улыбается смелым. Эти старые пердуны сделают сегодня метров пять, если ещё сделают. А мы должны сделать всё, и утром работу сдать. И тогда мы станем за один день лучше всех, со всеми вытекающими денежными последствиями. Драйзеровский Батлер на мусоре сделал миллионы.
Хлопцы загудели:
– Да тут и сто человек не справится!
– Так у нас же ни инструмента, ни пил, ни тракторов!
Я, молча, выслушал всё то, что знал сам лучше остальных:
– Если бы всё было здесь хорошо и правильно, то на кой хрен мы тогда с вами нужны. Кто не верит в успех – свободен. Уйдёте все, я один справлюсь, а я вас никогда не обманывал. Мы, мужики, пойдём ленинским путём, а что говорил дорогой Ильич? Он говорил, что если власть валяется под ногами, то нужно только нагнуться, чтобы её поднять. У нас она валяется в буквальном смысле. Я вам предлагаю стать самыми нужными начальнику людьми и получить задание строить цех. Обещаю впоследствии, что минимум в месяц по сотне будете отсылать домой и получить назад. А делов-то – всего сутки попахать. Итак, мы имеем одну площадку и на рыло по десять метров бревнотаски. Шурик организует пятьдесят «тюльпанов», что мыкаются без дела по бирже, каждому по три пачки чая и хороший обед. Я приведу двадцать картёжных должников – эти мать родную разорвут на части. Толик Работин в кузню за инструментом: лопаты, крючья, троса и прочее. От моего имени обещай всё, что захочет. Пять электропил дают раздельщики. Трактора с прицепами под мусор от вас не отойдут. Гриня! На тебе все плотницкие дела и механизмы. Умри, но чтобы всё было, как новое. Алик! На тебе все непредвиденные проблемы. Всё, вперёд к победе коммунизма!
И бригаду и помощников нарядчик, по моей просьбе, оставил на ночь.
Ровно в семь утра я с опухшими от бессонницы и пыли глазами ждал в конторе Виктора Григорьевича Паксиваткина, начальника лесобиржи. Паксиваткин, по лагерным разговорам, оттянул свою десятку, но уже давно жил на свободе с женой-бухгалтером и двумя дочками. Он всегда выглядел аккуратно, был высок, худощав и трезв.
Сначала он не совсем понял, чего мне от него надо, и собрался идти со мной к кузнецу выбивать инструменты.
– Да я пришёл за новым заданием, Виктор Григорьевич.
Он не привык, чтобы с ним так шутили, и зло на меня посмотрел. Но я предупредительно честно глядел в его глаза. Нужно было не только сдать работу, но и оглушить его эффектом. Он, молча, встал и пошёл на объект.
Ребята, наблюдавшие за нами, начали спускать, разделанные нами за ночь десяток хлыстов на бревнотаску, и бревна весело ехали в сторону лесозавода.
Паксиваткин полез под эстакаду, но там всё было под метлу. Он залез наверх, увидел новые направляющие, по которым бежали новые башмаки и понял, что мы народ серьёзный. Для большего понта мы ещё побелили все столбы в накопителях.
Затем он посмотрел на сделанное за смену строителями двух других бригад и, ничего не сказав, ушёл в контору. Я, уже не спеша, устало поплёлся вслед.
В конторе с развода уже толпился народ. Виктор Григорьевич всех выгнал из кабинета и оставил только бригадиров строителей:
– Значит так! Чутуев и Пригорницкий, сдайте ему сегодня обе ваши бригады. Завтра выйдете на бесконвойку, и готовьтесь на поселение. С Иваном Фомичём переговорю сегодня на планёрке. Всё!
Так я возглавил коллектив из ста двадцати человек с множеством строящихся объектов и кучей финансовых возможностей.
Бригадиры особо не косились, потому что поселение – это почти свобода.
Через пару дней к площадкам, которые мы всё ещё доводили до ума, подошёл Паксиваткин и, забрав меня, повёл в сторону лесозавода. Дорога была неблизкой, и за время нашего пути я узнал ещё об одной заботе, которая мешает ему уйти в отпуск.
Уже два месяца, как был построен цех технологической щепы. Все механизмы исправны, но есть неразрешимая проблема. План на рубильную машину в три раза больше, чем объём запланированных под неё вагонов.
Щепа – продукт побочный, и лишних вагонов главк никогда не даст.
Поэтому заработков нет, а, поставленные хозяином под страхом карцера работяги, постоянно ломают оборудование.
– Виктор Григорьевич, я заберу завод в бригаду и буду давать мужикам возможность заработать, но вы отдадите мне за это пилорамы и тарные цеха.
– Да, ради Бога, ты только Мишу Барта из десятников не убирай, на нём все мои остатки держатся. Парень он честный, а организатор слабый. Да и блатные его прижимают.
Через три месяца Виктор Григорьевич вернулся с Большой земли из отпуска. Два дня он обходил с проверками всё производство, сверял остатки, оценивал качество, а вечером зазвал меня в кабинет и предложил забрать под себя всё остальное производство.
Так я в двадцать четыре года стал руководить производством в полторы тысячи человек, перерабатывающим в месяц тридцать тысяч кубометров леса. Конечно, там ещё суетились человек двадцать, почти всегда подвыпивших вольнонаёмных.
Правда, пятеро старательно и толково работали, но все верёвочки, благодаря которым держится и живёт лагерное производство, крепко держались моими руками.
Крутились очень немалые деньги и безналичные и наличные, которыми я распоряжался.
К чести руководства колонии и производства, никто и никогда даже не пытался иметь к этим деньгам какое-либо отношение. Теневую жизнь зоны старались не замечать.
Моя блатная семья тоже не вникала в мои производственные дела. Меня даже не пытались просить пристроить какого-нибудь урку. Я это пресекал на корню, спекулируя теми же лагерными понятиями.
– Что же ты за авторитет, если не способен в лагере устроиться за счёт лагерных возможностей? Обыграй, разведи. Заработай, в конце концов. Это всегда срабатывало, хотя, как и в любой жизни, не всё шло по писанному.
Двое из нашей семьи работали: Лёнька Мартыненко был бугром на погрузке леса в вагоны, Толик Рыжий был пильщиком на разделке леса, а Малёк и Япоша были играющими и частенько сидели в БУРе.
Конечно, я помогал и БУРу и нуждающимся блатным, но основные деньги отбирало производство и лагерная жизнь, очень даже беспокойная при своей внешней скучности и заурядности для непосвящённых.
Семья наша была без лагерных хвостов, всегда при хороших деньгах и должниках, которые мечтали, чтобы мы откупили их долги и заставили работать за чай и хорошую еду, не давая опускаться на дно.
За те четыре года, что я руководил лесобиржей произошло немало разных событий, которыми полна бурная лагерная жизнь.
Но, если твёрдо держаться ленинского курса, то все трудности преодолимы.
За други своя
Микуньская пересылка в Коми АССР славилась своей нехорошестью.
Основывалась она в годы войны, когда в срочном порядке строилась железнодорожная ветка Москва-Воркута, чтобы воркутинский коксующийся уголь беспрепятственно шёл в промышленные районы страны.
По мере строительства полотна, территория осваивалась и заселялась. Вдоль дорог и рек создавались, под присмотром местного населения, кулацкие поселки. Местные жители за соль, водку, порох и другие ценности приглядывали за социально враждебной массой. А в начале войны добавили немцев, которые своей родины не видели со времён Екатерины-матушки.
Железная дорога тянулась по болотам и рекам, оставляя за собой города, лесные посёлки, мосты, станции и бесчисленные братские могилы врагов народа.
Рассказывали, что начальником строительства была женщина-полковник; и стреляла она сама с удовольствием в умирающих от голода классово чуждых нерадивых работников. Но это нам доподлинно неизвестно, к середине шестидесятых от нее не сохранилось даже имени.
Пересылка ещё славилась тем, что в начале хрущёвской эры здесь ломали воров и заставляли их писать отказы от званий. Кого не удавалось сломать, опускали или резали, поэтому за пересылкой тянулось сучье прошлое. Но то было более десятка лет тому назад. А сейчас не было уже ни воров, ни сук, а была унылая территория, состоящая из десятка угрюмых бараков, окружённых вышками с замерзающими автоматчиками.
Когда «воронок» выгрузил нас из своего набитого до отказа чрева, за нами хлынул клуб пара из прогретой нашими телами будки. Мороз был под сорок. Наш южный этап не только не видел такого мороза, но даже и не слышал о таком.
– Господи! Скорее бы куда-нибудь…
На одном из новоприбывших зеков были летние туфли.
Всех повели по общим камерам. Меня же, как склонного к побегу, отправили в отдельный барак со штрафными боксами. Пока я стоял в коридоре, ожидая корпусного, из камеры напротив в открытую кормушку высунулась рука, и утробный голос сказал:
– Земеля! А Калинин ещё всесоюзный староста?
– Да нет, – говорю – умер ещё до Сталина, двадцать лет назад.
– Ух, ты!? А правда, что сейчас по радио показывают кино через водяные стёкла?
Я понял, что он прикалывается:
– Земляк, не гони.
– Ну ладно, землячёк, дай тогда закурить!
– Да некурящий я.
Он вытянул в коридор обе руки и завыл дурным голосом:
– Ну, дай же хоть что-нибудь!
Камера была теплая с одноярусными нарами по обе стороны от двери. Под потолком виднелось засыпанное снегом окошко. Напротив, до пола, вглубь уходил какой-то провал, закрытый большой кованой решёткой. Потом я сообразил, что так отгораживали печь. Было жутковато и таинственно, но тепло и уютно. На соседних нарах спал человек, закутавший голову телогрейкой. Время было позднее, и я, стащив сапоги, завалился на теплые, отполированные чужими боками, доски.
Ночью мне приснился серый заяц с короткими ушами, лазающий по моей груди. Под утро он снова появился у моего лица, смешно шевеля усами.
Оказывается, не приснился. Животное сидело на моей груди и внимательно меня разглядывало. По спине пробежали мурашки. Это была огромная серая крыса. Я лежал, не шевелясь, каждую секунду ожидая нападения. Но крыса меня кусать не стала, а по моему плечу переползла к мешку, часть которого лежала под моей головой. Я отодвинулся в сторонку, аккуратно развязал мешок, вытащил булку чёрствого хлеба и, не ломая, придвинул хищнику. Крыса удобно устроилась у буханки и стала неторопливо её грызть. Я снова глубоко заснул, уже до утра.
Окошко было ещё совсем тёмное, а в дверях уже стоял надзиратель и ждал нас с соседом на оправку. Сосед стоял в нательной рубахе и синих спортивных штанах, держа в руках зубной порошок и мыло:
– Давай, Марик, шустрей, а то сейчас молодняк с этапа все дырки и краны позахватывает.
– Вот это да!
Это был мой старый знакомый по Винницкой пересылке Витька Скиданов, с которым мы больше месяца взаимничали. Он был на десяток лет постарше меня, видел-перевидел на своём долгом тюремно-лагерном пути, и был мне мил и интересен. К тому же нас связывало несколько приключений по Виннице. Я даже, в некотором роде, был у него в замазке.
На крытой он большую часть времени провёл по карцерам, а потому дошёл окончательно и весил около пятидесяти килограмм.
Когда мы с ним встретились в пересыльной камере, где кроме нас было ещё человек двадцать, вид у него был настолько жуткий и нежизненный, что молодым зекам было страшно рядом с ним находиться.
Я же после побега выглядел не лучше с простреленной грудью и поломанными рёбрами. Мы отличались от остальной толпы своей терпигорской судьбой и отношением к жизни. На тюремные нары нас обоих привели не преступные порывы, пьянство или привычки, а превратно понятая романтика.
Но, если ко мне, по крайней мере, внешне, тюремная слизь никогда не прилипала, то Витька был по виду и повадкам каторжанином в самом вульгарном понимании этого слова. Руками он постоянно тасовал «одна в одну» колоду карт, профессионально сделанных из газеты, склеенной протертым через носовой платок жёваным хлебом. И, может быть, только я, один из немногих, видел в нём вечного пацана, ищущего приключения.
Мы прожили на винницкой пересылке уже с неделю, когда с очередным этапом пришло трое приблатнённых. По их виду и манерам было ясно, что они сельские фраера и, что понятия у них о лагерной жизни на уровне КПЗ, но гонору и наглости хоть отбавляй. Ребята они были сытые и крепкие.
Они забрались на верхние нары в противоположный от нас с Витькой угол, отправив вниз пару ребят «без никому».
Я что-то, как обычно, читал, когда один из этой кодлы больно дёрнул меня за ногу:
– Зяма, дай почитать чего-нибудь.
Понятно было, что жлобы решили потихоньку всех проверить на вшивость; но намёк на еврейство – не оскорбление. Хлопец с понятием тебе ответит, что он ничего плохого не имел, а ты сам можешь называть его Вася или Петя. Ещё и обвинят в бесплатном наезде. Надо дать ему увязнуть и подставиться.
– Меня зовут Марк Михайлович, – ответил я спокойно.
– Ишь ты комсюк, по имени отчеству его называй, слышал, Паша – это он дружку. Но мы с Витькой понимаем, что клиент уже приехал, и дело техники загнать его под нары без ненужной нам, слабакам, драки.
Мы оба неторопливо, стараясь не наступать на чужие ноги, продвинулись в угол приблатнённых, попросили их вежливо подвинуться и сели ближе к самому главному из них.
– Поговорить надо, землячек – Витька тасует перед ними, «одна в одну» колоду карт из газеты. Так тасовать можно только после пятилетней тренировки под одеялом.
Жлобы уже поняли, что разговор серьёзный и на том уровне, где ничьей не бывает. Слышать-то они об этом слышали с пелёнок. А вот видеть, а тем более участвовать везёт не каждому.
– Откуда вы, землячки, что за народ, куда путь держите, что про вас по лагерям да по крытым хорошие люди могут сказать? Кого из людей знаете. Почему беспределом занимаетесь?
Все трое молчат.
– Кто мы с Марком, вся Украина знает. Я, например, отбарабанил пятерик на крытой в Житомире, а Марик из Шепетовского карьера бежал; ранен, сапогами ребра менты поломали. Уважаемый по зонам человек, а твой дружок этого терпигорца комсюком обозвал. На национальность намекал. Это где ж вы слышали, чтоб по зонам по национальности на человека смотрели? Или твой дружок Гитлера наслушался?
– Он мне не друг, так в следственном изоляторе познакомились.
Мой обидчик уже понял, что на всём белом свете он теперь один, и ему уже дурно. Я поворачиваюсь к нему:
– Ну! Землячек, расскажи всей камере, почему я комсюк. Может, ты меня в райкоме в комсомол принимал, или я с тобой в оперотряде стиляг ловил, или карманников по трамваям?
– Я не был в дружинниках.
– А тебя пока никто ни в чём не обвиняет, тебя спрашивают.
– Ну, извини, земляк, вырвалось.
– Я тебе, гнида, не земляк, ты, паскуда, ещё за комсюка не ответил. Серёжа! – зову парня, которого они прогнали вниз, – поднимайся на верхние нары.
Значит, жлобу, дёргавшему меня за ногу, пора линять вниз. Или идти на конфликт, где для всей ихней компании уже мрак и туман. Здесь нельзя победить кулаками или спрятаться.
А билет мой комсомольский, в это время вместе с зачётной книжкой спокойно лежал в мамином ридикюле довоенного покроя, где она хранила все ценные документы и вещи.
Так мы с Витькой прожили вместе месяц, когда меня дёрнули на этап. Он дал мне четыреста рублей из выигранных у мужиков денег.
И вот, через полтора года мы с ним в одной камере вместе с крысой по имени Борька.
От мориловки в крытой Витька немного отошёл, но вид у него всё равно был чахоточный. Болел он туберкулёзом или нет, я не знаю, потому, что в лагере об этом не принято спрашивать. И такой факт не может быть преградой для общения, как и любая другая заразная болезнь. Может кто-то и бережётся в лагере от заразных болезней, но я таких не знал, и тут, как говориться, про таких не поют.
Спокойно идёт по кругу, где сидит сифилитик с язвой на губе, кружка с чифиром и только попробуй задёргайся, если больной парень без хвостов… Все мы под Богом.
Крыса досталась Витьке в наследство от предыдущего сидельца. Никто из начальства не возражал против животного в камере, наоборот, всем она нравилась. И только новый корпусной старшина пугал нас, что крысу он отдаст собакам, потому как «не положено».
– Если он, тварь, Борьку тронет, я ему, козлу, в харю сушняка чахоточного сыпану. Я не знал, что это за сушняк такой, и Витька пояснил, что он у предыдущего соседа собрал туберкулёзную мокроту, смешал с сахарной пудрой и табаком и забил папиросу.
– К нам менты по месяцу в камеру не заглядывали, все кумовские агенты боялись закладывать крытников, как огня. Так что пусть только Борьку тронет, – грозился Витька.
Однажды мы вернулись с прогулки, а Борьки не было. Сержант втихаря сдал нам корпусного, сказав. что тот бросил Борьку собакам у вахты, которые его задушили, а есть не стали.
И менты и зэки были опечалены, а Витька даже расплакался.
– Всё! Мочу козла! Пусть помучается гнида, как Борька. Ты не лезь, будешь, если что, свидетелем, что он на меня первый кинулся. А там – куда родная вывезет.
Наутро Витька с нар не вставал, прикинувшись больным.
Менты корпусного ненавидели, и мы полагались на их нейтралитет.
Когда же старшина нагнулся стаскивать Витьку с нар, тот выдул ему в лицо сушняк из папиросы. Старшина ничего о таком кошмаре и не слышал, облизал, как ему думалось, сахар с губ и отправил Витьку в карцер на десять суток. Ко мне претензий не было, и вскоре я ушёл этапом на зону.
Много после я слышал, что Витька снова загремел на крытую, а про корпусного говорили, что его комиссовали по болезни, и он работал истопником при железнодорожной больнице.
С Витькой мы больше никогда не встречались, но я слышал, что он проигрался, бежал и умер после побоев.
Правда это или нет, я до сих пор не знаю, потому что рассказал это человек с сомнительной лагерной репутацией.
Иосиф и его собратья
Если собрать подряд сто мужиков на свободе и поменять их местами с сидельцами в лагере, разницы никто, практически, не увидит, потому что профессиональные преступники или патологические злодеи в лагере встречаются крайне редко и заметного влияния они не имеют, кроме, разве что, карманников или жуликов, специалистов воровских профессий.
Расхитители, и политические, то есть интеллигенция – это отдельная категория правонарушителей, которые в лагере ведут себя прилично, как, впрочем, и на свободе.
К ним, в отличие от люмпенизированного сообщества, блатная культура не прилипает совсем. Наверное, причина в воспитании.
В основном, корыстные преступления совершаются спонтанно и носят любительский характер.
Бескорыстные же правонарушения – хулиганство, убийства, аварии – совершаются, как правило, в пьяном виде, что и приводит в лагерь людей без преступных наклонностей.
Я уже не раз подчёркивал, что блатные песни и жаргонные словечки за мой долгий срок на усиленном и строгом режиме встречались не чаще, чем на свободе, а такие слова, как разборка и малява я впервые услышал в фильмах начала девяностых.
Хотя и самому пришлось перевозить такую «маляву» из одной зоны в другую.
Это был учебник «Высшая математика», где на титульной странице было написано два слова «Всё правильно».
Написал эти слова своим друзьям на Вожскую в Коми АССР очень уважаемый парень по кличке Тимоха, с которым мы сидели вместе в БУРе (барак усиленного режима).
Книгу я должен был передать любому из двух уважаемых парней на Вожской – Паше Королю по кличке Дурак или Юре Солнышко.
Этими двумя словами давалась на меня исчерпывающая характеристика.
Через 20 лет из кино я узнал, что это была «малява».
Мне, правда, встретился однажды парень по фамилии Зиньков, который вёл тетрадь, куда записывал блатные слова, песни и смысловые татуировки, расспрашивая всех и каждого об их знании преступного мира.
Но смотрели на него урки, как на тюльпана или бантика, то есть пустое место, чем он, впрочем, и был. Потому что у людей серьёзных нет ни времени, ни желания заниматься такими глупостями.
Досидев на Вожской оставшиеся 3 месяца в ПКТ (помещение камерного типа, прежнее и используемое название – БУР) после приключений на Лесной, я вышел на зону, где меня уже ждали Паша Дурак и Солнышко со своими семьями.
Обе семьи были играющими, уважаемыми и при больших деньгах.
С нарядчиком ребята утрясли вопрос, чтобы меня определили в строительную бригаду в жилой зоне, которая числилась за первым отрядом, объединявшим хозяйственные службы.
После ужина с выпивкой и хорошей едой меня повели к Иосифу, коменданту первого отряда для обустройства.
Иосиф, сорокалетний красавец-еврей, был воплощением респектабельности и лоска.
Ни своей внешностью, ни одеждой он не походил на виданных мною в предыдущие лагерные годы зеков.
Чёрный блестящий милюстиновый костюм сидел на нём, как праздничный фрак на английском дворецком.
На ногах были кожаные мягкие туфли, пошитые местным сапожником. Под костюмом эффектно смотрелась коричневая водолазка. Даже нагрудная бирка, на которой было каллиграфическим почерком выведено «Фридман Иосиф Борисович», смотрелась, как значок лауреата государственной премии. Вдобавок ко всему он был гладко выбрит и благоухал хорошим одеколоном. Было понятно, что проблем с начальством у него нет.
Увидев двух хороших парней, которых, по всей видимости, ему видеть хотелось меньше всего, Иосиф несколько напрягся, но удержал лицо и поинтересовался, чем может быть полезен.
Паша Король по кличке Дурак, видимо, не очень впечатлялся внешним видом коменданта отряда обслуги, поэтому коротко произнёс:
– Марк будет у тебя в строительной бригаде. Обустрой по-человечески. Он мой товарищ. Ты понял? Приду, проверю.
Последней фразы Паша мог не говорить, потому что Иосиф нежно взял меня под локоток и повёл в свою каптёрку, которая выглядела так же уютно и респектабельно, как и её владелец.
На столике появились фарфоровые чашки, о существовании которых я уже забыл, шоколадные конфеты, сыр, горячий цейлонский чай и бутылка грузинского коньяка.
Мы с ребятами выпили по пару глотков, Иосиф пил только чай и развлекал нас интеллигентскими рассказами, периодически рассыпаясь любезностями в адрес моих друзей.
Сам барак внутри выглядел идеально. Ничего подобного мне встречать не приходилось, поэтому Иосиф вызывал мой живой интерес.
Переместив какого-то повара наверх, Иосиф предоставил мне койку внизу в углу и снабдил новым бельём и разными необходимыми принадлежностями, коих я не мог иметь по определению, выйдя из БУРа.
Видя перед собой еврейского парня, студенческого вида, который после БУРа явился к нему в сопровождении людей, которые ему, наверное, снились в кошмарах, Иосиф сам хотел разобраться – кто же попал к нему в отряд, и чем ему это может грозить.
Я же предполагал в Иосифе крупного хозяйственника-растратчика, и очень удивился, узнав от него вскоре, что сидит он из-за конфликта с тёщей, который сломал ему жизнь. С его внешностью и манерами конфликт не вязался. Иосиф – сама рассудительность, деликатность и дипломатия. Какая тёща? Какой конфликт? Где Иосиф и где конфликты? Я был в недоумении.
Самое интересное, что Иосиф мне нравился. Он буквально обволакивал своим вниманием, заботой и теплотой. И, хотя, он был из «не нашего круга» я часто общался с ним, что не могло повлиять на мою репутацию, потому что я был выше подозрений.
Урки мне всегда верили и терпели то, что я мог общаться с не очень «кошерными» людьми. Студент, одним словом. Но все знали, что внутри у меня всё правильно.
Через полгода Иосифа суд выпустил на поселение.
Вечером в каптерке собрались несколько его друзей отметить это дело, и я был тоже почётным гостем.
Иосиф радовался почти свободе и произносил тосты за каждого из остающихся.
Минут через тридцать он уже был крепко под хмельком, и тут я понял, почему тёща упекла его за решётку. Это был распоясавшийся хам и сволочь, которому хотелось врезать в морду, что и сделал его приятель, заведующий баней Андреич, после чего Иосиф заплакал пьяными слезами и затих.
Встретил я его через год на пилораме. Иосифа вновь закрыли в зону за избиение жены на поселении.
К нему приехала заочница. Пока он не пил и держался, они были счастливы.
Но, по прошествии какого-то времени, Иосифа снова понесло и он превратился в скотину. Это часто происходит с неумеющими держать себя в руках после выпивки мужиками. Ими заполняются исправительные учреждения, в которых они зачастую становятся людьми работящими и приличными.
Как я и написал в начале повествования, можно смело менять местами пьющих на свободе на непьющих в лагере и никто не заметит разницы.
Не ищи стрелочника
Какое у неё было настоящее имя мне неизвестно, но называли все её Ксюшей.
Это была высокая, стройная и красивая женщина с очень приветливым и приятным лицом.
Плели о ней всякое и бесконечно, потому что это была единственная женщина, которую колонна зэков из четырёхсот человек видела дважды в день, когда проходила через железнодорожный переезд по дороге на лесобиржу и обратно.
Говорили, что она когда-то убила мужа, отсидела срок, а теперь уже много лет работает стрелочницей и живёт в прилагерном посёлке.
Рассказывали зэки о ней разные небылицы, но кто будет верить людям, которые уже давно забыли, что такое женщина.
Наш технорук, майор Хлебовский, рассказывал мне, что Ксюша когда-то училась в Москве в театральном институте, очень начитана и образованна. Леониду Ивановичу я верил. Но и без этого чувствовалось, что женщина она непростая, и просто так её за рубль двадцать не купишь.
Поскольку на её стрелке тепловоз формировал составы по направлениям, переезд был часто и подолгу закрыт, что у зэков, отработавших смену на морозе, не могло вызывать особого энтузиазма.
Поначалу зэки пытались с ней хамить и оскорблять, но она умела отшить наглецов на понятном им языке и наречии.
А когда одному балбесу на его шутку: – Ксюша! Отгадай, что у меня в руке? – она спокойно, но громко ответила: – А то, что ночью было у тебя в заднице, – жулики стали поосторожней, и шутки их стали нейтральны и дружелюбны.
Уважающие себя парни, конечно, ничего себе такого не позволяли.
Это «шелупони» всякой, как с гуся вода, потому что там, где он крутится такие шутки может и катят. Серьёзные же люди в лагере и сами так не шутят, и других удавят за такое. Поэтому и не будут лишний раз искать себе приключение на пустом месте. У них и без этого забот хватает.
Другой герой нашего рассказа Дима Смирнов был из Горького.
Было ему едва за тридцать. Хороший плотник. Высокий, симпатичный парень. Ничего плохого о нём никогда не слышали. Сидел за пьяную драку, что абсолютно с ним не вязалось. Но я уже знал, что трезвый человек в лагере – это не совсем одно и то же, что пьяный на свободе.
Дима готовился к досрочному освобождению, а потому не пил, хорошо работал и был из уважаемых работяг. Само собой считалось, что Дима вернётся домой в Горький и устроит свою жизнь нормально, потому что если не он, то кто же.
Но Дима не поехал в Горький. Он остался у Ксюши.
Его часто видели у будки на переезде, но ни о чём никогда не просили, понимая, что человек устраивает свою жизнь. Прекратились и шутки в сторону Ксюши.
Наверное, прошло более полугода, когда мы впервые увидели Диму очень крепко выпившим. И кто-то в колонне громко сказал:
– Ну, всё, приехал пассажир.
Радости это ни у кого не вызвало, потому что почти каждый примерял его жизнь на себя. Для основной массы зэков пьянство на свободе является главным камнем преткновения, и не будь этого порока большинство из них и не знали бы, где находится милиция.
Все понимали, что «лиха беда начало». Потому что самое главное для пьющего, в прошлом, человека – это не начинать.
С того раза трезвым Диму мы почти не видели. Изменилась и Ксюша.
Если в начале их совместной жизни она «летала», то теперь стала выглядеть уставшей и подавленной. У неё появилось виноватое выражение лица, как будто она искала причину свалившегося на них несчастья в себе.
Однажды Ксюша появилась на работе с большим синяком под глазом. Такое случилось впервые за время наших за ней наблюдений.
На обратном пути мы увидели возле шлагбаума и Диму, как всегда, крепко поддатого.
Кто-то из колонны крикнул:
– Дима, вали в Горький, пока не поздно!
Дима улыбался незнакомой нам улыбкой. Так улыбается пьяный, которому море по колено.
…О том, что Ксюша «завалила» Димыча мы узнали рано утром на разводе.
Во время очередного избиения, Ксюша ударила его обухом топора по голове и убила.
Никто не жалел Диму.
– Правильно она завалила этого козла – слышалось со всех сторон.
– Жалко хорошую бабу.
Видимо так думали не только циничные и «отмороженные» зэки. Потому что менты сварганили ей самооборону, и получила она всего полтора года.
И все зэки радовались за Ксюшу и говорили, что менты, оказывается, тоже люди.
Перекресток
Один бывший детдомовец как-то рассказывал, что долго ждал, пока кипящая в чайнике вода самостоятельно превратится в чай.
В детских домах воспитанников мало готовят к жизни в «большом мире». Может быть, оттого многие из них совершают разного рода правонарушения или сводят счеты с жизнью.
Что-то подобное происходит и в местах заключения. Отбыв срок, бывшие заключенные не готовы к жизни на воле. И случается так, что хороший и трезвый специалист в лагере, после многолетнего срока, попадает в бюрократические клещи, где не прописывают, потому что нет работы, а на работу не берут, потому что нет прописки.
Об этом думают, об этом говорят и этого боятся.
Государство никак не пытается изменить, или, хотя бы улучшить сложившееся положение дел.
А потому сорокатрёхлетний Лёша Шапкин готовился к выходу на свободу очень тщательно. Набрав десяток адресов разных заочниц, он намеревался пристроиться где-нибудь в колхозе и тихо себе жить– поживать, никого не трогая и никому не мешая.
Правдами и неправдами он раздобыл себе хромовые сапоги гармошкой, в которые заправлял серые брюки-клёш.
Его тщедушный торс украшала новая тельняшка, которая эффектно смотрелась из под офицерского морского кителя с блестящими позолоченными пуговицами.
Время от времени, Лёша просил шныря достать из заначки его «прикид» и, одевшись, ходил по проходу барака вызывая улыбки, а то и откровенные насмешки других жуликов.
– Тебя, Лёша, в такой одеже, повяжут прямо на вокзале.
– Шапкин, ты же отстал от моды на весь свой четвертак. Так же ходили только после войны. И то недолго.
Но для Лёши эти их глупые шутки не доходили, потому что, просидев 25 лет, он о другой выходной одежде и не мечтал. Самые фартовые и крутые ребята с их улицы одевались именно так.
– Ну, понадобится и переоденусь, что же я вообще бык, но освободиться хочу в хромачах гармошкой и морском кителе.
И действительно, на вокзале, Лёша смотрелся экзотично, и к нему постоянно подходили какие-то подвыпившие типы, предлагая то выпить, то поиграть.
А так как Лёша категорически от всего отказывался, то на него стали наезжать и втягивать в конфликт, которого Лёша всеми силами старался избежать, имея на руках одну лишь справку об освобождении и удостоверение сварщика.
Неизвестно, чем бы это всё закончилось, но подошедший немолодой капитан милиции всех разогнал, а Лёшу пригласил к себе в дежурку.
– Сколько отзвонил?
– Четвертной.
– Лихо. Это за что же?
– Да уже и не помню. Так по мелочам и накрутилось ещё из тех времён.
– Денег много везёшь?
– Да есть маленько.
– Вот, что я тебе скажу, браток. Ты до дому не доедешь. Ограбят, да ещё и с поезда выбросят. У тебя профессия есть?
– Двадцать лет на зоне сварным работал. Не жаловались.
– Водку, как я понимаю, ты не особенно жалуешь.
– Да почти совсем и не пью. Не тянет.
– Оставайся. Деньги сейчас положим в сберкассу, а с работой я тебе помогу. Только не подведи. Ты не последний, кому помощь нужна.
Капитан набрал телефонный номер и пригласил человека по фамилии Ли.
– Володя! Это Сомов. Скажи, тебе нужен хороший сварщик? Да, стаж большой. С жильём поможешь? Да! Помочь человеку надо. Нет, непьющий. Я говорю. Хорошо, жду. Повезло тебе, Лёша. Владимир Григорьевич большого ума и души человек. Держись за него обеими руками. А сейчас пойдите с сержантом в сберкассу и сдайте деньги.
Начальник строительного управления Ли оказался маленьким крепышом.
– Так водку, говоришь, не употребляешь.
– Да почти и не пью.
– Ну, тогда зацепишься. А если ещё и сварщик хороший, то и заработки будут приличные. Так что всё от тебя зависит. Сегодня переспишь у сторожа, а завтра я тебе в бараке комнату с кухней выделю. Есть у меня свободная. Там, кстати, напротив малярша наша живёт Вера. Присмотрись, она баба правильная. Жаль с мужиками не везёт. А ты непьющий. Редкость.
С утра Лёша сразу приступил к работе. Всё было легко и знакомо. В бригаде монтажников мужики семейные и степенные. Как Лёша догадался, почти все с прошлым. Ничего, живут.
С Верой они сразу подружились, а через пару недель, как говорится, сошлись.
Особенно Шапкин подружился с шестилетней Вериной дочкой Катей.
Он, за весь свой срок, детей почти и не видел. Оказалось, что общаться с девочкой было и интересно и весело.
Однажды она подошла к нему и, глядя прямо в глаза, спросила:
– Лёша, а это правда, что ты мой папа?
Шапкин поцеловал девочку в голову.
– Ну чего это ты выдумала. Я дядя Лёша.
– Нет. Мне мама всегда говорила, что мой папа не пьёт водку. А ты не пьёшь. Я знаю, что ты мой папа.
– Ну, папа, так папа.
Так вот они и прожили почти полгода. И на работе и дома всё складывалось хорошо.
И только иногда подвыпившие мужики из управления делали грязные намёки относительно Веры, но Лёша решил для себя, что не ему упрекать Веру в чём-нибудь. Сам не ангел. Важно, что сейчас всё хорошо. А мало ли что было раньше.
И вот однажды случайно на улице он встретил Веру, которая шла под руку с мужчиной и весело о чём-то болтала.
Так общаются только с близкими людьми.
Лёша спрятался за дерево. Сердце колотилось. Неужели? Неужели она всё это время обманывает его? Нет, так он жить не будет. Он всегда себя уважал, и отступать не намерен ни за какие блага.
Он пришёл домой, быстро сложил чемодан и решил уйти в общежитие, а потом и совсем уехать. Катя молча за ним наблюдала. Он обнял её, поцеловал и, ничего не сказав, вышел.
Он шёл быстрым твёрдым шагом, шагом человека принявшего решение.
Снег поскрипывал под его валенками. Отойдя от барака метров на двести, Лёша оглянулся и увидел, что девочка, совсем раздетая идёт за ним и плачет.
– Катя! Иди домой, замёрзнешь. Ты что?
Катя остановилась в пяти метрах и не подходила.
– Шапкин, не уходи. Как же я без папы.
Она никогда не называла его по фамилии. И это неожиданное «Шапкин» вызвало такой прилив любви и нежности к девочке, что у него перехватило горло.
Он снял полушубок, завернул Катю и понёс в дом.
Проснулся Лёша от разговора в комнате. На плече у него спала Катя.
В комнате была Вера с давешним мужиком и ещё какой-то женщиной.
– Вставайте, сони. Коля-брат с женой приехали, сейчас ужинать будем.
И только тут Вера увидела у двери Лёшин чемодан.
Она села на пол у дивана рядом с Лешей и дочерью.
– Лёша, не уходи. Как же мы без тебя жить теперь будем.
– Да не ухожу я, с чего ты взяла. Как же я дочку брошу.
И из глаз у него, неожиданно, сами собой покатились слёзы. Глядя на него, заплакала и Вера.
И только, проснувшаяся Катя, весело что-то щебетала.
Угол падения
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. А. С. Пушкин «Борис Годунов»Юра Титов был из тех людей, которые нравятся ещё до того, как начинаешь с ними общаться.
Высокий, спортивный, несуетливый, он по праву занимал своё достойное место среди зэков, которые в массе своей были простыми советскими работягами.
Чувствовалось, что в тюремной жизни он не новичок.
Подружились мы как-то сразу, потому что оба заметно отличались от любящего крепко выпить рабоче-крестьянского сословия.
То о чём рассказывал Юра, никаких сомнений не вызывало, потому что соответствовало масштабам его незаурядной личности. В прошлом кандидат в мастера спорта по боксу он, без сомнений, должен был нравиться женщинам и вызывать уважение у мужчин. За какие «подвиги» он попадал в тюрьму, было неясно, но это в лагере совершенно никого не интересует. Важно, как ты умеешь себя держать здесь и сейчас.
Из его рассказов я понял, что освободился он всего полгода тому назад из зоны в Виннице, где был, естественно, среди уважаемых людей.
Поэтому, когда начальник конвоя проговорился, что этап наш отправляется именно в Винницу, я полагал, что Юра будет этому рад, потому что сразу попадёт к друзьям.
Но особой радости я у него не отметил. Наоборот. Чем ближе поезд приближался к Виннице, тем мрачнее выглядело дотоле всегда бодрое и беззаботное Юрино лицо. А когда мы вывалились из переполненного «воронка» у вахты 86-й зоны в центре украинского города Винница, Юра вообще сник.
Суета с оформлением и приёмкой местным начальством настолько закрутила и отвлекла, что я временно потерял его из виду.
Уже в секции, знакомясь с парнями, я сказал, что, дескать, Юра Титов, который раньше тут сидел, снова вернулся. Но никто интереса не проявил, и только у одного на лице появилась какая-то нехорошая усмешка.
Из-за своей молодости я ещё не умел замечать и оценивать реакцию людей.
Пройдёт много лет, прежде чем жизнь научит меня по походке или случайной фразе определять не только сущность человека, но и его возможное будущее.
Встретив случайно Юру у столовой, я даже немного растерялся. И не потому, что он сменил вольную одежду на зэковскую. Нет. Это просто был другой человек.
Его прежде пружинистая походка стала какой-то неуверенной и шаркающей, он сгорбился, а на лице всё время блуждала виновато-заискивающая улыбка. А когда он сказал, что устроился работать в прачечную, то я вообще чуть не свалился в обморок, потому что Юру Титова я прачкой представлял меньше всего. Тем более что в прачечную уважаемому парню идти «западло». Да и кто уважаемого парня туда пустит. Это место для стариков, инвалидов и «кумовских» помощников.
Я был растерян и озадачен. Вечером в бараке я спросил своего земляка Рудика, почему с Юрой Титовым на моих глазах произошли такие метаморфозы.
Рудик как-то презрительно ухмыльнулся и рассказал, что по прежнему сроку Юра был уважаемым на зоне парнем. А когда освобождался, то ребята, без всяких сомнений, дали ему приличные деньги, чтобы он решил несколько важных вопросов. Но Юра всех «кинул», исчез с деньгами и даже не нашёл нужным хоть как-то объясниться. Поэтому и смотрят на него, как на последнюю тварь и слизняка.
А он теперь живёт в страхе перед неминуемым падением, глубина которого в лагере может быть бесконечной. И страхом этим пронизано всё его существо. Ни сопротивляться, ни спрятаться в такой ситуации невозможно.
Для него остался только один путь, чтобы спасти свою шкуру. Это самостоятельно опуститься на дно, где он станет никому не интересен. И откуда ему уже никогда не выбраться, чтобы снова стать таким, каким он всю свою жизнь старался себе и окружающим казаться.
Ибо: «Человек, стоящий на цыпочках, долго стоять не может».
Экологические страсти
Что-то воздуху мне мало… В. С. ВысоцкийВ брежневские времена специфика лесного производства на севере не позволяла лагерному начальству устанавливать режим по жёстким инструкциям, написанным в высоких московских кабинетах.
Посадишь в изолятор вальщика или тракториста – не досчитаешься сотни кубометров леса.
А твоё высокое начальство не интересует, что у тебя вальщик вчера выпил, а тракторист подрался. Ты делай там у себя, чего хочешь, а государственный план, будь добр, отдай.
У высокого начальства тоже есть своё начальство. И оно тоже ничего слышать не хочет.
Поэтому между зэками и администрацией существовал негласный договор, по которому зэки стараются не очень наглеть, а офицеры не придираются по мелочам.
Те, которые не понимают, сидят зазря в изоляторах или остаются капитанами до пенсии.
Случилось и мне, как-то «воевать» с таким приверженцем инструкций, который, придя из училища, перекрыл мне кислород в буквальном смысле этого слова.
И вот, как это было…
…Герою фильма «Джентльмены удачи» надзиратель говорит, что самое лучшее место в бараке у окна. На самом же деле самое «блатное» место в дальнем, нижнем углу, потому что оно самое удобное и безопасное. С одной стороны нар у него стена, а с другой проход.
Тогда, как у других мест с одной стороны проход, а с другой впритык койка соседа. Кроме того, играть в карты и обсуждать серьёзные дела у окна небезопасно.
Так что место в углу очень удобно и функционально, а потому и занимают его наиболее уважаемые люди. И хотя в карты я никогда не играл, а выпивал очень редко, для меня это место было крайне важным, и занимал я его последние лет семь постоянно. Правда, до отбоя, обычно, на нём располагались мои играющие друзья. Но после отбоя парни знали, что место моё и, надо сваливать. И вот почему я так дорожил этим местом. Курить за свою жизнь я так и не научился. А курит в лагере большинство, поэтому табачный дым в секции постоянно. Ночью же дышать вообще нечем.
Кто-то не сдал в сушилку валенки с портянками и сушит их у печки. Кто-то курит всю ночь.
Кто-то открыл дверцу печки и варит чифир.
А форточка зимой, как правило, закрыта, потому что тот, кто спит на верхних нарах у отрытой форточки, не хочет постоянно болеть. Но для себя я придумал и устроил свой маленький воздушных оазис. В бревенчатой стене я высверлил на уровне лица дырку, вставил в неё обрезок трубы, которую затыкал на день ватой из телогрейки. Перед сном вату я вынимал, и ложился лицом к стене. Это моё личное изобретение, и больше я такого нигде не встречал.
Лейтенант Смирнов, наш новый начальник отряда, прибыл к нам прямо из училища, а потому был серьёзен и строг, как английская гувернантка. Он требовал порядка согласно инструкции, к чему лесной народ не привык, потому что сил хватает только на выполнение терпимого минимума. Узнав про мою трубу, он потребовал её заделать. Естественно, что я не обратил никакого внимания. Начальника отряда это возмутило, и он заставил коменданта отряда забить в дыру деревянный нагель, которым плотники скрепляют брёвна сруба.
Я просверлил рядом новую дыру.
Смирнов лишил меня очередной посылки. В посылках я не нуждался, но запись в деле меня не обрадовала. Дыру он заделал снова и пообещал в следующий раз лишить меня свидания. Я никого не ждал, но ещё одна запись была нежелательна.
То, что я руковожу всем производством на лесобирже, лейтенанта заботило меньше всего, по неопытности, он еще многого не понимал. Я для него был одним из многих крепостных.
Вот такая случилась эпидерсия, как говорил мой душевный приятель Паша Дурак.
И тогда я решил научить молодого твердолобого лейтенанта хоть чуть-чуть разбираться в жизни.
В конце месяца лейтенанта Смирнова вызвал начальник колонии майор Овчинников, и поставил в известность, что его отряд, впервые за несколько последних лет, не выполнил месячный производственный план. Объяснил, насколько это серьёзно, и какими чревато последствиями. Почему такое произошло, Смирнов понять не мог, а объяснять старшие офицеры ему не стали. Решили, что «сам должен до всего дойти своим умом». Думай, дескать, своей головой!
И Смирнов думал. Вернее думал, что думает.
На следующий месяц хозяин пригрозил перевести его в дежурные, что ставило жирный крест на его продвижении по службе, потому что в дежурные обычно отправляли тех, на кого махнули рукой. Смирнов начал «бить хвостом», и выяснил, что его проблемы – это результат моих манипуляций с цифрами. Заставить меня силой было невозможно, потому что начальство старалось не лезть в производство, если его устраивали результаты.
Поэтому со своими проблемами Смирнов оставался один на один.
Другого пути, как наладить со мной нормальные отношения, у него не было. К тому времени он уже завёл роман с заведующей поселкового магазина. Бабой она была умной и тёртой, иначе кто бы держал её столько лет в заведующих. Наверное, она и подсказала Смирнову, что «переть рогом, как баран на ворота» бесполезно и бесперспективно.
Вместе со старшим мастером Соколовым, он пришёл в мой кабинет с бутылкой коньяка и кульком шоколадных конфет «Ласточка».
Мы выпили, поболтали «ни о чём» и всё встало на свои места.
Смирнов стал нормальным, думающим и даже заботливым начальником отряда, а я получил возможность дышать ночью свежим воздухом.
Со временем, вместо привычного «отрядный», жулики, за глаза, стали уважительно называть его Валерой.
А наш народ, за просто так, никого уважать не будет. Это заслужить надо.
Когда боги спали
Мой душевный приятель, осетин Жора Камурзаев, часто говорил особо наглым людям:
– Ну, не может же быть так, что одному всё время праздники, а другому постоянно несчастья. Должно же быть в мире какое-то равновесие.
Трудно не согласиться с мудрым человеком.
Но ко мне понимание этой истины пришло намного раньше знакомства с Георгием Александровичем.
В 1968 году меня с простреленными грудью и рукой и с переломанными рёбрами привезли в Шепетовскую железнодорожную больницу. Шепетовка – родина Павки Корчагина. Это для тех, кого в школе не заставляли читать «Как закалялась сталь».
Для меня и второго раненного подельника по побегу, Витьки Кутищева, выделили отдельную палату в конце коридора и посадили двух солдатиков нас охранять.
Витька, профессиональный шулер и наглец, сразу обыграл солдатиков в карты, простил им долги, и мы подружились.
Со всей больницы к нам с авоськами шли сердобольные больные, и уже тогда Жорин постулат проник в моё сознание накрепко. Как пелось в известной песне: «После радостей неприятности по теории вероятности».
Только у нас с Витькой было всё наоборот. После долгого периода неприятностей наступило недолгое время благоденствия и покоя. Хотя в этой же больнице мне встретился человек, судьба которого была жестоким исключением из этого правила.
Пули особого вреда мне не причинили, и через пару дней я уже ползал по коридору возле палаты с помощью какого-нибудь больного. На большее здоровья не было, а потому охранники не возражали.
Мы отъедались давно забытыми деликатесами и развлекали публику разными байками и историями.
Палата на противоположной стороне коридора охранялась обычным милиционером.
В ней с ожогами лежала молодая женщина. Поражено у неё было процентов семьдесят кожи. А поскольку ожогового центра, да и серьёзных специалистов не было, надежд на её спасение не оставалось никаких. Врачи снимали ей боли наркотиками и это всё, что было в их силах. Рассказывали, что она сожгла целую семью вместе с домом и пострадала сама.
Звали её Ольга, и больше о ней ничего не было известно.
Она ни с кем не разговаривала, а потому лежала одна, ожидая неминуемого конца.
Милиционер ничего не имел против моих к ней визитов, и я время от времени заходил к ней, отвлекая своей болтовнёй от боли и горестных мыслей.
Наверное, моё положение и вид вызывали у неё какое-то доверие, и однажды она обратилась ко мне с просьбой. Никому больше она, видимо, довериться не могла, а важный для себя вопрос нужно было перед смертью решить.
Ей необходимо было передать весточку своим детям, которых она давно не видела и сообщить, что она их всегда любила и никогда не забывала.
Просила об остальном им не сообщать, а написать, что она просто умерла.
Просьба была для лагерной жизни обычная, а вот содержание вызвало у меня любопытство. Я заучил адрес и текст послания, несколько раз повторил ей и поклялся своими родителями, что при первой же возможности отправлю тайно и с гарантией это письмо. Она успокоилась.
Следователь пару раз к ней приходил, но толку не добился и, наверное, просто ждал справку о смерти преступницы, чьей фамилии и адреса он так и не мог установить. Однажды она сама, задыхаясь, начала мне рассказывать свою историю. Наверное, ей нужно было выговориться перед смертью. Из её не всегда связной и членораздельной речи, я понял смысл её невероятной истории, и попытаюсь её изложить, как сумею.
Когда из армии вернулся её парень, она была беременна от другого и собиралась за того замуж. Но отец ребёнка её бросил, и прежний ухажёр уговорил её снова к нему вернуться.
Жили они сначала неплохо, но года через три, после рождения второй, уже общей дочери, муж начал пить и избивать Ольгу.
Так продолжалось пару лет, когда она в одной из драк, отбиваясь, ударила его бутылкой по голове и убила. Обнаружив, что сердце у мужа не бьётся, она в панике выскочила из дома и побежала, куда глаза глядят, благо дети были у стариков.
Она не помнила, сколько пробежала и прошла, когда её подобрала семейная пара и повезла к себе домой в Хмельницкую область, в село.
Ехали они из Киева, где продавали клубнику со своего участка. Поселили они Ольгу во времянке, и она стала помогать по хозяйству. Они же обещали её не выдавать, если она не будет выходить со двора.
Она целыми днями работала, но была довольна, что не сидит в тюрьме.
Однажды хозяин сообщил ей, что он был в её районе и узнал, что она объявлена за убийство во всесоюзный розыск, поэтому должна сидеть тихо.
После этого он прижал её к себе и потащил на кровать. Она же боялась возражать и сопротивляться, потому что альтернативой была тюрьма на многие годы.
С тех пор он стал к ней заходить регулярно, а хозяйка делала вид, что ничего не замечает. После очередного застолья, хозяин привел во времянку своего кума и они оба, по очереди, ей попользовались.
После этого уже почти все гости заглядывали к ней во времянку с согласия хозяина, а Ольга молчала, потому что хозяин уже недвусмысленно намекал, что просто так держать он её не будет, хотя работала она, сколько хватало сил.
Так продолжалось несколько лет.
Ольга обнаружила что беременна, и стала спрашивать совета у хозяйки, что ей делать.
Та была подвыпивши, и посоветовала Ольге сбежать к себе домой, потому что муж её жив и здоров, а ей она уже надоела со своим блядством.
Для Ольги это был удар, который пережить она не смогла.
Она решила покончить с собой, а заодно и сжечь этих гадов. После очередной пьянки, когда по дому валялось человек шесть членов семьи и их родственников, Ольга закрыла двери, облила бензином и подожгла.
Когда заполыхало, она испугалась и выпрыгнула в окно, в уже горящей одежде.
Помнит, что тушила себя в бочке с дождевой водой, а дальше уже ничего и в памяти и нет.
Она устала и замолчала. Наутро она умерла.
Письмо мне удалось отправить только из лагеря года через полтора. Ждал надежной оказии, чтобы без прокола.
А потом эта история закрылась многими другими, не менее драматичными событиями.
Лет через двадцать в нашу ленинградскую квартиру позвонила женщина.
Это оказалась Ольгина дочь, которая через мою мать, адрес которой я когда-то сообщил, разыскала меня и приехала узнать подробности.
Я рассказал, что Ольга поверила в смерть мужа и скрывалась, пока не попала в аварию и не погибла. Ни о чём другом я не рассказывал.
Отец же, по словам дочери, всё время считал, что Ольга его бросила и убежала с другим, а когда получили моё письмо, запил и уже не просыхал.
Вскоре он умер. Вернее утонул на реке. Тёмная была история.
Детей вырастили бабушка и дед.
На прощание я сказал Вере, что мама только и думала о детях и очень страдала перед смертью.
– У вас была хорошая мать. И вы можете ей гордиться.
Женщина была благодарна мне за эти слова. Наверное, она ждала их всю свою жизнь.
Чапай
Фыркают причудливые кони, Огненные, как тузы червей, Вроде я в казачестве исконен, Пусть происхождением еврей. Иосиф МирскийЛагерные клички обычно бывают очень меткие и содержательные. Но что можно подумать о человеке по кличке Чапай, видя перед собой немолодого, щуплого, интеллигентного очкарика с большим носом и оттопыренными ушами. Оказалось, что такую кличку он получил за свою непомерную любовь к лошадям, и за бесконечные разговоры об этих добрых и красивых животных уходящей эпохи.
…Откуда у десятилетнего мальчика из бедной семьи, проживающей в еврейской Колонке (от слова колония) города Нальчика появилась несвойственная евреям любовь к лошадям, никто и никогда понять не мог.
Но, забросив детские игры и школу, Лёва, сын шорника Моисея Шамилова, прибился к конно-спортивному клубу и пропадал там целыми днями. Родители поначалу пытались справиться с сыновней страстью, но быстро поняли, что могут потерять сына вообще и оставили его в покое.
К семнадцати годам Лёва Шамилов стал настолько опытным наездником, что его запомнил и отметил премией сам маршал Будённый во время визита на Северный Кавказ перед самой войной.
Это и помогло семнадцатилетнему Лёве попасть добровольцем в действующую армию, когда началась война. Служил он в 4-м кавалерийском корпусе, оккупировавшем в 41-м году Иран, а после подписания соглашения, был отправлен в тыловые части для подготовки кавалерийских кадров.
После войны он работал на Терском конезаводе, обзавёлся семьёй и был доволен своей жизнью.
В тюрьму его посадили за избиение секретаря райкома партии, давшего указание сдать половину элитных лошадей конезавода для выполнения мясных поставок во времена хрущёвского соревнования с Америкой.
Каким образом этот маленький, тщедушный и застенчивый человечек мог избить до полусмерти здорового чиновника, да ещё и накостылять его помощникам, было не очень понятно.
Но никто из зэков этим не заморачивался, и отношение их ко Льву Моисеевичу было нормальным, потому что поводов для придирок он не давал.
Слушая его бесконечные рассказы о лошадях, зэки не нашли ничего умнее, чем наградить его кличкой «Чапай», которая абсолютно к нему не подходила. Но клички, как и родителей, человек себе не выбирает.
Случай, о котором я хочу рассказать, произошёл во время строительства здания конторы на лесобирже бригадой, в которой Лёва Шамилов работал плотником.
Поскольку контора строилась по просьбе командира батальона охраны, старшина батальона Сидун подкармливал строителей, чтобы быстрее двигалось дело.
Он привозил на подводе пару термосов с солдатской едой, и зэки не тратили время на ходьбу в столовую в другой конец промзоны.
Пока подвода стояла у будки строителей, Лёва буквально приклеивался к лошади, которую звали Юркой и, казалось, что его больше ничего на свете не волнует и интересует. Он даже обедать иногда забывал.
Однажды, вместо старшины, обед привёз на ГАЗике водитель комбата и сказал, что Юрку нечаянно застрелил солдат, неаккуратно обращавшийся с автоматом.
Лёва в этот день вообще к обеду не притронулся, но мужики, понимая его состояние, к нему и не приставали. Может быть, тем бы дело и кончилось, но утром следующего дня старшина, желая сделать доброе строителям, привез голову убитой лошади, чтобы работяги вдоволь наелись мяса.
Я и не предполагал, что голова лошади такая огромная.
Звеньевой Женька Колгушкин организовал у пожарников застолье, куда в обед и направились все строители.
И только Лев Моисеевич не участвовал в этом празднике кулинарного изобилия. Он горевал.
Когда все вернулись с обеда, только и было разговоров о прошедшей трапезе и обилии мяса.
Однако Лёву старались обходить этими разговорами. Чего без дела тревожить человека.
И только Коля Пигарин, мужик в летах, всё пытался втянуть Лёву в разговор.
Пигарин был хорошим плотником, но довольно поганым человеком. Он постоянно рассказывал, как он любит людей, но каждому конкретному человеку всегда пытался вставить какую-нибудь ехидную шпильку. Вроде, по понятиям, и придраться не к чему, а на душе после его подколов становилось противно и обидно.
Но это только в кино зэки мечтают о драках. В реальной жизни любой зэк в постоянной заботе о том, как конфликта избежать, потому что неизвестно, чем это может закончиться. Не пионеры вокруг.
Поэтому Пигарину и сходило с рук его вечное подкалывание и ехидство, которое никогда не задевало лагерных тем, где уже промолчать было бы невозможно. Таких в лагере обычно называют гнилушками. Вроде и с понятием мужик, а нутро гнилое.
Вот и стал Пигарин насмехаться, да подкалывать Льва Моисеевича, постоянно смакую вкус любимой им лошади.
Никто и не понял, как огромный Пигарин оказался на полу, а тихий, застенчивый и тщедушный еврей Лёва избивал его кулаками, да с такой яростью, что поначалу мужики растерялись, опасаясь тоже попасть под раздачу.
Когда нам удалось оттащить Лёву от окровавленного Пигарина, он вытер слёзы, зачерпнул из ведра воду, обмыл лицо и ушёл.
Больше в бригаду он не вернулся.
Ушёл работать на разделку леса, где человеку с его комплекцией просто не выдержать.
И сколько я ни уговаривал его вернуться, он не соглашался.
Потом произошли события, которые нас развели по разным зонам, и дальнейшая судьба Льва Моисеевича Шамилова, по лагерной кличке Чапай, мне неизвестна.
Язык мой – …
Доброй памяти Ольги Степановны Чаплыгиной
Я уже писал о том, что на строгом режиме не принято интересоваться чужим прошлым.
Во-первых, это уже никому не интересно. Во-вторых, скорее всего тебе соврут или расскажут свою версию. И, наконец, совершенно неважно, сколько подвигов было в прошлом, если сегодня ты «чмо» или у тебя куча лагерных хвостов. Как говорится: «Видна птица по полёту».
И только тогда эта информация становится интересной, когда она абсолютно не вяжется с обликом и характером её владельца.
Моня Нудельман был типичным зашуганным местечковым евреем, которых можно найти разве что в ранних рассказах Шолом Алейхема.
Он был невысокого роста, щуплого телосложения, не имел возрастных признаков, и почти не разговаривал. Работал он шнырём (дневальным) в конторе лесобиржи, был услужлив и предупредителен до неприличия.
Обидеть такое несчастье было невозможно для уважающего себя человека. Поэтому, когда однажды начальник отряда рассказал про Монину анкету, многих бывалых жуликов хватила оторопь.
Оказалось, что его посадили за доведения до самоубийства двух человек и попытке лишить жизни третьего.
Как-то в субботу, когда всё начальство отдыхает, парни позвали его к столу и он, немного выпив, поведал свою странную историю, за которую попал на шесть лет строгого.
…Когда он был ещё ребёнком, родители с ужасом обнаружили, что их сын обладает даром чревовещания. Не раскрывая рта, Моня мог говорить разными голосами, передразнивая близких родственников.
Особо пугало родителей то, что голос иногда слышался как бы со стороны и из совершенно неожиданных мест.
Боясь, что в их маленьком городке подвыпившие суровые мужики могут просто прибить их сына, обвинив в чародействе и колдовстве, родители настолько запугали ребёнка, что он зарёкся проявлять свой чудесный дар.
Моня выучился на повара и работал в ремесленном училище, где его очень ценили за трудолюбие и честность.
Женился он ближе к тридцати на Гале, учительнице русского языка из их училища.
Девушка была тихой и доброй.
Всё было нормально до тех пор, пока тесть и тёща, в доме которых они жили, не стали «нагибать» Моню, чтобы он «носил» продукты и кормил семью.
Делать это Моня отказался наотрез.
Он даже не хотел носить продуктовые отходы для их кабанчика.
Такое «хамство» вызвало праведный гнев родителей жены, «которые не для того выдавали дочку за грязного еврея, чтобы она жила на его жалкую зарплату».
Особенно доставалось Моне, когда тесть выпивал, что бывало довольно часто.
Слово «жид» поселилось доме и сделало Монину жизнь невыносимой и небезопасной.
Уходить жить на съёмную квартиру жену не отпускали, а у Мониных родителей в одной комнате жили четверо.
В общем, от страха и безвыходного положения, Моня решил бороться за свою жизнь единственным доступным ему способом. Моня садился напротив пьяного тестя, и начинал с ним разговаривать, не открывая рта, разными голосами, отчего у тестя вскоре началась паника и бессонница. Он стал проявлять беспричинную агрессию, и, в конце концов, попал в милицию, которая переправила его в психбольницу. Там тестя продержали неделю. Вернувшись домой, тесть запил и уже из запоя не выходил. Однажды тёща обнаружила его повесившимся в сарае.
Когда рабочие засыпали могилу, Монина тёща, рвала на себе волосы и кричала, что без Вани она жить не хочет и скоро придёт к нему.
И тут, к ужасу окружающих, из могилы донёсся утробный голос тестя:
– Жду-у-у-у!
Тёща потеряла сознание, а остальные разбежались.
С тех пор тёща уже не вставала, и вскоре умерла от инфаркта.
Погоревав некоторое время, супруги зажили нормальной жизнью советских людей, обзаведясь хозяйством и детьми.
Но как говорится в известной пословице «Кому хрен, а еврею два».
Галина сестра Ольга сбежала от мужа и переехала жить в родительский дом на правах наследницы. Характером она пошла в родителей, а потому в доме снова поселился страх и уныние.
Когда сестру увезли в психбольницу, Моня, сдуру, рассказал жене причину её недуга, продемонстрировав свои способности.
Чтобы спасти сестру, Галя всё ей рассказала.
Сестра тут же заявила в милицию. Моня получил срок. А его супруга не только осталась одна, но и отдала сестре половину дома.
В, общем, Моня сделал неутешительный вывод, что говорить нужно, как можно меньше.
Даже с любимыми жёнами.
Убить тёщу
Эта история началась с того, что тёща Бориса Васильевича Сизова уехала к сестре в Саратов, а свою дочь и зятя попросила поливать цветы и проветривать квартиру.
По средам и субботам Сизов забегал полить цветы и проветрить комнаты, потому что у жены Ольги на это никогда времени не хватало.
В тот злополучный вторник, когда жена была на работе, Борис Васильевич пригласил к тёще на квартиру Верочку, с которой был близок ещё с институтских времён.
Отпросившись у начальства, Сизов отправился на трамвае к дому тёщи. Там его уже ждала Верочка, которой Сизов предусмотрительно выдал запасной ключ от тещиной квартиры.
Поскольку без шампанского и конфет свидание теряло всякий романтизм, Сизов решил сбегать в ресторан за углом, пока Верочка, у которой была квартира без удобств, примет ванну.
Ресторан открывался только через час, и Борис Васильевич помчался вдоль улицы, заглядывая в магазины и кафе.
Перебегая дорогу на красный свет, он не заметил милиционера и был задержан для оформления штрафа.
Но, поскольку квитанции у стража порядка кончились, он потащил Сизова в отделение, где тот проторчал около двух часов, потому что сержант был вне себя от тупости и непонятливости задержанного.
…А Верочка, едва успев снять одежду, с удивлением и страхом услышала, как открылась входная дверь, и в квартиру вошла жена Бориса с каким-то мужчиной.
Они прошли прямо в спальню и прикрыли дверь.
Быстро одевшись, Верочка выскочила из квартиры, и поспешила домой, потому что уже была не в состоянии идти на работу.
В голове, сменяя одна другую, вертелись сцены возможного кошмара, которого ей, по чисто случайности, удалось избежать.
…А Борис Васильевич, заплатив злополучный штраф, выбежал из милиции и, весь на нервах, помчался на квартиру тёщи, надеясь застать брошенную им в одиночестве, любимую женщину.
По дороге он забежал в магазин, купил бутылку водки и, от пережитого волнения и унижения, выпил в подъезде почти половину. Сразу стало легче и спокойней.
…А в это время жена Сизова Ольга, проводив любовника, решила принять ванну, и устроилась в горячей воде, мурлыкая от удовольствия.
Борис Васильевич, услышав через дверь, что любимая женщина всё ещё в ванной, успокоился и присел отдышаться.
Затем он подошёл к двери ванной и, громко постучав, сказал:
– Ну, хватит там плескаться. Я пошёл в спальню.
Ольга обмерла от ужаса, полагая, что муж за ней следил, и сейчас настанет миг расплаты…
Но муж, выпив ещё водки, лежал голый на постели в темноте, и Ольга, теряясь в догадках, легла рядом… Борис Васильевич со всей страстью набросился на женщину, а когда с трудом сообразил, что это не Верочка, а, похоже, его жена, то, решил, что у него началась белая горячка, потому что последнее время он изрядно злоупотреблял.
Но он подумал об этом, уже погружаясь в глубокий беспокойный сон. Не дожидаясь, когда муж проснётся и, радуясь, что всё обошлось, Ольга быстро оделась и побежала на работу.
…А в это время Верочка, немного придя в себя, обнаружила отсутствие обручального кольца, и побежала к парикмахерской, где работала Ольга, жена Бориса.
Увидев через окно Ольгу на рабочем месте, она почти совсем успокоилась и, поймав такси, поехала за кольцом. Открыв своим ключом дверь, она услышала сопение и храп из спальни и увидела там пьяного Сизова, чему очень удивилась.
Она пыталась его разбудить, но ничего из этого не вышло. Она забрала в ванной кольцо, и поехала домой, теряясь в догадках.
…Проснувшись часам к семи, Сизов долго не мог сообразить, что с ним происходит.
В памяти крутились лица жены и Верочки, с которыми он, похоже, одновременно был в постели, чего не могло быть в принципе, и это ещё больше распаляло в нём уныние и страхи.
Допив остаток водки, Борис Васильевич стал немного соображать, почувствовал в комнате запахи женских духов и, снова ощутив желание, решил принять холодный душ, чтобы усмирить неуместное возбуждение и окончательно прийти в себя.
…А в это время его тёща, Зинаида Ивановна, вернувшаяся из Саратова после ссоры с сестрой, открыла входную дверь и, включив свет, увидела перед собой голого возбуждённого мужчину.
Будучи совсем ещё нестарой женщиной, она не могла оторвать взгляда от давно забытого зрелища, а когда нашла в себе силы поднять глаза, то обнаружила, что это нелюбимый ею зять, отчего она испытала прилив стыда и необъяснимого страха. Чтобы как-то реабилитировать себя в своих глазах и в глазах этого негодяя, Зинаида Ивановна бросилась к раскрытому на кухне окну и стала звать на помощь, выкрикивая самые неуместные и дикие слова.
Пытаясь как-то прекратить это нелепое недоразумение, Борис Васильевич схватил тёщу и отбросил от окна.
Но, видимо, это был совсем уже несчастливый для него день, потому что тёща ударилась головой об угол стола и свалилась без признаков жизни.
Всё остальное смешалось в голове Сизова настолько, что в себя он стал приходить только в тюремной психбольнице, где и пробыл три года после следствия и суда.
Узнав о его приключениях, зэки дали ему кличку Казанова, что абсолютно не шло к его мягкому, доброму и интеллигентному лицу.
Но клички, как и имена, люди сами себе не выбирают.
Хирургия
– Это не на клиросе читать…
А. П. Чехов «Хирургия»О хирурге лагерной больницы Управления КЛ 400 Борисе Ласкере ходили легенды.
За те шесть лет, что он проработал после института в больнице, он проделал столько всевозможных операций, что ни одному из его коллег на свободе такое не могло и присниться. Он брался за любой случай, потому что никаких других вариантов у его пациентов всё равно не было.
А привозили ему больных и раненых со всей железнодорожной ветки Управления, где и располагались лесные зоны.
И если привозили безнадёжного с ранением в сердце или в голову, с поражением мозга, то Борис Аркадьевич всё равно брался за это дело, потому что о кардиохирургах и нейрохирургах можно было только мечтать, а в Сыктывкар зэка никто везти не будет, потому что и не каждого вольного повезут.
Если врач в городской больнице ещё боялся какой-то ответственности (так учили в институте), то кто бы это перепроверял записи в истории болезни какого-то там жулика или бандита.
Но многие операции удавались, а потому и славился Борис Аркадьевич на всю округу. А те, кому не повезло, ничего плохого сказать о докторе Ласкере уже не могли.
В свои двадцать семь лет Борис Аркадьевич был вполне счастливым человеком. Он пользовался уважением среди коллег, почтением у населения и успехом у женщин.
Зэки же его боготворили, ибо судьба любого зэка зависела только от случая, начальства и Бориса Аркадьевича, если не дай Бог что…
Тот злополучный субботний день ничем не отличался от других, и Борис Аркадьевич уже засобирался домой, когда неожиданно зазвонил телефон и бодрый мужской голос сказал, что сейчас с ним будут говорить.
Звонил заместитель начальника Управления по режиму полковник Оскома. Он попросил Бориса Аркадьевича дождаться его на работе для важного разговора.
Николай Павлович Оскома был редкой сволочью, и встреча с ним ничего хорошего не сулила. Он сломал не одну тысячу жизней, и боялся его весь город, который так или иначе зависел от работы Управления, самого большого в городе предприятия.
Мало ли какие грехи и грешки на деловом и на личном фронте водились за доктором Ласкером, о которых могли донести главному оперу Управления, поэтому те двадцать минут, которые понадобились полковнику на дорогу, доктор провёл в тревоге и аналитическом раздумье.
На его удивление Николай Павлович был само обаяние и приветливость. Он достал из кармана бутылку коньяка и предложил посидеть и выпить за знакомство.
После выпитого коньяка и высказанных в адрес доктора комплиментов, полковник приступил к разговору, предупредив Бориса Аркадьевича о строгой конфиденциальности.
Оказалось, что полковника Оскому, при одном имени которого многие теряли покой и сон, на протяжение многих лет мучает жесточайший геморрой, что делает, в последнее время, его жизнь просто невыносимой.
– Вы понимаете Боря, что мне при моей должности и авторитете нельзя, чтобы об этом узнали и говорили все кому не лень. Поэтому я могу довериться только вам, в надежде, что это навсегда останется между нами.
У Бориса Аркадьевича отлегло от сердца.
– Геморрой, делов-то! – подумал облегчённо доктор.
Тут же в ординаторской, осмотрев больного, доктор Ласкер пришёл к выводу, что необходимо оперативное вмешательство, о чём он и поведал забеспокоившемуся полковнику.
– Дело в том, Борис Аркадьевич, что я совсем не могу переносить боли, даже уколов, а тут операция. Может быть можно как-то иначе.
– Не волнуйтесь, Николай Павлович, я Вам, по блату, сделаю операцию под общим наркозом. Так что проснётесь здоровым, как новенький.
– Да, но у вас тут анестезиолог молодая женщина.
– Завтра анестезиолог выходная, а я Вам сам дам наркоз, а в помощники возьму санитара из заключённых. Он бывший студент-медик. Очень способный, знающий и язык держать за зубами умеет. Не Вы первый обращаетесь ко мне с такой деликатной просьбой. Не волнуйтесь, ради Бога. Всю жизнь будете меня благодарить. И не заметите, и не почувствуете.
Они допили коньяк и договорились встретиться завтра, в воскресенье в девять утра.
Предупредив санитара Лёву, который досиживал четвёртый год за торговлю наркотиками в родном мединституте, оба стали готовить операционную для завтрашнего дня.
Наутро, подготовив и уложив полковника на операционный стол, оба медика надели перчатки и маски приступили к делу.
Всё было привычно и просто.
После укола с лёгким наркотиком, больному вкололи релаксант для расслабления наружной и внутренней мускулатуры.
Осталось только ввести в трахею интубационную трубку, чтобы подавать в лёгкие кислородную смесь, ибо после релаксации сам больной уже был дышать не в состоянии.
Релаксант уже подействовал, и у медиков была всего пара минут для интубации и включения дыхательного аппарата, но к своему ужасу Борис Аркадьевич обнаружил, что рот больного до конца не раскрывается, и трубку ввести в трахею нет никакой возможности.
Видимо челюсть была раньше сломана и неправильно срослась.
Времени почти не оставалось, и больной мог просто задохнуться, потому что релаксант расслабил все мышцы организма.
– Лёва, сука! Выбивай ему верхние зубы, а то мы его сейчас потеряем. Нас же за яйца с тобой подвесят, если он умрёт. Скажут, что мы специально его угробили. Давай!
Лёва схватил металлический штатив для переливания растворов и, нижней его частью, стал колотить изо всех сил по верхним зубам полковника, пока не выбил три зуба.
Наконец-то трубка вошла в трахею, и полковник задышал на аппарате.
Борис Аркадьевич без сил рухнул на пол.
Просидев пару минут и отдышавшись, он встал и подошёл к операционному столу.
– Лёва, козёл! Где третий зуб?
– А я откуда знаю. Был тут.
– Ты его держал в руках?
– Нет! Я думал он у тебя.
– Он думал. Скотина! Он у него в трахее, а может уже и в бронхах. Кошмар! Мы с тобой из тюрьмы не вылезем, он же самостоятельно не сможет дышать. Нужно вскрывать грудную клетку и отыскать этот грёбанный зуб.
Борис Аркадьевич уже копался во внутренних органах грудной клетки, когда Лёва на полу, у ножки стола, обнаружил потерявшийся зуб.
– Вот он! – Радостно закричал Лёва, на что Ласкер грязно выругался и, с криком «Скотина!», запустил в голову Лёвы хирургический зажим.
Закончив зашивать, трясущимися руками, огромный шов на груди полковника, Борис Аркадьевич присел на топчан и с ужасом представил себе дальнейшее развитие событий.
Всю ночь он просидел возле постели больного, не сомкнув глаз.
Но, пролежав две недели в лагерной больнице в отдельной палате, полковник уже не думал ни о геморрое, ни о зубах, ни о враче-негодяе, ни об огромном шраме на груди.
Его волновала только одна мысль.
Как это событие отразиться на его репутации, и не станет ли он посмешищем в Управлении и городе.
Все посвящённые клятвенно обещали сохранить тайну до могилы.
Но, как это обычно и бывает, новость разлетелась мгновенно и стала поводом для пересудов и обсуждений, пока не превратилась в анекдот и дошла до московского начальства уже искажённая до неузнаваемости.
О полковнике Оскоме стали рассказывать легенды и небылицы, почти как о Чапаеве, не забывая дополнить, что он до сих пор ходит с геморроем.
Как-то так само собой отпал вопрос о его переводе на повышение в Главк, что было до операции вопросом почти решённым.
Так, из-за банального геморроя, страна не досчиталась ещё одного генерала.
А Борис Аркадьевич, чтобы не испытывать дальше свою судьбу, тихонько собрался и уехал к себе домой в Москву, чтобы там использовать накопленный после института богатейший опыт.
Какая судьба постигла санитара Лёву нам доподлинно неизвестно.
Но мы надеемся, что с такой богатой медицинской практикой он нигде не пропадёт.
Моей любви волшебные слова
Тот, у кого хватило терпения и охоты читать мои «Лагерные хроники» постепенно должен был почувствовать, что за спиной моих героев всё время ненавязчиво колышется полотно декорации, на котором лёгкими, но достаточно осязаемыми мазками нарисована зона.
Зона, не очень кровожадной, безалаберной и пьяной эпохи Леонида Ильича Брежнева, какой видели её наши герои, на тюремном, усиленном и строгом режиме.
О порядках и нравах «малолетки» и «общего» режима автор судит только по устным рассказам, встреченных им, экземпляров, побывавших в тех местах. Разница огромна.
Если на усиленном и строгом режимах люди постоянно думают, как бы выжить, то на малолетке и общем, где срока первые и небольшие, их мысли заняты в основном тем, что они будут рассказывать на воле. Для них это чаще всего приключение, а не длительный и тяжёлый период жизни, как для людей со строгого. Часто и вся жизнь. А иногда и смерть.
Существует ещё и особый режим, где содержатся особо опасные рецидивисты. Это осужденные трижды по одной и той же не тяжёлой статье (кража, хулиганство, грабёж). Или лица, имеющие две судимости за статьи особо опасные (убийство, разбой, изнасилование при отягчающих обстоятельствах, лагерное преступление).
Поэтому на особом режиме могут встретиться и дважды убийца, и мужик три раза сидящий за кражу комбикорма.
Для уважения в зоне причина, по которой ты попал, значения не имеет.
Грозный на воле убийца может стать в лагере опущенным петухом, а любитель колхозного комбикорма – достойным и уважаемым человеком.
Очень важно, чему тебя научили родители, и как ты можешь держать себя в коллективе. Важно, кто ты есть сейчас и на что способен. Твои «заслуги» на воле или в прошлом никого не интересуют. Проколы – да. А подвиги – нет.
За что посадили говорить не принято – это не интересно и от этого всех уже тошнит, как и от блатных песен, которых я в лагере практически не слышал.
Пришедшую с воли молодёжь, просят рассказать и спеть то, о чем уже забыли или не успели узнать.
Отсидевшего половину срока на особом режиме, могут перевести досиживать на строгий, где и режим помягче и льгот побольше.
Одним из таких парней, пришедших с особого режима к нам на строгий, был Петя Зинченко. Работал он пильщиком на разделке леса. Никуда не лез, много читал и был заслуженно уважаемым человеком.
Я всегда старался его отличить, и часто давал ему вне очереди необходимые для электропилы принадлежности, которые, как и всё остальное в нашей стране, были в дефиците.
Никаких преступных наклонностей у Петра не было, но таких в лагере большинство.
Трезвый человек в лагере – это не совсем тоже, что пьяный на свободе.
Но Петро, вдобавок ко всем своим видимым достоинствам, не выказывал никакого интереса к спиртному.
Что могло привести такого человека на особый режим, было непонятно, хотя такими вопросами в лагере никто не заморачивается, и спрашивать путёвому хлопцу об этом неприлично. И без этого всегда понятно, что за птица перед тобой.
Кто не понимает, тот погибает или опускается.
Можно ещё пытаться никуда не встревать, но для этого надо уметь себя так поставить и быть по-человечески воспитанным.
К сожалению, таких в лагере немного, как, впрочем, и на воле.
Но Петро Зинченко был именно таким.
Однажды его родители привезли ему на свидание книгу Артура Хейли «Аэропорт», и, прочитав сам, Петро занёс мне её в секцию, чтобы как-то выразить мне свою признательность за внимание.
Я лежал в секции с ангиной, а сам он вернулся с ночной смены. В заботе о моём здоровье, дневальный, который уважал меня и боялся, как деревенские дети отца, где-то достал малиновое варенье и мёд, и мы с Петром устроились в проходе между койками пить чай.
Слово за слово, и я узнал, что родом Петро из Первомайска Николаевской области, где его отец работает директором школы, а мать – заведующая родильным отделением.
Петро стал отвечать на мои наводящие вопросы, и я услышал его историю, удивившую даже меня, человека, которого давно уже ничего не может удивить.
После школы Петро уже почти год отработал, для стажа, на заводе, и готовился к поступлению в институт, когда врезался на мотоцикле во встречную легковушку. Он и его пассажирка оказались в кювете с поломанными костями.
Петра врачи поставили на ноги быстро, а девушка умерла на второй день после аварии – сломанное ребро повредило внутренние органы. Невиновного водителя «Москвича» отпустили, а Петро попал под суд.
Учитывая, что он был трезв и имел хорошие характеристики, а также из уважения к его родителям, суд счел возможным дать ему четыре года общего режима. По его статье можно было уйти после одной трети на «химию», как тогда называли стройки народного хозяйства, или по «половинке» на свободу.
Жил Петро только мыслями о воле, работал токарем и, чтобы не забыть науки, пошёл в одиннадцатый класс в вечернюю школу.
Так получилось, что с женщинами до зоны у него ничего, кроме случайных поцелуев, не было, поэтому, когда он увидел учительницу русского языка Ольгу Петровну Ларину он сразу потерял покой.
Она была невысокого роста, слегка полновата, что при её мягкой и нежной красоте было ей даже к лицу.
Петро устроился на первом ряду в классе, и между ним и Ольгой Петровной сразу возникло, то, что лучше всего определяется понятием взаимное чувство.
Петро был красивым парнем, к тому же отличался манерами и тактом, чему другие ученики похвастаться не могли. Чувства настолько заполнили всё существо Петра, что он решил для себя, что увезёт Ольгу и её сына с собой после освобождения.
Он видел на промзоне её мужа, толстого и несимпатичного капитана, а потому решил, что для самой Ольги это тоже будет спасением.
Роман их протекал молча. Всё говорили взгляды.
Он видел, как загорались её глаза при встрече с ним, как трепетал её голос, когда их взгляды пересекались, и как вздымалась её грудь, когда она, проходя мимо его стола, невзначай клала руку на его плечо. Им двоим всё было понятно. Они созданы друг для друга, и сделают всё возможное для того, чтобы быть вместе.
В бессонные и томительные ночи, когда руки Петра непроизвольно опускались вниз, и он, лаская себя, думал об Ольге, в голове у него рождались такие ласковые и выразительные слова, на которые он никогда раньше и не обращал внимание.
Потом, опустошённый, он представлял, что это они вдвоём обессиленные лежат на огромной белой кровати, и он читает ей стихи, которые всё время вертелись у него в голове:
«Моей любви волшебные слова».
Петро не знал, откуда взялась эта строчка, но она жила в нем, рядом с любимым лицом Ольги, и он мечтал произнести их в минуты их близости.
Во время перемен и на уроке, он, как и остальные ученики, мог болтать с Ольгой Петровной о разных пустяках, но взгляды и случайные прикосновения говорили о любви.
Так прошло три месяца, когда однажды днём за ним прибежал дневальный из школы и сказал, что его вызывает химичка.
Химичка была пожилая и некрасивая женщина, поэтому Петро решил, что его попросят перетаскивать мебель или приборы.
Когда же он вошел в класс, химичка указала ему на дверь лаборатории, где, войдя, он увидел свою Ольгу. У него остановилось сердце. Он прижал её к себе и пытался вспомнить слова, которые все эти месяцы мысленно произносил ей.
Но Ольга, поцеловав его быстро в губы, сказала:
– Давай, скорей – у нас мало времени.
Петро сначала не понял, о чём она говорит, а сообразив, робко спросил:
– А как?
Не было той большой белой кровати, на которой он в мечтах видел Ольгино лицо, и вообще обстановка не располагала к произношению ласковых слов и нежностей.
Но Ольга Петровна подвела его к лабораторному столу, затем подняла юбку и опустила трусы. Потом она повернулась к Петру спиной и легла грудью на стол.
Всё это произошло так быстро и неожиданно, что когда Петро сообразил, что к чему и посмотрел вниз, то увидел перед собой огромный белый зад Ольги Петровны с большим красным прыщиком на левой ягодице. Он никогда не думал, что её зад мог быть таким огромным. Он не понимал, что нужно делать. Куда говорить нежные слова, которые он приготовил.
В голове вертелось только одно слово: Жопа! Жопа! Жопа!..
Никаких сексуальных чувств это зрелище не вызывало. Было противно и страшно.
Испытывая невыносимый ужас, он вылетел из лаборатории, пробежал мимо химички и понёсся по коридору.
Он выбежал из школы, не зная куда бежать и что делать. Лишь бы оттуда, от кошмара и стыда.
Навстречу ему шёл сержант, который попытался его остановить, но Петро вырвал рукав и ударил сержанта кулаком в лицо.
Он прибежал в барак, купил у дневального бутылку водки и в умывальнике выпил её из горлышка, обливаясь и захлёбываясь.
Очнулся он на следующий день в изоляторе. У сержанта была сломана челюсть, и за беспричинное нападение на сотрудника колонии Петру добавили пять лет и отправили на особый режим. Так он стал особо опасным рецидивистом.
Петро замолчал. И мне нечего было сказать.
Однако на всю жизнь в моей памяти осталась прекрасная фраза:
«Моей любви волшебные слова».
Нэсэ Галя воду
Это пятнадцать лет спустя, уволенный, исключённый из партии, выселенный из служебной квартиры, вчерашний подполковник Сергей Иванович Алейников будет окончательно спиваться по милости своего тринадцатилетнего сына, открывшего из окна стрельбу по прохожим из не зарегистрированного отцовского карабина.
И это я, единственный из его знакомых, притащу его к себе домой и буду замывать за ним блевотину, а потом устраивать старшим инженером по технике безопасности на фанерный завод с квартирой и хорошей зарплатой.
А пока он, тридцатипятилетний капитан, заместитель начальника колонии по режиму прыгал вокруг меня, норовя испробовать на моём лице качество своих новых коричневых перчаток.
За столом сидел начальник отделения (двух колоний) подполковник Тихонов и ненастойчиво остужал его прыть. Меня же пытался по привычке запугивать:
– Здесь тебе не Украина, здесь тайга-закон, а медведь-прокурор, и я лично пристрелю тебя, если надумаешь бежать, да ещё других подбивать – он пытался быть суровым, – уж я-то не промахнусь, второй раз лечить не будем.
– Вы думаете – это так просто, убить невиновного? Я ведь вам ещё ничего плохого не сделал. «Ещё» как-то само собой выделилось.
– Нет, Сергей, ты только посмотри на этого наглеца, он ещё мне угрожает; пусть посидит для начала десять суток, а потом отправишь его грузить вагоны.
Тем разговор с моим новым начальством и закончился.
Изолятор, на удивление, оказался тёплым сытым и большим. Сидело в камере человек десять, но подружился я сразу с сорокалетним вором прошляком (то есть завязавшим без отказа) Мишей Рыжим. Жил он в туберкулёзном бараке, куда менты не ходили даже для пересчёта, а потому там была особая атмосфера вольницы, нисколько не нарушаемая почти ежедневным выносом трупов. В изолятор же Миша попал на зоне, по дороге из бани, при получении карточных долгов.
Вышел Миша раньше, и я, после изолятора продолжал с ним дружить и общаться.
Работать меня отправили в бригаду погрузки, где я месяц должен был помогать рабочему звену бесплатно, пока не научусь бегать по обледенелым трапам с бревном на плече. Кое-что уже начинало получаться, когда меня вызвали в штаб к инспекторам спецчасти.
Один раз в месяц в штаб жилой зоны, после работы, приходили сотрудники бухгалтерии и спецчасти. Как правило, это были пять-семь женщин под охраной пары сержантов. Таким путём женщины отрабатывали свои надбавки за опасность (хотя неизвестно ещё, кто кого больше боялся), и попутно решали, интересующие обе стороны, вопросы.
Комендант барака повесил в коридоре список тех, кому необходимо явиться на приём, и я обнаружил свою фамилию в колонке спецчасти. За день я промёрз и устал, но отказаться от возможности увидеть сразу пять женщин я не мог, да и интересно было узнать, на кой чёрт я им понадобился.
В кухонной кочегарке, за пачку чая, я принял душ, побрился, надел зелёную водолазку, взял у приятеля вязаный белый шарф и, накинув новую телогрейку на плечи, отправился в штаб.
Зеки шли на приём прямо с работы или из столовой, поэтому я, на фоне этой серой забушлаченой массы, выглядел элегантно и даже несколько вызывающе.
Приём уже подходил к концу, поэтому дамы, как бы, закругляли дела.
– Простите, пожалуйста – сказал я громко – меня зовут Марк Неснов, меня приглашали. Высокая дородная женщина, с мягкой домашней внешностью, позвала к себе за стол:
– А ну, йды-но сюды, вурдолак ничный, подывымося, кым тут у нас дитэй пугають? Сидай, видьмак! – грозно сказала она.
Я сел. Она осмотрела меня внимательно.
– И на оцього шибеныка намалювали такэ товстэ дило? Та у нього ж учора скрыпку видняли, чи може хлейту. Ото ж мало тэбэ мати та батько были, злыдень ты шкодливый.
Я одурел. С одной стороны она на меня ни с того, ни с сего выливала ушаты помоев, а с другой, в её облике и голосе была такая материнская доброта и игра, приправленная украинским говором, что я сразу понял, с кем имею дело и успокоился.
Вся комната затихла и повернулась в нашу сторону. Они-то знали эту грозную, всесильную тётку, жену главного вершителя судеб в отделении подполковника Тихонова, а для меня это была просто прикольная и добрая хохлушка.
– Ну чого мовчиш, бисова дитина? Знае кицька чье сало зъила!
Я понимал, что выйти из положения можно только поддавшись её игре, не вылезая за рамки приличия, чтобы не угодить в изолятор.
Уставившись на неё влюблённым сыновним взглядом я запел:
Нэсэ Галя воду, коромысло гнэться, А за нэй Иванко як барвинок въеться… Пидхватуйте, мамо, а то мэнэ посодють…– От, байстрюк, вин щэ спивае. У нього сроку ще десять рокив, а вин тут спивае. Маму соби знайшов, босоврюга! Га? Подывиться на цього сынка, люды добри! Я б з такым синком вже давно б повисылась. Чы ты, баламут, знову надумав тикать?
– Куды ж мэни од вас тикати, матинко?
– Нэ пидлизуйся, гадюка! На от роспышысь! Аника-воин!
Я подписал копию очередного судебного определения и, демонстративно-тепло со всеми распрощавшись, подмигнул заговорщицки тётке и ушёл в барак…
Дело в том, что судебные писарчуки срок записали правильно, а статью в бумагах потеряли.
Из-за этого я больше года после побега кантовался по тюрьмам и пересылкам, а теперь вот подписал очередные бумаги.
Через пару дней, в обед к вагону, где я работал, подошёл Алейников с директором лесозавода:
– Подойди, студент, …вот на лесозавод нужен десятник шпалорезки, директор тебя берёт.
Я поблагодарив, сказал директору, что догружу с ребятами вагон и подойду.
Место было хорошее и просто так его не давали.
– Наверное мама его надоумила – подумал я. Мне уже было известно, что начальник спецчасти Вера Григорьевна – жена Тихонова, и он её боится, как и весь остальной посёлок.
Я уже около месяца работал десятником на шпалорезке и помогал, если надо, остальным мастерам и десятникам. Было это интересно, как и любое дело, которое нравится.
Вся специальная литература в конторе, в которую никто никогда не заглядывал, была мною мигом проглочена, и как-то вечером, когда я копался в техническом отделе лагерной библиотеки, меня нашёл мой приятель одессит Володька Опиханов.
Оказывается в школе появились две новые учительницы. Одна, дочка Тихонова, Ольга Михайловна преподаёт русский, а вторая Ольга Николаевна, её двоюродная сестра, – математику.
По слухам, обе не прошли после школы по конкурсу в вуз, и папа их пристроил для стажа и неплохого заработка. Обе хорошенькие, и уже вся молодёжь в школе на смотринах. Школа в лагере такая же профанация, как и вечерняя школа на свободе, но с ещё большим цинизмом и очковтирательством, поэтому никто ни к учёбе, ни к преподаванию серьёзно не относится, хотя деньги расходуются немалые.
Посмотреть на девочек я решил пойти через неделю. Во-первых народу будет поменьше, а во-вторых, чего мне в толпе делать?
В связи с тем, что с ноября по январь преподавание по русскому не велось, были организованы консультации для восстановления графика, как было заявлено.
– А ну, братва, отшейте там этих тюльпанов и бантиков на входе, скажите им, что отменили консультацию – попросил я Володьку и Колю – давно я не воровал лошадей в царских конюшнях!
Володька засуетился:
– Там шнырь от «кума». Сдаст.
– Слабину почувствует – сдаст. Только пусть он нас боится, козёл, больше, чем «кума».
В класс вошла молодая, высокая, симпатичная девушка с журналом в руке:
– А что никто на консультацию не пришёл?
– А я?
– Ой! Извините пожалуйста.
– Да, ладно сочтёмся – я вложил во фразу всё своё безразличие.
– Какая у вас фамилия… Я не нахожу вас в журнале?
– А вы допишите внизу, я теперь у вас буду первым учеником… по посещаемости консультаций. Вы очень похожи на свою маму.
Она вопросительно глянула на меня:
– Вы знаете мою маму?
– Ой? Така ж гарна жинка! Я, кстати, её должник, можете передать?
Я положил ей на стол томик Ахматовой.
Она взяла в руки книжку:
– Я читала Ахматову только у девочек в тетрадях, а где вы достали?
– В карты выиграл. Да нет, шучу, у одного жулика выпросил. А было бы здорово иметь такую тёщу как ваша мама.
Она выпрямилась, посмотрела на меня и надменно сказала, видимо вспомнив наказы взрослых.
– Несмотря на молодость, я хорошо разбираюсь в людях.
– Да я и не думаю, что ваша мама от меня в восторге, просто я всем потенциальным тёщам нравлюсь. Ну, какая же умная хохлушка не мечтает для дочери мужа-еврея, да еще такого симпатичного и доброго.
– Можно задать вам один вопрос?
– Сразу отвечаю, гражданин педагог! Авария, три года, остался год. Так что у вашей мамы всё впереди. А знаете, что? Верните мне книжку, зачем ей знать о нас.
– Что знать? – возмутилась она.
– То, что вы мне немножко нравитесь и пока терпите. Молчанье – золото.
Я забрал книгу и, не прощаясь ушёл, напевая: Нэсэ Галя воду, коромысло гнеться…
Когда я вышел из класса, школа была ещё почти пуста, но Коля сказал, что шнырь обратил внимание на наши манёвры. Дневальным был бывший полковник, работавший на оперчасть в открытую. Он вызывающе смотрел на нас, стоя у двери своей каптёрки.
– Ну как жизнь Павел Степанович – сказал я, проходя мимо.
– Да у меня-то неплохо – с намёком, нехорошо улыбнулся он.
Я, не останавливаясь, схватил его за грудки, втолкнул, не открывая дверей, в его комнату и грохнул головой о зеркало на противоположной стене. Зеркало разбилось, а шнырь стоял онемевший от неожиданности.
– Смотри, мусор, только заподозрю тебя в чём-нибудь, удавлю. Ты понял, гадёныш? И выяснять не буду. Уже живёшь лишнее, гнида туберкулёзная. А не успею, так пацаны кадык вырвут, и кум не спасёт.
Коля! А ну, выколи этому козлу один глаз карандашом, чтоб не смотрел, куда не надо.
Дневальный стал плакаться и убеждать, что он за меня родину продаст и всё прочее.
– Ну, хрен с тобой, фашист недодавленный, никуда ты не денешься. Тресни его, Коля, чтоб разговор помнил.
Я повернулся к двери, а Коля своим сухим кулаком ткнул его сильно в живот, отчего тот упал, корчась, на пол. Володя ещё зацепил сапогом по почкам.
С утра я подменял больного пилорамщика, когда вольный директор лесозавода позвал меня к себе в кабинет.
– Я смотрю, ты во все дырки лезешь, всё хочешь знать, никак на моё место метишь?
– Мне этого мало, я государством хочу управлять.
– Ну, давай, готовься, вот тебе новые справочники по лесопереработке, отметь мне нужные таблицы закладками. А вообще-то, я тебя с понедельника мастером хочу назначить по доске и таре.
Я изучал эти скучные справочники с таким интересом, как будто это были детективы, потому что уже решил стать лучшим специалистом лесного дела, так как понимал, что моя жизнь с лесом связана надолго. Каждый день я старался поработать на каком-нибудь станке, и жить интересами и заботами бригад, пытаясь понять то, чего руководство не способно понять в силу своей отрешённости от этих интересов.
Одну консультацию я пропустил, оставшись на бирже на вторую смену, а идя на следующую, которую ребята опять мне организовали, сунул дневальному школы целиком пятьдесят рублей – две его месячных чистых зарплаты.
Ольга Михайловна уже сидела в классе, и сразу на меня наехала:
– Ваше счастье, что вас не было в прошлый раз. Мама мне всё про вас рассказала. Зачем вы меня, как дурочку, обманули? Какая у вас авария? Там же просто тихий ужас. Я вас за приличного студента приняла, а вы бандит и обманщик, хотя маме нравитесь.
– Я же говорил, что всем потенциальным тёщам нравлюсь. И с чего это у вас с мамой обо мне разговор зашёл; где я и где мама: «Во городи бузына, а в Кыеви дядько».
Она засмеялась:
– Так ото ж и воно, причепылась ваша писня про Галю, я соби у кухни спиваю, а мама вдруг:– А ну признавайся, где эту песню слышала недавно. – Я и растерялась.
– А мама что?
– Мама верит, что я папе неприятностей не сделаю. А привет вам передала. Сказала, что вы там уже какой-то начальник.
– Вы знаете Оля, какой самый лучший способ врать? Это говорить почти всегда правду. Почти на сто процентов.
– А зачем вы мне это говорите?
– Ну, вдруг у нас появится тайна, о которой маме знать не нужно.
– Вы думаете я такая глупая, что до чего-то серьёзного у меня может дойти с вашим братом?
– С братом нет, он совсем другой, а вот, если я не сумею в вас не влюбиться, то дойдёт и до большего, чем мы оба сейчас думаем. Я тоже ведь все эти дни думаю только о вас. Не считаете же вы, что встреча с такой красивой и умной девушкой может такого прохвоста, как я, оставить равнодушным?
Ольга очень внимательно на меня посмотрела, и как-то печально, произнесла:
– Во-первых я уже не девушка, а во-вторых, и я думаю всё время о вас; только быть у нас ничего не может, потому что у меня в Воронеже муж, и я уже два месяца, как жду ребёнка.
Я молча поднялся, взял её руку, поднёс к губам и, не прощаясь, ушёл несчастный и обиженный.
В дверях я оглянулся:
– Я вам одну тайну скажу, Оля. Все женщины дуры.
Она догнала меня в коридоре:
– Зачем вы сейчас это сказали?
– Да это я вам просто голову морочу, чтобы сбить с толку.
Прошло две недели. Работал я почти всё время в две смены, и производство занимало все мои мысли. Вольнонаёмные потихоньку взваливали на меня свои производственные заботы, и мне всё это нравилось и увлекало.
Об Ольге Михайловне я вспоминал редко. Я не был влюблён, не скажу даже, что она мне очень нравилась. Просто для моего положения всякая симпатичная девушка – королева. Хотелось бы конечно с ней пообниматься, но не прокатило, и ладно.
Так я и размышлял, когда битый нами дневальный из школы, нашёл меня у тубиков в бараке и, боясь заразиться, звал меня от калитки.
– Ольга Николаевна просила вас вернуть книгу. Она завтра придёт за полчаса до занятий.
– Ольга Михайловна? – поправил я.
– Нет! Ольга Николаевна. Скажите Марк, как вы не боитесь сюда ходить? Здесь же заразиться ничего не стоит.
– Павел Степанович, нас с вами по жизни страшат разные вещи. И это печально.
Он не понимал о чём я говорю.
Человеком он, конечно, был неглупым, только не догонял, как и большинство, что одного ума мало, и что человек – это, прежде всего, характер. Поэтому один – президент, а другой, не менее умный, его советник.
В учительской я застал их обоих.
Математичка, поздоровавшись со мной, вышла за дверь, а Ольга Михайловна, упав мне на грудь, громко разрыдалась. Я ожидал разного, но не такого, и стоял довольной растерянный, не зная, что делать.
Она поцеловала меня в губы, потом в лоб и щёки.
– Я за тебя всё время молюсь, чтобы у тебя всё было хорошо, чтобы ты выжил, и помнил меня. Я хочу быть сейчас с тобой, я тебе наврала, я не жду никакого ребёнка. Я не могу ни о чём думать, кроме тебя. Это как наваждение, я знаю, оно пройдёт, но я хочу, чтобы ты во мне остался. Придумай что-нибудь, я хочу, чтобы это всегда было во мне.
– Оля, успокойся, ты будешь потом жалеть об этом. Я же просто гнал дуру. Я не люблю тебя. Это может испортить жизнь нам обоим.
– Я знаю, что ты дурачился со мной, но у меня такого никогда больше не будет. Я хочу, слышишь, я сама этого хочу! Слышишь! Сама!
С Павлом Степановичем, который уже не только боялся, но и уважал, по-своему, меня, я договорился насчёт его комнаты, где мы с Ольгой трижды встречались.
Сдали нас на четвёртый раз, когда мы после занятий заперлись в пустой учительской.
Володя сильно забарабанил в дверь:
– Марк! Немой побежал на вахту!
Немой был повязочником, активистом. Дело в том, что на северных зонах начальство не играло в дурацкие игры по перековке и исправлению. Работаешь – получай немаленькие деньги, нарушаешь – сиди в изоляторе. И все дела.
Оперчасть имела своих тайных агентов, которые часто попадали под молотки. Но было и человек пятьдесят повязочников. Они особо не вредили, но для отчётности имелись.
Немой же был активным борцом за соблюдение режима. Всерьёз его никто не воспринимал, а тут он каким-то образом проявил расторопность.
Мы с Володей уже неслись в барак напрямик, по сугробам, а немой, наверное, ещё объяснялся с ментами на вахте, потому что прибежали они в школу, когда девушки уже шли им навстречу, а шнырь закрыл здание.
Немой притащил ментов ко мне в барак, но я уже лежал в постели, а у моей койки стояли чужие сухие валенки.
Однако на съёме меня забрали и отвели в камеру.
Поздно ночью пришёл начальник штаба батальона охраны Рябов.
– Хорошие люди просили тебе сказать, что задержали тебя по требованию оперчасти управления, недруги Тихонова. Приедут тебя допрашивать. Как ты себя чувствуешь? Чтобы ты меня не боялся, просили тебе напомнить про Галю с коромыслом.
– Скажи, что я ничего не знаю и ничего говорить не намерен.
Допрашивали меня не строго, скорее для проформы. Шнырь в школе тоже ничего интересного не рассказал. А немого допросить не смогли, так как он с тяжёлым сотрясением мозга и сломанными руками отбыл на больничку.
Через три месяца БУРа меня отправили на другую зону.
За пару дней до этого начштаба Рябов с конвоиром повели меня в посёлок в оперчасть, однако завели в спецчасть. Вера Григорьевна была одна:
– Ну как ты, Марк, живой?
– Да мне то что.
– А Оля тут долго болела. Ты же не знаешь, она таблеток напилась, еле спасли. Думали с ума сойдём, пока не увезли её.
– Вы не сердитесь на меня Вера Григорьевна?
– Ты-то тут причём. Это ей нужно было. Может это у неё последний раз в жизни такое. Я сама в молодости любовь потеряла, так что я её понимаю. Мы скоро переезжаем, Мишу в Белгород переводят с повышением.
Мы помолчали.
– Марк, скажи, не стесняйся, тебе может что-нибудь нужно?
– Нужно. Там, вроде бы, дневального, который нам помогал, бывшего полковника, выгнали из школы, и он ходит на биржу. Помогите ему пристроиться куда-нибудь в баню.
– Считай, что он уже работает. Ну, а тебе то, что нужно?
– А мне хотелось бы спеть с вами, чтобы я не чувствовал себя таким козлом.
И мы запели тихонько про Галю, которая всё ещё несла куда-то свою воду.
Брызги шампанского
Водка попадает в лагерь разными путями и довольно в больших количествах.
С одной стороны за водку вольнонаёмные решают множество своих проблем и вопросов.
С другой стороны поставщик серьёзно на этом наживается, потому что трехрублёвая бутылка в лагере стоит десять.
Иногда спиртное приносят и офицеры. Но это редко и только из симпатий. Никогда не слышал, чтобы офицер торговал водкой.
Солдаты довольно часто и в больших количествах, потому что им это удобней всего. У них контроль за воротами.
Редкое явление в лагере вино, потому что риск такой же, а «кайфа и навара» в три раза меньше.
Очень выгодно проносить 70-градусный одеколон. Здесь прибыль поставщика ещё больше. И уж совсем свинство просить кого-нибудь принести шампанское.
Это просьба неприлична со всех сторон.
И тем не менее, из-за шампанского я, совершенно непьющий человек, чуть не стал в лагере алкоголиком. Во всяком случае, почувствовал непреодолимое желание «продолжения банкета».
Иван Васильевич Пинчук был вторым секретарём Минского горкома комсомола.
Его, чемпиона союза по боксу и кандидата технических наук, взяли курировать Минский спорт, но он быстро продвинулся и готов был уже делать партийную карьеру, но за сломанную челюсть какому-то милицейскому начальнику получил шесть лет строгого, что и послужило поводом для нашего знакомства.
Во всех отношениях Иван был человеком замечательным, но самое главное, за что я выделял его из общей массы зэков, было его умение разговаривать молча. Его молчание не только не напрягало, а наоборот, делало его присутствие желанным и комфортным для окружения. Собеседник чувствовал, что любое его слово и интонация трансформируется в душе Ивана и отражается в его глазах и жестах.
Иван был само обаяние и доброжелательность.
Работал он мастером на погрузке леса в вагоны, а потому в новой конторе, которую мы построили, чтобы перетащить женщин из штаба на производство, наши кабинеты были рядом.
В Ивана сразу влюбилась начальница ОТЗ Зоя Петровна Ростова, и он тоже полюбил её однажды и навсегда. Такой он был человек.
Она верила каждому его слову, потому что такие сильные и прямые люди просто не умеют хитрить.
На северных лесных зонах зэки в начальники попадают только из среды «путёвых» парней, потому что ментовскому служаке быстро оторвут голову, а парню с разными лагерными грехами не позволят собой руководить.
Сама специфика лесного производства построена на чисто лагерных отношениях, и оно отдано на откуп зэкам, ибо по-другому не работает.
Это на «югах», где столярное или механическое производство, всё ясно и понятно лагерному начальству. А на севере в лесу сам чёрт ногу сломит.
Это я к тому, что в конторе собрались только «хорошие» ребята, а потому никакая информация оттуда практически не уходила.
С вольными женщинами установились дружеские и доверительные отношения.
Никаких статусных границ и в помине не было. Все вели себя достойно и сдержанно.
Зоя Петровна, после оставленного пьяницы мужа, была без ума от Ивана, который был из другого теста, чем все попадавшиеся ей мужики. Дворянство Ивана было в каждом его жесте и слове.
Мне Иван очень нравился, и я завидовал его умению держать себя, «по-графски» и молчать так, что с ним хотелось всё время быть рядом.
Был, правда, у него один недостаток. Он играл в карты и ему не всегда везло. Но я всегда страховал его, чтобы он вовремя платил.
Но кому же помогать, как не Ивану? Сам Бог велел.
Но это было, пожалуй, единственное, что меня смущало в нём.
Будучи спортсменом, Иван пил только полусладкое шампанское, а потому выпивал крайне редко, ибо это в лагере неприличная роскошь.
Но любящая его Зоя Петровна, зная Ивановы вкусы, наладилась ежедневно приносить в рабочую зону по бутылке шампанского.
В обеденный перерыв она не уходила домой, и они с Иваном выпивали по стакану. А поскольку оставался лишний стакан, то Иван заносил его ко мне в кабинет с одними и теми же словами:
– Марк Михайлович, не желаете ли глоток шампанского?
Мы всегда были на «ты», но эту фразу Иван произносил официально и торжественно.
Это продолжалось почти полгода и я, почувствовав, что привыкаю и к шампанскому и к ритуалу, уговорил и Ивана и Зою Петровну не подвергать искушению мой организм.
Иван, вскоре, вышел на поселение и женился на Зое Петровне.
У неё был семилетний сын, и Иван, после полного освобождения, усыновил мальчика. Они уже прожили лет шесть, когда у меня появилась возможность видеться с ними на свободе. Они часто приезжали к нам из своего посёлка, и для нас с женой это всегда был праздник. На это случай, у меня всегда была припасена бутылка шампанского, которую мы, со смехом, распивали.
Мы уже жили в Ленинграде, когда я узнал, что Иван трагически погиб.
Его ударило по голове вершинкой ели из рассыпавшейся на лесовозе пачки хлыстового леса. Попутчика Иван успел оттолкнуть, и почти отбежал сам, но его зацепило самой вершинкой. И это оказалось смертельным.
Зоя Петровна долго жила в этом посёлке, даже уйдя на пенсию. Мы перезванивались, и она говорила, что не хочет уезжать от Ивана Васильевича.
Так после смерти она стала называть своего покойного мужа.
Как-то на застолье один очень большой начальник сказал мне:
– Если бы я умел молчать так, как ты, я бы уже стал президентом.
А ведь я научился этому у замечательного человека, на которого всю жизнь мечтал быть похожим.
У Ивана Васильевича Пинчука. Земля ему пухом.
Почему мы победили Гитлера
Наверное, в жизни каждого человека случается событие, которое показывает ему, какое он дерьмо и ничтожество.
Не прошло это и мимо меня.
В каждой колонии есть должность начальника оперативной части (кума), в обязанности которого входит задача выявлять скрытые механизмы лагерного быта для принятия соответствующих карательных мер.
Кум нашей зоны капитан Амелькин, по кличке Косорылый, был человеком изощрённого ума, энергии и зловредности. Достаточно сказать, что, когда мы возвращались с работы и видели, что у кума в кабинете горит свет, настроение у многих портилось на целый вечер.
Меня он держал в напряжении постоянно, и периодически сажал в изолятор, но вышестоящее начальство, ответственное за план, освобождало меня всегда через сутки-двое, что кума приводило в бешенство.
Но однажды произошло событие, заставившее Косорылого, который ненавидел эту кличку, считать меня личным врагом. Узнав, что ко мне приехала мать на длительное свидание, Косорылый, а иначе за глаза его не называли, пришёл в нашу комнату и начал меня расхваливать матери, глядя на меня, чтобы я понимал, что он глумится и получает удовольствие.
Мама, выслушав о сыне столько добрых слов, решила поблагодарить хорошего начальника, о котором за эти два дня постоянно слышала от меня и соседей по дому свидания и, полагая, что у него такая фамилия, на голубом глазу произнесла:
– Спасибо вам большое товарищ Косорылов.
Кум посмотрел на меня печальными глазами, наверное, уже решив для себя, во что мне это обойдётся и молча удалился.
Его мести я ждал недолго.
Командир взвода охраны лейтенант Женя Ушаков, с которым мы были в приятельских отношениях, попросил заказать для его начальства у наших умельцев хороший охотничий нож в ножнах.
За две бутылки водки слесарь Володька Закржевский смастерил из автомобильной рессоры прекрасный нож, с которым не стыдно было пойти и на медведя.
Уж не знаю, какими ходами пользовался кум, но минут через двадцать после того, как я получил нож и положил его в ящик стола в своём кабинете, зашёл Косорылый с сержантом и забрали нож вместе со мной на вахту.
Сдавали меня крайне редко, поэтому я расслабился, и это была чисто моя беспечность и самоуверенность. Дело могло принять любой оборот, вплоть до уголовного.
Хозяин зоны Иван Фомич Овчинников был в растерянности. Я тянул всё производство, и ему не хотелось отдавать меня на растерзание. Но и взять на себя конфликт с кумом он не мог. Порядок – есть порядок.
Когда хозяин в третий раз повторил:
– Что же делать?
Кум неожиданно внёс предложение:
– Давайте передадим решение начальнику отряда.
Иван Фомич с радостью согласился, уверенный, что начальник отряда не будет таким свирепым, как кум. А с другой стороны сам он уходил от решения, которое принимать не хотел.
И только мы с Амелькиным понимали, какую подлянку он мне подсунул. И вот почему.
В штате лесобиржи числилось человек двенадцать женщин. Однако находились они в штабе отделения и, чтобы подписать какую-либо бумагу, к ним должен был бежать бесконвойник или вольнонаемный и ещё упрашивать их выполнить свою работу.
Я убедил начальника Виктора Григорьевича Паксиваткина построить новую большую контору поближе к вахте и перевести женщин работать к нам, где им, согласно штатному расписанию и надбавкам, быть и положено.
Ничего я так быстро не строил, как этот объект, но уже через три месяца десять нестарых женщин работало рядом со мной и ещё несколькими парнями, что открывало обширные перспективы.
Некоторые из них, при всей доброжелательности, не давали повода для сближения, а были дамы и более свободного нрава.
Я сразу начал вешать лапшу работнице сбыта Зое Петровне Болдышевой, которая, казалось, только и ждала чьего-либо внимания.
Сблизились мы довольно быстро и она, при всяком удобном случае, забегала в мой кабинет, где в смежной комнате была лежанка, чтобы я мог спать, когда оставался на вторую смену.
О муже своём она говорила, что мужик он никакой, потому, что на корабле, где он до недавнего времени служил, произошла авария, и он хватанул в лёгкие какой-то гадости, что сделало его инвалидом по всем статьям. Несколько матросов просто погибли. Живёт она с ним, потому, что он очень любит детей и человек хороший и порядочный. К тому же он, как она считала, долго не протянет.
Я полагал, по своей наивности и наглости, что о нашей связи, кроме ребят, которые нас прикрывали, никто не знает, но по виду Косорылого понял, что знает не только он, но и сам капитан Болдышев, который, после ухода из флота работал в нашем отделении.
Болдышев, временно замещавший, уехавшего на учебу нашего отрядного, по виду напоминал Кащея Бессмертного.
Высокий, неимоверно худой с лицом, похожим на лысый череп, обтянутый кожей, он производил впечатление покойника, которого забыли похоронить. Говорил он всегда тихо, нехорошо покашливая, ходил неторопливо, опираясь на палочку. Видно было, что жить ему удавалось с трудом.
Я никогда с ним не пересекался, и теперь ничего хорошего не ждал.
Косорылый рассказал ему, в чём дело. Затем положил на стол акт, нож в ножнах и заполненное Постановление, куда отрядный, по распоряжению начальника колонии, и должен бы вписать меру наказания.
Меньшее, на что я мог рассчитывать, было пятнадцать суток, но, без спора, я бы подписался и на ПКТ (помещение камерного типа) на полгода.
Косорылый явно рассчитывал на возбуждение уголовного дела, да ещё чужими руками. Это освобождало его от претензий руководства производством.
Болдышев долго читал бумаги, равнодушно глянул на меня, положил нож в ящик своего стола и большими буквами написал: «Лишить права на получение посылки сроком на полгода».
Затем протянул бумаги Амелькину.
Тот перечитал несколько раз, не веря своим глазам, а потом, посмотрев на капитана произнёс:
– Ты что, дурачок? Вообще умом тронулся? А?
И тут произошло неожиданное.
Болдышев, ещё минуту назад сутулый и убогий, беспрерывно кашляющий в платок, вдруг поднялся во весь рост, расправил плечи, надел фуражку и твёрдым, как сталь, громким голосом приказал капитану Амелькину:
– Встать! Смирно! Руки по швам. Смотреть в глаза, когда разговариваешь с офицером русского флота.
Кум подскочил, как ошпаренный, и стал по стойке смирно.
Перед ним стоял могучий и сильный человек, у которого нет страха и тормозов.
Мы оба понимали, что если Амелькин осмелится не подчиниться, он будет убит. Ни одной секунды у нас не было сомнения. Нам даже в голову не приходило думать о том, как и зачем. Мы просто были в этом уверены.
И перепуганный вид Амелькина говорил об этом.
Перед нами стояла вся русская армия в лице статного могучего и очень красивого офицера.
– Слушай мою команду – продолжал Болдышев – кругом!
Амелькин сделал неуклюжий разворот на сто восемьдесят градусов.
Если бы он получил приказ броситься на пулемёт с голыми руками, мне кажется, он не мог бы не выполнить этого приказа. Я, кстати, тоже. Потому что передо мной стоял командир, за которого хотелось умереть в бою.
– Пшёл вон! – резко сказал капитан, и Амелькин вылетел из кабинета.
Офицер снял фуражку и сел. Казалось, силы покинули его.
Он сидел так минут пять, а я стоял, оглушённый и раздавленный, боясь пошевелиться.
Наконец, он поднял на меня глаза, и посмотрел, как на пустое место:
– Идите, осужденный, не нарушайте больше.
Я вышел из кабинета. Никогда в жизни, ни до этого, ни после, меня так не вываливали в грязи. Я чувствовал себя полным дерьмом и ничтожеством.
– Завтра же скажу этой курве, что не хочу иметь с ней ничего общего!
В углу, где была моя койка, в проходе, парни на табуретках разложили еду.
Моему появлению все очень удивились.
– Мужики, выпить есть что-нибудь?
– Только одеколон, но ты же не пьёшь!
– Наливай, хрен с ним.
– Ну, давай за то, что ты проскочил.
– Нет, братва, я выпью за русских боевых офицеров. Теперь мне понятно, почему мы победили Гитлера. С Богом!
P.S. Фамилии и имена героев изменены.
Ач
С лёгкой руки Эльдара Рязанова, я имею в виду фильм «Вокзал для двоих», у российского народа сложилось мнение, что шнырь – дневальный – в лагере существо никчемное, забитое и жалкое.
Но, как и все фильмы о лагерях, и этот построен на стереотипах, которые к реальной жизни имеют далёкое отношение.
Может быть, такое и возможно в южных местных колониях, с достаточно терпимыми условиями жизни, и с непомерной тюремной романтикой у малосрочной и легкомысленной публики.
Но быть шнырём на севере в бараке лесной зоны сможет далеко не каждый, потому что участие администрации в жизни зэков на севере минимальное.
Во-первых, это человек, отвечающий за порядок в секции, где живёт до 50 человек, с очень даже не дворянскими манерами. И обходиться он должен теми небольшими средствами и возможностями, которые можно извлечь из существующих условий.
Во-вторых это доверенное лицо, у которого хранится немало ценных вещей (деньги, карты, водка, наркотики, а иногда и пара ножей), при обнаружении которых, всю ответственность он должен взять на себя.
И в третьих он отвечает за то, чтобы информация о жизни секции не выходила за её пределы.
Не говоря уже о таких мелочах, как отношения с кухней, баней и сушилкой, где валенки всей секции нужно пристроить так, чтобы никто назавтра не обморозил ноги в мокрых валенках, и не пробил тебе за это голову. А там, таких шнырей ещё 20, и каждый отвечает своей головой.
Одного этого хватит, чтобы человеку со слабой организацией психики сойти с ума, потому что спрос с него не ограничится упрёками и объяснениями.
В общем, шнырь в секции лицо очень важное.
А потому, когда моё производственное и финансовое положение позволило мне создать в своей секции особые условия, с одноярусными койками, для 20 близких мне людей, я перевёл из строительной бригады венгра по фамилии Ач к нам в секцию шнырём.
Как его звали я уже и не помню, потому что имени его никто и никогда не произносил.
По своей натуре Ач был наглым, циничным и отмороженным.
Казалось, что у этого человека нет за душой ничего святого и ценимого.
Когда-то он проиграл кучу денег, попал «под молотки», и неизвестно, чем бы это для него закончилось, но он умолил меня выкупить его долги, а потому считал меня, если не самим Богом, то уж точно его ближайшим родственником.
Переживал он своё картёжное падение недолго, и скрывал свой позор за экзальтированной весёлостью и цинизмом.
Ачу я верил и доверял полностью, потому что потерять мою защиту значило бы для него просто погибнуть. Шнырь он был отменный, и за интересы нашей секции готов был на всё, вплоть до преступления.
Он всё умел. Всегда был в бегах, что-то доставал, утрясал и выбивал. Многие его боялись, потому что в драки он ввязывался постоянно.
Короче, был он эдаким хрестоматийным босяком, у которого, казалось, не было ни стыда, ни совести.
И только я один знал, что это довольно образованный, начитанный и незлой человек, любящий до умопомрачения свою жену и семилетнюю дочь, которая, вдобавок к врождённому полиомиелиту, страдала тяжелейшим пороком сердца.
Наверное, балагуря и ёрничая, он спасался таким путём, от своих переживаний, и прятался за свой цинизм, чтобы не сойти с ума.
Делился своими бедами он только со мной, потому что знал, что я и посочувствую и помогу и оставлю всё при себе.
Закрывал я его по строительной бригаде, где была довольно приличная зарплата, и он все деньги отсылал домой, даже не оставляя себе на ларёк положенные девять рублей, на курево и прочую мелочёвку.
Жил он за счёт секции совсем неплохо, оказывая бесконечные услуги и организовывая нашу жизнь, что давало ему возможность жить с нами почти на равных.
Всё у него шло относительно неплохо, пока он не получил письмо от жены о том, что дочери нужно делать операцию на сердце, потому что положение её сильно ухудшилось. По словам жены шансов на спасение было немного, и Ач буквально почернел за несколько дней.
Парни из секции собрали тысячу рублей и отправили через знакомого старшину жене Ача.
Куда-то сразу исчезла его наглость и нахрапистость. Он стал жалким и несчастным, и постоянно заглядывал в глаза всем и каждому, надеясь получить хоть какую-то поддержку.
За пару недель из пышущего энергией здоровяка, он превратился в жалкое и слабое существо.
И, хотя большинство нашей играющей секции относилось к Ачу, как к фуфлыжнику (человеку, не уплатившему карточный долг), в этой ситуации все относились к нему с пониманием и предупредительностью.
У многих были свои дети.
Как-то зимним вечером бригада пришла около восьми часов. Впервые секция была грязная и холодная. Наиболее нетерпеливые сразу начали крыть Ача на чём свет стоит.
Но люди с понятием уже знали, что что-то произошло.
В каптёрке, где хранились вещи, за отодвинутым шкафчиком, лежал Ач со вскрытыми венами и перерезанным горлом. Рядом валялось окровавленное бритвенное лезвие.
Тело уже остыло.
Из кармана торчало письмо, в котором жена писала, что дочка умерла на операционном столе.
Никто ни о чём не разговаривал.
После того, как тело Ача унесли на вахту, откуда-то появилась водка и, даже непьющие, пили молча за упокой его души.
Анатомия ненависти
В послевоенное время многие дети развлекались тем, что забрасывали кошек с привязанным к хвосту камнем на провода.
Отец говорил, что это подло и стыдно, потому что животное не может ответить. Он говорил, что только неуверенный в себе человек черпает силу в ненависти и издевательстве над слабыми. И, что таким людям нельзя доверять власть ни в армии, ни в школе, ни в семье.
– Запомни эту истину! – говорил отец – если человек глумится над слабым, то можешь быть уверен, что это трус и подлец. В критической ситуации он продаст и товарищей и страну. Я на таких сволочей насмотрелся за две войны.
…Мне навсегда запомнились эти слова, потому что их говорил мой отец – инвалид войны.
…Другим человеком, отстаивающим эту истину, был сорокалетний одесский карманник Тимоха, с которым меня свела лагерная судьба. Делал он это необычным, но очень доходчивым способом.
Довольно часто книжные и киношные герои выдают себя за бывалых зэков, чтобы втереться в их среду.
В реальной жизни это так же невозможно, как представляться следователем, хирургом или лётчиком в кругу профессионалов. Существует масса неуловимых признаков и тонкостей, которые не только позволяют распознать сидельца, но и за считанные мгновения определить его сущность, силу духа и место в лагерной иерархии. Именно мгновения, потому что на большее может иногда просто не хватить жизни.
Поэтому тех пяти минут и десятка ничего не значащих фраз, которыми мы обменялись с Тимохой, ожидая старшину с ключами, хватило нам обоим, чтобы понять и просчитать друг друга.
– Студент, значит – ухмыльнулся Тимоха – ну, ну! Пошли, студент!
И он первым вошёл в большую и светлую камеру Микуньской пересылки, куда нас обоих привели из штрафных боксов.
Вдоль стены были устроены непрерывные двухъярусные нары, на которых располагалось человек тридцать. В дальнем верхнем углу, отгородившись мешками от остальных, сидело четверо урок, явно претендовавших на лидерство.
Не отвечая на дежурные вопросы, Тимоха неспешно осматривался, а потом громко произнёс:
– Привет, братва! Воры есть?
О ворах к тому времени уже никто не слышал лет пятнадцать, и вспоминали о них, как о героях-полярниках 30-годов.
Но Тимоха явно прикалывался, проверяя разношёрстную публику на «вшивость».
Вся камера замерла от неожиданного вопроса.
– Значит, я так понимаю, что воров тут нет.
А педерасты? – и он пристально посмотрел в тот угол, где сидели «приблатнённые».
Но весь народ одновременно повернулся в сторону убогого и затравленного мужичка в рваной телогрейке, который сидел на цементном полу недалеко от «параши».
Тимоха тоже повернулся в его сторону и спросил:
– И какой же это мусор посадил живого человека на цементный пол?
Из угла, где были «приблатнённые», кто-то произнёс:
– А с каких это пор петуха за человека считают?
Тимоша даже не глянул в сторону говорившего:
– А с тех пор, как хорошие люди поняли, что петуха обижает только тот, кто в своей жопе не уверен. Ещё разобраться надо, кто тут в камере сидит. Может вас тут половина петухов. Уж больно вы не по делу агрессивные. Не учили вас в детстве, что лежачих не бьют? Или власть над безответным петухом почувствовали? Наверно в красной армии обучались над салагами издеваться. Так вам тут не армия, где никакого закона нет. Тут вам беспредельничать никто не позволит. Быстро дайте человеку место на нарах – обратился он к нижнему ряду.
А сам, взобрался на верхние нары, где сидели «приблатнённые» и стал устраиваться, не обращая на них никакого внимания.
– Марк! Иди сюда! Тут мужики уважаемым людям, место уступают. – И уже только ко мне: – Вот так, Марик! Никогда не верь тому, кто обижает слабого. Жену там колотит или детей. Это всё от слабины в коленках и неуверенности. Уважающий себя человек жути вокруг себя нагонять не будет. Все и без жути поймут, что к чему, и кто ты есть. А не поймут, суки, так это их проблемы.
Говорил он громко, поэтому в камере повисла гнетущая тишина.
Может кто-то и хотел бы возразить, но все понимали, что конфликт с Тимохой, ничем хорошим для них кончиться не может.
Чужую силу урки всегда чувствуют своим желудком.
Так началась моя многолетняя дружба с Тимохой, одним из самых уважаемых парней на ветке, где располагались зоны лесного управления Косланлес.
Тимоша был умён, начитан, нахватан и смел. Таких в лагерях немного. Впрочем, как и на воле.
Но, именно, благодаря таким людям наглые и трусливые «сявки» знают в лагере своё стойло. А воспитанные и скромные бухгалтера и инженеры занимают в лагере своё, вполне достойное место.
Уголовная лексика и лагерные повадки к воспитанным людям совершенно не прилипают.
С Тимохой я буду пересекаться ещё много раз. И буду неоднократно получать у него уроки, которые повлияют на моё мировоззрение и характер. А человек – это его характер.
Однажды пришёл слух, что Тимоха умер по пути на больничку от инсульта.
…Впоследствии моя жизнь сложится так, что судьба подарит мне дружбу многих умных и достойных людей, среди которых будут известные писатели, политики и бизнесмены.
И хотя среди них будет немало ярких и выдающихся личностей, даже на их фоне память о Тимоше нисколько не потускнеет.
Ни в моей голове, ни в моём сердце.
Москва моя!
Что-то там не ладилось у контролёров на съёме у вахты, и колонна, нарушив все шеренги, разбрелась и устроилась по интересам.
Голова у меня была занята производственными раскладами, и ни с кем общаться не хотелось.
Но громкий смех из соседней бригады привлёк моё внимание, и я незаметно для себя, пристроился к весёлой компании.
В кругу из десятка работяг парень лет тридцати рассказывал какую-то историю в лицах, а народ весело хохотал. Он, переходя с места на место, то горбился, то становился выше или толще, то рыдал в голос, строя, по ходу рассказа гримасы и произнося тексты, исполняемых им ролей. Было очень смешно и необычно.
Парень был среднего роста с худым лицом, востреньким носом и маленькими чёрными, глубоко спрятанными, глазками.
Я прислушался и тоже увлёкся. Потом уже я узнал, что он демонстрировал, недавно вышедший на экраны, фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
У людей, живущих в зоне полной жизнью, интерес к воле постепенно отходит на второй план, поэтому я, довольно начитанный и образованный человек, выйдя на волю, не знал некоторых элементарных вещей. Например, пакетик чая в стакане привёл меня в такой дикий восторг, что я привлёк к себе внимание окружающих.
А часто гудящие мне водители напоминали о том, что существует тротуар.
Поэтому я слушал диковинный рассказ, содержание которого на свободе знала каждая бездомная собака.
Увидел же я фильм только лет через десять-двенадцать.
Парень так умело и интересно рассказывал, что я, получил огромное удовольствие и даже представление о содержании фильма.
Где-то через неделю я увидел его на пилораме, потом в бараке. Он всегда был весел, доволен жизнью, а маленькие, чёрные, глубоко посаженные глазки всегда светились доброжелательно и насмешливо.
– Я как-то спросил о нём своего приятеля Митю «Бабараку», что, дескать, за хлопец.
– Путёвый хлопец, хотя и москвич – ответил Митя.
Москвичей по лагерям не любили. Ходила поговорка: «Москвичей средних не бывает – или путёвые, или педерасты».
А было так вот почему.
По каким-то своим соображениям, почти все москвичи считают, что если им удалось встретиться с живой Клавдией Шульженко, или трижды посетить мавзолей Ленина, то они уже, заведомо, умнее любого провинциала. А поэтому запросто садились играть в карты с сиволапым мужиком, который бесконечно удивляясь уму и осведомлённости напарника-москвича, обыгрывал несчастного до нитки, да еще с мебелью родительской московской квартиры и Созвездием Лебедя в придачу.
После этого, доселе гордая, жизнь знатока столичных достопримечательностей резко менялась и становилась, в лучшем случае, тяжёлой и безрадостной.
Сам я в Москве за свою жизнь был только один раз, да и то на вокзале проездом, в «столыпинском» вагоне с решётками по коридору, а потому о москвичах имел представление только лагерное.
Женька же, так звали умелого рассказчика, мне определённо нравился, и я спросил его, как-то в мастерской, как ему работается токарем.
Неожиданно он попросил:
– Марк Михайлович, ты бы забрал меня к себе, может, на поселение вырвусь?
– А срок у тебя какой?
– Полтора, год остался.
– Срубы из кругляка делал когда-нибудь?
– Не делал, но через неделю дам фору половине твоих плотников.
– Договорились, Женя. Но сахара с повидлом не обещаю.
Токарная работа даёт относительную возможность распоряжаться своим временем, а потому через неделю Женька уже делал довольно неплохие сопряжения в срубах, и заручился даже поддержкой моих немолодых плотников.
– Вот что Женя, я хочу тебе поручить организацию строительства, потянешь?
– Никогда, ничем, кроме велосипеда не руководил, но, если надо, то и в космос полечу.
– Тогда слушай и запоминай. Комбат Болдин и ком. полка давно просят, чтобы и вахту и контору перенести в ближний конец зоны, тогда время развода намного сократится.
Ни документации ни денег на это никто не даст, а Болдину отказать я не могу, тем более он ждёт звёзды подполковника.
Закрывать смогу только четверых специалистов и тебя, им по сотне на карточку, тебе полторы. Остальных собери из обиженников, приблудных да голодных. Скажешь фуфлыжникам, если что, я по их долгам утрясу или заплачу. Они и в запретке будут работать молча, а то мужиков не заставишь. Еды и чая будет навалом. Строить будешь всё по эскизам, утверждённым отделением и полком.
Так что будешь на виду, с хозяином я договорюсь, а Болдин с судьёй водку пьёт. Набирай людей сам, с инструментом помогу. Через полгода всё сдашь и пойдёшь на химию или поселение. В общем куда пустят.
– Как у тебя всё складно и понятно! Сидеть тебе, Марк Михайлович, на тридцать шестом этаже в Москве, в большом кабинете с секретаршей – членом партии.
– Да я, Женя, такие дома только в кино видел.
– А вот попомнишь Женю Колгушкина.
Так я узнал, что у него такая странная фамилия.
Работа завертелась. Старики-плотники организовали всю разношёрстную публику, которую собрал Женя. Сам же он носился по бирже, решая вопросы снабжения, техники и ещё сотню других, которые всегда сопровождают нефинансируемое строительство. Я помогал, чем мог.
А старшина батальона, пожилой хитрован прапорщик Сидун обеспечивал кормёжку, чтобы не тратилось впустую время на ходьбу в другой конец зоны за километр. Он приезжал каждый день на подводе с лошадью и привозил с собой три термоса солдатской еды, сырой картошки, сала, луку, пачек пять-десять чаю, а то и трёхлитровую банку самогонки. Вокруг Женькиной бригады пчёлами кружили все оставшиеся бездельники и недотёпы.
Их неплохо подкармливали, за что они с удовольствием, даже в охотку, работали.
Как-то меня на стройке отыскал хозяин зоны Бобровничий Пётр Иванович.
– Слушай, Марк Михайлович, а что если мы пристроим ещё второй этаж конторы для учебного комбината.
– Пётр Иванович, мы обещали Колгушкину поселение, а теперь стройка затянется.
– За такую работу мы его на пару месяцев раньше отпустим, и не на поселение, а на свободу, тем более, что сидит он зря. У него за пятнадцать лет шесть судимостей, и все за нарушение паспортного режима и правил прописки. С ума можно сойти, в каком веке живём?
Хозяин ушёл, а я разыскал Женьку и позвал в пожарку со мной пообедать и выпить по полтинничку коньяку.
Я рассказал ему о разговоре с Бобровничим, о приближении его свободы и об информации хозяина по поводу женькиных судимостей.
Хотя мы собирались выпить по пятьдесят, а Женька к спиртному был равнодушен, он налил себе больше половины стакана и, не чокаясь со мной, выпил.
– Эта сучья власть загубила всю жизнь мою молодую, ни дна ей, ни покрышки – он сказал это как-то зло, по-блатному. Раньше такого за ним я не замечал. Он был тип уличный, но без блатного налёта.
По-видимому, ему было очень плохо на душе. И он рассказал мне историю своей невероятной, но обычной для нашей подлой страны, жизни:
– Когда я пошёл в первый класс, мои родители работали в Министерстве обороны. Отец военным инженером, а мать, по молодости, чертёжницей.
Не успела закончиться первая четверть, как весь отдел, где работала мать, арестовали. Всем дали большие сроки, а мать получила всего десять лет. С отца сняли погоны и уволили. Работать он пошёл на завод.
Сначала мы неплохо жили, но потом отец стал попивать и частенько не ночевать дома.
В нашу двухкомнатную квартиру подселили другую семью, и я частенько оставался под присмотром новых соседей. Тем не менее, я хорошо учился и переходил из класса в класс почти без троек. Очень помогала мне мамина сестра, которая часто забегала к нам или забирала меня к себе.
Вернулась мать после реабилитации, когда я заканчивал восьмой класс. С отцом они сразу развелись и мы жили вдвоём. Матери было немногим за тридцать, а выглядела она старухой. Ничего про свою лагерную жизнь никогда и никому она не рассказывала.
И только однажды, когда крепко выпила сказала мне плача:
– А ведь у меня, Женя, на севере умерли два твоих братика.
Старые знакомые помогли ей устроиться в большой универмаг кассиром.
От продажи из под прилавка разного дефицита мама имела свою долю и мы жили неплохо.
Всё было бы нормально, но один раз в два месяца мама отдавала меня тётке, а сама запиралась в комнате и беспробудно пила неделю. Потом как ни в чём не бывало, шла на работу и так до следующего запоя. На работе с этим мирились, так как она была с ними в компании и все её жалели.
В целом же всё было нормально, пока не наступил пятьдесят седьмой год – год фестиваля.
Участковый принёс бумагу, где нам с матерью предписывалось выехать на сто первый километр от Москвы на время фестиваля.
– Сама знаешь за что – сказал участковый; наверное ему донесли о материных запоях.
Ну а меня отправили, видимо, для того, чтобы ей было легче уехать.
Мать молча собрала вещи и уехала в какой-то городишко к знакомым, а я убежал с вокзала и решил остаться на фестиваль.
Кончилось тем, что меня задержали сначала во дворе, а потом дома и влепили один год малолетки. В лагере мне исполнилось восемнадцать, и освобождался я уже с общего режима без права проживания в Москве.
Это только легко сказать для человека, чья жизнь с детства связана с Москвой.
Короче говоря, прописки мне не давали около двух лет, а потом после трёх предупреждений, дали полтора года строгого.
И понеслось. Жить на сто первом километре по общежитиям с уголовщиной, пьяницами и проститутками невозможно, а длительные пребывания в Москве, всегда заканчивались для меня подписками и тюрьмой.
Может быть я бы и плюнул на всё и уехал куда-нибудь в Горький, но у меня уже была жена Люба и сын Женька, а кроме того у матери умерла сестра, и она осталась совсем одна.
Короче, вот уже почти двадцать лет я мыкаюсь по лагерям, не имея ни жизни ни покоя.
Уже и жена устала, и у меня сил нет. Жить где-то вне Москвы, так лучше в лагере.
А живу в Москве – рано или поздно ловят. То с работы сдадут, то с подъезда.
В жизни ничего не украл, дерусь только в лагере, не пью и не курю.
Вскоре Женя ушёл на досрочное, но звонил мне в контору постоянно и просил, при первой возможности, приехать к нему в Москву.
Такая возможность появилась не скоро. Мы с женой ехали как-то через Москву на юг, и я предложил ей поехать к Женькиной жене, где, как сказала его мать, он сейчас находится.
За те восемь лет, что мы не виделись, он успел отсидеть ещё два срока, и уже третий месяц жил на свободе, работая нелегально грузчиком на товарной станции. Зарабатывал он неплохо и утряс с участковым свои дела.
– Пока никто не напишет бумагу – закончил участковый их разговор.
Сына я не видел, а жена Люба приятная и тихая женщина, работавшая тогда на Всесоюзной студии грамзаписи, очень нам понравилась. Она, кстати, подтвердила, что на их с Женькой свадьбе играли Первый концерт Чайковского, а не марш Мендельсона, чем и закончила наш, ещё лагерный спор.
Чтобы поговорить без женщин, я предложил пойти выпить пива.
– О! Я тебя сейчас таким напитком угощу, завал!
Так я впервые попробовал разливную «Фанту», которая только появилась, и был в восторге.
Видя моё благополучие, Женька напомнил мне про тридцать шестой этаж.
– У тебя всё ещё впереди, попомнишь меня, а для меня жизнь уже кончается.
– Жень! Да тебе ведь только сорок два.
– Люба хочет развестись со мной – сил у неё уже нет, сын почти чужой, мать спивается совсем, а что мне без них делать.
– Приезжай ко мне! Захочешь – будешь у меня водителем, и с квартирой решим.
– Лишнее это всё, Не могу я тебя подставить. А я уже за себя не ручаюсь. Дошёл совсем. Нервы ни к чёрту.
Через два года я нашёл его у матери. Он был в синей телогрейке. От глаза до угла рта у него краснел большой полукруглый шрам.
– Это меня пьяные козлы пивной кружкой отоварили. Но я тоже им, гадам, устроил.
Я торопился, и мы на такси вместе поехали на вокзал. Я ехал на север, и у меня в багаже была дублёнка, поэтому свою кожаную куртку я отдал ему. Отдал и почти все деньги, что у меня оставались.
– У меня чувство, что мы видимся последний раз – его изуродованный глаз слезился.
Прошло несколько лет. Так получилось, что у меня в Москве появились связи и много возможностей. Я решил разыскать Женьку. Позвонил матери, но знавшая меня её соседка сказала, что мать недавно похоронили, а Женя сидит где-то в закрытой психиатрической клинике.
Я хотел было через знакомых эмвэдэшников узнать адрес, но, в конце концов, оставил это дело. Наверное, не хватило духу.
Литературные страсти
Самым глупым евреем, которого я встречал на гулаговской земле, был Гарик Фрумкин.
Ему было уже за тридцать, но в голове его был абсолютный бедлам. Он кем-то всё время пытался казаться, но, кроме того, чем он был, за ним ничего не водилось.
У него были мутноватые глаза, невыразительный рот и могучие плечи. Молол он разную чушь, то выдавая себя за вора – карманника, то за повара маршала Гречко, абсолютно не понимая всей абсурдности и несовместимости подобных утверждений в лагере.
Серьёзно его из путёвых парней никто не воспринимал, но и не было каких-либо оснований его отшивать, так как подлостей за ним не знали, неоплаченных долгов не числилось и, по лагерным понятиям, он скорее тянул на статус городского сумасшедшего, чем на непутёвщину. Те же, кто его совсем не знали, и пытались на него наехать или высмеять, натыкались на его чугунные кулаки. А он махал ими быстрее, чем думал.
Моя блатная и очень уважаемая лагерная семья не понимала, что меня могло связывать с Гариком, и вообще, зачем я вожусь с этим идиотом.
Я же с радостью и удовольствием купался в его глупостях и приключениях, удерживая, при этом, достаточную публичную дистанцию, чтобы не подставиться под мины, на которые он, по глупости, постоянно наступал.
Уж очень он был похож на любимую мной Лялю из фильма «Подкидыш» и на некоторых, дорогих моему сердцу, одесских родственников.
Вспомнил же я о Гарике в связи с двумя его замечательными поговорками.
– Пускай меня воры палками побьют, если я не прав! – часто говорил он, после чего изрекал свою очередную глупость.
А когда он желал себе счастья, то, мечтательно глядя в небо, говорил:
– «Чтоб мне всю жизнь везло, как Леваневскому».
Не многие теперь знают о том, что Сигизмунд Леваневский, один из первых лётчиков – Героев Советского Союза, погибший при выполнении важного задания. По сплетням же, лётчик пропал в тайге вместе с тонной золота, которое вёз в Америку. Страна горевала о герое, а циничные зеки были уверены, что золото Сигизмунд украл и пропивает его теперь с бабами в американских кабаках.
Но это всё между прочим, а вспомнил я о Гарике, чтобы сказать следующее:
– Пускай меня воры палками побьют, если я неправ, но следственная тюрьма города Хмельницкого на Украине самая лучшая тюрьма в Союзе.
Не буду утверждать, что я прошёл большинство тюрем нашей необъятной страны, но кое-что всё-таки повидал.
Как говорят учёные люди: «И по отпечатку лапы можно представить себе гнусную морду динозавра».
Хмельницкая тюрьма осталась в моей памяти одним из самых светлых жизненных воспоминаний. И не потому, что клопы там меньше киевских, а кормёжка лучше харьковской. Клопы крайне недружелюбные, а баланда такая же скучная. Замечательна тюрьма была тем, что там сидели только подследственные и недавно осуждённые. Никакой тебе приблатнённой и безответственной пересылки. Никакого тебе крытого режима, для длительного тюремного отбывания срока. Народу немного, блатные традиции доморощенные, на уровне КПЗ, а значит режим щадящий и незлой.
Вот в такую несерьёзную тюрьму я и попал со своим подельником по побегу Сашей Ласковым после суда, где народные заседатели, не участвуя в процессе, откусили от нашей вольной жизни ещё по трёшке и добавили её к нашим червонцам, поменяв заодно и режим с усиленного на строгий.
Камера наша была маленькая, холодная и сырая, на одну двухъярусную койку. Саша хоть и был постарше меня на десять лет, но из уважения к моему ранению и поломанным ментами рёбрам лежал на верхней койке, опасаясь всё время свалиться во сне.
Наш шумный побег из каменного карьера на автомашине со стрельбой и последствиями в глазах местной публики делал нас героями. Поэтому начальство относилось к нам с уважением, а жулики с почтением.
Малолетки, размещенные над нами, заваливали нас, разрешёнными для них, продуктами, и мы отъедались после наших мытарств невиданными давно деликатесами.
Начальником тюрьмы был бывший инструктор Административного отдела обкома Платон Несторович Чуев, мужик воспитанный и справедливый.
Он прекрасно понимал, что нам ничего не стоит «поставить на уши» всю его богадельню, замутив малолеток, и заключил с нами джентльменский договор – нас без дела не терзают, ну а мы, соответственно, прилично себя ведём.
Надзирателями на нашем этаже были только женщины, которые ценили нашу неприхотливость и вежливость, за что отвечали нам симпатией и сердечностью. Вечерами дежурные часто садились к нашей кормушке на табуретку и часами болтали с нами про житейские дела. Могли минут на десять продлить умывание, а то и сводить лишний раз в туалет. А это, кто знает, льгота нешуточная. Кроме того, не замечали они, что мы делаем и что едим. Мы же дарили им восхищение и искреннюю признательность.
Был только один недостаток. Библиотекарша раз в неделю приносила одну макулатуру, а забирала другую.
Именно в то время, когда я и Саша чувствовали от безделья неуёмную потребность в чтении, она приносила нам немыслимую белиберду.
Мы уже освоили «Критику Готской программы» и «Разгром Колчака», «Японскую поэзию» и «Особенности скандинавской кухни», «Протоколы Нюрнбергского процесса» и «Сто опер».
Никакие просьбы и уговоры не помогали. Она была бесчувственна и недоступна. Однажды Саша даже голову в кормушку высунул, умоляя принести что-нибудь стоящее. Но библиотекарша захлопнула кормушку (что имела право делать только дежурная) и ещё обозвала Сашу придурком. От дверцы у Саши остался на лбу синяк, что возмутило нашу зековскую гордость.
Дежурные женщины были за нас. Вечером они рассказали нам, что библиотекаршу за какой-то проступок из горкома комсомола прислали в тюрьму на пересидку, пока утихнет в горкоме шум. Она заносилась перед сотрудницами, и поэтому все её не любили.
Ну, а нам, как говорится, подлым и коварным, только дай повод проявить свои низменные качества на пользу себе и на радость публике.
Быть безусловно правым для русского человека хороший повод к бунту.
На следующее утро корпусная медсестра зафиксировала Сашин синяк, определив его, как лёгкие телесные повреждения, дежурная написала рапорт, я – свидетельские показания, а Саша заявление начальству о предумышленном избиении.
Кум попытался дело замять, даже попугивал Сашу, но два этажа тюрьмы отказались от ужина, и дело закрутилось.
Поскольку библиотекаршу никто терпеть не мог, то вся тюремная братва ликовала. Все, конечно, понимали, что никто всерьёз это дело не воспримет, но и в горком эту дурочку вряд ли после этого вернут. Кому нужны жалобы на пустом месте?
Больше всех, безусловно, это понимала она сама и прибегала нас упрашивать, забрать заявление, на что мы твёрдо заявили: «синяк за синяк», что означало в переводе на понятный язык «Хрен пройдёт!»
Утрясать вопрос пришёл сам Чуев. Ему эти приключения были без всякой надобности.
Мы немного повыделывались, но приняли, устраивающее всех, его предложение. Виновная приносит извинения и даёт обещание носить нам только первосортные книги.
– Да пусть хоть из дома носит, если ума нет, – закрыл вопрос хозяин.
С этого времени для нас наступил коммунизм.
Мы находились в дружном коллективе, питались бесплатно и разнообразно, а также развивались интеллектуально. По-моему, коммунизм ничего большего и не обещал.
При тогдашнем дефиците книг было естественным, что мы, два великовозрастных провинциальных оболтуса, ещё не читали «Графа Монте Кристо». Это был её первый взнос в копилку нашей декларации о перемирии.
Представьте себе мрачную, полутёмную, холодную одиночку, где устроившись поближе к зарешёченной лампочке человек, у которого впереди дантесовский срок, читает другому такому же сидельцу в три часа ночи сказку о несметных сокровищах и подвигах их коллеги по несчастью.
Нашу камеру заполняли искры от бриллиантов и сапфиров так же реально, как и дворницкую, где Воробьянинов встретился с Остапом.
И потом все приносимые ею книги были на уровне. Читали мы попеременно вслух друг другу по двести-триста страниц в сутки. Наши души переполнял восторг. Жизнь героев была нашей жизнью, а их победы, безусловно, были нашими. Мы купались в нашем иллюзорном мире и были счастливы как Сигизмунд Леваневский.
Мы и до этого были читающими людьми насколько хватало на это времени, но никогда восприятие содержания не было таким осязаемым и острым.
Так продолжалось около года. Мы почти не спали, торопливо ели и умывались, оттого что знали, больше такого счастья нам в жизни не привалит, потому что Бог не фраер, и у него всё в равновесии.
Достоевский и Мериме, Конфуций и Тарле, серия «Жизнь замечательных людей» и стихи поэтов Серебряного века заполнили всё наше существование.
Так я узнал и навсегда запомнил, что Марата зарезала мадам Корде, комплексы движут человечеством, а обмануть самого себя невозможно.
Но самое важное в классике – это не «что», а «как».
И, если до этого я, как и всякий невежда, был уверен, что знаю Истину, то теперь осознал до последней клетки, что она непостижима, и суть жизни в том, чтобы её искать. О себе же я стал более скромного мнения. Мягко говоря.
Какое там ранение, какой там срок! Оставьте, ради Бога, «этих глупостев», как говорит моя одесская тётя Рая, когда на меня свалилось такое сокровище, как отборная мировая литература, которую я до сих пор продолжаю читать и перечитывать.
Я романтик Невежества, готовился к серьёзной жизни на свободе и верил в свою звезду. А классическая литература давала возможность мыслить масштабнее и отталкиваться от более высокой ступени.
Сделала ли меня классика лучше? Конечно, нет! Никого она сделать лучше не может. Во всяком случае я таких не встречал. Но классика сделала меня счастливее.
Не я стал лучше, а мне стало лучше.
Я научился желать другого и завидовать другому. То есть она потихоньку меняла мои ориентиры.
Вот такое счастье привалило мне и моему подельнику по побегу Саше Ласкову в самой лучшей из тюрем Советского Союза середины шестидесятых.
Жаль, конечно, что Саша подхватил там тяжёлую форму туберкулёза, а я навсегда застудил, и без того отбитые при побеге, почки.
Но это уже пустяки.
«И пусть меня воры палками побьют, если я не прав».
Бог не фраер
Лагерная жизнь окутана мифами. Это естественно для любого закрытого сообщества, или народа, о котором мало информации. В кинофильмах заключённые разговаривают на каком-то полузнакомом языке, корчат непонятные глумливые или угрожающие гримасы и ведут себя крайне неестественно.
Освободившихся из заключения окружающие боятся, хотя по большей части основания для боязни окружающих у бывшего зэка много больше.
Во многом это оттого, что выпячивают свои залихватские замашки, как правило, люди в лагере третьестепенные, забитые, которых настоящее лагерное существование и не касалось, а, если и коснулось то самой нехорошей своей частью. И о лагере такая публика знает приблизительно столько же, сколько горький пьяница и бомж о свободе.
Никто в лагере между собой через зубы не разговаривает и словечек непонятных не употребляет. Сила в смысле слов и в личности, их говорящей, а не в звуке.
Кричат сержанты, а генералы вежливо просят.
Этапника, у которого пальцы веером, да словарный запас из подворотни или от Бени Крика, всерьёз никто не воспримет, и в лучшем случае посмеются и остановят, а в худшем походя запустят сапог, что сразу определит его место в тюремной иерархии.
Уважают простоту, порядочность, духовную силу и, конечно же, как и везде, деньги, но только при наличии вышеперечисленных качеств.
Одним из самых распространённых мифов является байка о том, что лиц, попавших за половые преступления, на зоне презирают и всячески унижают, вплоть до мужеложства.
Это не что иное, как ментовская утка для психологического давления на жертву милицейского произвола. Могут менты держать для устрашения камеру со своими шестёрками – вышибалами в тюрьме, но это уже дела ментовские.
Таких помощников часто на пересылках калечат, если они попадают, по недоразумению, на общие харчи.
Может быть это такой повод найти слабую жертву на малолетках или в следственных камерах у уличных беспредельщиков, нахватавшихся законов у разной шелупони.
В лагерной и тюремной жизни вообще неприлично спрашивать, за что человека посадили. А вдруг он в несознанке и спросит тебя:
– А чего это ты, землячок, интересуешься; а не куманёк ли тебя попросил, касатик?
И будет ой как неловко объясняться со всей, менее любопытной, камерой.
Кроме того, в правосудие родной страны никто и никогда не верил.
Мало чего там менты понапишут карманнику, которого годами не могут поймать.
Или парню, не желающему жениться на девушке, с которой он живёт по согласию уже год. Дай только от мамы заявление в милицию. И уже в зачёте раскрытое особо опасное преступление.
История знает много уважаемых людей с такой статьёй.
А даже, если человек в лагере и признаётся, что изнасиловал кого-то по пьянке – это ровным счётом ничего не меняет.
В конце концов, с чего это вдруг уголовный мир озаботится судьбой какой-то московской школьницы или ивановской ткачихи. Да он и преступлением такой поступок не считает, а так, баловство одно. «Понажрались вместе винища, неизвестно ещё, кто кого там изнасиловал. А утром мама дочку за волосы и в милицию, ну а там быстро подскажут».
Был даже на Шепетовской командировке человек по фамилии Калинушка, который спьяну изнасиловал старуху – мать. Преступления, казалось бы, на земле страшнее и гаже нет, а дали ему всего-то три года, как за изнасилование совершеннолетней без отягчающих обстоятельств и последствий. Никто его из зэков не обижал. Просто считали полоумным.
А двум морякам загранплавания из Одессы братьям Королёвым дали по пятнадцать за то, что не заплатили семнадцатилетней проститутке.
Менты тут же сварганили групповое изнасилование несовершеннолетней, хотя свидетелями её занятий была половина города. Зато в правоохранительных органах отметили раскрытие тяжкого преступления. А может, она вообще на ментов работала. Кто знает?
Наш же рассказ о несколько необычном случае на эту тему.
Фамилия нашего героя была Цыка, а звали Валерой.
Родителей он своих никогда не видел, воспитывала его бабушка, пока в шестнадцать лет за кражу он не схлопотал себе два года детской колонии.
Сидеть ему выпало на харьковской малолетке, которую когда-то основал Антон Макаренко по принципу коллективной ответственности. То есть, если в классе двойка, то никто в этом месяце не идёт на досрочное освобождение. Виновным занимались сами воспитуемые. Поэтому выжившие становились или половыми тряпками, или садистами.
В восемнадцать его перевели досидеть четыре месяца на взрослой зоне, где он к оставшемуся сроку добавил ещё девять лет.
Если бы он рассказал суду и следствию, за что он ударил тридцатилетнего обидчика асфальтовой гладилкой по голове, то суд вряд ли отнёсся бы так сурово.
Но рассказывать о том, что тебя склоняли к интиму, путёвому хлопцу невозможно, поэтому, вместо трёшки он получил за убийство девять, и из них два с половиной тюремного режима.
Отбывая два с половиной года «крытой» в одной камере с десятком людей, многие из которых, образно говоря, съели мать родную, Валерчик вышел на рабочую зону мудрым, циничным и отмороженным.
Он умел себя неплохо вести в коллективе, но ничего святого, вне необходимых рамок, для него не существовало.
Тем не менее человеком он был начитанным, интересным, умным и крутым. В свои неполных двадцать два он выглядел на семнадцать и, чтобы предупреждать возможные похлопывания по заднице, был всегда настороже и в готовности к любому развитию событий. В кармане и под подушкой у него всегда была заточка.
В его манере разговора была одна нехорошая особенность. Он ловил взгляд собеседника своими голубыми, бесчувственными глазами и не отпускал его ни на миг во время всего разговора. От этого многим было не по себе.
Многие урки, прошедшие «огонь и воду» признавались, что за свою жизнь более опасного и решительного человека они не встречали. А повидали они порядком, да и сами особыми подарками никогда не были.
Но все понимали, что иначе, со своей девичьей внешностью, он бы просто не выжил.
Дружил он в лагере только со Святым. Фамилия Святого была Келебай Владимир, но так его называли только на разводах и поверках. Родом он был из Западной Украины и потому люто ненавидел советскую власть. Морили его, якобы, за принадлежность к какой-то религиозной секте, с чем сам Келебай не особенно спорил.
Религиозного же в нём, кроме приморенного вида, была часто употребляемая фраза о том, что Бог не фраер, и всё видит.
Валерина бабушка умерла ещё до суда, поэтому ни посылок, ни писем он не получал.
Жил игрой в карты, не зарываясь ни в выигрыши, ни в долги.
И вот однажды произошло событие, которого никто, а в особенности он сам, никогда не ожидал. Более того ему никогда и не думалось в этом направлении.
К Валере на свидание приехала родная мать. Он ушёл на свидание на три дня, и Святой с нетерпением ждал его возвращения. И вот рассказ, который Цыка ему поведал.
– Ну, ты, Володя, представляешь моё настроение, когда я шёл на это свидание. Мать бросила меня сразу после рождения. Кто она, какая, да и жива ли вообще, я не знал. Никаких родственных чувств у меня ни к кому нет, а потому и шёл я из любопытства, да в надежде чего-нибудь оторвать. Ни о каких упреках в адрес своей старушки я и не думал потому, что давно знаю всю их бесполезность. Дневальный по дому свиданий провёл меня в последнюю комнату коридора, и я без всякой напруги в сердце туда вошёл. Однако матери в комнате не было, а сидела на койке тёлка, с виду лет чуть за тридцать, и читала журнал «Огонёк». Полагая, что это другая комната, или чья-то жена из соседней свиданки, я спросил её, где же моя мамаша? – Валерочка, сынок, я и есть твоя мама! – она бросилась ко мне обниматься и целоваться, размазывая по нашим лицам свою косметику. А у меня ни чувств, ни эмоций. Смотрю на неё как на красивую сучку и никаких других мыслей. В общем, сели за стол, выпили-закусили, а она мне всё про свою жизнь тяжёлую рассказывает, да как она по мне страдала и мучилась. А как дошла до того, что работает на базе товароведом, а муж у неё зам. директора трикотажной фабрики, так смотрю, мы уже сидим рядом, а моя рука у неё под лифчиком.
– Короче – говорю – мамаша, давай распрягайся, да я тебе по-родственному засажу.
А она спокойно начинает раздеваться и отвечает:
– Лишь бы тебе, сынок, было хорошо, и ты меня простил.
Стащили мы на пол два матраца и провалялись три дня и три ночи. Она пару раз за водкой бегала в посёлок для нас и для конвоя, а так почти и не вставали. Шнырь ночью мои сидора мне под кровать перетаскал, да бабки тебе занёс. Вот и все дела. Распрощались мы с ней как родные, то ли любовники, то ли мать с сыном. Только чувств у меня, как не было к ней, так и нет, а вот трахал бы её, сучку, не переставая. И никакого угрызения совести не испытываю, если, конечно, она у меня ещё осталась.
Он закончил и ждал, что скажет интеллигентный Святой.
– Я тебе в таких делах не судья, да и не лагерное это дело. Я твоей жизнью не жил, и для меня мать – святое. Сам разбирайся, но помни, что Бог не фраер, и всё видит.
– Я и сам чувствую, что всё паскудно. Но мне по хрену. Меня Бог уже давно забыл.
Их со Святым отношения ничуть не изменились.
Мать приезжала каждый месяц, привозила всё, что Валера просил: от денег до анаши.
Жила она неделями в посёлке, пока не устраивала через офицеров охраны свидания. Больше на эту тему у них со Святым разговоров не было, но у Валерчика настроение было угрюмым. Может оттого, что о его связи с матерью поползли слухи, а может он сам окончательно запутался в своей тёмной душе, но вести он стал себя агрессивно и провокационно, как будто искал конфликта.
Открытого осуждения от зеков никто не слышал, да такого и быть не могло. Мало у кого какие дела и заморочки. Может он, в случае конфликта, докажет, что это вовсе и не мать его? А кому же захочется подставиться под нож?
Валера ходил всё время обкуренный и нехороший.
Святой ожидал, что Цыка чего-нибудь отмочит, или что-то произойдёт во время его свиданий, или после них.
Но произошло то, о чём никто и подумать не мог.
Чтобы не попадаться надзору во время карточной игры, игроки часто забирались на площадку башенного крана. Во-первых, оттуда было всё видно, а во-вторых, можно было замести следы игры, пока сержант заберётся по лестнице на кран.
Никому не ведомо, как и что произошло, но рукав телогрейки Валерчика попал между шестерёнкой, которая вращает башню и огромной шестернёй самой башни.
Его втащило между шестерёнками при повороте стрелы, и выкинуло назад при обратном повороте. Рука и часть плеча до ключицы превратились в кашу. Когда его заметили играющие, он ещё стоял на ногах, а на пол лилась бесконечная струя крови.
Вместе с крановщиком его как-то спустили вниз и он лежал возле крана, истекая кровью.
Блатные вкололи ему какой-то наркотик, и он был в сознании, когда Святой прибежал от конторы, из которой звонили в санчасть.
И Святой, и Валерчик, да и все остальные понимали, что после таких ранений не живут даже на воле.
Лицо у раненного было бледным, но глаза смотрели спокойно и осознанно.
Все расступились, и Святой наклонился над ним, пытаясь услышать от него, возможно, какие-то важные распоряжения.
Валера смотрел на товарища трезвыми немигающими глазами:
– Ты был прав, Бог не фраер – громко и спокойно произнёс он.
Так в сознании его уложили в кузов грузовика и повезли в посёлок, где он по дороге и умер.
Через несколько дней приехала его мать с мужем и увезла тело с собой.
В плену несовпадений
Часто простое кажется вздорным Черное белым, белое черным. ПесняОбязательно найдётся такой юморист из «путёвых» парней, который подойдёт к московскому этапу и обратится к вновь прибывшим:
– Что надулись, как сычи, педерасты-москвичи?!
А если кто-нибудь из этой компании серьёзно возмутится, то балагур ему ответит:
– А ты чего возбухаешь? Вас тут 20 человек. Каждый за себя сам знает. Я тебя как раз и не имел в виду.
Выиграть такой словесный поединок, практически, невозможно. А потому, настоящий хлопец сначала заедет в рожу, а потом уже будет выяснять, что к чему. На такой дерзкий поворот у юмориста весомых аргументов не найдётся. И спросить с оскорблённого москвича не получится, потому что он кругом прав. Но ты попробуй ещё найди такого москвича. Его юморист увидит в толпе и без всякого конфликта. Это у жуликов отработано. Это способ выживания. Но обычно, москвичи помалкивают, что лишний раз подтверждает лагерную истину: москвичей средних не бывает. Или «путёвые» или педерасты.
Ну, не любят по зонам москвичей. И есть за что. Уж больно они умные и знающие. А это в лагере крайне опасно, если ты не готов отвечать за свои принципы, или умирать.
Москвичи, как правило, умирать не готовы.
Хотя, всякое правило не без исключений, и немало встречается по лагерям и тюрьмам достойных москвичей.
И мне такие, к счастью, тоже попадались.
Митя Безуглый, по кличке Москва, прибыл с очередным этапом из столицы.
И хотя ничего плохого о нём известно не было, весь его облик говорил о том, что своим присутствием коллектив он украсить не в состоянии.
Невысокого роста, болезненно худой, с вечно шмыгающим носом, похожий на приблудную собаку.
Митя сразу получил новую, ничего не выражающую кличку «Гусьмёрка», потому что именно так, гундося, произносил он «восьмерка» при игре в карты.
К вышеописанным достоинствам, на внутренней стороне его руки от локтя до ладони красовалась огромная надпись из корявых печатных букв: «НЕ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ БЛЯДИ».
Это убивало наповал.
В карты он, в основном, проигрывал, но платил регулярно и в срок, а потому формальных претензий к нему никогда не было, что не мешало всей зоне его не любить.
Он знал это, но помалкивал, потому что никаких прямых «наездов» на него никогда не было. Ну, а «любовь – не любовь» вообще понятие не лагерное. Это домашнее. И к делу отношения не имеет.
Я же с ним никогда не пересекался, потому что в карты я не играл, а работал он на лесозаводе, где я бывал редко. Но с двумя другими героями этого рассказа Сашей Бичайкиным и Володей Вороновичем я знаком был очень хорошо, потому что они были любимцами всей зоны.
Молодые красавцы-здоровяки из Питера, они играли на гитарах и пели, дотоле нам неведомые, песни Высоцкого, Окуджавы, Визбора и других замечательных поэтов.
Тёрлись они с «блатными», а потому частенько «гулевасили» в весёлых компаниях, благо у обоих родители были при деньгах. Ничего плохого за обоими не числилось, а потому оба считались «хорошими парнями».
Как-то так, незаметно для всей зоны, оба наших героя, по пьяному делу, начали хулиганить и избивать тех, кто не способен был им ответить. А поскольку били они народ «по низам», то особо на это никто внимания не обращал. Ну, малость пацаны позволили себе лишнего. С кем не бывает? Подумаешь, дали какому-то «фуфлыжнику» по голове. И хотя чужих должников (фуфлыжников) бить нехорошо, спрашивать за это тоже особо никто не будет.
Но, как говорит русская пословица: «Лиха беда начало». Со временем стало доставаться и простым работягам «без никому», которых в зонах стараются не трогать без обоснованной нужды. Пацанов всё-таки пытались урезонить, но так, по-отечески, без наездов.
Я и сам с ними разговаривал пару раз, но трезвыми они были другими людьми, и вину свою понимали, а потому молчаливо соглашались. Но стоило им выпить, как они вспоминали свою питерскую молодость, и находили себе новую безответную жертву.
И вот однажды прошёл слух, что Саша Бичайкин и Володя Воронович отоварили Гусьмёрку.
Это вызвало некоторое недоумение, но не более того, потому что меньше всего хотелось с кем-либо ссориться из-за такой амёбы, как Гусьмёрка. Уж очень неприятный тип.
Но после очередной пьянки, они снова поколотили Гусьмёрку удовольствия ради, ибо никаких других причин и поводов для этого не было.
Однако наутро вся зона была «на ушах», потому что ночью Гусьмёрка зарубил топором обоих сонных ребят насмерть, и сам пошёл сдаваться на вахту.
Есть такое неписаное правило, чтобы менты на других не наехали.
Почему-то сразу забыли, что он был Гусьмёрка и стали Митю называть по кличке Москва, с какой он и прибыл на зону. Вся зона была на стороне убитых парней, а потому в изоляторе, куда закрыли Москву, ему даже курить никто не передавал.
«Хороших парней порубал, сука».
Эта фраза преследовала Москву и в изоляторе и на пересылке, куда его отправили для следствия и суда. Но особо ретивые урки решили, что Москву надо «завалить», потому что он, сука, «порубал хороших парней».
Москва знал об этом, а потому считал пересылку конечным пунктом своего проживания на Земле, ибо, если на зоне начальство ещё имеет хоть какой-то контроль, то пересылка – территория бесконтрольная. Да и лагерных понятий там, по большому счёту, тоже нет. Обычно, на пересылках сводят счёты с доносчиками, приспешниками начальства и своими врагами. Следствие на пересылках, как правило, формальное, а потому часто удаётся избежать наказания, особенно, если дело не доходит до убийства. Именно на пересылках совершается много несправедливостей, потому что там много случайной и безответственной публики.
А потому всякими правдами и неправдами на пересылку стали съезжаться заинтересованные люди, чтобы «уделать» Москву. Дружок убитых парней Коля Собака, чтобы попасть на пересылку, надышался сахарной пудры, имитируя туберкулёз, что, впоследствии, для него и закончилось настоящим туберкулёзом и смертью.
А пока он «заныкивал» в матрац самодельный нож из кроватной полосы и искал возможности попасть в камеру, где сидел Москва.
Именно в это время меня отправили с язвой на больничку, и я находился на пересылке, ожидая этапа. Мы лежали в углу камеры вместе с Тимохой, одесским сорокалетним карманником, у которого недавно отнялись ноги.
В качалово по Москве мы не лезли, потому что и без нас шуму там хватало. Однако оба мы считали, что Москва прав, хотя говорить об этом было сейчас не в тему. Настроение у публики было другое.
Но всем своим видом мы оба выказывали своё мнение по этому вопросу.
Тимоха был одним из самых уважаемых людей на «ветке», как называли ответвление железной дороги, вокруг которой были зоны лесного управления. С моим мнением, обычно, тоже считались, хотя я всегда старался обходить такие «качалова», если меня это не касалось. Не мне студенту лезть со своим мнением.
Но когда до нас в очередной раз донеслось, что «Москва-сука „порубал хороших парней“», Тимоха приподнялся на локте и спросил:
– А где вы все были, когда эти хорошие парни творили беспредел и мужиков избивали для удовольствия? Не боитесь, что с вас спросят за хорошего пацана Москву.
– Да какой он хороший, ты глянь на него. Гнида гундосая!
– Если мы начнём всех судить по внешности, то нас самих всех пора передушить.
– А ты, Марк, чего молчишь? Твоих корешей порубали…
– Я за Тимошу, если меня спрашивают. А кореша мои сами Москву вынудили.
Прошло около двадцати лет.
Мы с женой стояли в очереди на такси у вокзала, когда немолодой водитель взял наши чемоданы и положил в багажник.
Впереди нас стояло ещё несколько пассажиров, но я подумал, что водитель решил подкалымить, а потому высмотрел нас.
Мы ехали по Москве, обсуждая с женой предстоящие встречи, когда оглянувшись, водитель произнёс:
– Ну, здравствуй, Марк Михайлович. Не узнал? Да это же я, Гусьмёрка.
– Митя, ты? Живой и здоровый.
– Живой, и уже почти десять лет в Москве. Вот таксую помаленьку, женат, сын растёт.
Он помолчал.
– А знаешь, как зовут сына? Тимофеем. Я же знаю, что это вы вдвоём меня тогда спасли. Я часто о вас вспоминаю. Хотя Тимоха помер ещё тогда, на больничке. Земля ему пухом. Настоящий мужик.
Машина подъехала к дому, и мы распрощались.
Жена долго смотрела вслед удаляющемуся такси.
Каин
Даже не верится, что я сидел ещё в те благословенные и добрые времена, когда зэков не заставляли носить на голове отвратительное подобие немецкой солдатской пилотки.
Я застал время, когда в лагере выдавали полувоенную кепку вроде той, что до войны носили ответственные работники, мелкие служащие и одесские биндюжники.
Особым шиком считалось заказать местному портному такую кепку из милюстина, блестящего хлопчатобумажного материала, костюмы из которого носили приблатнённые лагерные урки.
Вася Карпенко был таким портным, который умел и качественно штаны рабочие залатать, и брюки выходные пошить, и кепку такую смастерить, что сам Сергей Миронович Киров позавидовал бы, царство ему небесное.
Нужно быть или хорошим мастером, или очень дружить с начальством, чтобы в лагере пристроиться на такое непыльное и тёплое местечко, каким является место портного.
Вася был портным ещё со свободы. Вечерами у него вечно собирался народ. Одни приходили по делу. Другие просто посидеть, чайку попить, а то и просто побыть в Васиной компании, потому что человеком он был душевным и приветливым.
Удивляло только то, что кличка у него была «Каин». Это абсолютно не подходило к его спокойному и рассудительному нраву. Поэтому так его называли только за глаза. Казалось, что такой человек, каким был Вася, не способен и мухи обидеть, а не то, чтобы человека убить. И, тем не менее, Вася сидел за убийство родного брата.
Жулики, конечно, привыкли ко всякому. Удивляло другое. За умышленное убийство, при отягчающих обстоятельствах, он схлопотал всего шесть лет строгого, что очень не вязалось с привычной гуманностью советского правосудия. Статья предусматривала от восьми до пятнадцати или смертную казнь. А, чтобы советский суд дал ниже низшего предела, надо быть Героем Советского союза или, на худой конец, сыном первого секретаря обкома.
Но, кроме лёгкого удивления, эта информация у зэков никаких эмоций не вызывала, потому что советские зэки привыкли ко всяким жизненным причудам.
Я тоже никогда ни о чём Васю не расспрашивал. Но однажды мы вместе оказались на больничке. А поскольку делать там особо нечего, то мы шатались без дела, когда заканчивались осмотры и процедуры.
И вот однажды Вася сам рассказал мне, как он стал братоубийцей.
…Женился его старший брат Иван.
Всё было закуплено и приготовлено к застолью. Пригласили массу родственников и знакомых. Во время напутственной речи заведующей загсом, их матери стало плохо, и Вася с отцом повезли её в больницу, где она умерла ещё до прихода врачей.
Вася рассказал по телефону брату о свалившемся на них горе, а сам задержался в больнице из-за всяких сопутствующих такому несчастью дел и формальностей.
Домой они приехали под вечер и уже метров за сто от дома услышали пьяные застольные песни.
А встретившая их у калитки кума Галя сказала, что родственники, посоветовавшись, решили застолье не отменять, чтобы потраченные деньги не пропали даром.
Когда Вася с отцом вошли в дом, то увидели пьяную танцующую и поющую компанию, которая обрадовалась их приходу, как будто они явились из водочного магазина. Ни о какой матери никто и не вспомнил, потому что уже мало кто чего соображал.
Отец попытался поговорить с Иваном и родственниками невесты, но все начали наперебой орать, что матери уже всё равно не поможешь, а добру грех пропадать. И выбросить столько продуктов на помойку было бы не по-человечески.
– Это же какие деньжища прахом пойдут! – бесконечно повторял новоиспечённый тесть.
Кончилось тем, что Васю с отцом чуть не поколотили за то, что они отказывались пить. Отец еле вырвался и ушёл испуганный и обиженный, куда глаза глядят.
А Вася пошёл в баню, и вытащил из под пола, найденную когда-то в лесу, немецкую гранату с длинной деревянной ручкой. Потом он подошёл к дому и кинул её в открытое окно, откуда веселье лилось рекой.
Громыхнуло на вес посёлок.
Вася пошёл в отделение милиции и сам сдался властям. В результате взрыва оказалось девять раненых и один погибший. Этим погибшим оказался жених, Васин родной брат Иван.
На суде Вася отказался от защиты, потому что признавал свою вину полностью. Женщина-прокурор метала гром и молнии, обличая Васю в жестокости и бесчеловечности. А под конец, неожиданно для всех, заявила, что, в такой ситуации, она и сама бы бросила в этих сволочей гранату и запросила для Васи пять лет общего режима.
Весь зал замер от удивления.
Судьи посовещались и приговорили Васю к шести годам строгого режима.
Апелляцию Вася не подавал. С тем и уехал на зону.
– И гореть мне теперь в аду – завершил свой печальный рассказ Вася.
А я не знал, что ему сказать…
…Прости их, Господи!
Тарас Бульба
Как повяжешь галстук, Береги его: Он ведь с красным знаменем Цвета одного. С. ЩипачёвНиколай Иванович Бережной был всегда доволен своей жизнью. Родители воспитали его честным, скромным и трудолюбивым. Ему повезло родиться в самой справедливой стране, где власть заботилась о его здоровье и благополучии.
К своей ежемесячной зарплате в 140 рублей и квартальной премии 120 он ежегодно получал от профсоюза путёвку в Крым, что давало ему возможность почти целый месяц чувствовать себя исключительно и заслуженно счастливым.
Остальные одиннадцать месяцев он трудился на небольшой мебельной фабрике столяром, выполняя особые задания директора, и считался ценным и уважаемым членом коллектива. Николай Иванович был доволен своим положением, потому что у других рабочих и зарплата была меньше и путёвки они получали только в местный Дом отдыха.
Его жена работала на швейной фабрике, а дочка Вера училась в седьмом классе и недавно стала комсомолкой. В общем, жила их семья вполне прилично и достойно.
Неприятности пришли в их жизнь, когда из столицы в их подмосковный городок выслали около сотни тунеядцев и девиц лёгкого поведения, чтобы они не позорили Москву и не вступали с иностранцами в порочные и преступные связи.
В городке сразу появились большие деньги и модная одежда. Зазвучала неизвестная прежде музыка. Вся местная молодёжь стала требовать от родителей модных вещей и денег на развлечения.
Слава Богу, их дочь Вера этим не увлекалась, потому что много училась и выполняла разные общественные нагрузки.
Однако через некоторое время родители заметили, что у неё стали появляться новые вещи и всякие побрякушки, которые, как она говорила, давали подруги поносить. И только, когда вещей стало совсем много, жена стала Веру расспрашивать, стараясь при этом не обидеть всякими ненужными подозрениями.
Но дочка назавтра унесла вещи их владельцам, и всё встало на свои места. Жизнь семьи снова пошла своим чередом.
Однажды в его мастерской, куда многие рабочие любили зайти перекурить, газосварщик Эдик Буйков стал рассказывать своему приятелю Славке Осокину о том, что одна дама, прибывшая из Москвы, организовала у себя дома притон.
Там она собрала несколько школьниц, которых обучила за деньги ублажать мужиков своим ртом, оставаясь при этом девственницами. Это особо подчёркивалось и нравилось клиентам.
Приезжали из самой Москвы, чтобы получить такое экзотическое удовольствие.
Нравилось гостям ещё и то, что все девочки выполняли свои обязанности в накрахмаленной школьной форме с шёлковым красным пионерским галстуком, концы которого клиенты любили держать в руках во время процесса. Это считалось особой фишкой.
Эдик уговаривал своего приятеля пойти вместе с ним к этим «сосушкам», как в городе стали девочек называть.
Николай Иванович, подслушав нечаянно этот разговор, не спал всю ночь, боясь поделиться с женой своими подозрениями. Становилось понятным, откуда дорогая одежда, всякие недешёвые висюльки, и шоколадные конфеты, которых родители никогда не покупали. По всему так получалось, что его родная дочь навсегда опозорила их честную, трудовую семью.
А кроме доброго имени, у них ничего ценного больше не было.
Как дальше жить Николай Иванович не представлял, и всё больше приходил к мысли, что жизнь его закончилась, потому что, при таком позоре, он жить не сможет.
Он стал бояться смотреть людям в глаза и вступать в разговоры.
Втайне, он ещё надеялся, что всё окажется напрасными подозрениями, хотя, присмотревшись к дочери, уловил в её поведении и манерах те малозаметные черты и телодвижения, которые отличают взрослую женщину от ребёнка.
Однажды он проснулся среди ночи оттого, что во сне услышал гоголевскую фразу «Я тебя породил, я тебя и убью».
Больше эта фраза его никогда не отпускала, преследуя, как наваждение. Он понял, что это знак сверху. Осталось только убедиться в правоте своих страшных подозрений. И Николай Иванович, ничего не говоря жене, стал следить за дочерью. Всё оказалось, к несчастью, правдой. Никто, особо, ничего и не скрывал.
Николай Иванович поехал в деревню к матери и забрал старую двустволку, которая, после смерти отца, лежала в погребе.
Он подкараулил дочь, когда та с подружкой выходила из дома, где творилось всё это бесстыдство.
Направив ей в грудь ружьё, Николай Иванович тихо сказал:
– Я тебя породил, я тебя и убью!
Что было потом, он не помнил, потому что, услышав выстрел, сам потерял сознание.
Потом его долго лечили от последствий тяжелейшего инфаркта.
Судьи долго совещались, но отнеслись с пониманием и дали всего три года общего режима, потому что дочь была только ранена.
Приехавшая на свидание жена рассказала, что организаторов притона посадили, а девочек отправили в специальный интернат, чтобы они закончили там школу под присмотром специалистов.
Жена получила от дочери несколько покаянных писем, но отцу Вера писать боялась.
Зэки, услышав эту невесёлую историю, сочувствовали Бережному, потому что у многих были свои дети.
Как-то само собой получилось, что называть его стали Тарасом Бульбой.
Но Николай Иванович на кличку не обижался, потому, что это было не самое страшное из того, что его беспокоило.
Губит людей не пиво
Ссорит нас водка братцы, Пиво сближает людей. Е. Евтушенко. «Северная надбавка», 1977 г.Мечтать в лагере о пиве – верх легкомыслия и дешёвого фраерства.
Ну, кто тебе будет заморачиваться с пивом, когда кайфа от него никакого, а запишут, в случае чего, в протокол, как спиртной напиток, со всеми неприятными последствиями.
Да ты ещё попробуй, найди его в прилагерном посёлке, когда и в городе-то оно редкость.
Это тебе не Сыктывкар, где свой пивзавод и снабжение по 1-й категории.
Бывает, конечно, что завезут бочку-другую в посёлок раз в году, чтобы побаловать народ и приобщить его к благам цивилизации. Но это уже такой несусветный подарок советским труженикам, что зекам об этом символе благополучия даже и мечтать неприлично.
Тут уж, такая гульба на посёлке начинается, что и в дальнем конце жилой зоны слышно.
Но никто тебе бутылку пива не понесёт через вахту. Градуса нет, а хлопоты и страхи те же.
…Пиво я на воле не пил, потому что вообще к спиртному равнодушен.
А тут, как назло, захотелось пива, хоть убей. Даже приснилось как-то.
Но с таким же успехом можно было мечтать и о посещении Большого театра или ночном свидании на черноморском побережье Кавказа. А потому и помалкивал я себе в тряпочку.
А желание это возникло вдруг, когда Игорь Павлович, без всякого предисловия, начал рассказывать о своём посещении одного вильнюсского подвальчика, где ему белокурая красавица-официантка подала литровую запотевшую глиняную кружку с холодным пивом. А к ледяному, пенящемуся, ядреному напитку отварные свиные ножки с зелёным горошком и хреном. И все это богатство на металлическом блестящем подносе.
Ах! Как красиво и смачно мог часами рассказывать Игорь Павлович о еде и выпивке.
Игорь Павлович Соколов давно уже работал старшим мастером на лесобирже. Надо было очень любить Игоря Павловича или, хотя бы терпеть, чтобы назвать его пребывание на производстве работой. Но я его любил, потому что человеком он был безвредным, весёлым и ленивым.
Трезвым он бывал только до обеда, но и это время у него расходовалось только на рассказы бесконечных историй, которыми была до отказа заполнена его крупная, красивая голова. В своё время он отсидел за что-то десятку, да так и застрял на Севере, обзаведясь женой-татаркой и восемью детьми на время нашего с ним знакомства.
Был он высок, чуть полноват и очень представителен. Немного портили общее впечатление излишне толстые губы, за что кличку ему жулики дали «Губа». Но называли так его крайне редко, потому что к нему все относились хорошо.
Другие вольнонаёмные пили, обычно, с утра, а потому должность старшего мастера на разделке леса прочно закрепилась за Игорем Павловичем.
Поскольку всю работу за него делал я, то из моего кабинета он практически не вылезал, тем более что в смежной комнате у меня был лежак для ночных смен, где Игорь Павлович проводил послеобеденное время.
В конце смены он просыпался, бодро шёл в свой кабинет и подписывал сводки и списки на дополнительное питание для бригад за выполнение дневной нормы. После этого я их просматривал и передавал по назначению.
Однажды я обнаружил на заявке дополнительного питания – каша, хлеб и сахар – вместо необходимого в углу обычного росчерка Игоря Павловича, написанную им спьяну странную фразу:
«Мюллеру! Отоварить румынов мукой. Штандартенфюрер СС Соколов И. П.».
И знакомая, размашистая подпись Игоря Павловича.
Специально ли зэки дали дальнейший ход бумаге, или не заметили, но, попав в руки начальства, она могла причинить Соколову серьёзные неприятности.
К тому времени я уже привык ничему не удивляться, а потом заставил десятника бумагу переписать, а наутро вручил Игорю Павловичу его хмельной шедевр, отчего он чуть не рухнул со стула.
И тут Соколов, расчувствовавшись, пообещал сделать для меня всё, чего я пожелаю. Никогда Игоря Павловича ни о чём запретном я не просил, чтобы не подвергать его размеренную и беспечную жизнь опасности, но тут я не удержался.
И Соколов пообещал.
Он пообещал, а я, естественно, сразу же забыл, потому что пиво в моей голове было на двадцать восьмом месте, где-то сразу же после Большого театра и черноморского побережья Кавказа.
Но, что бы там ни говорили учёные и скептики, чудеса на Земле иногда, всё-таки, случаются.
И вот однажды в воскресенье, Игорь Павлович встретил меня с утра в конторе с видом римского патриция эпохи упадка империи.
Видимо, он пришёл в пустую зону до развода, потому что свободно занёс в мой кабинет школьный портфель, в котором был синий целлофановый пакет со льдом и тремя бутылками жигулёвского пива.
Но самое главное, что к пиву он принёс четыре отварные свиные ножки, большую луковицу, хрен и мягкий, ещё тёплый хлеб.
О том, чтобы разобраться с этим до обеда, не могло быть и речи, а потому Игорь Павлович совершал беспокойные манёвры вокруг моего кабинета, его тревога передалась моему приятелю Ивану Пинчуку, мастеру по погрузке леса. Он спросил меня, чего это Соколов «вышивает» по коридору, и я рассказал Ивану о празднике, который нас ожидает.
Игорю Павловичу мы решили заменить пиво вульгарной бутылкой водки, а о свиных ножках для него не могло быть и речи.
Рассказать о том, какое это было наслаждение, не смог бы, наверное, и человек талантливее меня.
Могу только сказать, что если словосочетание «божественный вкус» не выдумка гурманов и кулинаров, то это был именно он. Никогда в своей жизни мне не приходилось так вкусно есть. Этот восторг остался в памяти на всю жизнь.
Через много лет, читая поэму Евтушенко «Северная надбавка», я понял, что не только мне одному выпадало в жизни такое счастье, и порадовался за героя поэмы.
На всю жизнь я остался благодарным Игорю Павловичу, который через два года после этого умер на операционном столе от передозировки наркоза при удалении банального аппендицита.
А Иван погибнет через несколько лет от удара елового хлыста с рассыпавшегося лесовоза.
Пива я не пью, как и другие спиртные напитки.
Боюсь испортить впечатление.
Где искать хорошую жену
Саша Ласков был похож на молодого Штирлица. Наверное, ему нужно было идти в театральный. Но выучился он на экскаваторщика, неплохо зарабатывал и был вполне доволен своей жизнью.
Со своей женой он познакомился в ресторане, где она вечерами пела песни из репертуара модных певиц. Через год после свадьбы он застукал её с любовником, покалечил обоих, и отправился надолго в тюрьму с выстраданным убеждением, что хорошую жену нужно искать не в дорогих ресторанах, а в провинциальных библиотеках.
Так сложилось, что до нашего совместного побега, – на автомашине со стрельбой, ранениями и прочими глупостями, – о котором шумела вся Украина, мы с Сашей общались немного.
А после суда мы, к нашей общей радости, оказались в одной камере с двухъярусными железными нарами самой лучшей следственной тюрьмы Советского Союза в городе Хмельницком. Настоящих урок там не было, а значит, и режим был незлой и почти домашний.
Малолетки, для которых мы были почти космонавтами, подкармливали нас разной вкуснятиной, которая им была положена в передачах, и мы себе жили, не тужили, отдыхая после нелёгких приключений.
На нашем этаже дежурили только женщины, что тоже было для нас приятным открытием, потому что даже в надзирателях женщину иметь приятней, чем мужика. В надзиратели нанимались, как правило, деревенские, что обеспечивало им переход от сельской жизни к городской.
По соглашению с начальником тюрьмы, бывшим партийным работником, мы старались не доставлять его учреждению хлопот, а взамен на примерное поведение, нас особо не напрягали.
Мы, конечно же, отличались от пришибленных или наглых зэков, поэтому отношение женщин к нам было особенным.
Я бы сказал любопытствующе-сострадательным.
Мы, естественно, делали всё, чтобы наши дамы чувствовали себя красавицами и умницами. К такому обращению они в своей жизни не привыкли, а потому волей-неволей стали относиться к нам по-матерински. Почти каждый вечер одна из них усаживалась к нашей кормушке, и точила с нами лясы, довольная тем, что и выслушают её с участием, и не будут сплетничать.
Никаких романтических настроений между нами не наблюдалось до тех пор, пока к нам не перевели с другого этажа двадцатитрёхлетнюю Стешу.
Между Стешей и Сашей сразу пробежала какая-то искра. Ни о чём «таком» они никогда не говорили. Но, когда вечером она подсаживалась к нашей кормушке, я отворачивался к стене, потому что говорили они о любви.
Рассказывал ли ей Саша о городе Жданове или о работе экскаватора, в каждом его слове, в каждом её ответе слышалась любовь. И в её рассказах о семье и дочке, об умершем от аппендицита муже, тоже была любовь.
Я бы не смог объяснить словами, что и как там происходило, но любовью была наполнена вся наша камера. Через пару месяцев такого общения Саша сделал попытку как-то организовать встречу со Стешей наедине, но в ответ услышал твёрдое:
– Я так нэ можу.
И Саша прекратил настаивать на свидании. Всё продолжалось, как и прежде.
Потом обнаружили канцелярскую ошибку в моём приговоре, и меня увезли для проведения нового суда.
Затем я оказался на севере и потерял из виду своих подельников по побегу.
Прошло много лет.
В театр Вахтангова меня потащила жена на модный тогда спектакль «Тринадцатый председатель» с Василием Лановым в главной роли. Театры я не особо люблю, и пошёл только ради того, чтобы посмотреть Ланового вживую.
Спектакль уже подходил к концу, когда я заметил женщину, которая сидела впереди и всё время оглядывалась на меня. Я посмотрел пару раз по сторонам, полагая, что она смотрит на кого-то из соседей.
У вешалки кто-то тронул меня за плечо.
– Марк, Вы меня не узнаёте?
Этот украинский говор я бы узнал из тысяч голосов. Это была Стеша.
Она привезла мать в глазную клинику Фёдорова.
Мы уже проговорили минут пять, когда она, вдруг, всполошилась и заговорила о Саше.
Оказывается, они всё время переписывались, а потом поженились на поселении, и после, Сашиного освобождения, прожили счастливо восемь лет в Жданове.
Два года назад Саша умер на работе от инсульта. Поздно приехала скорая помощь. Говорила она о Саше, как о живом и родном. Чувствовалось, что она любит его до сих пор. Мы попрощались.
По дороге домой я рассказал жене эту историю.
Она долго молчала, и наконец, сказала:
– Да Саша был прав. Хорошую жену надо искать в провинциальной библиотеке.
Я рассмеялся:
– Или в провинциальной тюрьме, если вовремя посадят
Королевич Елисей
Клички в лагере обычно дают очень ёмкие и образные. Человека с оспинами на лице назовут Шилом бритый, а хромого Тимур или Талейран.
Одного бакинца с рязанской физиономией, но тяжёлым азербайджанским акцентом называли Двадцать восьмой. Дескать, было 26 бакинских комиссаров. Анастас Микоян – вечный член Политбюро, был двадцать седьмым. И по зэковской логике наш красавец вполне соответствовал кличке 28-й.
Ко мне с самого начала прилипло имя отчество, Марк Михайлович.
Могли в третьем лице сказать жид, но в лагере это не оскорбление. Национального вопроса там никогда не было.
Однажды на тыльной стороне моей левой ладони образовался прыщик, который я перед изолятором нечаянно ободрал.
За десять суток прыщик превратился в гнойник, рука распухла до локтя, и вышел я из изолятора с температурой и жуткими болями.
Миша Рыжий, с которым я познакомился в камере и, который раньше меня вышел на пару суток, отвел меня в санчасть, и пока мы шли, рассказал, что фельдшером работает опытный хирург Боря по кличке Королевич Елисей.
Боря Ферсман был тридцатилетним парнем с ярко выраженной семитской внешностью и печальными глазами.
Он вскрыл мой нарыв, всё там прочистил, наложил швы и оставил меня в санчасти на пару дней под наблюдением.
К вечеру подошли знакомые ребята, и мы обмыли мою успешную операцию.
Борю все называли или королевич, или Елисей, на что он не обижался и не обращал внимание.
Мне было любопытно узнать, откуда могла появиться такая кличка, и я спросил Мишу об этом.
– А хрен его знает. Давай у Бори спросим.
И Миша задал Боре вопрос, от которого тот горько рассмеялся.
– Это ещё из КПЗ. Так меня один жулик назвал, когда узнал от ментов мою историю.
И подвыпивший Боря начал свой рассказ:
– После института я уже три года работал хирургом в городской больнице, когда за выписанный больничный и две бутылки коньяку, мне дали три года и лишили права работать в медицине на три года после освобождения. Попал я тогда под шедшую по стране компанию борьбы со взятками.
Квартиры своей во Львове у меня не было, а жена уже жила с другим, и я не знал, куда мне податься после срока. Дневальный по санчасти, где я трудился, посоветовал поехать в его деревню, где его дочь работает бухгалтером в колхозе и поможет мне устроиться в фельдшерский пункт, куда меня примут по одному диплому, а трудовая книжка там не нужна, так как мне выпишут трудовую книжку колхозника.
Председатель принял меня без всяких оговорок и, даже, обещал через полгода отдельный дом, если приживусь. А пока я поселился у двадцатитрехлетней Лиды, дочери Павла Кузьмича, так звали моего дневального. Такого опытного фельдшера у них никогда не было, поэтому я был в цене и уважении. Всё шло очень неплохо, включая Лидины ласки и заботы.
Рядом с Лидой жила женщина-агроном, шестнадцатилетняя дочь которой Ольга упала на физкультуре с брусьев и повредила спину. Девочка уже четыре месяца не могла ходить и я, по слёзной просьбе матери, стал ей заниматься, применяя все свои знания и умения.
Девочка через два месяца встала на ноги, а через три уже понемногу ходила по деревне.
Для жителей это было чудом, а для моей Лиды трагедией, потому что я влюбился в Олю, а она полюбила меня. От злости и ревности Лида стала распространять слухи, что девочку я не лечил, а только трахал, потому что у меня такой способ лечения, о чём она прекрасно знает. Я посмеивался над этими слухами, когда однажды утром ко мне в кабинет пришли два подвыпивших мужика и рассказали, что их дочь и сестра в соседней деревне уже три месяца после родов помешалась умом, плачет и не разговаривает. Ребёнок у бабушки. А с матерью такая вот беда. И я должен им помочь своими методами. Я попытался объяснить им, что это дело психиатров, но мужики сурово пообещали меня удавить и сжечь, если не вылечу их дочку и сестру. Я пообещал заняться через три дня, а сам принялся читать все о послеродовых психических осложнениях и способах их лечения.
У знакомой аптекарши в районе забрал почти все антидепрессанты, какие только были и поехал к больной с мужиками, которые прибыли на мотоцикле.
Все признаки послеродовой депрессии и брошенной любовницы были налицо, и я оставил больной все лекарства, которые заставил начать принимать сразу при мне.
Я попросил мужиков отвезти меня домой, но они меня заперли с больной в комнате, сказав, чтобы я её лечил своими особыми методами, а не то они меня самого трахнут.
Мужики были без чувства юмора.
Сама больная, кстати, всем своим видом была готова к таким методам и наутро уже улыбалась своим родственникам и мне.
Она продолжала принимать лекарства, а братья каждую ночь возили меня к себе домой.
Когда через пару недель она забрала от матери ребёнка и вернулась к нормальной жизни, слухи о моём чудесном методе разнеслись по всей области и народ попёр ко мне косяком.
Никакие объяснения или призывы к разуму не помогали. Мужья просили за жён, матери за дочерей и все вместе за старушек.
Уклоняться у меня не всегда получалось, потому что народ шутить не был намерен и в ход пускались деньги, связи и милиция.
Самое интересное, что всем, кого я лечил помогало.
За само медицинское лечение и принимаемые лекарства все забывали. Я уже чувствовал, что меня или прибьют, или посадят, когда ко мне приехал начальник районного отделения милиции и попросил за свою сестру, которая за прожитые сорок лет не могла забеременеть, а теперь боится остаться на старости лет одна, так как все мужья от неё уходили по этой причине.
Ну что мне было делать? Начал трахать и сестру главного милиционера. И она забеременела всем на радость.
Но от меня или нет не знаю, потому что она пустилась и до меня во все тяжкие.
Однако всё приписывалось мне, и жизнь моя становилась всё невыносимей.
У дома моего день и ночь торчала огромная очередь. Со всех сторон знакомые за кого-то просили. На мне уже стали делать бабки, а я был так перепуган, как старый еврей во время погромов, потому что угрозы сыпались со всех сторон.
И я решил бежать.
Но мать моей Ольги (которая тоже рвалась ко мне лечиться), узнав об этом, написала заявление в обком партии и областную прокуратуру, что я совратил её несовершеннолетнюю дочь, а теперь не хочу жениться и отказываюсь от своего ребёнка.
Я ни от кого не отказывался и бежал я не от Ольги. Просто мне было уже не до неё. Но была сверху команда и меня закрыли в КПЗ.
Там-то один жулик, услышав про мою беду от сплетничавших ментов, долго смеялся, а потом сказал:
– Ты, Боря, как королевич Елисей, у которого царевна от поцелуя ожила.
Ну, остальные и подхватили. Так и пошло.
– А я сижу уже третий год, а где-то у меня Ольга с сыном, и как мне туда возвращаться и вообще что делать?
Нам было смешно и весело.
Особенно глядя на унылую еврейскую физиономию доктора Бори Ферсмана.
У любви, как у пташки крылья
Это какую же беспечную и счастливую жизнь должен прожить человек, чтобы быть уверенным в том, что плохих людей на свете, практически, не бывает?
И каким же наивным и романтичным должен быть сам этот человек?
Мне кажется, что я знаю ответ на этот нелёгкий вопрос, потому что этим наивным романтиком я сам и являюсь.
Да! Я считаю, что абсолютно плохих людей на свете очень мало, если исключить патологических злодеев, действиями которых руководит больная психика.
Но это уже и не совсем люди. Во всяком случае, до излечения.
И вот каким будет мой ответ:
– Нужно родиться и жить в России, быть евреем с христианской моралью и отсидеть 12 лет на севере в колониях строгого режима, а потом начать всё сначала, чтобы прийти к такому оптимистичному выводу.
…Трудно себе представить, но за весь мой непростой и нелёгкий срок, меня почти не предавали и не сдавали.
А срок мой вместил в себя: побег и ранение, изоляторы и БУРы, одиночку и несчётное количество, сопутствующих такому сроку, опасных приключений.
А ко всему этому довольно длительное руководство большим лагерным производством, которое сопряжено с неизбежным нарушением многих статей Уголовного кодекса.
Так вот. Я уверяю, что предавали меня, может быть, всего пару раз. И то, прямых доказательств такого предательства у меня нет. Выручали же меня, и спасали бессчетное множество раз. Причём, часто это были люди, которые совершенно не обязаны были это делать.
Среди этих людей были мужчины и женщины, зэки и офицеры, судьи и партийные функционеры, христиане и мусульмане, молодые и не очень.
Не могу припомнить, чтобы хоть кто-нибудь из этих людей проявлял какую-либо корысть или низменный интерес.
Я видел только искреннее желания мне помочь.
После срока постепенно в моём окружении появились писатели и актёры, депутаты и министры, прокуроры и губернаторы, а также водители и охранники, рабочие и служащие, многих из которых я уважал не меньше, а иногда и больше, чем людей, облечённых властью и известностью.
Никогда я не скрывал своей анкеты (хотя и не афишировал), но эта информация абсолютно ничего не меняла в наших отношениях, хотя некоторым она помешала в их карьере, что тоже никак не повлияло на нашу дружбу.
Все эти люди сделали для меня так много, что я и не берусь перечислять, потому что они сделали мою жизнь. А если ко всему этому прибавить мою жену, которая бросила ради меня успешную партийную карьеру, то станет понятно, почему я считаю, что плохих людей на свете почти не бывает, и что «народы бывшего СССР это великое, могучее и святое сообщество».
Не скрою, что и сам я стараюсь относиться к людям, лучше, чем к самому себе.
Любой из моих близких знает, что я готов прийти на помощь по первому зову, чего бы мне это ни стоило.
Этому ещё в детстве научил меня отец-фронтовик.
Не помню случая, чтобы я умышленно кого-нибудь подвёл.
И всё же есть в моём прошлом прокол, а вернее упущение, которое гложет меня всю мою жизнь, потому, что это моё упущение погубило человека, которому я обязан если не жизнью, то уж здоровьем точно.
…Когда мне было девятнадцать лет, я, по глупости и беспечности, забрёл в район, с которым наша компания враждовала много лет.
Меня крепко отдубасили ногами и палками, а может быть и убили бы, если бы не их лидер Иван Белый, который узнал во мне своего школьного товарища.
Ему и в голову раньше не приходило, что грозный Хома со Слободки – это и есть его скромный товарищ по младшим классам Марк Неснов, у которого он списывал когда-то арифметику.
Он раскидал свою озверевшую, пьяную кодлу и дотащил меня на своём горбу до больницы, где врачи долго приводили меня в порядок.
Он часто приходил меня проведывать с очень красивой девушкой по имени Валя. Потом судьба развела нас, но я всегда помнил Ивана и дорожил этой памятью.
Прошло, наверное, лет десять, когда однажды мой товарищ Толик сказал, что с новым этапом пришёл из дурдома наш земляк, и надо бы его куда-то пристроить. Когда он назвал фамилию, я бросив все свои занятия, помчался к Ивану в барак, надеясь увидеть знакомую физиономию белобрысого красавца-здоровяка.
Но то, что предстало перед моими глазами, повергло меня в ужас и уныние. Передо мной сидел измождённый, опустившийся старик с потухшим взглядом. Он узнал меня и обрадовался. Но это была радость обречённого человека.
Я перевёл его в свою секцию, оформил в столярный цех и предупредил всех, что удавлю, если кто-либо его обидит.
Жизнь в лагере далеко не сахар, но таких изменений с людьми я раньше не наблюдал.
Ни о чём его я расспрашивать не стал. Захочет – расскажет сам.
И однажды, через пару недель, Иван рассказал мне свою историю.
…С Валькой они дружили с самого детства и годам к двадцати поженились.
Любили они друг друга глубоко и искренне, как только и могут любить люди открытые, простые и наивные.
Через год у них родилась девочка и, казалось, ничто не способно омрачить их жизнь.
Иван, расставшись с юностью, забросил свою хулиганскую компанию, работал на заводе крановщиком и практически не пил водки.
Валька закончила медицинское училище и работала в рентген кабинете.
Всё складывалось удачно, и даже армия не омрачила их счастья.
Через пару лет после армии до Ивана окольными путями стали доходить слухи, что его любимая женщина и верный друг Валька погуливает на стороне.
Их отношения были настолько близкими и доверительными, что Иван не мог поверить в такую чушь. И только, когда от слухов некуда было деваться, усадил жену напротив и задал ей прямой вопрос.
Она расплакалась и заявила, что ей одного мужа мало, и что она без других мужиков жить не может. А, если Иван её бросит, то она покончит с собой, потому что любит его больше жизни.
Выслушав этот бред, Иван избил жену и сказал, что если она не одумается, то он её убьёт.
Месяца два он ничего не видел, а потом стал замечать появившееся у жены изменение настроения.
Выражалось это в блеске глаз, походке и лёгкости движений. А главное, она всё время напевала «Хабанеру» Кармен.
«У любви, как у пташки крылья…» пела она беспрерывно.
Он стал следить за ней и поймал с мужиком, которого избил до полусмерти. Заодно досталось и жене.
Но прошло 2–3 месяца и всё повторилось до мелочей, включая знаменитую арию Жоржа Бизе.
За те несколько лет, что Иван боролся с женой, он и выгонял её и уходил сам, пил и бил, разговаривал и уговаривал, но ничего не помогало.
Валька клялась ему в вечной любви, была заботливой женой и пылкой любовницей. Она говорила, что без Ивана и дочери жизнь для неё не имеет смысла. Но снова и снова изменяла ему и ничего поделать с этим не могла.
Иван, почувствовав, что находится на грани, решил уйти окончательно, но Валька валялась у него в ногах и выла на всю улицу, умоляя не оставлять её.
В одну из следующих размолвок он ударил её ножом в сердце и убил.
Умирала она с улыбкой на лице.
Затем он распорол себе живот с угла на угол и свалился рядом.
Врачи спасли его, а суд, учитывая все обстоятельства дела, дал ему восемь лет строгого режима с лечением в психиатрической больнице, как человеку склонному к суициду.
Мысль о самоубийстве его с тех пор никогда не оставляла, а любимая жена всегда была перед глазами. Жить без неё он не мог и не хотел.
Но, если бы я был немного внимательней к этой его проблеме, может быть ничего бы и не случилось. Во всяком случае, так быстро.
Месяца через три, после нашей встречи, Иван спрыгнул с площадки башенного крана и разбился насмерть.
После освобождения, я заезжал к его матери. Помогал, чем мог.
Но смерть Ивана лежит на моём сердце тяжёлым грузом, и какие бы я ни находил себе оправдания, и какие бы объективные причины ни выискивал, ощущение тяжкой вины перед этим сильным, добрым и несчастным человеком меня не покидает.
Никогда!
Урок еврейского
Лев Моисеевич Каганович не был родственником всесильного сталинского министра. Он даже близко не был с ним знаком. Они были просто однофамильцами.
Бог испытывает того кого любит, и наш Лев Моисеевич нёс на себе всю жизнь нелёгкую ношу мнимого родственника сталинского сатрапа.
Ему постоянно мстили те, кто ошибочно его пугался, а потом не мог простить ему свою трусость, а также те, кому эта фамилия была ненавистна.
Во время описываемых нами событий нашему герою было уже крепко за шестьдесят, и он мирно себе трудился парикмахером в колонии строгого режима посёлка Вожский Коми АССР.
Большую часть своих лет Лев Моисеевич работал исполнительным директором в оркестре братьев Покрасс. Были такие знаменитые братья на заре и в угаре Советской власти. Они были обласканы правительством, потому что, как немногие композиторы советского периода умели сочинять мелодии, раздувающие красные паруса революции: «Никем непобедимая, страна моя, Москва моя – ты самая любимая!» – кто ещё мог написать такой всепобеждающий марш о столице?
А были «Три танкиста», «Если завтра война» и ещё добрых два десятка песен, которые уносили советских людей от суровой реальности в мир будущих свершений.
Наш Каганович знал братьев ещё до революции. Тогда братьев было трое.
С четвёртым братом Аркадием он познакомился после гражданской войны.
А с раннего детства он дружил с тремя мальчиками, подающими большие надежды.
Тогда ещё их папа, Яков Моисеевич Покрасс – мелкий киевский лавочник даже не подозревал о той высоте, на которую сумеют взобраться его сыновья, а потому радовался сыновним заработкам со свадеб и ресторанов, которые позволяли семье неплохо жить, а детям по очереди учиться.
Музыка братьев заполняла собой киевские бульвары и кафешантаны.
Но грянула революция и размеренной, планируемой жизни пришёл конец.
Семья вынуждена была сорваться с места от непонятной власти украинских националистов, ревнители которой грозили евреям всевозможными карами, и двинуться на юг поближе к знакомому дворянско-офицерскому порядку, при котором не всё нравилось, но было вдоволь еды и музыки. На радостях братья написали прекрасный марш для деникинской конницы:
Мы белые кавалеристы, и про нас Былинники речистые ведут рассказ… О том, как в ночи ясные, О том, как в дни ненастные Мы смело и гордо в бой идём. «Веди, Деникин, нас смелее в бой…»Песня понравилась, и её распевала уже вся деникинская кавалерия, когда в город вернулись с боями красные конники. Братья, не дожидаясь прихода чекистов, срочно всё переделали и по городу уже разливался лихой красноармейский марш:
«Мы красные кавалеристы, и про нас…» «Веди, Будённый, нас смелее в бой…»Песня очень тронула душу командарма, он даже хотел наградить музыкантов, но в город вернулись белые. И братья опять не ударили в грязь лицом…
Когда в ЧК и Политотделах отметили, что и красные и белые конники вдохновляются одним и тем же маршем, Будённый отдал команду повесить всю эту «жидовскую компанию», но братьев спас Клим Ворошилов, за что в новом варианте марша и ему нашлось место; а позже братья ещё и отблагодарили его «Песней о луганском слесаре».
Братьев зачислили в оркестр Первой Конной армии и простили им все грехи. И только «лучший друг советских композиторов» товарищ Сталин иногда шутил с братьями по поводу их прошлого и, уехавшего в Америку брата Самуила. От этих шуток Даниил Покрасс скончался не дотянув до пятидесяти лет. А самый талантливый и изворотливый Дмитрий Яковлевич, пережив и Сталина и Хрущева, умер в уважении и почёте глубоким стариком.
Наш Лев Моисеевич Каганович с молодости пристал к братьям и неплохо возле них кормился, выполняя бесчисленные обязанности, которыми сопровождается любая концертная деятельность. Он даже чуть не угодил вместе с ними на виселицу, а потом всячески обустраивал суровую армейскую жизнь братьев.
В мирное же время он был директором их оркестра, который в тридцатые годы попал под крыло всесильного железнодорожника Лазаря Моисеевича Кагановича.
Все знали, что братья Покрасс руководят оркестром железнодорожников, поэтому по звонку нашего Кагановича все вставали смирно и решали любые вопросы.
Братья подшучивали, что его за эти штучки посадят, но посадили Льва Моисеевича только через двадцать лет, на излёте хрущёвской оттепели, за нарушение правил валютных операций. Учли все его былые заслуги и дали десять лет строгого режима.
Патриотов меньшего калибра расстреляли.
Однажды Лев Моисеевич остановил меня для разговора:
– Марик, вы почему не приходите ко мне бриться?
– Лев Моисеевич, я сам как-то привык. Да и некогда.
– Послушайте меня сюда, нельзя привыкнуть нормальному человеку бриться лезвием «Нева» – это можно делать только по приговору суда, или по зову Партии. Заходите, мы евреи должны чаще бывать вместе.
– Так у вас же там вечно отирается это говно Якобсон.
– Послушайте меня, Марик, сюда. Я вам даже больше скажу, как еврей еврею. Да – это говно! А чтоб вы лучше меня поняли – это очень вонючее говно! Но, дорогой мой, это наше с вами говно. И от этого вам с вашим носом никуда не деться! С какими бы блатными вы не водились, и в каком бы авторитете вы у них не были, вы всё равно еврей. И для них, и для себя. Так вот, крепко послушайте старого человека. Если это говно скажет вам, на минуточку, что вы грязный еврей, то вы пойдёте и умоетесь! И всё! Вы только подумайте, что вы только что услышали. Вы просто умоетесь, потому что это говно не имело в голове ничего другого, что вам сказать. И вам никого не надо бить табуреткой по голове, чтобы сравняться с русскими. А!? Как вам это нравится? Так я вам скажу, на минуточку, ещё кое-что: «Всякий народ должен иметь право на своё говно», а то скажут, что мы опять выпендриваемся. Мало того, мы должны иметь своих жуликов и бандитов, и это никого не должно волновать, потому что мы народ и у нас не только чемпионы по шахматам.
– Лев Моисеевич, но никогда евреи не работали на кума, и не было в лагерях еврея – педераста! А этот работает на кума, и ещё гордится этим! Еврей – мент это стыдно!
– Чтоб я так умер, как он работает на кума… Кто, покажите мне пальцем кто от него пострадал, кто!? Ну дал Якобсон подписку, чтоб его оставили в покое, и пускали жену на свидание, но тут же рассказал об этом каждой бродячей собаке. И где ему брать информацию, в постирочной? Не судите так строго старика, ему и так тяжело.
Вы поймите, Марк, я ничего против русских не имею, у меня две жены были русские, и дай вам Бог такую еврейку. Первая, Катя, земля ей пухом, говорила на каждом углу «Лёва хоть и еврей, но очень хороший человек». Царство ей небесное. Она умерла в Ленинграде от голода, всё отдавая нашему Моничке. Потом ему всё отдавала её соседка – западная хохлушка. Я долго не мог забрать их из блокады, спасибо братья упросили Митю Шостаковича. С Моничкой и Галю привезли полумёртвую. Всё Моничке отдавала. Она долго жила с нами помогала мне по хозяйству, не могла с Моней расстаться, да и я жил с ней какое-то время. Так вот, она убирала в квартире со словами «Шоб жидивського духу не було». Брака настоящего у нас не получилось, но лучшего человека я в жизни не встречал. Это святая женщина. Я потом снова женился, уже на еврейке – пианистке, так Галя и убирать приходила и готовить, лишь бы я Моню не забирал из её коммуналки. Правда он, и сам от неё в жизни бы не ушёл.
А моя последняя жена только собой и была занята.
Правильная пословица «Хочешь хорошего мужа – выходи замуж за еврея, а хочешь плохую жену – женись на еврейке».
Где сейчас моя последняя жена и где Галя. Хотите посмеяться? Так хохлушка Галя, которая выметала из дома еврейский дух, с Мониной семьёй и с моими болячками, а еврейка Лиля уже давно замужем.
Только я вам, Марик, скажу так: «Еврейство не дар Божий, а тяжкий крест». Этим не нужно гордиться, но и нелепо этого стесняться. Так получилось.
Вы знаете я последнее время стал верить в Бога. В какого? Этого я ещё не знаю.
Сионизм и картошка
И тогда Нина Давыдовна Плоткина сказала: – Они сами себя загнали в угол. Поверьте. Марик, если они просуществуют больше десяти лет, я съем Вашу шляпу.
Они – это коммунисты. На дворе осень 1979 года. Нина Давыдовна – заведующая складом запчастей.
СССР силён, как никогда.
Невероятно! Но она практически не ошиблась. Все ошибались. И я в том числе. А она оказалась умнее и прозорливее всех.
Она всегда говорила умные вещи.
На мой естественный вопрос, что она столько лет делает на Севере, имея квартиру в Днепропетровске, она ответила:
Запомните, Марик, слова умной и, к сожалению, уже не молодой женщины:
– Важно, не где ты. Важно кто ты. Здесь я уважаемый всеми человек. Всеми.
И это была чистая правда. Нину Давыдовну Плоткину знали, уважали и любили все.
У меня для всего этого была особая причина. И вот почему.
Я уже больше полугода был на поселении. Одного из немногих меня оставили в городе, и я продолжал руководить лесобиржей, что до поры до времени всех устраивало. Всё у меня катило, как по маслу, и жаловаться было грех.
Однажды мне позвонили из политотдела Управления МВД и сказали, что я в списках на уборку картошки, и должен куда-то там явиться утром такого-то числа в рабочей форме.
Человек я законопослушный, и в воскресный осенний погожий день с большой группой работников Управления прибыл на огромное картофельное поле помогать выполнять Продовольственную программу.
Меня распределили в звено из девяти человек, всех офицеров, которое должно было на машине собирать полные мешки и отвозить их на овощную базу. Командовал и надзирал за всеми тружениками полковник Храпченко Владимир Ильич – начальник политотдела Управления.
На политические должности, как правило, попадали люди неумные и злые.
Тем и продвигались.
Храпченко был редкой скотиной и имел кличку Суслов, по имени тогдашнего главного идеолога страны – такой же редкой сволочи. Сам Храпченко, как и Суслов, не пил, не курил, был примерным семьянином, был аскетичен, немногословен, и ждал скорого перевода в Москву.
Окружающие ждали этого ещё больше.
Работали все весело. Картошка была крупная и чистая.
У моих офицеров с собой было и выпить и закусить, поэтому им было веселее всех.
Мы уже сделали несколько ходок на овощебазу, когда мужики о чём-то пошептавшись, заехали в лесополосу и сбросили в кусты девять мешков картошки.
Меня продуктами снабжал старшина батальона охраны Сидун, и мне эта картошка была без всякой надобности. Но выбиваться из коллектива невозможно, да и не знал я сколько там скинуто и кому.
Подошёл конец дня, и тут – то и началась история, которая чуть не сломала мне будущее.
Храпченко, в окружении прихлебателей, собрал всех присутствующих и рассказал, что офицеры, которые работали на машине, украли у государства девять мешков картошки и понесут за это суровое наказание.
Он заставил виновных выйти из строя, и когда я уже собирался двинуться, мой технорук майор Хлебовский Леонид Иванович, который был старшим по званию у грузчиков и заводила всей этой компании, придержал меня за руку, а сам шагнул вперёд. Для меня скандал означал возврат в зону.
Началось расследование. У восьми офицеров от лейтенанта до майора требовали сказать для кого девятый мешок, но Хлебовский, предупредив остальных, сказал, что ему два, как звеньевому.
Все подтвердили и никто меня не сдал, что было просто удивительно, потому что парни не только рисковали погонами, но и относились ко мне по – разному.
Когда я – поселенец, отсидевший полжизни, раскатывал по городу на комбатовском газике, как на своём, а в холода ходил в кремовом полушубке командира полка нараспашку и в галстуке, а многие майоры кутались в шинельки, потому что полушубки положены были только охране, это не могло не вызывать раздражения и зависти.
Выручало меня от всеобщего неприятия только то, что ко мне можно было обратиться в два часа ночи по любому поводу и я, разбивался вдребезги, но выручал практически любого, кто обращался.
Этому научил меня отец:
– Если есть возможность, помоги. Не вернётся, так зачтётся.
И вообще не дели людей на хороших и плохих. Старайся повернуть к себе человека хорошей стороной. А для этого не давай ему возможности быть по отношению к тебе плохим. Не давай ему найти оправдание для своей подлости и хамства.
Папа прошёл две войны, вернулся инвалидом и был мне настоящим другом.
Образование у отца было четыре класса еврейской школы в одном из посёлков Херсонской области, где после революции американцы пытались обустроить евреев. Ничего из этого не вышло, но чему-то папа там научился.
Я никогда не отступал от правила «Помоги, если есть возможность» и это знали все. А потому, наверное, и терпели.
В общем, никто меня не сдал. Но над остальными нависла гроза.
Храпченко рвал и метал, заставляя всё начальство участвовать в этой экзекуции.
Поговаривали, что у всех офицеров снимут одну звёздочку и отправят по другим управлениям в глубинку. А это для семейных, обустроенных людей катастрофа. Особенно я переживал за Хлебовского.
Формально Леонид Иванович был моим непосредственным начальником, а на деле он только выполнял мои просьбы там, где гражданского авторитета было недостаточно.
Больше он ничего не делал. Разгуливал по бирже, выпятив вперёд живот, балагурил и рассказывал анекдоты и разные истории.
Зэков он не замечал. Вернее не замечал, что они зэки.
Любил выпить, говорил начальству в лицо всё, что думал и добрался до майорской звезды лишь к сорока пяти годам.
Леонид Иванович не был героем моего романа, но не любить я его просто не мог. И, вообще, если я люблю русский народ, то благодаря таким Леонидам Ивановичам, с которыми и на пьянку и в разведку пойдёшь с радостью.
И вот над ним и другими ребятами нависла угроза, от которой их никто не мог спасти. К Храпченко подходов не было. Даже генерал Мешков не хотел с ним связываться.
Как-то на складе у Нины Давыдовны мы пили чай и обсуждали эту сплетню, о которой судачило полгорода. Заговорили о Храпченко.
– А вы знаете, что мать его жены Аллы обшивалась всю жизнь у моего папы, а до этого её бабушка. Они тогда ещё говорили на идише.
Тогда этого ещё не стеснялись, а теперь они все русские.
Попробуй заикнись.
Среди ночи меня подбросило на кровати. ГОСПОДИ!!!
Я знал, как спасти Леонида Ивановича и остальных ребят.
Наутро, бросив все дела, иду в школу, где директорствовала жена Храпченко Алла Васильевна.
Я часто помогал ей по директорским делам, и отношения у нас были нормальные.
Когда мы остались наедине, я повёл с ней разговор о картофельном деле, но чем дольше я говорил, тем отрешённей становились её глаза.
Закончил я тем, что сказал о том, что был там девятым и мне грех бросить ребят в беде.
– Меня это не касается, я в дела Владимира Ильича не лезу. Да он и не позволит.
– Алла Васильевна, в 1969 году из Винницы пришёл сюда этап 75 человек.
Через десять лет в живых и нормальных осталось девять.
И я в том числе. Остальных, кого зарезали, кто сам загнулся, а кого превратили в животное.
– Зачем мне всё это знать?
– Чтобы Вы представляли, с кем Вы сейчас разговариваете.
Она молча встала, открыла дверь и ждала пока я выйду.
Но для меня разговор только начинался:
– Ну что же, метлу я Вам подарю, потому что через месяц Вы с мужем будете дворниками. Ждите вызова из Израиля на ПМЖ. Вы же жидовка по маме.
А в Израиле, говорят, всё по маме.
Так что скажите своему козлу, чтобы успокоился, а то Вас никто не спасёт. Я и свидетелей найду, что Вы меня просили сделать вызов. Пока разберутся, вы повеситесь. А дочка ваша, бывшая студентка будет по Москве клиентов искать.
Ты поняла меня, сука. Бегом домой, пока не поздно.
Никакого понятия о вызовах в Израиль я не имел. И вообще был не в теме.
Но остановить меня уже не могло ничто. И она это понимала всем своим нутром.
В те времена получить вызов из Израиля, значило выпасть не только из обоймы, но и из жизни. Это знали все. И никто не будет разбираться, что и как. И она это тоже понимала.
Назавтра Леонида Ивановича вернули на работу. Дело замяли и забыли.
Через некоторое время я рассказал Нине Давыдовне, как она помогла спасти ребят.
Тогда-то она и произнесла свою пророческую фразу:
– Они сами себя загнали в угол, поверьте, Марик, если они просуществуют больше десяти лет, я съем Вашу шляпу.
Они продержались двенадцать. Но о шляпе мы как-то забыли.
Курица не птица
Как бы хорошо человек не был пристроен в лагере, чувство голода его преследует всегда.
Даже, когда он сыт, его преследует чувство страха быть голодным.
Те нормативы, которые разрабатываются в недрах министерств и ведомств может быть в лабораторных условиях, и соответствуют средним потребностям человека, но после прохождения всех инстанций от склада до рта они резко теряют свои количественные и качественные показатели.
Теряют настолько, что без прикорма со стороны, как серьёзное питание рассматриваться не могут. И хотя последние лет пять я устроился с питанием неплохо, выпадали дни, когда хлеб мне и снился и виделся.
Наверно, Надина мать, прожив на Севере большую часть жизни, об этом знала, потому что в каждый мой визит к ним в дом она варила одну из куриц, которые бегали по двору, и приносила в Надину комнату, чтобы меня накормить.
Я клал двухкилограммовую курицу на поднос, устраивался в кресле и, отщипывая по кусочку, съедал целую птицу под собственную болтовню.
Напротив меня сидела Надя с тоненьким бутербродом из желтка и ломтика хлеба. Когда я заканчивал, её бутерброд был наполовину цел.
– Заслушалась – говорила она.
…Мой приятель Толик попросил меня как-то забрать мальчика Володушку из детского сада, потому что они с Веркой не успевали до шести.
На свободе, вернее поселении, я уже был неделю, и садик нашёл быстро.
Воспитательница вывела мне мальчика и тепло с ним попрощалась.
На вид ей было лет семнадцать, очень худенькая и очень красивая.
Именно, не симпатичная, а красивая.
У одной из мамаш я узнал, что сотрудники ещё наводят порядок и расходятся к семи.
Я уже знал, как зовут девочку и навязался её проводить.
Девушка меня почти не слушала и постоянно озиралась.
Мы уже подходили к её дому, когда появился пьяный парень и начал бегать вокруг меня, чтобы схватить её или ударить.
Драться я не любил и не умел никогда, а сейчас драка была мне настолько ни к чему, что я даже подумывал оторваться, но девушка пряталась за меня, и я был в растерянности, понимая что это не просто прохожий. Я попытался что-то говорить ему, но это было бесполезно.
И тогда я его треснул. Носком ботинка по голени. Парень взвыл и согнулся.
Он попытался разогнуться, но я схватил его ухо и потянул вниз. Наверное, было очень больно, потому что он упал на землю. Продолжение было для меня опасным, и мы быстро пошли к её дому.
Так я познакомился с Надей и её мужем, с которым она расписалась два месяца тому назад, и со дня свадьбы трезвым его не видела.
Кроме того он еще и лез в драку. Она сбежала домой, а он требовал, чтобы она вернулась в семью.
Такая компания была для меня просто опасна, и я больше к Наде не подходил.
Но через пару месяцев Надя нашла меня сама.
Толика Верка постоянно звала меня на обед, потому что, глядя на то, как я ем, она замечала у себя рост аппетита.
Жил я один и такое гостеприимство мне было кстати. Однажды я застал у них Надю.
Не скажу, чтобы это меня обрадовало. Любое приключение могло отправить меня обратно в зону.
Но Надя рассказала, что с мужем они развелись и он оставил её в покое.
– Надя, а зачем же ты выходила замуж за пьяницу?
– Ну, он же так не пил. Пил, как все. А потом стал не просыхая.
– А я вообще не пью.
– Мне Вера сказала. Я раньше думала, что таких нет. Все, кого я знаю, пьют. И отец, и зятья и сёстры. Даже мама иногда.
– А ты?
– А я боюсь, что у меня это тоже появится, поэтому даже на праздниках боюсь притрагиваться.
Эту ночь мы провели у Верки, и стали, как говорят, встречаться.
Её мать была от меня без ума.
Называла она меня Марк Иванович, и сколько бы раз я её ни поправлял, ничего не помогало. Отца трезвым я никогда не видел, но и вреда от него или шума тоже.
Жили они на севере давно в большом рубленом доме с хозяйством во дворе, которое уменьшалось с каждым моим приходом на одну курицу.
Надина мама предлагала к ним переехать.
– Ну чего ты Марк Иванович там за линией один. Живи у нас. Захочешь – уйдёшь. Что мы не понимаем, что ты птица другого полёта, и Надька тебе не пара. И за то спасибо, что Надька с тобой ожила.
Надя тоже всё время говорила, что между нами ничего серьёзного быть не может и даже высматривала мне будущую жену.
Однажды она мне заявила, что к ним в садик приходила дочь бывшего директора школы, которая вернулась из института и работает в железнодорожной больнице.
– Марк, если ты на ней женишься, я буду считать, что мне можно спокойно умирать – смеялась она.
С главным врачом я пару раз выпивал у командира батальона, поэтому встретил он меня, как родного.
Я спросил его о новой врачихе.
– Ой! Оно тебе надо. Комсорг института. Она на мужиков смотрит, только в свете комсомольских взносов. К тому же её ещё и в горком сватают.
– А ну пригласи её. Чего мне терять.
И зашла моя жена. Это я понял сразу.
Остальное было делом техники.
Рассказывать о том, как вся её родня встала на дыбы. Как она пыталась руководить мной, как своими комсомольцами. Сколько раз мы уходили друг от друга. Всё это скучно. Однажды она взяла два чемодана и пришла ко мне.
Надя и её мама были счастливы. Месяца через два Надя переехала в другой посёлок, где приняла детсад и вышла опять замуж. Это мне рассказала Вера.
Я стоял у окна родильного отделения, ожидая, что жена покажет мне нашу первую дочку, когда услышал привычное: «Марк Иваныч», и увидел Надину маму, которая бросилась меня обнимать, целовать и поздравлять.
Жена показала нам дочку, и Надина мама перекрестила окно, а потом меня.
Мы пошли с ней по дороге домой, и я спросил её, как там Надя.
– Пьют оба, Господи спаси!
– Как же так?
– Марк Иванович, это ты такой непьющий, а посмотри вокруг, все пьют. Я сама раньше пила. Это печень замучила. А что ещё делать? Пойдём со мной, я тебе хоть пару курочек дам, Лене своей понесёшь в больницу.
– Да есть у нас всё, спасибо.
Мы прожили уже года три в Ленинграде, когда решили забрать тёщу к себе.
Я остановился у тёщи, а вечером решил пойти к Верке и её пацанам.
С Толиком они уже не жили. У него кончилась «химия», и он уехал в Херсон.
Мы почти час уже проговорили, когда я спросил её, не встречала ли она Надю, и как там её семейная жизнь.
– Ой! Надька совсем спилась, с работы выгнали. Слышала, что она опять вышла замуж и уехала в Сосногорск. Потом говорили, что она убила по пьянке мужа сковородкой, но это оказалось неправдой. Он выжил. Я недавно мать видела в поликлинике. Сильно постарела. Совсем седая.
Больше я никогда о Наде и её матери не слышал. Но часто вспоминаю о них, и меня эти воспоминания не радуют.
В ожидании чуда
Если хочешь быть счастливым – будь им.
Козьма ПрутковКазалось бы, для человека, прожившего в лагере многие годы, любая женщина, должна быть привлекательной и желанной.
Но Дина Альбертовна Утяшева не вызывала у меня никаких сексуальных эмоций.
И это при том, что заметных внешних недостатков у неё не было. Добрая, ровная в общении, образованная тридцатипятилетняя брюнетка была скучна и подавляла своим пессимизмом.
Она гордо называла себя башкиркой, но кого это в наше время волновало.
Работала она нормировщицей и была замужем за зубным врачом. Ее муж, Мурат, был высоким, светловолосым красавцем с огромными, мускулистыми руками.
Как раз тогда женщин перевели из отделения в новую контору на лесобиржу, где им по штату и положено было работать. Мы с ними сразу подружились, так что никакой субординации или отчуждения между нами не было и в помине.
Информация из конторы никуда не уходила, потому что работали там только уважаемые парни.
На севере в бригадиры или мастера случайные люди не попадали. Кто бы там позволил разной шелупони или ментовским ставленникам собой руководить.
Дина Альбертовна, как многие известные мне женщины, никаких поводов для близких контактов не давала, а к простым дружеским отношениям была расположена.
Она часто и подолгу сидела в моем кабинете и рассказывала про свою, не очень удавшуюся, жизнь. Это её печалило и она не переставала думать об этом. С мужем они давно охладели друг к другу, хотя проживали вместе и не ссорились.
Детей у них не было, и каждый жил своей жизнью.
На меня она смотрела так, как смотрят на сына или младшего брата и завидовала мне белой завистью, бесконечно повторяя, что общение со мной заряжает её энергией и желанием жить. Никакого повода для сближения она не давала. А мне подобное развитие отношений не могло просто придти в голову. У меня к тому времени была связь с некой сотрудницей. Дина Альбертовна мой выбор не одобряла, но внешне это почти никак не выражала, разве что, относилась к моей пассии подчёркнуто равнодушно.
Дина Альбертовна не позволяла себе хоть как-то нарушать установленный порядок, и я не помню случая, чтобы она дала кому-нибудь из зэков конфету или яблоко. Хотя другие женщины иногда баловали заключенных. Меня это тоже касалось.
Я встречал и прежде таких людей в системе и относился к этому с пониманием.
Поэтому я очень удивился, когда однажды она привела своего мужа в промзону, чтобы он занялся моими зубами. Установка зубных протезов в лагере не предусматривалась, и помощь была очень кстати.
Месяца два Мурат лечил меня в моём кабинете, пока не вылечил и заменив во рту всё, что было возможно. Деньги он взять отказался, и даже не принял в подарок появившиеся тогда электронные часы, которые я предусмотрительно приготовил.
– Вот освободишься, тогда и обмоем твои железки – и он, пожав мне руку, ушёл.
Нормальный мужик, хорошая женщина, а счастливой семьи не получилось. Мне было обидно за них обоих.
Мы продолжали общаться.
Наверное, в конторе кое-кто считал наши отношения более близкими.
Моя «мадам» сначала даже пыталась меня ревновать, насколько была на это способна, но потом и она убедилась, что мы просто дружим, если наши отношения можно было назвать этим словом.
Я же понимал, что только со мной Дина Альбертовна и отводит душу, поверяя мне свои тревоги и печали. А человеком она была очень ранимым и тревожным.
Я всю свою жизнь дружу с женщинами, и эта дружба ни разу меня не подвела и не огорчила. Относился я к ним всегда по-братски, и видимо, они это чувствовали и ценили.
Но, главное, я умел их слушать.
Любил же я всегда других, потому что это уже иная песня.
Однажды Дина Альбертовна сказала задумчиво, как бы про себя, что очень устала от жизни, и никакого смысла в ней не видит. И что давно бы уже рассталась с ней, если бы не боялась самого процесса умирания. Я не придал ее словам особого значения, потому что мысли мои были заняты совсем другим. Да, мало ли о чём говорят скучающие женщины…
Вскоре её избрали председателем поселкового совета, и она сменила место работы.
Иногда она мне звонила, но в телефонных разговорах исчезла доверительность наших бесед.
А потом произошло событие, в результате которого я оказался на месяц в изоляторе, а потом и на другой зоне.
В лагерной жизни ничего предсказать невозможно. Как, впрочем, и в обычной.
И как то мне сказали, что Дина Альбертовна умерла, задохнувшись угарным газом из-за рано закрытой печной задвижки.
Никаких подробностей мне не рассказали. Но я вспомнил о её желании умереть, а потому и не очень поверил в случайность происшедшего.
Мне было жалко Дину Альбертовну. И я всегда помнил о ней.
…Прошло четыре года.
На поселении я руководил лесобиржей и жил в городе.
Как это обычно и бывает, зуб мудрости заболел неожиданно и превратил мою жизнь в сущий кошмар.
Местный врач написал направление в Сыктывкар, а начальство дало разрешение выехать за пределы района.
После осмотра и рентгена меня отправили в кабинет хирургии, где я, к нашей обоюдной радости, увидел Мурата. Он долго меня мучил, удаляя злосчастный зуб. Потом отвёл в ординаторскую и велел лежать и дождаться окончания его смены.
До поезда было ещё часа два, когда мы на его новом «Москвиче» подъехали к вокзалу и устроились за столиком в ресторане.
У Мурата была новая семья и двухлетняя дочка.
Мы говорили и вспоминали обо всём на свете, кроме его бывшей жены, хотя она незримо присутствовала, потому что кроме неё нас ничего не связывало.
Но мы оба всячески уходили от этих воспоминаний.
И, когда я уже объявили о прибытии поезда, Мурат неожиданно сказал:
– Марк, а ведь Дина тебя очень любила.
Я растерянно произнёс:
– Ты хочешь сказать, что она это из-за меня?
– Нет, что ты! У неё это давно было в голове. Хотя!..
Он немного помолчал:
– Но из-за тебя, она умерла счастливой – он горько улыбнулся.
Она оставила для тебя целую тетрадь. Как-нибудь передам. Она где-то у матери.
Мурат проводил меня к вагону и, прощаясь, крепко обнял.
Он постоял напротив окна вагона, а когда поезд тронулся, пошёл по перрону, держа руку над головой.
Больше мы никогда не встречались.
Эти глаза напротив
Посвящается Ольге Ильиничне Дятченко
В каждом лагере есть своя маленькая тюрьма, которая в те далёкие времена называлась БУР (барак усиленного режима).
И хотя мне осталось на новой зоне досидеть в нём всего три месяца, из-за вредности местного кума, по всем раскладам, получалось, что провести эти три месяца мне придётся в одиночестве, что особо не радовало.
Но деваться было некуда и я, передав приветы местным уркам от общих знакомых, начал потихоньку осваиваться и обустраиваться в большой и тёплой камере, потому что камеры-одиночки были уже заняты подследственными и особо отличившимися.
Шнырь, которого контролировали блатные, передал мне кипу журналов, сахар, пару буханок хлеба, а в приносимой им каше было столько мяса из свиных голов, что для самой каши места уже почти не оставалось.
Всё складывалось вполне терпимо.
Я и раньше не был склонен к унынию, а потому и теперь настроился много читать и слушать музыку, которую крутили из местного радиоузла.
Песен было совсем немного, и за день они повторялись столько раз, что, через несколько дней превратило удовольствие в настоящую пытку До сих пор песня «Как хорошо быть генералом» приводит меня в тихую ярость, а совсем неплохие песни ансамбля «Песняры» нагоняют тяжёлую тоску.
Была только одна песня, которая мне не надоедала никогда. И слова и музыка завораживали и вызывали самые волнительные и неведомые дотоле чувства и ассоциации.
«Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче и всё теплей. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив что это, что это?»Не верилось, что песню сочинили профессионалы. Казалось, что и слова и музыку неизвестный мне тогда певец достаёт из самых потаённых глубин своей души.
Какой должна быть женщина, чтобы могла вызвать такие чувства и слова? Моей фантазии не хватало на то, чтобы представить ее образ…
Нужно долго находиться в одиночке и иметь впереди бесконечный срок, чтобы представить себе, куда уносило меня воображение, когда я слушал проникновенный голос неизвестного мне тогда, Валерия Ободзинского.
Все последующие годы, и в лагере и потом на свободе, песня жила во мне, не теряя своего обаяния и продолжая волновать так же, как волновала, когда заполняла всё пространство камеры. Совсем не думая о чём-то конкретном, я постоянно искал эти глаза, надеясь, что когда-нибудь они, всё-таки, мне встретятся.
Проходило время, но ни одна, из встреченных мною женщин, не обладала такими глазами, которым хотелось бы сказать:
«Только не отводи глаз».
Постепенно я убедил себя в том, что автор песни их просто придумал. А я умножил его фантазию на обострённые чувства человека, имеющего единственную привилегию, которую у человека нельзя отнять. Привилегию мечтать.
…Уже и не помню, сколько прошло лет.
Я сидел на лавочке в небольшом парке, ожидая, когда откроется дверь жилищной конторы. В песочнице играли дети. Чуть поодаль сидели две старушки. А метрах в пяти напротив меня сидела элегантно одетая молодая женщина и внимательно рассматривала свои ногти.
Ни на детей, ни на меня она не обращала никакого внимания. Всё её внимание было сосредоточено на ярком маникюре.
Мне же до неё не было никакого дела, потому что я внимательно следил за очередью, боясь потерять целый день на ожидание.
Неожиданно я почувствовал, что у меня остановилось дыхание, а потом я услышал стук собственного сердца.
Сначала я не сообразил, что со мной произошло. И только спустя несколько мгновений, я понял, в чём дело.
На меня внимательно смотрели эти глаза. Глаза, которые я уже отчаялся встретить.
Женщина не отводила взгляда, и он проникал в самые отдалённые уголки моего сознания.
Никто и никогда так внимательно и бесцеремонно на меня не смотрел.
Я же, стараясь не показать своего смущения, смотрел на женщину, глаза и лицо которой были именно такими, какими я представлял многие годы…
Мой взгляд её нисколько не смутил, и она продолжала внимательно на меня смотреть, как на понравившуюся картину в музее.
Это, конечно же, была Она, Женщина из песни. И это были те глаза. Глаза, которые напротив.
Решив, что женщина заинтересовалась мной, я подошел и сел рядом.
Я говорил те слова, которые обычно нравится ожидающим мужского внимания женщинам. Уж чего-чего, а говорить за свою жизнь я научился. Женщина слушала меня внимательно и доброжелательно. Чувствовалось, что ей интересно и приятно со мной. Она часто улыбалась и поддерживала разговор. Говорила она тихим и мягким голосом.
Именно такой голос соответствовал этим глазам…
Глазам, которые напротив.
Господи! Чего я только ни наговорил там, чтобы ей понравиться.
Когда же я немного остановился, она сказала:
– Спасибо. У меня с утра было такое неважное настроение.
Я уже знал, что зовут её Светлана Николаевна и, осмелев, попытался назначить ей свидание.
Она немного задумалась:
– Скажите Марк, я могла бы Вас попросить об одолжении?
– Господи! Да, что угодно. Заранее обещаю сделать всё, о чём только попросите!
– Тогда не пытайтесь со мной никогда встречаться.
– Но почему?
– Потому что Вы пообещали.
И она примирительно дотронулась до меня своей рукой.
– А я-то надеялся, что понравился вам. Вы же так на меня смотрели…
Она невесело рассмеялась:
– Я не смотрела на вас. Я пыталась вас разглядеть. Я ведь почти ничего не вижу. Только свет и немного очертания. Как вы этого не заметили? Я одна даже ходить по улицам не могу.
Ну, балбес! Как же я мог этого не заметить?! Это же так очевидно!
– Всё равно я хочу снова встретиться с вами!
– Нет! – неожиданно твёрдо сказала женщина. – Этого не будет никогда. И не пытайтесь! Помните, что вы мне пообещали. Прощайте! Ещё раз спасибо!
И она отвернула голову в сторону, ясно показывая, что продолжать разговор она не намерена.
Уже стоя в очереди, я увидел, как к ней подошла немолодая женщина, и они не торопясь направились к выходу из парка.
Больше я никогда её не встречал.
А разыскивать её у меня не хватило решимости, о чём до сих пор сожалею.
И немного стыжусь.
Серёжа
Серёжа Пахомов был радиотехником. Он любил свою работу, и не променял бы ни на какую другую. Ему нравилось копаться в запутанных схемах и приводить их в надлежащий порядок. Но главным достоинством его работы было то, что работал он всегда один и ни от кого не зависел.
Поэтому на лесоповале его напрягала не столько тяжкая работа, сколько зависимость от остальных членов бригады.
Если махать топором, обрубая огромные еловые ветки со ствола, почти утонувшего в снегу, было ещё возможно научиться, то терпеть крики и понукания работяг Серёжа никак не мог. Было это, по его мнению, незаслуженно и унизительно. В конце смены к нему подошёл бригадир и незлобно сказал:
– Не хочешь работать – утрясай в жилой зоне, а не за наш счёт. Не шути!
Назавтра Серёжа на работу не вышел, и был посажен в изолятор на десять суток.
Серёжа сидел ещё в Москве в холодном карцере трое суток за пустяковый проступок, поэтому очень боялся северного изолятора. Однако боялся он напрасно. В изоляторе было тепло и сытно.
Закрывающихся на день коек, как на местных зонах и в тюрьмах, не было, а потому можно было лежать на больших нарах, общаться с сокамерниками и читать книжки и журналы, которые присылали из соседних камер, где содержались буровики, то есть те, у кого было камерное содержание до полугода.
Кормили вдоволь густой кашей и супом с мясом из свиных голов. Правда, раздатчики сначала кормили БУР, но много мяса оставалось и для изолятора.
После изолятора Серёжу отправили на лесобиржу, но и там была звеньевая система, а работа тоже не радовала. Серёжа за день очень устал от работы и от окриков пильщика, когда тому приходилось перескакивать через брёвна, которые Серёжа не успевал откатывать. Он ушёл из бригады и стал без зарплаты выполнять разные мелкие работы: жечь отходы, очищать подъезды для лесовозов и другую мелочь.
Но начальник отряда всё время на него наезжал и заставлял идти в рабочую бригаду, говоря при этом, что здоровому парню в двадцать четыре года надо работать и помогать жене и ребёнку, тем более что заработки на зоне большие.
Тогда Серёжа вообще перестал выходить в рабочую зону, и был посажен на шесть месяцев в БУР, так называли сокращённо барак усиленного режима.
Буровских камер было три. В одной сидели блатные, в другой прятались фуфлыжники, проигравшиеся в пух и прах, а в третьей простые мужики.
Дежурный спросил, куда Серёжа хочет пойти, и Серёжа попросился туда, где не курят. Капитан удивился, но предложил Серёже идти в камеру к Максиму, где сидят двое, а курит один.
Максим оказался парнем из блатных, но кум его почему-то не пересаживал к его друзьям, а вторым был маленький двадцатилетний татарин по кличке Фудзияма.
Серёже сразу понравилось с ними. Было много литературы и воздуха. Блатные «грели» Максима, а потому Серёже часто доставались вкусные продукты и даже шоколадные конфеты. Кроме того, каждый день приходила медсестра и через кормушку давала всем желающим ложку рыбьего жира и порошок аскорбинки. В зоне свирепствовал туберкулёз.
Блатные считали пить эти лекарства западло, а Серёжа брал, сколько давали, и принимал регулярно, чтобы не заболеть. Иногда аскорбинки набиралось так много, что он насыпал её горкой на хлеб и пил чай.
Было тихо, тепло, сытно, а главное независимо.
Так прошло почти полгода, и, когда отрядный спросил Серёжу, будет ли он работать, Серёжа ответил, что ему и тут хорошо.
– Так и будешь сидеть четыре года? – спросил отрядный.
Серёжа промолчал.
Отец занимался пересмотром Серёжиного дела, и торопиться было некуда. Всё было нормально, если бы не его беспокойство о поведении жены. Правду сказать, она не давала для этого никакого повода, когда Серёжа был рядом. А как там теперь?
Отец пишет, что всё нормально, и жена занята только работой и ребёнком, но Серёже в это не верилось. Он помнил, почти постоянное её страстное желание, и это не давало ему спокойно жить.
Времени свободного было навалом. Он много читал вперемежку со сном. Поэтому ночью был весь в раздумьях, и эти раздумья сопровождались эротические картинами, где жена его в самых немыслимых позах общалась с разными партнёрами. Он уже не мог себе простить, что ударил вредную соседку по коммуналке, и готов был отдать что угодно, чтобы вернуть всё назад. Но было уже так, как было.
От кого-то он услышал, что туберкулёз скорее пристаёт к людям с ослабленной нервной системой, и стал каждое утро кашлять в специально припасённый белый носовой платок и смотреть на свет, отыскивая в мокроте красные пятнышки.
Ребята, которых иногда подсаживали к нему, посмеивались, но Серёже было не до шуток, потому что он начал чувствовать незнакомые боли в теле и подозревал, что палочка Коха уже давно разъедает его организм.
Вместе со страхами за жену эта болезнь всё больше и больше омрачала Серёжино существование. Кроме того, он заметил, что эрекция, которая первое время постоянно сопутствовала его сну, всё реже стала его посещать, и он, вдруг вспомнил слышанный разговор о том, что власти могут подсыпать в пищу лекарства, вызывающее импотенцию.
Он расспрашивал на прогулке ребят из других камер, но те только смеялись. Серёжа был уверен, что они что-то про него знают, но не говорят, потому что он чужак, и они считают его чокнутым.
Он перестал выходить со всеми на прогулку, а также отказался от аскорбинки и рыбьего жира. Спал он теперь только днём, потому что ночью боялся увидеть жену, и ещё он боялся во сне умереть.
На белом фоне платка он стал замечать красные пятнышки.
Дежурившие днём по коридору сержанты Тахтамысов и Шерстобитов стали относиться к нему с предупредительностью, и Серёжа понял, что им известно о его близкой смерти, потому что его осматривал врач в их смену. На Серёжины жалобы врач ответил, что Серёжа все навыдумывал, и если он не хочет попасть в дурдом, то лучше ему идти на работу.
– Они с отрядным сговорились меня угробить – это Серёже было ясно, как божий день.
Прошло ещё несколько месяцев, когда он, проснувшись ночью, обнаружил, что умирает от удушья. Он стал колотить в дверь и кричать. Солдаты, дежурившие по ночам, открыли дверь и побили Серёжу ногами в валенках. Он понимал, что его бьют валенками, чтобы не осталось следов, а лёгкие после этого совсем отвалятся, и он будет медленно умирать.
Чтобы как-то доказать свою правоту и не мучиться от долгого умирания, Серёжа решил повеситься. Он давно уже приготовил верёвку из распущенного на нитки носка и вычислил, что решётка, закрывающая лампочку, выдержит его тело. Он сделал горку из книг и журналов, продел верёвку сквозь решётку и, привязав конец, вставил голову в петлю. Последний раз глянув на оставленную записку, он соскользнул со стопки, которая тут же и рассыпалась.
Никакого звона в ушах не появилось, как он ожидал, а сам он больно свалился на пол, да ещё получил сильный удар решёткой по голове. Прибежавшие на шум солдаты надели на Серёжу наручники и уволокли поближе к себе в отстойник, по дороге пиная ногами по чему попало.
К обеду следующего дня пришли два офицера и один штатский, видимо, врач. Серёжа изложил им свои жалобы и проблемы. Врач во всём с ним соглашался и сказал, что ему действительно нужно подлечиться.
Назавтра Серёже сообщили, что он едет на больничку и должен собраться с вещами. В палате, куда его поместили, было четыре одноярусных кровати почему-то с ремнями по бокам. Старожилы сразу приняли Серёжу в компанию, были вежливы и выслушивали его жалобы с пониманием и толковыми советами. Потом они играли в домино, и Серёжа с напарником трижды выиграли.
Врач и сёстры были понимающими и заботливыми. После уколов и таблеток ему стало тепло и совсем спокойно. Впервые за многие месяцы он не думал о жене и о болезнях. Он лёг по отбою и легко заснул.
Но вскоре его разбудили два санитара, и повели в комнату с операционным столом. Они дали Серёже горсть таблеток и попросили выпить. Потом они осмотрели его рот и какой-то железкой сорвали с зубов золотой мост. Было больно, но у Серёжи не было ни сил не желания возражать.
– Может быть так нужно – подумал он.
Затем санитары уложили его на пол, и по очереди, не спеша, совершили с ним половой акт. Было немного больно, но не так страшно, как он себе раньше представлял.
– Дураки, они, наверное думают, что я педераст. Идиоты! – ему даже стало смешно. Потом один из санитаров заставил Серёжу взять в рот его член. Было противно, но всё равно настроение у Серёжи не испортилось. Он вернулся в палату и снова легко заснул. Утром он проснулся в хорошем настроении.
И даже тот факт, что его напарник по домино ночью вскрыл себе вены, и был в смирительной рубашке унесён санитарами в отдельный бокс, нисколько не омрачил солнечное утро, которое сквозь кованую решётку пришло в Серёжину палату.
Сентиментальный фраер
Витя Кочкин был говорун и романтик, каких я не встречал ни до него, ни после.
Клички у него никакой не было.
Так и говорили:
– Витя Кочкин.
Он постоянно рассказывал какие-то истории, в которых обязательно было место подвигу. Его подвигу. В любом рассказе он всегда был главным героем, совершающим что-нибудь выдающееся, а то и героическое.
Рот у него никогда не закрывался и говорил он с серьёзным видом всякие глупости. Каждая его история обязательно заканчивалась какой-либо сентенцией.
Особенно много он рассказывал о своей девушке Жанне, которая, по его словам, была в него влюблена до умопомрачения.
Любой случай, рассказанный им о Жанне, заканчивался словами:
– Но она меня любила страшно!
Разобрать где Витя врет, а где говорит правду, было невозможно, а потому слушали его всегда в пол-уха, не прерывая и не смеясь над ним, потому что парень он был из «путёвых» и высмеивать себя, за просто так, не позволил бы никому. Да и вреда от его рассказов никому не было.
Хотя многие между собой называли его «сентиментальный фраер».
Это много позже я понял, что такая болтовня помогает многим людям снимать психологический стресс или залечивать душевную травму.
А тогда я вынужден был просто терпеть Витины истории, потому что жили мы в одной секции и работали в одной бригаде.
Существовала на свете такая Жанна или Витя придумал её, чтобы иметь для своей души хоть какую-то опору, с которой ему легче будет отбывать свою пятнашку, мне неизвестно до сих пор.
Сидел он, по-моему, за убийство, но точно не помню, потому что в лагере причина посадки дело десятое.
Главное – это то, что ты есть сейчас. По лагерным понятиям, Витя Кочкин был мужик правильный. А быть болтуном в лагере никому не запрещено, если твоя болтовня никого не трогает. У каждого свои заморочки.
Со временем, мифическая девушка Жанна стала для нас символом женской верности и любви, правда, с некоторым налётом незлой иронии.
Кто-нибудь из жуликов мечтательно закатывал глаза и, растягивая слова, говорил:
– Вот освобожусь, найду себе доярку по имени Жанна и буду на завалинке молочко попивать, да Жанну поглаживать. Пить я, конечно, брошу. Это я запросто – ты же меня знаешь, Вася!
И хотя мало кто из жуликов всерьёз верил в такое своё светлое будущее, но мечтать, как говорится, никому не вредно и не запрещено.
…В вагонзаке, по дороге на Север, мы оказались с Витей в одном купе.
В соседнем купе находились женщины, и Витя стал крутить любовь с одной молодой и симпатичной девицей по имени Эльвира, что для подобных ситуаций было делом обычным. Витя уверял, что она похожа на его Жанну, как две капли воды. Когда Эльвиру выводили в туалет, она подходила к нашей решётке и страстно целовалась с Витей через ячейку.
Они обещали друг другу писать, ждать и говорили обычные в такой ситуации глупости, которые сразу же забываются при расставании, без осуждений и обид.
Но видимо Витины фантазии про любовь занимали столько места в его сознании, что вспыхнувшее вдруг чувство наполнило его жизнь отсутствующими доселе смыслом и надеждой.
В общем, Витя влюбился самым отчаянным и дурацким образом.
По Эльвире тоже было видно, что к Вите она неравнодушна, но кто в лагере серьёзно относится к словам и обещаниям женщин, отбывающих срок. Разве только неисправимые романтики или наивные идиоты.
Прошло дня два или три их всё возрастающей любви, когда однажды вечером Эльвиру конвой увёл в своё купе «помыть полы». Витя не находил себе места.
Возвратилась она часа через два прилично выпившая и потрёпанная, но довольная и весёлая. Как ни в чём не бывало, она продолжила с Витей разговор про их любовь.
А когда он прямо заявил ей, что она там кувыркалась с солдатами, она спокойно и серьёзно ответила:
– А ты что думаешь, что я мужиков раньше не видела? Да я их перевидала столько, что тебе и не снилось. У меня даже статья молодёжная. Только это всё к любви не имеет никакого отношения. Я их и не помню. Я их и за людей не считаю. А когда выйду замуж, то вообще ни на кого, кроме мужа, смотреть не буду.
Но Витю это не убеждало.
Он замолчал, замкнулся в себе и перестал разговаривать с Эльвирой, которая не прекращала развивать ему свой философский подход к любви и браку.
Не разговаривал Витя и с нами. По-моему, всю ночь он не спал.
А наутро, когда нас по одному стали выводить в вагонный туалет, он набросился на сержанта, сбил его с ног и попытался вырваться из вагона.
Как это всё происходило, мы не видели, но слышали крики и возню, а потом долгое избиение Вити конвоем.
В купе он не вернулся. Солдаты сказали, что его увезли в местную тюремную больницу.
Больше я никогда о Вите не слышал.
Но всю свою жизнь, услышав чьи-либо откровения о страстной, верной и вечной любви, я всегда вспоминаю наивного и мечтательного Витю Кочкина и его знаменитую фразу о том, что «Она его любила страшно».
Уроки толерантности
Люди неумные и недобрые, как правило, убеждены в том, что всё остальное человечество должно разделять их взгляды и жить по их правилам. А к тем, кто думает и живёт иначе, относятся с опаской и показным презрением.
Такой подход позволяет им, без всяких физических и интеллектуальных усилий, возвеличиваться в собственных глазах, что делает их жизнь наполненной, динамичной и осмысленной.
Я и сам долгое время пребывал в таком удобном для себя и опасном для окружающих заблуждении, пока не нашёлся добрый человек, который поставил мои мозги на место раз и навсегда.
Этим добрым человеком оказался сорокалетний одесский карманник по кличке Тимоха, с которым меня свела судьба на «больничке» в одном из лесных лагерей республики Коми.
А случилось это после моего рассказа об учительнице, которая в начале шестидесятых преподавала русский язык и литературу в нашем 6-а.
Она с первого же дня, буквально, покорила нас своей красотой, сердечностью и тем неуловимым женским очарованием, которое Пушкин назвал гением чистой красоты.
Звали эту тридцатилетнюю учительницу Ираида Николаевна Орлова.
Она приехала из Германии к новому месту службы мужа-лётчика.
Он иногда заходил за ней в школу, и они шли домой, держась за руки, как часто ходили наши влюблённые старшеклассники.
Мы были рады, что у нашей любимой учительницы такой героический и красивый муж. И тому, что они так влюблены друг в друга. Благодаря её умению вести интересно свои уроки я полюбил русскую литературу на всю оставшуюся жизнь. Она отмечала мои успехи особенным отношением ко мне, чем я очень гордился и дорожил.
На фоне наших безденежных и замордованных бытом учителей она смотрелась королевой. А кого может не радовать внимание королевы.
Впрочем, она и к другим относилась с такой же теплотой и сердечностью.
Ее любили за открытость и искренность, которые воспринимались так же естественно, как и её достойное и спокойное величие. Уроки она вела легко и интересно, они были наполнены особым смыслом и атмосферой, которые формировали нашу мораль и нравы.
Девочки в классе, пытаясь на неё походить, стали выглядеть аккуратней, собранней и строже. А мальчики начали ставить перед собой цели, о которых раньше даже не помышляли.
Для меня же Ираида Николаевна стала предметом всепоглощающего обожания и доверия.
Она была из тех женщин, о которых пишут книги, снимают кино, и на глазах у которых хочется умереть, совершая подвиг. Под её влиянием у меня укоренилась привычка ежедневно принимать душ и менять нижнее бельё, потому что она считала это обязательным для уважающего себя человека.
Само собой подразумевалось, что такая женщина не может сказать неправду или обмануть из корыстных или низменных побуждений. Мне очень хотелось стать таким же добрым, честным и содержательным, потому иное теперь казалось неприличным и совершенно невозможным.
…Однажды меня и ещё двух девочек Ираида Николаевна попросила прийти в школу в воскресенье, чтобы оформить литературный альманах.
От нетерпения и желания себя проявить, я пришёл почти на целый час раньше. А поскольку калитка была ещё закрыта, я перелез через металлическую ограду с другой стороны двора и пошёл вдоль здания школы к служебному входу, которым пользовался наш завхоз, проживавший в здании школы, потому что был он, по совместительству, ещё и сторожем.
Было ему, как я полагал тогда, лет под пятьдесят.
Он был старый, толстый и лысый.
Я уже походил к служебной двери, когда услышал странные звуки из открытого окна его кабинета.
Окно находилось немногим выше моих глаз, и я, без всякой задней мысли, привстал на цыпочки, чтобы увидеть, кто издаёт этот странный шум. Лучше бы я этого не делал. Лучше бы я в тот день заболел.
Нет! Лучше бы я вообще никогда не родился…
Потому что, увиденное, разнесло в прах моё представление о человечестве на всю оставшуюся жизнь.
Того, что предстало перед моим взором, просто не могло быть, потому что, по словам классика, не могло быть никогда.
Ираида Николаевна стояла на коленях, упираясь локтями и головой в пол.
Задранная на голову юбка обнажала задницу, в которую крепко вцепился завхоз.
Он тяжело и неуклюже нависал животом, пыхтя и обливаясь потом, а она издавала странные и пугающие звуки.
Поскольку лицо женщины было закрыто юбкой, я тешил себя робкой надеждой, что это вовсе не Ираида Николаевна, а какая-то другая тетка. Но я знал, что это она, и это повергало меня в смятение и панику. Я убежал домой и вернулся только к назначенному времени.
Завхоз, вытирая ладонью лысину, подходил к калитке, вертя на пальце ключи.
Он, молча, открыл калитку и пошёл впереди меня, бурча себе что-то под нос. Из его слов я разобрал только одно слово «курва».
Пока я ходил в туалет, в класс уже пришли девочки, поэтому я сумел скрыть свою растерянность и страх от того, что могу встретиться с учительницей взглядом.
Она же была, как обычно, красивой, приветливой и аккуратной.
И только влажная прядь волос неряшливо свисала на её лоб, что, впрочем, нисколько её не портило.
…Через много лет, от нечего делать, я впервые рассказал эту историю одесскому карманнику по кличке Тимоха, сопровождая рассказ нехорошими эпитетами и комментариями.
– А ты-то чего так завёлся? – вдруг неожиданно прервал меня Тимоха. Она что заложила тебя директору за курение в туалете? Или утащила у тебя кошелёк? Это пусть у мужа голова болит, а тебе какое дело, как и с кем она трахается? Кто тебя вообще уполномочил решать, кому и как жить? Она никого не убила и не ограбила и не заложила. А трахаться она может с кем ей нравится и сколько хочется. И никого это не касается, кроме её мужа. Это только их проблемы. И остальных это не колышет. Мы все не подарки. Нам бы за собой уследить, а за другими это проще простого.
Его резкий тон, хотя и не задевал моей «лагерной» чести, был, по-человечески, обидным и унижающим. У меня этот разговор долго лежал на сердце тяжёлым грузом.
Тимоха был очень уважаемым человеком на всех командировках управления, и его хорошим ко мне отношением я очень дорожил. Впрочем, для лагерных отношений этот разговор никаких последствий не имел. Да и не мог иметь. Это не лагерная тема.
Через пару лет, после этого разговора, Тимоха умер на Микуньской пересылке от инсульта.
С тех пор не проходит дня, чтобы я не вспоминал о нём с благодарностью, за тот жёсткий урок, которым он научил меня терпеливо и спокойно относиться к чужому мнению и чужому образу жизни.
Даже, если это противно моим взглядам и убеждениям.
Куриная слепота
У зэков выражение «косить на дурку» означает: прикидываться психически больным.
Так себя ведут на следствии, чтобы уйти от ответственности. А в тюрьме или на зоне – чтобы избежать последствий конфликта, откормиться, просто поменять обстановку.
Поэтому на пришедших из психбольницы никто не смотрит, как на больных, хотя диагноз может быть вполне обоснованным. Кое у кого этот диагноз, как говориться, «написан на лбу». Как правило, это люди серьёзные, тихие, задумчивые и интересные. Они много читают, всем интересуются и обо всём имеют мнение чуть более правильное, чем нужно, для нормального человека.
Боря Коваленко был из таких. На воле он прыгал с трамплина, учился в университете. Папа был архитектор города, а мама преподавала в консерватории.
Борю любили девочки. Он этим пользовался, но не спешил отдавать особенное предпочтение кому-нибудь, чтобы не связывать себя обязательствами до достижения ощутимых результатов в спорте и карьере.
И вдруг, как это часто бывает в романах, Боря встретил Ее.
Товарищ на тренировке подвернул ногу, и Боря отвёз его домой.
Пока товарища укладывали и хлопотали вокруг него, Боря неотрывно смотрел на его сестру. Ему казалось, что это сошедшая с экрана героиня кинофильма «Анна на шее». А надо заметить, что Боря с детства тайно был влюблён в актрису Аллу Ларионову, и всегда мечтал встретить похожую. А тут даже не похожая, а вылитая…
Домой, без обеда, Борю не отпустили.
Нэля, так звали красавицу, подала специально приготовленного для гостя цыплёнка «табака». Боря питал страсть не только к известной актрисе, но и к данному украшению кавказского стола, но такого нежного, ароматного мяса и таких прожаренных до мягкости косточек он не встречал никогда.
– Здесь так вкусно готовят, что и уходить не хочется – пошутил Боря.
– А Вы и не уходите – сказала Нэля… и пристально посмотрела Боре в глаза.
Они полюбили друг друга с первого взгляда. Неля оканчивала институт пищевой промышленности и работала на птицекомбинате начальником лаборатории.
Поженились они через два месяца и поселились в двухкомнатной квартире недавно умершей Бориной бабушки.
С каждым днём Боря всё больше и больше влюблялся в свою молодую жену. Она была умной, доброй и нежной. В доме была идеальная чистота.
Родители тоже обожали Нэлю. Вдобавок ко всем своим достоинствам она прекрасно готовила. А на её цыплят табака гости напрашивались специально.
В руках у неё всё горело и сияло. При этом она была весёлым и доброжелательным человеком. Они были замечательной парой и ждали от жизни только радостей.
Немного смущало Борю то, что жена с работы всегда сначала забегала к своей маме, и только потом шла домой.
Боре это не совсем нравилось. Во-первых, он боялся излишнего маминого влияния и советов. А во-вторых, (он даже не хотел думать об этом), вдруг она потом станет заходить после работы в другое место. Боря видел, как на его жену смотрят мужчины.
Но, несмотря на Борины намёки, Неля всё равно забегала к маме на час-другой.
Поскольку Боря настаивал, то Нэля, во избежание ссор, пообещала с работы идти прямо домой. Боря успокоился и жизнь пошла своим чередом, весёлая и беззаботная.
Тревожило, правда, обоих то, что Боря стал немного поправляться.
Ему, спортсмену, это было лишним, но отказаться от Нэлиных цыплят он не мог.
Прошло некоторое время и Боря, когда бывал дома, стал замечать, что Неля, по приходу с работы сразу бежит в ванную и задерживается там дольше обычного.
А Нелина мама, Ольга Степановна теперь стала появляться у них почти каждый день и о чём-то шептаться в коридоре с дочерью.
Один раз Боря заметил, что тёща уносит полную сумку. Боря посмотрел в шкафах, но все вещи были на месте.
И хотя его жена оставалась такой же весёлой и доброй, его стали мучить всякие подозрения. Особенно после того, как он обнаружил в кармане Нэлиного пальто двести рублей. Жили они не бедно, но деньгам счёт вёлся.
Страшная мысль о том, что деньги Нэле дают другие мужчины не давала покоя. Спросить же он не мог. После этого всё в их жизни могло бы сломаться. Но быть в постоянной тревоге и сомнениях тоже не было сил.
И, когда в следующий раз Нэля заскочила после работы в ванную, Боря босиком прошёл на кухню, забрался на табуретку и приник к окошку между ванной и кухней.
То, что он увидел, невозможно было вообразить. Нэля сняла с себя одежду и осталась в непомерно больших чёрных трусах, из которых стала доставать распластанных по её телу разрубленных и отбитых цыплят.
Двое цыплят изолентой были примотаны к бёдрам.
Последнего цыплёнка она достала из промежности.
Всего Боря насчитал семь штук.
«Значит она не изменяет мне. Она просто ворует цыплят с комбината» – успокоился Боря.
Потом, как обычно, пришла Ольга Степановна, пошепталась с дочерью и ушла с сумкой.
Боря сделал вид, что спал, и вышел только после того, как Нэля позвала его к ужину.
Он сел к столу и увидел на тарелке распластанного цыплёнка.
«Наверное, это тот, из…» – пришла в голову дурацкая мысль и он засмеялся.
– Расскажи и мне, посмеёмся вместе.
– Да так, вспомнилось.
И вдруг Борю вырвало прямо на стол. Он побежал в туалет, его прямо выворачивало.
Продолжалось это довольно долго, и совершенно обессиленного Нэля уложила его в постель.
Однако рвотные позывы продолжались всю ночь. Продолжались они и днём. Пришлось идти к врачу.
– Наверное, что-то съели – сказал участковый врач, прописал какие-то таблетки и посоветовал пить больше воды с лимоном.
Через пару дней тошнота прекратилась, но Боря с ужасом почувствовал, что Нэля перестала волновать его, как женщина.
Он даже заметил, что её попытки его расшевелить снова вызывают у него приступ тошноты.
Почему-то перед глазами постоянно стояли её чёрные огромные трусы.
Всё время мучил вопрос: «Где она их взяла?»
– Какая разница – успокаивал сам себя Боря – зачем тебе думать о такой глупости.
Но вопрос о трусах вытеснял все его интересы. И стал главным в жизни.
– Надо её спросить – решил он.
А вдруг она не скажет и тогда между нами возникнет недоверие.
Сначала Нэля всячески заботилась и беспокоилась о Боре, но потом его невнимание ночью стало её обижать и Боря начал переживать за будущее их семейной жизни.
Посоветовавшись со знакомым хирургом, Боря пошёл на приём к сексопатологу.
Выслушав Борину историю и жалобы, врач после осмотра сказал, что никаких физиологических отклонений он не видит.
– Вам нужно изменить психологическую доминанту. Может быть, какое-то время поживите с женой раздельно. Это может помочь. Хотя не гарантирую.
– А может мне её убить? – неожиданно для самого себя спросил Боря.
Врач внимательно на него посмотрел:
– Это вам нужно посоветоваться с психиатром. Он точнее подскажет.
– Я что псих, чтобы мне ходить по психиатрам – подумал Боря.
Но другого решения, чтобы изменить психологическую доминанту Боря не видел.
«Даже, если я с ней разведусь, любая другая голая женщина будет у меня ассоциироваться цыплятами и чёрными трусами. А так мне ещё удастся избежать с Нэлей неприятных объяснений. Зачем же мне её обижать. То, что мне неприятны её цыплята и трусы – это же мои проблемы. Она же ничего плохого не делала, и старалась для семьи. А так умрёт с хорошим настроением и с мыслью, что я её люблю».
Убить он её решил чугунной сковородкой, на которой супруга и готовила цыплят табака.
«Это ещё больше поможет изменить психологическую доминанту».
Убил он Нэлю, когда она выходила из ванной.
«Хорошо, что нет крови. Она прямо, как живая».
Боря уложил Нэлю на кровать и обложил принесёнными цыплятами.
«Пусть тёща не подумает, что я хотел взять цыплят и продать».
Вдруг он почувствовал сексуальное возбуждение, которого давно не испытывал.
Оказывается, врач всё правильно и подсказал.
Пришла Ольга Степановна.
– Ольга Степановна, отгадайте загадку: У куруши есть?
Глядя на удивлённую тёщу Боря рассмеялся:
– Да это же детская скороговорка. У кур уши есть?
И Боря повёл тёщу в спальню.
– Представляете всё встало на свои места. Врач бы прав. Нужно было только изменить психологическую доминанту.
Куда делась тёща, Боря не обратил внимания, но пришедшую милицию он встретил радушно:
– Что я не понимаю, у вас своя работа, у нас своя, и он пояснил милиционерам свою версию про психологическую доминанту.
Суд приговорил Борю к шести годам усиленного режима с предварительным лечением.
– Да я и без претензий. Всё равно нужно время, чтобы у меня забылось всё связанное с Нэлей, а то, как же я буду жить с другой женщиной. Так что я ещё посижу, побольше почитаю, подготовлюсь к жизни. А там всё наладится.
Боря был оптимист.
Придурок
Придурками в лагере обычно называют зэков, которые пристроились на «непыльные» должности, типа повара, хлебореза или кладовщика.
Но уж, если простому работяге дали кличку Придурок, то, без всякого сомнения, можно быть уверенным, что обладатель такой клички балбес первостатейный, да ещё с ярко выраженными признаками идиотизма.
А что ещё можно подумать о двадцатилетнем оболтусе, который женился на сорокалетней бабе с четырьмя детьми, да ещё прижил с ней пятого.
Мало того, что Клавка была вдвое старше Павлика, так у неё ещё в тюрьме сидел предыдущий муж, который многие годы её избивал и по пьянке постоянно приставал к старшей дочери, своей падчерице.
А когда его посадили за драку с участковым, Павлик забрал всю компанию к себе домой, несмотря на вздохи матери, чьей подругой и была сорокалетняя невеста.
На удивление всего посёлка, дети сразу полюбили Павлика и называли папой, хотя старшая дочь была ему почти ровесницей.
А потом родился общий мальчик, которого назвали Иваном.
Может и жили бы они себе, как Бог даст, да только вернулся из тюрьмы бывший Клавкин муж и стал ежедневно приходить пьяным и требовать, чтобы все вернулись домой.
Часто доставалось от него и Клавке и Павлику.
А, когда однажды Клавка застала бывшего мужа со своей полузадушенной старшей дочерью, которую тот завалил на диван, то никто и не понял, как пьяный муж оказался на полу с раскроенной сковородкой головой.
Прибежавший с работы Павлик заявил милиции, что это сделал он и, естественно, загремел на четыре года строгого, несмотря на защиту всего посёлка.
Вся эта дикая история в его пересказе выстраивалась в дурацкую логическую цепочку, которая у слушавших его жуликов вызывала оторопь.
Он искренне считал, что поступал так потому, что иначе и нельзя было вовсе. По-другому, вроде бы и не по-человечески.
У зэков даже не хватало сил, чтобы ему возражать, настолько глупыми были его объяснения.
Так и порешили: у идиотов своя логика.
Чего с придурка взять?
А потому за Павликом, мало-помалу закрепилась кличка Придурок, хотя говорилась она беззлобно, как может говориться о блаженном, которого и воспринимать серьёзно никто не будет, но и вреда никто не ждёт.
Примерить же на себя Павлика ситуацию никто из зэков не смог бы даже под дулом пистолета.
В общем дурдом да и только.
А тут ещё и Клавка со всем семейством нагрянула в прилагерный посёлок, поселилась у вахтерши из штаба, да устроилась в поселковую столовую работать на кухню.
А под съём почти в каждую смену всем семейством стояла у забора, чтобы увидеться и поговорить с Павликом.
Уже вся зона знала, если крановщик дал три звонка, значит Клавка у запретки со своим семейством.
А то ещё и часовой с вышки кричит, чтобы Павлика позвали.
Другим автоматом грозит, а Клавке с её детьми ещё и помогает.
Даже кум Амелькин, уж на что сволочь законченная, а Павлику не мешал.
А чего взять с придурка?
А как дали Клавке квартиру в бараке, так мужики со столярки всю мебель за бесплатно в неделю сварганили. А бабы в бухгалтерии вроде и не заметили, что накладная копеечная.
Видать и у них не хватило совести блаженного обидеть.
Вскоре дочка старшая замуж выскочила и привела своего лейтенанта в дом к матери.
Сама заправщицей на трассе устроилась. Хоть и нелёгкая работа, а деньги неплохие.
В общем, жить стало легче и веселее.
А тут вскоре подсуетился отрядный Смирнов, да Павлика на поселение представил.
Комбат охраны по моей просьбе с судьёй перетёр, и Придурок наш оказался почти на свободе, потому что теперь жил свободно с семьёй, и только уезжать никуда из посёлка не имел права. А работать устроился шофёром на водовозку.
До него менялись шофера каждый месяц, а он зацепился – и доволен.
Весь посёлок знал, что Придурок приедет вовремя, а, если задержится так сам и бочки заполнит, и вёдра в коридор занесёт, чтоб ветер мусора не надул.
А пожилым ещё и дров на пару закладок наколоть успеет.
И никакой водки ему не нужно.
Всё за спасибо. Как будто так и надо.
Придурок – он и в Африке придурок.
Вскоре жизнь так меня закрутила, что вспомнил я про Придурка, когда к нам в Ленинград приехал механик Дынин Виктор Иванович, чтобы я помог обследовать дочку в клинике.
Вечером за разговором я и вспомнил про Павлика:
– Виктор Иванович, а что Придурок всё ещё живёт в посёлке?
– А куда ж они денутся? Так всем семейством и живут, только отдельный коттедж им выделили. Уже и внуки подрастают. Так на водовозке и трудится.
Двое старших пацанов в армии. А зять Олег уже капитан, начальник штаба батальона.
Павлик стал поселковой достопримечательностью. Раз Придурок едет на своем ГАЗике, значит всё в порядке. Уже и Придурком его называют только за глаза. Да и то редко. Всё больше Павликом зовут. А бабы, так Павлом Сергеевичем называют. Ну, наливай, Марк Михайлович! Давай выпьем за нашего Придурка, потому что на таких придурках наша Россия держится.
Виктор Иванович Дынин вообще-то мужик правильный, с понятием. Хотя никогда не сидел.
Что ж, и такое бывает.
Точка опоры
Писателю и другу Алесю Адамовичу
Молодая, смешливая заправщица пообещала нам бензин только через пару часов.
Деваться было некуда, и я предложил своему попутчику позавтракать в местном кафе. Кафе больше напоминало заводскую столовую и интерьером и обслуживанием, но особо выбирать было не из чего.
На дворе был 1989 год, город назывался Усть-Джегута, Карачаево-Черкесия, а единственное кафе на нашем маршруте, которое было недалеко от заправки, расположилось на берегу реки Кубань.
Сидевшие за столом четыре работницы не обратили на нас никакого внимания, а когда я попытался попросить чего-нибудь поесть, одна из них, не поворачивая головы, сказала:
– Ещё рано, приходите часа через два.
Было уже 9 утра, и я продолжал настаивать.
Но о нас уже забыли.
Тогда я подошёл к кухонному окну и громко постучал.
Окно открылось, и горец лет сорока сказал:
– Есть только форель, но она дорогая. И надо ждать, пока я пожарю.
Я повернулся к своему попутчику и спросил:
– Александр Михайлович, будете есть жареную форель?
– Никогда не пробовал. Но всегда мечтал.
Я заказал две порции рыбы, и мы пошли её дожидаться на скамейку у речки.
Моим попутчиком был писатель Алесь Адамович, с которым мы душевно дружили, к тому времени, уже около десяти лет.
Мы уселись на лавочке у воды. Не помню, с чего начался разговор о том, как его уволили из преподавателей МГУ за отказ подписаться под письмом, осуждающим Синявского и Даниэля. Говорили о том, что советская власть таким путем ломала людей, так как всегда боялась людей гордых и независимых. Для людей менее щепетильных имелись способы попроще.
И тут Александр Михайлович вдруг заговорил о своём командире разведчиков из партизанского отряда:
– Смелее, достойнее и бесшабашней я человека ни на войне, ни в гражданской жизни не встречал. Но, по рассказам друзей, в 52-м году его каким-то путём принудили выступить на собрании против сослуживцев-евреев с обвинением космополитизме. Он не сумел отказаться, возможно, из карьерных или бытовых соображений, и это сломало его навсегда. Я встретил его лет через 10 после этого. Куда девался мой бравый командир, на которого мне всегда хотелось быть похожим? Он не смотрел никому в глаза и говорил всё время о своей болезни и каких-то семейных неустроенностях. Мне тяжело до сих пор вспоминать эту встречу. Камнем его история лежит у меня на сердце.
Нас позвали к столу. На тарелках лежали две красавицы-форели и два огромных бочковых помятых солёных огурца.
Мы были счастливы.
По дороге в «Домбай» я тоже вспомнил подобную историю, которая камнем лежала уже на моём сердце.
…В жизни очень важно вовремя встретить человека, которому ты веришь, и который бескорыстно подскажет тебе, как не наделать непоправимых глупостей. Особенно это важно в лагере, где спрос за ошибку иногда может стоить жизни.
Мне в жизни повезло, потому что мне сразу встретился один из самых уважаемых и уважающих себя людей – Василий Данилович Донченко.
Только когда его осудили, и он ушёл на «крытую» (тюремный режим), я понял, что это и был тот человек, который контролировал все самые важные события на зоне. И он же был одним из самых крутых картёжных игроков.
В быту же и он, и его друзья-картёжники, были обычными весёлыми, достаточно начитанными ребятами, и свои «дела» они старались скрыть за своей простотой и внешней беспечностью. Что, впрочем, не мешало им в нужный момент быть теми, кем они были на самом деле.
Это в кино зэки выпячивают свои уголовные замашки, а в жизни скромность в поведении позволяет дольше прожить.
Главная мудрость, которую слышит «хороший парень» от «уважаемых» людей в лагере: «Меньше будешь рисоваться, дольше пробудешь на зоне.».
Имеется в виду, что не в изоляторе или БУРе (бараке усиленного режима).
Рисуются же, как правило, те, кто ничего собой не представляет, кому нечего терять и, кто только и мечтает быть таким крутым, о каких они наслушались в подворотнях да в следственных камерах.
О настоящей лагерной жизни эта публика знает только то, что на поверхности. Как бомж о свободе. Ну, откуда простому работяге в лагере знать, какие огромные деньги крутятся в игре.
Он только слышит, что где-то, кого-то зарезали, избили или опустили.
А понять ничего не может.
На свободе тоже мало кто о картах знает и думает, что этого вообще нет.
Так вот именно Вася Донченко, двадцатисемилетний киевлянин, предостерёг меня двадцатилетнего оболтуса от позёрства, блатовства, карт, водки, наркотиков и прочих вульгарных и киношных атрибутов лагерного быта.
– Постарайся быть, а не казаться. Но за это «быть» ты должен отвечать своей жизнью. И ничем другим. В любой момент. Иначе твои потуги ничего не стоят. Никого и никогда не сгибай и не унижай, но и сам никогда не сгибайся.
Я запомнил это правило на всю свою последующую жизнь, которое, впрочем, относится не только к лагерю.
Читателя может возмутить моё постоянное сравнивание вольной и лагерной жизни, вольных людей и зэков. Но особой разницы я никогда не замечал.
Во-первых, между человеком, избившим жену или прохожего и человеком, получившим за это срок, разница невелика. Человеком, давшим взятку, и посаженным за взятку, тоже. А кто из нас не давал взяток? Или не дрался?
А профессиональных преступников за двенадцать лет я почти не видел.
Преступная мораль, повадки и тюремный фольклор распространены и на воле. Блатных словечек и песен в последующей жизни я слышал, едва ли, не больше, чем в лагере. А уж с пьянством, хулиганством, воровством, ложью и предательством на свободе обыватель сталкивается многократно больше.
Ну а о жизни на воле не по закону, а по понятиям и говорить не приходится. Так что мои аналогии и сравнения вполне осознанны и обоснованы.
Другое дело, что ответственность в лагере и жёстче и неотвратимей. В этом основное отличие. Спрятаться негде.
Итак, Васю отправили на тюремный режим.
Меня же, после неудачного побега и ранения, жизнь так закрутила, что я оказался на севере до конца своего срока.
Но помнил я о Василии Даниловиче Донченко всегда, и эта память была для меня одним из немногих жизненных ориентиров, которые сделали из меня уважаемого и ответственного человека.
Я был уже руководителем лесобиржи, когда, работающий в «пожарке», мужик из западной Украины, по имени Адам, спросил меня не тот ли я Марк, который бежал с друзьями на машине из карьера в Шепетовке.
Оказалось, что мы сидели когда-то на одной зоне, и он меня запомнил. Выяснилось, что он недавно вышел на поселение, а теперь за пьянку его снова закрыли. Бывает.
Я же спросил его, а не встречал ли он на Украине Васю Донченко, нашего общего знакомого.
И тут Адам меня оглушил, рассказав, что ему, как-то, попалась внутрилагерная газета, где Василий Донченко писал о том, что он стал на путь исправления и призывал других сделать то же самое.
Такое заявление ничего общего не имеет с реальностью, а является наряду с другими методами (красной повязкой, подпиской о сотрудничестве и т. д.) способом сломать достойного человека.
Наоборот, после таких заявлений, человек становится, обычно, постоянным клиентом лагеря, потому что на свободе уже жизнью, как правило, совсем не дорожит, а дорожит только своей шкурой.
Таких я знал немало.
В лагерях власть делала что угодно, но только не готовила человека к свободе, потому что эта свобода юридически и политически не очень отличалась от лагеря. В то, что такое несчастье могло случиться с Васей Донченко, мне не верилось.
Конечно, у власти есть масса возможностей сломать непокорного. Например, любой зэк уступит угрозе быть изнасилованным.
Но силы, которая потом может заставить такого человека жить, на земле не существует. Выбор жить или умереть, к счастью, всегда во власти самого человека.
И, если я ещё мог поверить в то, что Васю могли сломать, то поверить в то, что он может жить сломленным, я не мог. Тем более, что и сам Адам не вызывал моего серьёзного доверия. Должности пожарного, кладовщика, хлебореза, санитара, как правило, раздаёт лагерный «кум» своим агентам. В отличие от должности бригадира, где необходимо неформальное лидерство.
Отдать должность бригадира «своему» человечку на севере власть не может. Мужики просто дадут ему по голове. Короче, червячок сомнения и печали поселился в моём сердце и грыз меня постоянно.
Прошло лет десять.
И вот однажды в справочной киевского аэропорта «Борисполь», где мы с женой и детьми улетали из гостей от моего друга актёра Жоры Мельского, мне выдали квитанцию с адресом Донченко В. Д. в соседнем с Киевом городке.
Я привёз семью домой и немедленно отправил Васе телеграмму с уведомлением, что буду у него в воскресенье утром.
Таксист высадил нас на параллельной улице, и мы с Жорой пошли по грязи вдоль домов, отыскивая нужный номер. Небольшой деревенский домик оказался в самом конце. На двери висел большой амбарный замок. На соседнем крыльце стояла пожилая женщина. Я обратился к ней с вопросом. Женщина оказалась старшей Васиной сестрой.
По её словам, телеграмму она ему сама вручила, но с самого утра он, ничего ей не сказав, ушёл.
Я спросил о том, как он живёт.
Выяснилось, что после первого освобождения, он сидел ещё дважды по три года.
А когда я поинтересовался за что, сестра с горечью сказала:
– Та всэ ж за жинок. Якбэ вин нэ пыв, та нэ быв йих, то ничого б нэ було.
– Так он что пьёт? Он же раньше совсем не пил?
– Ого! Та щэ ж як. Кожен дэнь и пье. Зараз от опьять жинку побыв, та выгнав. Одна бида, що дуже пье.
Я понял, что ушёл Вася специально, и ждать нам его бесполезно.
И мы поехали в Киев.
Уже попрощавшись с женщиной, я вернулся и отдал ей около шестисот рублей – все деньги, которые у меня с собой были.
Жора всё знал и, понимая моё состояние, всю дорогу молчал.
Странное дело. Я заметил, что люди далёкие от лагерной жизни, но облечённые чувствами собственного достоинства и чести, запросто ориентируются в лагерных понятиях и комбинациях и делают всегда правильные выводы.
Адамович был из этой же категории.
Понимал он всё о лагере, как будто бы провёл там половину жизни. Хотя провёл он её, большей частью, в больших и важных кабинетах. Может быть оттого, что в нашей стране народ никогда не жил по законам, а всегда по понятиям.
И понятия эти были практически лагерными.
Если на Западе заявить на вора считается нравственной нормой, то у нас с таким заявителем окружающие перестанут здороваться.
Он тоже молчал после моего рассказа.
Чтобы как-то разрядить обстановку, я в шутку сказал ему, что с его понятиями и поведением, он был бы в лагере уважаемым человеком.
Против моего ожидания он не рассмеялся, а немного помолчав, задумчиво произнёс:
– Надеюсь.
Мы подъезжали к Домбаю.
Стране оставалось жить ещё два года.
А одному из лучших людей этой страны Александру Михайловичу Адамовичу оставалось жить чуть больше пяти.
В сёлах Рязанщины
Весь чудовищный смысл стихотворения Некрасова про женщину, останавливающую на скаку коня и входящую в горящую избу я осознал, когда услышал одну из лучших песен о Женщине.
О русской женщине
В сёлах Рязанщины, в сёлах Смоленщины Слово «люблю» непривычно для женщины, Там бесконечно и верно любя, Женщина скажет, женщина скажет, женщина скажет: «жалею тебя…»Какой смысл изначально вкладывался в это слово, мне неведомо. Но у меня до сих пор перехватывает дыхание, когда я, к сожалению, всё реже и реже, слышу эту песню.
Наверное, не женское это дело – подменять бездарных, нерадивых, выпивающих мужиков, таскать вместо них шпалы и останавливать скачущих коней.
Призвание женщины – растить детей и побуждать мужчин совершать поступки.
Я никогда не жаловался на невнимание женского пола.
Одни, наверное, любили меня, другим было со мной интересно, третьим хотелось просто быть возле мужчины, а кто-то извлекал от близости со мной пользу.
Но была однажды в моей жизни женщина, которая меня жалела.
Жалела, как в той песне, про «сёла Рязанщины».
Ей от меня ничего не было нужно. Ей просто нужно было, чтобы я был.
В нашем большом рабочем проходном дворе Милка появилась вместе с матерью – архитектором. Они занимали двухкомнатный блок в одном из финских домиков.
От наших дворовых девиц она отличалась чистотой, запахом и необыкновенной свежестью и красотой.
Она была лет на пять старше меня, и уже училась в институте. Я не могу сказать, что парни нашего двора все как один были в неё влюблены. Совсем нет. Эта девушка жила на другой планете. Она иначе одевалась, дружила с другими парнями и девушками, и вела себя по-другому. Поэтому кадрить её нашим ребятам не приходило в голову. Как не пришло бы в голову кадрить Мону Лизу или памятник Софье Ковалевской.
Что же касается меня, то я хоть был уже обеспокоен «этим» вопросом, на Милку смотрел как на взрослую и далёкую красавицу.
Она же всегда была со всеми приветлива и доброжелательна. Но, как добрая барыня со своими верными слугами.
Мы собирались с соседом, сверстником Витей Таранкой на пляж, когда Милка попросила взять её с собой. А нам-то чего? Пошли.
…Мы уже собирались уходить домой, потому что погода портилась, и рядом никого уже давно не было, когда появились три изрядно подвыпивших парня её возраста, а может и постарше. Они остановились около нас и стали обсуждать Милкину фигуру. Когда они повторили несколько раз слово «товар» она не выдержала, поднялась с расстеленного на песке покрывала и попросила серьёзным тоном оставить нас в покое.
Парни переглянулись, и двинулись на неё. Нас с Витькой они просто не замечали.
Один из них обхватил её сзади, а другой, вертя перочинным ножиком у её лица, шипяще произнёс:
– Заткнись сука!
Они повалили её на песок и, распластав на спине, начали стаскивать с неё плавки.
Один держал ей руки над головой, второй оттягивал в сторону ногу, а тот, что был с ножом, улёгся на неё и стал пристраиваться к её телу.
Не могу сказать, чтобы я испытывал страх. Я просто не представлял, что нужно делать. Кричать или лезть драться? И то и другое было заведомо бесполезно. И тут я услышал её голос:
– Марк, помоги!
Почему она обратилась ко мне? Чем я, пятнадцатилетний мальчик из приличной еврейской семьи, который не любил и не умел драться, мог ей помочь в такой ситуации?
Но я вдруг чётко осознал, что для неё остался единственным защитником.
Я не впал в состояние аффекта, как говорят юристы. Нет. Я был абсолютно спокоен и рассудителен. Это состояние потом всегда овладевало мной в критические минуты. Страх появлялся много позже.
Я поднял нож, который парень выпустил ввиду занятости и с силой провел острым лезвием с угла на угол по его спине, на которой красовался орёл, сидящий на скале. Затем я, не глядя, полоснул по лицу того, кто держал Милкину ногу.
Парень отпрянул, заслонившись рукой. И лезвие оставило на руке белый след. Когда я глянул на третьего, он уже бежал.
Несколько секунд было тихо, а потом все стали кричать. Я тоже. Парень с располосованной спиной, видимо ещё не понимая происшедшего, почувствовал боль и ощущение, что что-то произошло.
Они отскочили метров на пять и с ужасом смотрели в мою сторону. Я, продолжая кричать, побежал на них, сжимая рукоятку ножа, а они рванули прочь от нас. Мы видели, что кровь уже лилась из убегающей спины непрерывным потоком. Второй, на бегу, зажимал рану ладонью. Милка была, на удивление спокойна. Она закрутила на поясе покрывало, и мы пошли в другую сторону.
Когда мы добрались до двора, уже стемнело. Мы договорились никому о происшедшем не рассказывать, опасаясь милиции, и собрались идти по домам.
Но Милка взяла меня за руку и повела в летнюю кухню…
…Часа через два, когда я, одевшись, собрался уходить, она поднялась с лежанки, и голая притянула меня снова к себе.
– Приходи, когда захочешь.
Ничего в наших жизнях внешне не изменилось.
Она училась и дружила с другими парнями.
Я продолжал вести жизнь пятнадцатилетнего подростка, а Витька стал относиться ко мне, как старшему товарищу, хотя я был на три месяца моложе, и мы выросли вместе.
Другой стала моя ночная жизнь. При каждой возможности я бежал к Милке, и она обволакивала меня сладостной теплотой своего тела.
Никогда больше, ни одна женщина не была для меня такой родной и сладкой.
Потом она вышла замуж. Но ничего в наших отношениях не менялось.
Я как-то спросил её, не догадывается ли муж, что она ему изменяет.
Она серьёзно на меня посмотрела:
– Это я тебе изменяю.
– Но, он же твой муж.
– А ты моё всё. Я буду с тобой всегда.
После случая на пляже, я стал другим. У меня пропал страх и желание терпеть чужие обиды, поэтому вскоре я стал уважаемым человеком в кругах определённого сорта молодёжи, что со временем не могло не привести меня на скамью подсудимых.
…Когда судья зачитала мне приговор, девчонки из нашего двора, с которыми я в детстве, образно говоря, ходил на один горшок, не могли удержаться от слёз. Плакала и мать, и другие родственники и соседи.
И вдруг Милка, которую никто не заметил, завыла, как деревенская баба на похоронах мужа. Она зажала рот рукой и поспешила к выходу, но рыдания вырывались у неё из-под ладони.
Для всех это было удивительно и непонятно.
Моя мать потом, приезжая на свидания и, передав приветы от всех знакомых и родственников, вдруг ни к селу, ни к городу говорила:
– Она родила девочку.
– Она развелась.
– Она вышла замуж.
Больше она ничего не поясняла, а я больше ничего не спрашивал.
Прошло больше десяти лет. Я не вернулся. Я приехал повидать родителей.
На месте бараков в нашем дворе стояли пятиэтажки, и почти все соседи остались на месте.
– Она знает, что ты приехал, – сказала мать, – вот телефон.
Телефон оказался рабочий. Она работала в проектном бюро и, когда я нарисовался, (а другого слова тут не подобрать), повела меня к своей подруге домой. Всё было так, как будто этих двенадцати лет не было. Мы разговаривали, как бы продолжая начатый разговор, и ни о чём друг друга не спрашивали.
Пока я был дома, мы каждый день с ней встречались.
Однажды она запела тихонько эту песню, про рязанских женщин:
– Это обо мне. Я тоже тебя не люблю – я тебя жалею. Ты для меня – всё. Живой и ладно. Пока ты живёшь – я вижу какой-то смысл в жизни. Вокруг такая мелочь. Смотреть не на что.
…Моя жена позвонила на работу:
– Людмила Павловна умирает. Звонила её дочь.
Никогда с женой у меня не было разговоров о Милке, и то, что она говорила об этом, как о нашем общем деле, меня удивило.
Когда я вернулся и сел за стол, она спросила:
– Может, ты скажешь, кто такая Людмила Павловна и почему я о ней никогда не слыхала?
Я посмотрел ей в глаза, как старался не смотреть никогда. Потому что в обычной жизни людям видеть такой взгляд противопоказано.
– Людмила Павловна – это моё всё. Я еду в Николаев.
Жена ничего не сказала, а обошла стол и, став за моей спиной, обняла меня за плечи.
– Я еду с тобой, может быть, пригожусь, всё-таки, говорят, я неплохой врач.
Онкологические болезни мало кого украшают.
Милка уже лежала дома. Врачи сделали всё, что могли.
Когда дочь впустила нас в её комнату, она спала. А может быть была без сознания.
Мы сидели возле неё и плакали. Я не плакал уже больше тридцати лет.
А тут, просто лились мои слёзы, и я ничего не мог с собой поделать.
Глядя на меня, плакала и моя жена. Милка открыла глаза. На удивление, они были спокойными и ясными.
Мы продолжали молчать. И вдруг Милка негромко, но отчётливо сказала:
– Хорошо, что у тебя такая жена.
Она закрыла глаза и, казалось, снова заснула, или, может быть, потеряла сознание.
На похороны я не пошёл. Не было сил. Мы оставили дочери все деньги, которые взяли с собой, и на поезде поехали до Москвы.
Жена сидела напротив меня в купе и рассматривала моё лицо.
Что-то было в её взгляде новое и незнакомое.
– Ты чего, мать?
Лена ещё помолчала, разглядывая меня, и сказала:
– Ты моё всё.




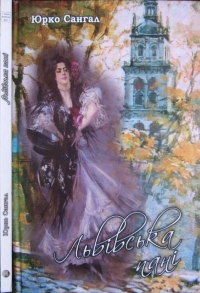




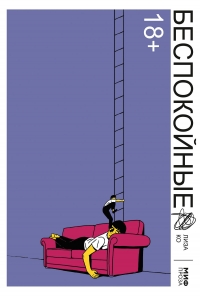



Комментарии к книге «Веревочка. Лагерные хроники», Яков Капустин
Всего 0 комментариев