Игорь Юрасов Божественная Земля
Глава 1 Весна
Была ранняя весна, время года, когда в Первопрестольной чистое небо часто затягивают сырые, мрачные, полные влаги небесные хляби и падающий с небес липкий, влажный снег к середине дня может смениться дождём, а дождь к вечеру снова перейти в липкий, влажный, пропитанный водой снег.
Пожилой человек, смотревший в окно на привычную его взору панораму столичного проспекта с просевшими, грязными сугробами на газонах, с катящими неведомо куда, разбрызгивая по сторонам жидкую мешанину воды и снега, потоками машин, скоплениями людей на тротуарах, фасадами зданий в сетке дождя, с магазинами, офисами, отелями, довольно улыбался.
Он улыбался потому, что скоро, со дня на день, ему надо будет идти в отпуск, а где-то, далеко-далеко отсюда, от этой слякоти и вечно затянутого сырыми, набухшими влагой тучами неба, под южным улыбчивым Солнцем лежит маленький, удалённый от извечных проблем цивилизации городок, по улицам которого об эту пору плывёт горьковато-пряный запах цветущего миндаля, в магазинах полно хорошего вина, а на весенних, тающих негой в будоражащих сознание вешними ароматами улицах много цветов и улыбающихся, деликатных, дружелюбных, красивых южных женщин.
В его глазах это что-то значило. Тепло, хорошо знакомый ему с далёкого детства запах цветущего миндаля! Еле угадываемое на слух жужжание пчёл. Цветущие розоватым цветом абрикосовые деревья и девственно-белым девическим цветом – сливы и вишни.
В этом был некий доступный и понятный только его уму южанина, человека, выросшего на побережье Чёрного моря и лучше юга и непонятным образом волнующей сознание панорамы морской синевы ничего в жизни не видевшего, особый смысл.
Вот мужчина и улыбался от переполнявшего его ощущения полноты жизни, потому что ему казалось, что тот минимальный кодовый набор, своего рода корзину бытия, что была необходима ему для ощущения полноценности существования, он набрал полностью. И если чего-то ему и не хватает, чтобы быть на необходимом ему в его понимании уровне, то это уже совсем мало что значащие, не имеющие решающего значения пустяки.
Он был высок, худ, чуть сутуловат; короткая, на пробор, русая причёска уже белела первой заиндевелой порошей. Простой, без изысков, костюм выглядел тесноватым на его широких плечах, а воротник белой рубашки, застёгнутый наглухо, натирал, должно быть, ему шею. Ослабив галстук, он расстегнул воротник и облегчённо вздохнул, отчего светлые, цвета спелой ржи брови взлетели птицами над льдистой, холодной голубизной глаз, а простое, курносое лицо, обветренное, с признаками обморожения, какие бывают у людей исконно бродяжьих профессий: моряков, геологов, золотоискателей – расслабилось, приобрело устойчивое выражение довольства собой и всем тем, что он видел.
И, вполне возможно (хотя, конечно, как на чей взгляд), у мужчины для этого имелись кое-какие достаточно веские основания.
За его спиной на рабочем столе лежал отчёт о проделанной за год работе, получивший одобрительную оценку на учёном совете. И хотя, кроме общих и более чем скромных рекомендаций, отчёт вроде бы ничего не содержал, мужчина считал, что год, проведённый им в экспедиции, не пропал даром.
А что касается результатов, то что поделаешь! Такова работа исследователя-поисковика. Издержки профессии. Иногда и пять, и десять лет пройдёт, пока появятся первые обнадёживающие результаты, а бывает порой и целой жизни оказывалось мало, и проходило пятьдесят, а иногда и сто лет, прежде чем высказанные однажды новые идеи и принципы получали всеобщее признание и обретали законную, общепризнанную силу.
А нередко бывали и трагические случаи. Известно, и немало, совсем печальных историй, когда за открытия, за новое слово в науке приходилось платить единственным настоящим, что-либо стоящим богатством, которое есть у человека, – собственной жизнью.
Одним из многих примеров тому может служить история открытия золотых приисков на Вилюе или, например, печальная участь первооткрывателей архангельских алмазов, предложивших новые идеи поисков алмазов в грязевых болотах Архангельска и расстрелянных по ложному навету.
Прошло пятьдесят лет. В сохранившихся случайно архивах нашли старые записи. В записях нашли давно забытые фамилии и описание нового месторождения алмазов в вулканических болотах под Архангельком, и спустя без малого пятьдесят лет открытие благополучно «открыли» вновь.
Да мало ли таких примеров! В нашем достославном государстве им нет числа. Как и вообще в науке, и у нас, и повсеместно.
Но прогресс остановить нельзя. Мужчина задумался. Насколько он помнил, когда-то и они вдвоём с другом детства Монголом были настолько наивны, что мечтали запросто совершить переворот в той области знаний, которой они интересовались.
Как давно это было! Сколько всего поменялось в жизни! И где теперь Монгол, а где он?
Мужчина посмотрел на отчёт и вздохнул. Конечно, он был уверен в правильности высказанных в отчёте мыслей. Разумеется, они не блистали особой новизной. Если бы это хотя бы что-то определяло! Обычная рутинная работа. Такой же отчёт он написал в прошлом году. И в позапрошлом.
Одни и те же слова. Одни и те же мысли. Одно к одному. Но реального выхода не было. Не было того, ради чего они трудились год за годом в этих жутких, кошмарных, полных опасностей условиях, несовместимых с нормальными представлениями о жизни и быте; в страшных, гибельных краях. И всё, если как следует подумать, зачем? Чтобы кто-нибудь в главке в случае удачи отрапортовал об успешном завершении работ, огрёб за доклад, как принято, лавры первооткрывателя и причитающиеся к лаврам поощрительные блага?!
Ну, наверно, и им что-нибудь перепало бы с барского стола: дополнительные отпуска, санаторские путёвки, премии и, возможно, небольшая, на пару дней, шумиха в прессе.
Но не было ни нефти на тех горизонтах, на которых они бурились, ни чего-либо, что могло бы оправдать те немыслимые расходы сил и средств, которые им приходилось тратить на изыскательские работы. Соответственно, и мысли в отчёте не блистали особой новизной. Хотя в случае успеха предприятие стократно могло окупиться сторицей.
Но как это всё было далеко от того, о чём они когда-то на утренней заре своей жизни, по молодости, мечтали! О лёгком красивом труде. О победах! О феерических удачах! Но далеко не у всех восторженные юношеские мечты впоследствии совпадают с существующими в действительности грубыми, а порой и невыносимо жестокими реалиями жизни.
И, разумеется, как и любой труд, его работа требовала серьёзных познаний и отработанных годами навыков, а также удачи и, далеко не в последнюю очередь, счастливого наития.
И, как он считал, чем-то таким он в какой-то мере обладал. Не зря же он топтал матушку-землю. Во всяком случае руководитель института, учёный, чьи научные работы, кроме отечественных журналов, печатались на Западе в таких серьёзных научных изданиях, как «Дайджест Сайентист», наложив собственноручно резолюцию на титульном листе отчёта и переворачивая в задумчивости страницы, по-дружески спросил:
– Так вы, Иван Иванович, считаете, что на архипелаге необходимы дополнительные исследования?
– Без сомнения, Феликс Владимирович. Нам во что бы то ни стало необходимо продолжить на Новой Земле дальнейшие разработки. Там наше будущее. Никакие, самые фантастические, финансовые затраты на поисковые работы не могут считаться достаточными. Потом, в веках, всё окупится. Мы на правильном пути.
– Эк хватил! «Наше будущее»! «Потом всё окупится. Мы на правильном пути», – рассмеялся Феликс Владимирович. – Вам, кажется, не так уж далеко и до пенсии! А вы такие планы рисуете! Не витаете ли вы в облаках? Может, на всякий случай, спустимся с облаков на грешную землю? В конце концов, если не ум, то наш возраст кое к чему нас обязывает.
– Никого ни к чему возраст не обязывает! – возразил Иван Иванович. – Поверьте мне! Что с того, что на пенсию? Пятьдесят лет – если не для всех, то для многих – совсем ещё не возраст. Может, я кое-что только-только впервые начал понимать. Или начинаю. Может, мне во многом ещё надо разобраться!
– А раньше времени не было? Недосуг было?
– Раньше по младости вопросов этих не было.
– Ничего себе «младость»! К этому возрасту у всех обычно все вопросы уже решены. А вы только-только что-то собираетесь решать. Не кажется ли вам, что это крайний случай? Клиника!
– У некоторых, у которых все вопросы уже решены, к этому возрасту и вообще по жизни каких-либо вопросов не густо было. Им эти вопросы ни к чему с босоногого мальства и до конца дней были. А у меня так получилось, что к концу, к последней финишной прямой, этих самых никому не нужных вопросов изрядно поднакопилось.
– Тогда что же вы, докторскую защитить хотите?
– Докторскую? – переспросил Иван Иванович.
Он на какое-то время задумался и произнёс:
– Пожалуй нет.
– Что же в таком случае за причина, по которой вы хотите продолжить исследовательскую работу? Титульная, статусная? Чего вам ещё по жизни не хватает?
– Поверьте, – отвечал Иван Иванович, – Всё необходимое обычному человеку у меня имеется. Причина общечеловеческая. Есть, знаете ли, кое-какие не дающие мне покоя мысли, и не в последнюю очередь насчёт себя. Надо наконец решить, кто на самом деле я. И ряд сопутствующих проблеме деликатных вопросов. Их необходимо додумать, разобраться до конца, до полной ясности. А пенсия – это конец дороги. Тупик с общеизвестным окончанием.
– Значит, опять север? Опять зимовки? Тяготы и лишения необустроенного полярного быта? Что же, у вас нет личной жизни? Или вы боитесь в вашем возрасте заводить серьёзные отношения? Это, поверьте мне, не так уж сложно.
– Если бы это в нашем возрасте что-нибудь решало! Хотя бы какую-нибудь часть проблем, – огорчённо возразил Иван Иванович. – Наши проблемы бытом не решаются. Это мы уже проходили. Личную жизнь, семейное обустройство. И с чем в результате остались? Так называемая личная жизнь в банальном, общеупотребительном смысле – это не решение вопроса. Во всяком случае для меня. – Иван Иванович на минуту задумался. – Если любишь дело, которому служишь, если пришёл к нему по велению сердца, по призванию, оно может значить гораздо больше, чем так называемая личная жизнь. Дело, которому служишь, – это тоже личная жизнь. Значительная её часть. Возможно, для некоторых, не для всех конечно, а для таких, как я, – самая главная.
– Ну, это явный перебор. Вы, часом, не того? – Феликс глянул с укоризной и покрутил пальцем у виска. – Нет у вас боязни, что вы безумно, с катастрофическими для вас личными последствиями, ошибаетесь?
– Может, и ошибаюсь! Кто в этой жизни не ошибается? Такое право есть у каждого. Но, на мой взгляд, намного лучше ошибаться, чем жить монотонной, «правильной», однообразной, тухлой жизнью среднестатистического обывателя, героя родной улицы и ближайших пивнушек, живущего в ожидании, как главного события в никчёмной, ничем разумным не наполненной жизни праздника – выхода на пенсию, и затем неминуемого естественного конца. Или, наоборот, устраивать вселенский выпендрёж и немыслимо, без меры гордиться как великим достижением тем, что не пьёшь, как бы здраво, как непьющий, мыслишь и исповедуешь в быту христианскую святость и вегетарианство. Если это имеет хоть какой-то разумный смысл.
В глазах учёного мелькнуло непонятно что: то ли искорка смеха, а может – неподдельного, доброжелательного интереса.
– Нет, откуда ни глянуть, «везёт» же мне с вами, – горестно вздохнул Феликс. – Это же надо! У всех моих друзей сотрудники как сотрудники, но у меня, – страдальчески закатил он глаза. – Подумать только! Это же надо! То вас работать не заставишь, то от работы не оторвёшь. Где вас таких только делают!
– Я думаю, в месте, хорошо вам известном, шеф, – ответил, скромно потупясь, Иван Иванович. И добавил: – А ничего другого, лучшего, никем пока не придумано. К всеобщему удовлетворению. Медицина, знаете ли, пока сильно отстаёт от императивных требований жизни. А что касается работы, не за зарплату же мы служим и не то, чтоб ради одной только выгоды. За зарплату работают наёмники. Батраки! За кусок хлеба, за грошовую подачку, за миску похлёбки. Примитивное биологическое выживание. Жизнь ради еды и удовлетворения двух, от силы трёх, естественных физиологических потребностей. Убогое маразматическое существование! Жизнь слепого, безмозглого дождевого червя. Добропорядочного потребителя сериалов и гамбургеров. Труд таких людей поэтому и называется наёмным. А наши интересы чуть выше финансовой стороны дела. С годами, как ни странно, приходишь к убеждению, что деньги не так уж много значат, а тем более что-либо решают в нравственном и самопознавательном отношении, кроме убогих, сугубо материальных вопросов в нашей жизни. И, да простится мне эта тавтология, любому ясно: чем больше у человека денег, тем хуже у него с тем, что в заурядном обиходе называется банальным, заезженным донельзя, пошлым словом «душа». Хотя, следует признать, все мы, кого ни возьми, не очень этим богаты.
Учёный, членкор Академии наук, за долгую жизнь не заработавший ни лишней копейки, ни палат каменных (хотя мог бы при новых властях развернуться, накопать по-скорому, как некоторые, многие другие, миллиончик-другой в любой валюте), глянул как-то странно, искоса на Ивана Ивановича, скривил досадливо губы, как будто спросил: «Так ли это? Что же тогда, на ваш взгляд, в этой жизни имеет истинное значение?», а вслух сказал:
– Ой ли? В самом деле? Между прочим, к разговору о деньгах! На днях звонил, чуть телефон не оборвал, ваш друг Монгольский.
– Витька?
– Виктор Андреевич, – деликатно поправил Ивана Ивановича Феликс. – Спрашивал о вас. Он очень интересовался, чем вы так заняты, что никак не можете навестить его? Может, вам помочь выбрать время? Или вы перестали быть друзьями? Так вот к чему это я: ваш друг, насколько я понимаю, придерживается прямо противоположных взглядов. Если я правильно понял, он считает, что в его случае как раз деньги решают всё, – высказался, с любопытством ожидая ответной реакции Ивана Ивановича, Феликс Владимирович. Железный Феликс, как все они его уважительно, с почтительной долей любви величали. – «Сначала деньги, – сказал ваш друг, – а уж с деньгами я добьюсь всего, что только моя душенька возжелает».
– А вы не скажете, откуда он звонил? – поинтересовался Иван Иванович.
– Он почему-то мне сказал, что из Штатов, – ответил Феликс. – Вы не скажете, почему из Штатов? Что происходит? Я что-то не понимаю? – спросил удивлённо Феликс Владимирович.
В глазах старого учёного, бессеребренника, идеалиста, отдавшего всю жизнь чистой науке, верившего в беспрекословную непогрешимость впитанных с младенчества святых идей, которым он верой и правдой служил и поклонялся, читались недоумение и старческая, детски наивная беспомощность.
– Вечная дилемма, многоуважаемый шеф, – рассмеялся Иван Иванович. – Детская загадка, философский тупик: что первично, что вторично: яйцо или курица, мысль или воплощение, слово, идея или всё же первичен поступок.
– И что же выбираете вы? – спросил Феликс как-то неуверенно, со старческой робостью, словно опасался услышать неприятный, пошлый, вульгарный ответ.
И его неуверенность можно было понять. В перевернувшемся вдруг с некоторых пор – с приходом к власти новых хозяев жизни – с ног на голову мире, в котором деньги для многих стали означать почти всё, если не всё, его устарелые принципы мало что значили. Люди вдруг словно сошли с ума.
Добрые старые идеи, обеспечивавшие раньше стабильность и устойчивость общества, неожиданно перестали существовать. Их неожиданно перестали уважать. За них больше не платили, как было принято в добрые старые, не столь отдалённые времена, всеобщим признанием.
И, судя по всему, в этих обстоятельствах старый учёный чувствовал некоторую растерянность. Он не был готов, как и Иван Иванович, к жизни в новой, возникшей спонтанно, непонятно откуда, из каких-то неведомых заморских далей реальности. И Иван Иванович хорошо понимал состояние старого учёного. Это невыносимо тяжело, когда новые, скороспелые, не выверенные временем, очень спорные по отдалённым последствиям нововведения подавляют привычные старые, проверенные временем и жизнью идеи.
– Вы спрашиваете, что я выбираю? – спросил он. – Разумеется, идею! Всё остальное вторично. Деньги, блага, шикарная жизнь, необычайные возможности как для всех не знаю, а для такого человека как я – всё вторично. Только добрая, хорошая, здравая идея одушевляет и придаёт всему нормальный человеческий смысл и общечеловеческое значение.
Феликс с сожалением посмотрел на Ивана Ивановича, как на человека, от которого трудно ожидать чего-либо оригинального, необычного. И Иван Иванович хорошо знал, почему он так на него смотрит: в глазах учёного он сильно проигрывал, уступал во всём своему другу Монгольскому.
Всё же Монгольский был его любимцем и лучшим учеником. Поговаривали даже, что наверняка Феликс будет рекомендовать его на своё место научного руководителя института в случае своей предполагаемой некоторыми сотрудниками какой подряд год со дня на день отставки.
А что вышло? Когда после широко заявленной перестройки, а затем, как принято в этой бедолашной стране, тихого дворцового переворота они вдруг оказались без средств к существованию и каких-либо видов на дальнейшую перспективу, им пришлось искать заработок на стороне. И это – если подходить прежними, советскими мерками – совсем не последним людям в государстве!
От них, от их участия в производственном цикле всё же что-то зависело в экономике этой страны. И её независимости, и, понятно, самочувствии её рядовых жителей, граждан.
Так проныра и мот с задатками дельца Монгольский оказался в Штатах, а Иван Иванович – в своей глухоманной деревушке на берегу ласкового, тёплого, синего, милого его сердцу Чёрного моря.
А Феликс выдержал. Не зря они звали его железным. Он всё выдержал и сберёг в сохранности от безграмотных, диких варваров, «эффективных менеджеров», в избытке появившихся в правительстве, в Новой власти, здание науки – Храм, который он строил всю свою трудную, сложную жизнь. Теперь, как некогда древний библейский пастырь, он собирал их обратно, своих блудных, разбрёдшихся по всей стране, учеников.
Но… кто хорошо устроился в новой жизни, а кто – лучше, чем хорошо, – в чужедальней стороне.
Назад вернулись немногие. Вот он, Иван Иванович, вернулся. И как он мог объяснить старому учёному, что происходит не с ним одним и с Монгольским, а что со всеми ими происходит?
Кто каким богам вдруг, после прихода новых властей, начал молиться; кто новую дорогу, забыв и отринув прежнюю как никому не нужный хлам, в погоне за лучшей долей выбрал.
И почему из одинаковых вроде бы людей вдруг оказалось, что кого-то привлекает богатство и он всю жизнь кладёт, чтобы разбогатеть, наскрести бабла по-скорому, и, возможно, в этом и есть его заскорузлое, сермяжное, скопидомское, барыжное счастье. А другим, чтобы нормально существовать, и денег никаких особо не надо: живут себе налегке, без лишних забот и ненужных проблем, никому не кланяясь, никого не чтя и без меры не уважая, привольно, вольготно и счастливо. Живут себе, как птички божьи, припеваючи, на то, что им бог послал, и счастливы, и довольны, и в жизни ищут что-то весьма далёкое от финансового благосостояния и материальных благ.
За всех, разумеется, он не стал бы ручаться, но, что касается Феликса и себя, мог со всей определённостью утверждать, что деньги ничего в их нравственном и физическом бытии не могли бы изменить. Скорее наоборот. Наличие больших денег могло бы изрядно обеднить их, опустошить. Такой парадокс заключался в самой идее их существования.
С большими деньгами они могли потерять всё, даже самих себя. Он так и сказал старому учёному.
За разговором они допивали уже третью чашку кофе, приготовленную услужливой секретаршей Софьей. Видя, что разговор зашёл в тупик и никакое кофе не в состоянии прояснить суть проблемы (видимо, для решения задачи требовалось что-нибудь покрепче), Феликс сожалеюще заглянул внутрь опустевшей посудины, посмотрел отстранённым взглядом, непонимающе на Ивана Ивановича и спросил с нотками укоризны в голосе:
– Если вы исповедуете такую давно изжившую себя и благополучно забытую всеми философию, что же ваш друг Монгольский придерживается прямо противоположных взглядов? Насколько мне известно, вы из одной деревни?
– Деревня у нас, вы совершенно правильно сказали, одна, – понимая, что аудиенция близится к завершению, подвёл итог разговора Иван Иванович. – Да, деревня-то одна, только вот беда: люди в ней разные.
Глава 2 Друзья
Да, деревня, конечно, откуда ни глянуть, и в самом деле одна, задумался мужчина над недавним разговором с Феликсом, глядя в окно на тонущий под дождём проспект, на людей под зонтиками, на несущиеся в потоках брызг автомобили.
А вот люди! Взять хотя бы их с Монгольским! Совсем недавно, казалось бы, они были друзьями. Всего несколько лет назад.
И какими друзьями! Они делились друг с другом, что называется, последним куском хлеба и разговаривали о понятных друг другу вещах на понятном им обоим языке, хотя, бывало, что и с трудом приходили к единому мнению.
Нет, в каком-то смысле они и по сей день друзья. Какая-то связь с тех пор осталась. В их отношениях почти ничего не изменилось. Почти! Слово-то какое!
Это и в самом деле выглядит как-то так, если не принимать во внимание некоторых, совершенно ничего не значащих во взаимоотношениях между бывшими некогда друзьями сущих пустяков.
Ныне Витька Монгольский – не хрен собачий, не абы кто, не чета любому и каждому, судя по всему – миллионер и живёт, как это у них, у простых, бывших некогда обычными советскими людьми, миллионеров принято, «за бугром», в райских, благословенных, возлелеянных судьбой и небом Соединённых Штатах Америки, а он, некогда его друг и сотоварищ, как был, так и остался нищим геологом, человеком без средств, без видов на ближайшую и более отдалённую перспективу. Такая вот вышла незадача. Кому и на что сетовать?
И сетуй не сетуй – капиталов на сетованиях не наживёшь. Впрочем, ещё очень даже неизвестно, что есть на самом деле истинный, настоящий капитал. Некоторые утверждают, что здоровье; иные уверяют, что умственные способности; третьи – что наличность.
Хорошо, конечно, когда всё сочетается вместе: и ум, и здоровье, и, не в последнюю очередь, деньги. По некоей, никому достоверно не известной формуле, кому чего сколько: кому – ума палата, кому – денег, а кому самого главного – здоровья! А коли есть здоровье, об остальном есть время подумать.
И уж кто-кто, а его друг Монгольский, на удивление, всем взял и был довольно редким экземпляром человеческой породы, на зависть друзьям и врагам, довольно удачно сочетающий в себе и ум, и редкую среди обычных людей привлекательность, и уникальную физическую силу, и теперь ещё, видимо, по всей вероятности, тонны денег в любой валюте.
Так иногда случается. Где-то он слышал довольно расхожее в народе мнение. В народе говорят, что всесильная природа, создавая людей, как бы долго отдыхает, создавая серийные, штампованные, совершенно ничем содержательно друг от друга не отличающиеся экземпляры человеческих существ, одинаково пошлые, убогие и унылые, и вдруг, словно устыдясь, очнувшись от летаргии, поскребя по сусекам, собравшись наконец с силами, создаёт редкий, штучный, уникальный экземпляр человеческой породы.
Должно быть, что-то похожее произошло, по всей вероятности, с Монгольским. С Витькой Её Величество Природа постаралась даже слишком, создав уникальный шедевр, нечто эталонное в физическом и интеллектуальном смысле.
И когда афиши в вестибюле института сообщали о соревнованиях по вольной борьбе, насколько помнил Иван Иванович, институтский спортзал не вмещал зрителей. И посмотреть было на что.
Команды по факультетам представляли молодые, сильные, тренированные мужчины. Огромный институтский спортзал наполнялся задором молодости, ароматом юношеских надежд и витавших в воздухе молодёжных безграничных чаяний.
И зрители были под стать спортсменам: молодые, азартные студенты и студентки, у которых всё ещё только-только начиналось. Вся великая и волнующая тайна жизни у них ещё была впереди.
Зал награждал победителей аплодисментами. Как водится, девушки вручали им награды и цветы. Но все с особым интересом ждали выступления супертяжей. С нетерпением ждали выступления Монгола. В основном, все и приходили поглядеть на Монгола.
Он был гвоздём программы. Вот уж на кого стоило посмотреть! Он легко двигался. По-кошачьи быстро и неуловимо. И когда Монгол выходил на ковёр, равных в вольной борьбе ему не было.
И любо-дорого было смотреть, как непринуждённо, словно танцуя начальные па Аргентинского танго, он делал несколько ритмичных шагов, брал противника в захват и бросал одного за другим, как кули с мукой, огромных мужиков на помост.
Зал взрывался от аплодисментов. Стены вздрагивали от приветственных криков. Зрители рукоплескали наиболее эффектным приёмам Монгола.
Это была завуалированная демонстрация мужской силы и красоты. Девчонки-сокурсницы визжали от восторга. И было от чего.
Монгол динамикой своих движений напоминал игравшего Геракла артиста Стива Ривса в шедшем тогда на экранах кинотеатров красочном американском фильме-сказке «Подвиги Геракла».
Он и был мужчиной-сказкой. Таким, которые на дороге не валяются и которых очень трудно где-либо просто так встретить или где ни попадя найти.
Он приводил в восторг зал, особенно, когда, бросив через себя очередного громилу, поднимал бугрящиеся рельефной мускулатурой руки и поворачивался на аплодисменты перед рукоплещущими зрителями. Полубог-получеловек. Зал взрывался от оваций и приветственных криков.
И Иван Иванович, заходивший в спортзал, чтобы словить на карандаш стремительный бросок через себя, борьбу в партере, суплес или двойной нельсон в мастерском исполнении Монгола, по-доброму немного завидовал своему товарищу, и аплодисментам, и восторженному гулу толпы.
«Как всё-таки везёт некоторым!» – с доброй завистью думал он.
Его друг – ничего не прибавить и не отнять – был и умён, и божественно красив, и восхитительно силён, и удачлив в своих начинаниях. Позавидовать действительно было чему. И он искренне ему завидовал.
«Какая всё-таки ужасная несправедливость, – иногда думал он, нанося торопливыми движениями карандаша на листы бумаги наиболее впечатляющие движения Виктора, – когда одному человеку достаётся всё: и ум, и интеллект, и красота, и физическое совершенство. Всё абсолютно, о чём многим и многим остаётся только мечтать».
И надо же, как ведь всё (подумать только!), о чём они когда-то в далёком детстве мечтали, словно по чьей-то высшей, неумолимой воле (раз пожелали – получите!) сбылось. Сошлось точка в точку.
«Как в волшебной сказке сказалось! – вспоминая прошлое, утреннюю зарю, начало своей жизни, улыбнулся Иван Иванович. – Это же надо! Детское вроде бы, вовсе глупое, никчёмное казалось бы предсказание, а поди ж ты, осуществилось полностью. Как в народе говорится: “И к волхвам не ходи”!»
– Да! Всё сбылось. – задумался он. – Сказанные когда-то в детской запальчивости оказавшиеся потом, по прошествии лет, пророческими слова с годами осуществились полностью. И жалеть теперь не о чём.
Впрочем, Монгольский уже тогда, с детских лет, слыл замечательным провидцем. К нему, к мальчишке, ходили солдатки, чтоб он рассказал им судьбу их мужей – солдат. И, случалось, он угадывал правильно. Он тогда, ещё будучи мальчишкой, с точностью до мельчайших деталей угадал судьбу Ивана Ивановича. Чтоб ему пусто было! Мог бы по – дружески, по-приятельски, слегка поднапрячься и что-нибудь поумней предсказать, подушевнее. Может быть, тогда его жизнь сложилась бы совсем по-другому.
Впрочем, Иван Иванович на судьбу не обижался. Что Монгол нагадал, то нагадал! Не перегадывать же! Иван Иванович судьбой был доволен. Да, было времечко! Сколько воды с тех пор утекло?
Иван Иванович, словно прогоняя сон, глубоко вздохнул, отвернулся от окна и сел за рабочий стол. Впрочем, он мог и не смотреть в окно. Всю противоположную стену кабинета занимала картина, изображавшая в точности, в мельчайших деталях, проспект, на который он только что смотрел в окно.
Он отдыхал, когда видел эту картину. Это была не просто картина. Это была картина – Судьба! Он с ней советовался. По ней он выверял свою жизнь. Она даже обладала какой-то магической властью над ним, своим создателем. Созерцая её, он получал удовольствие гораздо большее, чем когда он смотрел на настоящий проспект.
Технически панорама была выполнена великолепно и создавала полное впечатление реальности, может быть, даже более реальной и зримой, чем все эти дома, деревья, люди, сам проспект в этот хмурый, дождливый день выглядели на самом деле.
Картина была настолько реальной, что сам Феликс, зайдя однажды в служебный кабинет Ивана Ивановича и увидев на стене изображение проспекта, остановился в изумлении, потом подошёл к окну, посмотрел на представившуюся взору перспективу, отошёл, походил, странно улыбаясь, разглядывая с разных углов рукотворное творение на стене, пощёлкал языком, сел на свободный стул, разглядывая картину, и, обращаясь к Ивану Ивановичу, одобрительно сказал:
– Замечательно! Хоть сейчас на выставку посылай. Кто же художник? Вы? – И, встав, в задумчивости стал прохаживаться взад и вперёд возле картины.
В кабинете Феликса висели два полотна, подаренные ему Иваном Ивановичем по случаю, на юбилей, но он, видимо, до сих пор не воспринимал Ивана Ивановича как художника, признавая его, скорее, как некое недоразумение и в профессии, и в искусстве. А тут со старым учёным словно что-то произошло.
– А знаете, на первый взгляд всё, казалось бы, совпадает, как и вообще что-то на что-то похоже в ваших картинах, но здесь, – Феликс указал на изображение, – отображено нечто совсем другое. Не статичный проспект, а какая-то эмоция, чувство, мысль. Если долго смотреть, можно даже сказать, у зрителя исподволь возникает впечатление, что эта нарисованная на стене дорога куда-то ведёт.
Иван Иванович не стал уточнять, что это не совсем дорога. Что для него это больше, чем дорога. Что эта дорога на самом деле – его Судьба! И, возможно поэтому, у внимательного наблюдателя вполне могут возникнуть спонтанные ассоциации, что дорога не совсем проста и обычна, а нечто гораздо большее и значительнее. Он был доволен, что картина неожиданно произвела на Феликса такое сильное впечатление.
– Таково свойство живописи, – улыбнулся Иван Иванович, услышав мнение учёного. – Обратил всё же внимание старый! Не прошёл мимо. Значит, картина действует магически не только на одного него. Есть в ней что-то не совсем обычное, заурядное. А мог бы и не заметить. Дорога и дорога. Что в ней необычного, привлекающего внимание?
И добавил:
– Для этого, насколько мне известно, и существует живопись. А что касается дороги, любая дорога куда-нибудь ведёт.
– Э-э-э, а сколько дорог, насколько мне известно, никуда не ведут! – не согласился учёный.
– Все дороги в конечном итоге ведут в никуда, – покачал головой Иван Иванович. – Дело, на мой взгляд, не в дороге, а в том, что мы ищем, что мы хотим найти в пути на этой дороге, к какой цели мы, каждый из нас, идёт, какая бы она, эта дорога, ни была.
– Что ж, пожалуй, вы правы, – согласился Феликс. – Не зря говорят: «Ищущий да обрящет». В конечном итоге мы, с одной стороны, существа, казалось бы, сугубо материальные. Это очевидно! Возражению не подлежит! И тем не менее каждый из нас в сущности есть то выражение содержания в материальной форме, в нашей недолговечной бренной оболочке, какую цель на выбранной им дороге он перед собой избрал. Каждый из нас! Мы есть плотское воплощение абстрактной метафизической идеи того, какая цель в конечном итоге движет нами. К чему в итоговом результате мы хотим прийти. Разумеется, эта идеологемма справедлива для тех, у кого, конечно, она есть, эта идея. Цель, осмысленная идея существования и есть в конечном итоге то, что отличает человека разумного от животных.
Вспоминая этот разговор, Иван Иванович расстегнул пуговицы пиджака, снял галстук и, устроившись поудобней в кресле, закрыл глаза.
Но и с закрытыми глазами перед его внутренним взором вполне отчётливо опять возникла вереница зданий, уходящих на его картине вдаль. В НЕИЗВЕСТНОСТЬ! Как теперь, после разговора с Феликсом, он понимал. В конечном итоге – В НИКУДА!
Иван Иванович долго и тщательно рисовал эту панораму. Он знал её в мельчайших подробностях, до изысканных тонкостей световой гаммы. Столько труда было положено на эту картину! И результат превзошёл все ожидания. Когда он долго рассматривал своё творение, он явно ощущал, что теперь картина управляет его желаниями и, помимо его личных, не всегда хорошо продуманных планов удерживает от глупых поступков, и настойчиво подсказывает ему путь, по которому ему следует идти.
И Иван Иванович физически ощущал влияние картины, своего творения, на свои поступки и даже на образ мыслей.
Безусловно, что бы кто ни говорил, сначала художник творит то, что возникло в его мозгу, а потом часто так бывает, что творение, уже помимо воли художника, творит и создаёт, формирует своим влиянием окончательный образ своего создателя. Конечно, он никому об этом не говорил, но иногда ему даже казалось, что картина явно действует на его эмоции, сознание, формируя отношение к действительности и образ мышления. Она вмешивалась в его жизнь. Выверяла на разумность его мысли.
И ему это вмешательство нравилось. Он часто молчаливо как бы советовался с картиной прежде чем принять окончательное решение.
Или он всё это выдумал? Чтобы ему было с кем советоваться в сложных житейских обстоятельствах. Во всяком случае что-то такое происходило с Иваном Ивановичем когда он находился рядом с картиной. Слишком многое было связано с этим проспектом у довольно обычного, как он себя понимал, человека, в основе поступков которого была однажды и навсегда, ещё с далёких детских лет осознанно выбранная цель.
Отсюда, с этого проспекта, они с Монгольским уходили в большую жизнь. И отсюда, с этого проспекта, как будто это был кратчайший путь, соединяющий два города, две страны, его друг прямиком попал в Майами, а вот он, Ваняшка, всё шёл и шёл по этой, оказавшейся совершенно неожиданно такой длинной анфиладе, и так до сих пор, как он считал, никуда и не пришёл, и так и остался у этой нарисованной им давным-давно картины, и непонятно ему было, то ли он попросту заблудился или устал, ослаб и в результате не осилил своей дороги. Но всё-таки он ещё шёл. Не отпускала его от себя картина.
Да, предсказание в полной мере сбылось! Чертовски прав был Монгольский. Безвестный деревенский прорицатель. Боспорский оракул.
Лицо мужчины напряглось, губы, сжавшись, стали плоскими, а между бровями появились вертикальные складки. Наверно, он вспомнил что-то давным-давно забытое.
Эта история началась, когда они с Монгольским были совсем маленькими мальчишками. Настолько маленькими, что одного из них родители звали Ванечкой, Ваняшкой, а родители другого называли его Витусей, Витусиком.
Они тогда жили в маленьком городке, приютившемся одиноко среди степных ковылей на песчаном берегу огромного морского залива.
Городок этот потом, когда Ваняшка повзрослел, часто являлся ему во снах, где бы, в каких краях, он ни находился.
В этот день они вдвоём, заранее сговорясь и прихватив с собой по горбушке хлеба, сбежали ранним утром от докучливого, в край доставшего их внимания родителей.
Их путь лежал на берег, в царство пряно пахнущего горьковато-солёного запаха свободы, яркого солнечного света и безбрежного, неохватного взглядом морского простора.
Море, огромное и величественное, штилело после недавнего шторма, золотясь от края до края пляшущими солнечными бликами.
Мальчишки, завидев море, замерли в немом восторге. Потом они долго носились по морскому песку, бегая друг за другом и радостно крича у кромки лениво плещущей о берег воды.
Наконец они устали. Ваняшка уселся на ступеньках возле белых колонн возвышавшейся над ним в синем небе полукруглой арки, служившей входом на пляж, и стал прутиком что-то рисовать на песке, а Витась принялся ходить по берегу, задумчиво поглядывая вдаль и иногда нагибаясь и подбирая что-то с песка.
Он уже тогда выглядел красивым, крупным, породистым мальчиком по сравнению с мелкокостным, сереньким, незаметным Ваняшкой. Когда ему наскучило это занятие, он подошёл к Ване и спросил:
– Ну, Ваня, покажи, что ты делаешь?
– Я? – ответил Ваня. – Я рисую солнце.
– А я вот что нашёл, – сообщил Ване его друг и разжал кулачок.
На его ладони, тускло поблёскивая, лежала кучка медных и никелевых монет. Виктор уже тогда, в давно забытом детстве, был разумным, дельным мальчиком в противоположность наивному, даже довольно глуповатому несмышлёнышу Ваняшке, и на его ладони, по их тогдашнему младенческому разумению, заманчиво, тусклой горкой никелевых и медных монеток поблёскивало целое состояние.
– Ого! – восхитился было Ванечка. – Ты глянь! Это ж сколько мороженого! На целый день!
– Наедимся от пуза, – важно согласился Витусь. – Хочешь, я тебе половину отдам? – спросил друг и, не глядя, отсыпал горку мелочи на другую ладошку и протянул её Ване. – Вот, всё по-честному, тебе половина и мне половина. На! Держи!
Ванечка на минуту задумался. Он был медлительным, и ему требовалось время, чтобы решить что-либо, прежде чем опрометчиво отважиться на любой поступок.
– Ну чего ты? – Витусь недоумевающе толкнул Ваню в плечо. – Всё поровну.
Он всегда был таким, делился с друзьями до последнего всем, что имел. Жадным он не был. Но и приятель ему попался непростой.
– Я даже не знаю, – основательно подумав, медленно протянул Ваня, – нужны ли мне эти деньги… Нет, наверно, – в раздумьи сказал он, – не нужны мне эти деньги. Я не могу их взять.
– Почему? – искренне удивился, и было отчего, Витусь.
Ваняшка насупился, долго молчал, потом, так же насупясь, опустил взгляд под ноги и, покраснев от смущения, скривился и неожиданно сказал:
– Мне мама не велит брать чужое, говорит, что это нехорошо.
– Ну, приятель, даёшь! Так деньги же ничьи! – удивился Витусь. – Их море намыло.
– И ничьё тоже брать нехорошо, – всё обдумав и окончательно укрепясь в своём решении, твёрдо ответил Ванечка.
– Ну крендель! Так берёшь или нет? – переспросил недоумевающе Витусь.
– Нет! – твёрдо ответил Ванечка.
– Раз так, – рассердился Витусь, – тогда, значит, опять поровну: ни тебе, ни мне, никому! – И, широко размахнувшись, бросил монеты обратно в море со словами: «Раз так, пусть всё будет как было!»
Монеты, тускло блеснув на солнце, шлёпнулись обратно в воду, булькнули и ушли на дно. Как их и не было. Это было то, что разделяло их потом всю жизнь. Ивану Ивановичу и по сей день казалось, что он хорошо помнил, как довольно, с ненасытным удовольствием чвакнуло море, принимая обратно латунную и никелевую мелочь – отнятую у волн своенравным мальчишкой собственность морского владыки.
Кругляшки ушли на дно, и зыбучий песок тут же засыпал, затянул их вглубь, упрятал понадёжней, как бы играю-чись с мальчишками, чтобы щедрой рукой вновь швырнуть эти тусклые сомнительные символы удачи и преуспеяния под ноги им или другим мальчишкам, под настроение, при первом же последующем волнении. Мальчики долго смотрели вслед, туда, куда с плеском упали монеты.
– Это ж сколько мороженого пропало! – сожалеюще высказался Витусь и, вынув из кармана заранее припасённую горбушку, начал откусывать по кусочку и с наслаждением жевать.
– А всё ты! – с раздражением обратился он к Ванечке и даже замахнулся на него кулаком. – Дуралей и ты, и твоя мама. Если бы не ты! Это ж сколько всякой всячины можно было накупить! Мы бы целый день ни в чём не нуждались.
В его глазах читалось сожаление, что ему пришлось, чтобы не упасть лицом в грязь в глазах приятеля, так поступить, и одновременно Ваня увидел в них закипающую злость.
Витусь встал башмаками на рисунок берега, над которым так долго и старательно трудился Ванечка, растоптав и уходившую на восток дугу залива, и ломаную линию крыш, и смеющееся лучезарное светило.
Ваняшка был на год младше Витуся и послабее, потщедушней. Он, конечно, знал, что Витусь его не ударит. Витусь всегда его защищал. И всё-таки он сжался в комок, поднял, защищаясь, руку.
– А я при чём? – заныл он, закрываясь руками. – Ты нашёл, ты выбросил. Никто тебя не заставлял. Ты сам всё сделал.
– Не заставлял! – согласился Витусь. – Ещё как не заставлял! У-у-у! – зарычал он и поднёс кулак к лицу Ваняшки. – Вот это ты видел? Мама не велит! Всё твои разговоры! – топчась перед сидящим на ступеньке Ваняшкой по его рисунку, распалялся Витусь. – Художник! Дурошлёп! – И вдруг неожидано остыл и рассмеялся. – Я, пожалуй, знаю, кто из нас кем будет, когда мы вырастем, – пренебрежительно, с оттенком превосходства в голосе произнёс он.
– Ну? – спросил Ваняшка, с сожалением глядя на то, что осталось от его трудов после ботинок Витуся. – Кем же? – огорчённо, предвидя ответ, поинтересовался он.
– Ты, – топчась по рисунку и получая, видимо, от этого большое наслаждение, сказал Витусь, – ты, Ваня, станешь художником. Нищим, никому не нужным, убогим художником! Будешь за копейки рисовать портреты курортников на набережной и пить горькую, когда наконец заработаешь эти копенки.
– А ты? Кем станешь ты?
– Я? – переспросил Витусь. – О! Я стану богатым, известным, уважаемым человеком. Таким же богатым, как какой-нибудь самый богатый арабский шейх. Мне все будут поклоняться, и все будут меня уважать. Вот так! Я всё, что возможно и что невозможно, сделаю для этого. Мой папа говорит, что у меня есть все необходимые для этого задатки.
– А мой папа говорит: «Учись, сынок, понимать цвета. Пока у тебя есть ремесло в руках, ты будешь нужен людям, а значит, и люди будут нужны тебе», – насупясь и вытирая запачканным красками кулачком скатившуюся невольно от обиды слезу, сказал, с сожалением глядя на растоптанный рисунок, Ванечка.
«Как всё сбылось! – выплывая из тумана воспоминаний, пришёл к заключению об определённом периоде своей жизни когда-то Ваняшка, а ныне Иван Иванович. – Точка в точку сошлось».
Как наколдовали! Кто он? Жалкий служащий в институте, хотя и с научной степенью, иногда скрашивающий свободные минуты художническим промыслом потому, что иначе он жить не может.
Иначе от житейского однообразия и очевидной никчёмности бытия тоска вселенская может напрочь без остатка заесть. Его жизнь станет пустой и бесцветной, потеряет осмысленное разумное направление и смысл. А зачем жить, если не знаешь, для чего живёшь?
А кто нынче Витусь? Теперь, надо полагать, Виктор Андреевич Монгольский. Точно он не знал, кто теперь Виктор. Скорее всего, очень богатый человек со слугами, охраной, личными водителями. К чему он всегда стремился. Как он всегда говорил: «Дайте мне точку опоры – деньги, а уж с деньгами я переверну весь мир!»
Как он мечтал ещё мальчишкой, когда бегал в набегавших на берег морских волнах и собирал выброшенную волнами на песок мелочь, тускло поблёскивавшие в морской пене латунные и никелевые монетки. Интересно, перевернул он уже мир или ещё не успел? А если перевернул, то куда? Или во что? В каком мире он теперь живёт? В перевёрнутом или нормальном? Или, может, что-нибудь опять ему помешало? Как всегда!
Вот так-то! Постоянно ведь что-нибудь, какая-нибудь неучтённая мелочь, сущий, незамеченный вовремя пустяк вмешивается в наши долго вынашиваемые и втайне от всех лелеемые во сне и наяву планы; в их потрясающее великолепие и грандиозную, не описуемую обычными, банальными словами красоту, и – подумать только! – всё враз рушится и из-за какой-то неучтённой, непредвиденной из-за очевидной малости мелочи летит псу под хвост. Вся неописуемая обычными словами красота и грандиозность! И, надо же, псу под это дело! И так всегда! Всё как обычно, согласно никем до сих пор не опровергнутому, второму после закона всемирного притяжения, великому всемирному закону падающего бутерброда!
Так что перевернул он мир или нет – большой вопрос. Ещё не нашлось такого рычага, чтобы мир перевернуть. А деньги – весьма сомнительная точка опоры. Всего лишь фетиш с постоянно меняющейся ценностью. Жалкие талоны на пропитание для одних и источник могущества, силы и власти для других. Пока что на окаянных деньгах всё держится. Вся власть и могущество!
И, потом, кто знает, какую точку опоры выберут люди, когда они вдруг захотят перевернуть мир. Деньги всё-таки слишком примитивно и убого. И вообще ещё неизвестно, каким богам в дальнейшем люди будут молиться и какую систему ценностей выберут. Если прежнюю – деньги, то переворачивать мир не стоит.
Ничего нового и путного из такого переворота не получится. Нужны новые идеалы. Нужны новые моральные ценности. Вечных ценностей не бывает. А старые изрядно обветшали.
Ну а богатым Монгольский безусловно стал. Он так хотел этого. Так мечтал. Как никто!
Общеизвестно: деньги – созидающая сила общества и одновременно разобщающая сила общества. И деньги, и только деньги, разнесли их в разные стороны! Как щепки в половодье. И кто теперь скажет, кто из них теперь кто на самом деле в этом бешеном, меняющемся с калейдоскопической скоростью мире?
«А ведь шагали когда-то вместе по этому проспекту», – скользнул Иван Иванович взглядом по картине. Вместе заканчивали институт. Вместе работали. Вместе объездили полстраны.
Всегда были вместе. Но где-то он отстал. А может, не отстал, а шагнул дальше, чем следовало, чем было отпущено ему судьбой и его познаниями по профессии к другим, неожиданно возникшим перед ним горизонтам; к новым, не связанным с работой тайнам познания, в которых деньги, слава, личное преуспеяние не имели никакого значения.
Или и это было всего лишь очередным обманом, иллюзией, миражом, как и всё повсеместно есть не что иное, как иллюзия и благодатный, придающий всему смысл и значение, облагораживающий самообман в этом мире. Мы, признаться, только и живём, пока у нас есть эти иллюзии. С окончанием иллюзий жизнь теряет смысл.
Разумеется, нельзя окончательно утверждать, так это или нет. Определённо, конечно, он этого не знал и уверять кого – либо в этом не взялся бы. Однако случай ли помог или это что-то неведомое ему ранее всегда дремало в глубинах его сознания и лишь ждало какого-то толчка извне, возможно, стечения обстоятельств, заставивших по-новому взглянуть и на свою профессию, и на самого себя, и на своё пребывание, пусть и временное, в этом лучшем из миров. Найти новую идею, двигавшую им по жизни.
И кто знает, может, не так уж зряшно, понапрасну говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
В одной из последних экспедиций, улучив свободное время, взяв мольберт и прихватив ружьишко на случай встречи с волком или если сдуру белый друг медведь, что на архипелаге совсем не редкость, нежданно-негаданно поближе познакомиться припожалует (медведи, они любопытные), Иван Иванович по первопутку ушёл из расположения экспедиционного лагеря в окружающие сопки, в тундру поискать хороший сюжет.
Ничто, казалось, не предвещало неприятностей. Лагерь поисковиков скрылся за ближайшим косогором. Свежевыпавший снег карамельно пах и аппетитно хрустел под унтами. Небесные выси над тундрой источали хватающую за сердце, тающую голубизну и прозрачность и ласкали взгляд всеми оттенками бирюзы. Погода просто радовала: ни ветерка, ни малейшей ряби облаков.
И идти было недалеко: километров десять, от силы пятнадцать, если быстрым шагом – сущий пустяк для утренней прогулки здорового, сильного мужчины.
Там, в защищённом от ветра распадке, вырубленный из целой скалы, возвышался древний тотем – выполненное в незапамятные времена в камне изображение какого-то бога коренных жителей этой страны.
Какого, они и сами теперь толком не знали, но тем не менее свято чтили и всемерно почитали каменного истукана.
Так объяснял ему старый охотник из бывшего некогда первой столицей Новой Земли ненецкого поселения Малых Кармакул.
Охотник назвал себя Хилей Паковым и остался при экспедиции проводником. Он был уже слишком стар, чтобы гоняться за оленьим стадом, но хорошо умел готовить оленину, ловить рыбу в речках и, обычно молчаливый, слова зря не вытянешь, выпив, мог кое-что поведать о своём народе, его обычаях, откуда народ взялся и как попал на Новую Землю.
Он-то и показал Ивану Ивановичу в отдалённом урочище каменное изваяние.
На Большой земле, на материке, у ненецкого народа были другие тотемы. Там они поклонялись двухсаженному, семиликому деревянному тотему Вэсако, что в переводе означает «Старик», и деревянному же тотему Хэдако, что означает «Старуха».
А здесь, на архипелаге, они молились невесть откуда взявшемуся, поговаривали даже, что прилетевшему из созвездия Большой медведицы, откуда происходят родом и белые медведи, каменному колоссу. Однако Хиля имел более практичные убеждения и утверждал, что изваяние оставили ненцам люди, которые жили здесь, на этой земле, давно, задолго до ненецкого народа.
– Давно это было. Очень давно, однако. Никто не знает, что это были за люди. В нашем народе говорят, они пришли оттуда, откуда к нам приходит солнце, – высказался старый охотник. – Тогда лёд был сплошной от Кармакул до Большой земли и не таял, однако, даже днём, – пуская клубы дыма из своей самодельной, вытесанной для аромата из смолистого корневища карельской берёзы трубки, объяснял старый охотник, имея в виду полярный, длящийся в этих северных краях почти два месяца день. – И олени свободно ходили с Большой земли к нам на остров и обратно. Тогда и жили эти люди. Но однажды оленей стало мало, и они, те люди, ушли вслед за оленями туда, куда ушли кормиться олени. Они ушли, но оставили нам своих богов, – рассказывал Хиля, дымя трубкой, раскачиваясь на корточках и глядя на огонь костра. Он не мог без костра.
Как же иначе! На этой унылой, насквозь продутой стылыми ветрами земле, усеянной кое-где огромными, округлыми, обкатанными валунами – следами прошедших некогда древних ледников, и на которой, сколько можно было видеть, не росло ничего, кроме ягеля и вереска в укрытых от ветра низинах, огонь означал гораздо больше, чем любое другое божество.
Огонь означал жизнь и даровал надежду дожить до весны жуткой, угрюмой полярной ночью, когда небо над головой от края до края часто сияет и переливается холодным безумием пляшущих полярных огней, но обрадовать и согреть человека по-настоящему эти огни не могут.
Согреть человека может только огонь костра, тепло заваленного снегом до отверстия для дыма чума и надежда, что ему есть ещё на что надеяться, во что верить и для чего жить на этой такой холодной и бесприютной, не отличающейся излишним гостеприимством, насквозь навечно промороженной земле.
Двое мужчин сидели у костра, расположившись у основания возвышающегося над ними огромного, в несколько человеческих ростов, сделанного, возможно, ещё в бронзовый век, а может быть даже во времена неолита, каменного изваяния.
Они сошлись здесь, у огромной, грандиозной, поражающей воображение, возвышавшейся высоко в синем небе над ними каменной статуи непонятно чего и кому, отдалённо похожей на скульптурное изображение некоего устрашающего вида человеческого существа, как, бывает, сходятся представители двух различных временных эпох у неправедно забытого общего прошлого, и, наслаждаясь теплом огня и магическим влиянием языков пламени на сознание, пили огненную воду поочерёдно из одного, прихваченного из дежурки специально для такого случая, обычного гранёного стакана.
Божественный огонь распространился и тёк по их жилам, обжигал им рот, и они гасили обжигающее пламя, заедая его кусками рыбы, которую Хиля выловил в ближайшей речушке и коптил теперь в дыме костра, распотрошив и насадив толстые, красномясые рыбины на тонкие прутики.
Безбрежность ясного, без облаков, неба колыхалась над их головами, переливаясь от нежной бирюзы там, где солнце клонилось к горизонту, до густого синего цвета на восходе, и тундра, зеленея и цветя нехитрыми, еле заметными, скромными северными цветами, казалось, любовалась собой и, как в зеркало, гляделась в небо.
И где-то далеко, немыслимо далеко отсюда, были сборные домики экспедиции, ещё дальше – самая неизвестная в мире из никому неизвестных бывших столиц – Малые Карма-кулы, а уж огни современной цивилизации, её стремительный ритм и тяжёлая, всё сминающая поступь и вовсе как бы не существовали в этом эдемском саду. В окружающем мироздании царили тишина и полное умиротворение.
– Хорошо, однако! – одним махом хватнув добрячий стакан жидкого пламени и заедая его горячей, с костра, рыбой, обжигаясь, и морщась, и кривясь от несказанного блаженства, отчего узкие глаза на морщинистом лице старого охотника совсем закрылись, односложно высказался, почти по-кошачьи промурлыкал, наслаждаясь выпивкой и изысканной, какую ни в одном ресторане днём с огнём не сыскать, деликатесной, с жару с пылу закуской, Хиля.
Они употребили ещё по паре стаканов, затем Хиля выбрал самую большую рыбину и положил её на основание монумента, к ногам каменного колосса.
– Подарок. Чтобы Бог не обижался, – объяснил он и, опустившись на колени перед суровым ликом изваяния, как бы сев на задники унтов и сложив перед собой молитвенно руки, надолго замолчал.
Иван Иванович вынул из сумки фотоаппарат и, отойдя на несколько шагов, снял с нескольких ракурсов и Хилю, и его Бога, и чадящий чёрным дымом, угасающий костёр.
В эти минуты ему даже казалось, что он понимает безграничную любовь старого охотника к тундре и к такому же древнему, как сама тундра, Богу тундры. И не только понимает, но и восхищается.
Внуки Хили давно переселились в город, на Большую землю, где у них были семьи, благоустроенные квартиры, хорошая работа. Звали к себе и Хилю.
Но старый охотник не хотел к ним переезжать, как мог отказывался.
– Привык к тундре. Не смогу жить без неё. В городе, однако, людей много, машины шумят, воздух плохой, дышать нечем, – объяснял старик, и Иван Иванович понимал его.
«И продукты суррогатные, и люди, погрязшие в беспросветной глупости, животном скотстве и ничем не сдерживаемой алчности», – мог бы добавить он, но постарался благоразумно воздержаться от комментариев к образу жизни, складу ума и легкомысленным суждениям о превратностях жизни своих соплеменников.
Фотографии же, когда они вернулись обратно, получились прямо на заглядение – отменные.
– Хоть в журнал посылай, – высказался, разглядывая снимки Виктор Монгольский. – Такая фактура: огромное каменное божество и молящийся перед ним, стоящий на коленях старый абориген.
Всё натурально: и каменная стена ущелья на фоне неба, и каменный колосс, и валяющиеся вокруг обломки скал. Таких снимков нигде больше не сделаешь. Этот снимок, если его потрудиться разослать, может обойти все журналы мира.
Сам он пустых, по его мнению, переходов не любил, предпочитая экзотике дальних путешествий работу над документализацией и детальной отработкой научных статей.
А по возвращении в Белокаменную, если и позволял себе кое-какие нестандартные развлечения, то самым любимым из них была потаённая от всех страстишка перекинуться в покер, сыграть партию-другую с каким-нибудь записным, общепризнанным картёжным маэстро по мелочи, как это принято среди умных, интеллигентных людей, на пару-другую косых зелёными.
В этом он был весь, ещё с давних детских лет, с далёких южных пляжей, на которых он оттачивал до совершенства своё незаурядное мастерство картёжного игрока и блестящего психоаналитика.
Такая уж выпала им планида. И с этим ничего нельзя было поделать, ни что-либо изменить, ни перебросить карты судьбы по-другому.
Близкую этому случаю по духу сентенцию высказал как-то в сердцах один умный грек, когда его жена стала чрезмерно пенять ему, что вот она, как проклятая, сидит постоянно дома с детями, в то время как он без конца пропадает на пиршествах и всяческих отмечаловах: «Каждому своё, моя дорогая! Богу – богово, а кесарю – кесарево!» Возможно, в каком-то смысле похожая история была и с друзьями.
Мягкий, слабохарактерный Иван Иванович больше интересовался красками и их сочетанием, а волевой, самолюбивый, упорный в достижении цели Виктор с младых лет предпочитал реальный конечный результат и лучше всего в твёрдо осязаемых на ощупь и ласкающих взгляд и тешащих весомой значимостью душу наличных. И, обдирая по мелочи дешёвых пляжных мошенников, уже тогда, в босоногом детстве, получал несказанное эстетическое наслаждение от торжества ума над подлостью и хитростью, умея заранее предугадать возможный карточный расклад.
И, став учёным, защитив между прочих дел – семейных, занятий спортом, кабацких пирушек, увлечений легкомысленными и легко доступными красотками – как бы от скуки докторскую степень, так и остался в чём-то ребёнком, не отказывая себе любимому в давних детских удовольствиях: надрать от души какого-нибудь корифея в картёжном промысле, соединяя приятное с полезным, чем и славен был в научном мире и среди профессиональных игроков, получив, возможно из-за своей фамилии, широко известную в столице кличку – Монгол.
Чему, впрочем, полностью соответствовал своей восточной красотой и восточной же беспощадностью к противникам за карточным столом.
Ещё говаривали, слух такой про Монгола шёл, что в случае чего, когда в картах возникали ненормированные, нештатные ситуации, не было Монголу равных в бульварном, бесшабашном махалове.
А пару раз, когда спор пришлось решать на ножах, он каким-то изощрённым, зверским приёмом сумел направить финорез противника в его же руке прямо в грудь несчастному, и хорошо, если после этого жуткого приёма тому каким-то невероятным чудом удалось выжить.
Ловок и силён был Монгол. Сам он ходил без оружия, но горе было тому, кто обнажал против Витьки клинок. В таких случаях Монгол не знал пощады к противнику.
И уж если нож врага, недавнего партнёра по партии, по воле судьбы или злого рока, оказывался в груди любителя поножовщины, значит, такова была воля всевышнего. Монгол тут был совершенно ни при чём. Кому после этого и на что жаловаться? Картёжный расклад не всегда решается за ломберным столом.
Впрочем, дальнейшее Витьку обычно не интересовало. Он был достаточно интеллигентен, чтобы уметь поддержать разговор в любой предлагаемой недавним визави форме.
А если недавний собеседник не умел обращаться с оружием, так известно: не умеючи ведь недолго и порезаться, и незачем было его вынимать. Сидел бы лучше дома и ел вареники. Со сметаной.
И, получив полное удовольствие как от выигрыша, так и от того, как и каким образом, в хорошем мужском, чисто джельтменском стиле он отстоял этот ворох выигранных им бумажек, Монгол в наилучшем расположении духа покидал ристалище, предоставляя поверженному им противнику заботиться далее о себе по силе возможностей самому, молвя: «Что, любезный, хотел, то и получил. Неча рыпаться, коли Бог умом не сподобил!»
Так что репутация у Монгола в определённых кругах была ещё та.
Слабонервным не рекомендовали с ним связываться. Что совсем не мешало Монгольскому числиться в институте во всеобщих любимцах, особенно среди женщин. Абсолютно всех, поголовно: и красивых, с неуёмными и никогда не реализуемыми претензиями, и не очень.
– Витенька! – с придыханием, возведя вверх очи, как наши женщины это в совершенстве умеют, говорили они. И не просто говорили, а произносили это имя благоговейно, с трепетом в голосе, впадая в полный экстаз. – Витенька – это такой душечка! Золотой человек! Если бы все были такими! – с нотками сожаления в голосе, видимо, не слишком по-доброму вспоминая своих мужей, и не только мужей, говорили они.
И их несложно было понять. Монгол всегда был хорошо одет, великолепно держался, оказывал им всяческие знаки внимания, некоторым дарил дорогие духи на корпоративных междусобойчиках, и они, облагодетельствованные вниманием вальяжного красавца, что называется, души в нём не чаяли.
Попробовал бы им кто-нибудь возразить! О другой стороне Витькиной натуры мало кто, кроме Ивана Ивановича, что-либо знал. И то не всё.
То есть он понимал, что не всё так просто в картёжных раскладах. Многое зависит от того, какая карта выпадет и как на стол ляжет. И как фарт пойдёт. И какой противник сидит напротив: полный лох или слегка в уме и количество тузов в колоде знает. Но никогда бы Иван Иванович не подумал бы, что Монгол способен на крайности. Ну, если так, по мелочи, лёгкий мордобой. Не больше. Это за ним водилось.
Тут Витька был в теме. Это была его стихия, в которой он обретался как рыба в воде. Любил помахать с наслаждением, в охотку. Он всё любил. А о своих подвигах Монгол сильно и не распространялся. Скромный был. Не любил излишне себя афишировать. Есть такие вещи, которые даже с друзьями не обсуждают. Так что Иван Иванович о своём друге особо ничего не знал.
Однажды только, появившись утром, как всегда с опозданием, на работе, устроившись уютно в своём кресле за рабочим столом и шурша разложенными на столе бумагами, он как бы между прочим, не форсируя особо звук и содержание, тихо обронил:
– Прибил я, кажется, вчера одного приятеля. Теперь и не знаю, жив ли он. Правда, с его стороны там секунданты были. Так что, на мой взгляд, это их заботы, что там с ним и как.
Нечто похожее Иван Иванович слышал и раньше и поэтому не стал выяснять подробности.
Прибил так прибил! Эка важность! Было о чём говорить! Такое и раньше не так уж редко случалось. Некуда Монголу было здоровье девать. Любил во всей красе себя показать. И раньше всё как-то обходилось по-тихому.
Но как-то, в конце дня, порядком угорев от плывущего над столицей зноя и мелких, изнурительных, доставших до невозможности хлопот на работе, Иван Иванович решил «охладиться» в ближайшем кабаке на Никольской, бывшей некогда началом Владимирского каторжного тракта, плавной дугой выходившей к Красной площади, прямо к очертаниям возвышавшейся посреди улицы на другой стороне площади Никольской башне.
Ничто не предвещало неприятностей. Иван Иванович любил здесь отдыхать. Этот вид наводил на некоторые смутные, неопределённые мысли. И здесь было красиво. И, кроме того, с этим кабаком были связаны некоторые давние, полузабытые воспоминания.
Когда-то неподалёку отсюда располагалась известная на всю столицу гостиница и ресторан «Славянский базар». На стенах ресторана были развешаны портреты известных писателей с их автографами, деятелей искусства, просто известных людей.
Здесь звучала хорошая музыка, бывало, пели известные на всю страну популярные певцы. В полусумраке сцены развевались в такт музыке платья именитых цыганок, звучали звонкие, высокие голоса задорных цыганских исполнителей.
Он, тогда молодой, любил иногда здесь бывать, разумеется, когда в наличии деньги были.
Однажды за его стол подсела молодая цыганка из ансамбля. Она была вызывающе красива, умела эффектно, театрально подать себя.
– Позолоти ручку, касатик! – обратилась она к нему. – Я всю правду тебе скажу о том, что было, что есть, что будет, чем сердце успокоится, – протянув над столом руку с раскрытой ладошкой, сказала цыганка. Её чёрные, как дождливая, ненастная ночь, глаза смотрели на Ивана Ивановича испытующе.
– А много ли надо? – растерявшись от неожиданности, спросил он.
– Сколько не жалко, дарагой, – ответила она. – Дашь мало – гаданье не сбудется. Дашь много – самому ничего не останется. Что тогда без денег завтра делать будешь? Ты ведь не богач. Я вижу! На что пить-есть станешь? Как без денег красивых женщин хороводить, завлекать начнёшь? – с улыбкой спросила она. – Дай бедной цыганке, сколько не жалко. Столько, чтоб всем хорошо было. Чтоб и тебе не в наклад, и нам, цыганам, не в обиду.
Зал затих. Иван Иванович не знал, как поступить. Вряд ли танцовщице ансамбля нужны были деньги. Он потянулся к боковому карману костюма, вынул сколько там было денег и положил в протянутую к нему над столом холёную ладонь танцовщицы.
И сразу, как будто только этого и ждал оркестр, громогласно грянула музыка и речитатив на высокой ноте завёл заздравную. Заныла волынка, ударили в перебор струны гитары.
– Ай-яй-яй-яй-а-а-а, наш любимый, дорогой, поздравляем, поздравляем, наш любимый, золотой! – И закружились, размахивая и вздымая подолы платьев, вокруг Ивана Ивановича цыганки-танцовщицы из ансамбля, подхватили его под руки, завертели, закружили, потащили на сцену.
– Ай-ляй-ляй-ляй-ля! Ай-ляй-ляй-ля, – выводил высокий, на летящих верхних нотах голос, и цыганка вертелась вокруг него и заставляла его танцевать, и весь зал словно сошёл с ума.
Все повскакивали из-за столов и пустились в пляс. И все вертелись, и выделывали ногами чёрт те знает что, и кружились, и всем было хорошо и весело. На какое-то время все забыли о своих заботах и проблемах, пока в зале царило всеобщее беззаботное веселье.
– Меня зовут Рада, – убегая вместе с остальными цыганами за кулисы и одарив его жарким взглядом, проговорила она. – Найди меня! Я всё про всё тебе расскажу. Никто, кроме меня, не нагадает тебе лучше меня. Приходи! У меня рука лёгкая. Как нагадаю, так и жить будешь. И ни о чём, что бы потом с тобой ни случилось, жалеть не будешь.
Ансамбль как неожиданно появился, так же неожиданно исчез. Спустя неделю он нашёл Раду. И они пили такое сладкое-пресладкое вино любви, горькое крымское вино «Красный камень», игравшее золотистыми солнечными искрами юга в их бокалах в недорогих кафешках на Ордынке.
Камень этот знаменит и многим известен. Он расположен в густых, необычайно красивых, светлых, пронизанных солнцем, лесных горах высоко над сказочной, волшебной Ялтой.
Его хорошо видно с набережной, от морпорта и из бывшего некогда пригородом Ялты небольшого селения – Дерекоя, или ещё этот пригород горожане называют Ущельным; по нему после осенних и весенних ливней весело бежит, бурля и перепрыгивая с камня на камень, одноимённая речка Дерекойка, берущая начало из тёмного, мрачного горного ущелья, недалеко от которого, почти рядом, и начинается селение Дерекой.
В Ялте есть ещё одна речка, берущая начало из горного водопада Учан-су, бурного в дожди и хорошо видного из Ялты, впадающая в море на набережной, но название вино получило от Красного камня над Ущельным.
И ему приятно было пить вино, напоминавшее о юге, о чудесном, светлом, солнечном городе, о море, о селении, в котором он вырос и любил бывать, гулять по его улицам, наслаждаясь видом таинственных, как сама вечность, обступивших со всех сторон селение гор.
К камню вела извилистая лесная, горная дорога. Немного выше камня лес заканчивался и дорога выходила на плоское горное плато, на котором на краю обрыва стояла одиноко, в полном безлюдьи, белая высокая ротонда.
И он надеялся, что когда-нибудь, если повезёт, в конце пути, его жизнь выйдет на такое вот ровное плато с беседкой и он, сидя на краю пропасти в такой вот беседке, сможет через белые колонны оглянуться назад, на извилистую, сложную, не всегда правильную и праведную, со множеством глупых ошибок, лесную дорогу, по которой он так долго шёл через горы, крутыми опасными путями к этой беседке на краю пропасти.
И там наконец, возможно, в его душе воцарится спокойствие и умиротворение, в конце дороги, на краю страшной, жуткой бездны, откуда возврата нет, в такой, как на этом пустынном, безлюдном плоскогорье, пронизанной ясным, прозрачным светом белой ротонде.
А она раскладывала ему пасьянс на картах и говорила непонятные слова про долю и про судьбу.
– Доля твоя такая, – говорила она, – что никак тебе нельзя будет, даже если бы ты очень захотел, изменить свою судьбу. Если изменишь судьбу, которую выбрал однажды, станешь несчастным, – объясняла она, раскладывая пасьянс.
А ему было всё равно, какая ему выпала доля и какая будет судьба. Он целовал её в губы. Такая сегодня была его доля, а какая будет судьба, он не интересовался. Что будет, то и будет! Чего раньше времени без меры попусту волноваться?
И ещё он думал между поцелуями, что карты безбожно врут и уж что-что, а свою судьбу он выбрал давно, ещё в детстве. И менять её не собирался. Другой судьбы ему было не надо.
А она всё смеялась.
– Ну погоди! – говорила она. – Люди кругом! Дай догадаю! – И, разложив на столе между рюмками карты, вдруг вспыхивала огнём и часто говорила:
– Сегодня карты не хотят говорить правды. Вот завтра… – и смешивала картёжный расклад. И они отправлялись к ней, в гостиничный номер.
И потом, вернувшись домой, он никак не мог дождаться завтра. А через месяц он ушёл в экспедицию. А вернувшись через полгода, он узнал, что «Славянский базар» сгорел, цыганский ансамбль распался, и никто не мог ему обяснить, где теперь искать Раду.
Через год он нашёл её в загородном ресторане на горе Ахун в Сочи. На гору вёл изнурительный винтовой серпантин, на котором с большим трудом могли разойтись две машины, что не мешало местным абрекам нестись стремглав сверху вниз, гарцуя на своих дорогих авто, как на рысистых скакунах, не снижая скорости. Кто хочет остаться живым – посторонится! Или будет раздавлен!
И стадо высокопородных авто, заполонивших площадь на вершине горы перед рестораном, без слов объясняло несведущим элитную значимость этого высокогорного заведения.
Там он и нашёл её, чтобы тут же потерять. Ансамбль был уже другой. Рядом с ней выплясывал худощавый, как цыганская плеть, прогонистый цыган в алой, на выпуск рубашке, перепоясанной цветастым кушаком. И она вертелась вокруг цыгана, как когда-то, не так уж и давно, вертелась вокруг него. Такие иногда бывают неожиданные открытия. Доверяй после этого этим сотканным полностью из наших фантазий и обманного флёра предполагаемых надежд и ожиданий, божественным, непредсказуемым и непонятным созданиям – женщинам!
И он сидел в полутёмном зале и пил горькую. А потом, выйдя покурить, он увидел, как она с цыганом села в сияющий никелем белый «Мерседес» и машина плавно унесла их в темную, волнующе ласковую, восторженную негу и томительное сладострастие южной ночи.
В пылающий внизу, под горой, огнями, полный соблазнов и веселья, никогда не скучающий город. В другую, незнакомую Ивану Ивановичу жизнь.
Перед тем как сесть в машину, она оглянулась. Их взгляды встретились. Ему показалось, что Рада его узнала и на минуту задержалась у открытой дверцы сияющего ландо, но из машины раздался требовательный окрик, и, то ли поздоровавшись, то ли как-то жалко кивнув ему головой, Рада нырнула в тёмное чрево автомобиля.
Машина тронулась с места и медленно, завораживающе блестя белыми лакированными боками и никелем, уплыла, исчезла в волнующей, мерцаюшей темноте. Больше он её никогда не видел. Вернее, однажды он встретил её при совершенно необычных обстоятельствах. Или так ему только показалось?
Он и по сей день, вспоминая тот случай, не мог правильно рассудить, настоящая это была встреча или всё это ему только привиделось. Померещилось в воспалённом необычной обстановкой и разрежённой северной, бедной кислородом полярной атмосферой мозгу.
Поэтому он изредка заглядывал в этот кабачок, расположенный почти на том самом месте на Никольской, где когда-то находился известный на всю столицу ресторан «Славянский базар».
Давно уже не было здесь ресторана. И Рады давно не было. Наверно, выплясывала где-то со своим цыганом. А может, с кем-то другим.
И жизнь уже изменилась и нисколько не походила на прежнюю, и люди. Всё кругом неузнаваемо изменилось! А он иногда всё еще заглядывал сюда по привычке, как будто эта улица возвращала ему свежесть и аромат молодости, воспоминания о жарких объятиях цыганки Рады.
Он поставил машину на свободное место в бесконечном ряду автомобилей на улице и сел на летней веранде, наслаждаясь открывшейся взгляду кремлёвской перспективой.
Откуда-то отсюда, от этой площади, от рубиновых звёзд над Кремлём начиналась Россия, противоречивая и не всегда понятная, но неизменно трогательная, бередящая душу и вызывающая восторг, любовь и трепетное восхищение.
– Вам как обычно? – спросил подойдя хорошо знавший Ивана Ивановича официант.
– Да, как обычно, пожалуйста! – ответил он и, когда официант принёс заказ, поблагодарил его, а потом, большими, жадными глотками поглощая из бокала пенящийся прохладный напиток, думал, что вот уже и вечер и самое время прикинуть, как его провести, куда пойти отдохнуть после доставшего до печёнок душного, суетливого дня.
Но что-то, как он неожиданно почувствовал, уже пошло не так, как обычно. Внутри него, помимо его воли, непроизвольно возникло нудное, беспокоящее, неприятное напряжение.
Он поднял голову и огляделся. Двое мужчин стояли у входа на веранду и наблюдали за ним. Один был толстый, довольно бесформенный, а второй – невысокий, мозглявый, в чём душа держится.
Оба, несмотря на жару, были «при параде». Они были в довольно мятых летних, светлых костюмах, при галстуках, и держались как-то, несмотря на банальный вид, вполне официально.
– С вашего позволения, ничего, если мы вас слегка побеспокоим? – спросил мордатый, без разрешения усаживаясь на свободное место за столом.
У него был густо заплывший фиолетовым цветом глаз, и говорил он так, как будто ему тяжело было открывать рот и он делал это через силу, медленно, как корова, жующая жвачку, а у второго, хлипкого, разнесло щёку с бордово-малиновым оттенком и перекосило рот, но все-таки они еще хоть и с трудом, могли самостоятельно говорить.
– Всего несколько минут, – болезненно кривясь, шепелявя и так же нагло занимая другой стул, заявил хлипкий. – Не откажите нам в любезности!
У нас к вам есть несколько слов, как к другу человека, – он страдальчески схватился за щёку, – известного нам довольно хорошо, но нельзя сказать, что только с одной, лучшей стороны. – Кого же это? – внутренне потешаясь, но стараясь не подать вида, спросил Иван Иванович. – Эк вам не повезло, болезные! – посочувствовал он приятелям. – Вы как будто под асфальтный каток попали. Но вам, мне кажется, ещё и крупно повезло. Вам всё же удалось из-под этого катка вылезти.
– Каток, каток! Вам хорошо известен этот каток!
– Если это тот каток, которого я знаю, можно считать, что вы ещё очень дёшево отделались. Всё могло кончиться гораздо хуже. Тормоза у этого катка плохие. Часто отказывают. Так тот каток?
– Тот! Тот! Нам сказали, что вам знаком человек, в нашей среде мы называем его кликухой Монгол.
– Положим! – кивнул, поразмыслив, Иван Иванович. – Я что-то слышал об этом человеке. Что следует из этого?
– Нам известно, – сопя и отдуваясь, продолжил толстый, – что это ваш друг. Так вот, история простая: ваш друг тяжело ранил нашего братана. Братан сейчас в больнице. В реанимации. И хорошо, если выживет. Счёт мы предъявлять не будем. Нам не с руки. Мы пришли сюда не за этим. Следует признать, они оба слегка погорячились. Произошла беда. Счёт ему предъявит братуха. Это его кровное дело. Если выживет. Если выйдет из лечебки.
Но мы вынуждены заявить, передайте вашему другану, что даже по нашим законам он был слишком жесток. Можно же было разобраться как-то по-другому. По-человечески!
– А что бы вам не передать это ему самому? Я всё-таки в ваших делах ничего не смыслю, – осведомился, отставляя в сторону бокал и размышляя, как ему быть дальше, Иван Иванович.
Добавить приятелям по фингалу или немного подождать? Подсевшая беспардонно публика определённо ему не нравилась.
И вкус коктейля с появлением этих людей почему-то вдруг испортился, и контуры Никольской башни на другой стороне Красной площади слегка поплыли и почему-то затуманились.
– Но вы же его друг! Вы же хорошо его знаете! – вклинился в разговор хлипкий.
– Выходит, вы знаете его гораздо лучше, – по возможности сдержанно возразил друганам Иван Иванович.
– Можно и так сказать, – мрачно перекривясь, согласился мозглявый. – Смотря, конечно, откуда смотреть. Но только нам с вами лучше попробовать найти общий язык. Возможно, нам ещё придётся встретиться. Это в ваших интересах. И в наших. Поэтому, чтобы не возникло новых, нежелательных эксцессов, товарищ у вас шибко нервный, может много чего, если не в настроении, из мебели поломать, и не только из мебели, как вы изволите видеть, – болезненно поморщась, показал он на щеку, – мы решили действовать через вас. Подумайте, взвесьте всё как следует. Поставьте в известность своего друга, – морщась, высказался хлипкий, – мы признаём его правоту. Но в случае повторения, – хлипкий многозначительно щёлкнул пальцами, – сходняк решил. Нас прислали сказать, вы понимаете, что будет дальше. Мы всё сказали. Нам было приятно с вами познакомиться. Засим позвольте откланяться.
Они поднялись и исчезли так же неожиданно, как и появились. Как их, бедолажных, и не было. На улице Никольской опять воцарились мир и спокойствие.
Он опять мог предаваться своим воспоминаниям и затуманившаяся было Никольская башня снова засияла в конце улицы, за площадью, как ей и полагалось, гордо и величаво.
– Ты встретился с братками? С пухлым и мелким? – рассмеялся Виктор, когда Иван Иванович рассказал ему о встрече. – Пришли, сволочи, пожаловаться. Мало я им навалял. Надо было посерьёзней с ними побеседовать. Чтобы не приходили этим дурачкам в голову глупые мысли. Посуди сам, что мне при таком раскладе оставалось делать? – удивился он, когда Иван Иванович в деталях передал ему разговор с незнакомцами.
– Подумать только, что деньги с людьми делают! Доводят некоторых до исступления. До полной потери сознания. Вот и они не захотели честно выигрыш отдавать. Мало того, бросились на меня с кулаками! Этих двоих я быстро успокоил, а их братан, бычара, попёр на меня без оглядки. Здоровенный чёрт. Куда здоровей меня. Я таких и не видел. Глупый катала. Размахался по-дурному ножичком. Поверишь, вопрос решался быстро и до невероятности просто: или он, или я! Секундное дело. Нельзя было терять ни мгновения. Ты же знаешь, как всё это бывает. Я почему-то решил, что лучше пусть будет он. Пришлось пойти на вынужденные меры, – объяснил друг, но поверженного противника в больнице отыскал, оплатил все расходы по излечению, предложил мировую и, вернувшись, сказал Ивану Ивановичу:
– Я всё уладил. Можешь не переживать.
– А не мог бы ты перестать играть в эти опасные игры? – спросил Иван Иванович. – Мы всё-таки интеллигенты. Не дело интеллигентам с такими ничтожными людьми связываться. У них другой уровень мышления, другие, отличные от наших, допустимые нормы добра и зла.
– Мог бы! Очень даже мог бы. Но где же ещё смогу я найти такой драйв? И в карты поиграть. И подраться с превосходящим силами противником. И пару-другую приёмов запрещённых, костоломных для проверки действенности провести. Мне без азарта и страстей жизнь не в жизнь! – ответил Друг.
В этом он был весь, как есть. Драйв, кайф картёжной интриги, холодный расчёт, а при необходимости – отнюдь не исключалась немедленная демонстрация физического преимущества, в этом Виктор находил после науки весомые жизненные приоритеты. И Иван Иванович, зная, что любые дальнейшие разговоры бесполезны, больше не возвращался к этой теме.
А сам Иван Иванович – сбылось давнее, высказанное ненароком Монголом в детстве, случайное, по настроению, не более чем ситуативное предсказание – всему на свете предпочитал эфемерную и ненадёжную художническую стезю и, защитив, опять же с помощью Виктора, с большим трудом, кое-как кандидатскую по специальности, всё равно не расставался с «путеводным», как он его называл, по жизни мольбертом.
Так случается иногда, плохо это или хорошо, кто знает, что привязанности и наклонности детских лет, мечты юности, остаются с нами в нашей взрослой жизни, украшая и наполняя её смыслом, и содержанием, и радостью созидания до конца наших дней.
Вот и бежал Иван Иванович тем ранним осенним утром скорым торопливым шагом, вдыхая разгорячённо обжигающий морозный воздух по первой пороше, с мольбертом на ремне через плечо и лёгким охотничьим ружьишком в руках к каменному, забытому в веках в угрюмой, холодной до жути арктической пустыне Богу.
Надо было торопиться. Ох как надо было торопиться. Короток об эту поруосенний полярный день. И неверно быстро меняющееся северное освещение.
А ему так хотелось кистью передать то, что не могла передать любая, даже очень хорошая фотография.
Хилю он решил не беспокоить. Стар уже охотник для таких пробежек. А Виктор Монгольский, неизменный баловень судьбы и женщин, такими вещами не интересовался.
В его глазах никакие, даже очень старинные, артефакты не имели совершенно никакого практического смысла. Сухой прагматик. Человек дела!
Его нельзя было заставить и шагу ступить ради чего-нибудь, что не имело реальной, практической выгоды. Делать за здорово живёшь, за так, задаром что-то, что потом не шуршало.
Как-то в Монгольском непонятным образом уживались в одном флаконе и стремление к познанию нового, и чисто хищнические интересы.
С одной стороны, он был учёным, и довольно в научном мире уважаемым, а с другой стороны – в нём одновременно весьма благополучно, не мешая друг другу, уживались задатки мота, кутилы и бесшабашного игрока в карты.
Накануне вечером Иван Иванович предложил Виктору сбегать вдвоём к изваянию.
– Дело пустяковое. Это недалеко. Километров двадцать всего-то! – уговаривал он друга. – Там такая энергетика! Представь себе огромное каменное изваяние потрясающих, жутких размеров в глубоком ущелье, с обрывистыми, как ножом обрезанными, стенами. Рядом с этим жутким, пугающим колоссом что-то такое тебя охватывает первобытное, мистическое. Возле каменного изваяния Бога тундры забываешь, в каком веке живёшь и в какой эпохе. Цивилизация, вся дешёвая накипь современности с тебя слетает как ненужная, совершенно излишняя для нормальной жизни шелуха. Этот Бог особенный. Поверь, рядом с Богом многое, если не всё, становится удивительно простым и доступным сознанию.
– Э-э-э! Двадцать километров туда, а потом ещё двадцать обратно, это что ж получается? Не много ли суеты? И ради чего? Просвети, пожалуйста! Ради замшелого, покрытого плесенью древнего валуна грандиозных размеров, свалившегося в пропасть неизвестно откуда? Метеорита, прилетевшего из космоса, гигантского каменного чудища, которому благодарные туземцы придали человеческий облик и назвали своим Богом. И заодно решили, что они тоже из космоса. Пришельцы якобы откуда-нибудь с созвездия Гончих псов или с Полярной звезды. Теперь это модно среди некоторых народностей – канать под пришельцев. И даже выгодно. Глядишь, может кто и поверит.
Некоторые из аборигенов, кто похитрей, рассказывают, наверно, особенно доверчивым любителям экзотики, сидя в дымном, насквозь прокопчённом чуме, что ось вращения Земли на Полярную звезду направлена. Вот, мол, по этой оси они и спустились на Землю, на архипелаг. Прямо в самое что ни на есть богатое птицей, рыбой и диким зверьём место. Здесь и ружья не нужно. С одной палкой можно на скалах за неделю птицы на всю зиму наколотить. Богатый живностью архипелаг. Тут тебе и дикие гуси, и олени, и медведи, и моржи на побережье. И всего вдоволь! Бери сколько сможешь! Сколько душа пожелает! Райское место! Земля обетованная! Климат плохой, нам непривычный, а им в самый раз и насчёт еды – всего валом. И солнце всходит здесь, над этой негостеприимной землёй совсем не так, как везде, по расписанию, а по настроению: когда ему, его всесильному и всемогущему сиятельному сиятельству, вздумается воссиять над этими бесприютными горами и долинами, осветить после долгого отсутствия этот мрачный, угрюмый, до безумия холодный мир.
Представь, зимой везде на их Земле, за Полярным кругом, темным-темно. Почти два месяца всюду непроглядная полярная ночь, а здесь, над Новой Землёй, встаёт Солнце! Включаешь мозги? Подумай! Глухой, тёмной, полярной ночью – и вдруг Солнце! Почему ненцы и назвали Новую Землю Божественной Землёй. Что на их языке, на языке ненцев, звучит как Норо я – Божественная! Что там ещё этот древний тунгус Хиля Паков по пьяни тебе наплёл? Вы ведь друзья не разлей вода. Откуда взялся этот Бог? Откуда они? И ты ему поверил? Ты же всему, что тебе говорят, веришь! – вовсю потешался над предложением Ивана Ивановича Монгольский.
– Да нет! Не тунгус он. Обычный ненец. С материка. И представления о Боге и своём народе у него самые обычные, – возразил Иван Иванович Монгольскому.
– Бог достался им от людей, от племени, обитавшего здесь до них, может, в каменном веке, в отдалённые времена. В общем, неведомо каким чудом, из далёкого прошлого. Они его чтут и всемерно поклоняются ему. И нам отнюдь не худо было бы почтить вниманием это изваяние. Ты же видел фотографии. Это что-то необычайное! Невообразимое! Грандиозное! Фантастическое! Непостижимое уму! Ничуть не хуже египетских пирамид. Или скульптур фараонов в Гизе. И не менее древнее. Может и более. Возможно, даже более древнее, чем сфинкс, стерегущий в африканской пустыне вход в долину фараонов, – убеждал Иван Иванович Монгольского. – Как оно, это божество, уцелело до сих пор, вряд ли мы когда узнаем. Так что нам сходить туда, к Богу, надо. Поинтересоваться. И с познавательной стороны, и с чисто человеческой, эмоциональной. Случай необычный. Из ряда вон. Согласись, не каждый день нам такие экзотические, пришедшие из веков, а может тысячелетий, древние раритеты попадаются.
– Ну с Богом, пожалуй, всё ясно, – ответил Монгольский. – Каменный хребет располагался на глиняном плывуне. Землетрясением его разломало на части. Отсюда обрывистые, как ножом обрезанные, стены в долине. Таких разломов много в Крыму, возле бухты Ласпи, когда часть горы отламывается и отплывает от основного скального образования. Здесь один из обломков остался на плывуне посредине. Вот из него некогда чьи-то умелые руки и сделали Бога. Таких богов много на свете. На Украине, в божественном, обласканным солнцем Крыму. В Индии и Америке. В Африке и Китае. Везде! Повсюду каменных истуканов видимо-невидимо. На небольшом острове Пасха около восьмисот штук. Тебе, как художнику, везде есть где разгуляться. А мне, дорогой друг, надо работать. Время дорого. Новые идеи насчёт образования вулканических кальдер появились. Надо успеть написать, – кивая на стол с листами бумаги, отказывался Виктор. – Боюсь, в институте текучка заест. Не до этого будет. И тебе я бы настоятельно советовал заняться делом, а не носиться по горам с мольбертом. Старый дуралей! Вернёмся в институт, с нас не картины твои спросят, а результаты горных разработок. Когда ты уже умом хоть немного обзаведёшься? Смотри! Добегаешься! Как бы потом жалеть не пришлось! Оргвыводы могут быть с далеко идущими последствиями.
Разумеется, Иван Иванович всё это понимал и признавал справедливость слов друга, но и отказаться от небольшой пробежки просто так не мог.
– Я с тобой полностью согласен и насчёт работы, и, быть может, даже насчёт ума и всего остального, – пытался убедить друга Иван Иванович, – но там ты в кои веки увидишь что-то настоящее, первозданное, а не суррогаты, которые нынешние умельцы в живописи и скульптуре в изобилии выдают за современность. А для меня, пойми, это как глоток свежего воздуха, как очищение, как омовение холодной ключевой водой. На острове Пасха стоят просто каменные истуканы. Никто не знает, что это такое и зачем. И в других местах не лучше! – продолжал уговаривать приятеля Иван Иванович. – А здесь каменный Бог. Самый настоящий Бог тундры. Разницу понимаешь? Ничего подобного, как бы нам ни хотелось, мы больше нигде не увидим.
– А иди ты куда подальше со своим Богом, а заодно и вместе со всем первозданным, – начал ругаться последними словами Виктор. – Может, тебе что привиделось? Откуда здесь, в этих гиблых местах, взяться Богу тундры?
Здесь и людей-το нигде нет. Выпили вы лишнего с Хилей Паковым, вот и явился вам по пьяни Бог, – начал издевательски иронизировать над другом Монгольский. Ему очень не хотелось отпускать Ивана Ивановича одного в опасную дорогу.
– Я же тебе фотографии показывал! – стал убеждать Монгольского Иван Иванович.
– Фотографии отличные, разговора нет, но откуда мне знать, что там снято на самом деле? Почему я должен поверить тебе, что это Бог? – упирался Монгольский. – Займись лучше работой. Дел пропасть, а ты с Богом как с писаной торбой носишься. Возьмись за дело, дурь и пройдёт, – посмеивался друг. – Где бы мы ни были, ты всегда что-нибудь необычное находишь. Тебе всегда надо куда-то идти, что-то рисовать, хорошо хоть в этот раз недалеко, всего двадцать километров, – с издёвкой в голосе произнёс Виктор.
Они долго препирались. И безрезультатно.
– Ладненько! – устав ругаться, уступил наконец он Иван Ивановичу. – Мне твои миражи ни к чему, а ты сходи, коли такая блажь нашла, прогуляйся, проветрись. Нарисуй. Отобрази что-нибудь этакое, что нам, сирым и убогим, простым людям, без вас, художников, во веки веков не узреть, – издевательски произнёс он. – Потом гордиться будешь, что ты не такой, как мы, что тебе доступно что-то такое, что в наших убогих, тухлых, прозаических, пропитанных насквозь целесообразной практичностью мозгах как бы никогда и не ночевало. Кропал бы ты лучше потихоньку научные труды. Глядишь, быстрее бы в люди вылез.
– А мне это вроде как-то и ни к чему – в люди вылазить. Мне и так хорошо, – отвечал, собираясь в дорогу, Иван Иванович. – Среди людей, для тех, кто меня знает, моего круга знакомых, я известен такой, какой я есть. А пустопорожние понты мне ни к чему. Мне и без никчёмных понтов и шапкозакидательства хорошо живётся и дутой славы не надо.
Вот и пришлось ему по холмам, по взгоркам и косогорам вышагивать одному. Можно, конечно, было для прогулки взять вездеход и прокатиться с комфортом, в тепле и уюте. Но в низинах, по буеракам и болотинам, тяжёлая машина могла бы и не пройти. За милую душу она застряла бы, увязла в ближайшей топи. Нипочём её потом из болота не вытащишь. Если она вообще сразу не утонет. Вытаскивай её потом. Титаническая проблема. Проще бросить и благополучно, не тратя зазря нервы, в гиблой болотине забыть.
Чтобы не увязнуть, не угробить машину, пришлось бы кружить по гребням холмов, по кручам и буеракам, и очень неизвестно ещё, куда в конце концов выедешь. И вернёшься ли потом обратно!
Круты и гибельно опасны дороги, равно как и их отсутствие, на архипелаге Новая Земля. И нельзя на этой земле одному пускаться в путь.
Рассказывают, летом, под кружащим над головой, неделями не заходящим за горизонт солнцем, нет привычных рассветов и закатов.
А зимой солнце неделями не всходит, и тогда среди унылого однообразия заснеженных лежалым снегом верхушек гор много бредовых химер могут материализоваться и явиться среди скал взгляду путника. И горе ждёт его, если он подружится с ними и примет их за реальность. Не будет тогда ему пути обратно в светлый мир людей.
С другой стороны, очень даже не дело являться к Богу тундры на лязгающем гусеницами, воняющем чадной гарью железном чудище. Не по-человечески это. Бог, какой бы он ни был, даже каменный, может осерчать и не понять и не откроет любознательному взгляду то, что нужно путнику.
Не так уж просто с богами договариваться, даже очень древними. И приличия, и такт, и этикет с богами не в последнюю очередь согласно ранжиру верховенства табели о рангах соблюдать надобно.
Всё это Иван Иванович очень хорошо понимал. И понимал опасность одинокого перехода в этом жутком безлюдье, где одному пропасть – раз плюнуть! И всё-таки он решился пойти один.
И вот почему он доверял ногам больше, чем технике. Гусеницы, конечно, во многих случаях отменная вещь, но иногда бывает, что ноги всё же лучше, надёжнее, чем гусеницы.
Да и чего бы здоровому, крепкому мужчине не прогуляться ранним морозным утром по свежему воздуху, где быстрым шагом, где бегом, а где остановиться, оглядеться кругом и как следует подумать о житии, о дорогах и о том, куда ведут нас в отдалённом будущем наши дороги.
Вот за что он любил и ни за какие пироги не променял бы ни на какую другую, сверхблагоустроенную, процветающую в райских кущах державу эту необъятную страну: за её волю вольную, за её бескрайние просторы.
Уж что-что, а разгуляться здесь, в этой огромной стране, при желании, настоящему мужчине во все времена было где, как и всегда, было чем утолить самое изощрённое, прихотливое мужское любопытство. Здесь всегда было, при желании, в избытке что необычное увидеть и на что никому неизвестное посмотреть.
И меряя большими шагами зелёный, слегка припорошённый первым, аппетитно похрустывающим под унтами снегом зелёный ковёр тундры, Иван Иванович испытывал ощущение, близкое к настоящему, не замутнённому бытовухой, чистой, как если бы он в немилосердную, испепеляющую жару, изнемогая от зноя, напился холодной, до ломоты в зубах, ключевой водой, счастью.
Нет, пожалуй, он не назвал бы это счастьем. Это было что-то другое. Скорее, это напоминало то эйфорическое состояние, в котором пребывает молодость при первой влюблённости: некий яркий букет чувств, состоящий из сомнений, надежд, образов, эмоций, от которых начинала бурлить кровь, радугой расцветало небо – пышный букет соцветий, расцветающий всегда, когда в его сознании зарождался сюжет новой картины.
Перед его внутренним взором, в сознании, уже реально возникли отдельные детали нового полотна: расцвеченное северным сиянием, огнями эльфов, сумрачное зимнее небо. Племя Хили, расположившееся вокруг исполинской громады каменного Бога. Вздымающееся к небу пламя костра. Шаман племени в одежде, увешанной беличьими и собольими хвостами, камлающий в экстазе, высоко подняв над головой бубен, и кружащий перед замершими в ожидании чуда ликами соплеменников в багровых отсветах пляшущих языков пламени костра.
В сознании Ивана Ивановича, как в зеркале, отражалось разноцветье бенгальских огней полярной ночи, висящих и непрерывно меняющихся в холодном небе ёлочными новогодними огнями над угрюмым, сумрачным однообразием бескрайней тундры, и чум, и упряжка оленей в отдалении.
Как-то надо было передать это на холсте, этот никому не известный мир северных людей. Не приукрасить, как обычно поступают художники, не добавить ничего лишнего. Одна суровая правда жизни. Сизый сумрак, замершие в надежде узреть откровение лица людей и вознесённый шаманом вверх бубен. И суровый, мрачный, жестокий лик истинного властителя этой земли – Бога тундры.
Надо было суметь передать гибельный для обычного человека стылый ужас полярной ночи, в котором эти дети природы обретались вполне естественно и свободно, как он жил в своей столичной квартире. Он хотел передать удивительную жизнестойкость этого народа, его азарт и любовь к жизни.
Насколько он знал их жизнь на материке, могли же они откочевать, уплыть пароходом, улететь на вертолёте из этой холодной пустыни туда, где потеплей, поуютней, от этого их Бога, от тягот бесприютной кочевой жизни!
И не уезжали! Как будто лучше этого белого, холодного, стылого безлюдья для них ничего другого не существовало.
– Ягель! – объяснял причину жизнестойкости своего народа Хиля. – Олени едят ягель. Ягель даёт им силу и здоровье, однако. А мы едим оленей. И мы такие же сильные и выносливые, как наши олени. Слабый тундре не нужен. Тундре нужны сильные, здоровые, крепкие люди, такие, как наши олени. И мы такие и есть, однако, – посасывая трубку и пуская замысловатые кольца дыма, объяснял суровую, жестокую философию полярной жизни старый охотник, и у Ивана Ивановича не было веских причин сомневаться в словах полярного аборигена.
Попробуй, поживи в стылом чуме зимой посреди бесконечного, безлюдного белого безмолвия и леденящего сознание холода, под кружащими над чумом неделями, месяцами метелями и безумными, сводящими с ума завываниями ветра.
Слабый этого не выдержит. Слабому лучше всего сидеть где-нибудь за письменным столом в ЖЭКе, довольствоваться достижением сияющих бухгалтерских вершин или проедаться поваром на кухне в окружении сдобных, податливых кухарок.
Действительно, чтобы жить в таких условиях, надо быть сильным, ловким и выносливым, быть хорошим каюром, уметь читать следы, хорошо стрелять и много чего ещё знать и уметь, чему не учат в школах, чтобы нормально выживать и ещё получать от такой жизни настоящее, ни с чем не сравнимое удовольствие.
И вышагивая по косогорам и холмам в поисках долины, в которой находилось обиталище Бога, Иван Иванович думал, что хорошо всё же, что его друг не пошёл в этот довольно утомительный, связанный с нешуточными опасностями поход.
Конечно, Монгол крепкий и хорошо тренированный, мастер спорта по вольной борьбе и по горам великолепно ходит, но, кажется, кто-то из великих походя, мимоходом сказал: «Служение музам не терпит суеты». Чтобы найти правильную перспективу, ему всё-таки нужны были и тишина, и спокойствие, и время на размышления.
Пусть уж Виктор кропает свои труды, глядишь, может, в академики вылезет в свободное от картёжных загулов, мордобоя и пьянок время, а что касается его: наука наукой, но что-то же и для души надобно, иначе скука вселенская, безысходная и беспросветная, без конца и без края может поселиться в ничем разумным не занятой пустой душе и без жалости и разрешения заесть. Загрызть напрочь без остатка.
Что стоит человек, если он живёт и трудится только ради куска хлеба? Есть же, наверно, ещё что-то в жизни, что делает человека человеком. Не любого, конечно! Но хотя бы некоторых!
Не зря, должно быть, иные утверждают: «Не хлебом единым жив человек». Наука, конечно, святое дело, но всё-таки есть вещи, ради которых в некоторых случаях её, науку, можно подвинуть в сторону.
«Пусть Её Величество Наука подождёт», – приблизительно так рассуждал Иван Иванович. Такими же словами он всегда отвечал Виктору, когда его успешный во всех смыслах друг упрекал его, что он слишком мало времени уделяет науке.
– У нас столько нового материала! Ты бы уже давно мог защитить докторскую. А ты всё со своим мольбертом возишься! – усовещивал Виктор занимавшегося, на его взгляд, вовсе никчёмным, откуда ни глянуть, пустым делом приятеля.
– А мне титулы ни к чему, – отвечал Иван Иванович. – И без них неплохо прожить можно. Мозги излишне засорять не надо. Это для тех, у кого они, конечно, есть, эти мозги. Не всем, по моим наблюдениям, они необходимы. Большинству людей и без них неплохо. Так что наука, пока я занимаюсь живописью, немного подождёт. Есть вещи не менее, а может и более важные, чем наука.
Такое расхождение в интересах и приоритетах, сколько помнил Иван Иванович, наблюдалось между ними с самого детства.
Есть такая порода людей. Красавец и силач Виктор во всём, за что бы он ни брался, должен был, кровь из носа, быть первым: в науке, в спорте, в картёжном промысле, в любви, в любом деле.
И это ему без особого труда и излишнего напряжения удавалось. Легко он шёл по жизни. Играючись. Возникавшие перед ним проблемы решал без особых затруднений с помощью огромного обаяния, силой интеллекта, а иногда, в крайних случаях, поддерживая авторитет и с помощью кулаков. Не стеснял себя в средствах для достижения цели.
А он, недальновидный Ваняшка, теперь давно уже Иван Иванович, по каким-то неведомым причинам словно так и остался в том далёком, безвозвратно исчезнувшем, канувшем в Лету времени, когда Виктор, тогда Витюша, бегал в накатывавших на пляж волнах прибоя, собирая выброшенные морем на песок монетки, а он, счастливо улыбаясь, с испачканными краской пальцами, рисовал прутиком на песке яркое, сияющее солнце.
А потом вспоминал слова отца, учившего его запоминать слова и оттенки: «Учись, сынок, понимать цвета. Пока у тебя есть ремесло в руках, ты будешь нужен людям! И люди будут нужны тебе». И счастливо улыбался. Какой всё-таки умный совет дал ему отец! «Спасибо, папка!» – восклицал он.
Наука отца не пропала даром. Ремесло в его руках было. Всё же, видимо, ему по душе гораздо ближе была художническая стезя, чем наука. Давным давно отец правильно угадал и дал ему правильный, умный, дорогого стоящий совет.
«Доктором наук, – сказал он как-то Виктору, когда у них однажды зашёл разговор о душевных пристрастиях и увлечениях, – даже академиком, при известном трудолюбии и удачном стечении обстоятельств может стать каждый, а вот художником, человеком, умеющим запечатлеть момент и объясняющим таким образом что-либо утомлённому повседневной суетой, погрязшему в банальных, беспросветных, бессмысленных житейских дрязгах простому люду, дано не каждому. Во всей стране настоящих художников по пальцам можно пересчитать, едва с десяток наберётся, а уж воистину великих, – он помолчал, – я и не знаю… Сейчас, наверно, таких нет».
Понятное дело, он и не мыслил, и в его голове никогда не торчало, что ему когда-нибудь удастся попасть в этот золотой десяток или хотя бы слегка приблизиться к сотне более или менее известных мастеров кисти.
Но что-то необъяснимое вело его по этой дороге, заставляло Ивана Ивановича браться за кисти всякий раз, когда выпадала свободная минута.
Он не знал, почему так происходит. Это не зависело от его желания. Наверно, что-то такое было в его крови, в наборе хромосом, мощный зов, которому он не мог сопротивляться и покорно подчинялся всякий раз, когда сюжет новой картины возникал в его сознании.
И тогда где-то внутри него возникало нечто отдалённо напоминавшее музыку. Когда никаких новых сюжетов не было и Иван Иванович не знал, куда себя деть и чем бы ему заняться, не было и музыки. Была пустота. Медленное, болезненное падение в никуда, в чёрную, зияющую бездну. И дирижёр, его виртуальный друг, как он надеялся, управляющий неведомо откуда возникавшим в светлые минуты озарения огромным полифоническим, звучащим как волшебная, чарующая, музыка небес, симфоническим оркестром, тогда не появлялся, и пустая, не занятая любимым делом жизнь теряла смысл.
Окружающий мир обесцвечивался, становился плоским и серым. Окружающие люди с их ничтожными проблемами и бесконечными мелкими интригами, с их убогой, омерзительной утилитарностью, казались донельзя пошлыми, а личное существование превращалось во что-то невыносимо, до полного умопомрачения, глупое и совершенно никчёмное.
В такие дни Иван Иванович маялся, не находил себе места. Очевидная бессмысленность личного существования убивала его. И всё вокруг само собой неожиданно преображалось и расцветало, когда неведомо откуда вдруг возникали новые идеи и он задумывал новую картину.
С появлением новой идеи, нового содержания в жизни Иван Иванович словно оживал. Внутри него снова начинала звучать музыка, вначале отдалённая, диссонирующая, напоминающая разрозненные звуки настраиваемых в необходимую тональность инструментов.
Но по мере того как он обдумывал отдельные детали и общую композицию нового полотна, музыка становилась стройней, слаженней, в ней появлялось звучание новых инструментов.
И когда, всё обдумав и мысленно соразмерив отдельные части будущей картины, он садился за мольберт, чтобы составить общий вид из отдельных этюдов и зарисовок, тут откуда-то, словно из-за невидимых портьер, появлялся его сотканный из неуёмных фантазий и надежд друг-дирижёр, одобрительно улыбался ему и, постучав дирижёрской палочкой по пюпитру, требовательно вскидывал вверх руки.
Всеобщий разброд, неслаженное звучание оркестровки тут же прекращалось, и вместе с повелительным мановением руки дирижёра начиналась музыка. Тихая, еле слышная музыка звучала и понемногу наполняла его, пока он, склонившись над мольбертом, выполнял задуманную и выношенную в мыслях долгими днями и ночами работу.
Понемногу усиливаясь, она захватывала его всего без остатка. Как он любил эти счастливые минуты, часы, дни. Ничто в мире не могло сравниться или превзойти их по испытываемому им наслаждению.
Иногда, когда его мысли попадали в такт музыке, у Ивана Ивановича получались хорошие полотна. В эти моменты он и дирижёр понимали друг друга. И даже больше того, слившись вместе, в эти мгновения они были одним целым. Дирижёрская палочка и кисть становились едины.
Когда дирижёр был не в настроении и не появлялся перед оркестром на сцене из-за кулис, тогда музыка не звучала в его душе и картины, как бы он ни старался, не получались.
А когда музыка удавалась, он вспоминал сказанные ещё в детстве слова Виктора: «Ты будешь художником. Нищим художником!» И счастливо улыбался.
Пророческое предсказание сбылось в полной мере. Он не знал, что бы с ним было, если бы предсказание случайно не сбылось – он не стал бы художником и если бы тогда внутри него никогда не начинала звучать придающая всему его существованию смысл и окончательное значение, выверенная до последней ноты, до совершенства слаженных созвучий, наполнявшая его всего музыка.
Зачем бы тогда он жил? Ради чего? Стоило ли вообще в таком случае жить? И для чего жить, если ты ничего не можешь и не умеешь в этой жизни? Если ты – НИКТО? Кому тогда ты нужен?
По этой причине он и вышагивал тем памятным днём скорым шагом по тундре, тяжело дыша и обливаясь потом. На обрывистых подъёмах сланец крошился и, шурша, осыпался под грубыми подмётками его обуви, и шарф, которым он вытирал лицо, вымок от пота.
Но надо было спешить. Ох как надо было спешить! Краток об эту пору в начале осени быстро убывающий полярный день. И не было уверенности в изменчивой, быстро меняющейся погоде.
Как бы ни было красно солнце поутру, а к вечеру вполне может завертеть, закружить, заходить танцующими, выматывающими душу кругами вьюга.
Вот и ломил Иван Иванович, не разбирая пути, как лось, по бездорожью. Благо здоровье пока позволяло. И водку жрать позволяло, и жить в неприхотливых, мало пригодных для жизни условиях позволяло, и бродить неприкаянно, в охотку, в своё удовольствие по матушке-земле позволяло.
Близко к полудню его глазам открылась долина, которую он искал, и чум в отдалении с курящейся над ним струйкой дыма, и стадо оленей, пасущихся у ручья. Прямо как на заказ.
Всё было как он хотел. Лёгкий снежок, тая на глазах, блестящими жемчужными каплями влаги повисал на траве. В низине, по болотине, ярко зеленела осока. Утиный выводок под предводительством мамы-утки, готовясь к отлёту, плескался у хилого, чахлого подобия зарослей камыша.
Робкая северная природа, прежде чем надолго уйти под белый саван зимы, лучилась радостью и ликованием жизни.
Именно за этим Иван Иванович сюда и шёл, чтобы воочию увидеть, понять и проникнуться стремлением жить наперекор всему, вопреки надвигающемуся ужасу полярной зимы и нескончаемо долгой, настолько долгой, что люди живущие на этой земле, забывают и перестают верить, что где-то на планете есть рассветы и закаты, что где-то есть солнце вместо нескончаемо длинной, которая, как всем им кажется, никогда не закончится, полярной ночи.
Надо было спешить, пока вечер сизым пологом гнилых сумерек не опустился на эту забытую в безвременье, во льдах землю.
Иван Иванович долго выбирал место, откуда Бог тундры выглядел бы наиболее впечатляюще. И, кроме того, ему, неверующему, воспитанному в лучших атеистических традициях, хотелось поговорить с Богом наедине о материальных вещах: о времени, если время материально, о тех веках, что провёл Бог в одиночестве в этой большей частью холодной и мрачной пустыне. Что дельное, заслуживающее внимания видел?
Наверно, Бог помнил и лучшие времена. Возможно, когда-то в этих гиблых краях был тёплый климат и на архипелаге жил весёлый и добродушный народ, многое что знавший и умевший. Каменным кресалом такой монумент не сделаешь. При желании Бог многое что мог бы порассказать. О многом, виденном здесь, на этой угрюмой земле, за века, поведать. Естественно, к Богу было много вопросов. Одна беда – боги с народом не очень общительны. Не любят боги лишний раз на людях показываться. Не любят принародно обсуждать свои нечеловечески высокие, божественные проблемы.
И Иван Иванович прекрасно понимал: не всё то, что известно богам, должны знать люди. Иначе пропадёт смысл и великая тайна божественности.
И людям тогда ни к чему и незачем будет стремиться к познанию нового. Потеряется стимул к жизни. И, возможно, поэтому этот Бог каменно молчал.
Должно быть, слишком древний был Бог. Умный. А может, устал от длительной, длиной в века, дороги. Или не считал возможным говорить о мирских проблемах с обычным простолюдином. Тем более атеистом!
Но так хорошо было, сидя у основания огромного каменного колосса, греться в лучах низкого об эту пору солнца и смотреть на раскинувшуюся внизу долину.
Какое это счастье – быть заодно с природой, ощущать себя её хоть и незначительной, ничтожной, но всё-таки частью!
На какой-то миг Иван Иванович почувствовал, что он растворяется, сливается воедино с окружающим его мирозданием.
Ему показалось, что он полностью слился с окружающей долину обрывистой стеной, защищающими её со всех сторон от непогоды скалами, с речкой, протекающей в отдалении, с травой, с робкими, трогательными в своей беззащитности, редкими на севере, восторженно пламенеющими цветами на хилой, еле заметной среди камней зеленой травой.
Наверно, он попал в состояние, именуемое кое-где нирваной. Должно быть, в таком состоянии пребывал Будда, удалившийся от людей, от их поверхностных суждений и глупых поступков подальше, в пустыню, чтобы без помех, уйдя от надоедливого повседневного шума и бессмысленной, бестолковой, никчёмной, пустопорожней суеты, погрузиться в мир мыслей и чувств и узнать нечто обычному, заурядному человеку недоступное.
Иван Иванович долго пребывал в забытьи. Ему ничего не хотелось. В смутном сознании кружились давно забытые образы, проступали едва знакомые лики. Среди множества лиц почему-то вдруг появилось перед ним лицо цыганки Рады. Она танцевала и улыбалась ему.
И они были одни. И они снова пили горькое вино. И вкуснее и слаще этого вина Иван Иванович ничего в жизни не пробовал. Вкуснее были только губы Рады и её тело, которым он никак не мог насытиться, нацеловаться.
И Рада смеялась и говорила ему: «Да погоди ты! Увидят же!» – и льнула к нему и прижималась бесстыже всем телом.
– Кто увидит? – удивлялся он. – Мы одни во всей Вселенной. Кроме нас, в целом мире нигде никого нет.
– А Бог! – восклицала она. – Как никого нет! Бог всё видит! – И обнимала его, как обнимала его когда-то давным-давно в душном номере отеля. – Да и Бог с ним, с Богом, – отвечал он, – пусть смотрит. Всё повеселей ему с нами, чем одному!
И Рада с ним соглашалась, и льнула к нему обнимая и обжигая страстью.
Потом откуда-то появились карты и Рада раскинула пасьянс. «На судьбу! – сказала она. – Я тогда тебе не догадала». И они смеялись, потому что ни он, ни она ни в карты, ни в судьбу не верили, а верили только в себя, в выбранную однажды дорогу. Всё остальное значения не имело. И им было так хорошо вдвоём, как редко когда хорошо бывает.
Вот только время! Его Величество Время торопило. Как ни сладка Рада, а надо было подниматься, делать то, ради чего он сюда, в эту забытую всеми, никому не известную долину пришёл. И Рада почувствовала перемену в настроении Ивана Ивановича и обиделась.
Откуда-то вдруг появился цыган, как будто ждал неподалёку, с белым «Мерседесом», и Рада пошла к «Мерседесу» и, открыв дверцу, оглянулась, и, укоризненно посмотрев, качнула головой, и, сев в машину, хлопнула с силой дверцей. Мотор зарычал, и «Мерседес», сияя никелем, понёсся неведомо куда, не разбирая дороги, летя как птица над обломками скал вдоль обрывистых стен урочища.
Иван Иванович очнулся, пришёл в себя, тряхнул головой.
Предупреждал же старый охотник, что в долине на архипелаге недостаток кислорода и в таких условиях неопытному исследователю, непривычному к полярной жизни, из-за кислородного голодания что угодно может привидеться.
«Север не шутка, – говорил он. – Здесь что угодно может случиться. Надо всё время быть настороже. Не ослаблять внимания. Иначе видения могут подкрасться и увести с собой. Вот так, однако, – пуская кольца дыма, уверял охотник. – Сколько уже таких случаев было! Уйдут люди в долину и не возвращаются, – рассказывал Хиля. – А почему не возвращаются, никто не знает», – окутываясь дымом, вещал старый охотник. И, как говорил охотник, так чуть и не вышло.
Увезла бы его Рада на «Мерседесе». Как пить дать увезла бы. Затем и приезжала. Работа спасла. Если бы не работа! Если бы он не вспомнил вовремя, зачем сюда пришёл, ещё неизвестно, чем бы всё кончилось. Вот и доверяй после этого богам, даже очень древним.
«Какую выдержку надо иметь и смелость, чтобы общаться с богами!» – подумал Иван Иванович.
Поднимаясь, он тряхнул головой, отгоняя дремоту и привидевшееся в дрёме наваждение. Он не верил ни в видения, ни в россказни старого охотника. Мало ли кто какую небывальщину выдумает! Потягиваясь, разминая занемевшие мышцы, он встал и неожиданно увидел, что в траве прямо перед ним лежит карта из колоды Рады.
Это была дама пик. Не веря своим глазам, он поднял карту. Дама была точной копией красавицы-цыганки Рады. Задержав от удивления дыхание, он внимательно вгляделся. С карты на Ивана Ивановича смотрела и зазывно улыбалась цыганка Рада.
Он поднёс карту поближе к глазам, чтобы лучше разглядеть Раду.
– Не ожидал увидеть меня? Мы ещё встретимся, – многозначительно пообещала дама пик. – Не думай, что ты так легко от меня отделался. Я тебе до конца так и не догадала. Догадаю в следующий раз. Ты жди! Мы обязательно встретимся!
В остолбенении он выпустил карту из рук. Карта упала на траву и исчезла. В изумлении он долго смотрел на пустые руки, на траву, из которой он только что поднял карту.
– Не может быть! – произнёс наконец Иван Иванович и с опаской и уважением посмотрел на Бога и охраняемую Богом долину. Так недолго и в чертовщину поверить!
Непрост оказался Бог и его проделки, и очень непроста, как оказалось, была такая, выглядевшая на первый взгляд тихой, пустынная долина.
Потрясённый до глубины души, он долго не двигался.
«Совсем одичал. Чего только на Севере из-за оторванности от нормальной жизни не привидится!» – вздохнув, решил поднимаясь Иван Иванович.
Наконец, расставив штатив и укрепив мольберт, он принялся за работу. Фактура изваяния, несмотря на экспрессивную, как бы нарочитую грубость технического воплощения, выглядела до невероятности натуральной, естественной. Древний скульптор, словно в назидание потомкам, показывал, как с помощью простых, далёких от идеальности черт и линий можно создать стилизованную современную, современней не бывает, потрясающую по силе производимого впечатления скульптурную композицию.
Что-то такое, мощное по замыслу и выразительности воплощения, и должно было быть здесь, среди унылого однообразия холмов и невысоких скалистых гор. В противовес унылому, скучному пейзажу.
Уместнее, сколько ни думай, ничего нельзя было придумать. Тяжёлые веки изваяния были как бы опущены – должно быть, от усталости и долгого, длиной в века, ожидания. Голова с непомерно длинным, утрированным до гротескности, грубым носом над плотно сжатыми губами, выглядела тем не менее, на удивление, вполне соразмерно и сразу переходила в массивные плечи – одно выше другого.
Локти, едва намеченные, тоже были скошены на разных уровнях, отчего казалось, будто каменный, покрытый, как одеждой, зеленым, развевающимся по ветру мохом и лишайником Бог куда-то идёт.
Под стать и окружающий пленэр поражал самобытностью: и скальная расселина, из которой, как казалось, только что выбрался этот огромный каменный колосс, и сверкающая яркими красками долина, в которую он, должно быть, направлялся.
Это было что-то настоящее, искреннее, совершенно ни на что другое не похожее, напоминавшее в шелесте ветра отдалённо пробивающееся из глубин земли, чистейшее, обжигающе холодное, до ломоты в зубах, журчание ключа; шорох и шлёпанье на землю стряхиваемых искристой радугой капель росы; посвист крыльев уносящейся в высокое небо свободной, вольной как ветер стаи птиц.
Боязливо оглядываясь, чувствуя себя чем-то инородным, чуждым в долине, Иван Иванович торопливо делал эскизные зарисовки.
Понемногу он пришёл в себя, освоился, стал относиться к происшествию как к чему-то вполне обычному для этой долины.
Мало ли какие миражи могут возникнуть в сознании под неверным, постоянно меняющим освещённость, искажающим перспективу, неярким полярным солнцем! И ему, как всегда, начало казаться, что он слышит музыку. Что бы он был в жизни без неё? Без её еле слышного напоминания ему, что есть дело, без которого он не мыслил своего существования?
Ради этой музыки он пошёл бы куда угодно, потому что она, эта музыка, когда он слышал её, наполняла его довольно пустую, ничем особым не занятую жизнь смыслом и содержанием.
В разрозненных, пока ещё несогласованных звуках ему угадывалась прелюдия, первые такты мелодии, которую Иван Иванович искал всегда, где бы он ни был, куда бы его ни заносила судьба.
Он не знал названия этой музыки, но он знал, что это его музыка, самая любимая им музыка, которой он подчинялся всегда полностью, без остатка.
И не было в мире более красивой и великолепной музыки. Музыки вдохновенного созидания. Другой музыки он не знал. Не считал другие сочетания звуков за сколько-нибудь достойную внимания музыку.
Дрожа от восторга и нетерпения, он принялся наносить краски на полотно.
«Нищий художник! Докторская степень! Ещё шажок! На следующую ступеньку по карьерной лестнице!» – вспоминал он слова Виктора и счастливо улыбался. Он не понимал этого.
«Какая к чертям карьера! – рассуждал он. – Как это мелко! Философия ничтожного, ни к чему не пришедшего умом человека!» Ему не нужна была карьера. Спокойная жизнь до старости. До выхода на пенсию.
Разве может какая угодно карьера сравниться с музыкой, которую он сейчас слышал? Великую, созидательную музыку свободного от любых происков, подсиживаний, интриг, раболепного выслуживания, творчества!
Он был вольным художником и сегодня ему прямо несказанно повезло. Музыка в этот день наполняла его до краёв, переполняла, выплёскивалась бурно, фонтаном красок с острия кисти на холст.
Это, как он считал, был верный признак, что он наконец нашёл то, что долго искал, то, что нужно, как воздух для дыхания, настоящему, от Бога, мастеру.
«Конечно, – думал он, – кто-то, возможно, может быть без меры счастлив, попав, к примеру, на Пальма-де-Майорку, быть может, на Кипр, или на Мадейру, где хорошего вина – залейся, или на благодатные, солнечные Канары. Наверно, там-то уж точно есть что делать признанному, в зените славы, именитому художнику».
А он искал свою фортуну в этой огромной и неповторимой, уникальной, ни на какую другую не похожей стране. И иногда, как он думал, как, например, сегодня, или ему так только казалось, он был как никогда близок к встрече с этой капризной и до неприличия изменчивой, легкомысленной и непостоянной дамой.
Правда, говоря по совести, ему следовало признать, что эта своевольная и капризная дама не слишком благоволила к нему, жаловала его своим вниманием.
Иногда, возвращаясь из дальних экспедиций, он привозил по-настоящему самобытные, необычные по сюжету и манере исполнения полотна, но среди столичных полупризнанных мазил признания так и не получил, числился в разряде малоизвестных заурядов, где-то во втором или даже третьем эшелоне.
И картины хранились в его мастерской как память о тех удивительных и необычных краях, где он побывал.
Иван Иванович надеялся, что когда-нибудь, когда появится свободное время, он сможет наконец заняться этим бесценным материалом и сумеет сработать несколько добротных, заслуживающих всеобщего внимания и одобрения полотен. Тем жил и дышал. На что надеялся и во что безоглядно верил.
Всё остальное: слава, известность, богатство, всевозможные титулы и звания, даже развод с женой, потеря семьи – казались ему слишком мелкими, не заслуживающими внимания явлениями, не имеющими для Ивана Ивановича совершенно никакого значения.
Что означали наука, докторская степень, бухгалтерское, в сущности, дело, в сравнении с музыкой, с тем изумительным, потрясающим наслаждением от живописи, которое иногда ему удавалось испытывать.
Вот почему, когда Ивану Ивановичу предстояло выбирать между наукой и простейшим, если подумать, делом – нанесением красок на полотно, он всегда выбирал последнее, говоря: «При всём уважении к Её Величеству Науке, наука подождёт». Написать отчёт он всегда успеет.
Перед ним было что-то, что было важнее повседневной рабочей текучки. Добурятся они до нефти, не добурятся, или добурятся какие-то другие люди.
Найдут что-либо или вообще ничего не найдут, в эти святые минуты для Ивана Ивановича решительно не имело никакого осмысленного значения.
Это были всего лишь проблемы экономики. То, что интересовало его меньше всего. Он же искал что-то, что гораздо важней, чем нефть, газ, бриллианты или золото. Он искал то, что в его глазах было важней и дороже всех сокровищ мира, всей таблицы Менделеева – интеллектуальное содержание жизни, и, кажется, он нашёл то, что всегда искал.
Когда же он вернулся в лагерь и рассказал о необычном происшествии, Хиля покрутил головой и сказал, что в той долине постоянно что-нибудь происходит. Не зря ненцы зовут её Долиной Снов.
А Монгол скептически послушал довольно эмоциональный рассказ Ивана Ивановича о Боге, о Раде и карте пик, потом взял карту архипелага, долго её разглядывал и наконец спросил:
– А что, колебаний Земли никаких не заметил?
– Нет, ничего такого не почувствовал.
– Там происходит, по данным аэрофотосъёмки, разлом почвы, – объяснил Витька. – Из разлома выходят разные инертные, и не только инертные, газы. Радон, криптон, ксенон. В безветрие они расплываются тонким слоем над поверхностью долины. Вот тебе и повезло встретиться с Радой. Хорошо ещё, что жив остался. Тебя спас твой мольберт. Тебя спасла любовь. Твоя любовь к живописи.
Глава 3 Прелестный цветок Маргаритка
Резкий, диссонирующий с тишиной комнаты звук телефонного звонка вернул Ивана Ивановича из размышлений о прошлом в тусклую, как дождь за окном, обыденность настоящего.
Возвращаться в повседневную действительность с её скучными, прозаическими заботами, необходимостью что-то утрясать, улаживать, договариваться, решать ох как не хотелось, но звонок был требовательный, заполошённый, перемежающийся длинными, продолжительными трелями.
«Кто бы это мог быть? – раздосадовано снимая трубку, подумал Иван Иванович. – Быть может, Марго?»
Маргарита была редкой, везде обращающей на себя внимание, броской, бьющей в глаза, непомерной красоты женщиной. И ясное дело, как у них, красавиц, принято, с непомерными претензиями.
Один знакомый как-то пожаловался Ивану Ивановичу на свою жену: – Ты знаешь, – сказал он, – беда у нас с этими красавицами!
– А что с ними такое?
– Они все сидят на диете,
– Ну и что в этом плохого?
– Плохого вроде бы и ничего, но вот беда – диета у них особенная.
– Какая же?
– Не поверишь! Сначала они говорят нам, что они нас любят, а потом, когда возьмут над нами власть они, чистосердечно любя нас, нам мозг выедают.
Иван Иванович, конечно, рассмеялся, но и не мог с ним не согласиться.
Действительно, что-то такое ему приходилось наблюдать по жизни. Но ему так нужно было основательно встряхнуться и прийти в себя после завораживающих сознание и вымораживающих душу картин крайнего Севера!
А тут подарок судьбы – чёрная грива волос, омут карих глаз, скрывавших в незамутнённом спокойствии бермудские тайны историй не одного житейского кораблекрушения.
Всё это действовало на окружающих как удар молнии. Гром неизбежной катастрофы от подобного знакомства доходил до них со значительным опозданием, несколько позже. Люди постарше хорошо понимают роковую опасность подобных дам.
Не избежал подобной участи и Иван Иванович. То есть поначалу он совершенно не придал никакого значения ни её красоте, ни великолепно сложённой, точёной фигуре, ни молочно-белому, без изъянов, цвету кожи.
Будущее, если оно возможно с такой красавицей, понятное дело, рисовалось в его сознании весьма проблематичным. Риск последующих неприятностей явно значительно перевешивал возможные положительные последствия. И почему-то ему вспомнились слова приятеля о своеобразной диете красивых женщин.
«Мало ли красавиц на белом свете!» – подумал на всякий случай привычно Иван Иванович, намереваясь было пройти мимо.
Случай свёл их дороги на одном из приморских бульваров. После развода с женой Иван Иванович долго не находил в женщинах совершенно ничего привлекательного. Все они, как ему казалось, чем-то походили на давно им прочитанные бессодержательные, мало интересные кухонные книги из захудалой сельской библиотеки, перечитывать которые ему почему-то не хотелось. Всё равно ожидаемый сюжет бессмысленный, у всех у них одинаковый, и, как ни напрягайся, ничего нового при всём желании у таких дам не узнаешь.
А тут, уже проходя мимо, он ещё раз глянул и, чувствуя, как опустилось, упало куда-то в пугающую бездну сердце, помимо воли, ахнул: «Какая Фемайла! Бывают же такие женщины!» И эта мысль на ближайший промежуток времени всё решила.
И время ли такое пришло или от жизни, как ни прячься, всё равно не спрячешься, но ему даже показалось, что он знал её всю жизнь, дружил с ней с детства, просто они очень давно не виделись.
В её взгляде он прочёл некую общность, как будто и она узнала его, выделила по каким-то признакам среди прочих, и он, в сущности робкий, несмелый с женщинами человек, подошёл к ней. После ничего не значащей небольшой прелюдии из общих слов он пригласил Марго поужинать.
– Одному кусок в горло не идёт, – немного нервничая, сообщил он. – Не могли бы вы разделить со мной мой скромный холостяцкий ужин?
Ему показалось, что улыбка, блуждавшая до сих пор на её лице, исчезла.
– А где? – спросила красотка. – У вас дома?
– Да! – решительно ответил Иван Иванович. – Где же ещё? Конечно дома.
– Так сразу?
– Так сразу!
– Других вариантов нет?
– Нет.
Она каким-то особенным взглядом посмотрела на Ивана Ивановича, ему показалось, обошла его кругом взглядом, как будто спросила: «А вы знаете, кто я и мою цену? Какого я уровня? Сколько я стою?», и после минутного раздумья, поглядев на него искоса, сбоку, неожиданно для обоих согласилась.
«Званый ужин» слегка затянулся, плавно перейдя в поздний завтрак. Утром, приводя в порядок причёску и наводя тени в уголках глаз, она настойчиво втолковывала ему номер своего телефона и как можно найти её, если ему опять заблагорассудится поужинать в её обществе, а он никак не мог взять в толк, зачем, чёрт возьми, ей это нужно.
Некогда известная пианистка, чьё имя крупными буквами значилось когда-то на городских афишах, а её клавир часто сопровождал выступления именитых певцов, ныне аккомпанировала в небольшом детском театрике на маленькой улочке возле моря.
Понятно, её общество – богема. Её почитатели – люди известные и общественно значимые: местный и заезжий бомонд.
А кто он? Обычный серый зауряд. Технарь с незначительными задатками художника, ищущий свою долю на бескрайних просторах Великой и необъятной страны. Его жизнь трудна, связана с лишениями и опасностями. Что бы такое она в нём нашла, чего бы не было в окружавших её светских львах и ловеласах?
И так после всего происшедшего, от вчерашнего застолья, после слегка затянувшегося до утра «званого ужина» болела голова. Глаза бы на белый свет не глядели! Они не сомкнули глаз до утра.
Должно быть, после всего происшедшего он являл собой весьма жалкое зрелище. Но что было, то было, деваться от этого теперь было некуда. Приходилось скрепя сердце сидеть и, превозмогая похмельные последствия, слушать, изображая из последних оставшихся сил внимание своей довольно случайной собеседнице.
Он почувствовал себя крайне неловко. Глотая для восстановления сознания крепкий, чёрный, как ненастная ночь, чай, Иван Иванович чистосердечно терялся в догадках: зачем он ей был нужен?
Мало ли бывает знакомств, о которых люди, разойдясь поутру, с чистой совестью потом никогда не вспоминают!
Прошло два дня. Иван Иванович забыл и номер телефона, небрежно записанный на клочке бумаги, и затерявшийся с угара неизвестно где её адрес.
Поздним вечером к нему позвонили. Щёлкнув замком, он открыл двери. В дверном проёме стояла она. И что-то как будто зажглось в его сердце, а неприбранная холостяцкая квартира словно осветилась неярким праздничным светом.
Конечно, ни в чём подобном он себе бы не признался. Ещё чего не хватало! Сопли пускать! Какие глупости! Совершенно излишне!
– Добрый вечер! – напевала между тем, вертясь перед ним на каблучках, Маргарита. – Шла мимо, решила навестить. Не помешаю?
– Ничуть. Сделайте одолжение, проходите, – освобождая вход, сказал он, чувствуя, как оттаивает его насквозь промороженная в полярных льдах душа, что пропал, что назад, на свободу, больше хода нет и, возможно, позже уже не будет.
В последнее время ему так не хватало женского внимания, дружеского участия, тепла женских рук. На этом, кажется, он и попался. Погорел, как швед под Полтавой. Влип на полном лету, как, бывает, влипает вольный свободолюбивый трудяга-шмель в сладкую, одурманивающую сознание соблазнительную, липкую патоку женского обаяния.
Вот и сейчас, снимая трубку с едва ли не подпрыгивающего, разрывающегося от усердия телефонного аппарата, Иван Иванович с внезапно вспыхнувшим тёплым чувством подумал: «Маргарита!»
Кто ж ещё может звонить? Все дела переделал. Всё утряс, уладил, согласовал, договорился. Конечно, это Маргарита звонит из далёкого, тающего в эту пору истомой в весенних солнечных лучах и ароматах дурманящего сознание цветущего миндаля, бледно-розовом цветении абрикосовых деревьев, белом убранстве слив и яблонь, в запахах весны, плывущих по улицам маленького южного городка.
Как давно они не виделись! Целую вечность! Им нашлось бы о чём поговорить, и наконец он дорисовал бы её портрет, который он обещал ей сделать давным-давно, и, быть может, найти время, чтобы сказать ей те слова, на которые как-то раньше не хватало решимости. Он успел о многом ещё о чём подумать, пока снимал трубку.
– Америка! – голосом Софьи, секретарши Феликса, промурлыкала трубка. – Будете говорить? Переключить на вас? Вас вызывает Америка.
От неожиданности Иван Иванович даже опешил.
Что угодно мог ожидать, но чтобы он кому-нибудь мог понадобиться в Америке, стране, о которой ему было известно, что она находится где-то на другой стороне Земли и что там, возможно поэтому, говорят, что жизнь совсем другая, очень даже не такая, как в его родной стране. Прямая противоположность. Бред какой-то. Может, врут? Разве может где-то жизнь быть лучше, чем в родной стране?
– Шутишь, Софьюшка? – автоматически, не разобравшись, ещё по инерции спросил он.
– Да нет же, Иван Иванович, Феликс приказал переключить звонок на вас. Ваш друг вам звонит.
И вдруг Ивана Ивановича осенило.
«Да это же Монгол! Виктор Монгольский! Кто же ещё? Достал-таки! Разыскал!» – догадался после временного затмения Иван Иванович.
– Включай, Софья! Конечно включай! – закричал он в трубку.
Мембрана в трубке щёлкнула, и сквозь металлический звон космических усилителей он услышал голос друга.
– Ваняшка, это ты? – как бывало в детстве, спросил с другой стороны Земли, из-за океана, его товарищ.
– Я, Витя! Я! – обрадованно произнёс Иван Иванович. – Как ты меня нашёл? Ты же знаешь мой адрес: прописан по всей стране.
– Знаю. Еле смог до тебя дозвониться. Феликс сказал, что ты был в экспедиции. Далеко путешествовал?
– Тебе ли не знать? На острова, как обычно.
– На какие острова?
– Ну не на Гавайские, разумеется. Кому-кому, а тебе хорошо известно, какие в нашей стране острова.
– На те, где ты Бога тундры рисовал?
– Бери выше. Не Бога тундры, а Владыку всей Арктики. Зряшное, впрочем, в твоём понимании дело.
– А я, между прочим, Ваня, писал тебе, приглашал в гости и вызов прислал, – рокотал в трубке недовольный голос Виктора. – Надеялся, что ты вспомнишь старую дружбу и приедешь.
– Извини, не смог, – как умел, оправдывался Иван Иванович. – Приболел я. Возвращался от хозяина Арктики и занемог. Застудился. Не сразу, но последствия тяжёлые проявились. Да ты всё про всё знаешь. Пришлось уйти из института, пройти через такое, что никому бы не советовал.
– А как теперь?
– Врач один помог. Посоветовал лечить подобное подобным. Сказал: «Плюнь на всё и займись тем, что тебе дорого больше всего. От твоей болезни лекарства нет. Ни один врач тебе не поможет. Трудись! А там, куда дорога выведет. Может, повезёт. Такие случаи бывали». А тут как раз Феликс позвонил, пригласил опять на работу. Снова на острова. На те самые. Экзотические. До беспамятства любимые нами. Предложил довести до ума то, что мы с тобой тогда не сумели. Я согласился. Есть у меня к этой теме определённый интерес. Конечно, ты догадываешься, о чём речь. Что я тебе говорю.
– Разумеется! Опять Бога тундры рисовать или что-нибудь этакое, не менее первобытное, зато, как ты говоришь, натуральное. У тебя, должно быть, от этой натуральности мастерская ломится.
– Не совсем. Есть один меценат. Иногда кое-что из моих работ забирает. Что на продажу, что для коллекции.
– То есть в деньгах ты не нуждаешься?
– Я как-то о деньгах никогда и не задумывался. Ты, кажется, хорошо знаком с моей монетарной теорией. Есть деньги, нет денег; если есть смысл в жизни – с деньгами ли, или без денег прожить всегда как-нибудь можно.
Не всё в жизни зависит только от денег. Я слыхал, некоторые утверждают, что для полноценной жизни отдельных представителей рода человеческого важны совсем не деньги! Всё в их жизни зависит от качества ума. А деньги – это всего лишь декорация, обёртка, фантик, пустышка, внутри которой ничего содержательного обычно нет.
– Но, согласись, с ними как-то лучше, чем без них, этих фантиков, неотъемлемых атрибутов нравственной бездуховности и постыдной, граничащей с психическим заболеванием, алчности отдельных, помешавшихся на деньгах, как ты считаешь, индивидуумов человечества. Так устроен мир!
– Если ты о себе, то я согласен, – рассмеялся Иван Иванович. – Ты как раз из этих самых, неизлечимо нравственно психически больных и будешь. Тебе, чтобы нормально жить, нужны только деньги. И как можно больше денег.
– Ну да! Всё остальное у меня есть. А тебе? Что нужно для жизни тебе?
– Мне? Мне для жизни нужно как раз то самое главное, чего у тебя нет. Чем ты за всю жизнь, при всей твоей успешности и неординарности, так по непонятным мне причинам и не сумел разжиться.
– Что же это такое, чем я за всю жизнь не смог разжиться? – начал закипать Монгольский. – Уж не твоими ли никому не нужными картинами?
Твоим умением создавать бесполезные, не имеющие продажной и вообще никакой другой ценности полотна. Жить впроголодь, тратить все деньги на краски, грунтовку, ради самоотверженного служения некоему таинственному, никому не ведомому Божеству по имени Искусство.
– Пусть будет так. Пускай ты во всём прав! Но в таком случае, нам и говорить не о чём. Бывай! До лучших времён! – возразил, собираясь положить трубку, Иван Иванович.
– Да погоди ты! Ну, не будем ругаться. Тогда, раз ты такой умный, быть может, ты соберёшься всё же навестить меня и объяснить всё, что ты сейчас так красиво излагал, в личной беседе, непосредственно. Может, и до меня, убогого и несчастного, хоть что-нибудь из твоих умствований дойдёт.
– Я не думаю, что из этого что-нибудь получится. Мы сто раз говорили на эту тему. Повторять ещё раз – слишком скучно. И, говоря твоими словами, контрпродуктивно. За такие идеи денег не дают.
– Но можем же мы хоть когда-нибудь понять друг друга! Не может быть, чтоб не поняли. Друзья всё же! И, поверь, Америка не такая уж плохая страна. Тут есть на что посмотреть и о чём подумать. Приезжай, не пожалеешь. А если понравится, можешь и остаться. Такого специалиста с большим удовольствием примут и обеспечат всем необходимым: и хорошей зарплатой в десятки тысяч долларов, и приличным жильём.
– Не спорю. Возможно, это так. Но только есть такое слово – Родина! Для некоторых это слово не пустой звук. Так вот, здесь, на Родине, есть ещё кое-какие дела, которые я не успел сделать. Дела очень важные для меня.
И сделать их я могу только здесь, на Родине. Не сделаю, тогда, значит, придётся признать, что жизнь прожил, как и ты, извини за грубость: богато, сытно, беспроблемно, но бессмысленно, впустую, – ответил Иван Иванович. – А это было бы для некоторых, таких людей как я, досадно и грустно – в конце дней убедиться в своей полной бестолковости и никчёмности. Для меня просто катастрофа. Гибель Титаника! Об этом ли мы мечтали в молодости?
– Ну, не спеши! Куда торопишься? На нашей улице ещё совсем не вечер. – услышал он голос друга. – Мы ещё довольно молоды. У нас пока есть время. Я думаю, выяснением этого вопроса, кто есть кто и что есть что, можно заниматься и в Америке с гораздо большим удовольствием и за очень большие деньги.
– Не спорю, – ответил Иван Иванович, – но я не космополит. За деньгами не гоняюсь. Я родился не в Америке, и мне по сердцу, и ближе, и милее совсем другие сюжеты. Но приехать я, конечно, приеду. Немного отдохну в нашей деревне у моря, выхлопочу паспорт и приеду. Надо же поглядеть, до чего мы с тобой в конце жизни дожились. С чего начинали и кто мы теперь.
– Да уж, приедь как-нибудь, – ответствовал друг. – Буду ждать. Нам, наверно, найдётся, о чём поговорить.
В таком ключе закончился их разговор. И Феликсу, вызвавшему его вскоре якобы для уточнения сметы предстоящих расходов и мест проведения розыскных работ, а на деле, чтобы узнать, чем закончился разговор двух друзей, Иван Иванович высказался теми же словами.
Феликс долго разглядывал карту с пометками мест предполагаемых разработок, спрашивал, как добраться туда техникой, глубины возможного бурения, проложены ли удобные маршруты, сколько единиц техники, людей и оборудования на всё про всё потребуется.
– Да, недешёвенький проект, – обронил он в задумчивости. – Правительство, как обычно, срежет все расходы вдвое. – Феликс даже перекривился, представив на мгновение, какая война ожидает его при утверждении проекта в министерстве.
Иван Иванович почувствовал, как от этих слов неприятный холодок просквозил его с головы до ног. Непросты были отношения их, простых тружеников, с министерскими чиновниками.
– С министерством, конечно, тяжело разговаривать, – попробовал он посочувствовать Феликсу. – Там мы нужны только в случае успеха. А если успеха нет и скоро не предвидится, то и смету ретивые министры срежут, и без особых объяснений вежливо на дверь, как провинившимся невежественным провинциалам, запросто, без лишних слов указать могут.
– И будут правы, чёрт возьми! Сколько буримся, а результатов нет, – сердито заметил Феликс. – На вас лежит вся ответственность по продолжению работ.
– Я разве против! – соглашаясь, воскликнул Иван Иванович. – Результаты будут. Не волнуйтесь!
Они обсудили ещё ряд мелких, малозначащих, казалось бы, но имеющих первостепенное значение на Крайнем Севере деталей: какие и сколько комплектов верхней одежды лучше всего взять в экспедицию, сколько потребуется горючего и способы его доставки для машин и генераторов жизнеобеспечения.
– А что Виктор Андреевич Монгольский? – как бы мимоходом в конце разговора осторожно полюбопытствовал он. – Чем закончился ваш разговор?
Хочет вас сманить? Приглашает вас в Америку? – в голосе шефа послышались нотки не простого любопытства. Всё-таки Виктор был его любимым учеником. Шеф искренне, как за своего ребёнка, переживал за его дальнейшую участь.
– В гости приглашает, – ответил Иван Иванович. – Поглядеть, как хорошо и безоблачно некоторым живётся в Штатах.
– Ну и вы?
– Съезжу, погляжу. Отчего ж не съездить? Друзьями вроде когда-то были. Отдохну немного на юге и съезжу. Понаслаждаюсь пасторалями беззаботного, без проблем, штатовского существования.
– Остаться там не планируете?
– Нет, какой бы там рай ни был, у меня здесь ещё много дел не сделано. А кем я буду в Америке и что там буду делать? Я – русский! Есть вещи, которые мне, русскому, можно осуществить и сделать только в нашей стране и ни в какой другой. Быть самим собой, идентифицировать себя как русского я могу только в России.
– А некоторые остаются, – заметил, наблюдая за Иваном Ивановичем, Феликс.
– Остаётся сброд, – ответил Иван Иванович, – который и здесь себя не нашёл, и за рубежом он никто, и за деньги, за тридцать сребреников, и сомнительные житейские блага готов что угодно продать и предать. Для нас, я думаю, содержание жизни заключается не в количестве денег и, тем более, вовсе не в изобилии благ.
Феликс как-то искоса глянул на Ивана Ивановича и удовлетворённо кивнул:
– Что ж, как ни странно, ничего другого от вас я и не ожидал услышать. На ком, как не на нас, упёртых дураках, эта страна держится! Что бы с ней было, если бы нас, таких упрямых, не поддающихся логике простых, животных инстинктов, у неё не было! Страшно подумать! И хорошо, что мы в нашей стране есть, – шеф протянул для рукопожатия через стол руку, давая понять, что аудиенция закончена. – Буду ждать вас из отпуска.
День прошёл. За окном, над городом, уже повисли сизые сумерки, когда наконец раздался ещё один звонок. Её звонок!
Она звонила из далёкого городка, в котором большей частью всегда тепло, жизнь легка и беззаботна и не испорченным избытком просвещения жителям нет причин куда-либо торопиться, и они разгуливают по улицам ленивой, фланирующей походкой, и ничто в жизни не может заставить их покончить с этой их неискоренимой ленью и неизменной благовоспитанной аристократической доброжелательностью.
– Алло, Ваня! – донёсся из этого благодатного далека, в котором, как некоторым кажется, живут уже не совсем обычные люди, а скорее небожители, её голос. – Ваня! Это ты? Ты долго ещё собираешься шататься по просторам Великой и Необъятной? Я невесть как по тебе соскучилась. Приезжай поскорее, – выговаривала телефонная мембрана её голосом сладкие, такие нужные, похожие на волшебную музыку, которую он слышал, когда создавал свои лучшие картины, необходимые ему как воздух слова, которые, как ему показалось, очень долго, целую вечность во сне и наяву он хотел услышать.
Всё, чем Иван Иванович занимался до этой минуты, вдруг отступило на второй план, показалось ему мелким и незначительным в сравнении с охватившей его всего с головы до пят мелодикой её голоса, ласковыми, зазывными нотами, пронизывавшими, как ему казалось, его всего.
От волнения у Ивана Ивановича перехватило горло. Он, как мог, оправдывался неожиданно севшим, непослушным голосом:
– Работа такая. Что же делать? Хорошо. Постараюсь. Да! На днях буду! – а на лице его застыла обычная, когда он разговаривал с Марго, глуповато-счастливая, восторженная улыбка, а взгляд, бесцельно блуждавший по нарисованной на противоположной стене панораме проспекта, терявшегося в неопределённой, закрытой облаками дали, вдруг приобрёл твёрдое, уверенное выражение, как будто он увидел наконец, куда сквозь туманные дали ведёт эта широкая автострада.
– Я устала тебя ждать, – голосом Маргариты выговаривала ему трубка.
– Я тоже от всего устал. Да, на днях сдам дела, заправлю машину, и денька через два, к вечеру, прибуду. Жди! Только жди меня! – с наслаждением думая, как утром, в предрассветную темь, он погонит свою старенькую «волжару» по этому проспекту в наступающие дали дня, к далёкому морю, к женщине, которая, помимо его воли, так запала ему в душу.
Глава 4 Дорога к дому
Кто же этого не знает! Кому это неизвестно? Есть на белом свете ничем особым, казалось бы, не примечательные города и селения в нашей стране, названия которых общеизвестны и, бывали вы в них или нет, как приятное воспоминание, сказочный сон или отдалённая мечта, они у всех, живущих в нашей стране, на слуху.
Роскошным ожерельем, возможно сравнимым с ожерельем из полудрагоценных камней, жемчугов и чистой воды бриллиантов, нанизанных на нить береговой линии, украшают они побережья южных морей.
Здесь, в этих городах, у белой кромки прибоя, можно сказать, заканчиваются все дороги, сходятся воедино все пути.
Жизнь в этих городах проста и безыскусна. Жители этих городов, живущие вдали от чумных мегаполисов, вдосталь наслаждаются чистотой и свежестью воздуха, напоённого ароматами разнотравья, смешанного с терпким, солоноватым запахом морских бризов, необременительной всеобщей непритязательностью нравов, ленивой – куда же им, живя на краю земли, торопиться?! – неспешностью бытия.
С цивилизацией их связывает одна-две дороги, ближайший, в сотне километров, аэропорт, железная дорога, телеком и спутниковые антенны.
В общении они просты и естественны.
С ними есть о чём поговорить, потому что они, как правило, достаточно разносторонне образованы, много видели и обладают своим взглядом на вещи и события.
А главное, в этих городах, городках и вовсе глухих деревнях хорошо отдыхать, наслаждаясь простой непритязательностью быта, а если вдруг не в меру достало житие, прятаться от излишних забот, скрываясь от житейских проблем и неурядиц.
Вот туда, в один из этих городков, рано поутру и гнал Иван Иванович «вороных», горяча и подгоняя мотор, насколько это было возможно, старенькой «Волги» вначале по Валдайскими холмам, а потом по бескрайнему унылому однообразию скучной до ломоты в зубах украинской степи.
Он торопился. Вода вот-вот грозила закипеть в радиаторе, рокот мотора заглушал все остальные звуки, и ему казалось, что он понемногу глохнет от свиста ветра, шума колёс и рокота мотора, а он всё гнал и гнал без устали железных коней.
Очень уж ему хотелось после стылой, вымораживающей сознание картины северных морей добраться поскорей к тёплому, приветливому, южному морю, вдосталь насладиться балдёжной весенней негой цветущих улиц любимого до замирания сердца, до слёз южного городка, а главное – увидеть Маргариту.
Поэтому и топил, как только мог, вдавливая до отказа в пол, педаль газа, горяча и поторапливая, где только можно, лошадок, какие ещё остались в стареньком моторе его машины.
Вольный ветер, врываясь в приоткрытое окно его автомобиля, напевал обычную дорожную песню. Песню дальней дороги.
После дождей брызги грязи из-под колёс встречных автомобилей обдавали ветровое стекло его машины, затрудняя обзор, но Ивану Ивановичу ничто не мешало пребывать в отличном настроении. Его лицо излучало блаженство.
До моря было ещё далеко, но оно явственно, воочию рисовалось в его сознании за ветровым стеклом, прямо перед капотом автомобиля.
Так было всегда. Когда ему надоедали дальние дороги, он вспоминал о юге и о море, которое неизменно ласково его привечало, а когда ему надоедало бессмысленное однообразие южного существования, он снова собирался на север, чтобы бродить по местам, где раньше он никогда не был, в поисках неизвестно чего, что толком он и не смог бы никогда объяснить.
Такая выпала ему судьба. Что поделаешь! Мы не всегда вольны в своих пристрастиях. Иногда они управляют нами. Но он был доволен. Его профессия позволяла ему бродить по земле.
К морю он в этот день как ни старался, так и не успел. Караваны тяжёлых машин не давали возможности набрать хорошую скорость и, переночевав в придорожном кемпинге, поутру, с первыми лучами солнца, он снова пустился в путь.
Ближе к вечеру раскалённое, колеблющееся над асфальтом чадное марево развеялось, воздух посвежел, приобрёл солоноватую терпкость, а горизонт многообещающе налился синевой и неожиданно Чонгар полыхнул в окна кабины завораживающим синим пламенем, будоража многообещающе утомлённое степным однообразием и трудностями дальней дороги сознание.
Проехав по мосту на другой берег залива, Иван Иванович остановился, вылез из машины и долго смотрел на яркую водную синеву.
Иногда, в прошлые посещения Чонгара, ему удавалось в закатном солнце наблюдать, как эта вода горит ярким высоким пламенем.
Это пламя не обжигало. В этом пламени можно было купаться, брызгаться горящей водой, полностью исчезать за стеной огня и, возникнув вдруг в пылающих языках необычайного костра, вылезти потом на берег как ни в чём не бывало, живым и невредимым.
Но это было давным-давно, когда он был безумно молодым. Но теперь, должно быть, из-за «благотворного, всё окрест облагораживающего» влияния прогресса и цивилизации на всё повсеместно, планктона и прочей живности в воде стало мало.
Он давно не наблюдал больше ярких, фосфоресцирующих огней. А теперь, если ему и удавалось иногда наблюдать яркий фосфоресцирующий фейерверк, то это было лишь жалкое подобие былого.
Как давно он здесь не был! Это было ещё не море. Это был всего лишь залив. До конечной цели его путешествия, городка, куда он спешил, ещё надо было ехать и ехать, но Иван Иванович чувствовал себя так, как будто он уже приехал домой.
Это была земля, которую он любил больше всего. Это была водная стихия, без которой он не представлял себе своего существования.
Что бы он был, если бы не было моря, этой странным образом воздействующей на сознание, даже на сам образ мыслей и чувств, уникальной формы материи, дарующей жизнь всему живому, чарующей водной синевы?
Как степняк любит степь, горный человек – горы, он любил море и почти так же, как одетый в шкуры собиратель плодов и злаков древний язычник, в немом восторге и восхищении поклонялся ему. И, если подумать, так ли далеко ушёл он от первобытного дикаря? Иногда он задумывался над этим и выводы получались неутешительные.
Несомненно, что-то в процессе эволюции как вид он приобрёл, но как много он потерял!
Из постовой будки, стеклянного фонаря, стоящего у моста, вышел милиционер, подошёл к машине, поглядел на номер, затем на Ивана Ивановича, спросил:
– Издалека путь держите?
– Издалека, – ответил Иван Иванович.
– По номеру вижу, что не наш, не с Украины. Не скажете, откуда? – спросил он. Тогда Крым ещё входил в состав Украины – недогосударства, организованного националистами, кучкой лиц, возжелавших разбогатеть на национальной идее и сделавших на глупости и недальновидности простого народа большие деньги.
– Из стольного града всех славян, – ответил улыбаясь Иван Иванович.
– Из Москвы, что ли?
– Из неё, из Первопрестольной.
– Простите за неуместное любопытство, как вы там живёте?
Это уже была тема большого разговора.
– В основном хорошо. Это же Москва. А вообще, кто как. Как везде.
Милиционер немного подумал, потом понимающе кивнул. Ответ, должно быть, показался ему исчерпывающим.
– Что ж, доброго вам пути! – приложив руку к козырьку фуражки, чем-то похожей на австрийский картуз, пожелал он.
С некоторых пор, после выхода из состава могучего государства, обозначавшегося красивой аббревиатурой – СССР, в соответствии с разрушительными планами одной заокеанской державы и в угоду националистам в Украине было организовано другое государство, не залежное от всего и вся и очень, до дури, самостийное. Что это такое, понимают только те, кто заколачивает на самостийности хорошие деньги.
Милиция надела другую форму, и даже стали говорить на другом официальном языке, на мове, с произношением, очень похожим на ханаанское.
И лидеры на государственных постах, новоявленные Моисеи, повели украинцев, нацию, названную так коммунистами, за собой за амерские деньги в знойную, голодную, безводную пустыню, называемую Незалежность, в поисках прячущейся от них в ужасе в этой пустыне украинской самобытной самостийности.
Ничего другого, как ходить по пустыне, Моисеи делать не умели, потому что родом были из этого богом избранного, как они везде о себе заявляли, Моисеева племени. Моисеи умели только ходить по пустыне. И идут уже почти тридцать лет. Осталось, согласно преданию, десять. Куда придут – неизвестно.
И народу Украины Моисеи, начиная с первого президента, тоже Моисея, навязали менталитет и направление развития, пустынный, мало связанный со здравым разумом.
Всё это Иван Иванович знал и понимал, о чём на самом деле спрашивает украинский милиционер. Но надвигался вечер и надо было спешить.
– Благодарю! И вам не скучать! – усаживаясь в машину пожелал он милиционеру.
Ещё оставалось несколько сотен километров пути. Вечерний воздух посвежел. Тёмный полог ночи уже ложился на землю, когда за одним из поворотов в лунном свете перед капотом машины наконец возникла сумрачная громада моря, а вдали, отражаясь мириадами огней в воде, как сказочное видение, как мираж из восточной сказки, показался город.
Вначале он казался большим костром, полыхавшим между сизой, сумеречной степью и уходящей в непроглядную темень, сливавшуюся тёмной стеной с небом, равниной моря. По мере приближения языки пламени начали распадаться на отдельные огни.
Вот от общего пламени отделилась гирлянда огней, уходящих в сумеречную даль за набережной. За огнями пригорода обозначились силуэты высоток. И наконец машина вкатилась под свет уличных фонарей в пульсирующий, клекочущий шум ночных улиц южного города.
Как он любил этот провинциальный, такой тихий, уютный городок! Как, возвращаясь из далёкого далека, когда приходило время, ни за что на свете, ни за какие блага не променял бы он, как его друг Виктор, эту милую его сердцу уютную провинциальность на какие-то там Майами.
Ему пришлось пару раз побывать за границей, увидеть своими глазами общество неограниченного потребления и всеобщего и полного благоденствия.
Он признавал достижения Запада, как и то, что в его стране, скорее всего, никогда ничего подобного не будет. А если будет, то не для всех, а только, согласно сложившейся издревле парадигме, для избранных. Для «достойных» людей.
Но, странное дело, всякий раз, возвращаясь в родные пенаты, он испытывал настоящее наслаждение, почти счастье, попав из общества вечного благоденствия в затерявшуюся во времени патриархальность, какую-то забытость, необязательность, в которой можно было пока ещё отдыхать душой от стремительного бега времени, от всё ускоряющегося прогресса.
И всё-таки, как на чей взгляд, а по мнению Ивана Ивановича, как бы где хорошо ни было, а только Родину, как мать и отца, на всевозможные блага и сладкую жизнь, пусть даже сказочную, пусть даже райскую, приличные люди не меняют.
Возможно, по этой причине не торопился он посетить своего заокеанского друга. Уехал так уехал, ушёл в другую жизнь, о чём теперь говорить!
И он катил поздним вечером на машине улицами милого его сердцу курортного городка, хотя, если по совести, без меры завидовал всем этим людям, которым не нужно было никуда из этих райских мест уезжать, у которых всё необходимое им было сосредоточено здесь, в этом сказочном городе, на этих улицах, в их чудо-квартирах, обставленных дорогой мебелью, заставленных драгоценными цацками, заваленными вообще не имеющими никакого практического смысла побрякушками и бесполезными вещами.
Улица, другая, третья. Вот и знакомая калитка, родимый дом. Иван Иванович надеялся вкатить машину в маленький дворик и отдохнуть.
Открыть окна, дверь, упасть на диван и спать, спать, спать, пока не наступит утро, но из беседки, увитой виноградной лозой, в свете фар появилась женщина.
– Маргарита! – воскликнул Иван Иванович, сообразив, что никакого сна этой ночью не будет. Вот из-за чего, должно быть, он так торопился на юг, выжимая из машины всё, что только можно, последние два дня, чтобы увидеть её карие глаза, запустить руки в роскошную гриву ее черных как смоль волос, услышать долгожданную музыку её голоса.
– Я так тебя ждала! Я знала, что ты сегодня приедешь, – подходя, сказала Маргарита.
Когда он устало выбрался из машины, она обняла его, обдав теплом мягкого, податливого тела. Прижалась трепетно, как, бывает, прижимается после грозы на леваде травинка к травинке.
«Не так уж бедна и бессмысленна наша жизнь, – открывая дверь в старенькое, покосившееся, даже как будто ставшее ниже за время отсутствия хозяина жилище, подумал Иван Иванович, – пока есть хоть кто-то, кого мы любим, пока есть кому нас ждать».
Впереди была ночь. Короткая, знойная, южная ночь. Впереди было много ночей, которые он проведёт с Маргаритой, пока внутри него, подобно звукам полковой трубы, не зазвучит голос, снова зовущий его в дорогу, в дальнюю даль, где он опять будет заниматься настоящим мужским делом, без которого, как и без любви, он не мыслил своей жизни.
Глава 5 Весна и Любовь
И покатилось, как он мечтал, казалось бы, ещё совсем недавно, замерзая среди полярных сопок, неуёмное времечко без устали, день за днём, за рассветом закат, за закатом рассвет, в волнующих запахах цветущей в палисаде сирени, что хватали истомой за сердце, будоражали сознание сладким ароматом цветущих акаций, которые засыпали улицы белым снегом осыпающихся вешней метелью лепестков.
Они, Маргарита и Иван Иванович, подолгу не ложились спать вечерами, засиживаясь за длительной, нескончаемой, так нужной им после долгого расставания болтовнёй, наслаждаясь изысканной негой южной ночи, бодрящей свежестью вливающегося вместе со светом луны в открытые окна воздуха, терпким вкусом лёгкого, располагающего к длительному вечернему времяпровождению вина.
Когда Маргарита бывала в настроении, они часто засиживались далеко за полночь, но как бы поздно, устав от болтовни и любви, они ни засыпали, Иван Иванович просыпался, едва наступал рассвет.
Боясь разбудить Маргариту, он долго не шевелился. Под стрехой во дворе попискивали птенцы. Они поднимали жуткий гвалт, когда родители приносили в родительских клювах им еду.
Прозрачная, хрупкая тишина понемногу заполнялась звуками. Вот в предрассветной серой мгле раздался крик муллы, возвещавшего через мощные динамики с высоких белых минаретов мусульманской мечети о приближении очередного дня и призывавшего ортодоксальных правоверных к первому утреннему намазу.
В рассветных сумерках Иван Иванович открывал глаза и упирался взглядом в потолок.
Как ни долог отпуск полярника, но и он рано или поздно закончится. Такие мысли, когда они появлялись ранним утром, очень его беспокоили. При их появлении Иван Иванович явно чувствовал, как что-то непонятное, помимо его воли, стесняло ему грудь. Какая-то непреодолимая безысходность возникала в его сознании.
В сумеречной мгле он долго лежал не двигаясь, прислушиваясь к тому, что просыпалось вместе с ним и затем происходило внутри него.
Всё же как ни необычна и безбрежно неуёмна в трогательном разнообразии цветов и красок неяркая палитра строгой северной красоты, но и здесь, на юге, уезжая, Иван Иванович всякий раз оставлял часть своей души.
«Иль Алла!» – нёсся тем временем над маленьким городком, над причалами, над морем усиленный мощными японскими усилителями заунывный, наполненный вселенской печалью голос служителя культа, чем-то напоминавший хорошо знакомый Ивану Ивановичу вой ветра в азиатской солончаковой пустыне над барханами.
И слышалось в этом заунывном, как неизбывная человеческая печаль, голосе поступь тяжело гружёного каравана, бредущего по каменистой тропе, растрескавшемуся от зноя такыру, в зыбучих, текущих под ветром как вода песках.
И грустная, заунывная, как вой иссушающего, знойного сирокко, песня погонщика, монотонно раскачивающегося в старом, скрипучем седле, и завывание голодного шакала, прячущегося за барханом неподалёку, и наводящий тоску звук зурны, летящий над плоскими глиняными крышами оставшегося в безвременье кишлака, и еле уловимый шорох песка, сползающего с дюны под лапами ящерицы, удирающей со всех ног с верблюжьей тропы под призрачную тень саксаула, и на многие сотни километров ни жилья, ни человеческого голоса, ничего, кроме воя ветра и изнуряющего безжалостного зноя.
Всё это было хорошо знакомо Ивану Ивановичу и в полудрёме всплывало в его сознании, помимо его воли, как и хруст песка на зубах, и несусветный зной, как будто он брёл и никак не мог выбраться из какой-то бесконечной пустыни. И кругом ни деревца, ни какого-либо подобия тени, в которой можно было бы укрыться от испепеляющих солнечных лучей. И Иван Иванович сбрасывал с себя простынь и отодвигался от Маргариты, от которой веяло жаром, как от печки.
Или, наоборот, ему мнилось, что он замерзал в бескрайних, белых, безмолвных пустынях севера.
И тогда, проснувшись от холода и дрожа, он закутывался с головой в клетчатый плед.
– Ну что, что? Опять север приснился? – обняв его, придвигалась к нему Маргарита, и он благодарно прижимался к её горячему телу и никак не мог согреться, пока полностью не просыпался и не вспоминал, что он на юге, у тёплого, как парное молоко, моря, в благоустроенном, уютном южном городке, а всё, что возникает в его сознании, не что иное, как картины из прошлого; память, которую он переносил затем на холст; всего лишь галлюцинации, миражи, почему-то не дававшие ему покоя даже здесь, в этом благодатном, обласканном щедрым солнцем и любовью людей краю.
Не отпускал его север. Нужен он был ещё северу.
Наконец громкоговорители на минаретах замолкали. Неожиданно, как облегчение, наступала тишина. Птенцы под кровлей, должно быть в конце концов наевшись, затихали.
Солнце, поднявшись над горизонтом, разгоняло весёлыми лучами остатки сизой мглы, и с первыми солнечными лучами начинали звонить колокола со звонницы православной церкви.
Медный звон – призыв к заутрене, незримо плыл над улицами, над равниной моря, над домами, кораблями в порту, мачтами яхт, покачивающихся на волне у причалов, как он веками плыл над полями, лесами, колышущимися от ветра нивами с колоколен в славянских селениях, возвещая народу благовестом о начале дня, о том, что всё хорошо и разумно в этой архаичной, старозаветной стране, и по сей день, поныне, живущей под золотыми куполами древнерусских церквей, под сенью такой же древней, как сотворение славянского мира, религии, то ли сказки, придуманной невесть кем, скорее всего ещё во времена оные, первочеловеком, жившим в плодородных, райских долинах Месопотамии, и только-только научившимся добывать и хранить огонь, и затем украденной племенем Ханаанским и превращённой ханаанами в колыбельную, убаюкивающую глупыми химерами, полоумным бредом и по сей день сознание целых народов.
Симфония наступающего дня продолжалась в гуканье диких голубей на соседней крыше, в шуме проезжающих авто, негромких звуках голосов, визге трамвайных колёс на недалёком перекрёстке.
Городок был маленький, за час можно весь обойти, но обладал на редкость большой и очень богатой родословной. Как и вообще многие города Причерноморья.
Первоначальное поселение было ровесником не такого уж и удалённого от этих мест Вечного города, легионеры которого, блистая гривастыми шлемами и звякая короткими мечами, было времечко, гуляли по улицам этого городка.
А на волнах залива покачивались, отражаясь крутобокими смолёными боками в голубой лазури волн огромной бухты, шлёпали вёслами воинские галеры с раскрашенными деревянными, бронзовыми и золочёными фигурами глядевшихся в своё отражение в воде римских богов и богинь на носовой оконечности трирем.
И в разные времена в городке звучала разная речь: греческая, итальянская, турецкая, персидская, аланская, караимская, азиатская, ханаанская. Всего не перечислить.
Время шло. Маленький городок много чего видел и носил поочерёдно различные имена, в том числе известных завоевателей, пока его мимоходом, походя, не покорила выдающаяся в делах государевых царица из Северной Пальмиры.
В северной столице климат был не очень, а императрице, пережившей недавно большие неприятности в личной жизни, должно быть, захотелось далёкого южного тепла и непонятно было, доколе на юге на самом деле простираются границы Российской империи. Почему юг, Северное Причерноморье, до сих пор принадлежит Порте, каким-то османам, отчего от набегов диких племён с Кавказа и Крыма так много лиха претерпевают жители южной Малороссии.
Почему ногайцы и кипчаки совместно с другими дикими народами нападают, преодолев южные кордоны, на селения южных поселенцев, убивая мужчин, угоняя в азиатское рабство женщин и детей, забирая скот и грабя нехитрое имущество живущих в Малороссии жителей.
Императрица пригласила во дворец на Неве генерал-фельдмаршала Потёмкина, без советов которого не начиналась ни одна военная кампания, и, тыкая пухлым пальчиком в расстеленную на столе карту, в нарисованный на карте тёплый, ласкающий взгляд Понт Эвксинский, в города Азов, Измаил, Ак-мечеть, Султан-Сарай, принадлежащие туркам и закрывающие выход в Понт Эвксинский, а значит в Средиземное море, спросила у почтительно склонившегося сзади, над плечом, красавца-царедворца:
– Скажите, любезный фельдмаршал, правда ли, что на юге империи до сих пор творятся учиняемые местными дикими народами под покровительством турков бесчисленные беспорядки, и не пора ли, как по-вашему, дорогой граф, этим безобразиям положить конец?
И, если это так, кто бы из известных своей решительной деятельностью генералов мог бы выполнить эту сложную в военном отношении и весьма важную в приобретении в последующем для государства Российского, зело важную в политическом смысле деликатную задачу?
Фельдмаршал, принимавший решающее участие не в одной военной кампании, ответил, что пора. Давно пора!
Он вспомнил, что на юге, в монастырской крепости святого Дмитрия Ростовского, командует войсками, сдерживая дикие орды кавказцев и крымских татар, живущих за счёт варварских грабежей южных пределов, генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, начинавший службу из-за слабости здоровья по протекции отца рядовым лейбгвардии Семёновского полка.
Отец Александра Васильевича, Василий Иванович Суворов, служивший в молодости в денщиках у Петра Первого и дослужившийся из солдат до звания генерал-аншефа, не хотел, чтобы сын пошёл в воинскую службу.
Поэтому он и устроил «по знакомству» сына простым солдатом, надеясь, что тяготы солдатской службы отвратят Александра Суворова от занятия воинским делом. Но вышло точно наоборот. Воинская служба будущему знаменитому, прославленному в веках умением воевать «не числом, а умением» гениальному полководцу понравилась.
О Суворове было известно, что он строг к себе, всегда честен, прямолинеен, удачлив в ведении военных кампаний, всегда доволен службой и собой, а больше всего доволен, что служит в удалении от дворца и дворцовых интриг.
Помнил Потёмкин и необычную просьбу к нему, как к фельдмаршалу, когда генерал-поручик Суворов за воинские заслуги получил известность и был приближён ко двору: «Исторгните меня из праздности. В роскоши и безделье жить не могу».
Генерал-поручику было послано предписание склонить по-доброму крымского хана Шагин-Гирея к необходимости переселиться на Волгу.
Генерал-поручик Суворов был худощав, быстр, решителен. Он был рад служить императрице, а более всего – народу и государству, и, следуя надлежащим наставлениям, присланным депешей из Петербурга, послал к хану Шагин-Гирею, подданному турков, для дипломатических переговоров подполковника кавалерии Сергея Александровича Булгакова.
Лихой подполковник с сотней гусар навестил хана. Хан долго противился равносильному закону, указу Великой императрицы, обращался за защитой к всесильной самодержице, пока рассерженный донельзя генерал-поручик Суворов, надев начищенные денщиком до блеска для такого случая генеральские сапоги и постукивая по голенищу кавалерийским стеком, не заявился в сопровождении адъютанта и десятка кавалеристов в гости к хану самолично.
О чём они беседовали, доподлинно неизвестно. В анналах истории записей об этом событии не осталось.
Известно лишь, что хан Гирей вдруг, после беседы, возлюбил волжские просторы и, бросив на произвол судьбы свой народ, возжелал вдруг вместе с гаремом переехать жить в Воронеж. Места там красивые или по какой-то другой причине, достоверно сие никому не ведомо.
Воля императрицы была выполнена. После ряда разгромных поражений, причинённых Суворовым туркам в Азове и Измаиле, Дикая орда притихла. С турецкой Портой был подписан Кучук-Карнарджикский мирный договор, согласно которому Таврида и Северное Причерноморье отходили к России.
Отныне южные границы империи прошли, согласно воле всесильной Императрицы, по северному побережью Понта Эвксинского. России открывался выход в Средиземное море и далее в Атлантику. Деятельный фельдмаршал Потёмкин начал строительство морского порта в Севастополе, в нищей, убогой татарской деревушке Ахтиар в пять дворов, находившейся на берегу красивейшего и удобного для стоянки кораблей морского залива, неподалёку от величественных античных развалин византийской древней крепости – Херсонеса Таврического, бывшей Корсуни, склоняя находившуюся в мрачном настроении императрицу развеяться и проехаться по вновь приобретённым пределам к тёплому, ласковому, ставшему отныне русским Чёрному морю.
Известно, что императрица уступила уговорам сиятельного вельможи и посетила столицу Крымского ханства – Бахчисарай, в котором, в ознаменование своего пребывания в ханском дворце, по преданию, оставила на память потомкам свою походную, слегка похожую на небольших размеров футбольное поле для забивания штрафных пенальти царскую кровать. Некоторые уверяют, что кровать и по сей день находится в ханском дворце.
Чтоб злобные, кровожадные, невежественные дикари навсегда запомнили, кто теперь в Крыму главный над всеми. Кроме Аллаха, разумеется. А правильнее – выше Аллаха. Потому что задолго до Аллаха были на полуострове другие религии и другие народы. Хазарский Коган, верховный жрец хазар, князь Владимир в Херсонесе, тогда Корсуни, что возле татарского селения Ахтиар, ставшего потом Севастополем, за триста лет до появления Аллаха, чтобы взять в жёны византийскую принцессу, крестился в иудейство, названное потом блудливыми попами православием… Аллах на полуострове Крым появился последним.
А уже над Аллахом и другими религиями многонациональной Тавриды ярко воссияла корона России.
А кровать в ханском дворце была оставлена специально, для утверждения верховенства и величия Российской короны над Крымом, дабы помнили, кто в Крыму отныне и на века главный, ну и вдруг Её Величеству, Великой императрице захочется вернуться! Чтоб было на чём Её Величеству удобно спать.
В Инкермане она в окружении европейских послов устроила на белых инкерманских скалах с видом на севастопольскую бухту, заполненную военными кораблями, пришедшими по распоряжению фельдмаршала Потёмкина засвидетельствовать немощной и слабоумной старушке Европе величие и славу русского оружия и устроившими из всех корабельных пушек салют в честь Великой императрицы и Великой Российской империи торжественное пиршество.
Гульба продолжалась неделю. Неделю стреляли корабельные орудия, а небо не успевало погаснуть от разноцветья взлетающих фейерверков.
И Европа узнала о пиршественном торжестве, услышала грохот русских пушек и увидела разноцветные огни триумфальных фейерверков.
Присутствовавшие на торжественном пиршестве иностранные послы, те, кто смог потом прийти в себя от последствий небывалой пьянки, послали подробнейшие описания небывалого по размаху и великолепию, обошедшегося в немыслимые по величине по тогдашним временам деньжищи праздничного торжественного гульбища на белых инкерманских скалах под открытым южным небом, своим правителям.
Умела Екатерина Великая повеселиться от души, простенько, незатейливо, но с большим вкусом и аристократическим шиком. Да так гульнуть, с таким размахом, чтобы вся Европа об этой грандиозной пьянке и по какому она торжественному случаю прознала.
«Вот так, любезные! И не иначе! Знай наших! И хорошо, на всякий случай, запомните на будущее!» – послала такое необычное и небывалое до этого дипломатическое послание всей Европе Великая императрица. Екатерина Великая была великим дипломатом. Она во всём была Великая.
Попутно она нарекла небольшой городок недалеко от Бахчисарая именем известного не менее чем она и так же популярного в народе и оставившего значительный след в истории Причерноморья восточного воителя Евпатора.
Название получилось удачным. Оно прижилось, потому что хорошо и естественно вписывалось своей каллиграфией, славянской вязью букв в окружавшую это селение степь. Лучше этого названия, пожалуй, ничего нельзя было придумать.
Так с тех пор и остался этот маленький городок под этим звучным именем в память о Великой Императрице и не менее великом в веках воине.
Они ушли, но их барельефы украшают ныне главную площадь этого города как напоминание о славной истории возникшего очень давно, почти одновременно с Вечным городом, Римом, маленького поселения на берегу огромного морского залива.
А на набережной городка в память о фельдмаршале и генералиссимусе, тогда, во время описываемых событий, генерал-поручике, завоевавшем ханство без выстрела, с одним кавалерийским стеком, благодарными потомками поставлен скромный, непритязательный, не претендующий на величие бюст.
В жизни легендарный полководец отличался необычайной скромностью, и бюст ему поставлен скромный, такой, каким при всём своём величии был этот удивительный человек.
И бродя с Маргаритой по солнечным, овеянным славной и очень непростой историей улицам этого древнего и одновременно такого юного городка, Иван Иванович часто находил свидетельства восточных культур в архитектуре, быте и нередко в своеобразном национальном одеянии жителей этого городка. И, наслаждаясь восточной кухней в различных бесчисленных кафешках приморской части города, простотой нравов и присущей южанам деликатностью и южной обходительностью живущих в солнечной благодатной Тавриде людей, он всё чаще ловил себя на мысли, что рано или поздно закончится его отпуск и всё это закончится, как рано или поздно заканчивается всё хорошее в этой жизни.
И ему уже очень не хотелось уезжать, и хотелось как можно подольше растянуть их встречи с Марго.
Это были неописуемо прекрасные минуты. Он не мог найти этому дельного объяснения, но рядом с ней ему казалось, что он без остатка растворяется в улыбке Маргариты, в волшебном очаровании её карих глаз, переходит в какое-то другое состояние, давно забытое им, как он думал, со времён далёкой, безвозвратно затерявшейся в туманах прожитых лет юности.
Глава 6 Философия любви
Как бы ни проходил их вечер, но утром, когда солнце, поднявшись над зеленью садов и черепичными кровлями домов, заглядывало желтоглазо к ним в рамы окон, вместе с первыми лучами солнца они поднимались.
Остатки сна обычно навевали Ивану Ивановичу задумчивое, немного грустное настроение, и, тихо, еле слышно напевая что-нибудь старозаветное, но близкое ему по характеру и стилю жизни, вроде: «Эх, дороги, пыль да туман…», и улыбаясь каким-то медленно всплывавшим в сознании сбивчивым, разрозненным мыслям, он на скорую руку принимался готовить кофе, бутерброды и прочую снедь, пока Маргарита делала всё сразу: одновременно заправляла постель, убирала со стола вчерашнее застолье и, жалобно вздыхая, разглядывала в зеркале припухшее со сна лицо.
В её исполнении это выглядело милой игрой, своеобразным кокетством, театрализованным украшением медленных, ещё только начинавших стремительный забег утренних, полных неизъяснимой неги и волшебного очарования минут, незамысловатой бесхитростной прелюдией, первыми аккордами начинающегося дня.
Наблюдая за Маргаритой, Иван Иванович с опаской начинал понимать, что он всё больше и больше подпадает под чарующую магию её мягких, полных женского обаяния движений, ласковых взглядов, тихих, полных музыки и чарующей ласки нежных слов.
В предвидении неизбежной разлуки он так боялся этого. Они не любили друг друга и, конечно, ни за какие пряники не имели намерения впадать в подобную эпатажную глупость.
«Господи! – будь их воля, вполне могли бы они обратиться к Всевышнему, если бы они верили в Бога и вообще во что-нибудь, кроме самих себя, верили. – Господи, спаси нас от подобной глупости и помилуй, если ты есть! Неужели нам, простым людям, нельзя как-нибудь обойтись без подобных излишеств?»
«Эка, право, невидаль эта любовь!» – порой размышлял Иван Иванович, не очень доверявший излишне ярким эмоциям, и не мог не признать, что что-то, безусловно, за этим эффектным словом, возможно, так и не понятое им до конца по-настоящему, скрывалось.
«Быть может, любовь – это красивое, эффектное украшение, декорация, орнамент чего-то главного, основного, – думал он. – Острая приправа к тому, что составляет стержень жизни любого состоявшегося человека.
А быть может, это всего лишь некое мифическое зеркало, придуманное и в веках взращённое и без меры взлелеянное людьми? Есть же человеческие сообщества, обходящиеся без подобной головной боли, живущие без излишних заморочек! Счастливы должны быть люди, обходящиеся без лишних проблем, живущие без зависти, не знающие ревности».
Наверное, тогда, при таком раскладе, если понемногу извести, освободить общество от всех алчных, богатых, злобных, завистливых, или хотя бы, если отделить этих уродов от нормальных людей, при новом общественном устройстве, том, о котором мечтали Великие утописты, возможно, наступит наконец рай на земле. Что, если подумать, не такая уж, если подумать, фантастическая, невыполнимая задача. Сознание людей в любом обществе развивается. Когда-нибудь эти социально опасные сорняки научатся выпалывать и, наверно, тогда эта мечта простых людей в идеале исполнится. Научатся всё же люди когда-нибудь жить так, как следует и как должны жить люди. Не может быть, чтобы не научились.
Что касается Ивана Ивановича и Маргариты, они оба были эйдетиками, то есть людьми, жившими и питавшими своё сознание чувствами.
На самом деле, какую бы философию общественного устройства Иван Иванович не изобретал, конечно, они никогда и никому в этом не признались бы, они всё-таки были глубоко верующими людьми. Их религией была любовь. Любовь к жизни!
И тем не менее по предыдущей своей жизни они знали, что стоит только отпустить вожжи, дать волю эмоциям, как эфемерное в их понимании и всё же не совсем чуждое им легкомысленное украшение взаимоотношений, безделица, называемая любовью, моментально превратит их отношения в яркий, всё испепеляющий костёр. А вот этого они не хотели.
Они боялись рисковать. Потому что когда этот эйфорический, красивый, фантастически яркий костёр догорает, он оставляет после себя чадное, дымное пепелище. Они предпочитали понимать любовь как встречу двух физически сильных, здоровых, ненасытных в страсти животных. Зверей!
Да и не в любви, и не только в любви, они искали и хотели найти своё счастье. Они были ненасытны не только в чувствах и страстях, но и в том, что отличает человека от прочих земных существ: в поисках себя, своего места и назначения под этим солнцем, в этой, казалось бы, на первый взгляд, такой до неприличия кажущейся простой жизни.
И всё, казалось бы, в их отношениях было, что называется ничего. В таких случаях, кажется, говорят: комильфо – вполне, как следует.
Одно Ивану Ивановичу было непонятно: почему, несмотря на их молчаливую взаимодоговорённость и полное взаимопонимание относительно опасностей совместного плавания в бурных, как горный поток, водах реки любви, эта стройная, божественно сложенная женщина, созданная игрой слепого случая и неуёмного в поисках совершенства провидения для всеобщего обожания и поклонения, природной грацией своих движений с утра до вечера заставляет быстрей бурлить кровь в его жилах и наполняет непривычной ему нежностью и непрерывным ожиданием чего-то прекрасного его огрубевшее, должно быть, как он думал до этого, напрочь отмороженное, замёрзшее, превратившееся в холодную ледышку в бескрайних полярных просторах, ставшее совершенно бесчувственным сердце.
Почему сладкой истомой желание всякий раз разливается по его телу, когда она, держа чёрный карандаш аккуратными, хорошей лепки руками начинает прорисовывать и без того чёрные, похожие на крылья ласточки, густые, как соболий мех, брови и аккуратно, маленькими глотками, чуть касаясь бокала пунцовыми губами, пьёт с наслаждением после завтрака шипучку, а потом медленно, вглядываясь в зеркало, подрисовывает абрис губ тюбиком губной помады, как бы ненароком, ненамеренно говоря каждым движением: «Вот, дорогой, какая я! Вот какие у меня брови, какие губы, какое великолепное тело, на которое ты так жадно глядишь и которым так и не успел досыта насладиться, насытиться за целую ночь».
И он никак не мог понять, почему каждое утро ему так хочется, чтобы время остановилось и чтобы, кроме её движений: как она расчёсывает волосы, как берёт маленькими пальчиками бокал, как её губы прикасаются к бокалу, к медленно всплывающим в воде пузырькам воздуха, – чаровница, насыщающая воздух, атмосферу в комнате, электричеством любви, чтобы день в эту минуту замер, остановился и ничего больше другого, кроме этих, дарующих ему неизъяснимое наслаждение движений, её многообещающей, завораживающей, неуловимо блуждающей по лицу улыбки, ничего больше не было.
Солнце, аромат весны, вливающийся в открытые настежь окна, и флюиды очарования, которые источала каждым своим движением эта женщина, что ещё, казалось бы, было нужно ему для счастья?
А возможно, это и было счастьем? Одной из многих его разновидностей, необходимой человеку для ощущения полноты жизни. Своего полноценного присутствия в ней.
Иван Иванович, конечно же, ничего этого не знал. Он знал лишь, что он давно, очень давно не испытывал ничего подобного. В отупляюще-монотонном, беспечально безрадостном чередовании однообразных, похожих один на другой, пустых, ничем особенно не заполненных дней, он даже стал считать подобные чувства больше принадлежностью дешёвой фантастики, нежели реально окружавшей его жизни. И на тебе! За здорово живёшь, за просто так попался!
«Нет! – думал он. – Ну конечно, может быть, где-нибудь кто-нибудь, кому нечем больше заняться, и мог позволить себе нечто похожее на такую сказочно небывалую роскошь как любовь, конечно, где-то в другом, запредельном измерении и в другом совершенно времени, но чтобы он, серьёзный, как бы здравомыслящий человек, каким он себя понимал, в его годы впал в подобное, достойное всяческого сожаления слабоумие! Нет уж, увольте! Можно же обойтись без крайностей!» – рассуждал Иван Иванович, чувствуя, как всё больше и больше запутывается, увязает в невыносимо приятных, запутывающих понемногу сознание, обволакивающих помимо его воли и разума его всего, обворожительных, превращающих его убогое холостяцкое жильё в сказочные чертоги, чарующих, колдовских тенетах её обаяния.
Но и это было бы полбеды, если бы однажды, возвратясь поздно вечером из театра, где она аккомпанировала какой-то местной знаменитости, и устало опустившись в кресло, Марго не спросила:
– Ваня, скажи, пожалуйста, на милость, зачем всё? Зачем мы? Почему мы так живём?
Честно говоря, у Ивана Ивановича не было ответа на такие простые, вечные вопросы. Он не знал, что ей сказать. Иван Иванович всего-то без малого пятьдесят лет безрезультатно пытался узнать эту превеликую тайну. – Ты, наверно, очень устала, – попробовал он уйти от ответа.
– И всё же! – настаивала она.
Иван Иванович не знал, как ему быть.
– Быть может, кто-нибудь другой, кто поумней, сможет объяснить тебе, что, зачем и почему, – сказал он Марго, глядя в бездонную темень её вопрошающих, колдовских глаз.
– И кто бы это мог быть? – капризно полюбопытствовала она.
У Ивана Ивановича не было полной уверенности, что он сможет правильно ответить и на этот её вопрос, но всё же он кое-что знал о людях, которые на любой вопрос, какой бы сложности он ни был, могли ответить вполне исчерпывающе.
И уж, конечно, одним из таких людей был давнишний, с незапамятных времён, с голопузого детства друг – Витька Монгольский. Уж он, насколько помнил Иван Иванович, в ответах не тушевался и, будучи не любителем базарить попусту о чём ни попадя, как истинный, чистой, ничем не разбавленной воды интеллигент как по происхождению, так и по судьбе, вполне мог ответить на такой вопрос любопытствующему персонажу в таком ключе.
– А вам, дорогой мой, – обращаясь доброжелательно к собеседнику с высоты своего саженного роста и безусловного авторитета в научном мире и в ближайшем окружении, среди сотрудников института, со снисходительными нотками в голосе мог высказаться приблизительно так: – К своему стыду, должен вам признаться, – и, приложив многозначительно указательный палец к губам, добавлял: – Только вы, пожалуйста, никому не говорите! Я знаю об этом ничуть не больше вашего.
И, видя изумление в глазах собеседника, оглянувшись кругом, не подслушивает ли кто, и наклонившись к собеседнику, доверительно сообщал: – А чтобы подобная заумь на тяжёлых изломах судьбы мне в голову, как к вам, не приходила, я поступаю весьма банально, а именно: выпиваю немедля бутылку водки и впредь никакими такими глупостями больше нисколько не мучаюсь. Правда, вам, с учётом вашей хлипкой душевной организации, я бы такой рецепт не рекомендовал. Обращайтесь к экстрасенсам или к попам! Они порчу с души снимают и благодать и благостность в любом из сущих в просторах вселенной миров всем авансом обещают. А мой рецепт опасен. От смеси философии с алкоголем такой бесовской крепости коктейль получается, что далеко не все это адское зелье выдерживают. Некоторые уже выясняют ответ на волнующий вас вопрос в специализированном учреждении. А есть и такие, – возводил Монгол очи вверх, – что, по всей вероятности – для более детального выяснения подробностей, уже отошли в мир иной. Так что мой вам дружеский совет: выбросьте глупости из головы для вашей же пользы.
Иван Иванович улыбнулся. Приблизительно такими категориями рассуждал обычно Витька, Виктор Монгольский, Великий Монгол. Почти двухметровый громила. Харизматич-ный красавец со стальными мускулами и несгибаемой волей.
Терминатор! Уникальный биоробот! Одушевлённая ходячая реклама: «Совершенству нет предела!». Сверхсовременный робот-автомат для решения любых, любой сложности вопросов, начиная от деликатных личных до общечеловеческих.
Вот что получилось в результате из мальчишки, бегавшего когда-то на черноморском пляже в волнах прибоя в поисках выброшенных на пляжный песок щедрым и добрым в тот день морем медных и никелевых монеток.
Конечно, в тяжёлую минуту он мог бы и не одну бутылку за воротник закладывать! При его-то здоровье! Две-три, например. Для начала!
К тому же из всех знакомых Ивана Ивановича Монгол, пожалуй, как никто, с головы до кончиков пальцев, до глубины души, до потаённых её уголков, о которых, возможно, он и сам не догадывался, был довольно редким в наше время, без тени сомнения, истым верующим. Натуральным! Без малейшей примеси мистических, окутанных мраком таинственности, непознаваемых нормальным здравым умом, бредовых религиозных еврейских философий.
Он с детских лет, насколько помнил Иван Иванович, исповедовал новомодную ныне в нашем государстве с некоторых пор монетарную, денежную философию и свято чтил и поклонялся верховным жрецам этой наидревнейшей из религий, святой обителью которых стал парламент, возникшим в ещё недавно, казалось бы, социалистической, народной стране, откуда ни возьмись, как чертополох во чистом поле, так называемым олигархам.
И даже главный поп в этой стране, Его Святейшество, церковный патриарх, неизменно являвшийся народу в помпезных религиозных театральных постановках, посвящённых придуманному евреями божеству, согласно сценарию, в золотой рясе, вышитой крестами, с золотыми подсвечниками с горящими свечами, в золочёном клобуке, в сопровождении сонма одетой в золотые одежды, изображавшей святость, толстомордой, разъевшейся на дармовых хлебах поповской челяди, оказался вовсе не чужд любви, возможно, единственной, настоящей, первой и последней в его никчёмной, пропитанной насквозь фальшью и обманом людей жизни, неуёмной страстью к золотому тельцу, как и вся поповская шалая, беспутная продажная шатия. И, чтобы быть святым и одновременно современным, шагать в ногу с изменчивым временем, не отставая в алчности от первых лиц правительства, тоже был из этого треклятого народом воровского племени олигархов.
Разбогател дешёвый барыга в одночасье на беспошлинной торговле водкой и импортными сигаретами. В результате получилось новомодное словосочетание: банальный ворюга-поп и одновременно Святой олигарх!
А ещё Иисус в одной из проповедей призывал народ не ходить в церкви, говоря: «Не ходите в церкви! В церквях святости нет! Фарисеи – торгаши – клятое поповское племя, торгуют в церквях за деньги святым словом».
И античный поэт Данте Алигьери в дошедшем до нас, написанном тысячу лет тому назад произведении «Божественная комедия» отмечал: когда он достиг в сопровождении поэта Вергилия десятого неба, где должен был находиться рай и где его ожидала нежно любимая подруга, там он увидел, что с трудом влекомая четверкой коней колесница христианской церкви давно треснула ровно посредине и, готовая разломаться пополам, пришла в негодность из-за корыстолюбия и продажности христопродавцев-попов. Что, в общем, всем известно. Нужна как воздух новая государственная идея и новая, подходящая и объединяющая все народы религия.
Вот Монгол и оказался одним из тех религиозных и идейных протестантов, кто, кажется, решил создать эту новую государственную идею и новую, устраивающую всех религию, для чего, недолго думая, подался в богатеи, произнося иной раз на междусобойчиках перед друзьями с дрожью в голосе как кондовое, лежащее в основе начала всех начал, древнее магическое заклинание, как «Отче наш», как основной закон термодинамики в разговоре с довольно редкими в наши дни иноверцами, такими, например, как его друг Иван Иванович, убеждёнными вероотступниками и безбожно уничижаемыми и немилосердно презираемыми и гонимыми церковью атеистами:
– Бог, разлюбезные мои, если вам это ещё не известно, один на всём белом свете – это деньги! Кто мы в этом взбесившемся мире без денег? К сожалению, с большой буквы, самой большой – НИКТО! – пел он дифирамбы новоявленному, возникшему из руин распавшейся на жалкие обломки, спасибо и низкий поклон до земли всем им, собравшимся на Олимпе власти деятелям ещё недавно Великой страны, Божеству! Взяли – и с дуру развалили страну. От великого ума! Не иначе!
– Что мы без денег? К сожалению – НИЧТО! Деньги правят бал на земле.
Деньги – это прогресс! Деньги – это процветание! Деньги – основа основ современного мира! Да здравствуют ДЕНЬГИ! Деньги – единственный известный мне Истинный Бог на земле, которого я всецело уважаю! Любая религия, – говорил он, – это термоядерная бомба, заложенная под устои целостности государства. Раньше мы жили в государстве, у руководителей которого хватало ума понять и правильно оценить зло, которое несёт в себе любая религия и религиозность. Теперь к власти пришли люди, слабо ориентированные в государственной политике. Прикрываясь религией как щитом, они построили государственную религию воровства. Им лишь бы грабить! Своей показушной религиозностью, призывами к религиозной и межнациональной толерантности они щедрой рукой сеют семена раздора и межконфессиональных войн между народами нашего государства. Вместо разрушенных заводов и фабрик в атеистической некогда стране ускоренными темпами строятся религиозные сооружения разных конфессий. Безумные средства тратятся на увеличение количества религиозных деятелей, разобщающих людей по религиозному и национальному признаку. Религиозный Джин выпущен из бутылки. Страшный, кровожадный, ужасный, не различающий добро и зло, не ведающий милосердия, чуждый вселенского сострадания Джин!
Спасение только в Боге! В едином Боге! Нужен единый бог для всех. Всех примиряющий и ко всем относящийся ровно. И этот Бог есть! Он один у всех! На всей Земле Бог один! Имя этого Бога – ДЕНЬГИ!
Что, откуда ни глянуть, выглядело правдоподобно и сомнению не подлежало. И эти его слова ничего нового никому, надо признать, не открывали. Справедливость в его словах была.
Когда он выступал на митингах, послушать его собирались толпы людей. Ему бы с церковного амвона выступать или с кафедры, а ещё лучше, судя по его проповедям, в самый раз церковь открыть! Новую Вселенскую церковь Нового Старого Бога. С огромным золотым империалом чистейшего, стопроцентной пробы золота, в десять человеческих ростов, по числу небес над нами (как их описывал в «Божественной комедии», написанной тысячу лет назад, великий Данте, единственный из живых побывавший на всех десяти небесах и вернувшийся живым и невредимым обратно к людям), горящим в солнечных лучах как огонь на куполе вместо убогого еврейского креста, венчающего печальный конец жизни христиан.
Тот финиш, чем всё в итоге заканчивается. Грустный результат, венчающий бесчисленное число многих житейских чаяний и бессмысленных надежд и устремлений, и как замена других не менее никчёмных символов расплодившихся без счёта разных, разобщающих людей иноземных сектантских религий. Любая религия – это секта.
И чтоб пол в этой церкви был вымощен царскими золотыми червонцами, а стены отделаны изумрудами и бриллиантами. А вместо икон сказочных мифических еврейских святых на стенах в золотых рамах были бы изображения всех валют мира.
И не было бы в мире более честной, соответствующей грубой сермяжной жестокой правде жизни, более правильной и горячо любимой разными народами единой, объединяющей всех церкви, потому что Бог действительно на всей Земле один, и это, как бы вы ни возражали, – ДЕНЬГИ! Ну а кто в силу дремучей отсталости и умственной недоразвитости не понимает этого – это погрязшие в тенетах серости и убогости невероятно глупой, древней, как египетские пирамиды, еврейской сказки, написанной евреями в 325 году от начала исчисления новой эры, и названа эта сказка Библией, всего-навсего – жалкие фарисеи.
– Нынешняя религия – это всего лишь проверка людей на идиотизм. У кого сколько ума осталось и есть ли он вообще. По количеству верующих можно определять количество психически больных и умственно неполноценных в обществе. Насколько психически больно общество, – уверял Монгол.
И, разумеется, не было бы никакого другого в этой церкви настоятеля, кроме Монгола, более известного своей праведностью и непоколебимой верой во вновь открытые Новые Старые духовные ценности. Святого отца, служившего истово и вдохновенно Новому истинному Старому Богу – ДЕНЬГАМ!
Если бы Иван Иванович знал, что наступит время, когда Монгол действительно соберётся основать Новую Вселенскую церковь в знойной пустыне, в которой он планировал построить Новый город, Новый Иерихон, Вавилон наподобие Лас-Вегаса – столицу Новой религии с новыми жителями этого города, свободными, счастливыми людьми, не зависимыми от повторяемого в поколениях гнойного бреда вековых предрассудков.
Впрочем, Монголу и без церкви все поклонялись! Монгола обожали! Его чистосердечно любили!
С речами он мог бы и не стараться. Его непременный, обязательный, повседневный авантажный вид, неизменная респектабельность даже в худшие годы так называемой перестройки производили неизгладимое впечатление лучше любых слов и проповедей если не на всех, то на многих.
Он выглядел убедительно даже тогда, когда большинство в стране растерялось, потеряло уверенность в завтрашнем дне.
Новообращённые, неофиты слушали его открыв рты. Особенно балдели от распространяемого им вокруг совершенно бесплатно настоящего мужского обаяния стопроцентного мачо женщины. Они были готовы и без денег молиться на него, боготворить его, носить этого писаного красавца на руках. Они бегали за ним толпами.
Такой мужчина! Монгол снился им ночами. Он был их кумиром. Любая мечтала, чтоб на неё упала хоть небольшая толика внимания божественного красавца. Каждой хотелось хотя бы немного побыть в сиянии лучей его необычайной красоты.
Монгол, следует признать, всегда был на волне. На самой её вершине. Так было при нещадно ругаемых и без меры поносимых последними словами некоторыми быстро разбогатевшими людьми, в основном спекулянтами всех мастей, Советах. Тогда он, пройдоха, неплохо выглядел на фоне стоящего на ВДНХ монумента скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница».
Фотография монумента с проходимцем Монголом на переднем плане, надо думать, не случайно стояла в институте на его рабочем столе.
А теперь, при Новых властях, он ещё лучше смотрелся на фотографиях, которые он прислал Ивану Ивановичу, где Витька был сфотографирован на небольшой, но известной всему миру улице под названием Уолл-стрит.
Скромная табличка «Wall St» на углу здания, видимо бывшая главным элементом фотографии, явственно свидетельствовала об этом, а фигура с распиравшими полотно майки мускулами и выражение физиономии прохвоста излучали силу и уверенное превосходство над всем и вся. Умел чертяка при любых властях и где бы то ни было фотографироваться простенько, непритязательно, но непременно с видным всякому на втором плане большим смыслом и вкусом.
И уж, конечно, этот человек с фотографии, в отличие от туповатого Ивана Ивановича, его друг и сотоварищ по жизни, много знал. Он был специалистом в горном деле самой высшей пробы. Докторскую степень за просто так, за красивые глаза и умение грамотно держать стакан не каждому дают.
Хотя и стакан Витька Монгольский умел держать как следует, и сумрачная, не обещающая женщинам ничего хорошего, бездонная темень его нахальных, раскосых восточных глаз в обрамлении длинных ресниц обладала магической силой, разящей женское сословие наповал.
И уж, разумеется, он-то, в отличие от слабого, неуверенного в себе Ивана Ивановича, мог дать исчерпывающий ответ на любой вопрос. А Иван Иванович на главные вопросы жизни ответить не мог. Не знал он на них ответов.
Так по природной простоте и врождённой прямолинейности Иван Иванович и сказал Маргарите, что он знает только одного человека, который, по его мнению, что-то мог бы сказать в ответ на интересующие её вопросы.
– Монгольский! Великий Монгол! Твой друг! А кто он? – спросила Марго.
– О-о-о! – многозначительно возвёл глаза вверх Иван Иванович. – Это такой человек! – И он рассказал вкратце о своём приятеле, и даже не просто приятеле, а закадычном друге детских лет, о том безмятежно счастливом времени, когда он, глуповатый несмышлёныш, рисовал прутиком очертания берега на песке и сияющее, смеющееся солнце, а Виктор уже тогда, в малолетстве, смотрел вглубь вещей, в самый их корень, и собирал в пене прибоя мелочь, которую морские волны выбрасывали на берег.
– Оттуда всё и пошло! Мы тогда крепко поссорились, – сказал он, вспомнив, как Витька, тогда Витусь, растоптал его рисунок, а потом, неожиданно рассердившись, бросил собранную с большим трудом мелочь, целую горсть медных и никелевых монет, обратно в море.
Ему казалось, что он до сих пор помнит, как сверкнули на солнце металлические кругляшки, прежде чем, шлёпнувшись в воду, уйти обратно на морское дно, заманчиво поблёскивая и маня оттуда призрачным видением лёгкого, беспроблемного богатства.
– Замечательное было времечко! – добавил Иван Иванович. – Мы, как новорождённые котята, учились смотреть на мир. Учились понимать жизнь. Чему-то учились. Да вот же, у меня и его фотография есть, – вспомнил он о письме друга и, выдвинув ящик стола, достал конверт с фотографиями.
На фотографиях был запечатлён мускулистый, атлетического сложения красавец, чем-то похожий статью и внешностью на всех побеждавшего, не знавшего поражений популярного античного героя греческих мифов, а в выпавшем письме Иван Иванович прочёл фразу, на которую раньше он как-то не обратил внимания. «Мы, дружище, чего-то хотели добиться в этой жизни, достичь, чего бы нам это ни стоило, и мне, кажется, это в полной мере удалось» – прочёл он на выпавшем из конверта листе бумаги и задумался: чего же они хотели добиться и что бы такого особенного, невиданного его другу удалось достичь?
Он, например, ничего в жизни не добился и ничего не достиг. И в ближайшем будущем манна небесная ему явно не светила.
Работа в местах от всего цивилизованного мира удалённая, да мольберт, и ещё десяток-другой привезённых из разных экспедиций, добротно сработанных и никому на свете не нужных картин, вот всё, чего он добился и что достиг за всю жизнь.
Это ли достижение? Об этом ли он мечтал в юности, в начале пути? Теперь он не мог ответить утвердительно на этот вопрос.
Иван Иванович в задумчивости повертел в руках конверт из-за которого сразу возникло столько непростых и довольно каверзных вопросов.
На конверте стоял штемпель «ЮС оф Америка» и фамилия отправителя – «Монгольский». А на фотографиях изображалась какая-то неземная, непривычная для сознания Ивана Ивановича, непонятная ему заоблачная жизнь.
Вот Верочка в шезлонге, в тени раскидистой пальмы, машет с фотографии ему рукой. А вот и всё семейство: сыновья и Монгол с Верочкой у бассейна на фоне великолепной, в мавританском стиле виллы, и непомерной длины автомобиль, и вертолёт – всё свидетельствовало о финансовом благополучии и высоком уровне жизни этой виллы. Витька во все времена, в любой общественной системе умел хорошо устраиваться.
– Чтоб нам так жить! – в сердцах выругался Иван Иванович, хотя отлично понимал, что никогда так жить не сможет, и, более того, не видит в таком образе существования никакого смысла.
При виде богатых людей, как они ходят в церковь, крестятся и молятся, а выйдя из церкви, остервенело грабят простых людей и, мало того, стремятся всеми силами отгородить-с я от черни, от простонародья, и даже отказаться от своей национальности и государственной принадлежности, его иной раз посещали удивительные мысли: непомерное богатство и интеллектуальное содержание жизни, как приметил он, не всегда и не для всех одно и то же. И никчёмная бессмысленность тупого, спокойного, обеспеченного существования его не привлекала.
Хотя, конечно, он понимал, что, к сожалению, и для него не так уж далеко то грустное время, когда, вполне возможно, и к нему придёт и неслышно постучится в двери тихое старческое спокойствие и безмятежное умиротворение. Чего он как огня боялся. Неужели жизнь невозможна без старости?
Старость, конечно, неминуема для тех, кто до неё доживает. Но как её достойно прожить – это для многих оставшихся ещё целая проблема.
А Маргарита с интересом рассматривала фотографию, на которой обнажённый, полуголый Монгол демонстрировал свою великолепную мускулатуру. Полубог-получеловек.
– Да! – наконец восхищённо воскликнула она. – Вот это персонаж! Плейбой! А что же дальше было? – заинтересованно спросила Марго. – Надо думать, было же ещё что-то и дальше.
– Да, дальше меня привлекла живопись, а Витька, Виктор, пошёл другой дорогой. Его больше всего интересовали деньги. И хотя мы вместе и институт один заканчивали, и распределились затем в одно НИИ, пристрастия у каждого из нас остались разные. Виктор стал крупным учёным. У Монгола появились друзья в финансовом мире, соответствующие перспективы. А я далеко не пошёл, остался в его подмастерьях. На полевых работах, в экспедициях я таскал для Монгола, для его научных статей, каштаны из огня, а когда представлялся случай, занимался живописью. Теперь Монгол – великий человек, а я, – Иван Иванович задумался, – я и по сей день толком не пойму, кто я – специалист по горному делу или художник. Впрочем, я не в обиде. Наверно, не зря говорят: «Каждому своё!» Науке я предпочёл художническую стезю. Наука всё-таки слишком суха, безэмоциональна, в отличие от живописи, целью которой как раз и являются чувства, настроение, мысль. Так что, несмотря на то, что я выбрал не такую дорогу, как Монгол, судьбой я вполне доволен. Богу – богово, кесарю – кесарево!
– И что же, за ответом на такой простой вопрос нам теперь надо ехать к твоему другу в Москву, в этот Новый Вавилон?
– Почему в Москву? – спросил Иван Иванович. – Витька Монгол теперь не в Москве. Он успешно покоряет Штаты. Ныне его резиденция во Флориде, в Майами. Он теперь крупный золотопромышленник. – И рассказал историю превращения учёного в золотого дельца.
– Как же это ему удалось?
– Оказалось, что мы не зря бродили по этой грешной Земле. Кое-что мы о ней знаем, – ответил Иван Иванович.
– А что же ты?
– Я? – Иван Иванович с грустью посмотрел на давно нуждающуюся в ремонте комнату, на облезлую краску на дверях, на более чем скромную меблировку жилья. Всё требовало рук, внимания, денег. – Я? – сказал он. – Я в результате так и остался непонятно кем, то ли художником, – кивнул он на стоявший у окна мольберт с этюдом, – то ли специалистом по горным разработкам. Во всяком случае, купец, хозяин художественного салона, приезжающий из Белокаменной в поисках нового в живописи, считает меня художником, а Железный Феликс, руководитель института, толковым геологом средней руки и ничем больше. Вот так и болтаюсь между профессией и призванием и не могу выбрать окончательно ни то ни другое. Работа помогает мне найти новые сюжеты для картин, а картины позволяют увидеть то, что в пошлой житейской обыденности ни за какие деньги не сыскать.
– Значит, ответа на мои вопросы мы так и не найдём? – спросила Маргарита. – Друг в погоне за эфемерными материальными благами до дури разбогател и обитает теперь чёрт знает где, в чужедальних Майами, а ты, художник божьей милостью, добровольно возложил на себя миссию пустынника, в отличие от твоего приятеля, и так ни к каким выводам и не пришёл. Что же нам делать?
У кого искать ответ?
Иван Иванович не знал, что ей сказать. Баловалась, конечно, Маргарита. Капризничала. Никто на свете не знал ответов на некоторые довольно обычные женские вопросы, и уж кому-кому, а Маргарите это было хорошо ведомо.
Почему-то Ивану Ивановичу вспомнились слова знакомого о женской диете. О том, какие женщины утончённые гурманы и умелицы и как они деликатно умеют выедать мужчинам мозг.
А за окном, в зыбком, дрожащем, трепетном свете луны плыла ночь. Волшебная южная ночь. Восхитительная, ласковая и нежная, как женщина, сидевшая в кресле и задававшая странные вопросы, на которые у Ивана Ивановича не было ответов; благо в комнате царил спасительный полумрак, скрывавший тень смущения на лице Ивана Ивановича, человека, прошагавшего за свою жизнь без малого пол-Земли, видевшего и азиатские пустыни, и стылую безбрежность полярных льдов, и холодное сияние заснеженных горных вершин на фоне прозрачно-голубого неба и, как оказалось, не умеющего ответить на элементарные, простые вопросы Маргариты.
Если б кто знал, как всё-таки тяжело порой соответствовать некоторым женским запросам!
И, преодолевая неожиданное смущение, Иван Иванович сказал, что друг, тот самый заморский друг, приглашает его к себе в гости и при желании они могли бы навестить другана детства и сотоварища по жизни, прежде чем он опять уйдёт на изыскательские работы.
– А! – воскликнула Маргарита. – Дальняя дорога – долгие сборы!
Она объяснила, что у неё контракт, что летом она не может распоряжаться своим временем. Что если бы зимой! Так зимой он безвылазно на работе.
А как хотелось бы между делом сгонять в эти Майами, глянуть одним глазком, что там и почём.
Рассуждая она поднялась из кресла, подошла к окну, встала, почти растворяясь в потоке лунного сияния.
Остался видным только силуэт, и лёгкая тень легла на пол. Спросила, глянув на мольберт: «А это что?»
Иван Иванович облегчённо вздохнул. Он понял, что пришло неожиданное спасение. На мольберте был этюд, на котором маленькая девочка кормила изо рта длинноклювую птицу.
Девочка пролазила через дыру в изгороди из соседнего двора, потому что там, возле двухэтажной современной виллы, в которой она жила, царил идеальный порядок и не было такой запущенной, заросшей виноградными лозами беседки, и горки песка, и воды, капающей прямо на Землю из крана, – настоящего богатства, которое было ей необходимо, чтобы быть по-настоящему счастливой.
Иван Иванович подошёл к Маргарите, обнял её за плечи и сказал:
– Это Маришка, соседская девочка. Чудо-ребёнок! Счастливы должны быть родители, родившие такое замечательное дитя. Я по утрам, когда она приходит, не налюбуюсь на неё. Люблю за ней наблюдать, как она играет. Как ты думаешь, может быть, она сможет ответить нам на вопросы, ответы на которые мы давно забыли или никогда не знали?
Глава 7 Чудо-дитя Маришка
Конечно, Иван Иванович, возможно, всего лишь неудачно пошутил, между делом переведя стрелки на портрет, на маленькую девочку, изображённую на картине. Однако, к обоюдному облегчению, шутка была принята, и между ними, Маргаритой и Иваном Ивановичем в тот вечер опять воцарились привычные мир и спокойствие.
Тем не менее в один из дней, когда Маришке вздумалось снова посетить маленький запущенный дворик Ивана Ивановича, где так хорошо было играть и никто не ругал за разлитую под краном воду и сделанную под краном запруду, в которой Маришка запускала плавать свою длинноклювую птицу, Марго, должно быть из озорства, вздумалось задать ей те же самые вопросы, которыми она так умело, как это иной раз умеют делать женщины, без меры утомляла Ивана Ивановича.
Она, несмотря на возраст, во многом ещё оставалась малышкой с вполне ещё детскими причудами и такими же, как у Маришки, капризами. Только взрослой Маришкой.
Некоторым женщинам такая ребячливость идёт и даже украшает их, придавая им особый шарм и привлекательность. И так ли уж велика разница в возрасте между известной городской знаменитостью, аккомпаниаторшей на рояле, и маленькой девчушкой! Наверно, они могли бы понять друг друга. Если бы захотели.
Иван Иванович сидел у раскрытого окна и дорисовывал на картине орнамент из виноградных листьев, создававший игру света и тени и придававший картине глубину, и довольно улыбался: какая Маргарита, несмотря на возраст, всё ещё девчонка!
Если бы он не видел их из окна, по содержанию – две маленькие девочки-погодки.
– Чиф, чиф, чиф! – самозабвенно выводила Маришка, гоняя прутиком пластмассовую игрушку по организованной ею луже. Где бы ещё она могла так развлекаться?
Девочка выглядела довольной и самой собой, и лужей, и представившейся ей благодаря счастливому соседству свободой.
– Зачем всё? – удивилась она совершенно странному вопросу, который задала ей вышедшая из дома и усевшаяся в тени беседки тётя.
Она долго думала, надув губки и, должно быть, соображая, шутит эта так некстати появившаяся необычайно красивая женщина, прикидывается или на самом деле чего-то не понимает. Это же надо! Взрослая, а такие вопросы задаёт! – А что всё? – попробовала выяснить малышка.
– Всё, что нас окружает: природа, деревья, цветы, птицы, мы – часть природы и ты, разумеется, тоже.
– Попалось! – усмехнулся Иван Иванович.
Разговаривая с женщиной вечером, никогда нельзя быть уверенным, что тот же спектакль не начнётся вновь утром. Тем не менее Иван Иванович не мог не признать, что ему доставляют удовольствие ребяческие выходки Маргариты.
Она была неистощима на всевозможные проделки и как могла украшала виньетками и завитушками своих придумок их совместное бытие, и он от чистого сердца был благодарен ей за её бесконечные выходки и эскапады.
«Без сомнения, – думал он иной раз, – Маргарита, конечно же, в совершенстве владеет магией виртуозного перевоплощения в образы, которые она изображает. Одно слово – артистка во всём и везде. И не устаёт же чертяка!»
Но и девочка, с которой она разговаривала, тоже уже начала постигать азы артистического перевоплощения. Она осуждающе посмотрела на тётю и покачала головой: неужели тётя не догадывается?
И произнесла:
– Для того чтобы играть в хорошие игры!
– А ещё для чего?
– Чтобы всем было хорошо. Чтобы папа и мама не ругались.
– А ещё?
Девочка долго думала, казалось, ответа так и не последует, и наконец сказала: – Для того чтобы все были счастливы.
Иван Иванович чуть со стула не упал.
– Съела? – торжествующе рассмеялся он. – Вот так с детками разговаривать! Они научат, как и что должно быть. – И снова занялся орнаментом, с головой погрузившись в работу.
Дальнейшее его не интересовало. Маришка сказала главное. Остальное было второстепенно и неважно.
Он думал, что пока не жарко, они пойдут в ближайшее летнее кафе на набережной, из-под тента которого так приятно смотреть на голубеющую морскую даль; есть горячие, с пылу с жару, истекающие соком, обжигающие губы чебуреки и запивать их огненный пожар холодной, шипящей, сладкой до изнеможения водой.
Потом они долго будут плескаться в прозрачной, ласковой морской синеве, плавно переходящей на горизонте в бирюзовую пропасть неба с плавающими в безумной бездне над их головами невесомыми курчавинами облаков.
Вечером он пойдёт в театр, слушать её игру, а ночью они снова будут вместе до самого утра, пока на востоке не погаснет в лучах восходящего солнца ярко пылавший в ночном небе над Землёй факел красавицы Венеры.
Тогда, устав от возлияний и любви, они забудутся лёгким летним сном, чтобы, проснувшись, вновь начать повседневный круг обыденных забот, поисков и надежд до поздней ночи, когда снова вспыхнет в ночном небе свет красавицы Звезды, вновь пробуждающий в них страсть и взаимное влечение.
И снова им будет не наговориться, не напиться, не наласкаться до первых солнечных лучей, пока взошедшее солнце не растопит в жёлтом тёплом свете, льющемся в раскрытые окна, их страсть.
И, устав, но так и не насытясь вином, едой и любовью, переплетясь обнажёнными телами, едва прикрывшись скомканными покрывалами, они заснут в тёплом, пахнущем морем и знойной полынной степью воздухе. Но давно ведомо: одно дело предполагать и совсем другое – располагать…
В комнату, в полном восторге от разговора с девочкой, вошла Маргарита.
– Ваня, ты только посмотри на это чудо! – смеясь сказала она. – Такая маленькая, а как излагает!
Не успел Иван Иванович обменяться с Маргаритой парой ироничных слов о её разговоре с Маришкой, как за окном зашумел мотор, скрипнули тормоза и большая чёрная запылённая машина остановилась у калитки.
«Фифа!» – догадался Иван Иванович. Всё! День пропал! Придётся, хочешь не хочешь, тратить попусту время на разговоры о чём-нибудь, чего он как бы не понимает, а вот этот торгаш знает вроде бы досконально, и он будет учить его, что должно быть в его картинах, а что излишне и сегодняшней публике непонятно.
Тоска и только! Беда! Куда деваться от этих знатоков искусства? Сами ничего не могут, а рассуждать горазды!
И действительно, пока он жалел о едва начавшемся и уже, с появлением джипа, должно быть, потерянном дне, калитка скрипнула на ржавых петлях и на дорожке, ведущей к дому, появился полный маленький одутловатый человек.
– К нам, кажется, кто-то припожаловал! – выглянув в окно, сообщила Маргарита. – Интересно, надолго ли и зачем?
– Не знаю, надолго ли, – наблюдая, как нечто расплывчатое, округлых форм, слегка похожее на облако в штанах, сопя и отдуваясь, направляется по садовой дорожке к дому, прямо к открытому окну, ответил Иван Иванович. – Но пляж, по всей вероятности, придётся отменить.
– Уже интересно. А кто же это такой будет?
– Это сам Феофан Дмитриевич, известная в столичных кругах личность, меценат, антиквар, большой ценитель живо-пней, владелец престижного художественного салона в Белокаменной.
– И как далеко простирается его известность?
– Достаточно далеко. Его мнение часто является окончательным при покупке баснословной цены художественных ценностей.
– Ого! – воскликнула Маргарита.
– Ого! – многозначительно кивнул Иван Иванович.
Тем временем известная в столичных кругах личность, слегка похожая на большой колобок, пыхтя и отдуваясь, докатилась до средины садовой дорожки, остановилась, оттянула прилипшую к жирному потному телу майку, вытерла носовым платком обильно проступившие капли влаги с похожего на круглый блин лица и, завидев в окне Ивана Ивановича, возопила низким, севшим от жары, хриплым голосом:
– Мне интересно, есть кто дома?
– Есть, Феофан Дмитриевич. Есть.
– Тогда, с вашего позволения, мы зайдём? – спросила личность, потому что следом за личностью, подобно тёмной грозовой туче, возник крупный, сумрачного вида верзила, одетый в противоположность легкомысленному одеянию личности, со всей строгостью канона, в серый, отлично сидевший на широких плечах костюм.
Торчащий ворот расстёгнутой на верхнюю пуговицу рубашки подпирал гладко, до синевы выбритый подбородок. На худом, костлявом лице, в противоположность колобку, не было ни капельки пота, ни малейших признаков испарины.
Ничего не выражающий взгляд костолома, которым он, не торопясь, обследовал окружающее пространство, медленно поворачивая голову, напоминал взгляд удава, а фигура с распиравшими пиджак мускулами, несмотря на жару, казалось, распространяла вокруг явственно ощутимый арктический холод. Это был телохранитель известной личности, бодигад по прозвищу Ледокол.
Они познакомились на Старом Арбате в крутую для Ивана Ивановича минуту. Тогда у Ивана Ивановича закончились деньги и, помаявшись с месяц-другой на хлебе и воде, он решил продать своих верблюдов. Известное дело – голод не тётка. Всё хоть какие-нибудь деньги будут.
Верблюдов он привёз из азиатской пустыни, очень дорожил ими и, если бы не безвыходное положение, ни за что бы с ними не расстался. Вот и вышел Иван Иванович с верблюдами на Арбат.
День с утренней прохлады сменился полуденным зноем, потом солнце покатилось на Запад, но верблюдами никто не интересовался.
Кому нужны верблюды в шумном, многолюдном, северном мегаполисе? А может, день был слишком жарким? Кому в такую жару хочется смотреть на картину, на которой караван верблюдов бредёт в пустыне под знойным, выцветшим от жары, белёсым солнцем?
Наверно, картина, выставленная Иваном Ивановичем на продажу, чересчур выпадала из общего ряда пейзажей – лесов, гор, рек, сработанных добротно, проникновенно, но одинаковых по замыслу и исполнению.
В самом деле, кому в городе, окружённом дремучими лесами, переполненном людьми и машинами, со всем, что необходимо человеку, только руку протяни, нужна картина с нарисованной на полотне пустыней и караваном, бредущим между песчаными дюнами неведомо куда, к известной, должно быть, одному ему цели, мимо заброшенного, покинутого людьми, засыпанного по крыши песком селения, мимо сложенного из грубого, нетёсаного камня и тоже заметённого по самый сруб песком колодца.
Гуляющие по Арбату люди не обращали никакого внимания ни на Ивана Ивановича, ни на его выставленную на продажу картину.
К концу дня Иван Иванович совсем отчаялся. И вот ближе к вечеру невысокий, несколько излишне полный человек, шагающий скучающе по Арбату в сопровождении двух верзил сквозь ряды предлагаемых в изобилии к продаже, как в сказочной лавке древностей, старинных вещей, антиков, картин, завидя этих залитых закатным огнём, понуро бредущих по пустыне верблюдов, в изумлении остановился.
Нечто похожее на смесь восторга с удивлением угадывалось на пухлом, с заплывшими глазками лице толстяка. Он долго изучающе рассматривал картину.
– А что? – обратился наконец он вопрошающе к одному из нависших над ним сзади мрачными тенями верзил. – Вот уж не ожидал! Как ты думаешь, это на что-нибудь похоже?
– А ничего. Верблюды как верблюды! – ответил совершенно индифферентно, уставясь на носки своих до блеска надраенных туфель, костолом. Очевидно, кроме чистоты обуви, его ничто более не интересовало. – И ничего совершенно я не думаю. Зачем бы мне это? Головная боль от дум.
– И это правильно. Только это нас и спасает, – жизнерадостно улыбнулся толстяк, – потому что даже страшно подумать, что случилось бы, если бы ты начал думать.
Он подошёл ближе к полотну, отошёл, оценивающе посмотрел на картину, затем на высокого, статного, широкоплечего мужчину, стоявшего сбоку.
– Ваша работа?
Иван Иванович утвердительно кивнул.
– Копия?
– Не совсем. Одна из вариаций на тему.
– А где оригинал? Кто мастер? Наверно, какой-нибудь азиат?
– Оригинал в мастерской. А азиат – это я.
Толстяк, топыря пальцы в перстнях, чуть отошёл, шагнул вправо, влево, приглядываясь к полотну, прогулялся в задумчивости, остановился, спросил соблюдая дистанцию, учтиво:
– Быть может, познакомимся?
И назвал, протянув руку, фамилию, довольно известную среди художников в Первопрестольной:
– Баринов Феофан Дмитриевич. Нет, нет, – уловив немой вопрос в глазах Ивана Ивановича, уточнил: – Не Фаворский, и даже не Воскресенский.
Всего лишь Баринов. Мелкая рыбёшка. Так себе. Карась среди акул большого бизнеса. Так что вы просите за картину?
И, заплатив вдвое больше запрашиваемой суммы, обронил еле слышно, едва повернув голову на жирной, потной, короткой шее, оттягивая с груди мокрую от пота майку:
– Федя!
Упакованный в светлый костюм, с дымящейся сигаретой в углу рта, с улыбкой на худом, костлявом лице, Федя, в противоположность истекающему потом хозяину, выглядел как покрытый инеем ледокол во льдах Арктики.
– Да, шеф! – равнодушно, с пренебрежением перебросив сигарету в другой угол рта и выпустив клуб дыма, флегматично поинтересовался Ледокол.
– Отнеси верблюдов в машину. А заодно прихвати и эту, – Феофан показал на картину, изображавшую моржей, ныряющих возле галечного берега в просвеченных светом, искрящихся, прозрачных волнах прибоя. – Плачу не глядя, что запросите.
Так они познакомились. Феофан Дмитриевич стал навещать Ивана Ивановича в его мастерской.
И, угощаясь крепким, чёрным, как ненастная ночь, чаем пополам с лёгким, сорокапятиградусным «Бенедектином», Фифа, как, с его позволения, для простоты стал называть его Иван Иванович, разглядывая развешанные по стенам работы, что-то непонимающе отвергал, над чем-то задумывался, а возле некоторых работ, после того как ликёра в чае становилось больше, чем чая, приходил в несказанный, неописуемый восторг.
– Нет, откуда ни глянуть, ты не художник! – по пьяни восклицал Фифа, разглядывая отобранные этюды где-нибудь после пятой кружки чая. – Любому понятно, что ты далеко не Брюлик, не Ванин и, уж конечно, не Грек, – коверкал он заплетающимся языком фамилии знаменитых мэтров живописи, академиков. – А я вот гляжу на твои работы. Что же в них такого? Интересно. Теперешние художники не умеют так работать. Что бы они ни делали, у них только слюнявый гламур получается. И ничего больше. К сожалению! Вот ты и привлёк меня своей необычностью. В твоих картинах ты виден больше, чем то, что ты ваяешь в отдельных сюжетах. Любое твоё полотно – это прежде всего ты. Личность! Твоя кисть! Твой взгляд на скрытую от непосвящённых потаённую суть вещей. Динамика сотворения! Мысль! Твоя психологическая экспрессия и ракурс. Твоё видение события. Чем ты и ценен мне и, надеюсь, будешь ценен другим. Да! – философствовал Феофан, размахивая вилкой с нацепленной на неё шпротиной. – Художническое ремесло – остановленное мгновение, миг, которого никогда больше не будет. Прошлое в настоящем. Мгновения, которые были и которых давно уже нет.
По-настоящему это нельзя повторить, потому что любое повторение – это всего лишь жалкая копия, попытка воссоздать то, чего никогда больше не будет. Вот почему так ценен оригинал и так мало стоит его повторение.
Масло со шпротины текло по вилке, стекало Фифе на пальцы, но Феофан в такие минуты был в ударе и ничего этого не замечал.
Порой в эти светлые мгновения между Иваном Ивановичем и Фифой возникало некое подобие взаимопонимания. «Бенидиктин» ли, придававший чаю такую терпкую, сладкую до изнеможения горечь, был тому виной, или в словах Феофана на самом деле содержался какой-то смысл, доступный для понимания Ивана Ивановича?..
Позже, изрядно набравшись, Феофан переходил от философской, ни к чему не обязывающей части беседы к деловой.
И тут между ними возникало невесть откуда, самопроизвольно, то непреодолимое расстояние, которое Иван Иванович ощущал всегда в разговоре с Феофаном, независимо от количества выпитого ими чая и, само собой, обожаемым ими обоими «Бенедиктина».
Особенно это чувствовалось, когда Фифа, перебирая толстыми, короткими пальцами с рыжей шерстью, торчащей из под перстней, его эскизные наброски и готовые работы, произносил непонятные, недоступные уму Ивана Ивановича слова: конъюнктура, рынок, спрос. Где, в каком словаре этот хозяин художественного салона их выкопал?
Пот капал с его лица. Непомерный рыхлый живот свисал, колыхаясь, над ремнём, грозя порвать майку. С короткой, бычьей шеи на золотой цепи свешивался увесистый крест с изображением спасителя всего человечества.
Антураж был полный. Ничего не прибавить и не отнять. Для интеллигентного человека, каким любил подавать себя обычно среди знакомых своего круга Фифа, портрет получался довольно колоритным. Даже просто для хорошего настроения окружающих эта картина хватала за живое и явно была чересчур.
«Может, и мне стать вот таким? – наблюдая за коммерсантом от искусства, спрашивал иногда себя Иван Иванович. – Прикупить пару-другую пивных палаток. Потом длинными зимними вечерами считать грязные, замусоленные бумажки, сводя дебет с кредитом и выводя на замусоленном листе бумаги положительное сальдо. Глядишь, появятся кое-какие деньжата, а с денежками, на зависть другим, безгоремычное, привольное житьё-бытьё. Не зря, должно быть, некоторые уверяют: торговля – двигатель прогресса».
И знал, что это невозможно. Не сможет он торговать, покупать, перекупать, нацепить на пальцы вот такие перстни, увешаться вот такими рыжими цепями, а главное – выучить эти слова: конъюнктура, рынок, спрос. Ума выучить их, как бы он ни старался, не хватит.
А всё потому, что в каждом из них где-то на клеточном уровне, в крови, заложена программа, кодовая матрица, кому кем быть.
Прогресс прогрессом, считал он, а где-то, должно быть в генах, записана книга бытия каждого из них и, как бы они ни пытались, ничего в этой книге изменить невозможно.
Потому что в книге этой чёрным по белому написано и цыганка Рада так нагадала, что Феофану в этой жизни, в табели о рангах, дозволено стать кем угодно, кем только ему, прохвосту, заблагорассудится, кем только он захочет, любое желание – пожалуйста, начиная от директора женской бани и вплоть до наместника Бога на Земле, самого господина президента.
А вот ему, Ивану, на СКРИЖАЛЯХ ВРЕМЁН золотыми литерами начертано – БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ и никем иным больше. И, как положено, наискось, размашисто, крупными, огненными, пылающими буквами наложена печать – резолюция самого ВЕРШИТЕЛЯ: «ПО СЕМУ БЫТЬ!»
– Я владею серьёзными магазинами, – вещал пухлый одутловатый человечек, разбирая этюды и копошась где-то внизу, как казалось Ивану Ивановичу, у его ног. – Меня, как вы понимаете, в определённых кругах ценят и уважают. Мне никак нельзя терять марку. А ваши последние работы сильно упали в качестве. Что-то я, конечно, возьму. Не зря всё же я приметил вас тогда на Арбате. Но вы же сами понимаете: конъюнктура, рынок, спрос. Вся жизнь держится на этом.
Этот чёртов язык! Именно этих слов Иван Иванович как раз и не понимал. Он совершенно не понимал, что говорит этот человек, как не может понимать художник, настоящий мастер кисти, мелких, сиюминутных, преходящих, как тучи на небе, меркантильных забот недалёкого лавочника.
Действительно, в последней экспедиции он сильно занемог и, возможно поэтому, последние его работы дались ему с большим трудом.
Но эти слова! Язык можно поломать! Это же надо! Что он несёт? В каком словаре для умственно отсталых, для дебилов, порождённых новой для страны системой экономических отношений, этот торгаш их выкопал? Во всяком случае, по-любому, к счастью, не в том, каким привык пользоваться Иван Иванович. Сказывалась, должно быть, специфика разных целевых устремлений: кому главное в жизни – деньги, а кому главное – постижение себя, и красоты, и значимости окружающего мира.
Возможно, отчасти поэтому расстояние между ними продолжало оставаться неизменно большим и, как Великая китайская стена, практически непреодолимым. Всё-таки, как ни крути, а говорили они на совершенно разных языках, использовали разные основополагающие путеводные термины, а от них, от простых на первый взгляд слов, от их набора, как в детской игре в конструктор, так часто зависит жизненный путь человека, почти так же, как в предсказаниях звездочётов от банального, казалось бы, расположения звёзд на небе – его дальнейшая судьба.
Но, конечно же, лавочник в силу своих профессиональных интересов и связанных с профессией жизненных приоритетов ничего этого не знал. Это была философия недоступного его уму заурядного торгаша слишком высокого порядка.
– Не понимаю я вас, людей искусства, – витийствовал тем временем, основательно набравшись ликёра с чаем, Фифа.
– Поглядеть на вас – люди как люди, с виду ничем совершенно от других не отличаетесь. Руки, ноги, голова – всё, как у всех. Но как всё-таки далеко вы – люди творчества, в частности художественная богема, – отстоите от нас, людей, переводящих полёт вашей мысли, ваш труд в вульгарные дензнаки с портретами тех или иных, никому на всём белом свете не нужных президентов, – чистосердечно поражался он. – Деньги – основа основ современного мира. Деньги нужны всем. Без денег, заведомо, какой бы ты дурак ни был, ни в одной стране не проживёшь. Даже в отдалённых от цивилизации, от современной жизни диких племенах, не видевших телевизора, не знающих современных средств сообщения, даже у них есть если не деньги, то предметы обмена, заменяющие деньги. Такие обстоятельства, независимо от нас, сложились повсеместно на Земле от сотворения Мира. И в вашей среде, как бы вы пренебрежительно, наплевательски к деньгам ни относились, они, деньги, в каком-то смысле, не являясь, конечно же, далеко эквивалентом способностей и таланта, всё же тем не менее, как ни странно, могут служить мерой известности и признания. Деньги – мерило всему. После денег на тридесятом месте все остальные человеческие ценности. Так вам и здесь всё не так. Вам и этого мало. Можно подумать, вы – особая порода людей. Для вас, в вашем сознании, есть что-то, что, кроме элементарных общечеловеческих ценностей, может быть ценнее и важнее денег. Объясните, пожалуйста, в чём дело? Кто вы такие? Чем особенным, возможно, складом ума или ещё чем-то особенным, дарованным вам свыше, вы отличаетесь от нас, простых людей? Физиологично ровно ничем. Те же руки, ноги, головы. Всё, как у всех. Если и есть какая-либо разница, то, я думаю, незначительная.
– Мы – художники, писатели, учёные – живём и трудимся, как бы высказались в старину, не одного хлеба для, – ответил Иван Иванович, размышляя, что нечто подобное или очень похожее он уже где-то слышал.
Как-то так или очень похоже, когда он пребывал в хорошем настроении, на лёгком подпитии, рассуждал его сиятельнейший друг детства, умнейший из всех людей, которых знал за свою не слишком большую жизнь Иван Иванович, его давнишний приятель по жизни Монгол.
Он тоже утверждал, что единственная ценность на земле – деньги.
«Бог на земле один, нравится вам это или нет, признаёте это вы или нет, понимаете или нет, это совершенно неважно и никакой роли в устройстве мира и полной и всеобъемлющей его картине не играет, – любил утверждать его друг, – это деньги!
И в каком-то смысле, отчасти, следовало признать, Иван Иванович его понимал. И, наверно, многие, если не все, подписались бы под этими идеями.
В руководстве страны, как он считал, собрались люди, которые главным критерием успешности считают деньги. И сколько людей вокруг стали одержимы этими простыми мыслями?
Эти идеи очень уместны в обществе на начальных стадиях его развития. Но ведь существуют идеи гораздо более высокой ценности, чем деньги!
Поэтому окончательно Иван Иванович житейской философии своего приятеля не разделял. Мало ли кто что думает, даже если он что ни на есть, как говорят, закадычный и единственный, самый лучший друг на всём белом свете.
Но настоящий удар его ожидал с другой стороны. Нечто очень похожее, уходя к другому, богатому и затаренному на все времена, в блестящий, сияющий мир денег и связанных с деньгами немереных возможностей, высказала ему без малейшей тени смущения женщина, которую до этого события он считал своей женой.
– Ты раб! – уходя, сказала она. – У тебя рабская философия. Ты никогда не сможешь зарабатывать много денег. Ты никогда не сможешь перемениться и стать другим. Наша совместная жизнь была ошибкой.
А он и не возражал ей, и не удерживал её. Что он мог ей сказать? Он действительно был рабом. Он это понимал. Он был рабом возникшей в отрочестве и с любовью взлелеянной им в последующие годы мечты во что бы то ни стало, чего бы это ему ни стоило стать художником. Человек тогда человек, считал он, когда он оставил после себя что-то полезное, необходимое людям.
И в спутницы по жизни ему нужна была такая же проклятая, как он, ничуть не больше и не меньше. Настоящая рабыня! А не эта раскрашенная мымра, завсегдатайка всяческих тусовок и непременная участница корпоративных пьянок, которую он с трудом узнавал, когда возвращался домой из очередной экспедиции.
Пусть идёт куда хочет. Может, с новым избранником, этим нафаршированным под самую завязку ассигнациями денежным мешком она наконец найдёт то, что в определённых кругах, кажется, называется женским счастьем.
Он так и сказал ей: «Свободна! Шагай на все четыре стороны! Чтоб глаза мои тебя не видели!»
На том они и порешили. Пожалуй, единственное, о чём он жалел по-настоящему, было то, что вместе с этой женщиной, если уместно в таком случае это слово, в запредельный, сказочный мир, в среду безумно богатых людей, существованию которых в человеческом сообществе Иван Иванович не находил оправдания, ушла его дочь.
Если настоящая любовь есть, то это любовь к детям. Он любил дочку, и после её ухода в его душе образовалась пустота. И ему нечем было эту пустоту заполнить.
Иногда она звонила ему откуда-то издалека, из этой новой, недоступной его уму, видимо очень счастливой, наполненной роскошью и сытой ленью жизни, и вопрошала из этого непреодолимого далека: «Как ты поживаешь, папка? Жив, здоров? Не нужно ли тебе чего?»
Что было нужно отцу? Каплю внимания. Он, слушая голос дочки, ощущал себя счастливым. В его сердце загоралось чувство радости и светлой отцовской благодарности. «Не забыла! Помнит!» – таяло родительское сердце. Но разговор заканчивался, и снова в душе Ивана Ивановича воцарялось одиночество и ощущение ненужности.
Возможно, поэтому иногда он жалел, что во время оно в их семье родилась девочка, а не мальчик, потому что девочку, в силу её женского естества, нельзя обучить тому, чему он мог бы обучить мальчика. И был бы теперь у Ивана Ивановича преданный товарищ и верный помощник.
О чём ещё большем стоит мечтать мужчине? Проклятые деньги! Всё из-за них. Выдумали фетиш, божество и теперь слепо, бездумно поклоняются ему.
Глупейшая ошибка в истории человечества. Можно же было избрать какой-нибудь другой символ для слепого, бездумного поклонения.
Деньги и глупое их обожествление – выдумка богатых людей. Никчёмных существ, обходящихся народу в очень большие, несуразные с их реальной, человеческой стоимостью суммы и ничего, кроме вреда и беды сейчас и в недалёком будущем, с катострофическими для народов земли последствиями, людям не обещающими. Богатыми должны быть или все, или никто.
Чтоб не было на Земле нуждающихся, голодных. Но для этого нужны другие люди, другой породы, и другие руководители, а не те, сегодняшние, жизненной философией которых является нажива и безмерное обогащение одних за счёт других. Такое устройство общества Иван Иванович считал достаточно разумным.
Но в реальности получалось всё по-другому. Вот и человек, идущий по садовой дорожке к окну его хижины, во главу всего ставит деньги. А, казалось бы, из приличного общества, владетель художественного салона, знаток живописи.
«Может, уже весь мир сошёл с ума и нормальных людей больше нет?» – подумал с огорчением Иван Иванович.
Тем временем колобок, катившийся по дорожке, подкатился прямо к окну и, глядя ошалело от жары на Ивана Ивановича, дурным голосом возопил:
– Так я вас спрашиваю, есть кто в доме?
– Есть Феофан Дмитриевич, есть.
– Тогда, с вашего позволения, мы зайдём?
– Да, пожалуйста, заходите, Феофан Дмитриевич, – по возможности доброжелательно пригласил Иван Иванович нежданного гостя, нисколько не удивясь возникшей одновременно мысли, что вот времена пошли, вот нравы, от хороших людей нигде нельзя спрятаться, даже в отпуске. Можно отключить телефон, можно никому не говорить, куда уехал отдыхать, но всё равно найдут, отыщут, достанут в самый что ни на есть неподходящий момент.
Иван Иванович даже почувствовал некий почти непреодолимый холодок неприязни в душе к этому человеку, так некстати нарушившему гармонию и незамысловатое очарование идиллического, тихого, почти деревенского утра.
Но, насколько он помнил, так было всегда. Как бы хорошо они друг к другу ни относились, но тем не менее между ними всегда неизменно пролегала незримая граница, вековечная пропасть, лежащая вековечно явно или скрыто между тружеником, созидателем, творцом и заурядным перекупщиком, наживающимся и делающим деньги на его труде. И он ничего не мог с этим поделать.
Эта пропасть была зримой, почти физически ощутимой, извечная пропасть между трудом и капиталом. Хотя следует признать, в каком-то смысле Феофан волею судеб оказался спасителем Ивана Ивановича в те голодные, головоломные годы перестройки, когда отечественная наука непонятно по каким причинам оказалась падчерицей в родном доме.
В те лихие годы в институте вдруг перестали платить зарплату и они: и Иван Иванович, и многие, многие, нет им числа, другие, неожиданно застигнутые врасплох бедой, – вдруг оказались без средств к существованию.
Это была жуткая, ни с чем не сравнимая беда. И как они тогда выживали, повествование, как нынче говорят, не для слабонервных. Как в те страшные года выживали миллионы людей, брошенные на произвол судьбы властями, занятыми дележом должностей и несметных богатств и придания видимости законности фактически банальному ограблению народа в этой несчастной стране бесконечных экспериментов над людьми, населяющими её, вряд ли когда-нибудь будет оценено в должной мере.
Глава 8 Немного о стране. Реквием
Некогда, не так давно, многие ещё помнят, на карте мира была страна. Называлась эта страна страной советов. Союзом Советских Социалистических Республик.
И жили в этой стране люди. Небогато жили, но счастливо. С мечтой жили. Красивой мечтой.
И всё у них было, что необходимо для нормальной жизни: школы, университеты, детские садики, бесплатная медицина, право на труд и право на жильё. Всё для всех! Всё поровну! На равных основаниях. Все должны были трудиться. И не было тогда бомжей и пенсионеров, роющихся в мусорниках, живущих на свалках, бездомных детей и стариков.
Это была великая эпоха строителей, созидателей нового. И закончилась она крушением идеалов равноправия. На смену созидателям пришли разрушители, уголовники, бандиты всех мастей и уровней, любители присвоить всё, что понравится, на что глаз ляжет.
Это случилось тогда, в те времена, когда три бесталанных, безвестных проходимца, покривлявшись немного перед чернью, сиречь народом, на экранах телевизоров, наподобие обезьян из зоопарка, и возомнив себя после этого самыми умными, как минимум вершителями судеб в огромной, необъятной, возможно, единственной в мире народной стране, собрались вершить своё чёрное дело скрытно от всех, на тайную вечерю в глухоманной лесной чаще белорусской Белой Вежи.
Можно подумать, там они спрятались от всех, будто им водки не хватало напиться прилюдно в Белокаменной или они боялись, что кто-нибудь, за здорово живёшь, чего доброго, набьётся к ним в их пьяндыжную компанию. Помешает втихую страну пропивать. По-другому рассудить нельзя.
Иван Иванович уж точно, даже если бы, случись такое, они его пригласили, пить с таким отребьем ни за что бы не стал. Хотя и любил закладывать.
Побрезговал бы! Зачем позориться, пьянствовать с кем ни попадя! Можно же и приличную компанию найти! Не с пропащими же барыгами, развалившими страну, водку жрать. И даже если б было за что, нипочём за один стол с таким продажным дерьмом не сел бы.
Вот там эти умельцы и разломали в одночасье на отдельные куски, пропили, спустили по пьяному делу или с жуткого бодуна, иначе никак нельзя этих ублюдков понять, или анашой обкурились, или до беспамятства напились, не в уме были, поделили веками до этих недоумков, со времён Рюриковичей и Романовых собираемую воедино огромную и могучую державу на слабые, обессиленные удельные княжества.
Что и не так уж удивительно. Пропивать всё, что есть, до последней рубашки, до исподнего всегда на Великой Руси умели. Тем и славны среди всех народов были. Но чтоб вот так, всё что ни на есть, да запросто, за одну ночь, ни с того ни с сего, да чтоб целое государство позорно пробухать!!!
Пустить с молотка! Савонаролы!!! Хвала Всевышнему, до этих трёх ничтожеств другого такого дерьма в нашей стране пока не находилось. Не приходили до них никому такие мысли даже среди последних, достигших натурального, многолетней выдержки, истинного фиолетового цвета чистопородных алкашей. Хотя один из них, главный на тот момент, Ельцин, таким алкашом, готовым за бутылку что угодно продать и пропить, и был.
Сначала он пропил партийный билет. А потом, по-лёгкому, а что ему, по пьяному делу пропил страну. СССР! СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК!
И понятно! Что она, эта страна ему? Не он эту страну в лишениях, голоде и тяжком повседневном труде поднимал из ничего, отстаивал ценой ужасных потерь от врагов.
Он числился в политической элите страны, хотя кроме как пьянствовать, ничего другого не умел, и, как глупый царь-самозванец из телевизионной сказки «Иван Васильевич меняет профессию», только раздавал с необычайной лёгкостью не принадлежащее ему всем, кто пожелает хапнуть поболе, лишь бы ему пить и воровать не мешали. Остаток жизни он мечтал провести так, как ему, алкашу, ни в одном сне и не снилось, в нескончаемом пьяном угаре.
И ведь никаких полномочий ни от кого эти ренегаты на такое деяние не имели. Прощелыги! Мелкие, ничтожные, скудоумные людишки.
Они и не думали о государстве. Они и не думали о людях в этом государстве. Да и чем им было думать! Дешёвые, продажные душонки! Чем там им было думать! Жалкие себялюбцы! Мерзкая, омерзительная пародия на людей! На экранах телевизоров они предстали перед народом во всей своей умственной никчёмности. Вся страна увидела их ничтожность. И содрогнулась в ужасе: «Какое дерьмо нами правит!!!»
А черни, сиречь пиплу, в очередной раз можно популярно объяснить происходящий демонтаж идеологических и нравственных ценностей исторической необходимостью. Пипл схавает. Не впервой! На то он и пипл, чтобы лапшу хавать.
Двое из одиозной троицы, вволю нажравшись, напившись, накравшись, удалились в мир иной. Здоровье не выдержало беспредела. А один пока ещё остался.
Его, одного из этой троицы, в ставшей сопредельной России республике, стряхнув, как с мумии с Печерских пагорбов, нафталин, являют временами на экранах телевизоров голодному, обкраденному им и его сообщниками-подельниками народу.
Как специалист по идеологии и величайший оратор современности, кем он себя мнит, он подводит идеологическую базу под право незначительного меньшинства на законное обкрадывание подавляющего большинства.
Отказавшись от идеалов коммунизма во имя бесконтрольного личного обагащения в этой вновь обретённой им идеологии оправдывания воров и воровства он видит теперь смысл своей дешёвой, никчёмной жизни.
Полоумный старец, когда его приглашают на телевизионные шоу, улыбаясь счастливой старческой дебильной улыбкой, становится в позу дельфийского оракула и выдаёт на потеху народу какую-нибудь очередную очевидную глупость, после чего его снова, как чёртика из табакерки, захлопнув крышку, прячут от людей.
В результате этот защитник криминалитета, захватившего власть в стране, дотрепался. Некогда промышленно развитая страна превратилась в страну с угасающей экономикой и бесчисленными политическими проблемами. Народ перестал понимать уголовную власть. Начались бунты и требования отдельных областей о выходе из состава незалежной и самостийной, не состоявшейся ни в каком аспекте, ни в экономическом, ни в полилитическом, ни в нравственном отношении державы.
Теперь этот ИУДА, обокрав и предав всех, живёт безбедно и счастливо, в Конча-Заспи, в отстойнике отборной элиты уголовного мира, и как равный среди равных себе, может запросто общаться с отпетыми ворами и мошенниками, обретающимися на государственных постах в этой «самостийной» стране. Как низко порой может упасть человек! Но и остальные представители власти в этой «незалежной» от всего и вся, недоделанной стране ничуть не лучше.
Уместно заметить, что происходил этот гнусный спектакль потому, что главным лицом в государстве, именуемом тогда Союзом Советских Социалистических Республик, избрали плохо образованного, невежественного кубанского тракториста Мишку, прозванного в народе Меченым за чёрную отметину на плешивой и глупой голове – клеймом, по слухам, как говорили в народе, поставленным на эту бестолковую голову самим рогатым козлоногим. Так и остался он на всю жизнь с этой позорной отметиной.
Его ненавидела вся страна за невиданную доселе нигде в мире полную бестолковость, за что впоследствии за развал доверенной ему страны по указке Вашингтона этот Меченый получил массу наград и две Нобелевские премии от тех заокеанских господ, которым этот позорный холуй служил и интересы которых за весьма умеренную плату он добросовестно в поте лица обслуживал.
А в нашей стране, в СССР, в завершение столь блестящей карьеры он получил достойную за его службу награду. Ему прилюдно влепили оплеуху по физиономии в знак благодарности от людей, от народа, идеалы и веру которого в светлое будущее он так задёшево предал. Что спрашивать с тракториста? А выше умом он так и не пошёл. Всё поделом. Заслуженно.
Эта оплеуха от народа была высшая в его жизни награда, гораздо выше Нобелевской премии, выданной Нобелевским комитетом за предательство и не бывалый в мире развал огромной державы, оказанная дешёвому прохвосту за беспримерное служение американским господам.
В конце концов, согласитесь, ему есть чем гордиться. Всё-таки не каждому президенту да по колхозному рылу, то есть, простите, по сиятельному фейсу культурно, со вкусом, от всей души заезжают.
Согласитесь, до этого всё же надо дослужиться. Что ж, по заслугам и честь! Что у народа заработал, то и получил. Не зря в народе говорят: «По Сеньке шапка, а едрене фене – клоунский колпак».
На всякий случай, от греха подальше, мало ли что ещё «благодарному» народу за такие деяния в голову придёт, этот горе-«президент» сбежал в страну, интересы которой этот «джентльмен» без стыда, и страха, и упрёка столь блистательно обслуживал.
И вот тогда-то, под грохот разваливающейся на отдельные куски, как айсберг в океане, огромной и неделимой страны, произошёл развал, размежевание не только территории, произошло крушение в умах большого количества брошенных на произвол людей в этой стране.
Нечто похожее произошло и между двумя друзьями. Выглядело это так, как будто первая трещина образовалась в их спаянной годами молодости, мужания и, как бы глупо это ни звучало, совместной работой дружбе.
Как-то незаметно, исподволь, но совершенно определённо, как будто так в конце концов и суждено, и пренепременно должно было стать, разошлись их пути-дороги.
То есть они всё ещё – и Железный Феликс, и Иван Иванович – считали Виктора своим, принадлежащим к их клану учёных и истых поисковиков. Одним из племени искателей. Но Виктор уже стал другим. А может, он и был другим, только они не замечали.
Из учёного и любителя придрать по мелочи, на тысячу-другую зеленью, какого-нибудь картёжного авторитета в покер он понемногу превратился в истого карточного профессионала.
В дополнение ко всему в последнее время он стал часто закладывать. И ладно бы! Дело житейское. Скажите на милость, кто же на Святой Руси без греха? Бог бы с ним! Что в этом нового? Но, мало того, образованный, всеми уважаемый человек иной раз, изрядно набравшись, вроде бы ни с того ни с сего, по сути, беспричинно, по пьяному делу, иначе никак нельзя понять, начинал нести околесицу и, поддав как следует, любил утверждать, что всё на свете бессмысленно и жизнь человеческая, какая бы она ни была, ни разумного смысла, ни малейшего оправдания не имеет.
Дурковал, одним словом, как мог. Загибал эрудит хренов безбожно. Можно соглашаться или нет, но даже и эта роль ему шла, как ему шло всё, за что бы он ни брался.
– Старик-бродяга жаловался горько, – приняв достаточно и воздав посильные почести Бахусу, возвещал он Ивану Ивановичу слова известного литературного классика, которым они оба увлекались в детстве. – Вся наша жизнь – ошибка и позор! – произносил, хорошо набравшись, Монгол и утверждал, что это единственно честные слова, которые он встречал во всей литературе. – Всё остальное – фальшь и ложь! Хотя, может быть, и очень занимательная! – говорил, наклюкавшись до жалкого состояния, друг и блестящий учёный, и Ивану Ивановичу в такие минуты до слёз было обидно за своего приятеля. Особенно, когда они напивались вместе.
Разумеется, Иван Иванович хорошо знал и фразу, и произведения великого классика, одарившего мир столь блистательным выражением, и, конечно же, он привычно соглашался с Великим Монголом.
Но что-то слишком часто в последние года Монгол стал походить на героя повестей известного англо-американца, написавшего нашумевшую в своё время неоднозначную повесть «Джон Ячменное Зерно».
Пожалуй, он, как никто, понимал своего приятеля. Нацеленный на успех Виктор всегда и во всём стремился достичь наилучших результатов, вершины в спорте, в любви, в науке, в жизни.
И, когда в чём-либо он достигал высоких результатов, дальнейшее переставало его интересовать. Он достигал потолка. Ему некуда было дальше идти. Он терял вкус к жизни и начинал пьянствовать. Потому что дальше дороги он не видел.
– Может, попробовать поменьше пить? – обеспокоенно спрашивал Иван Иванович Виктора. – Или вообще перестать пить? Если такое возможно!
Но на Монгола его слова не действовали. Вырастив детей и возложив всё, что мог, на алтарь науки, Виктор как с цепи сорвался и загулял так, как будто каждый прожитый им день был последним.
А попав в общество более или менее образованных людей, могущих что-либо понимать, Виктор вообще начинал витийствовать.
– Наша жизнь, если вам угодно, никакого смысла не имеет! – возвещал он сидя где-нибудь в ресторане посреди цветника экзальтированных феминисток, не слишком утомлённых образованием.
Они, понятное дело, млели. А много ли им надо? Восхищённые дамочки аплодировали прохиндею и принимали его на ура.
А вот по мнению Ивана Ивановича с ним, с его другом, по всей вероятности, что-то случилось, с этим уникальным, великолепным образчиком представителей человеческой породы.
Он, как бы прожив одну часть жизни, добившись блестящих успехов в спорте, науке и в личной жизни, вдруг поменял рельсы, как будто решил остаток дней прожить как-то по-новому, не так, как он жил прежде.
Благо в картах ему, как правило, всегда фартило и деньги у Виктора обычно водились. Впрочем, ему фартило во всём, за что бы он ни брался. Сказывались университеты молодости. Уроки босоногого пляжного детства, которые он брал у знаменитых картёжных маэстро.
При деньгах он был неизменно, и денег ему хватало и на семью, и на рестораны, и на весёлую разгульную жизнь, и если к нему обращались сотрудники, сослуживцы по институту, он ссужал их безвозмездно, и, так как всем им жилось об эту пору трудно, никогда не напоминал им впоследствии о занятых ими суммах.
А если кто-нибудь, будучи не в состоянии отдать долг, приходил и, извинившись, просил подождать с отдачей, Монгол, дружески улыбаясь, с неистребимым южным акцентом и таким же, как принято на юге, наплевательским отношением к деньгам, чуть ли не по-отечески ответствовал:
– Пустое, дружище! – напевая по южному слова, говорил он. – Не бери дурное в голову. Отдашь как-нибудь потом. Если вспомнишь. А не вспомнишь – беда невелика. Может, и мне когда-нибудь твоя помощь понадобится.
Любил Монгол пустить пыль в глаза. Ему доставляло удовольствие играть роль мецената и всеобщего благодетеля.
Занявшись картёжными аферами, он настолько погрузился в них, что со стороны дело выглядело так, как будто всё, что происходило с ним раньше, выглядело ныне в его глазах довольно занимательно, но всё же не совсем правильно.
Подумаешь, какая-то там наука, какая-то там семья! Какие-то семейные и нравственные ценности! В Первопрестольной невесть откуда, как в лесу поганки после дождя, появилось много богатых людей. Обдирать было кого.
И вот теперь, когда к нему валом, тугими косяками повалили в большом количестве долгожданные «мани», Монгол стал выглядеть так, как будто, долго дотоле ошибаясь и ничтоже сумняшеся, он вдруг нашёл себя, обрёл в конце концов правильную дорогу.
Глядя на Монгола, теперь вполне можно было подумать, что вот человек, на которого сошло божье благословление и Владыка наш, снизойдя к обычному человеку, открыл ему глаза и указал единственно правильный путь, ведущий к счастливой и безбедной жизни.
Глава 9 Незабвенный доктор Фауст
И всё было бы хорошо. Или, как многое в нашей жизни, казалось бы хорошим. В самом деле, чего ж в деньгах плохого? Для обычного человека ничего. Но Монгол был учёным! И странное дело: чем большие суммы Монгол срывал с толстосумов, пребывавших в маразматическом обалдении от возможности проигрывать любые мыслимые и немыслимые для обычных, нормальных людей деньги, он тратил их не глядя, не считая, с такой же лёгкостью, с какой добывал, на всевозможные мероприятия, благотворительные фонды, приюты для бездомных, сиротские дома.
И тем не менее, как ни странно, чем больше денег он выигрывал, тем больше он переставал быть прежним Монголом, уверенным, целеустремлённым, несмотря на все его благие дела: меценатство, пожертвования и доброхотскую благотворительность.
Он стал нервным. В его взгляде чувствовалась напряжённость. Преломляясь через призму денег, весёлых, вольных, добытых легко, играючи, с улыбочкой, с большим моральным превосходством и, само собой разумеется, как Монгол это в совершенстве умел, при необходимости – эффектной демонстрацией интеллектуального и физического преимущества он тем не менее, каждый раз забирая со стола выигранные деньги, будто терял что-то очень важное в себе. Уместно спросить, что же он терял? Казалось бы, наоборот, только приобретал.
Деньги самоценны сами по себе. И вполне могут являться основой для некоторого морального самоудовлетворения.
Какая кому разница, каким образом они добыты? И для обычного человека, банального зауряда, так оно и есть. На деньгах построена вся философия современного мира. Добыл папушу денег – и ты уже человек. Чем больше добыл, тем больше человек.
Купил машину подороже, хату похлеще, бабу потоварней. Затарился баксами на чёрный день. Чем больше затарился, тем больше человек. Главная цель жизни достигнута.
Но с приятелями дело обстояло несколько иначе. Всё-таки они были сначала, в первую очередь, учёными. Иначе говоря: солдатами Её Величества Науки. А уж потом всё остальное. Мир мог исповедовать любые моральные ценности и сходить с ума, как только ему заблагорассудится.
Но идеи, царствующие в мире, им не указ. В научном мире свой кодекс чести, свои идеи и свои, нигде не писанные правила, определяющие моральное и нравственное состояние учёного. Грязными руками науку не делают.
Возможно, поэтому однажды, после особенно крупного выигрыша, Монгольский пожаловался другу:
– Ты помнишь поэму достославного немецкого поэта Гёте «Фауст»?
– Что-то, безусловно, помню, – ответил Иван Иванович. – Отрывками. Про деньги и нечистую силу. А что, не собрался ли уж ты за деньги душу дьяволу заложить? Некоторые из известных нам общественных деятелей на очень высоких постах, первые лица, кажется, очень преуспели в этом. Позакла-дывали свои жалкие, никчёмные душонки за тридцать сребреников чёрту. Уж не собрался ли ты примкнуть к их числу? На эту благодатную тему, насколько я помню, не одним Гёте много чего написано. Читать не перечитать.
Они присутствовали на званом вечере а-ля фуршет в честь дня рождения великовозрастной дочки какого-то министра или зам. замминистра. Кого, они толком не знали.
Им и не нужно это было знать. Их пригласили главным образом для антуража, придания весомости заурядной попойке. Слишком уж колоритными они были, эти два южанина, в северной столице. От этих рослых, хорошо физически развитых мужчин пахло морем, парусными яхтами, рёвом ветра в парусах, весёлой, разгульной жизнью крутых портовых биндюжников и записных черноморских пиратов, умыкнувших не одну красавицу с такого вот типа раутов, и слава, по крайней мере одного из них, эти сведения целиком и полностью оправдывала.
По случаю, под настроение, он вполне мог загнуть внимавшей ему восторженно очередной обожательнице какую-нибудь очевидную глупость, действующую безотказно, что-нибудь о красоте южного ночного неба над качающейся среди звёзд верхушкой мачты или о сказочном великолепии восточной сказки – Стамбула, если им любоваться под парусом, загорая на палубе небольшого, послушного ветрам и воле кормчего утлого судёнышка.
– А вы видели Кипр с моря? – мог спросить он, если разговор заходил о море, о морских приключениях. – Пальмы на пляже в Ларнаке. Восхитительный Лимасол. В туманной дымке возвышающийся над бурыми облаками хребет Троодос?
И, конечно, его собеседницы моментально становились завзятыми морячками.
Им так всего этого всю жизнь не хватало! Они сразу начинали вспоминать, что им известно о парусах и море, и уже видели себя в мечтах на яхте и, разумеется, капитаном на этой яхте мог быть только несравненный флибустьер из флибустьеров, корсар из корсаров, безжалостный похититель женских сердец – Синдбад-мореход – Монгол, и любая из них уже мнила себя верной и отважной командой при Монголе; флотским экипажем, всем понятно, в единственном числе.
На вечеринке звучала музыка. Танцевали пары. И женщины тайком поглядывали на Монгола, яснее ясного лелея коварную мысль, а нельзя ли как будто случайно, мимоходом, увести с собой этого красавца? Хотя бы ненадолго! Умыкнуть на ночь, на другую. А лучше подольше. В полную и безраздельную собственность. Насовсем!
И они как бы случайно оказывались неподалёку, чтобы успеть пригласить Монгола на белый танец и чтоб, не приведи господи, никакая другая подруга, не приведи господи, не смогла опередить.
– Поговорить не дадут сволочи! – возвращаясь после очередного приглашения и вытирая лоб платком, сказал Монгол. – Такие женщины! Одно расстройство! Лучше бы мы не приходили на эту пьянку.
– Ты что-то хотел мне сказать, – напомнил Иван Иванович. Его женщины редко приглашали. Чем он был без меры доволен. А сам он был не охотник до подобных развлечений. Посещение подобных «отмечаловок» было за границами его интересов, но накануне Феликс попросил: «Нельзя, чтобы нас забывали. Там из министерства гости будут. Наше отсутствие могут неправильно понять. Там выпивка будет классная и к ней сборище нуворишей, весь бомонд. Сходите, ребятки. Подсуетитесь. Отметьтесь. Соблюдите протокол. Что вам стоит?»
Вот Иван Иванович и «парился», поглощая всевозможные напитки, что покрепче, улыбаясь знакомым и полузнакомым, пока изысканное и дорогое пойло его не свалило, и думая только об одном: как бы побыстрей «сделать лыжи».
– Я что-то хотел сказать? – услышав его вопрос, удивился Монгол.
– Да! Что-то про Гёте и «Фауста».
– Не помню. Хотел, но забыл, – поглощая коктейль, Монгол на время задумался.
– А, кажется, вспомнил. Знаешь, со мной произошла беда. Совсем как в «Фаусте». Поэтому я и вспомнил эту грустную историю.
– А что случилось?
– В общем, ничего. Почти ничего, – глотая коктейль, сказал Монгол.
– Тогда в чём дело?
– Понимаешь, я перестал проигрывать! Что бы я ни делал, я только выигрываю. Я намеренно стараюсь проиграть и всё равно выигрываю. Поэтому я не случайно вспомнил «Фауста». Я, конечно, не продавал душу дьяволу, но мне кажется, как в «Фаусте», что он постоянно где-то рядом. Иногда мне кажется, я даже дыхание его слышу. Сопит козлина! Копытами стучит. Ждёт, когда я ему продамся. Копошится сзади, за спиной. Смердит козлятиной. Какой противный запах! Сводит с ума. Пойми, просто не знаю, что делать!
Это была заявка. Иван Иванович рассмеялся. – Давно меня никто не смешил. Ты и раньше редко проигрывал.
– Но сейчас то, что со мной происходит, просто из ряда вон.
– Обратись к врачам.
– Обращался! Не помогает.
– Тогда перекрестись. Может, напасть пройдёт.
– Пробовал. Как козлина сопел и вонял за спиной, так и сопит и воняет. Ничего ему не делается.
– Сходи в церковь. Купи свечей. Зажги их дома и там, где станешь играть в карты. Пригласи попов. Пусть кадилом для острастки по углам помахают.
Погнусят свои псалмы. Может, чертило и напугается. А ты случайно не интересовался, женского рода чёрт или мужского? Может, это чертыха? Бабонька какая-нибудь чёртом прикидывается. Разыгрывает тебя. Иначе как понять, чего это он так к тебе привязался? Может, причина совсем в другом? Ты у чертых всегда успехом пользовался.
– Да ладно. Тебе лишь бы смеяться! Брось острить.
– Ты серьёзно?
– Серьёзней не бывает. Ситуация из ряда вон. Представь картину! Я и чёрт! Или, по твоим словам, – чертыха. Хрен редьки не слаще. Я перестал понимать, что я выигрываю, а что проигрываю. Выигрываю вроде бы деньги. А что проигрываю? Систему ценностей учёного? Представления о добре и зле порядочного человека? До чего дошло! С нечистой силой связался. Может, ты можешь мне что-то объяснить?
Иван Иванович вряд ли мог что-либо объяснить другу.
– А, брось! По пьяни всё это. Перестань пить или играть, и всё пройдёт. Как с гуся вода. Козлоногие трезвых боятся.
Умных. А к алкашам они запросто в гости приходят. Как к себе домой. По стенам и потолку прыгают. За столом за компанию вместе в обнимку сидят. Выпивку по рюмкам разливают. Друзья – не разлей вода.
– Как, оказывается, всё просто! Нет, до этого пока не дошло. Но за совет спасибо! – поблагодарил приятеля, отвесив учтивый поклон, Монгол. – Одна беда, ни то, ни другое невозможно. Можно выпивать, не играя в карты, но играть и не выпивать невозможно. Кайф пропадает. А козлина только и ждёт. Тут же появляется. Чёрт или чертыха, не знаю. Только даже карты своей волосатой лапой из-за спины из моих рук берёт и кидает на стол. И воняет жутко. Ты бы знал!
– Так далеко зашло?
– Дальше некуда. Я не уверен, что и здесь он не притаился где-нибудь в уголку и только ждёт случая, чтобы оказать мне какую-нибудь помощь.
– Ну ты даёшь! Может белка у тебя?
– Не веришь? Какая белка! Хочешь, свистну – и ты увидишь.
– Ну свистни!
Монгол свистнул. Из тёмного угла вышел маленький заплаканный мальчик и заканючил: «Мама, пи, пи…»
– Вот видишь! Вот видишь! – воскликнул Монгол. – Я же тебе говорил…
– Но это же мальчик! Всего лишь мальчик!
– Для тебя мальчик! А на самом деле – чёрт, – заявил Монгольский. – Ты что, мне не веришь? Посмотри внимательней! Это чёрт! – упорствовал Монгол. – Впрочем, извини, я кажется ошибся! – спустя некоторое время сказал он.
Дело явно принимало плохой оборот. Надо было принимать какие-то меры.
– Тогда, независимо от того, что это с тобой, есть только одно средство: современная медицина. Хорошие врачи много от чего вылечивают: от религиозного идиотизма, от связи с нечистой силой и от голосов из космоса, – сказал другу Иван Иванович. – Обратись! Может, вылечат. Если не поздно. Есть, я слышал, где-то на окраине Москвы один профессор. Говорят, специалист именно по таким тяжёлым случаям. Лечит от всяческих видений и от чертей тоже. Можно попробовать.
– А если я тогда проигрывать начну?
– Да. Это чревато. Тогда оставь всё как есть.
Они посмеялись, но обстоятельства действительно складывались не лучшим образом. Деньги – не всегда благо! Вроде бы выигрывая, Монгол в самом деле что-то незаметно для себя утрачивал. Это отразилось и в его поведении, и даже во внешности. Его лицо по какой-то причине приобрело демонические черты. Он потерял вид уверенного в себе, в своих поступках человека.
То есть он по-прежнему выглядел респектабельным, обаятельным, вальяжным умницей-шалопаем с внутренним стержнем, проявлявшимся и в улыбке, и в характерной, свойственной умным людям деликатности поведения.
Но Ивану Ивановичу почему-то казалось, что его друг дошёл до точки, до своего потолка, до вершины, с которой ему уже некуда было дальше идти, и не было больше цели, к которой он ещё мог и хотел бы стремиться.
Монгол стал часто напиваться до чертей, но утром тем не менее всегда выглядел свежим, спортивным, подтянутым, и, может, только излишняя бледность его лица могла объяснить знакомым, тем, кто хорошо его знал, что накануне он снова крепко перебрал.
Дело принимало серьёзный оборот. Настолько серьёзный, что однажды руководитель института, Железный Феликс, пригласив Монгола с Иваном Ивановичем на небольшой междусобойчик с коньяком и кофе под умный разговор (как принято, про то, про сё) и, как бы случайно, слегка о работе, почти невзначай, на третьей рюмке, обращаясь к Монголу, между делом вежливо заметил: «Вы, я слышал, круто поменяли тему вашей научной работы?»
– Почему вы так решили? – морщась с крутого перепоя от головной боли, возразил Монгольский. – Ничего подобного! Позвольте с вами не согласиться! Я по-прежнему, как вам известно, занимаюсь разработкой теории высоких давлений в зонах предполагаемых магнитных аномалий.
– Да! – засмеялся дружелюбно, по-отечески Феликс. – Неужели? А мне сказали, что вы занялись разработкой неких других теорий, связанных более с опустошением кошельков толстосумов и весьма далёких от профиля руководимого мной института. Вам что, больше нечем заняться? Вы не знаете, куда себя девать? Я могу добавить вам забот.
– А, Феликс Владимирович, простите, пожалуйста. Временные отклонения. Хочется умом поиграть. Поразвлекаться. Они такие глупые, эти нувориши.
А мне, знаете ли, ничто человеческое не чуждо, – сообразив, о чём идёт речь, открестился Монгол, но в карты играть и пить не перестал.
К доктору он, конечно, сходил. Врач посмеялся. «Знаем, знаем, что с вами! Ко мне чуть ли не каждый день гении обращаются, – сказал доктор выслушав историю заболевания Монгола. – Вы не исключение и далеко не первый! Мне порой кажется, вся страна из одних таких вот гениев состоит». Посмеявшись, врач дал ему каких-то таблеток, и козлоногий искуситель исчез. Надолго ли? Неизвестно. И в поведении Витька стал осторожнее, осмотрительней, а если с очередного бодуна и пробовал кое-где, как бывало раньше, по пьяному делу, по-прежнему утверждать, что жизнь человеческая – это, в сущности, дерьмо и никакого разумного смысла и оправдания не имеет, то только с большой осторожностью и оглядкой.
«Никогда, знаете ли, нельзя быть уверенным, – объяснял он потом, – что рядом не окажется какой-нибудь без меры прыткий халдей, который, преследуя личные цели и убогую корысть, не донесёт на следующий день Феликсу о непристойных художествах и пьяндыжных выкрутасах горячо любимого сотрудника».
Побаивался всё же Монгол слишком низко упасть в глазах именитого и уважаемого всеми учёного.
Дамочки между тем, слушая Монгола, визжали от восторга, а мужчины морщились, внимая ему. При всей своей успешности и кажущейся всем очевидной разумности, они явно чувствовали свою умственную и физическую ущербность, граничащую с убогостью, рядом с этим вальяжным интеллигентом, обладающим далеко не праздными, бьющими наотмашь по домостроевскому сознанию, разрушающими его вековечный уклад идеями.
А женщины влюблялись в Монгола с одного взгляда. Они природным женским чутьём чувствовали в Монголе, несмотря на его бесшабашную вывихнутость, настоящую, первобытную, приводящую их в неописуемый восторг дикую природу.
Они видели в Монголе то, чего днём с огнём нельзя было найти в их мужьях, разъевшихся до неприличности колбасниках, владельцев магазинов, мясных лавок, пивных королях. Безусловно, он обладал харизмой. Очень редкое качество в среде дельцов. От Монгола веяло настоящей, мужской, всё подчиняющей себе физической силой. Это было удивительное сочетание демонической, разящей наповал красоты и физической мощи, и дамочки, едва представлялась им такая возможность, моментально забыв о своих мужьях, суженых, ряженых, вешались на Монгола гроздьями, бросались на Виктора, как бросаются изголодавшиеся вши на жирного, хорошо откормленного, чистопородного красавца, кобеля-производителя.
Он им нравился, сводил их с ума, особенно молодых, ещё оглядывавшихся вокруг в поисках приоритетов и образцов для обожания, этот сорокапятилетний самоуверенный красавец, взиравший на окружающий мир неизменно с улыбкой превосходства из-под длинных, женственно красивых ресниц.
Они начинали дуреть, едва завидя его. Сходили с ума и великосветские львицы, жёны титулованных сановников, и заурядные простушки, которые, кроме физических совершенств и обалденных претензий, ничем другим не обладали.
Сколько Иван Иванович помнил, так было всегда, с младых ногтей. Позже, в институте, конец всему этому на какое-то время положила Верочка, их сокурсница. Она не была красавицей, но обладала чем-то таким, необъяснимым, чего и близко не было у всех этих развесёлых записных красоток. И сердце красавца и непревзойдённого столичного донжуана Виктора дрогнуло. Он сделал ей предложение. Предложение не было отвергнуто, правда, с некоторыми, оговорёнными Верочкой заранее, условиями насчёт бесчисленных подруг Виктора. Виктор клялся и божился, что он ни при чём, это всё они, бесстыжие, и впредь он никогда и так далее, и они – Верочка и Виктор – образовали супружескую пару, повергнув бесчисленные ряды поклонниц и воздыхательниц Виктора надолго в бездну уныния и печали.
«Это же надо такому случиться! Что он, богемный полубог-получеловек, нашёл в этой зачуханной простушке? Ни внешности, ни состояния, ни положения в обществе! Чем она, серая мышь, его взяла?» – судачили они между собой, пока боль столь неожиданной всеобщей утраты не прошла и они не нашли новых, более или менее достойных предметов обожания.
А супружеская пара, кто бы что ни говорил, получилась на заглядение. Они долго жили в любви и согласии. Детей, двух сорванцов, воспитали настоящими, стойкими, без страха и упрёка мужчинами. Один стал моряком, другой лётчиком. И жили бы так и дальше, если бы не деньги, вдруг, как дождь с неба на иссохшую землю, посыпавшиеся отовсюду на Виктора. Большие деньги!
Большие, разумеется, в их тогдашнем понимании. Маленькие деньги предполагают ограниченные, незначительные траты, большие же деньги требуют больших затрат, широкой, разгульной жизни.
И Монгол загулял. Загулял широко, безоглядно, как будто и не было раньше никакой что-либо стоящей жизни и лишь теперь, когда появились солидные наличные, он начал понимать, как следует такому человеку, как он, жить без оглядки на кого-либо и на что-либо, по-настоящему.
Иван Иванович не узнавал приятеля. Гибельный свет наживы, шальных денег всепожирающим огнём вдруг засиял в глазах его друга.
Куда подевался простой, дружелюбный паренёк из южного городка, готовый выбросить обратно в море с большим трудом собранные на берегу медные и никелевые монетки – целое состояние в их тогдашнем детском понимании? Куда подевался человек, понимавший его с полувзгляда, с полуслова, с которым они всё, что имели, не считаясь, делили пополам?
Что-то в происходящем, по мнению Ивана Ивановича, было не так, как следовало, как должно было быть. Не зря, должно быть, Монгольский спрашивал на вечеринке о докторе Фаусте.
Нет, всё, казалось бы, по-прежнему оставалось на своих местах и было, как прежде, и стремление помочь: Виктор неоднократно, после особенно удачных вечеров, когда он оказывался в фаворе, предлагал Ивану Ивановичу значительные суммы денег.
– Возьми, Ваняша! Небольшое воспомоществование из кошельков толстосумов. Жалкие крохи со стола государственных казнокрадов. Почти добровольные пожертвования! – уговаривал он Ивана Ивановича. – Зарплата когда в последний раз была? И когда она, сердечная, теперь опять будет? Поиздержался, поди. Возьми, не привередничай. Небольшое, можно сказать, скромное пожертвование. Гуманитарная помощь обездоленному во все времена, в веках, пролетариату от лица сегодняшних новоявленных парвеню, – уговаривал по-приятельски он Ивана Ивановича, предлагая солидную папушу деньжищ.
Но, как бы странно для кого-нибудь это не выглядело, Иван Иванович от денег отказывался:
– Извини, не могу. Не те это деньги. Не заработанные честным трудом. Может быть, и в крови испачканные. Ты же знаешь, какая у нас теперь интеллигенция: зомби-менты и зомби-уголовники, и ещё изрядно невежественные, судя по их внешности – скотники из коровника, где они убирали за коровами; зомби-артисты, которых оторвали от их любимого дела по уходу за скотом и заставили бегать с пистолетами и автоматами, и они что-то, одним им понятное, изображают, и тех и других с наслаждением, в охотку играют. Не жизнь – сплошная улица «разбитых фонарей».
– Ах, оставьте! Мы не такие, как все! Мы из другого теста сделаны. Аристократ хренов! – в сердцах, как будто его неожиданно уличили в чём-то не очень порядочном, выпендривался перед приятелем Виктор. – Я же по-человечески! Как товарищ товарищу. Наверно, последние копейки проедаешь, а признаться стесняешься.
– Нет, не последние! – упорствовал Иван Иванович. – Меня мои картины выручают. Не часто, но, бывает, находятся покупатели. Так что мне моих денег вполне хватает, – уверял он Виктора, хотя оба знали, что никто картин в это сумасшедшее время не покупает, что в цене ныне в народе совсем другие ценности и идеи.
Но надо же было иметь хоть какое-то оправдание в глазах друга и за свою не слишком удачную личную жизнь, и за очевидную всем и каждому нескладность в суждениях, и ещё за многое и многое, чему Иван Иванович не мог найти слов и ощущал как смутную, беспокоящую его сознание вину перед самим собой и перед людьми, что не вышел, не получился он настоящим человеком в обычном, расхожем, банальном понимании этого слова, ни в жизни, ни в искусстве, ни в любви.
Он ощущал это, как будто он всем вокруг крупно задолжал и всё никак не мог рассчитаться за долг. А проценты на долг набегали и набегали, увеличивая непомерно и без того казавшуюся ему неподъёмной сумму долга.
Это очень беспокоило его. Не позволяло ему чувствовать себя нормально и независимо перед знакомыми, друзьями, просто людьми.
И, само собой, он немного завидовал своему другу, умеющему снимать сливки при любых обстоятельствах, как и вообще хорошей, доброй завистью завидовал всем успешным людям, умеющим добиваться своей цели, пренебрегая любыми трудностями, наперекор любым преградам.
Завидовал, как, может быть, человек, тяжело, с трудом карабкающийся по склону горы, белой завистью завидует тем, кто уже достиг вершины. И сочувствует им. Потому что непонятно было, куда же после достигнутой вершины им идти далее. Или на этом разумная жизнь кончается?
Тем не менее денег, добытых другом в игорных домах и приватных компаниях, Иван Иванович чурался. Если бы, как прежде, с зарплаты, последней копейкой поделился, тогда другое дело, а этих, непонятно откуда появившихся бумажек, часто с портретами незнакомых ему иностранных президентов, Иван Иванович брать не хотел.
– Сколько лет вместе, а ты всё такой же! – упрекал его Виктор. – Пора бы уже и поумнеть!
– А для чего?
– Чтобы жить нормально, как живут все люди.
– А я и живу нормально, как все люди. Как живут люди моего круга, с которыми я считаю возможным быть знакомым, – стоял на своём Иван Иванович, вспомнив, что такими же словами упрекала его жена, уходя к другому, богатому, обеспеченному, обладавшему гораздо большими финансовыми возможностями, чем он, простой, заурядный трудяга геологоразведки. Возможно, отчасти поэтому он укрепился в своём отвращении к лёгким деньгам.
Он помнил, как, уходя, она сказала: «Ты никогда не умел жить по-настоящему и никогда не научишься жить так, как живут люди. А я молодая! Я жить хочу сейчас, не откладывая ни на день, ни на год, ни на возможное потом».
Иван Иванович молчал, словно провинившийся мальчишка. Что мог он ей сказать?
Ему нечего было ей сказать. Как нечего было сказать в ответ своему другу.
Сколько он помнил, деньги всегда стояли между ними. Деньги всегда разделяли их. Как деньги разделяли и продолжают разделять людей.
Но и Монгол был бы не Монгол, если бы он оставил всё как есть. Видя, что товарищ пренебрегает и даже брезгует посыпавшимися на Витьку как с неожиданно разверзшегося неба деньгами, он решил предложить ему другой вариант.
– Знаешь, – заявившись как-то утром на работу со значительным опозданием, бледный, с фиолетовыми тенями под глазами и, судя по всему, невыспавшийся, должно быть после всенощной пьянки и расписывания пули, он был без всякой видимой, очевидной причины безмерно доволен собой и уже потом, после себя, слегка, как всегда, постольку-поскольку – окружающими, сказал, усаживаясь за свой стол напротив Ивана Ивановича: – Фу! Еле прорвался! Каждое утро одно и то же! Хочешь не хочешь, в настроении или нет, а приходится проходить через строй обожательниц в вестибюле института. У входа. И каждой надо улыбнуться. Каждую одарить вниманием. В противном случае они зачахнут, заболеют, умрут! А что мы без них? Что наука без женщин? Что наша жизнь без страстей и увлечений? Кому как, а по мне – пустой звук! Ну так вот, – повертев в руках перекидной календарь, с грустью заметил он, – да, дни идут. Года, что дни! Так вот, о чём это я? У меня есть одна, как мне кажется, на мой взгляд, не такая уж дурная, вовсе пустопорожняя затея.
– Какая же? Если есть время, поведай.
– Ты только, как всегда, сразу не возражай! – начал горячиться Монгол. – Сначала послушай! В стольном граде появилось много людей, горящих желанием слегка облегчить свой непомерно раздутый, да что там раздутый, это слабо сказано, просто лопающийся от избытка денег кошелёк. Им тяжело носить его. Им нужна срочная гуманитарная помощь. Они, как дети малые, нуждаются в наших услугах. Идея такова: мы могли бы вдвоём организовать небольшое частное предприятие (как принято теперь говорить, с ограниченной ответственностью) по оказанию посильной, насколько это возможно, помощи несчастным.
– Позволь узнать, каким образом?
– Ну, несколько уроков мнемотехники, и, я думаю, мы могли бы организовать хороший тандем по игре в покер. За несколько месяцев, вполне возможно, мы вдвоём сколотили бы целое состояние. И нуворишам облегчение, и нам польза. Как тебе такая мысль?
Иван Иванович рассмеялся.
– А как же доктор Фауст? Разве Мефистофель больше тебе не помогает?
Он много раз объяснял своему прагматичному другу и, видимо, безуспешно, что искусство – это сочетание реальности с элементами вымысла, познаваемого и легко узнаваемого, и бессознательного, интуитивного, того, что мы видим и легко отождествляем с действительностью, с тем, что помимо нашей воли дремлет в ожидании светлой минуты самовыражения в глубоко потаённых уголках нашего подсознания.
Подсознание, интуиция зачастую управляют кистью настоящего художника, преломляя действительность, нередко убогую и скучную, в апофеоз осмысленной целесообразности.
– Так вот, – объяснял он, – есть проблема. Когда у меня много денег, моё подсознание угасает, тухнет, как свеча на ветру. Я становлюсь пошлым, посредственным мазилой, годным разве что создавать заурядные пейзажи для украшения гостиных. С деньгами я теряю смысл и перспективу творческой работы. А мне так хотелось бы верить, что я что-то незаурядное могу, на что-то настоящее, необходимое людям способен. А деньги всё портят: настроение, остроту восприятия, реальный взгляд на вещи и события. Так что уволь. Не могу я играть в эти игры. Извини меня, глупого, но, сколько я ни пытался рассуждать по-твоему, у меня только такой вот расклад получается.
– Тогда, как тебе покажется ещё один вариант? Честный! Не надо никого дурить. Не надо никого обманывать. Ты помнишь в Каракумах безвестный, засыпанный песком пустыни, заброшенный людьми кишлак Юк-Тепе? Помнишь? Пустыня! Саксаул. Тушканчики. Жалкий ручей, к которому прилепилось посреди выжженных солнцем, безжизненных солончаковых холмов и жёлтых песчаных дюн это никому не нужное, всеми забытое селение с всего несколькими одинокими, никому не нужными, покинутыми всеми жителями посреди бескрайней, безжизненной пустыни. Точно такое, как расположенные на берегах никуда не текущих, теряющихся в песках, в зарослях осоки речек, никому не нужные, забытые в безлюдной, безжизненной пустыне глинобитные селения в несколько хижин Небит-Даг и Копет-Даг. Как сотни и тысячи таких же, никому не нужных, даже тем, кто в них живёт, безвестных селений в отрогах гор. А там, откуда берёт начало ручей, помнишь горку? Приблизительно с километр в высоту. Чёрные, глянцевые, отвесные, не типичные для пустыни склоны, как будто страшная подземная сила вздыбила и вознесла высоко вверх сжатые чудовищным давлением внутренности Земли. Это не описывается ни в одном учебнике. Таких горок, самое большее, ещё одна или две и обчёлся, на всей Земле.
Волнуясь, Монгол встал и объясняя даже начал размахивать руками.
И его можно было понять. Он говорил об открытии. Геологическом открытии.
Новым словом в истории геологии, которое впоследствии, возможно, будет занесено, как уникальный случай во все учебники по горному делу.
– Представь себе! Тысячи лет, – продолжал он жестикулируя и потрясая для убедительности руками, – мимо этой необычной горки в долину, к ручью, шли караваны, гружённые пряностями, каменной солью, китайским шёлком, афганскими коврами, дорогой утварью, оружием, золотом и драгоценностями. Шли к ручью, к долгожданной воде люди, и никто ничего не видел. Никто не видел, мимо какого богатства они идут. Ты рисовал этот феноменальный выброс земной породы и тоже ничего не видел. А я смотрел и потрясённо молчал. Я долго молчал. Молчал так долго, что чуть было вообще не забыл об этом уникальном чуде природы. Теперь наконец пришло время об этом сказать. Я подал заявку на получение лицензии на разработку этой горки. Лицензию на нас двоих. И получил разрешение. Мы теперь единоличные хозяева этой горки.
От волнения у Монгола перехватило дыхание. Он налил в стакан воды, и выпив, запустил стаканом об стену, что было вообще на Монгола непохоже.
Лабораторные исследования подтвердили мою догадку. – справившись с волнением стал он объяснять Ивану Ивановичу, – Редкий случай. В этой горке вся таблица Менделеева. И рыжий металл. Понимаешь? Рыжьё! Жильного залегания. В больших, промышленных масштабах. Необычайно больших. И, кроме золота, редкоземельные металлы, гораздо более ценные, чем золото. Рений, например. Находка Рения, ты же знаешь, у нас, геологов, считается из ряда вон, вообще необычайной, фантастической удачей. Отныне мы с тобой богатые люди. К чёрту всё! К чёрту всех! К чёрту науку! К чёрту регламент! К чёрту с восьми до пяти! Да здравствует независимость! Свободу научному пролетариату! – декламировал Виктор. – За это стоит выпить!
Закончив с декламацией он полез в шкаф за бутылкой коньяка и стаканами.
– Присаживайся! Это достойное событие, чтобы его отметить! Мы развернём там настоящее, современное производство. Мы преобразуем бесплодную пустыню в цветущий оазис. Пробурим скважины, зальём пустыню водой, озеленим, насадим пальм, построим там дворцы! Мы возведём в пустыне новую церковь. Церковь всех народов. Всех цивилизаций! Церковь единого бога на Земле. Бога ДЕНЕГ! Большую церковь метров пятьсот высотой, как Вавилонская башня. Всю покрытую золотом. Чтоб сияла в солнечных лучах и была далеко видна. Мы создадим в пустыне рай на земле. Мы создадим новое общество равных среди равных, – разглагольствовал Монгол, опохмелившись. – Наконец исполнится вековечная мечта человечества.
Он залез пальцами в банку с солёными огурцами и, морщась от коньячной горечи, достал один, с хрустом откусил и, вдохновенно размахивая огрызком в воздухе, продолжал:
– А вполне возможно, дойдёт и до того, что со временем мы создадим из этого замечательного металла новые деньги. И на этих деньгах будут отчеканены наши божественные профили. Твой и мой! И это будут самые общепризнанные деньги в мире. Мы станем известными людьми. О нас будет писать пресса. Мы будем выступать на телевидении. Нас будут почитать по всему Миру. Нам будут поклоняться как богоравным, как создателям новой цивилизации, – вовсю размечтался Монгол.
Иван Иванович улыбнулся. Его друг относился к счастливой породе людей. У Виктора было всё: ум, талант, учёная степень, красота, физическое здоровье, слепое обожание женщин. Для полного счастья, в сущности, ему ещё не хватало самой малости: всеобщего признания, публичного обожания, известности.
И, как ребёнок, нашедший новую игрушку, забрасывает все старые игрушки, так и Виктор, забросив свои прежние игры, уже наслаждался новой, только что придуманной им игрой.
Он уже строил планы. Роскошными, яркими красками он живописал город будущего, его жителей, их обычаи и нравы. И в этом не было ничего плохого.
В самом деле, что может быть плохого в добрых, эффектных, созидательных, красивых планах, пока в них не вмешался человек? Особенно, если эти планы связаны с большими деньгами!
Иван Иванович улыбался, слушая друга. Пальмы, дворцы, сады Семирамиды. Он просто наслаждался. Новая порода людей. Новые взаимоотношения.
Где-то он всё это уже слышал. Что-то до боли знакомое было в этих словах.
– Как тебе моя идея? – поинтересовался Виктор.
– А наверху храма Денег, на куполе, что ты хочешь установить? – спросил Иван Иванович, хотя отлично знал ответ Монгола.
Монгол слегка как бы задумался, покрутил головой, потом нерешительно сказал:
– Поверишь? Даже не знаю.
– Да ладно! Говори уже! – засмеялся Иван Иванович. Он знал, что Виктор давно продумал всё до мельчайших подробностей.
– Может, статуи? – сомневаясь и словно ища поддержки, спросил Монгол.
– Какие статуи?
– Понятно какие: твою и мою. Метров по сотне в высоту. Лёгкие статуи, из титана, покрытого разного оттенка золотистыми сплавами. Чтоб народ видел статуи идалёка, молился на нас, на наши статуи, и обожествлял нас и наши изображения.
Иван Иванович постарался не рассмеяться:
– Если память мне не изменяет, что-то похожее не так давно уже было. И, кажется, всё очень плохо закончилось. Для поверившего в сказку народа. Ему опять подсунули очередную сказку. В какой уже раз! Слуги народа быстро перекрасились, легко поменяли личины и убеждения. Впервой, что ли? И, как всегда, внакладе не остались. А народ опять поверил в очередную бредовую утопию и снова оказался перед очередным выбором: куда ему теперь идти дальше? И с кем? Так что, извини, в благодетелях и народных любимцах тебе одному придётся ходить. И новую империю своего имени ты будешь один учреждать. И на золотых империалах в твою честь будет отчеканен только твой божественный профиль.
– А ты! Что же будешь делать ты?
– Я? Я буду делать то же, что делал раньше: работать, рисовать картины. Может, когда-нибудь я смогу сделать что-нибудь настоящее. Иначе, в противном случае, для чего жить?
– Но ведь я предлагаю тебе стоящее дело. Большое, интересное. Озеленим пустыню. Построим город-сад. Создадим, на зависть всем, новое общество. Все будут богатыми, счастливыми.
– Если бы богатство сделало кого-нибудь счастливым! – возразил Иван Иванович. – Это всего лишь очередное заблуждение недальновидного человечества. Возможно, последнее. Или, если не всего человечества, то какой-то его части, далеко не лучшей. Той, что стоит у власти или близка к ней.
– Так что же, ты не хотел бы быть богатым?
– Хотел бы! Очень бы хотел. Ты даже не представляешь, как хотел!
– Тогда в чём дело? Нам представляется вполне достойный случай. Не красть, не воровать, не ловчить, не обманывать. Всё честно. Такая удача редко кому выпадает. Глупо было бы не воспользоваться ею, – неуклюже подъезжал к другу Виктор.
Глава 10 Расставание
– Конечно глупо, дружище! – с нотками сожаления в голосе позволил себе высказаться Иван Иванович. – Ещё как глупо! Ты правильно рассуждаешь. И, сколько я тебя знаю, ты всегда правильно рассуждаешь. Ты – человек дела. Было бы странно, если бы ты рассуждал по-другому. Но, видишь ли, мой друг, мы знакомы давно, с голопузого детства. И тебе ли не знать, что я всю жизнь стою перед дилеммой: жить мне богато, как ты говоришь – счастливо, сделать жизнь сплошным праздником и в результате потерять себя, утратить смысл и содержание моей жизни или жить обычной простой жизнью, как живут все, и ощущать её аромат, творить, созидать и знать, что всё моё счастье находится на кончике моей кисти, фигурально выражаясь, на её острие. Всё-таки в первую очередь я – художник, а уже потом всё остальное. Отними у меня кисть, озолоти, сделай мою жизнь беспроблемной, и, хотел бы я знать, что я буду после этого и кто? Видишь ли, богатство и содержание жизни для меня далеко не одно и то же. Во мне два эти состояния несовместимы. Стать богатым для меня значит потерять себя. Поверишь, нищенство и житейские тяготы мне ближе, чем золотые чертоги, фимиам лести и всеобщее раболепное почитание. И перевоспитывать людей я не берусь. Я не бог. Вдруг я ошибусь! Те люди, которых я знаю, в массе, мне нравятся такие, какие есть. Со всеми слабостями и недостатками. Такими же, как у меня. Мне хорошо с ними. С теми, какие есть. Других мне не надо.
Виктор, слушая, поморщился, скривил пренебрежительно рот. Казалось, вот-вот скажет, как он обычно в таких случаях говорил: – Мели, Емеля!
В комнате воцарилась тишина. Такая тишина, вязкая, густая, из которой нет выхода. На лице Монгола заходили желваки. Ещё немного, и он замахнётся, как бывало в детстве, на глупенького Ваняшку, теперь Ивана Ивановича. Тишина густела. Казалось, вот-вот грянет гром.
Но неожиданно нависшая было над Иваном Ивановичем туча рассеялась. Виктор подобрел лицом, дружески улыбнулся.
– Узнаю! Ты всегда был таким, – разливая остатки коньяка произнёс он, – всю жизнь! Именно за это и уважаю. И знаешь, пожалуй, если бы ты был другим, таким же пошлым, банальным, обыденным, как все, или вдруг однажды изменил своим убеждениям, наверно, ты перестал бы быть мне интересным. В таком случае я не смог бы быть твоим другом, даже перестал бы с тобой здороваться. И не сидели бы мы сегодня с тобой в одном кабинете, и не делал бы я тебе сейчас этого предложения. Но я есть я, а ты – это ты. У каждого своя дорога. Так было с детства. И, разумеется, нет силы, способной нас изменить. И мне очень жаль, что мы с тобой, как обычно, не можем найти общего языка. Но я надеюсь, что мы, что бы с нами ни случилось и где бы мы, в каких бы краях и далях, ни были, тем не менее мы, несмотря ни на что, по-прежнему остаёмся друзьями.
Так, в таком ключе, закончился этот небольшой междусобойчик двух друзей.
Прошёл месяц, потом другой, когда однажды, заявившись на работу ближе к обеду изрядно пьяный и донельзя довольный собой, Виктор заявил:
– Всё! Финита ла комедия! Я сорвал большой куш. Небывало большой! И познакомился с людьми, способными финансировать мой проект. Технические вопросы решены. Я уезжаю в Каракумы, в Юк-Тепе. Тебе, как другу, говорю: понадобятся деньги, ты знаешь, где меня найти. А Феликсу передай: я в институте больше не работаю.
– А сам что не хочешь? Старик возлагал на тебя большие надежды. Ты – его любимый ученик. Не пристало тебе так поступать.
– Вот потому и ухожу по-английски, не прощаясь. Не хочу старину расстраивать. Скажешь, что ушёл в отпуск. А потом, попозже, понемногу его подготовишь и осторожно сообщишь о моём отъезде. Всё-таки я люблю его и уважаю, и не хотелось бы мне его чересчур огорчать. Скажешь, что я тронулся умом. Что мне надоело носить европейскую одежду. Что теперь деловому костюму я предпочитаю полосатый восточный халат, перепоясанный цветастым кушаком, чалму и остроносые ичиги с загнутыми носами. Можешь представить, через неделю или две я, в чалме, скрестив по-турецки ноги, с двумя нукерами при страшных кинжалах, в черкесках с газырями и в косматых шапках, сидящими у меня по бокам, буду восседать за низеньким, как принято у азиатов, столиком в чайхане, в затерянном в горах кишлаке. И жирный, неповоротливый чайханщик в засаленном халате – признаке достатка и успешной жизни, льстиво улыбаясь, будет подавать нам терпкий, зелёный кок-чай пополам, как положено, с кумысом, солью и перцем; ломать маленькими кусочками кислую тандырную лепёшку и, восхищённо щёлкая языком, проводить сложенными ладонями по лицу и восклицать: «О Аллах! Якши! Якши!», вознося хвалу Аллаху за его доброту и щедрость, и пославшему ему с утра в этом забытом людьми и богом селении, в отрогах безвестных, без названия, гор, буквально посреди ничего, таких дорогих гостей. А на дастархане перед мной и перед отдалённо внешне чем-то похожими на людей нукерами, детьми гор, угрюмыми, мрачными, злобными, он поставит на подносе два чайника. Один с чаем, а другой, как у них, у правоверных, ортодоксальных мусульман принято, чтобы Аллах не сердился, сам знаешь с чем. А ещё на подносе будет курага, в изобилии изюм, спелый, сочный жёлтобокий урюк, в пиалах шурпа, и на блюде кусками навалено варёное мясо кобылы, сдохшей от бескормицы два дня назад. А ещё через месяц-другой пустыня огласится рокотом моторов большегрузных грузовиков, человеческими голосами, грохотом взрывов. Я начинаю большое предприятие. Мне нужен надёжный помощник. Такой, которому я мог бы верить как самому себе. Как тебе такой расклад? Кому я могу доверять до такой степени, кроме тебя? Может, одумаешься и присоединишься?
На какое-то время Иван Иванович задумался. Такое предложение может быть сделано раз в жизни. Ну, самое большее – два. И то не каждому!
– Всё будет, как у нас всегда было, пополам: деньги, труд, ответственность – слышал он голос друга и заранее знал свой ответ.
– Если путешествовать по пустыне вместе с тобой дервишем, нищим изгоем, я готов и восточный халат надеть, и сыромятные ичиги, и чалму, а вот ради денег, даже очень больших, проси не проси, я и шага не ступлю.
– Ну, в таком случае, скажи, пожалуйста, что ты за человек? – огорчённо воскликнул Виктор.
– Обычный! Самый обычный, – с сожалением покачав головой, ответил Иван Иванович. – Почему бы тебе, умному, казалось бы, всесторонне человеку, за целую жизнь не понять, что есть вещи, которые на деньги не меняются? Это так просто. Для дебилов. Чтобы это понять, никаких исключительных, из ряда вон, умственных способностей не требуется. Это внутренний императив. На деньги не обменивается. Пойми, уникум, в конце концов я хочу остаться художником и никогда, ни в каком сне, не мечтал стать процветающим дельцом. Это унизительно для меня, равносильно гибели, самоубийству. Или я – художник, или, пусть и богатое, ничто. Так что, извини! Такой уж я. Осуждай меня, как тебе угодно. Не запрограммирован я на такие деяния.
Как ни странно, на этот раз его слова подействовали на его высокоумного друга. В конце концов он уразумел сказанное.
– Ладненько. Зайди, пожалуйста, вечером дёрнуть на посошок. Когда мы ещё увидимся? Кому это ведомо? И увидимся ли когда-нибудь?
Так они расстались. Чего Иван Иванович опасался: что будет с его другом, когда наконец и эта его мечта исполнится, он достигнет вершины, станет богатым, у него наконец будет всё, что только ему будет угодным пожелать, и что с ним будет потом? Какая дорога засияет перед его другом дальше? Или это и будет конец его пути?
Он так и спросил:
– Забогатеешь ты, что дальше будешь делать?
– Там видно будет! – ответил друг.
А через несколько месяцев, когда стало окончательно понятно, что денег в институте в обозримом будущем никому платить не будут, а вся наличность почему-то оказалась на исходе, Иван Иванович даже чуть было не пожалел о том, что он не принял предложения своего друга и был вынужден продать на Арбате своих верблюдов.
Картина была хороша. На картине был изображён караван, бредущий между дюнами, на фоне багрового, огромного, донельзя раскалённого, казалось, колеблемого ветром солнечного диска, опускавшегося сразу за караваном в пыльное, клубящееся марево.
Картина впечатляла. Он не хотел её продавать. Она была дорога ему как память о Каракумах, которым он отдал часть своей жизни, несколько лет, и если бы не обстоятельства, он бы её ни за что, ни за какие деньги не продал.
Вот тут-то и нанесло на него Фифу. Чтоб черти его драли! Не продай он тогда картину, ничего особенного, авось перебился бы тогда с деньгами как-нибудь и никто не испортил бы ему тихое очарование, такое редкое в его жизни, сегодняшнего утра.
Не так уж часто ему удаётся встретить начало дня в умиротворённом, почти праздничном состоянии, с хорошей женщиной, и любимая картина, часть его жизни, была бы на месте.
А Фифа тем временем, вежливо испросив разрешения, неторопливой походкой, переваливаясь, направился к настежь открытым дверям его жилища.
Они с Маргаритой переглянулись. Тихое очарование утра, его слышная только им двоим мелодика были непоправимо нарушены. И Иван Иванович раздражённо подумал, что, может, не так уж неправы те люди, которые, возможно по излишней душевной простоте, считают, что незваный гость хуже татарина.
И вот незваный гость, как мысленно душевно окрестил его Иван Иванович, настоящий татарин, между тем, нимало не тушуясь, шумно сопя и вытирая пот носовым платком с лица и шеи, появился в дверях его жилья.
– Мир дому сему, – громогласно провозгласил он, – и его домочадцам!
Из домочадцев в доме находились он и Маргарита, и ещё соседская девочка играла во дворе возле беседки.
Маришка, увидев незнакомых людей, юркнула в беседку, а Маргарита, сообщив Ивану Ивановичу, что она, чтобы не мешать, прогуляется лучше по магазинам на соседней улице, и проскользнув мимо незваных визитёров, застучала каблучками по садовой дорожке к калитке.
Глава 11 Фифа
– Извините за самовольное вторжение, – стоя в дверном проёме, начал Феофан, – но ваше начальство, – он, молитвенно сложив руки, поднял глаза вверх, – слёзно просило меня во что бы то ни стало найти вас и напомнить, что вы, уходя в отпуск, обещали и загранпаспорт сделать, и до конца отпуска за границу съездить. Узнать, как ваш друг там поживает. Не скучает ли он по старым знакомым? Не нужно ли ему чего? Может, он нуждается в моральной поддержке? Всё-таки заграница есть заграница! Не равнять с родиной. Тем более что ему и здесь, как я понял ваше начальство, все дороги были открыты. На всё про всё он даёт вам месяц или два, по желанию, дополнительно.
– Да проходите вы! Садитесь! – оттаивая от слов Феофана, пригласил его в дом Иван Иванович. – Давно знакомы. К чему церемонии? А вы, случайно, не спросили, деньги на это «всё про всё» он даёт? Я всего лишь простой бюджетный служащий. Живу на зарплату. А когда зарплаты нет, на то, что его величество случай, если вспомнит обо мне, пошлёт.
– Ну, в этот раз его величество случай вам послал хорошо! – воскликнул Феофан. – И дорогу туда и обратно ваш шеф оплачивает, и я, чтобы вам в поездке скучно не было, немного забугорной макулатуры привёз. Вот, пожалуйста, с вашего позволения, – положил Феофан несколько пачек зелени на стол. – Не откажите в любезности, примите скромный презент от лица бесконечно благодарных вам почитателей вашего таланта.
– Каких ещё почитателей? Какого таланта? – недоуменно спросил Иван Иванович.
– Вашего, любезный, вашего! Помните картину, которую я у вас купил? Вы потом просили её вернуть. За деньги, разумеется. И деньги предлагали вдвойне против заплаченных. А я не соглашался. Вы думаете, спроста? Я это предвидел. У меня нюх. Я знал, что так будет. Всё вышло по-моему. Так вот, поздравляю! На вас начался спрос.
– Какой ещё спрос?
– Обыкновенный! Друг миллионера, купившего потом у меня картину, между нами говоря, практически этюд, на званом вечере впал от этого этюда в восхищение и захотел точно такой же, только на всю стену. Для биллиардной. Сказал: «Какой ракурс! Какая свобода кисти! Какое потрясающее самовыражение! Нет, вы только поглядите! Видите? Нет, вы видите? Вот азиат в заплатанном, рваном халате, одетом на голое тело, стоит, слегка повернувшись боком к зрителю. Вы посмотрите, как он удерживает взбесившуюся, вставшую на дыбы лошадь под уздцы! Вы видите? Усталые люди. Усталые животные. Какая жестокая правда жизни! Вы чувствуете? Вам не кажется, что от картины явственно пахнет пустыней, иссушающим сознание зноем, потом загнанных лошадей? Я думаю, со временем одна подпись этого художника будет стоить больше, чем любая его картина. Найдите мне этого Караваджо! Чего бы мне это ни стоило! Плачу любые деньги! Даю срок – неделю! Ну, ладно, чёрт с вами, месяц! Надеюсь, – это он мне сказал, не последнему человеку в столице, – вы понимаете, что с вами будет, если вы его не найдёте?» И он сделал движение руками, каким откручивают голову цыплёнку. Посудите сами, что мне после этого было делать? Кто я такой? Не выполнишь – разорит. Пустит по миру. Такой человек! Вот и пришлось и к вашему начальству обращаться, и здесь, по городу, вас искать. Семь потов сошло. Я понимаю, мы нарушили вам идиллию утра. Но не судите строго. Не обессудьте! Не взыщите за беспокойство!
И только тут Иван Иванович начал подозревать, что Фифа приехал не совсем по поручению Феликса. Не по одному только поручению старого учёного. Что интерес у Фифы гораздо более серьёзный.
Завлекательная, в его понимании, горка пачек «макулатуры» лежала на столе. И ничего не надо было делать. Только и труда: протянуть руку и сбросить «зелень» в открытый ящик стола. И затем задвинуть ящик обратно. Всего делов! И предложение выглядело довольно заманчиво. Непонятная уму Ивана Ивановича игра то ли в деньги, то ли ещё во что, непонятное ему, начиналась всерьёз, по-крупному.
– Сколько здесь? – спросил он отсутствующе, наблюдая в окно, как Ледокол, вынув из кармана шоколадку и пытаясь улыбаться, по возможности, доброжелательно, протягивает её Маришке.
«Сволочи! Всё предусмотрели!» – чувствуя, что первоначальное мнение о Ледоколе, помимо его воли, понемногу меняется в лучшую сторону, улыбнулся он. Похоже, теперь он мог воспринимать эту человекоподобную машину, этого андроида, как вполне разумное существо.
– Полтинник! – услышал он голос Фифы.
– Полтинник, – повторил задумчиво вслед за Фифой Иван Иванович, наблюдая в окно за дипломатическими манёврами Ледокола. – Вам известны мои принципы? Каково моё отношение, как человека и художника, к элементарной, бытовой, житейской философии?
– Как же! Как же! Наслышаны.
– И как в таком случае вы расцениваете происходящее? Это что, пошлая покупка меня, как они, эти богатеи, привыкли покупать всё, что им хочется? Что, по-вашему, я теперь похож на вещь, которую можно купить на дешёвой воскресной распродаже? Или что, нынче наступили такие времена, что для некоторых, пожалуйста, любой их каприз на блюдечке за их деньги? Так уже дело обстоит? Теперь деньги – мерило всему?
– Я так и объяснял жирному Коту, – задрав майку и почёсывая жирное, обвислое брюхо пояснил Фифа. – Да куда там! Разве такие люди что-нибудь понимают? У Котов своя философия. «Если не согласится, – говорит, – удвой ставку.
Нет, значит, утрой! А не договоришься, пеняй на себя. Сам понимаешь, что с тобой будет. В бараний рог сверну». Такой вот разговор вышел. Поверишь, не пойму, что он нашёл в этой картине. Говорит: «Мировой шедевр создавать будем». Пойми после этого причуды миллиардеров! Между нами, я уже говорил, что сходят с ума нувориши. Работа так себе. Этюд! Не больше! Но приказ есть приказ. Конечно, я могу удвоить сумму. Как вы смотрите на такой вариант? Это что-то меняет? – И, вынув из пакета ещё несколько пачек «макулатуры», положил их на стол.
Иван Иванович вздохнул.
– А знаете, никак! Ничего это не меняет. Видите ли, я об этом вам не рассказывал. Недосуг как-то было, да и незачем. Так вот, не так давно, всего несколько лет назад, мой лучший друг предложил мне целое состояние. Сказочное. Большое-пребольшое. Просто огромное. Так вот, я думаю, сейчас, если бы я не был таким дураком, какой я есть, я был бы богат как арабский шейх.
– Ну и что дальше? К чему вы это?
– Дальше? Ничего! Я же сказал: если бы я не был таким дураком. Я отказался. Это к тому, что у меня плохие взаимоотношения с деньгами. Я не очень понимаю, нужны ли они мне вообще. Мои потребности незначительны. Мои жизненные интересы находятся вне связи с деньгами. Даже больше. У меня такие ощущения… Как бы вам объяснить? Я с деньгами чувствую себя так, как будто я что-то очень важное, главное в себе теряю, когда у меня появляются деньги.
– Ну, уважаемый, – рассмеялся Фифа, – вот это вы загибаете! Высший класс! Сколько живу, никогда такого не слышал, – откинувшись на спинку стула, Фифа издевательски улыбался. – Вы прямо отшельник какой-то. Анахорет. Отщепенец. Такие раньше в скит уходили. В монахи. В отречении от житейского искали себя, своё назначение в этом мире. Потом из них дармоеды в рясах с крестами святых делали. Чтоб самим без работы не остаться. Без куска хлеба. Но вы-то учёный. И художник, возможно, не чета другим. Эвон какие деньжищи, правда не понимаю за что, вам платят.
– Ирония судьбы! Гримасы искривлённого сознания. Никак не иначе. Наверно, потому, что они мне не нужны, мне и платят. Давайте лучше я вам кофе приготовлю. Устали вы с дороги. Вам надо перекусить, отдохнуть. Зовите вашего бодигарда. И уберите, пожалуйста, со стола этот мусор! – показал он на стопку денег. – Раздражает!
– С вашего позволения, может, не будем столь категоричны? – спросил дипломатично Феофан. – Деньги всё же. Уважения к себе требуют. И наш разговор ещё не закончен. Нам, возможно, ещё придётся вернуться к деньгам.
– Я так не считаю. Хотя и полон уважения к деньгам. Какая-то польза от денег всё же есть. Можно, например, купить хорошие краски. Построить дом.
Но это только одна сторона медали, а есть и другая, тёмная, и я не думаю, что из нашего разговора что-либо выйдет.
– А если я добавлю столько же? – рассмеялся Феофан. – Возможно, ваше отношение к деньгам немного изменится?
– Давайте лучше пить кофе, – предложил Иван Иванович. – Говорят, кофе иногда хорошо мозги от дерьма прочищает. Если они есть.
Вернувшаяся через некоторое время Маргарита застала трёх мужчин, сидевших за столом, уставленным бутылками с кофейного цвета жидкостью вперемешку с мандаринами, кусками ветчины, пирожками и бутылками со сладкой водой. Сдвинутые на угол стола деньги возвышались отдельной, никому на этом празднике жизни не нужной стопкой.
Несколько пачек упало на пол. Осмелевшая Маришка, не совсем ещё понимавшая, что это такое, подобрала их и строила из пачек домик на диване.
На малышку никто не обращал внимания.
– Ладненько, посоветуйте, пожалуйста, мне, что я должен сказать Коту? В какое положение вы меня ставите? Что теперь со мной будет? – обращаясь к Ивану Ивановичу, занервничал Феофан.
– В самое обычное. У меня служба. Сложная научная тематика. Поэтому начальство посылает меня в Штаты. Мне просто некогда этим заниматься. А картину для биллиардной вашему Коту легко может наваять кто угодно. Сколько мастеров владеют кистью гораздо лучше меня!
– Вы, любезный, кажется, не поняли, – раздувая щёки и топыря короткие пальцы в перстнях, начал высказываться Фифа. – Нам лучше не надо. Нам надо так, как можете вы, дорогой мой. Нам ваша кисть нужна, а не какая-то другая. И ваша персональная подпись собственноручно в углу.
Разговаривая, он принялся названивать кому-то по телефону.
– Излагаю понятно? – названивая, обратился он к Ивану Ивановичу. – Или что-то не доходит? А чтоб дело спорилось, дадим вам двух помощников из тех, кто, как вы говорите, владеет кистью лучше вас. Краски смешивать, стремянку при необходимости в нужное место передвинуть, напитки по стаканам в жажду разлить. Искусство – такая вещь! Мало ли что может во время работы потребоваться?
«Да! – наконец дозвонившись, закричал он в трубку. – Слушаю! Не соглашается! – раздавался голос Фифы в комнате. – Что дальше? Удвоил. Потом утроил. Предложил двести. Не берёт. Что он хочет? А бес его знает! Странный он какой-то. Непонятный. Не от мира сего. Не из нашего мира. Уверяет, что деньги ему не нужны, и даже более того – просто вредны. Как вам это? Что? Нормальный? Да, нормальный! Я давно его знаю. Ручаюсь! Что делать? Как вы сказали? Придётся пойти на крайние меры? Самые крайние? Что, так и передать этому страннику? Хорошо! Так и передам. Если до него дойдёт. Странный народ эти художники. Сколько я их знаю, а так и не смог понять, что они за люди. Думают не так, как мы, рассуждают не как мы, поступают не как мы. Возможно, они и не с Земли вовсе. Может, с Марса, а может, с другой стороны Луны. Пришельцы, одним словом. Не понимаю я их. Что им надо? Не знаю. Да, слушаюсь. Передам слово в слово. Сейчас объясню».
– Ну как, уразумел? – выключив телефон, Фифа торжествующим тоном обратился к Ивану Ивановичу. – Ты знаешь, что с тобой будет, если ты не согласишься? Ты хоть отдалённо догадываешься?
– Что же?
– Кот сказал, что он и твою научную тему закроет, а будешь привередничать, упираться, и институт расформирует. Ты этого хочешь? Так он сделает. Ему раз плюнуть. И будешь ты сидеть без денег и без работы до конца дней. Уж он постарается. Это в его власти.
– Ваш Кот что, закон?
– Он выше закона. Он законы издаёт, – уточнил, криво улыбаясь, Фифа.
– Что-что, а это он может, – вставая из-за стола, чтобы уступить место Маргарите, высказался Ледокол. На поверку, при ближайшем рассмотрении, он оказался очень милым, деликатным, учтивым мужчиной. Наблюдая его обходительность, даже не верилось, что при необходимости он мог одним молниеносным движением сломать кому-нибудь руку или лёгким ударом мог вытряхнуть лишний мусор из мозгов.
– Кот – такой человек! – озабоченно продолжил он. – Не зря и фамилия – Кот. Я бы на вашем месте не очень сопротивлялся. Себе дороже выйдет. И деньги! Кто ещё в кои-то веки предложит вам такие очень даже нехилые деньжата. Подумать есть над чем.
– Подумать всегда есть о чём. И когда есть деньги, и когда их нет. Даже тем счастливчикам, кому совершенно не о чём и незачем думать, – сказал устало Иван Иванович.
Беспомощно, словно в мучительных поисках совета, он огляделся, посмотрел безвольно на Маргариту, на Феофана, на игравшего на диване с Маришкой Ледокола.
Все молчали. Он ещё раз посмотрел на Маргариту, прямо в глубину её глаз, как будто в их глубине он мог найти ответ на такой непростой вопрос, на вызов судьбы.
В глубине её глаз он увидел, что они оба, и она и он, знают единственно правильный ответ, который позволил бы им не упасть в грязь лицом, не испачкаться об эти деньги перед этими людьми и собой.
В полной тишине он наполнил бокал. Было слышно, как булькает и плещет о стекло наливаемая в фужер жидкость. Жадно, большими глотками, хлюпая и стуча зубами о стекло, он выпил, сморщился от горечи пойла, перекривив лицо, не закусывая, шумно выдохнул и почувствовал себя так, будто это помогло ему выбрать правильное решение.
Протянув руку, взял из горки лежащих валом на столе денег пачку, большим пальцем прошёлся с шелестом по углу пачки, как бы проверяя, нет ли подлога, и, обращаясь к Феофану, спросил:
– Как вы думаете, содержимого этой пачки, того, что здесь есть, хватит, чтобы такому человеку, как я, смотаться на месячишко в Штаты?
У всех сразу как будто какая-то неимоверная поклажа свалилась с плеч. Сгустившийся было в помещении до густой синевы воздух вновь стал прозрачным и лёгким. Феофан и Леонид заулыбались.
Маришка полезла на стол. Ей не хватало денег на строительство домика. Но никто ей слова не сказал, и, взяв в ладошки столько пачек денег, сколько в них поместилось, она, довольная, вернулась на диван достраивать домик.
Одна Маргарита оставалась серьёзной. То есть её лицо по-прежнему как будто ничего не выражало, но её карие глаза почему-то стали глубокими, бездонными. И неожиданно он потонул в их глубине.
Тонул, тонул и всё никак не мог выплыть. И, больше того, он и не хотел выплывать. Ему было хорошо в этом карем омуте.
«Плавать бы так до конца дней. Если это возможно, – подумал он. – И умереть в один день!»
А Феофан, подняв голову и упёршись взглядом в потолок, начал что-то высчитывать, загибая по одному толстые, короткие, поросшие рыжей шерстью пальцы и мучительно шевеля губами. Видно, в счёте он был не силён. Деньги, как известно, считать – это вам не мешки в порту на свежем воздухе ворочать.
– Отели, рестораны, чаевые, поездки по стране, – шептали его губы. – Знаешь, если очень, ну очень скромно, то маловато будет, – обратился он к Ивану Ивановичу.
– А так? – взяв из кучи ещё одну пачку спросил Иван Иванович. – Двух пачек хватит?
– Двух? Двадцать тысяч? Если не шиковать, не посещать элитных ресторанов, может, и хватит.
– И десять тысяч Марго на духи. Тогда, если никто не возражает, я оцениваю заказанную работу в тридцать тысяч. Звоните своему Коту-людоеду! Скажите, что я согласен.
И, брезгливо сдвинув локтем на край стола внушительную горку денег, сказал:
– Уберёт кто-нибудь в конце концов этот мусор со стола? Терпеть не могу беспорядок.
– А, сейчас! Федя! – включая телефон, радостно возопил Феофан.
– Да, шеф! – легко, как пружина, поднявшись с дивана, Ледокол сумрачной тенью навис над круглым, бесформенным Фифой, являя собой воплощённый эталон элегантности и физического совершенства.
– Слушаю вас, шеф!
– Ты не мог бы слегка прибрать на столе? И заодно убери эту ботву, – показывая на горку с пачками денег, попросил Феофан. – Раз такое дело, что некоторым избыток денег мешает нормально жить, денежки надо убрать.
– Одну минуту, шеф! – лёгкой тенью скользнул вдоль стола Ледокол, собирая мандариновые корки, остатки бананов, объедки пирожков, и, встряхнув чистый пакет, начал, считая, укладывать туда деньги.
– Вот, пожалуйста, тут все, за вычетом оговорённых в условии тридцати тысяч! – подавая пакет Фифе сказал Ледокол.
– Тогда, раз всё утряслось, пришло время подумать об основном инстинкте? – направляясь на кухню, спросила Маргарита.
– И вы, королева, небожительница, не свободны от инстинктов! – искренне удивился совершенно обалдевший от всеподчиняющего обаяния Маргариты Феофан. – Вот уж никогда бы не подумал. Что же после этого говорить нам, простым людям!
– А говорить нечего. Кроме инстинктов, у человека есть право выбора, – скрываясь за дверями кухни, сказала Маргарита.
Все довольно заулыбались. День, начавшийся было не слишком удачно, начал вновь приобретать разумные, доступные пониманию всех присутствующих очертания.
Глава 12 Архипелаг Норо я
– Как же она тогда сказала? – в полудреме пытался вспомнить давний разговор Иван Иванович. Кажется, насколько он помнил, она что-то говорила о праве выбора.
Что касается его, он свой выбор сделал давно, ещё мальчишкой. Использовал своё право выбора, будучи мальцом, сполна. И ни разу с тех пор не пожалел о выбранной им дороге. Ни когда был молодым, осматривавшимся, выбиравшим жизни путь, ни теперь, будучи зрелым, в расцвете сил и профессиональных знаний человеком.
Вездеход, лязгая гусеницами и урча надрывно на подъёмах мотором, оставляя за собой снежное облако, мчал тёмной непроглядной ночью без устали по белой, оцепеневшей от холода полярной пустыне.
Он то проваливался в глубокую ложбину, то, рыча по-звериному и содрогаясь всем корпусом, карабкался на крутой склон, и сиденье, на котором сидел Иван Иванович, то падало куда-то вниз, то подбрасывало вверх, и он, ворочаясь на сиденье, никак не мог устроиться поудобнее, чтобы немного подремать.
Когда его особенно сильно встряхивало, он открывал глаза. Впереди, в отражённом от снега свете фар он видел силуэты водителя и проводника Хили.
А в окне ни живого существа, ни кустика, ни человеческого жилья в пределах досягаемости вездехода на сотни километров вокруг.
Да что там на сотни! Всего несколько селений, чтобы сосчитать, достаточно пальцев одной руки, находилось на этом насквозь промороженном и продутом вдоль и поперёк ураганными ветрами огромном, в тысячу километров в длину, нельзя сказать, что чересчур уютном и навязчиво гостеприимном, острове.
В одно из таких селений, в Белушью Губу, утопая в сугробах и грохоча гусеницами по каменистой земле там, где шалый ветер сдул с почвы снег, оставив застывшие торчком, напоминавшие гладильную доску рёбра застругов, торопился вездеход.
Они торопились на встречу солнца, первого восхода небесного светила над землёй после почти двух месяцев непрерывной жути и ужасов угрюмой полярной ночи над архипелагом.
Конечно, они могли бы встретить солнце и в расположении экспедиции, но пришла радиограмма, что ожидается самолёт с материка.
А самолёт на Новой Земле – это не просто самолёт! Это долгожданная почта, это продукты, это люди, счастливые и довольные, возвращающиеся с Большой земли. Это как приветствие из другой жизни, той, что осталась на материке и по которой они все очень тосковали.
И ещё, Иван Иванович никому бы в этом не признался, он надеялся, что, может быть, и ему с этим самолётом пришла какая-нибудь весточка. С Маргаритой он расстался прохладно.
Он приглашал её, но она не могла поехать с ним ни в Штаты, ни в столицу.
Прошло полгода. Боль расставания затихла. За работой он было совсем забыл её. И если бы не слова дежурного: «Самолёт! Завтра в Белуху на аэродром прибывает самолёт!», он бы и с места не тронулся.
Самолёты бывали и раньше. Нерегулярно, но летали. Когда погода позволяла. И ничего. Иван Иванович относился к этому равнодушно. А тут с ним как будто что-то случилось. Он как-то странно, невидяще посмотрел на дежурного.
– Технику к самолёту отправлять? – спросил дежурный. – Новый генератор нужно получить. И завтра солнце впервые покажется. В Белухе, должно быть, праздник солнца отмечать будут.
Врал безбожно дежурный. До конца полярной ночи ещё было ночевать и ночевать, но такая удивительная, ни на что не похожая это была земля.
«Норо я – Божественная» с любовью и бесконечным, граничащим с самоотречением почитанием называли её ненцы, и были правы.
Шёл конец января. На широте Белушки в это время при ясном небе часто можно было наблюдать различные рефракционные эффекты. В частности, солнце, находящееся об эту пору ещё далеко за линией горизонта, иногда вдруг могло взойти на небесном склоне когда пылающим костром, то в форме дорожного, какой ставят при переезде на нарты, сундука, а то разливалось по горизонту в виде пылающего, объятого пламенем, летящего по небу огненного хорея. Тем, кто впервые наблюдал эти картины в сочетании с пазорями, когда магнитная стрелка компаса начинает произвольно бродить по циферблату, – «матка», как называли забредавшие и ныне к берегам архипелага поморы, впору было поверить во что угодно. Что только может примерещиться.
Иван Иванович улыбнулся. У дежурного была зазноба в Белухе, и он использовал любую возможность, чтобы увидеться с ней. И праздник солнца придумал. Правда, для живущих на этой земле людей это был действительно праздник, когда эта застылая после долгой полярной ночи земля вновь встречалась с солнцем или пусть даже всего лишь с его сиятельным фантомом. Гарантий не было никаких.
– Ты, Володя, уверен? Захочет солнце завтра посмотреться в зеркало неба, или спросонок у светлейшего будет плохое настроение и оно отложит это мероприятие на неопределённое потом?
– Уверен! Небо чистое, звёздное. И сполохи яркие. Все приметы сходятся. Меня дядька-рыбак учил. И компас, глянь, непонятно что вытворяет. Так всегда перед появлением отражения бывает. А не сегодня, значит – завтра или на днях солнце объявится. Я в Белушке солнце подожду.
Иван Иванович задумался, подошёл к дверям, выглянул в морозную ночь.
Небо было чистым. Сквозь радужное разноцветье бегущих по небу сполохов северного сияния ярко сияли звёзды.
– Ладно, Володя, – согласился он, – триста вёрст не крюк. И людям отдохнуть надо. В нормальных, цивилизованных условиях пожить. Проверь, заправлены ли машины, оставь замену, возьми проводника и поезжай, навести свою подругу. Отпуск даю неделю. – И долго ещё ходил по тесному помещению слушая, как водители прогревают двигатели, шум голосов собирающихся в Белуху людей, и неожиданно заволновался, забегал, как будто ему в голову пришла шальная мысль, схватил шубу, проверил, на месте ли документы, и, надевая на ходу шапку и шубу, вышел из дежурки и, подойдя в свете фонарей к чадящим в морозном воздухе вездеходам, спросил: «Для меня место найдётся?», а ещё минуту назад ни о чём таком не думал и даже отдалённо не помышлял.
И вот пятый час он неведомо зачем трясётся в вездеходе, слушая рассуждения Хили, обычно молчаливого, слова не вытянешь, о севере, о семье, о прелестях полярной жизни; для тех, кто не понимает, о том, как будучи молодым, совсем юнцом, он оказался здесь.
В молодости, как и положено в юном возрасте, Хилю влекли дальние дороги и неизведанные земли.
Низкорослый, худощавый, из одних мускулов и сухожилий, Хиля не ведал страха. Ничто не могло остановить его: ни сильные шторма, ни внезапные, обычные для северных широт подвижки паковых льдов.
В бесчисленных живописных заливах Новой Земли, в окружении угрюмых, заснеженных скал, он ловил рыбу, добывал на льдинах тюленей и мог питаться одним сырым мясом, подолгу обходясь, как его древние предки, без огня и горячей пищи. Широкий охотничий нож, старенький карабин, пара медвежьих шкур и тёплая кухлянка, чтобы было чем укрыться от дождя и холода, составляли всё его снаряжение.
На этой суровой, бесприютной земле и летом, под незаходящим два месяца кряду северным солнцем, в нескончаемо длинный полярный день жарко никогда не бывает.
Ему говорили, что и тут, на краю земли, обитают какие-то люди и есть стойбище, где живут несколько семей ненцев. Он не очень этому верил.
Разве можно жить на такой суровой, неприветливой, слишком мрачной даже по его представлениям коренного жителя тундры, земле? Он не мог ни в каком бреду себе это представить.
А если и живут, думал он, то, скорее всего, какие-то огромные, страшные великаны. Потому что, сколько он мог видеть, на поверхности земли всюду были собраны кучами большие камни. Конечно, собрать эти громадные камни в кучи могли только очень большие люди. Неимоверно большие. Ростом, должно быть, таким, что головой доставали до серых, низко летящих над этой унылой землёй туч.
Возможно, Хиля долго и жил бы так одинокой, суровой жизнью настоящего мужчины, терпя лишения и преодолевая ежедневно часто непредвиденные опасности среди запорошённых снегом скал.
Он укрывался от непогоды, от дождей и пурги, под стареньким, заплата на заплате, готовым вот-вот развалиться от ветхости каяком.
Медвежьи шкуры, сшитые крепкими моржовыми жилами мехом внутрь наподобие спального мешка, брошенные на подстилку из веток карликовых берёз и покрытых сверху охапками кочкарника, да каяк, составляли всё его прибежище на случай непогоды.
А непогода на острове не прекращалась почти постоянно и повсеместно. Должно быть, не зря эту бесприютную, гиблую землю те, кто на ней бывал, называют Островом ветров.
Питался Хиля тем, что мог выловить своими нехитрыми рыболовными снастями и добыть с помощью винтовки и широкого охотничьего ножа.
Когда ему удавалость найти плавник и сухой вереск, он добывал с помощью кресала и трута огонь, разводил костёр и устраивал небольшой праздник, варя на огне наваристую, жирную уху или поджаривая нанизанные на палку куски мяса.
Но чаще всё же ему приходилось довольствоваться куском вяленой рыбы или сырым мясом, зарытым предусмотрительно накануне в слежавшийся фирновый снег, в изобилии хранившийся в тенистых распадках и расщелинах в скалах крутых, мало освещённых солнцем горных склонов.
Рассказ Хили скрашивал дорогу. Водитель, крепкий, рукастый, деревенского склада детина, новенький, недавно устроившийся на работу, слушал старого проводника, иронически улыбаясь.
Ему всё было внове. Он смотрел на хлипкого, низкорослого, тщедушного Хилю и насмешливо улыбался:
«Да ну! Неужели! Не может быть! – говорил весь его благополучный, откормленный и сытый вид. – Разве такое возможно? В этом бесприютном краю! Гляньте на него! Рэмбо нашёлся!»
И слабый, тщедушный Хиля, отлично понимая насмешливые взгляды водителя и его недоверие, словно оправдываясь перед ним, замолчал и, немного подумав, сказал:
– Всё так и было, однако. Можешь верить, а можешь не верить. Молодой был, глупый. Отчаянный. Но нимало об этом не жалею. Если бы снова стать молодым, – мечтательно вздохнул он, – я бы опять начал жить так же. Однако!
Водитель скептически хмыкнул. Он не понимал такой жизни. А Иван Иванович, до которого доносились сквозь дрёму слова Хили, сладко, до хруста в суставах потянулся: «Эх, побродить бы ещё!»
Он много бродил с Хилей неделями по заполярной тундре. И ночевать им приходилось в походных условиях, где придётся. Если слово «ночевать» уместно под незаходящим летом неделями напролёт солнцем. В отличие от водителя слова проводника его не удивляли. Он до тонкостей знал особенности и сложность полярной жизни.
«Погоди, толстозадый, – думал он, глядя на водителя, – лето придёт, возьмём тебя с собой в тундру. За неделю кормёжку добывать походя научишься.
Жирок спустишь. Через месяц-другой на настоящего мужчину отдалённо, хотя бы внешне, походить будешь. Тундра! Это тебе не в Москве по Тверской среди женщин свободных правил гоголем разгуливать».
А Хиля рассказывал, что если бы не случай, так бы и катилась, возможно по сей день, неприкаянная, полная лишений, бродяжья его жизнь.
С наступлением зимы он вновь вернулся бы на материк к соплеменникам, в родной клан, чтобы охотиться, пасти оленей и быть поддержкой семьи.
А по весне снова ладил бы каяк, паковал тёплые вещи, запас еды, проверял патроны и ружьё перед дальней дорогой.
Но однажды, продолжал рассказывать Хиля, он долго, несколько дней, плыл на каяке между обрывистых, скалистых берегов тихой, постоянно меняющей направление, извилистой речки, лениво петлявшей между невысоких, округлых, убелённых белыми снеговыми шапками вершин.
Он плыл с озера, на которое случайно попал по другой протоке. На озере полным-полно было гусей, чаек, казарок, гаг. Там он хорошо отдохнул за целых десять полных солнечных кругов. Десять раз солнце опускалось по небесной дуге к земле и, не касаясь земли, снова уходило ввысь. Это было такое счастье – спать при свете солнца, ловить рыбу, бить палкой гаг и толстых, разъевшихся, неповоротливых гусей, но надо было плыть дальше. Ему очень хотелось узнать, что же дальше, там, откуда приходят зимой тяжёлые, огромные льдины. В конце концов, после долгих петляний по реке, он выплыл в морскую пойму и повернул своё утлое судёнышко вдоль берега в сторону, откуда, как он знал, зимой, непонятно откуда, к земле приходят огромные, не тающие до весны, покрытые ломаными застругами ледяные поля.
Солнце, когда он плыл, гребя вдоль борта каяка однолопастным веслом, вначале светило ему в спину, потом повисло над головой и наконец, совершив полный оборот, опустилось к горизонту и, подойдя поближе к холодной, свинцовой глади моря, ненадолго задержалось, глядясь на своё отражение в воде и отдыхая, прежде чем начать новый небесный круг.
Слева он миновал два небольших островка. С другой стороны тянулся голый, бесприютный берег, когда неожиданно впереди показался круто вдающийся в море мыс, а на мысу – о чудо! – несколько строений из почерневших от времени брёвен, чум с курящимся над ним дымком, словом, нормальные признаки человеческого жилья, а главное, чуть поодаль, немного погодя он увидел показавшиеся ему маленькими, но так обрадовавшие его фигурки людей.
Мужчины вытаскивали на берег большую лодку, а на взгорке стояла девушка в расшитой узорами кухлянке и наблюдала за мужчинами. Она была совсем юная. Почти девчонка.
– Далеко собрался? – спросила она, когда он причалил к берегу.
– Куда глаза глядят, – ответил он.
– А далеко они у тебя глядят?
– Немного дальше этого берега.
– А дальше ничего нет. Дальше высоченные горы, льды, холодная пустыня. Ни людей, ни птиц. Ничего!
– Вот это мне и надо. Мне это в самый раз. Это то, что я ищу.
– Ты что, глупый! Замёрзнешь! Погибнешь! Оставайся. Мы будем рады тебе. Место для тебя найдётся. Со всеми лучше, чем одному.
Прошло ещё десять солнечных кругов. Десять раз солнце опускалось к морю, словно для того, чтобы поглядеться на своё отражение в холодной, студёной воде, умыться, проверить, все ли в порядке, хорошо ли сиятельное отражение, не случилось ли чего с внешностью, не приведи к плохому, владыка небес и земли, пятно какое или настроение с заутрени неважное, и, наглядевшись на себя в морской воде, торопливо на ходу прихорашиваясь, солнышко начинало новый забег по своим владениям, по неоглядному небесному своду.
И десять раз Хиля ходил с мужчинами на рыбалку, десять раз осматривал бухту: хорошо ли закрыта от морских волн. Как лучше входить с моря в бухту. Наконец огляделся, отдохнул, пришёл в себя и остался, потому что понял, что это судьба, что пришёл конец его одиноким скитаниям.
Всё из-за девушки. Девушку звали Мильда. И однажды он осмелился и сказал ей, что он сильный и ловкий, и всё может, и с ним она никогда не будет нуждаться или быть голодной, и, если она не против, он мог бы построить чум для них двоих. Она была не против.
И много солнц с тех пор вставало над этой землёй и над головами этих двоих, решивших дальше идти вместе.
Хиля любил Мильду. Она родила ему дочь и трёх сыновей, и он был благодарен ей за это. Он очень уважал Мильду и ценил её. И как не уважать и не ценить женщину, если женщина выбирает трудную дорогу мужчины! Он был до глубины души ей признателен. Что бы он был, не будь в его судьбе Мильды! Да! И это правда! Любой вам подтвердит. Где как, а на севере без женщины никак нельзя. Так, во всяком случае, считал Хиля.
В самом деле, что делать одинокому человеку на севере без женщины, без женской заботы, ласки и любви? Без любви на севере вообще делать нечего.
Без любви не родятся дети. Без любви как где, Хиля не знал, а на севере человек замёрзнет и погибнет. Его сожрут белые полярные лисицы, а кости растащат по оврагам злобные волки.
И Хиля, как мог, как умел, любил родовое божество, семейный тотем, общий для всех северных народов – Мать-моржиху, любил Мильду, их детей, и ещё он любил оленей.
Или, правильнее было бы, вначале Мильду и детей, а потом уж Мать-моржиху и оленей. А может, вначале оленей, а потом Мать-моржиху и Мильду?
В любом случае в этой троице всё было взаимосвязано. Одно без другого не могло существовать. Выпади одно звено – и вся цепь рассыплется. Всё потеряет смысл и значение.
И всё-таки одно звено, надо признать, в этой цепи жизни было главным.
Оно связывало воедино прочной связкой, крепче не бывает, и Мать-моржиху, и оленей, и его, Хилю Иакова. Золотое звено! И этим звеном в его представлении, конечно же, была Мильда и дети, которых она ему родила.
И он с нетерпением ждал, когда же наконец они приедут в Белуху и он наконец увидит Мильду и заберёт её с собой, чтобы никогда уже не разлучаться. Потому что, что в этом мире может быть лучше, чем когда двое, мужчина и женщина, живут друг для друга.
Глава 13 Праздник Солнца
Они много лиха перенесли на этой земле. По рассказам знающих людей, некогда, давным-давно, много солнц вставало над этой землёй, над этими суровыми, покрытыми нетающими ледниками горами и долинами. Среди солнц были и такие, которые затмевали настоящее солнце.
Рассказывали, что свет этих необычайных, страшных светил, загоравшихся над Архипелагом, достигал материкового побережья этого угрюмого, скрытого большую часть времени под панцирем льдов, не похожего ни на какой другой океана, а воздух, сжатый страшной силы ударом до такой степени, что его можно было видеть, непроницаемой тёмной стеной нёсся над ледяными полями, круша и ломая их, вздымая вверх и разнося в мелкую, тут же испаряющуюся, бесследно исчезающую мелкую пыль огромные, многокилометровые льдины и всё, что ни попадётся окрест на его пути.
Океанская вода отступала от острова, обнажив впервые за многие века и тысячелетия дно океана с корчащимися и в момент испепелёнными небывало яростным пламенем морскими чудищами, и поднималась смрадными тучами дыма и пара к облакам, а затем, помедлив немного, с рёвом и грохотом бросалась обратно, поглощая обнажившуюся в одночасье от страшной силы удара морскую пучину, и, с ужасающим рёвом и грохотом возвращаясь, накатывалась на содрогающийся от ужаса Архипелаг.
Остров, и даже не остров, а почти целый материк с высоченными горными хребтами, долинами, огромными ледниками, вздрагивал, содрогался, как будто снова хотел уйти на морское дно, откуда возник сотни миллионов лет назад.
Должно быть, там, во тьме, на океанском дне, он хотел спрятаться от непомерной ярости и гнева, непонятно почему и зачем разверзшимися над ним, но, выдержав каким-то чудом очередное испытание, оставался на поверхности. Видно, оставшись целым, на плаву, Архипелаг решал ещё раз испытать судьбу, переждать до следующего раза.
Надо заметить, что если бы всё это происходило в языческие, добиблейские времена, то кому-нибудь вполне могло показаться, что какой-то очень древний бог, возможно языческий Илья Громовержец, рассерчав без меры на глупых и не желающих ничему учиться людей, уединился в эти безлюдные края льда и снега и вымещал в сердцах свою злобу над этими злосчастными горами и ледниками.
Но всё же это был не Громовержец. Скорее всего, это было ещё более древнее существо, возможно, самый древний из богов, всепожирающий бог войны – кровожадный и ненасытный МОЛОХ.
Это он поднимал мерзкий, в косматых тучах гари и дыма, кровавый лик войны над белым саваном полярной пустыни, требуя от напуганных его мерзким видом людей всё новых и всё больших жертвоприношений.
Но и это не вполне соответствовало истине. Непримиримое противостояние двух несовместимых идеологических систем, и даже больше – особенностей национального уклада и мышления двух государственных систем, требовало немыслимо больших затрат для поддержания зыбкого, эфемерного военного равновесия между ними. И после замены одной несовершенной политической системы на другую, ещё более отсталую и несовершенную, архаическую, возникшую ещё в допотопные, доисторические времена систему во имя прогресса и процветания, противостояние осталось, и даже заметно, в разы, увеличилось.
А всё потому, что несметные богатства самой большой страны в мире не дают спокойно спать некоторым очень богатым дядям с УОЛЛ-СТРИТ, считающим, что всё в мире принадлежит им, а если не принадлежит, то необходимо сделать всё возможное, чтобы принадлежало.
Деньги, богатство, недоразвитость человеческого мышления легли в основу межгосударственных противоречий и двух идеологически и морально несовместимых систем.
Вот поэтому омерзительное чудище, встающее над этой полярной землёй, оружие противостояния, оказалось творением рук человеческих.
И люди, в конце концов узрев, что они сотворили, поняли наконец, какую беду они придумали на свою голову, а поняв, пришли в ужас.
С тех пор все работы, связанные с приручением этого жуткого монстра, кровавого исчадия ада, прекратились, но многие, кому пришлось побывать на архипелаге Новая Земля, позже жаловались, что призрак чудища, результат прозрения человеческого гения, так и остался в тех краях, и, хотят они или нет, независимо от их воли, жуткое видение появляется перед ними и часто преследует их, неожиданно возникая перед глазами в минуты усталости или упадка духа. Видение Апокалипсиса! Всеобщего конца!
А среди северных народов, обитающих на побережье Ледовитого океана и промышляющих оленеводством и охотой на морских животных, возобладало и получило распространение совсем другое мнение. Они решили, что вспыхивающий где-то далеко-далеко яркий свет и ураганный ветер, сбивающий телевизионные антенны с их чумов, возникли из-за того, что их общая прародительница МАТЬ-МОРЖИХА встретилась наконец со своим друганом – МОРЖОМ и у них теперь такая любовь попалась, что холодные, лишённые каких-либо человеческих чувств, огромные, километровые льды и те встают торчком и лезут, и, крошась и ломаясь со страшным грохотом, налезают друг на друга от охвативших их внезапно неуправляемых, сильных чувств.
Во всяком случае, так считал тогда ещё молодой ненец Хиля Паков, пока его друг, чей чум стоял неподалёку, чтобы они могли пасти оленей вместе, не сказал ему: «Не обращай внимания. Я был в большом становище. Они называют его городом. Так в городе слух ходит, что этот жуткий, яркий свет и необычайной силы ветер возникают оттого, что на нашем острове Норо я появились такие люди, кажется, они называют себя физиками, и там они в свои любимые игры играют. Иногда они собираются на нашем острове, любимой нами Божественной земле Норо я, вместе, и, когда в хорошем настроении, они начинают играть. От этого, от их любимых игр и возникает этот яркий свет и всё ломающий, сносящий на своём пути ужасный ветер.
Я спрашивал, что это за люди, из каких краёв, что за национальность такая, какого они роду-племени, но так ничего и не понял. Сколько живу, а ни одного физика живьём ни разу не встречал. Непонятные они мне люди. А может, они и не люди вообще, а какие-нибудь жуткие, невиданные на Земле страшные чудища, могущие легко управлять громом и молнией?»
Хиля, слушая друга, впал в недоумение. «Физики»! Слово какое! Чудища или нет, он не знал. Наверно, какое-то новое племя, неизвестное им.
Раньше он ничего о них не слышал, но теперь он знал, откуда на Норо я, на любимой им Божественной Земле, появились эти большие, округлые камни и кто собирал их в кучи, а потом играл ими.
Камнями играли и собирали их в огромные кучи физики. И, наверно, физики были очень большими людьми, такими большими – великанами, и они доставали головами до низких, постоянно несущихся над островом туч.
Потом он сидел в чуме и слушал недоступные его уму новости из большого мира, которые сообщал, как будто он на самом деле мог что-то знать, маленький чёрный ящик с круглыми ручками настройки под названием «Байга», который он купил по случаю в Русской фактории, и курил трубку.
«Каждый знает, – думал он, – наиболее надёжный и достоверный источник новостей на севере – беспроволочный телеграф, состоящий из оленьей упряжки, запряжённой в нарты, и хорошего, молодого, умеющего бегать не хуже оленей каюра».
Вот кому он мог верить, а не этому глупому ящику, на который батареек не напасёшься. Так за батарейками ещё надо ехать в город, а в городе чего только не насмотришься, кого только не увидишь.
Когда-то, не так давно, он был таким – худым, быстрым, ловким, легконогим, размышлял охотник Хиля Паков, помешивая ложкой с длинной ручкой кулеш с мясом, закипавший в котелке над чадящим из-за сырых дров костром.
Тогда он мог сгонять не только в город. Он мог с хорошей упряжкой сбегать и туда, откуда рассказывают эти новости, и объяснить там, какие на самом деле бывают новости. Потом он садился и прижимался для тепла к жене Мильде, размышляя о своём и слушая краем уха «Банту».
«Банта» обещала сильный ветер и потепление.
«Врёт, однако! – наблюдая, как тонкой ровной струйкой уходит, исчезая в отверстии чума, дым, огорчался Хиля. – Вон и олени, сбившись в кучу, жмутся друг к другу, зарывшись в снег в ложбине под косогором. А тишина! Такая тишина всегда перед снегопадом».
– Казалось бы, умная «Банта», болтает о таком, чего он никогда не видел и о чём не слышал, а простейших вещей не знает, – делился своими мыслями с Мильдой Хиля. – И летом, когда с проходившего с грузом на Игарку корабля сгрузили в Русской фактории сто ящиков с водкой, разве «Банта» знала об этом? Нет, не знала! Всё побережье знало, а «Банта» не знала. «Банта» узнала через месяц, когда все ящики уже давно были пусты…
Циклон. Антициклон. Над Оймяконом минус двадцать. Кто этому поверит? – бормотал Хиля, заботливо укутывая Мильду и прижимаясь к её тёплому боку. – Послушать – умнейшие вещи говорит, а выглянешь за полог чума – совсем, однако, ничего не знает.
А Мильда, устраиваясь поудобнее в ворохе шкур, жаловалась Хиле, что здесь ей не нравится, что на Новой Земле они жили лучще.
– И рыбалка там, и сёмга – во, – показывала она руками, – и олени, и тюлени. И птицы летом, сколько душа пожелает. Можно за день набить на всю зиму. А красота какая! Разве могут здешние места сравниться с новоземельскими? Какие там горы! Какие заливы! Не зря мы зовём её Норо я – Божественная! Красивей земли я не знаю. Нет, делай что хочешь, а только нам надо вернуться туда обратно.
Она часто заводила этот разговор. И Хиля её хорошо понимал. Он тоже любил Новую Землю. Без памяти любил этот непригодный для жизни остров – архипелаг. Любил и восхищался им.
Там прошли лучшие годы его жизни. И он тоже очень хотел вернуться на Норо я. Но вернуться было нельзя. Ненцев, вывезенных с острова, обеспечили жильём. И создали им нормальные условия. Но они всё равно помнили о Новой Земле.
Дай им такую возможность, они всё бы здесь побросали, лишь бы вернуться обратно на такую неласковую, суровую и так горячо любимую ими Новую Землю. «Божественную – Норо я», как они её называли. Ненцы надеялись, что рано или поздно они или их дети всё равно вернутся обратно. И он, как мог, успокаивал Мильду:
– Да! При первой возможности! Надо только немного подождать, когда это никому неизвестное, но такое могущественное племя физиков вдоволь наиграется в свои любимые игры и они уедут с их острова.
Но физики не уезжали. Уже дети Хили и Мильды оперились и, как птицы, встав на крыло, вылетели из гнезда. Шли года. Ненцы понемногу стали привыкать к новой жизни. Научились пить водку, слушать по радио непонятные им новости. Одна Мильда не успокаивалась.
– Вспомни! – говорила она. – Как мы были там счастливы, в Малых Кармакулах! На нашей любимой Норо я! Мы должны туда вернуться, чего бы нам это ни стоило!
Но с годами она всё реже заводила этот разговор. Всё безнадёжней звучали её слова. Когда она заводила этот разговор, опустив голову и обиженно надув губы, она походила на маленькую, обиженную девочку, встреченную им, когда он был ещё юношей, на вдающемся в море мысу, и сердце Хили разрывалось от боли.
Особенно плохо Хиля чувствовал себя, когда она начинала плакать и крупные слёзы начинали течь по её щекам. Но он ничего не мог сделать. Эта задача была выше его сил. И придумать ничего не мог. От этих её слов и слёз он ощущал растерянность и полное бессилие.
И всё же подходящий случай нашёлся. В Малых Кармакулах на метеостанции работал сородич Мильды. Он прожил там всю жизнь и иногда приезжал на материк в отпуск, навестить родственников. Он-то и привёз известие, что геологической партии нужен проводник.
И Хиля понял, что наконец он сможет выполнить просьбу Мильды, что они снова смогут переехать и жить, как жили когда-то счастливо на Норо я.
И спасибо сородичу. Старенький уже Хиля прижился проводником в экспедиционной партии Ивана Ивановича, и они, Хиля и Мильда, теперь могли переехать жить в Белушку.
Вот почему обычно молчаливый Хиля этой ночью разговорился. Он скоро увидит Мильду. Они снова будут вместе на земле, которую они любили больше жизни, на священной и святой для них БОЖЕСТВЕННОЙ земле НОРО Я.
А пока, тёмной ночью, под разноцветьем полярных сполохов, расцвечивавших всё небо над ними в безумие бегущих волнами и непрерывно меняющихся по глубине оттенков и яркости разных цветовых сочетаний, он, по одному ему известным признакам, указывал дорогу водителю.
Ближе к полудню чахлое подобие серенького рассвета замаячило над убелёнными белыми шапками снегов холмами и горками. Машины, то скатывавшиеся в ложбину, то карабкающиеся, надрываясь из последних сил, вверх по склону, выехали наконец на какое-то подобие дороги.
– Скоро Белушка! – сообщил проводник.
И действительно, вскоре в стремительно сизеющем воздухе показались обычные блочные пятиэтажки, разбросанные прихотливо, на большой площади; сердце поселения – высоко торчащая в небо труба котельной. На центральной улице они увидели фигурки гуляющих людей.
Это было самое современное, построенное со всем возможным в этих диких краях комфортом поселение во всей Арктике – Белушья Губа.
Дежурный оказался прав. Они прибыли вовремя, чтобы встретить праздник солнца. Машины, лязгнув гусеницами, качнулись на катках и остановились у крайнего здания.
Иван Иванович, вылезая из вездехода, подумал, что почту с самолёта уже, наверно, привезли в почтовое отделение, только кто бы мог ему написать?
Ни на этой насквозь промороженной земле НОРО Я, ни на материке не было никого, кому он был бы нужен. Хотя, если подумать, на почту надо было бы зайти. Мало ли? Чем чёрт не шутит? А вдруг! Ехал же он сюда зачем-то. Право, не для того же, чтоб зайти в буфет и напиться чаю. Хотя, разумеется, и это тоже.
Как приятно появиться из ниоткуда в таком вот поселении! Какой это неописуемый шик – стакан горячего чая в обычном полярном буфете, среди обычных, простых людей. Хотя какие обычные, простые люди в Арктике! В Арктике обычных, простых людей не бывает.
Предвкушая наслаждение, Иван Иванович вынул пачку сигарет, встряхнув, вынул губами сигарету закурил. Дурная привычка, глупая, глупее не придумать, откуда ни глянуть, а отвыкнуть не мог. Всё-таки, слабоват был. В привычках бесхарактерен. Не умел подчинить себе волю и простые, примитивные желания. И это при его-то работе.
С наслаждением вдыхая сигаретный дым, он поднял ворот технарской, без износа, шубы и опёрся спиной о борт вездехода, обострённым зрением разглядывая открывшуюся глазам панораму.
Не обращаясь ни к кому из вылезших из машин и окруживших его людей, произнёс восхищённо, в полном обалдении глядя прищуренными глазами над краем воротника на замёрзший залив, на вмёрзший в береговой припай буксир у причала, на изморось, оседавшую из вымороженного воздуха мелкими снежинками на посёлок: «Мда!», словно неожиданно для себя попал на седьмое небо.
Нечто подобное ему приходилось испытывать на Эльбрусе, когда по мере восхождения к вершине восхищённому взгляду открывается зрелище вздыбленных к небу, покрытых нетающими ледниками, заметёнными снегом вершин.
В этой картине холода и снега всё живое остаётся далеко внизу. Даже орлы, широко раскинув крылья, парят в восходящих потоках воздуха, не желая подниматься выше границы зелёной травы и эдельвейсов, цветущих во влажной траве возле снега.
Что же говорить о людях! И здесь, в этом мало кому известном поселении, считающемся столицей НОРО Я, Новой Земли, жизнь фактически обосновалась на границе всего живого.
Похожие впечатления остались у Ивана Ивановича и от посещений Кольского полуострова, хорошо обжитой, многолюдной Северной Швейцарии, где граница жизни составляет всего каких-нибудь триста-пятьсот метров вверх по ординару, от нулевой отметки уровня моря.
Нечто похожее он видел и на Таймыре. Но там везде была жизнь. А здесь, на этой насквозь промёрзшей земле, кроме Белушки и двух, от силы трёх, небольших селений, на сотни километров вокруг не было ни единого живого существа, разве что забредёт ненароком ненадолго белый медведь или тюлень, проплывая на льдине, глянет удивлённым взглядом на занесённую снегом, одинокую и пустынную, взгорбившуюся среди ледяных полей и торосов, поднявшуюся со дна моря и чем-то напоминавшую спину небывало, фантастически огромного кита землю.
Эту землю изображал в сине-белых тонах первый президент НОРО Я, всемирно известный художник Тыко Вылка. Эту землю пытался в меру дарования отобразить в своих картинах Иван Иванович. И не только он.
Много художников, с большим трудом преодолев заградительную систему пропусков, пытались понять и отразить в картинах своё понимание этой земли. Её красоту и величие.
Действительно, эта земля была достойна преклонения. И Иван Иванович был полностью покорён этой землёй. И не он один. Север навсегда покоряет своей необычной красотой людей, побывавших за Полярным кругом хотя бы однажды.
И, пожалуй, в памяти Ивана Ивановича было мало других, настолько необычных земель, от которых он мог испытывать такое наслаждение и восторг. А земель он повидал в достатке. И люди, окружавшие его, его товарищи, вполне разделяли его восхищение.
Они полгода не видели ничего, кроме гор, снега и плохой погоды и теперь, оказавшись на краю поселения, в котором по улицам ходили люди и было всё необходимое для нормальной человеческой жизни, балдели от предвкушения, наслаждаясь увиденной многообещающей картиной.
– Живут же некоторые! – сдвинув дымящуюся сигарету в угол рта, завистливо посетовал дежурный.
Даже жизнь в этом оторванном от нормального существования поселении казалась им раем.
– И всё у них есть, и им ничего за это всё не бывает. Как-то вот так, однако! – одобрительно высказался, щуря в улыбке раскосые глаза, Хиля.
Они стояли и смотрели на селение, на занимавшийся над зданиями сизый рассвет. Восток всё светлел и светлел. И неожиданно они переглянулись. Их лица выражали удивление и восторг одновременно.
– Неужели? – недоумевая, воскликнул один из них.
– Я говорил! – удовлетворённо, с нотками превосходства в голосе сказал дежурный. – Я всем вам говорил, что сегодня мы увидим восход солнца. А вы не верили. Вот вам пожалуйста! Глядите!
– Не время вроде бы, – осторожно возразили ему.
– А здесь солнце не спрашивает, время – не время.
Для новоземельского солнца расписание не писано. Встаёт, когда ему, его сиятельству, вздумается. И не спрашивает ни у кого разрешения.
Дежурный был молод, высок, красив, из тех, кому счастье везде само идёт в руки. И счастье уже шло; не шло, а бежало само по центральной улице, направляясь прямо к ним, к небольшой группе людей, стоявших на пригорке на краю селения перед машинами.
Одето было счастье в шикарную пыжиковую шубу и расшитые бисером лёгкие унты, а из-под лисьего малахая на плечи выбивалась роскошная, пшеничного цвета, грива волос.
– Володя, – произнесло счастье, бросаясь к шагнувшему ей навстречу дежурному на шею, – как давно я тебя не видела!
Они обнялись, а над ними на сером небе ярко пылал, расходясь всё шире и шире по горизонту, предвестник восхода солнца – алый костёр зари.
Костёр разгорался всё шире и шире. Языки пламени поднимались всё выше и выше над двумя замершими в объятьях людьми.
– Может, зайдём ко мне? – освободившись из обятий и счастливо улыбаясь, обратился Володя к Ивану Ивановичу.
– Ой, правда, уж пожалуйста, все к нам! Не отказывайтесь, будьте любезны! – обратилось счастливое счастье ко всем. – У нас всё, что вам нужно, есть. Отогреться, поесть, почувствовать себя счастливыми после дальней дороги.
Да, у этих двоих было всё, что было необходимо им для счастья.
Они, поблагодарив Володю и его подругу за приглашение, вежливо отказались и долго смотрели им вслед, как эта счастливая пара уходит вдаль по проспекту, единственному проспекту на этих широтах во всей Арктике, под названием «улица Советская». Хвала Всевышнему, не нашлось пока здесь шустрых и досужих переименователей. Климат, наверно, на Норо я для них оказался неподходящий. Так и поныне осталась улица Советской.
Она и не могла быть другой. Она застраивалась Советской.
А зарево на востоке всё разгоралось. Оно уже полыхало в полнеба. На улице вдруг появилось много людей.
И все они, и мужчины и женщины, с выражением удивления и восторга на лицах смотрели в одну сторону: на восток, туда, где полыхал и разгорался всё ярче этот фантастический, завораживающий, гипнотически действующий на сознание, необычайный арктический костёр.
И наконец они увидели край солнца, появившийся над горизонтом. У всех раздался вздох облегчения. И понятно. Они так давно не видели светило. Без малого почти два месяца. Они устали ждать. Некоторые уже не верили, что когда-нибудь оно вообще появится. И тем не менее, против их ожиданий, оно появилось. Возникло над горизонтом! Светило, яркий костёр, дающий всему живому надежду и жизнь.
Медленно ярко-оранжевый диск вставал над горизонтом. Те, кому повезло бывать на Заполярном Севере, знают, что в первый день над горизонтом появляется только краешек солнца. Оно как бы осторожно выглядывает над скованными жуткой стужей, промёрзшими насквозь на века горами и долинами, словно для того, чтобы посмотреть и спросить: как вы здесь, люди? Вы ждёте меня? У вас всё в порядке?
А это солнце всё вставало и вставало, пока огнедышащий огромный лик, в несколько раз больше обычного, появился в пылающем, огненном костре зари. Оно поднялось всё над горизонтом и остановилось, разглядывая посёлок и людей, как бы в изумлении, и вопрошая: куда оно попало? как вы без меня здесь, люди? всё ли у вас хорошо и рады ли вы мне?
А люди ждали. Все знали, что это не солнце. Что это только его изображение где-то вверху над землёй, как в зеркале, в ионосфере.
Но лица у всех выражали радость, и восторг, и изумление, и полное почтение давно не виденному светилу. Некоторые женщины плакали.
А солнечный фантом, объявившись на небосклоне, повис, рассылая повсюду по небу языки пламени, затем начал расплываться, превратился в эллипс, эллипс растёкся в алую линию, огненной рекой текущую по горизонту, а потом исчезла и линия, и яркий было, но необычайно короткий солнечный день перешёл понемногу в серые, стремительно сгущающиеся сумерки. Через небольшое время полярная ночь опять вступила полностью в свои права над всей Новой Землёй, над Норо я.
Невидимые было при солнечном свете уличные фонари снова ярко вспыхнули, освещая улицы, и поселение, иллюминированное, как корабль тёмной ночью в море, поплыло опять, ярко сияя иллюминацией, в неведомую даль во мраке полярной ночи.
Они прошли к центру поселения и зашли в кафе, которое они ласково называли таверной. В таверне было тесно от людей во флотской форме с солидными званиями от капитана-лейтенанта до капраза. Несколько накрашенных девиц скрашивали их общество. Поддатый лейтенантик у входа вежливо уступил им дорогу.
– Как вам сегодняшнее представление? – любопытствуя, осведомился он.
– Мы не впервой его видим, – улыбнулся Иван Иванович.
Они нашли свободный столик, пригласили лейтенантика: «Садись, служивый!», потом долго сочувственно слушали жалобы лейтенантика на службу, на тяжёлый полярный быт, по-отечески доливая ему кофе из чайника, в котором было всё, что положено на флоте согласно штатному расписанию.
Иван Иванович утешал лейтенантика, слушая товарищей по работе, и думал: «Я ведь зачем-то сюда ехал. Мне что-то здесь было нужно. Не может быть, чтобы я приехал сюда просто так, посмотреть на солнце и посидеть в забегаловке. Стоило собак запрягать!»
Наконец они порешали все вопросы, выпили весь кофе, утешили, как могли, служивого, и Иван Иванович после седьмой или восьмой кружки кофе начал наконец понимать, для чего он сюда приехал.
– Не дрейфь, служба! – вставая и пожимая всем руки, потому что не знал, увидятся они ещё сегодня или нет, сказал он лейтенанту. – Ты ещё с удовольствием и гордостью будешь вспоминать годы, проведённые здесь. Север любого мальчишку человеком сделает. – И, глянув на часы, не опаздывает ли, заспешил к выходу.
Выйдя на улицу, он неторопливой походкой человека, решившего на сон грядущий слегка развеяться и прогуляться по Арктике, дошёл до почты.
– Нет ли вам чего? – пропела дежурная, просмотрев документ и затем перебирая корреспонденцию. – Вот служебное письмо, вот, вот, вот, а вот телеграмма.
Иван Иванович внезапно почувствовал, как у него опустилось сердце.
«Неужели? – подумал он, пока дежурная подавала телеграмму. – Да не может быть! Кому же посылать мне телеграммы? У меня никого нет!» – и, прочитав, от волнения долго не мог понять смысл.
В Петербурге! Кто в Петербурге? Зачем в Петербурге? И наконец всё стало на свои места. Маргарита вспомнила! Она обещала зимой приехать в Петербург. Говори после этого, что предчувствий не существует!
– Самолёт улетел или ещё здесь стоит? – ощущая в груди холодок сожаления, что так долго засиделся в «таверне», спросил он.
– Не знаю, – ответила дежурная, – но если вам нужно, могу позвонить.
– Нужно! Вы даже не представляете, как нужно! – заволновался, чувствуя, как много в его судьбе теперь может зависеть от этого звонка, сказал дежурной Иван Иванович. – Позвоните, пожалуйста.
Пока дежурная звонила, он стоял, напряжённо ожидая ответа.
– Улетят сегодня через час или два, пока погода есть, – успокоила дежурная.
Поблагодарив, он стремглав выскочил из почтового отделения на улицу и через час уже сидел у иллюминатора разгонявшегося по бетонке на взлёт самолёта.
«Любимая земля, Норо я моя», – пел в салоне слабый, тонкий детский голосок. Маленькая девочка, стоя в кресле, распевала на весь салон сочинённую, должно быть, только что, на радость маме, песню, а снаружи бежали вдоль борта красные огни взлётки, и вдруг огни резко ушли вниз и пропали из вида.
Тёмная ночь окружила самолёт. Только мигающий на крыле самолёта бортовой огонь тревожно вспыхивал, рассекая темноту.
Иван Иванович подумал, что завтра ночь для него уже кончится. Завтра он будет на Невском. Надолго ли? Этого он не знал, как не знал, вернётся ли он обратно.
Над Невским проспектом будет сиять солнце. Настоящее солнце, а не каприз погоды, результат стечения многих обстоятельств – фантом, который он только что, всего несколько часов назад, видел.
И в его душе внезапно родилась горечь сожаления, что в его жизни не так уж много было хорошего, а если что и было, то это хорошее почему-то непременно было связано с такими не слишком скучными местами на планете, как Каракумы, Гималаи или, как теперь, с необычайно солнечным архипелагом Норо я.
Но раньше они, он и Виктор, куда бы их ни посылали, были молодыми и делили одну судьбу на двоих. И у них до поры, до времени это хорошо получалась. Пока Виктор не помешался на деньгах.
Тогда и начались неприятности. Где деньги, там всегда неприятности. Нет денег – одни неприятности, есть деньги – другие неприятности. Лучше, конечно, когда деньги есть.
Но сколько кому нужно денег, каждый решает сам. Это, главным образом, зависит от того, на что человек заточен или, если бурьян, кроме неумеренного потребления водки, вообще ни на что разумное не заточен.
Можно сказать, всё зависит от того, в чём, в какой системе ценностей личность воспитана. А главное, какую цель в жизни сызмала сам себе выбирает, без достижения которой его жизнь как мужчины и человека вообще теряет смысл.
А Витька, при всём его уме, выбрал деньги. Довольно обыденный, банальный выбор для умного человека. Достойный по уровню мышления заурядного барыги с рынка. Мог бы придумать что и поразумней, чем скирдовать пачки зелени. С его-то незаурядными интеллектуальными способностями!
Не дотянул приятель самую малость до звания чистопородного, рафинированного интеллектуала. Обидно, конечно. Друг всё-таки. На такой заманухе и так задёшево поскользнулся.
Но теперь ничего не поделаешь. Каждый сам хозяин своей судьбы. И, возможно, он в глазах Монгола выглядел не менее жалко, чем Монгол в его глазах. И в самом деле, если подумать, кто он?
Ничего не добившийся человек с разрушенной жизнью, у которого эти самые деньги как символ благополучия и удавшейся жизни появляются нечасто, от случая к случаю. Типичный неудачник. По-американски – лузер. Наверно, так он и выглядел в глазах своего успешного друга. И разумеется, откуда ни глянуть, так оно и было на самом деле.
Тогда, прошлым летом, Иван Иванович всё же выполнил просьбу железного Феликса, сгонял между делом на месячишко в штаты. Спасибо Феофану, помог с мелочевкой, подкинул мимоходом, вроде как шубу с барского плеча скинул, подбросил небрежно немного зелени.
Ничтожный, если разобраться, по устремлениям и цели в жизни человечишко, хозяин художественного салона, вовсе пустое существо, планктон, а изыскал пару пачек гринами, а к ним подогнал спонсора, набитого деньгами под завязку. Так что как раз хватило на всё про всё. Не на последние к другу приехал.
Они хорошо провели время. И повидали всё, что Иван Иванович уже и не надеялся никогда увидеть: и Гранд Каньон, и Ниагару, и Лас-Вегас, и Нью-Йорк.
О работе они не говорили. Было о чём! У каждого теперь была своя работа. И ни один из них от своей, нет, не работы, работа – это всего лишь способ самовыражения, от движущей ими, их помыслами, определением жизненного направления, главной идеи существования, отказаться не мог.
– Феликс послал? – только и спросил Монгол его по приезде. – Надеется обратно сманить? Так передай ему мои извинения! У меня теперь работа поинтересней. И оплачивается – дай бог каждому! Горку в Каракумах помнишь? В Юк-Тепе? Золотая горка оказалась. Зря ты тогда не согласился. Не принял моего предложения. Всё это, – показал он на виллу, на неимоверной длины автомобиль, чудо американского автопрома, вертолёт в ангаре и счёт с девятью нолями, – всё это – горка! Если бы ты тогда, когда я тебе предлагал, согласился, всё это было бы теперь и у тебя.
Иван Иванович улыбнулся. Прошла значительная часть их жизни, но каждый из них остался тем, кем он был в молодости. Всё было так узнаваемо.
– Поверь, я и без богатства не знаю, что с собой делать, – ответил он другу. – А как твои мечты о городе-саде, новой породе людей и золотых империалах? – задал он каверзный вопрос приятелю.
– С этим, Ваняша, пока придётся повременить. Временные затруднения. Понимаешь, азиатская страна. Своеобразный менталитет. Признают только Аллаха, пророка Магомета, муллу и власть кинжала. А как ты?
– Я? Я всё так же, – ответил Иван Иванович. – Перебиваюсь понемногу с хлеба на квас.
– Это не скучно? Бедность всегда скучна.
– Нисколько! Скучать нет времени. То квас есть, хлеба нет, то хлеб есть, кваса нет, – рассмеялся Иван Иванович. – Ты, наверно, забыл всё это. Попробуй, поживи снова так, и тебе скучно не будет. Вспомни молодость!
Они посмеялись. Они оба прошли эту школу вместе. Только один вырос в сверхсостоятельного человека, а Иван Иванович как был, так и остался то ли начинающим художником, то ли средней руки геологом. Развела их привередливая дама-судьба по разные стороны бытия.
– Ко мне по-прежнему не хочешь? – спросил Монгол. – Мы могли бы бизнес поделить. Всё по-честному, пополам. Вдвоём в любом случае лучше, чем одному. Управляющий у меня что-то вышел из доверия. Крадёт немерено. Ты бы очень помог мне, если бы заменил его.
– Ты ли меня не знаешь? – грустно улыбнувшись, ответил, пренебрежительно скривясь, Иван Иванович. – Тратить жизнь на то, чтобы зарабатывать деньги? Для меня это слишком скучное и не имеющее разумного смысла и какого-либо оправдания занятие. Удел интеллектуально недоразвитых, социально ущербных личностей.
– Ну ты даёшь! – рассмеялся друг. – Давай не будем заостряться! А на какие деньги приехал? Не на заначку же с зарплаты. Мероприятие, насколько мне известно, не из дешёвых.
– Ты пригласил, вот и приехал. Всё просто. Почитатель из богатеньких объявился. Ему один мой этюд понравился. Пришлось три недели выполнять его на основе размером во всю стену бильярдной. Пропади всё пропадом. Не монументалист я. Чтоб я ещё за работу на заказ взялся! Основа, холст, грунт, постоянный контроль! Чёрт бы его побрал, этого заказчика, и его деньги тоже.
Правда, деньги солидные. Я сиротский интернат с ног до головы одел. Такое условие этому мироеду поставил. Детишек одеть! Вот на то, что осталось, на остатки приехал.
– А если бы я не просил тебя, ты бы приехал?
– Наверно, мы всё равно бы встретились. Правда, ты ныне – олигарх и гражданин другого государства, и теперь я не знаю, кто мы друг другу. Раньше, кажется, были друзья, а теперь, случись что, а это очень даже возможно, то кто мы друг другу, наверно, придётся ещё очень долго думать. Если ещё время на эти думы окажется и нам подумать дадут. Не хотелось бы конечно, чтоб до этого дошло. До такой крайности. И Феликс очень переживает, за тебя. Вот я и приехал. Он хочет увидеться с тобой. Может, даже посоветоваться насчёт архипелага. По-человечески его можно понять. Ты – его любимый воспитанник.
– Придётся как-нибудь в дальнейшем повидаться конечно, только вот беда, – с грустью сказал Монгол, – как учёный я кончился, а как делец, бизнесмен, – он замолчал, беспомощно покачал головой. – К сожалению, в последнее время, со мной что-то произошло, я, как и ты, перестал понимать, зачем мне столько денег. Должно быть, сказывается наше общее социалистическое прошлое. Помнишь, я говорил тебе о докторе Фаусте? Ты ещё посоветовал мне обратиться к медицинскому светилу в этой области. Сказал, что от всего лечит: от религиозного идиотизма, от видении, от нечистой силы, от голосов из космоса.
Тогда ты думал, что я шучу. Небольшое временное недомогание. Не больше того. Два-три сеанса психотерапии – и проблема решится. А я не шутил.
Я нашёл того профессора. Он вылечил меня. Я стал успешным, здоровым. Но, поверишь, теперь козлина опять начал появляться. Кроме тебя, об этом никто ничего не знает. Говорю только тебе. Я думаю, он и сейчас где-нибудь здесь неподалёку сидит. Нет-нет да и покажется, – сказал он оглядываясь. – Ухмыляется, мерзкая харя. Сопит, воняет козлятиной. Поверишь, не знаю, что мне делать. Снова к профессору обращаться? Стыд какой! Вдобавок, я утратил понимание целесообразности тупого накопительства.
Именно этого Иван Иванович и боялся. Его друг снова дошёл до потолка. Он не знал, куда ему теперь идти. Что делать дальше. Страшнее этого была только гибель. Физическая гибель.
А может, это уже и была физическая гибель, начинающаяся всегда, как правило, с морального падения, когда для человека главным в жизни становится нажива, деньги, или это было ещё только её начало? Начало душевной гибели. Гибели главного, что есть у человека, – души.
Что он мог ему сказать? Посоветовать, как в детстве, когда они жили в маленьком южном городке и играли на берегу тёплого, ласкового, обворожительного синего моря и он прутиком рисовал солнце над волнами и берегом, а Виктор собирал в набегающей на пляжный песок перламутровой морской пене намываемую волнами медную и никелевую мелочь, всё бросить и начать жизнь сначала?
Бросить вот эту в мавританском стиле виллу. Отдать кому-нибудь сверхдлинную, чудо американского автопрома, машину и геликоптер. Кому нужны эти сверхдорогие игрушки? Раздать нуждающимся, нищим и убогим с церковной паперти все деньги и начать всё с ноля?
И чтоб не было ни копейки денег и чтоб жрать было нечего. И чтоб, как когда-то, впереди ничего, кроме надежд и молодой, безграничной веры в себя. Если бы это было возможно! Огонь самоочищения! Всепожирающий и беспощадный!
И тогда, возможно, в душе прорастёт, проклюнется слабый росток честности и порядочности, потому что если у тебя есть всё, а у кого-то рядом нет ничего, это значит, что ты обокрал того, у кого нет ничего, может, даже куска хлеба, чтобы поесть, элементарно утолить голод.
И тогда не будет мниться по тёмным углам вонючий козлина. Грязно ухмыляться и дышать смрадно в лицо, покручивая многозначительно хвостом.
И жизнь, свободная от подлости и низости накопительства, станет простой и чистой.
В этом, по мнению Ивана Ивановича, состояла высшая философия жизни. Намутил что-то в житейской философии две сотни лет назад Адам Смит, возведя в высший идеологический культ капитализм. Перепутал культ души с культом денег. Вот и расплачиваемся мы в который раз за глупые идеи своих и чужеземных умников. Немыслимо дорогой ценой платим мы за их самонадеянную, ничем не оправданную глупость.
И ему было жаль друга. И он ничем не мог ему помочь. Где-то была та невидимая, пролегающая в душе каждого граница, которую порядочный человек не имеет права переходить, если, конечно, он хочет остаться человеком.
И Иван Иванович не знал, когда его друг перешёл эту невидимую границу, тогда, в детстве, когда они играли на берегу моря, – всё, говорят, начинается с малого, или потом, когда его друг решил променять трудную карьеру учёного на скользкую и опасную дорогу золотодобытчика.
Даже Верочка, самоотверженная спутница Виктора, как-то вскользь, когда они сидели за завтраком в тени раскидистой пальмы у прохладной синевы бассейна, сказала:
– Как всё-таки счастливо мы жили раньше! У нас, может, не всегда были деньги, и иногда было не на что даже купить еду, но тогда мы знали, зачем мы живём! У нас была дорога. Нам было куда идти дальше. А что теперь? Теперь мы, что называется, пришли. Картина Репина маслом «Приплыли!».
Денег море, а идти некуда. Впереди пустота! Пропасть! Для чего старались? Сколько всего перенесли! И, спрашивается, зачем? Во имя чего? Неужели так бывает всегда, когда цель достигнута?
На какое-то время возникла немая пауза. Никто не знал, что сказать. Витька досадливо поморщился, а Иван Иванович дипломатично промолчал. Что можно сказать на такие слова? Люди хорошо живут. Любое желание выполнимо. В семье лад и порядок. Что ещё хотеть?
Обычные женские капризы. Всё есть, но чего-то всё равно не хватает. Трудностей ей снова захотелось. Преодолений. Совсем зажрался народ.
Перестал различать просто хорошее от небывало хорошего.
И, конечно, надо быть круглым дураком, чтобы сказать в такой ситуации хоть слово. А Иван Иванович и не собирался ничего говорить. Упаси господи возразить женщине! Правда, отчасти он её понимал. Не совсем, но до некоторой степени. Ситуация не предполагала однозначных суждений.
И, когда они расставались в аэропорту, он, словно чувствуя какую-то неполноценность, в некотором смысле даже ущербность, рядом с таким дельным и успешным другом, что не богат, что по своей природе и жизненным приоритетам не хочет быть богатым, виновато сказал:
– Спасибо, что увиделись. Если бы не твоё письмо, кто знает, смог бы я приехать или нет. А Феликса повидать приезжай. Утешь старика. Какие бы мы ни были, а забывать друг о друге нам нельзя. Слишком многим мы обязаны друг другу. Очень многое из нашего общего прошлого нас связывает.
Надо признать, всё-таки они остались друзьями: богатый и успешный Виктор, и он – простой, в сущности, работяга. Неудачник, которому иногда удаётся сработать хороший этюд, выполнить на заказ хорошее панно, но так решительно ничего и не добившийся в жизни, и его друг, миллионер, которому всегда и всё в этой жизни удаётся.
Пока друзьями! Потому что до сей поры ничто ещё не изменилось в мире! А кем они будут в случае чего? Если мир на планете Земля нарушится? Каждый будет защищать свои идеалы.
Иван Иванович смотрел в иллюминатор на светляк, мигавший на краю крыла, на разрываемую самолётом в клочья темноту.
Где-то далеко внизу, невидимый, скованный льдами, лежал Северный Ледовитый океан.
А между ними, двумя друзьями, и не просто друзьями, а выросшими вместе чуть ли не с пелёнок двумя мальчишками, между ним и его другом Виктором покрытый непроглядной темнотой и вселенским, космическим, всё замораживающим холодом, пролёг другой океан – океан человеческого непонимания.
Глава 14 Невский Проспект
На Невском он давно не был и с удовольствием неторопливо прогулялся от Лиговки до Екатерининского садика, по своему обычному маршруту, посидел на скамейке у статуи женщины, взирающей с постамента на град Питер – великолепное, равного которому нет ничего в кичливой и вздорной Европе, творение Великого Петра и её, Великой Императрицы, поглядывая на прогуливающуюся возле памятника Великой женщине праздно шатающуюся, никчёмную в основном публику и, заранее дурея от предполагаемого восторга, набрал нужный ему номер телефона.
– Да? – спросила она. – Ты в Питере? Ты получил телеграмму? Я уже не надеялась с тобой встретиться. Мы увидимся? Где? На мосту? У коней Клодта? Нет? На Дворцовой площади? У Александрийского столпа? Я устала тебя ждать. Приходи поскорей. Мне надо столько тебе сказать!
Он посидел на скамейке ещё немного, сдерживая разлившееся жаркой волной по всему телу волнение. Тучи, с утра кочевавшие по небу, внезапно разнёс порыв ветра, и над головой Императрицы пронзительно ярко, рассылая в разные стороны жёлтые радостные лучи, засияло солнце.
Настоящее солнце над чудо-городом, над его улицами и проспектами, над золотыми шпилями и куполами, над царственным великолепием некогда главной столицы огромной и могущественной страны.
Императрица, стоявшая до этого как-то неприкаянно, одиноко, словно ожила и стояла в ореоле солнечных лучей, владычественно взирая на Невский проспект, на людей и машины, проносящиеся мимо, по главному проспекту Северной столицы, величественная и самовластная, как и положено Екатерине Великой, и доселе в России по-настоящему никому не понятная.
Иван Иванович долго с уважением рассматривал скульптурное изображение Великой вседержительницы, задрапированное в роскошное убранство торжественного, тяжёлыми складками падавшего ниц, на постамент, каменного одеяния, уверенно, как и положено Императрице, царившей здесь, в садике, над Невским проспектом, над городом, в незабываемый пример и назидание потомкам.
Он разглядывал барельефные изображения прославленных, именитых в делах государевых, имена которых музыкой свершений звучат и поныне, вельможных придворных, венчавших заслуженно, по праву, цоколь постамента.
А с другой стороны Невской анфилады, за Исаакиевским собором, перед закованной в камень Невой, поднимал на дыбы коня – и не коня, а Россию, Великий Пётр.
И слава земли русской, её воители и учёные, память о них, была сосредоточена здесь, на этой Великой улице.
В юности он впервые увидел эту улицу, и она навсегда осталась в его сознании и ничего равного ей в своей жизни он не видел и не знал. Ну, быть может ещё, Красную площадь.
И ещё, наверно, он никому бы в этом не сознался, в его памяти была ещё одна улица – проспект на стене его кабинета, нарисованный им когда-то давным-давно, и настоящий, с которого он рисовал, – за окном. Что, в общем, отчасти, было одно и то же. Одно являлось естественным продолжением другого. Этот проспект в его жизни был самым главным. С него, с этого проспекта всё начиналось. Мечты, дороги, взрослая жизнь.
И каждый раз, возвращаясь из командировки или из отпуска и входя в свой кабинет, и садясь за стол напротив нарисованной им картины, он словно попадал в самое начало своего пути. В начало начал!
Рядом с картиной Иван Иванович становился опять молодым, полным сил и замыслов, каким он был в начале пути, в поисках своей дороги.
И теперь, будучи уже зрелым мужчиной, в солидном возрасте, возле картины он ясно видел пройденный им путь и отдельные вехи на этом пути, обозначенные им в памяти как верстовые столбы, как теперь он понимал, очень не простой, требующей постоянно больших умственных и нравственных, часто на пределе, усилий жизни.
И, вышагивая по Невской эспланаде в направлении венчающего проспект, вонзённого в небесную синь златоблещущего шпиля Адмиралтейства, Иван Иванович подумал, что надо на денёк-другой заехать в столицу, отчитаться перед Феликсом о проделанной работе, посидеть пару деньков в кабинетной тиши за отчётом, отмыться, отдохнуть, прежде чем он снова ступит на самолётный трап и опять полетит на столь любезную его сердцу Норо я, и благодарил судьбу, что не стал богатым, не обременил сознание денежными излишками, что не стал известным и до тошноты популярным, что никому ничем не обязан и что у него есть дело, настоящее мужское дело, которому он служит, и дорога, по которой ему пока что интересно идти. Иначе, для чего жить? Для того, чтобы, как некоторые, прозябать в тепле и сытости в тупом ожидании естественного конца?
Нет, у Ивана Ивановича ещё были силы, были идеи, которые ему необходимо было реализовать. Иначе, кем бы он был?
Жалким, никчёмным планктоном? Примитивным созерцателем восходов и закатов? Стоило для этого рождаться! Закатов и восходов за свою жизнь он навидался таких, каких мало кто видел.
Для ощущения полноты жизни ему был нужен постоянный драйв, и уж чего хорошего, а этого добра в его профессии было с избытком, хоть отбавляй. Он вполне мог бы поделиться им с кем-нибудь, у кого этого драйва ощущался недостаток.
Иван Иванович прошёл по улице Большой Морской, соединявшей Невский с Дворцовой площадью, и под аркой с воинами со щитами и шлемами в нишах и колесницей, запряжённой шестёркой коней, и фигурой богини Победы наверху арки, очень напоминавшей по композиции колесницу с всадником и нимфами по сторонам, символом христианской церкви, как её изображал в «Божественной комедии» великий итальянский поэт эпохи Возрождения почти тысячу лет тому назад Данте Алигьери, и увидел её.
На какое-то мгновение он ощутил неуверенность. Земля закачалась и поплыла под его ногами. Неужели это ему не снится?
Они проехали такие большие расстояния, чтобы встретиться здесь, на Дворцовой площади! Претерпели столько мытарств и дорожных неприятностей в слабой надежде увидеть друг друга. Маргарита – с далёкого юга, а он – с мало кому известной и поныне Новой Земли, или как эту землю называют ненцы – «Божественная», что на их языке звучит как «НОРО Я»!
И им несказанно повезло. Другое слово вряд ли в этой ситуации уместно. Их пути совпали. Они увидели друг друга! Его сердце дрогнуло.
– Молодой человек! – улыбаясь, обратилась Маргарита к Ивану Ивановичу, когда он подошёл к ней. – Вы куда-то очень торопитесь? Не могли бы вы уделить немного вашего бесценного внимания одинокой, несчастной, никому на белом свете не нужной женщине?
– Моя дорогая, мне неудобно в этом признаться, но я, кажется, очень давно только и делаю, что мечтаю об этом, – сказал он, обнимая Маргариту, – и был бы без меры счастлив выполнить любое ваше желание.
– Ловлю на слове, милый, – прячась в его объятьях, сказала она.
И странное дело, возможно, впервые за много лет, целуя Маргариту, Иван Иванович ощутил, что чувства одиночества и никчемности, непонятно откуда возникшие и навязчиво преследовавшие его последнее время, начали исчезать сами собой, как будто их никогда и не было.
Он снова ощутил твёрдую почву под ногами. Он словно наконец выбрался из леса, по которому долго и бестолково блукал в поисках дороги. Теперь ему опять было куда идти.
– Я уже не чаяла тебя дождаться, – взяв его под локоть и заглядывая снизу вверх в его лицо, сказала Маргарита. – Не слишком ли далеко ты забрался на север? Может, можно найти края, более обласканные солнцем и пригодные для жизни, чем эта твоя Норо я? И я бы тогда была к тебе поближе.
– Найдутся! Сколько угодно! Но не такие интересные, как Норо я. Запала она, эта холодная и бесприютная земля, мне в сердце. Поверишь, там такая красота! Такой нигде нет. Раз увидишь – и на всю жизнь! Вот возьму тебя с собой, сама увидишь!
– А я тебе не запала? Я тебе меньше интересна, чем эта холодная полярная королева?
– Это нельзя сравнивать. Норо я – это работа, а ты – моя жизнь.
– Наконец я слышу слова не просто учёного и художника, но и мужа, – повисла Маргарита у Ивана Ивановича на шее.
И чувства закрутили и понесли их. И когда через две недели он поднимался по трапу на борт самолёта, он знал, что теперь у него начинается новая жизнь, в которую большими буквами вписано слово МАРГАРИТА.
На аэродроме в Белушке высокий, рослый, тщательно выбритый, обаятельный, пахнущий «Францией» офицер во флотской шинели, в звании капитан-лейтенанта, сверявший личные документы и пропуска прилетевших пассажиров со списком, узнав Ивана Ивановича, спросил:
– Геологов что-то много нынче на архипелаг прибывает. Вы не скажете, что вы все здесь ищете? Может, бриллианты, или золото, или что-то, что значительно подороже?
Иван Иванович удивился вопросу капитана-лейтенанта. Мог бы спросить что по легче. И, поднимая с пола саквояж с подарками для ребят с буровой, ответил:
– Отвечаю специально для любопытных. За всех я бы не стал ручаться, но некоторые из моих знакомых ищут, если вам доступно это понимание, именно то, что подороже, прежде всего, самих себя. – И, подняв рюкзак с подарками, вышел на самолётный трап.
На краю взлётки он увидел два вездехода, и дежурного по экспедиции Володю, и улыбающееся счастливое счастье, и проводника Хилю, и ребят, машущих приветственно ему руками.
Для Ивана Ивановича снова начиналась полярная жизнь. Жизнь, в которой люди с нетерпением ждут окончания полярной ночи, наступления весны, мечтают об отпусках и встрече с любимыми.
И вот наконец после долгих, вымораживающих сознание холодов и бесконечной непогоды на Божественной земле, на всём архипелаге Новая Земля наступила весна. Весна началась на ни на что другое не похожем континенте, вытянувшемся на тысячу километров по направлению к полюсу планеты, непонятно откуда здесь появившемуся, как будто упавшему среди стылых льдов Северного Ледовитого океана из никому неведомых мрачных далей космоса, или похожему на вылезшего из морских глубин подивиться на свет божий жуткое чудище.
Солнце, даруя всему сущему жизнь, с каждым днём поднималось всё выше и выше над этой негостеприимной землёй. В распадках, на солнечной стороне, появилась робкая трава. Белые медведицы с малыми медвежатами повылазили из берлог. Моржи, оглашая окрестности хриплым рёвом, выбирали пляжи получше для своих подруг.
Птицы, кайры, гаги, тупики, гуси прилетели с юга и начали обустраиваться над гладью моря на неприступных, недоступных хищникам кручах. На гусином озере плескались в ледяной половодной воде гуси и утки. Олени в затишных долинах на открывшихся проталинах щипали мягкими шершавыми губами появившийся из-под снега, дающий всему живому силы и здоровье ягель.
Полярные лисицы радовались весне и обилию повылазивших из нор леммингов. Всюду с обрывистых скал, с высоких гор текли ручьи, сливались в реки, а реки наполняли водой озёра, создавали непроходимые топи и несли свои воды в океан. В холодный Северный Ледовитый, в прибрежные моря – Карское море и Баренцево.
На Новой Земле, Божественной, как её звали ненцы – Норо я, начиналось кипучее ликование полярной жизни. Всё торопилось жить, любить, вывести потомство, пока усталое солнце, не заходя круглые сутки для отдыха за горизонт, кружит над этой неласковой землёй. Успеть вырастить потомство, поставить его на крыло, научить плавать, летать, охотиться, прежде чем непроглядная, тёмная полярная ночь белым саваном зимы опустится на эти горы и долины, на реки и озёра и жизнь опять замрёт надолго на этой, слов нет, красивой, хватающей за душу, но несколько излишне угрюмой и неласковой, негостеприимной, не привечающей появление посторонних земле.
И свидетельств этому бесчисленное множество разрушенных временем деревянных срубов и человеческих костей и черепов, лежащих возле заброшенных остатков хижин на этой стылой земле.
Многие хотели здесь поселиться, но эта земля не всех принимала. Те же, кого она приняла, были счастливы, что живут на такой необычной, суровой и непокорной, немыслимой красоты, такой ужасной и такой притягательной, на которой было всё необходимое для жизни, земле.
И те, кто прижился здесь, кто выдержал полярную зиму, с выражением детского счастья и изумления на лице наблюдали за наступлением весны.
За тем, как поднимавшееся всё выше по небосклону Солнце с каждым днём прогоняло своими несущими радость жизни лучами всё дальше и дальше тьму и ужас полярной ночи.
И люди каждый день с нетерпением ждали и радовались его появлению, как долгожданного друга, и каждый день отмечали, насколько выше оно поднялось по небу, пока Солнышко перестало прятаться на ночь от людей и стало ходить над этой землёй, не заходя для отдыха за линию горизонта.
И Иван Иванович и бригада буровиков вместе со всеми жителями, птицами и зверьём на Новой Земле радовались и Солнцу, и зарождению, и ликованью на Новой Земле Новой жизни. На этой угрюмой земле начался никем официально не объявляемый долгожданный ежегодный настоящий праздник солнца.
В один из дней Хиля Паков и Иван Иванович, прихватив в компанию бессменного дежурного по вахте Володю, вместе со всей бригадой отправились в далёкое урочище к каменному богу проститься.
Экспедиция отправлялась дальше на север, за разделявший Новую Землю на две части пролив Маточкин шар, туда, где высоко к небу поднимались покрытые льдами высокие горные хребты, где в долины между хребтами редко заглядывает солнце, в царство вечной зимы и холода.
Таков был план изыскательских работ. Раньше они думали, что они работают в аду, но оказалось, что это была только прихожая ада, его преддверие.
Где-то далеко за Маточкиным шаром, ближе к северу, на восточной окраине побережья Новой Земли было небольшое поселение, в котором люди появлялись только летом, когда океан очищался от льда и к причалам поселения могли подойти корабли и доставить всё необходимое: продукты, горючее, технику, предметы обихода для жизни на этом мало кому известном, только для избранных, как назвал это поселение неукротимый железный Феликс, полярном курорте.
Он прилетел на вертолёте, и, пока машина, шумя винтами, облетала экспедицию, выбирая место для посадки, они уже знали, что Феликс прилетел не зря. Что их ждут перемены. И не ошиблись.
– Надо уходить на север, – заявил он, когда машина опустилась и все они собрались в дежурке послушать, с чем хорошим прилетело начальство.
– На север? – удивились они. – Куда же ещё? Мы и так не на юге.
– Да, не на юге, – согласился Феликс. – Но придётся перебраться ещё севернее. В Белуху со дня на день придёт транспорт. Льдов в океане уже нет. Причалы там удобные. Наше дело погрузиться и отправиться в небольшое селение немного севернее. По данным аэроразведки, там можно надеяться на перспективные результаты. А что, – продолжал он, – солнца там много, как нигде. Места в основном красивые, живописные. Слегка немного одичалые и пустынные, но отдыхать вам зато никто, кроме моржей, и белых медведей, и назойливых, крикливых полярных чаек, и навязчивых попрошаек-олушей не помешает. Живи себе в удовольствие и наслаждайся полярным летом, незаходящим солнцем и дружелюбным, располагающим к размышлениям и философскому осмыслению жизни, довольно ласковым для этих мест арктическим необычайным, в сравнении с другими известными и прославленными в достославной Европе и повсеместно курортами, чистым воздухом и целебным, всё излечивающим, любую дурь, климатом, – уговаривал буровиков Феликс. – Миллионеры за такой отдых бешеные деньги готовы заплатить, а вам всё даром и ещё зарплату недурную платят. Здесь давно всё известно и ничего нового вы не найдёте. А выше – целый неисследованный континент. Не хотите ли вы побывать там, где не ступала нога ни одного человека?
Они хотели. На север случайные люди работать не устраиваются. Они свой выбор сделали давно. Феликс мог и не уговаривать, и не пугать их изысканным, специально для неженок, климатом на никому до них в целом мире не известном, диком, безлюдном полярном курорте. Для них ничего лучше и не было. О лучшем они и не мечтали.
А пока они всей бригадой шли проститься с полярным богом. Потому что там, куда они по долгу службы отправлялись, никаких богов не было. Там их ожидала неизвестность, по сравнению с которой ад с чертями и котлами с кипящей смолой многим мог бы показаться раем. Но они давно выбрали свою дорогу и свою судьбу и другого ничего не хотели.
А где-то далеко на юге, в маленьком курортном городке, прилепившемся, как ласточкино гнездо, к берегу моря, на берегу огромного морского залива, на тихой улочке, в увитую виноградной лозой беседку, в садик возле старого покосившегося дома с заколоченными досками ставнями часто приходила поиграть маленькая девочка.
Она уже повзрослела и иногда приносила с собой коробку с красками и листы бумаги и пыталась по-детски, робко и неуверенно что-то рисовать и раскрашивать на этих листах. Но у неё не очень что-либо получалось. Вздохнув, она откладывала свои рисунки.
Девочка ждала, когда наконец приедет этот такой непохожий на её родных и знакомых ей людей дядька, снимет со ставней доски, распахнёт их, а потом научит её, как правильно рисовать, и ещё научит тому, что, как она понимала, знает только он и ещё тётя, подруга этого дяди, которая любит иногда задавать такие странные, смешные, нелепые вопросы, на которые любой маленький ребёнок может, не затрудняясь, дать правильный ответ.
А далеко на севере, над покрытым вечными льдами и снегами архипелагом НОРО Я вставало солнце. Оно вставало прямо из закованного в ледяные поля океана. Прямо изо льдов.
И с каждым днём оно поднималось всё выше и выше, освещая этот бесприютный, затерянный во льдах, угрюмый мир.
Оно, как на гору, всё выше и выше забиралось на небесный свод, чтобы, забравшись повыше в небесную синь, потом долго, почти два месяца, не опускаться за горизонт, освещая без устали это бесприютное, северное, арктическое царство льдов и снега, кружа над угрюмым миром; над этой неласковой землёй; над людьми, осваивавшими эту бесприютную землю и на ней обитавшими, чтобы дарить им радость и свет надежды. Над землёй, которую любившие её до беспамятства, больше всего в жизни ненцы, ласково, с восторженной любовью называли БОЖЕСТВЕННОЙ, НОРО Я!




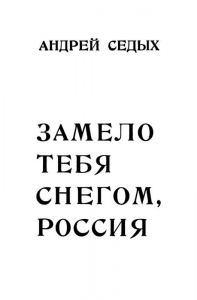






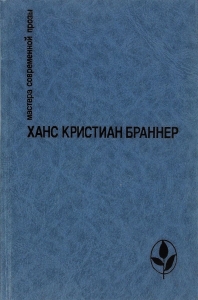
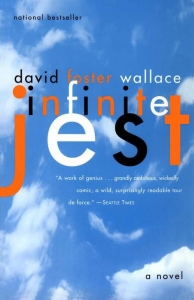
Комментарии к книге «Божественная Земля», Игорь Иванович Юрасов
Всего 0 комментариев