ХАЙНЦ ХЕЛЛЕ Любовь. Футбол. Сознание
Информация от издательства
Художественное электронное издание
Хелле Х.
Любовь. Футбол. Сознание: роман / Хайнц Хелле; пер. с нем. А. Кабисова. – Москва: Текст, 2017.
ISBN 978-5-7516-1437-9
Название романа швейцарского прозаика, лауреата Премии им. Эрнста Вильнера, Хайнца Хелле (р. 1978) «Любовь. Футбол. Сознание» весьма точно передает его содержание. Герой романа, немецкий студент, изучающий философию в Нью-Йорке, пытается применить теорию сознания к собственному ощущению жизни и разобраться в своих отношениях с любимой женщиной, но и то и другое удается ему из рук вон плохо. Зато ему вполне удается проводить время в баре и смотреть футбол. Это первое знакомство российского читателя с автором, набирающим всё большую популярность в Европе.
© Suhrkamp Verlag Berlin, 2014
© А. Г. Кабисов, перевод, 2017
© «Текст», издание на русском языке, 2017
Он еще маленький мальчик
Ты спрашиваешь себя, в чем же, собственно, дело, и тогда тебе снова приходит в голову: сохранение вида. Поле маленькое, газон плешивый и высохший, разметка протоптана, а не начерчена мелом, и за боковой линией всего лишь один ряд деревянных скамеек. Поле это где-то в пригороде, угловые флажки желтые, они везде желтые, а у входа в раздевалку вывешен герб какой-то неизвестной пивоварни. Они выходят, они поднимаются из подвала по лестнице в своей желто-синей и зелено-белой форме, мальчишки, лет по восемь-девять, и ты смотришь на них: тебе нравится, когда у представителей твоего вида есть что-то такое, что для них много значит, когда в их жизни есть за что бороться – без оружия и без насилия. Ты стоишь рядом со средней линией, как раз там, где они выбегают на поле, хлопаешь в ладоши и радуешься. Один из них тебе улыбается.
Он еще маленький мальчик. Он стоит на воротах. На воротах он стоит в первый раз и думает: ну ладно, раз вы хотите поставить меня на ворота, я встану, мне все равно. Поначалу ничего не происходит. Но вот настает момент, когда к нему приближается зелено-белый форвард, один и с мячом, теперь он ничего не думает, а зелено-белый не бьет, подбегает все ближе и ближе, а он все еще ничего не думает, а зелено-белый еще на шаг ближе, и тогда он вдруг думает: черт, я должен взять этот мяч. И думает: я его возьму, ведь со мной все нормально, мои родители тоже здесь, специально пришли посмотреть на меня, и еще мы перед матчем купили в «Макдоналдсе» двадцать чикен-макнаггетов, я их попробую в перерыве, с кисло-сладким соусом, но с чего вдруг они сегодня поставили меня на ворота, ведь я вообще-то защитник, и хороший защитник, но, наверное, я еще и вратарь хороший, правда, им-то откуда это знать, я же еще никогда не стоял на воротах, даже на тренировке, на меня же всегда орут, когда я уворачиваюсь от прострелов с флангов, но сейчас я не боюсь, сейчас я не стану уворачиваться, вот он, этот зелено-белый, давай, бей, парень, бей уже, я не боюсь, только подойди поближе, зелененький. И вдруг он думает, что, возможно, он только думает, будто не боится, только думает, будто возьмет этот мяч, только думает, будто он хороший вратарь, и в этот момент зелено-белый форвард бьет щечкой в дальний угол, и мальчик прыгает за мячом, хотя дотянуться до него нет ни малейшего шанса, но он не хочет показаться трусом. Игра окончена, счет ноль-восемь.
Я ухожу
Вы можете с этим что-нибудь сделать?
Повсюду успокаивающий звук взрывающегося керосина. Гренландия – серая. Сколько же апельсинового сока помещается в «Эрбас-А310»? Привлекательность бортпроводниц связана, скорее всего, с высотой, на которой они работают. С вытесненной близостью к смерти. Пластмассовый воздух, пластмассовый смех.
Когда мы прощались, из туннеля подул теплый ветер. Снимаю пленку с пластмассовой курицы. Все будет хорошо, сказала она. И что-то еще, но я только видел, как открылся ее рот, позади нее на станцию с грохотом въехал поезд, а потом ее рот закрылся. Распахнулись двери, мимо нас хлынул людской поток, и я понял, что она не повторит сказанного. Когда самолет вырулил на взлетную полосу, я задумался, почему я ухожу. И продолжал думать об этом, когда взвыли турбины, когда меня вдавило в кресло и пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не думать об огненном шаре, обугленных трупах и спасателях, глядящих в черные безносые лица с обнаженными черными зубами – молча, в снегу. Я знаю точно, почему ухожу. Темнеет. Хорошо бы пивка.
Возможно, когда-нибудь они выяснят, что означает быть, быть этим и чувствовать вот это. Что означает быть «Я». Они откроют определенный нейронный паттерн, сложность и частота которого окажутся столь уникальны, столь божественны, столь прекрасны, что описание его структуры одновременно сделает понятным и его содержание. Тогда они скажут: «Мы знаем, что есть сознание». И смогут его синтезировать. Так они наконец-то смогут контролировать «Я». Тогда я пойду к ним и скажу: «Мне нельзя перестать ее любить, никогда. Вы можете с этим что-нибудь сделать?»
Горячее полотенце на лице почти совсем остыло. Я поднимаю откидной столик, привожу спинку кресла в вертикальное положение, начинаю снижение к Нью-Йорку. Притворное спокойствие во время управляемого падения. Я знаю, что в реактивном двигателе вообще-то ничего не взрывается. Потом огни в иллюминаторах, у которых я не сажусь, и ждать и падать и ждать и падать и громкий спасительный удар. Я совсем не боюсь летать, думаю я, пока мы катимся по посадочной полосе. Я не расстегиваю ремень безопасности до полной остановки самолета. За иллюминатором хорошо освещенное пустое асфальтовое поле. Может быть, я зря улетел. Но другого-то мозга у меня нет.
Я стараюсь не думать о ней
И вот я иду. Я двигаюсь к выходу из здания аэропорта, несу сумку, сумка тяжелая, с черного неба падают белые точки. Передо мной вереница такси, позади меня зал прилета, в нем влажно блестящие искусственные полы светлых оттенков серого, на них люди, чемоданы, автоматы с напитками красного, желтого, черного или коричневого цвета и железные, обитые искусственной кожей сиденья, раздвижные стеклянные двери, автоматические раздвижные стеклянные двери, прилетевшие, встречающие, таможенный контроль, багажная лента, много багажных лент, паспортный контроль, очередь на паспортный контроль, переходы, флаги, указатели и запрещающие знаки, эскалаторы, переходы, флаги, указатели и запрещающие знаки, эскалаторы, лестница, переход, переход в рукаве между аэропортом и самолетом, в рукаве, который называют пальцем, самолет, Атлантический океан и она.
Я падаю на мягкое заднее сиденье такси, говорю адрес, стараюсь не замечать, что у таксиста не такой цвет кожи, как у меня, стараюсь, достав условленные шестьдесят долларов, не прятать кошелек в карман как можно быстрее, только из-за того что у таксиста не такой цвет кожи, как у меня. По радио английская речь и музыка – знакомая, но звучит она, как чужая, именно здесь, именно сейчас. Белые точки, падающие с черного неба, становятся больше, и их становится больше, огни – желтее и беспорядочнее, асфальт в лучах фар светлеет и расширяется и быстрее уносится под меня. Он поднимается, опускается, поднимается, эстакады, въезды, съезды, линии желтые и прерывистые, колеса стучат на швах между бетонными плитами, и вдруг черноту неба перекрывает какая-то другая чернота, тени, хотя солнца нет, от зданий, которые больше и которых больше, чем я когда-либо видел в своей жизни, а потом мы врываемся на один из этих знаменитых мостов и в мешанину из стали, света и машин, и огни теперь красные, синие и зеленые, и я думаю, что вообще-то я ведь должен быть потрясен этими невероятными первыми впечатлениями в этом невероятном городе, и я думаю, наверное, вот так себя и чувствуешь, когда потрясен этими невероятными первыми впечатлениями в этом невероятном городе, поэтому я достаю из кармана телефон и пишу ей сообщение: «невероятно».
Я подъезжаю к старому промышленному зданию, это тот самый адрес, что я назвал таксисту, отдаю ему деньги, выхожу, под ковриком у порога лежит ключ, в лифте пахнет гидравлическим маслом, на шестом этаже я выхожу. Квартирка маленькая и неотапливаемая, я ставлю сумку, ищу в ней теплые вещи, которые можно надеть поверх той одежды, что уже на мне, и выхожу из квартиры, из лифта, из дома, иду по широким тротуарам, мимо темных заброшенных складов, мимо темных зарешеченных витрин, но одна витрина на углу улицы освещена, и я пролезаю под полуопущенную решетку, протискиваюсь между близко стоящими стеллажами с объемистыми упаковками, беру хлеб, чипсы, пиво и газету. Расплачиваюсь и выхожу из магазина, который все еще не закрывается, оставляю за спиной громкие крики у кассы, продавец и двое покупателей ругаются, кроют то ли друг друга, то ли весь свет, поставщиков, финансистов или жен – кажется, по-польски.
Я возвращаюсь в бывшее промышленное здание, ложусь на короткую кровать под тонкие одеяла, сверху накрываюсь одеждой, которая немногим толще, ем хлеб и чипсы, пью пиво, смотрю на буквы в газете – и еще долго лежу, не засыпая, возможно, потому что там, где я проснулся сегодня утром, уже опять светло. Не знаю, отчего не могу уснуть: то ли оттого, что сейчас так рано, то ли от холода, но точно еще не от света, время от времени я смотрю в маленькое окошко поверх плоских крыш между домом и рекой на светящиеся башни на другом берегу – куда-то туда я завтра поеду и увижу, где мое рабочее место; я лежу и не сплю и не сплю и не сплю, и это меня не мучает, не раздражает, ни еще там чего, у меня нет никакого отношения к тому, что «я-не-могу-уснуть», и я спрашиваю себя, а не должно ли у меня быть какое-то отношение к этому или если уж не к этому, то, может, у меня должно быть какое-то отношение к чему-то другому, и если так, то к чему, и тогда я спрашиваю себя, а что бы она сделала в такой ситуации, и, конечно, лучше от этого не становится, поэтому я стараюсь не думать о ней и оттого, конечно, думаю о ней только больше, вот черт, а потом, слава Богу, наступает хоть и не день, но небо светлеет, я покидаю кровать, комнату, дом, глухо, словно по брезенту, иду сквозь пар своего дыхания к станции подземки. Автомобили покрыты инеем.
Иногда я оглядываюсь
Я сижу за письменным столом. Такой же письменный стол, как и другие. Вокруг меня другие люди за другими письменными столами, и всем нам поручены задачи, за выполнение которых нам дают то, что мы можем обменять на еду, одежду и жилье. Моя задача – находить решения проблем. Та же задача у всех. Наши задачи различаются только проблемами, которые надо решить. Передо мной стоит компьютер. Рядом со мной сидят люди, перед которыми тоже стоят компьютеры. Время от времени мы пишем, время от времени читаем, потом опять пишем, мы не разговариваем. То, что мы пишем, зависит от того, что мы читаем. То, что мы читаем, написали люди, у которых или больше власти и авторитета, чем у нас, или меньше. Если что-то написано более важными людьми, это заслуживает внимания. Если нет, то нет. То, что мы пишем, прочитают люди, у которых или больше власти и авторитета, чем у нас, или меньше. Важные люди могут заставить нас все переписать наново. Неважные нам безразличны. Мы пишем в основном то, чего от нас ожидают.
Я сижу за письменным столом, передо мной стена из стекла. За нею улица, снегопад, быстрые люди и медленные машины, передо мной чистый белый лист в текстовом редакторе. Потом буквы, слова, предложение на белом листе в текстовом редакторе, и это предложение как-то связано с проблемой, которой я занимаюсь. Я внимательно смотрю на него. Слово за словом, знак за знаком. Затем нажимаю клавишу, и предложение исчезает, растворяется в белизне листа. Я знаю, что сегодня вторник и скоро мне выступать с докладом о проблемах, которыми я занимаюсь, и в этом докладе я должен наметить решения, которые представляются мне перспективными. Еще я знаю, что важно описать проблемы так, как их могу описать только я, важно наметить те решения, которые могу наметить только я, иначе то, что делаю я, мог бы делать и кто-то другой. Я все это знаю, но ничего не делаю. Смотрю в монитор и не делаю ничего. Курсор на белом листе в текстовом редакторе мигает равномерно медленно и тонко.
Иногда я оглядываюсь. Я вижу, что через два ряда позади меня сидит женщина с темными волосами и одной серебряной серьгой и она замечает, что я смотрю на нее, и тоже на меня смотрит, потом мы отводим глаза. Я еще какое-то время гляжу в монитор и в окно, вижу стену, улицу, снег, машины, снова смотрю на нее, а она на меня. Любопытно, она просто реагирует на присутствие особи противоположного пола в ее поле зрения, как это заложено в нее эволюцией? Заинтересована ли она после подробного изучения моих фенотипических признаков в принятии от меня наследственного материала, или же она что-то нашла во мне – нечто обаятельное, красивое, особенное или нечто отталкивающее, злое, печальное, нечто такое, чего она не может выразить словами и чему у нее нет доказательств, но она убеждена, что оно есть, и хотя ей кажется неприятным каждый раз смотреть на меня, когда я смотрю на нее, и хотя по спине у нее пробегает холодок от возбуждения или отвращения, она просто не может отвести взгляд, потому что я именно такой, какой есть.
Я смотрю в монитор и думаю, что вообще-то прекрасно понимаю: все, что я думаю, это чушь, – и спрашиваю себя, почему я это думаю. И тогда я думаю: когда-то ведь должно было дойти до того, что вот теперь я опять думаю, означает ли тот факт, что я думаю о первой попавшейся женщине, да еще на работе, что у нас с ней не осталось больше никаких шансов, что на самом деле я ее больше не хочу, сам того не понимая, или больше не могу хотеть, или не желаю мочь хотеть, и мне приходит в голову, что желание – это нечто, на что нельзя повлиять, как бы ты этого ни желал, и я не знаю, есть ли какое-то лекарство от размывания уровней смысла, и еще я не знаю, в этом ли моя проблема – размывание уровней смысла, то есть не та проблема, которую мне поручили тут на работе, нет, моя личная проблема, но, если бы существовало лекарство от этой проблемы, в чем бы она ни состояла, я бы его с удовольствием принял.
There is a problem with your insurance
Я захожу в офис начальницы отдела кадров, ее зовут Рита, и она примет меня через несколько минут, сажусь в кресло из искусственной кожи, втиснутое между коричневыми перегородками, за которыми сидят женщины разных весовых категорий и рас, кладу ногу на ногу, и тут она меня приглашает.
– Hello.
– Hello.
– There is a problem with your insurance[1].
Не знаю, что это может быть за проблема, знаю только, что страховка у меня есть, поэтому я молчу и только смотрю на нее, выпучив глаза, но выпучив не слишком сильно: не хочу показаться невежливым, или скептичным, или высокомерным.
– There is nothing in the contract about who pays for the cost of shipping your body to Germany.
– I don’t understand.
– If – god forbid – you died over here[2].
Я знаю, что в моем страховом полисе написано, что страховка покрывает все расходы, поэтому так и говорю:
– But it says in my certificate that one hundred percent costs are covered.
– Yes, I saw that. But it doesn’t say who will pay for the shipping of your remains to Germany.
– But isn’t that included in one hundred percent?
– It doesn’t say so.
– I am sure it is included.
– I am afraid that is not enough. I will need your insurance company to confirm that[3].
Я киваю, встаю, трясу ее руку, вижу ее идеально белые зубы, сквозь которые удивительно громко раздается: «Извините за такую ситуацию», или «Спасибо за сотрудничество», или «Не прикидывайся идиотом», – я не знаю, я не слушаю, я соображаю, не кончился ли еще рабочий день в моей страховой в Германии и могу ли я их спросить, не подтвердят ли они письменно, что возьмут на себя расходы по перевозке моего тела, даже если меня в нем больше не будет или, по крайней мере, если я больше не буду сознавать, что нахожусь в нем, – ведь я, вероятно, и есть оно, то есть мое тело.
Я не хочу в лифт, я хочу двигаться, поэтому толкаю большую блестящую планку, открывающую дверь на лестницу, выхожу на лестничную клетку, вижу ступени. Я наступаю на первую, она из бетона, издает «клонг», ее край укреплен стальным уголком, наступаю на вторую, третью, четвертую, они тоже издают «клонг», наступаю на пятую, шестую, седьмую ступени, стены выкрашены в желтый. Наступаю на пол площадки, он издает «ток», здесь бетон голый и глухой, а потом опять «клонг-клонг», и опять желтые стены, а свет искусственный, но приятно ненавязчивый. Я спускаюсь на седьмой этаж, на шестой, пятый, четвертый, третий, и вдруг раздается «ка-лонг». Стальной уголок сидит неплотно, один винтик, вероятно, разболтался за годы под множеством подошв, выскочил, скатился к середине пролета и упал в подвал, где его, вероятно, смели и выбросили в мусор вместе с обертками от жевачек, камушками, комочками грязи и пылью, и теперь он, вероятно, лежит где-нибудь в большой куче оберток от жевачек, комочков земли, камушков, пыли и ржавчины от других, уже непонятно каких, винтиков, и там он постепенно разлагается все дальше и дальше, рассыпается в мелкую, твердую, особую пыль среди обычной пыли.
Я открываю дверь на улицу, спрыгиваю с самой последней ступеньки здания, и теперь я парю, и моя записанная в последовательностях дезоксирибонуклеиновой кислоты фигура, моя способность вспоминать различные мгновения детства и содержание школьной программы, все чувства, которые я когда-то испытал, или вытеснил, или забыл, люди, которые меня сформировали, или испортили, или избаловали, все возможности из слияния сперматозоида моего отца и яйцеклетки моей матери девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре с половиной дня назад, воплотившиеся в этом полупроницаемом, нечетко отделенном от окружающей газовой смеси предмете, именно в это мгновение ударяют по бетонной плитке тротуара, и единственное последствие этого для мира – тончайшие колебания поверхности маслянистой лужицы у бордюра, далеко за нижней гранью моей области восприятия.
Я размышляю, на правильном ли я пути
Я пью пиво. Сижу в кафе неподалеку от места работы. Пахнет жиром и сохнущими пальто. Вообще, это не кафе, а ресторан самообслуживания, удивительных размеров: помещение всего десять метров в ширину, но метров пятьдесят в глубину, идешь все время прямо, все глубже и дальше, а в конце зала лестница на второй этаж – пестрая, ярко освещенная штольня в бетонной горе на обочине дороги. Я иду мимо стойки с пиццей, салат-бара, суши-буфета и горшочков с супами, останавливаюсь перед ростбифами, беру один и еще немного риса и брокколи, ведь это полезно. К еде я не притрагиваюсь. Через несколько минут я выбрасываю большой кусок мяса, но совесть мучает меня недолго. Оно мне не понравилось, и потом, ведь шматок мертвого животного, упав в мусорный бак, не станет от этого мертвее.
Я размышляю, на правильном ли я пути решения вверенной мне проблемы или нет. У меня нет мнения на этот счет. Не знаю, разочарован ли я этим или взбешен, или мне на это, в конце концов, наплевать. Не знаю, плохо ли, что я не определился с отношением к тому, как продвигается моя работа. Не знаю, появилось бы сейчас у кого-нибудь другого, оказавшегося на моем месте, определенное чувство, стремление, желание что-то сделать или не сделать, принять какое-то решение, внести какое-то изменение или как раз наоборот – продолжать следовать по пути, который привел его сюда, последовательно, прямолинейно, неуклонно. Я уверен – и если бы аппетит у меня не пропал раньше, то уж сейчас я точно не смог бы есть, – она бы это знала.
Раздается детский крик. Это такой крик, в котором слышна не боль и не обида, а одна лишь неуемная ярость. Крик звучит как сигнал свободной линии в телефонной трубке, только на две октавы выше. Мать попеременно сует мальчику, лежащему на полу ничком, то шоколадный батончик, то пластмассовую пожарную машинку, но он не меняет ни позы, ни громкости. Крик длится и длится, и я чувствую, как мое нейтральное или даже доброжелательное отношение к еще не совсем выросшему человеку переворачивается. С каждой секундой меня наполняет отвращение, тошнота, которая ощущается не в желудке, а в голове. Я тоже хочу закричать. Прежде чем я успеваю полностью осознать это желание, мать тоже повышает голос. Крик не утихает, мальчик кричит так пронзительно, что про себя я обзываю его педиком, что бессмысленно, поскольку, во-первых, он еще не достиг половой зрелости и потому у него еще нет половых предпочтений, а во-вторых, половые предпочтения человека никак не связаны с тембром его голоса; он все еще кричит.
Мамаша топает ногой, будь я на месте ее сына, я бы громко рассмеялся, мое тело поднимается со стула, врежь ему, мои колени распрямляются, стул отъезжает назад, ну давай, трусливая овца, одна пощечина еще никому не повредила, я вижу, как рука деформирует щеку мальчика, не надолго, лишь на миг, я отчетливо вижу, как мягкая ткань под глазом сдвигается к носу в тот самый момент, когда в нее врезается большая ладонь взрослого. Это мужская ладонь. Мой позвоночник выпрямляется, мне больно, я теперь слишком много сижу, говорю я себе последние пять лет, делаю шаг в сторону из зазора между столом и стулом и стараюсь не смотреть на мальчика, он не должен ничего заподозрить, еще рано. Мои ноги идут к мусорному баку, туда летит все, что оставалось на подносе: салфетки и бутылка из-под пива, разворот, и вот я уже направляюсь прямиком к мальчику, чувствую силу притяжения между моей ладонью и его лицом. До него остается шесть шагов, четыре, три, два, мать наклоняется и поднимает барахтающееся тело, целует его в щеку и заглушает крики своим бесконечно терпеливым правым ухом, и я замечаю, что так и не ударил мальчика, лишь на улице, когда миниатюрные кристаллики льда врезаются мне в глаза сквозь узкую щель между почти сомкнутыми веками.
Хорошо на морозе.
Я еще немного посижу
Вечером я сижу с двумя знаменитыми философами в японском ресторане на Тридцать шестой улице. С двумя знаменитыми философами и еще с тремя десятками других профессоров, докторантов, студентов. Еду не несут, мы заказываем второй круг саке, знаменитый толстый функционалист и чуть менее знаменитый и менее толстый репрезентационалист говорят о Боге. Мой сосед рассказывает мне, что недавно прочитал одну статью о Германии, очень интересную, и обещает принести мне журнал с этой статьей на следующее заседание междисциплинарного коллоквиума по сознанию и нейробиологии, ну слава тебе господи. Приносят саке, оно теплое и мягкое, пришла и невеста моего соседа, у нее были еще дела, она выше его ростом и тоньше и что-то преподает в каком-то там колледже. Они часто касаются друг друга, то и дело целуются, держатся за руки, и она рассказывает, что разведена. Я не рассказываю ничего, но этого никто не замечает. Официант – кореец, рассказывает сосед, этого тоже никто не замечает, потом наконец-то приносят еду.
Функционалист и репрезентационалист все еще говорят о Боге, я несколько озадачен, поскольку думал, что они атеисты, во всяком случае, они ярые борцы против возможности физически необъяснимого компонента сознания, то есть против того, что раньше называли душой, и все-таки они говорят о Боге, причем совсем не так, как обычно говорят о том, чего не существует или скорее всего не существует, например, о единорогах или о квадратных кругах. Испанский студент по обмену критикует теорию эволюции, но не с религиозной, а с формальной точки зрения, я пытаюсь послушать его, но тут сосед заявляет мне, что, согласно прочитанной им статье о Германии, главная проблема Германии – производственные советы.
Что я об этом думаю? Ну… Да, я думаю, у производственных советов слишком много власти, говорю я, а думаю и не говорю, что даже Господу Богу не хватило бы могущества сотворить квадратные круги, а вот с единорогами, наверное, не было бы никаких проблем. Функционалист и репрезентационалист говорят о Боге, не затрагивая вопроса о теодицее, что не лишено смысла, ведь для них зла не существует, есть лишь эволюционно функциональное и эволюционно нефункциональное, что-то репрезентирует, остальное – репрезентируемо, вот и все. Бог со всем этим никак напрямую не связан, по их мнению, ему совершенно нечего делать в научной теории, однако он perfectly alright for personal use, I like god, говорит репрезентационалист, he is a very nice thing[4]. Принесли еду, классно сидеть и закусывать в японском ресторане, говорит мой сосед, с двумя знаменитыми философами. А они всё о Боге, говорю я, да, отвечает он, это тоже круто, хоть он и не верит в Бога, а что я об этом думаю?
Я не хочу говорить, что не знаю, что думаю, ведь я и так это часто говорю и у меня такое чувство, будто моя реальность возникает из того, что я говорю. Пока я только думаю о каких-то вещах, они никому не вредят.
Поэтому я говорю: я верю в производственные советы.
Хохот. Я немножко горжусь, стараюсь улыбаться обаятельно и скромно, но мне кажется, что эти усилия заметны, тогда я улыбаюсь энергичнее, шире, показываю зубы, пытаюсь выглядеть именно так, как себя и чувствую в эту самую секунду, и тогда мне приходит в голову, что я, пожалуй, чересчур широко скалюсь собственной шутке, и я быстро выпиваю глоток саке, потом глоток пива. Смех стихает, прежде чем я ставлю бутылку на стол.
Нет, серьезно, докапывается сосед. Я говорю, ну…
Я тоже считаю, что Богу нечего делать в научной теории, повторяю слова репрезентационалиста. Ага, кивает мой сосед, не очень обрадованный таким безопасным ответом, и тогда я поднимаюсь из окопа: а о том, чем наука не занимается, мы ничего сказать не можем. Я опасаюсь, что теперь начнется дискуссия о теории познания, и пытаюсь определиться, реалист я сегодня или скорее антиреалист, но тут невеста моего соседа говорит, что хочет уйти, эх, жаль, ну да, я принесу тебе журнал на следующей неделе, супер, до встречи, да, счастливо вам добраться, bye-bye[5].
Я еще немного посижу, я всегда остаюсь еще немного посидеть, пока все не разойдутся или пока я не напьюсь так, что больше не воспринимаю лица окружающих как знакомые. А может, это другие слишком надираются. Мы еще несколько раз заказываем саке, я беру еще и пиво, а потом вдруг все вскакивают и бросают кредитки на середину стола, сначала знаменитые философы, затем профессор из Нью-Джерси, потом испанский студент по обмену и, наконец, я, последний, как будто не хочу платить. Из-за того что я гадаю, не смотрят ли на меня теперь косо, мне неизбежно кажется, что да, все смотрят на меня косо, и от этого я не решаюсь участвовать в дискуссии о разделе общего счета, а потому просто плачу последним, сколько осталось доплатить, совсем немного – даже моя выпивка стоит больше. Я стою и понимаю, что теперь уж точно не смогу ни с кем заговорить, а потому иду через весь ресторан за своим пальто. Одеваюсь и возвращаюсь к столу в надежде, что надетое пальто избавит меня от необходимости объявлять о намерении откланяться, но никто не реагирует, поэтому я начинаю пожимать всем руки с того конца стола, который дальше всего от знаменитых философов.
You are leaving? Too bad[6].
Добравшись до знаменитых философов, я жму руку тому, чей я официальный гость, мямлю что-то, чего он, вероятно, не понимает, я-то уж точно не понимаю, что он мямлит в ответ, а второй знаменитый профессор ушел в туалет, или курить, или смотрит в другую сторону, в общем, ему я точно не жму руку, хотя он и знаменит, я же с ним вовсе не знаком. Направляясь к выходу, я чувствую на своей спине взгляды костяка междисциплинарного коллоквиума по сознанию и нейробиологии, слышу их мысли о слишком поздно брошенной на стол кредитке, о кажущемся замкнутостью высокомерии или о кажущейся высокомерием замкнутости, а проходя мимо еще трех десятков занятых столиков, на которые я сосредоточенно не смотрю, все-таки прекрасно вижу, что на меня никто не обращает внимания.
What’s your problem
Я думаю, мой речевой центр сильнее чувства равновесия – правой рукой я ставлю рюмку на стойку бара, а левой между тем не просто опираюсь на стойку, а держусь за нее: повторите, пожалуйста. Музыка. Слева от меня громкий, упитанный профессор из Нью-Джерси, из никому не известного университета, справа – сын фермера из Алабамы, который хотел стать священником, но остался студентом. Мы немного болтаем о наших проблемах, не потому что прямо спать из-за них не можем, а просто у нас такая работа – думать о проблемах. У нас одна и та же работа, поэтому нормально, что мы вместе подпускаем капельку этого яда для нервов – с кем же еще об этом поговоришь, разве что с друзьями.
Я смотрю на большой рот профессора никому не известного университета в Нью-Джерси, он открывается и закрывается, вверх-вниз, щеки вибрируют, когда он смеется, ведь он думает, что прав или что ему пришла в голову хорошая мысль. Мне нравится, что он думает, будто должен говорить со мной о моих проблемах, что ему кажется интересным то, что я рассказываю, мне нравится, что у него есть такое твердое мнение обо мне и обо всех других и обо всем, что кто-то говорит, мне нравится, что он даже не замечает, что у него есть какое-то мнение – оно у него просто есть.
Он цитирует, освещает новые аспекты, анализирует, интерпретирует, сомневается, критикует, а мне хочется сказать: заткнись придурок я люблю тебя повторите пожалуйста.
Что?
Повторите, пожалуйста.
Сын фермера присоединяется к нашему алкогольному кружку, к освещению, сомнению, пониманию, а может, ты имел в виду вот это, или имел в виду другое, а это ведь хорошая идея.
Разве это не хорошая идея?
Да.
Да.
Значит, наверно, это я и хотел сказать.
Наступившее молчание обнажает мою недостаточную готовность скрывать оппортунизм, а может, и водка, а может, не наступившее молчание, а понимание, симпатия к моей откровенности, например, или сочувствие моему отчаянию, или это чувство, которое иногда возникает, когда пьешь с совершенно незнакомыми людьми, чувство, будто ты знаешь, каково им, потому что тебе самому так-то и так-то, а чувства ведь и впрямь штука сложная, и истина, и все такое, вы же понимаете, что я хочу сказать?
Да.
Да.
Искренне ли они улыбаются, я не вижу, слишком темно, искренне ли улыбаюсь я сам, не чувствую, слишком пьян, но прямо сейчас мы – лучшие друзья на свете, одинаково согнутые над стойкой спины, параллели на пути в бесконечность, слушаем-смотрим-думаем и пьем вместе.
И любим, конечно, чего этот козел так пялится? Я крепче сжимаю рюмку, если придется ткнуть ему в лицо, то часть в моей руке должна остаться невредимой, а музыка стучит бам-бам.
Через некоторое время заходит разговор о том, в состоянии ли мы вообще найти ответы, возможно ли пусть и не объяснить систему, находясь внутри нее, это, как известно, невозможно, это уже было у того-то и того-то, но воспринять, признать, полюбить, музыка стучит бам-бам, а этот козел все еще пялится на нас, и мы возвращаемся к тому, о чем говорили до этого, они говорят слова, значения которых я не могу объяснить, и я отвечаю словами, значения которых не могу объяснить, но которые, очевидно, вставляю не так уж неуместно. Они смотрят, хочу ли я еще что-то добавить или уже все сказал, я смотрю, смотрит ли еще этот козел, он смотрит, я крепче сжимаю рюмку, там пусто, говорит громкий профессор из никому не известного университета в Нью-Джерси, повторите, пожалуйста.
Да.
Да.
Интересно, смогу ли я объяснить значение слова «да» и что вообще можно сказать о «да», кроме того, когда его надо вставлять, да и это уже довольно тяжело.
Do you like New York?[7]
Да.
Мы пьем, и потом вдруг наступает этот момент, вот оно, что-то меняется, что-то во мне отделяется от меня, уходит, и тот, кто остался, говорит, что говорит, стоит, как стоит, и потихоньку шевелит в такт ногой, которой опирается на перекладину под стойкой. Хорошо. Предметы вокруг перестали выкрикивать свои названия, всё, что есть, просто есть, вот и всё. Гладкое, влажно блестящее дерево стойки, живот профессора, платья женщин, тонкий, темно-желтый слой света на черном полу и белой стене, поднятые в воздух руки танцующих, их запах, их смех, бам, еще бам, и козел, который все еще смотрит, what’s your problem?[8]
Моя проблема – вопрос, почему мы что-то переживаем. Моя проблема – вопрос, почему наше тело в своем высокоорганизованном аппарате восприятия и обработки информации вдобавок ко всему восприятию и всей обработке производит еще и нечто вроде «ах, так вот каково это – быть «Я», быть здесь и сейчас и делать именно вот это или, наоборот, не делать». Моя проблема – вопрос, какой должна быть научная теория, объясняющая наше сознание. Моя проблема в том, что это хорошо звучит: я философ, я изучаю философию. Моя проблема в том, что я пьян, я хочу трахаться, но я философ и вообще-то такие проблемы, как сознание и переживание, должны быть для меня гораздо важнее женщин. Моя проблема в том, что я люблю одну женщину, но мне кажется, когда-нибудь я перестану ее любить, а я отвергаю мир, в котором такое возможно. Моя проблема в том, что я философ и изучаю сознание, то есть то, что раньше называли душой, и иногда я боюсь, что, возможно, правы те, кто считает сознание всего лишь иллюзией, – ведь если они правы, то после смерти мы просто мертвы. Моя проблема в том, что я философ, поэтому иногда я думаю: если P есть любая феноменальная истина, а Q есть совокупность всех физических фактов, то P не выводится из Q дедуктивно.
I don’t have a problem[9], говорю я этому козлу, который как раз в этот миг уже не пялится, в его глазах больше нет ни злобы, ни интереса, ни ярости, он просто больше не смотрит, да и не смотрел на меня, он смотрел туда, где я стою, ведь он смотрит туда, куда смотрит, и ему безразлично, кто или что окажется там, его взгляд никак не зависит от того, что появляется в его поле зрения или исчезает из него, его взгляд просто падает на мир, и лишь он один управляет этим взглядом, а меня для него и вовсе не существует. Я отпускаю рюмку.
Та, которая не она
Я не знаю, который час. Рядом со мной лежит некто. Это не она. Моя голова – не моя голова. Та, которая не она, вообще-то красивая. Я все еще пьян. Та, которая не она, все еще здесь. Я стягиваю с нее одеяло. Та, которая не она, все так же красива. Сердито нахмуренный лоб, крепкий, бескомпромиссный сон, выдавливающий алкоголь из крови и последние следы улыбки с лица. Я смотрю на ее грудь. Моя рука лапает ее между ног, и это не кажется мне ни странным, ни мерзким, ни клевым, никаким, но вон ту стену я уже видел, я знаю того, кто здесь живет, и я не думал, что он способен на такое. Та, которая не она, плохо выбрита, и все-таки у меня эрекция. Та, которая не она, колется хуже моего подбородка. Та, которая не она, не просыпается, и, надевая презерватив, я вспоминаю картинку, которую однажды видел в ресторане: индейцы с бизоньими головами подкрадываются к пасущемуся стаду. Та, которая не она, не просыпается. Тот, кто вообще-то на такое неспособен, продолжает. Вообще-то для такого дела уже слишком светло. Я закрываю глаза.
Я вижу себя, когда еще темно, около полуночи, и моя голова – пока еще моя голова. Мы сыграем в игру, говорит одна, которая тоже не она. Каждый из нас придумает вымышленную личность и поговорит с пятью незнакомцами, а потом расскажем друг другу, что и как было. Классное развлечение для вечеринок, где никто никого не знает, говорит та, которая тоже не она.
Мы с тобой ведь тоже незнакомы.
Поэтому мы и начали этот странный разговор о странной игре двух идиотов, которых никто не знает. Которые в итоге стоят одни, а потом находят друг друга. Как на физре в школе, когда тебя не выбирает ни одна команда. В этот момент я еще внушаю себе, что хоть сейчас могу начать беседу с кем угодно на этой вечеринке, если захочу. Но в том-то и дело – я не хочу. И с чего это вдруг та, которая тоже не она, решила заговорить со мной? У нее короткая стрижка. А лицо вообще-то вполне симпатичное.
Или мыльные пузыри?
Что?
Надувать мыльные пузыри тоже прикольно, говорит та, которая тоже не она, и косится на пачку сигарет, которую я вытащил.
Вообще-то я не курю, говорит та, которая тоже не она, но все равно это круто. Если куришь, можно выйти и постоять на воздухе, поговорить, а если не куришь, то просто стоишь там как дурак, вот поэтому я предпочитаю мыльные пузыри, говорит та, которая тоже не она.
Я прячу сигареты обратно в карман и отпиваю глоток джина. Интересно, та, которая тоже не она, принимает мое молчание за согласие или за равнодушие? Согласие ее бы отпугнуло или ободрило? Или та, которая тоже не она, прибавила бы оборотов, будь я еще равнодушнее? Лицо и впрямь очень милое, но эта короткая стрижка.
Чем ты занимаешься в Нью-Йорке?
Я – приглашенный ученый в Городском университете.
Какая наука?
Философия.
Серьезно? Ты преподаешь философию?
Нет, я готовлю доклад, говорю я, и кажется, мой тон изменился, тем не менее та, которая тоже не она, делает шаг ко мне и говорит с серьезным лицом: о чем доклад, не спрашиваю.
Большое спасибо, отвечаю я, и впервые за весь разговор смеюсь.
Это очень мило, говорю я, и та, которая тоже не она, тоже смеется, и по-хорошему тут бы начаться тому, что могло бы завершиться в моей или ее постели разряжающим, примиряющим финалом для двух эго и как минимум моего либидо, если бы не слишком короткая стрижка той, которая тоже не она.
Я вижу себя, когда еще не так светло, наверное часа три, вижу, как вхожу в квартиру в Финансовом квартале, с той, которая также не она, у нее потрясающее декольте и длинные светлые волосы, и вдруг та, которая также не она, разражается безутешными рыданиями, потому что у нее такое заметное акне – я уже не очень хорошо вижу, – и пока та, которая также не она, в ванной, пудрит носик и вытирает слезы, я понимаю, что оказался здесь только затем, чтобы не заметить ее акне, чтобы доказать ей, что она может кому-то понравиться, и чтобы доказать самому себе, что кто-то хочет понравиться мне. Другой причины для моего присутствия здесь нет. Так что я снимаю спальную футболку с забавным персонажем комикса, которую дала мне та, которая также не она, и ухожу из этой квартиры. Перед лифтом бросаю взгляд в окно, я еще ни разу не был на таком высоком этаже в Нью-Йорке. Портье нисколько не удивлен, когда я прохожу мимо него второй раз за двадцать минут.
Я вижу себя, когда так темно, что я не могу разглядеть, кто сидит рядом, наверное, это та, которая сейчас рядом со мной лежит, а таксист по дороге в Бруклин спрашивает, немец ли я, и говорит со мной сначала об автобанах, затем о «порше», потом о евреях, и я рад, когда мы выходим, и безропотно принимаю его визитку, позвони мне, я пришлю тебе фото моего «мустанга», говорит он, ведь у него «мустанг», и вот было бы дело прокатиться на его «мустанге» по немецкому автобану.
Через сомкнутые веки я чувствую свет. У меня в желудке что-то переворачивается. Я спешно встаю и ковыляю в ванную. Когда мои колени касаются кафеля перед унитазом, я слышу, как хлопает входная дверь. Я понятия не имею, откуда взялась та, которая не она. Но я знаю: она была не она. Перед позывом к рвоте во рту скапливается слюна.
Избыточный выбор
Я захожу на кухню. Я думаю: скоро выступать с докладом. Я не думаю: чашку кофе. И все же открываю нужную дверцу шкафчика. Холодильник достает мне до плеча, он громче машин за окном, дверь тяжелая, молоко холодное. Вскоре в меня вливается нечто горячее и коричневое, сказать, что это вкусно, было бы преувеличением, но тем не менее вкус есть, и вся моя сущность сводится к сочетанию ощущений вкуса и запаха с данными из ротовой полости о температуре и консистенции. В мозг поступают электроимпульсы, поначалу они не спрашивают, что это, они говорят: вот.
Я принимаю душ. Одеваюсь. Выхожу на улицу. Остаточный алкоголь в крови для разнообразия поддерживает мою волю, помогает мне не воспринимать никого, кроме самого себя, впереди перед, справа право, слева лево, а сзади не важно. Потом вдруг впереди уже здесь, а потом здесь впереди, и я чувствую легкое дуновение влажными от сигаретного дыма глазами. Голые стены и припаркованные машины – единственный признак передвижения в пространстве, небо толстое и серое, башни не видны. Воздух расступается перед моим лицом, молекулы азота струятся по коже лба, кислород, углекислый газ, метан. Сопротивление воздуха становится заметно сильнее, наверняка там наверху серые тучи затягивают серое небо, и они наверняка тяжелы чем-то, что я в этот миг еще не могу предчувствовать, хотя точно знаю, что сейчас будет. И вот оно, начинает падать, одна снежинка, пять, тысяча, миллионы, безразличные, независимые от меня, они падают сверху вниз, я падаю горизонтально сквозь них.
Я иду по Бедфорд-авеню. Под мостом скапливается талая вода, проползшая сотни метров по стальной арматуре, чтобы теперь дожидаться испарения на асфальте, смешавшись с мелкими частицами ржавчины. На углу зависают латинос, они тоже ждут чего-то, о чем я не имею понятия, может, жизни. На тротуарах старые холодильники, газовые плиты, духовки, кондиционеры, граффити на стенах. Я захожу в кафе. Заказываю, киваю, благодарю, хорошо что-то делать, играть какую-то роль в Солнечной системе, пусть эта роль и состоит лишь в том, чтобы заказать бургер, поесть, заплатить и потом уйти со сцены. Когда моя вилка вонзается в последний кусок кровавой говядины, я думаю: «кровавая говядина». И тогда я думаю о глазах и о пистолете забойщика и о том, почему я не могу подумать просто: «А ведь было вкусно». Слова в моей голове не существуют, говорю я словами из моей головы.
Я иду. Стою на перекрестке. По улице передвигаются люди в созданных для передвижения технических средствах различных цветов и форм. Некоторые из этих технических средств что-то говорят об общественном положении их владельцев, другие – не говорят ничего. Ничего не говоря, они все же что-то говорят. В наличии шум. Огни. Побуждения: что-то купить, чем-то насладиться, посмотреть фильм или какое-то представление, принять тот или иной идеал красоты или социальную роль. Ни одно побуждение не имеет ничего общего с другими побуждениями, кроме того что все это побуждения. Я не могу уловить никакой базовой структуры всех этих кодов, ни метода, ни цели, только каждый в отдельности что-то значит, все они в массе – просто болото из чувств, убеждений, обязанностей и грез. Изображения, слова. Туман. В грязном снежном месиве детский ботиночек. Такси. Свобода от необходимости что-либо делать, необходимость быть способным сделать все, брутальная или ненавязчивая – в зависимости от настроения и местоположения – вездесущесть чего-то. Невозможность игнорировать проживание жизни.
Вернувшись домой, я сажусь за кухонный стол и пытаюсь ни о чем не думать. Не получается. Чем напряженнее я выбрасываю слова из своего сознания, тем сильнее они рикошетят – от стен, от мебели, от нераспечатанных писем между старых газет на столе, от цвета неба, формы облаков, запаха на кухне. Некоторое время они летают по комнате и вскоре ложатся на мир, слова душат все настоящее, независимое, забирают столько бытия, сколько могут, и делают из него «мое» – мой карандаш, мой листок, мой стол, мои хлебные крошки на моем столе, мои окурки, моя пленка от сигаретной пачки в глиняной пепельнице на деревянном столе рядом с листом бумаги, мое дерево, в котором вырос лист, на котором я пишу, моя земля, на которой росло дерево, моя пила, которая его спилила, мой рудник, из которого добыли руду, необходимую для изготовления моей пилы, – и остается только мое ничто.
Вот я взвожу курок, вот поворачивается барабан, вот дуло касается моей скулы, и боль в моей голове мгновенно отступает, и я жму на спусковой крючок, и он впивается в подушечку моего пальца, пока ткань между костью и сталью не уплотняется настолько, чтобы передать давление дальше, и я не слышу взрыва, потому что звук не успевает попасть через мой слуховой проход в те области, которые отвечают за распознавание взрывов, или потому что эти области уже пробила гладкая оболочка пули, вызвав миллионы, миллиарды сложных импульсов, образ меня в детстве на футбольном поле, первая двучленная формула и текст гимна Германии, и почему это только третий куплет, ша-ла-ла, все взорвано, дикий разлет серой массы по комнате, или потому что эта сталь уже оказалась в том, что обычно внушает мне, будто есть кто-то, кому оно что-то внушает, а я и не услышал, как она вошла, или оружие не заряжено, или у меня вообще нет оружия, или, если бы оно у меня было, мне не хватило бы духу спустить курок, или не хватило бы печали ярости гнева скуки, или оказалось бы чересчур много того, что остановило бы меня, там, внутри, где все-таки нет никакой стали, а есть лишь мягенькие понятия, трущиеся друг о друга, как люди в толпе, которые не паникуют только потому, что знают: выхода нет.
Я выхожу из квартиры. Я не захожу в старый, пахнущий гидравлическим маслом лифт, вместо этого я выхожу на лестницу, я не спускаюсь, я поднимаюсь. На последнем этаже темно, лестница сужается, становится круче, но все же ведет еще выше. Я смотрю наверх, ничего не вижу, прохожу ступеньку за ступенькой, до самой последней. Вытягиваю руку вперед. Рука упирается в деревянную дверцу, я чувствую шершавое дерево, холод, толкаю ее, ничего, толкаю сильнее. Дверца медленно поднимается, второй рассвет, она скрипит, застывает, падает, хлопает. Я выхожу на волю. С крыши я вижу большое пустое небо, под ним другие крыши, на них граффити. Буйство красок на сером городе. Цветы, которым безразличны время года и закон, цветут на дикорастущем камне, который распространяется прямоугольниками, во все стороны. Избыточный выбор уровней.
Я возвращаюсь в квартиру. За окном густая серость за стальным частоколом над рекой, свет растворяется, как до него цвета и формы, в которых, наверное, живут, и – хлопья снега. Перед реальностью постепенно сгущается стена. Завтра приедет она.
Мы красивы
Она встает рядом со мной
Я стою у окна. Конденсат скапливается на нижней рейке рамы. Я вижу реку, вижу дома, в которых живут люди, которые занимаются вещами, которых я не вижу, но могу небезосновательно предположить, что они ими занимаются, ведь я сам живу в доме и занимаюсь всякими вещами, например стою у окна. За окнами, которые я вижу, никого не видно, в каких-то отражается небо, в иных – бетонный фасад дома напротив, в третьих – другие окна. Я смотрю из окна на город, который для кого-то значит все, для многих – многое, но ничего – ни для кого. Я вижу город, это город, в котором я сейчас живу, и желания, побуждения и поступки других людей – присутствие которых в поле моего зрения я предполагаю – столь же абстрактны и далеки от меня, как те силы, что удерживают на орбите третий спутник Юпитера. Подобно конденсату на оконной раме, люди скапливаются в определенных точках, по разным причинам, обтянутые кусками тканей разного кроя, на разнообразных кусках резины или кожи, создающих минимальную дистанцию между этими людьми и небесным телом, которое служит им домом. Всех этих людей окружает более-менее одинаковая смесь газов, их кожа воспринимает сходные данные о температуре и силе ветра, в их желудках растворяются сходные вещества, растительный или животный органический материал. Многие из них прямо сейчас что-то чувствуют, возможно, удовлетворение, возможно, надежду на личный или профессиональный успех, на сытный ужин или половой акт.
Затем она встает рядом со мной и тоже смотрит в окно, и ее аромат и аромат кофе из чашки в ее руке куда реальнее планеты, на которой я стою, и ее рука осторожно касается моих бедер, и я чувствую тепло, мягкость и упругость ее тела, которое становится настолько близко к моему, насколько это допускает физика, и дома, и окна, и небо там за стеклом, река, улицы, мосты, облака, вертолеты, люди, летящие на вертолетах, поезда метро под землей и на мостах, район прямо передо мной, районы слева и справа от него, район у меня за спиной, за фанерной стенкой и коридором и квартирой напротив и за людьми в ней, за их мебелью, одеждой, увлечениями и политическими убеждениями – все, о чем я успеваю подумать, оглядываясь на вещи вокруг меня, становится вдруг бесконечно тяжелым и срывается с петель абстракции, и начинает падать, быстро, еще быстрее, вдоль невидимой и необъяснимой линии, которую мы называем мнением, все это выпадает из моей головы обратно в мир, когда она говорит: красивый город. Мы стоим у окна.
Мы считаем друг друга друзьями
Мы видим друг друга впервые. В бывшем сборочном цеху грузовиков бундесвера на территории бывшей воинской части, а теперь здесь интернет-магазины и копировальные центры, и агентство по организации праздников, где мы оба проходим практику, потому что еще толком не знаем, кем хотим работать, мне двадцать четыре, ей двадцать один. Она в широких вельветовых брюках с заниженной талией, принесла формуляр в кабинет, где сижу я, мы здороваемся и не находим друг в друге ничего интересного. У меня отношения с маниакально-депрессивной девушкой, у нее – с бисексуалом, как я вскоре выяснил, и у нас обоих явно все хорошо, так что мы друг другу ни к чему.
Мы встречаемся снова. В клубах, кафе, барах, всегда в компании других людей, мы приветливо здороваемся и болтаем о том о сем, начинаем считать друг друга друзьями. У нее теперь отношения с ревнивым гэдээровцем, я все еще с маниакально-депрессивной, кое-как. Я пьян, но, подсаживаясь к ней, странным образом не думаю о сексе, а рассказываю о том, как нелегко встречаться с маниакально-депрессивной девушкой, и она меня ободряет. Я не говорю ей, что считаю ее парня идиотом. Вообще-то мне все равно. Только вот то, что она спит с этим идиотом, кажется мне странным, несуразным каким-то.
Мы на ее новоселье, они с идиотом съехались. Комната всего одна, кровать не велика, и мне кажется очевидным, что, если люди разного пола живут вместе в такой квартирке с такой кроватью, то они каждую ночь и спят друг с другом. Хоть это и очевидно, но все равно невероятно, так что я беру горсть чипсов из фарфоровой миски, одной из тех, что расставлены рядом с проигрывателем этого идиота, и с набитым ртом иду в туалет. И там мысль, что она испражняется в этот унитаз, а идиот за дверью в это время живет своей идиотской жизнью, представляется мне еще более невообразимой, чем то, что она каждый день с ним спит. Я представляю себе, как испражняется идиот. Совсем другое дело.
Мы стоим в каком-то клубе. Я уже не встречаюсь с маниакально-депрессивной девушкой, но с ней мы все равно просто приятели. Я беспокойно оглядываюсь в поисках какой-нибудь подружки моей младшей сестры или просто девушки, с которой мог бы поехать домой, мы заказываем выпить. Она спрашивает, хочешь потанцевать, а я отвечаю, я лучше тут постою, а она говорит, тогда стой, я немного потанцую для тебя. Ее движения пластичны и уверенны, на лице улыбка, говорящая мне, что она себе нравится, ей нравится ее тело и то, что с этим телом делает ритм. Я оглядываюсь в поисках подружки моей младшей сестры, потом опять смотрю на нее, она все еще танцует, другие теперь тоже танцуют, их больше и больше. Потеряв ее из виду в толпе танцующих, я еду домой с подружкой моей младшей сестры.
Мы не целуемся, когда она выходит
Мы сидим в машине, это наше первое свидание, но мы об этом еще не знаем, ведь мы просто друзья. Прошлым вечером маниакально-депрессивная изменила со мной своему новому парню, и я ушел той же ночью, потому что вдруг понял, что маниакально-депрессивная – не маленький невинный ангелочек, какой она мне всегда казалась. Мы сидим в кафе в Швабинге, и она говорит мне именно это, и я замечаю, что теперь окончательно расстался с маниакально-депрессивной. Потом мы расплачиваемся, выходим и уезжаем, и сквозь лобовое стекло я провожаю взглядом женщин на улицах и спрашиваю, куда ее отвезти, а она говорит, давай просто немножко покатаемся. Мы просто катаемся, моя машина для этого прекрасно подходит – старая, с длинным капотом и низкой подвеской, мы видим пляжный бар возле университета, но мы не выходим, хотя людям в шезлонгах как будто очень удобно.
Мы едем. Вокруг – наш родной город, зеленый, чистый и богатый, красивые люди, не слишком красивые люди, никакие люди, деревья у Максимилианеума, дробь булыжной мостовой под колесами, статуи, туннель, извилистая дорога, монумент Ангел мира.
Мы слушаем музыку, на звуках висят воспоминания, которые теперь исчезают, освобожденные настоящим, которое через мгновение станет воспоминанием. Я чувствую полный покой справа от меня и поворачиваю голову, а она открывает глаза и говорит, я еще в детстве всегда засыпала в машине. И снова закрывает глаза. Я не знаю, сколько мы уже ездим и куда еще можно бы поехать, но наконец она говорит, отвези меня домой, и я везу.
Мы не целуемся, когда она выходит, она лишь кратко улыбается и говорит, было здорово, и протягивает мне со словами: у меня есть для тебя подарок – что-то маленькое, продолговатое, окатистое – косяк, очень плотный и теплый, потому что она держала его в руке все время, пока мы были в машине.
Странное направление
Мы в кино. Она прекрасна, на ней юбка в цветочек, длинные черные волосы забраны назад, а я люблю длинные черные волосы и юбки в цветочек. На экране разбивают лица, вышибают мозги и отрубают ноги, в какой-то миг я мог бы ее поцеловать – она наклоняется ко мне и спрашивает «ты устал?», а я пугаюсь, ведь я так сосредоточен на мужике с тесаком, который собирается разрезать юную блондинку, что не могу ничего сделать, только говорю «нет», и тогда она откидывается в кресле, а я до конца фильма думаю – если бы только я ее поцеловал, и когда Брюс Уиллис говорит: «An old man dies, a young woman lives. Fair trade»[10] – стреляет себе в голову, мне тоже хочется застрелиться, сказав перед этим что-нибудь крутое. После кино мы еще что-то пьем, она играет своими длинными черными волосами, оставаясь недостижимой, между нами стол, на нем вино с минералкой и кружка белого пива.
Мы идем в кафе-мороженое, наши руки свисают вдоль тел, наши руки не соприкасаются, хоть мы и давно знакомы, но не так, как надо. Мы заходим в кафе-мороженое, есть свободный столик, мы заказываем высокие, сложные порции мороженого с обилием взбитых сливок, хотя я вообще-то не люблю взбитые сливки и не люблю высокие, сложные порции и мороженое не люблю, но она хочет, чтобы мы поели мороженого, и поэтому я тоже хочу.
Мы стоим у моего подъезда. В последнее время мы то и дело куда-то выбираемся вместе, однажды я заехал за ней, опоздав на полчаса, потому что у меня кончился бензин, я бежал до заправки, где-то с километр, бежал изо всех сил, купил канистру, наполнил ее и бежал с канистрой обратно к машине, я потел, ругался и орал: «Ну почему такое всегда случается только со мной?» Мы стоим у подъезда, потому что она не хочет подниматься со мной, но хочет скинуть мне несколько фильмов, которые я у нее просил, и я спрашиваю, почему ты не хочешь подняться, а она говорит, у меня такое чувство, что все движется в странном направлении. Я говорю, мне это направление совсем не кажется странным, и тогда она говорит, что ей кажется именно так, но мне удается хотя бы уговорить ее не уходить сразу, поэтому мы переходим через дорогу и идем на детскую площадку, там под высокими буками стоят теннисные столы. Уже совсем стемнело. Мы сидим рядом на теннисном столе, и она говорит, что не хочет испытать боль и что у меня не очень-то хорошая репутация, и я злюсь на себя, значит, она узнала, что иногда я вожу к себе других женщин, и говорю: но мне еще никогда не было так приятно общаться с девушкой без задних мыслей, и это правда, тут я абсолютно уверен, ведь я никогда раньше не общался с девушкой без задних мыслей. Мы еще недолго разговариваем, потом она соскакивает со стола и встает передо мной совсем близко, и мы целуемся, и она говорит, не отпускай, и мы крепко держим друг друга.
Я говорю да
Мы курим марихуану, в ночь на Рождество. Мы курим, потом раздеваемся догола и танцуем в гостиной под музыку Crosby, Stills, Nash and Young. До раннего утра мы не спим и не одеваемся, в квартире тепло, мы едим и смотрим телевизор и смеемся, и, когда я устаю, она танцует одна для меня, а я лежу на диване и смотрю на нее, как она танцует, и улыбка у меня на губах не стоит мне никаких усилий, губы улыбаются сами, независимо от меня, и, когда глаза мои уже вот-вот закроются, она подходит ближе, опускается на колени у дивана, и ее лицо оказывается совсем рядом с моим, и я вижу ее глаза и слышу, как она спрашивает, ты счастлив, и я говорю да.
Мы счастливы
Мы занимаемся сексом. Сначала несколько раз в день, потом несколько раз в неделю, потом несколько раз за выходные, потом один раз в неделю. Мы оба считаем это нормальным, уверяем в этом друг друга, нам просто меньше хочется, у нас много дел, у нас стресс, к тому же иногда ведь нужно видеться и с друзьями.
Мы красивы. У нас все хорошо. Нам нравятся наши тела, мне – мое и ее, ей – ее и мое, знакомые говорят, мы красивая пара. Мы счастливы. У нас есть то, что называют счастьем. У нас есть то, что называют счастьем все, кого мы знаем. У нас есть то, чего хотят все, мы делаем то, что делают все. У нас обоих на счету 53.374,43 евро, и мы могли бы внести первый взнос за собственную квартиру, пусть и маленькую, и потом выплачивать остальное, постепенно, когда оба устроимся на постоянные, надежные должности; постоянными они должны быть для погашения кредита, а надежными они будут благодаря нашему образованию, нашей коммуникабельности и ответственности и нашему опыту. Мы могли бы уйти в декретный отпуск, Германия – цивилизованная страна и позволяет молодым семейным парам стать родителями без особых финансовых потерь, хотя бы поначалу, потом без потерь не обойтись, растить детей гораздо дороже, чем рожать, да и карьеры после декретного отпуска обычно уже не сделаешь, но об этом им не говорят, детям не говорят, потому что они не поймут, а будущим родителям не говорят, потому что тогда их это не интересует. Им говорят: здорово.
Мы стоим на сцене
Мы едем по автобану на юг, мы направляемся на сельский праздник, она будет там петь, мы опаздываем, и вода в радиаторе закипает. Мы съезжаем на аварийную полосу, я звоню в ADAC[11], и мы ждем, и я весь на нервах – не только потому что мне не хочется там выступать и у меня мандраж, ведь мне придется аккомпанировать ей на гитаре, но и, прежде всего, потому что я понимаю, как много для нее значит это выступление, и еще я понимаю, что этого мало, что оно и для меня много значит, поэтому я все это и делаю. Я думаю, когда же приедут эти чертовы желтые говнюки, а она поет пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста забавным детским голоском и очень крепко сжимает мою руку, и вот наконец приезжают эти чертовы желтые говнюки.
Мы стоим на сцене, перед нами сидят двести человек, она поет чисто, я играю правильно. Аплодисменты искренние и долгие, она сияет, я считаю ее прекрасной, и меня наполняет гордостью мысль, что именно мой первичный половой орган чуть позже соединится с ее.
Мы катаемся на слоне
Мы сидим в самолете и очень тряско подлетаем к одному таиландскому острову, и она крепко держит меня за руку, потому что знает, что я не люблю летать, эту формулировку я использую, поскольку не люблю признаваться, что у меня аэрофобия. На самом деле у меня нет аэрофобии, я редко по-настоящему нервничаю в самолете, только при сильной турбулентности или если в салоне есть арабы, я не люблю ощущение тесноты и беспомощности. Она держит меня за руку, и взгляд ее полон сочувствия, и самолет трясется, и над облаками видны горные вершины этого острова. Она сжимает мою руку до боли, и я спрашиваю себя, а может, это ей страшно, и я смотрю на нее несколько раздраженно, и она считает это проявлением моего страха и жмет еще сильнее и помогает уже второй рукой, и я думаю, что же сейчас думает тип рядом с нами. Мы приземляемся плавно и уверенно, а я злюсь на нее.
Мы лежим на пляже на таиландском острове, она ушла на массаж, а я дочитываю «Критику цинического разума» Слотердайка. Последние три страницы я перечитываю в надежде, что тогда смогу сказать одной фразой, о чем книга, она возвращается с массажа, спрашивает, как книга, я говорю «хорошая», и она ложится рядом со мной, не слишком близко, она чувствует мое недовольство, и я решаю, что это критика идеализма. Я раздумываю, не поговорить ли с ней об этом, о неизбежном тяготении всех идеалистических систем к открытому или подспудному опровержению самих себя, но сомневаюсь и не знаю точно – то ли я боюсь, что она может не понять, что я хочу сказать, то ли что я не смогу этого сказать. На следующий день мы катаемся на слоне.
Она говорит, ей что-то нездоровится
Мы на озере Тегернзее, идет дождь, она не вылезает из кровати, а я смотрю в окно. Дождь поливает уютную деревянную веранду, на которой мы вместе устало курили вчера, когда приехали, и поросшую темной зеленью стену за верандой. Она говорит, ей что-то нездоровится, и я не понимаю, значит ли это «иди сюда» или «оставь меня в покое». Когда дождь ослабевает, мы едем на машине в деревню и пьем кофе в прибрежном кафе, озеро очень красиво под серыми тучами, ей лучше, она снова может курить. Мы немножко болтаем и смотрим в окно, потом идем в супермаркет и мне звонит старый друг, он хотел бы еще раз поговорить со мной в спокойной обстановке, но я заканчиваю разговор, ведь я в отпуске, с ней, и чувствую себя великодушным и лояльным, нажав на красную кнопку, и смотрю на нее в ожидании чего-то, но она просто кладет в корзину банку растворимого кофе.
Мы где-то. То ли дома, то ли завтракаем в кафе, то ли на свадьбе какого-то давнишнего знакомого, который пригласил нас только под влиянием ностальгии. Мы сидим, или стоим, или прислонились рядом к стене в банкетном зале, или в школьном спортзале, или в гостинице «У почты» на окраине мегаполиса и смотрим на танцующих, которые чаще подходят либо к ней, либо ко мне, потому что лучше знают либо ее, либо меня. Потом мы вместе выходим, курим.
Мы встречаем ее бывшего парня, он на пять лет старше меня, а я еще не в том возрасте, чтобы воспринимать это как преимущество. У него татуировки, он служил в десантных войсках. Второй фразой он рассказывает мне, что работа у него скучная, а третьей – что платят ему такую кучу бабла, что он просто никак не решится уволиться. Они идут танцевать. Я остаюсь у бара и думаю, стоит ли мне представлять, что они когда-то вытворяли в постели, но я слишком устал и вместо этого заглядываю в декольте барменши, ничего не заказывая.
Мы лежим в постели, глубокая ночь, я пил пиво, и водку, и вино, у нас были друзья в гостях, она приготовила превосходное жаркое из свинины, а под конец мы все танцевали на диване. Она говорит, что не может уснуть, потому что слова и люди еще шумят у нее в голове, но она счастлива, говорит она и смотрит на меня в темноте, а я лежу наискось, пьяный и беззащитный, и она склоняется надо мной и шепчет мне в ухо, я люблю тебя. Я делаю вид, что уже сплю.
Мы смотрим футбол
Я просыпаюсь. Она тоже. Я сбрасываю с себя одеяло. Она тоже. Я встаю. Она тоже. Я иду в душ, чищу зубы, одеваюсь, она тоже. Я выпиваю чашку кофе, ем йогурт с фундуком. Она тоже. Я выхожу из дома, иду по улице до станции метро, еду до Зендлингских ворот, пересаживаюсь, еду дальше до Имплерштрассе, выхожу, поднимаюсь по лестнице и иду по Линдвурмштрассе, пока не дохожу до большого здания, на котором вывеска, на которой надпись «Штеммерхоф». Она тоже. Я поднимаюсь по лестнице. Она тоже.
Мы смотрим футбол. Она тоже с нами. Мы смотрим футбол, и она тоже с нами, потому что «мы», которые смотрим футбол, это не те «мы», которые она и я. Мы в основном мужики. Мы смотрим футбол, и она тоже с нами, а мужики, которые смотрят со мной, они разного роста, возраста и степени близости ко мне, и они знают меня дольше, иначе и лучше, чем когда-нибудь узнает она, но из этого знания и узнавания ничего не следует, кроме того единственного, что нам всегда было важно – что мы сейчас здесь, все вместе, как были вместе всегда, но все же когда-нибудь все мы останемся одни, думаю я, и тогда больше не будет никого, кроме нее.
Мы стоим в студии художника, студия большая, нас много, пятьдесят, шестьдесят, большие экраны, банки с краской и скомканные бумажки убраны, вместо них тут лежат подушки и стоят старые кресла и ящики пива и мы. Мы одеты в цвета команды, которой желаем победы, это цвета нашей страны, и мы относимся к ним куда серьезнее, чем могло бы того потребовать положение – это игра. Мы орем. Это не игра.
Мы орем, а на поле, то есть на стену студии, выходят другие, они одеты в другие цвета, у них другие лица, и плечи, и спины, и икры, их фигуры известны нам не так хорошо, как фигуры наших, их лица, их имена, их голоса, их походка, наших мы знаем лучше, чем она когда-нибудь узнает меня, они этого не знают, и она этого тоже не знает, и никогда не узнает, ведь потому она и есть она.
Мы слышим свисток и видим движения парней, которых мы знаем, знаем и движения, и парней, мы узнаём их, даже когда они двигаются без мяча, а когда они двигаются с мячом – мы начинаем орать. Они бегут – мы орем, они спотыкаются – мы орем, они падают – мы орем, а потом они поднимаются. Мы орем, мяч летит, мы орем, а они бегут и тащат мяч с собой вперед, все дальше вперед, вперед, вперед, и потом мяч вдруг оказывается именно в тех воротах, где мы всегда хотели его видеть, всегда будем хотеть видеть, и мы орем и скачем, и они скачут и орут и обнимаются, хлопают друг друга по спинам и по плечам и по груди и треплют друг другу головы и бьют по щекам от радости, ярости, гордости и ненависти к общему врагу, и мы обнимаемся, хлопаем друг друга по спинам и по плечам и по груди и треплем друг другу головы и бьем по щекам от радости, ярости, гордости и ненависти к общему врагу, и я целую ее в щеку.
Мы орем «Дойчланд!». Она тоже. Мы чокаемся толстыми коричневыми пивными бутылками, так сильно, что они едва не бьются, она тоже. Мы вскидываем кулаки вверх. Она тоже. Мы поем на мотив Yellow Submarine: «Вы всего лишь поставщик очков!» Она тоже. Мы поем: «Оле-е-е-оле-оле-оле!» Она тоже. Мы видим, как наши ребята бегут, мы видим, как они бросаются под ноги другим, и видим, как один из тех от боли катается по газону, и тогда мы орем «пидор!». Она отпивает из бутылки. Вообще-то она не любит пиво. А потом мы видим, как другие теряют мяч, и взрываемся криком, наш вопль поднимается стеной и врезается в стену с мелькающими кадрами, а наши парни бегут с мячом далеко на половину поля других, и вот мяч снова в сетке ворот, и мы орем, хлопаем, прыгаем и плачем, она тоже. А потом мы слышим свисток, Швеция проиграла ноль-два, и все выбегают на поле, и мы скачем, и падаем, и валимся друг на друга, а потом мы выплескиваемся из студии художника и идем толпой к станции метро, мы все в наших цветах, она тоже, с развевающимися знаменами, мы стоим, и пьем, и смеемся, и звенят пивные бутылки, а потом подъезжает поезд метро, и в нем сидят двое в цветах шведов, мы видим их и начинаем петь во всю глотку: «Вы всего лишь поставщик шкафов!» Она тоже поет. Мы садимся в метро и едем в Швабинг, а потом выливаемся на Леопольдштрассе, разливаемся в разные стороны, и вдруг все остальные исчезли, и в то же время они повсюду, остальные теперь все, те же цвета, и флаги, и бутылки, и вопли, и тогда я снимаю свою форменную футболку и затыкаю ее за пояс спереди, а сзади затыкаю за пояс свой черно-красно-золотой флаг и забираюсь на светофор, и вот я сижу на верхушке светофора, возвышаясь над перекрестком, и держусь обеими руками за разогретый солнцем металл, и с моей жопы свисает флаг Федеративной Республики Германии, а подо мной море тех же цветов, что болтаются на мне, и я ору «Дойчланд!». Я ору немножко тише, чем мог бы, потому что знаю, что где-то внизу стоит она, смотрит на меня и думает: вот он сидит на светофоре и орет «Дойчланд!».
Она меня знает, и все-таки я ей нравлюсь
Мы хотим вырваться. Вырваться из суеты, из города, вырваться на природу, на озеро. Мы не находим места для парковки, повсюду на сочной траве стоят машины, мимо шлепают полуголые люди в шлепанцах, с подстилками и сумками-холодильниками, жара невыносимая, и, когда мы наконец втискиваемся на краю поляны впритирку к другой машине, так что мне приходится вылезать через правую дверь, отказывает электростеклоподъемник. Я принимаю это к сведению, оставляю стекло опущенным и больше не думаю об этом, но она беспокоится за машину, за мою машину, ради меня. Я хочу только быстрее достать из багажника полотенца, и шлепанцы, и бутылку с водой, и плавки и быстрее уйти от машины, с этой поляны, с солнцепека, к воде, а потом вскоре уехать с озера домой, куда-нибудь, где нет людей и воздух не так назойлив, какая жара, и все говорят, что это классно, наконец-то опять настоящее лето, на ней только тоненькое платьице, но я не поверю никому, кто скажет, что ему хорошо, когда окружающий воздух горячее его крови. Бедняга, говорит она и гладит меня по плечу: ей жаль, что мне пришлось оставить окно машины открытым, и она знает, как я не люблю солнце, и жару, и озера. Ее сочувствие приятно, ведь это значит, она меня знает и все-таки я ей нравлюсь, но в то же время мне как-то не по себе. Ведь это значит, она меня знает и все-таки я ей нравлюсь.
Мы стоим ранним утром в переполненном вагоне метро, мы целуемся, она выходит на одну станцию раньше меня. Когда двери закрываются, я смотрю ей вслед, потому что предполагаю, что она обернется, а я не хочу, чтобы, обернувшись, она заметила, что я не смотрю ей вслед. Вот я и смотрю ей вслед. Она не оборачивается.
Сказка на ночь
Мы сидим в такси, едем в караоке-бар, потому что ей нравится петь, а мне нравится пить. Таксистка приходит в бешенство, услышав по радио о введении платы за высшее образование, она говорит, после этой поездки ей нужно сделать перерыв. В Швабинге она высаживает нас по указанному адресу, выключает счетчик и не включает огонек на крыше. Мы заходим в бар, заказываем выпивку, перед нами кто-то похожий на адвоката поет Элвиса Пресли. Мы пьем джин-тоник, вскоре она стоит на сцене и поет так чисто, звонко и красиво, что мне хочется плакать от моей неспособности сохранить это мгновение и достать его, получив очередное письмо из налоговой, в очередной раз проснувшись с похмелья с запахом изо рта, при очередном молчаливом завтраке или при очередных дружеских посиделках с ее друзьями, они милые, но… ну в общем… Мне кажется, я действительно мог бы заплакать, если бы подольше подумал об этом светлом, чистом голосе, об этих глазах, что смотрят сосредоточенно и с надеждой в мою сторону, об этом стройном, сильном, здоровом теле, которое нравится самому себе и именно поэтому так красиво, о естественности того, что тридцать пар чужих мужских глаз, ищущих ее взгляда, смотрят в пустоту, потому что она сейчас стоит там, поет и дышит только для меня, и о том, что все это напрасно. Не потому что у меня черствое сердце, наоборот, потому что оно слишком мягкое, чересчур мягкое, какая-то губка, облако на сером небе, и я отпиваю глоток джин-тоника, она гордо возвращается к столику, и я целую ее в щеку, и обнимаю ее одной рукой, и притягиваю очень близко к себе, мои пальцы очень крепко сжимают ее плечо, но единственное, что я пытаюсь удержать, – себя самого.
Позже мы лежим на диване и смотрим телевизор и попеременно засыпаем. Когда мы наконец оба не спим, мы решаем пойти в постель.
Мы держим друг друга. Мы отпускаем друг друга. Один из нас всегда держит чуть крепче, один из нас всегда отпускает чуть раньше. Мы не можем отпустить, мы не можем удержать. Мы кружимся по непредсказуемым орбитам, и я люблю тебя – всего лишь сказка на ночь. Сказка на ночь, которая действует.
Мы решаем чаще делать что-нибудь интересное
Мы гуляем. С неба падает вода. Довольно трудно двигаться сквозь падающую воду, мы поднимаемся в гору. Мы в деревне, в Верхней Баварии, в странное время года для пребывания в горной деревне в Верхней Баварии, потому что снег еще не выпал или уже растаял, и уже не тепло и не красиво, или еще не тепло и еще не красиво. Время от времени на общем сером фоне показывается причудливое тело тучи более темного оттенка серого. Небо выглядит так, будто в нем содержится еще довольно много того, что оно может пролить на нас. На нас синтетические куртки и крепкая обувь, и мы идем в гору, но это еще не настоящая гора, и, когда падающей воды становится все больше и она попадает на нашу кожу через щели в синтетических куртках и затекает в нашу крепкую обувь, мы сворачиваем. Мы сворачиваем, после того как два часа шли в гору по пустынным лугам, на которых стоит вода, как будто дождь идет снизу. Мы идем вдоль ограждений, они в хорошем состоянии и обычно под током, луга бесконечные и пологие, за ними высятся стены скал в облаках, со скудной растительностью, они высятся серые, дырявые, массивные. Мы сворачиваем там, где на указателе написано «теснина» – река Лойташ или Партнах, – пока тропа не пошла круто вверх и прогулка под дождем не превратилась в альпинизм. Мы идем вдоль скалы, дождь перестает, потом начинается снова. Стена приближается к тропинке или тропинка к стене, мы идем дальше, и через полчаса к тропе приближается и другая стена. Я задаюсь вопросом, когда ущелье можно назвать тесниной, и тут обе стены сходятся еще ближе и выпрямляются, смотрят на нас свысока, а потом впереди появляется маленькая коричневая хижина, мы даем денег толстому хозяину, и вот мы внутри. Все звучит иначе, все выглядит иначе, в камень забетонированы железные стойки, между ними натянут стальной трос. Держась за трос, мы передвигаемся вдоль пропасти, а внизу ручеек превратился в бурный поток, пенящийся и громкий, но утонуть в нем невозможно, если туда упадешь, тебя ждут проблемы пострашнее, чем вода в легких. С каменного потолка, под которым мне приходится идти пригнувшись, но не ей, она ниже, капает вода, на другой стороне теснины растут деревья в физически невозможных позах, прямо из камня. Неба больше не видно, остались только камень, зелень и вода. Мы идем дальше, становится темнее, теснее, сырее, громче, давно уже невозможно понять, где кончается шум дождя и начинается шум реки, или же тот шорох, что здесь разносится, это звук тесноты и камня, и тут она вдруг останавливается, прямо передо мной, поворачивается и открывает рот, и я кричу «что?», и она еще раз открывает рот, но я слышу только воду и тесноту, и камень, и тогда я наклоняюсь к ней и подношу ухо прямо к ее губам, и она кричит: «Я беременна».
Мы в гостях у ее матери, решено сделать аборт, решено ее матерью. Отец не вмешивается, а я слишком горд и парализован собственным безусловным заявлением, которое я сделал несколько дней назад, своей торжественной клятвой поддержать ее, что бы она ни решила, мы справимся, вместе, мы вместе вырастим ребенка или вытащим его из твоего тела и выбросим прочь, как ты захочешь, золотко мое.
Я беру напрокат машину с зимней резиной, потому что ночью выпал снег, а зимней резины для моей машины у меня нет, мы едем в клинику по прерыванию беременности, врач вежливый, деловой и прагматичный, она глотает таблетку и запивает ее водой, вот и все. Потом я еду с ней в дом ее родителей, и мы играем в «Нинтендо», три дня подряд, в «Super Mario Kart», и время от времени она нажимает на «паузу», встает и идет в туалет, чтобы выпустить из вагины немного мертвого органического материала.
Мы сочувствуем друг другу. Мы в ярости, мы переживаем неприятие. Потом мы так долго говорим о неприятии, пока оно не растворяется в переливании из пустого в порожнее о шаблонах поведения и старых привычках, и мы говорим, но ты же знаешь, что я тебя люблю, и тогда мы снова сочувствуем друг другу. Мы отказываемся от претензий, которые связаны с гордыней или с неуверенностью, и иногда мы прогоняем неуверенность сексом, но по большей части мы слишком устаем.
Мы смотрим «24 часа». Три часа ночи, она спит, завтра нам вставать в восемь, но я все равно вставляю следующий диск и скручиваю еще один косяк. Она спит, я курю, и музыка на титрах вдруг кажется мне слишком громкой и слишком патетичной, пошлой, как в боевиках, и методы пыток Джека Бауэра повторяются уже слишком часто, и ультимативная угроза западному миру уже слишком ультимативна, а может, это я просто слишком устал или обкурился, я выключаю телевизор и свет и целую ее в щеку и говорю «пойдем спать?». Она говорит «м-м, сейчас иду» и «а сколько времени?», а я отвечаю «много». Я знаю, что она опять уснет, как только я выйду из комнаты, и будет спать на диване, а потом, еще позже, придет в спальню, и будет усталая и расстроенная, что я ее не разбудил, и в пять она заходит в спальню и говорит: «Чего ты меня не разбудил?»
Мы прощаемся. Мы стоим у эскалатора. Мы целуемся в губы мимолетом, а может, даже и не в губы, в щеку, в лоб или совсем не целуемся. Мы обнимаемся не так крепко, не так долго, отпускаем друг друга один раньше другого. Мы смотрим друг другу в глаза до последнего, пока не отворачиваемся, и опускаем глаза, прежде чем другой окажется вне поля зрения, чтобы наше расставание казалось нам самостоятельным решением двух взрослых личностей, а не логическим следствием движения в пространстве тел, атомов газа. Перед этим мы еще раз говорим обо всем. О причинах, – которых нет, – тех образцов поведения, которые для меня не имеют значения, а для нее очень важны, или наоборот, или об образцах поведения, важность которых она или я не признавали или не хотели признать из-за неспособности, или страха, или надежды, но держались друг за друга и верили в мир, который мы выдумали сами, уже давно. Мы стоим у эскалатора, она ни о чем не спрашивает, я ничего не говорю, и мы просто стоим, а потом, наконец, трогаемся с места, спускаемся на эскалаторе вниз, идем по этажу, мимо людей, которые ничего не знают, совсем ничего, спускаемся на эскалаторе еще ниже и молча стоим вместе на перроне, и в ее глазах я вижу уверенность и ясность, что утешает меня, и еще что-то, не знаю точно что, и мы ждем и смотрим друг на друга, и мой поезд приходит первым.
Мне очень жаль
Я глубоко тронут и очень устал
Мы в Нью-Йорке. Я стою в зале прилета аэропорта, и первое, что я вижу: у нее красивые ноги. На ней серые хорошо сидящие джинсы, бежевые кожаные сапоги и золотые серьги, длинные черные волосы забраны назад, и она катит за собой тяжелую сумку. Но все же она снова отводит взгляд, она держит себя в руках, она идет дальше, мимо людей с разными фигурами и разным цветом кожи, ее походка не меняется, шаг упругий и спокойный, еще тридцать метров, еще десять, пять. Она подныривает под ограждение между прибывшими и встречающими, очевидно, ей не хватает терпения дойти до его конца, она и так долго летела, и теперь она наконец стоит передо мной, она смеется, мы целуемся, и я хочу ее трахнуть. Конечно, пока я этого не говорю, но мы целуемся еще несколько секунд, и я спрашиваю, как перелет, и мое поле зрения вдруг сужается. Я вижу ее темные глаза. Вижу ее плечи, вижу бретельку лифчика, просторный вырез блузки слегка съехал. Вижу прядку волос над ухом, выбившуюся из косы. Вижу автомат с напитками.
– Пить хочешь?
– Да.
– Погоди, я тебе принесу.
Я принес воду и бутылку с розовой жидкостью, новый американский напиток, который мы иногда упоминали дома. Она всегда говорила, что ей любопытно, какой он на вкус, и что хотела бы его попробовать, если когда-нибудь окажется в Америке. Когда я протягиваю бутылку, она смотрит с благодарностью и не может толком отпить, потому что жидкость очень холодная, и мне очень нравится, как она говорит «м-м, холодная!».
В поезде мы сидим рядом, от нее слегка пахнет потом, но это ничего, я знаю этот запах, только уже довольно давно не слышал, поезд идет мимо портовых построек и заводских руин Ньюарка, а я указываю ей на небоскребы Манхэттена вдалеке, и она так воодушевлена, и я думаю, что с этого момента я могу, или имею право, или должен жить для нее, и внезапно я глубоко тронут ее верой в то, что все может наладиться, надо только постараться, это тяжелый труд, но игра стоит свеч, я глубоко тронут и очень устал. Приехав домой, мы занимаемся сексом, и после первого оргазма я счастлив, оттого что она так взволнованно смотрит в окно и ей так нравится быть здесь со мной.
Да все нормально
Мы в моей квартире. Она сидит на диване и рада, что я вернулся с работы домой, а я пустой, и усталый, и злой, потому что из-за ее радости я осознаю свою пустоту, и усталость, и злость. И оттого что я не хочу говорить ей, что ненавижу себя, я говорю: философия говно. Она спрашивает, что не ладится с моим докладом, и протягивает мне сигарету и первой выходит из квартиры, идет по коридору на лестничную клетку, садится на лестницу и дает мне прикурить. Выход на лестницу меня немного успокаивает. Я говорю, да все нормально. Затягиваюсь сигаретой. Она ждет, что будет дальше, но я ничего больше не говорю, тогда она медленно кивает и тоже затягивается, дым идет у нее из ноздрей. Потом она гордо улыбается, глядя мне прямо в глаза, и говорит, сегодня я прошла пешком по Вильямсбургскому мосту, и я счастлив, что она здесь и сделала это, а уже в следующую секунду мне грустно, что меня с ней не было, но потом мне приходит в голову, что я бы там все равно постоянно думал о докладе и о других женщинах, поэтому я ничего не говорю и снова затягиваюсь, а свободной рукой успокаивающе глажу ее по щеке, хотя она спокойна, а она дает себя гладить, потому что знает: это успокаивает меня.
Я думаю бросить курить
Мы идем мимо складов. Мимо этих огромных вильямсбургских складов со ржавыми рулонными воротами, иногда ворота какого-нибудь склада открыты и кто-то выносит оттуда старые, продавленные матрасы с пятнами от влаги и грузит их в кузов пикапа, и я завидую мужикам, нашедшим свое дело в том, чтобы выносить старые матрасы со складов с ржавыми рулонными воротами, грузить их в пикапы и куда-то везти и там выгружать. Эти мужики выполняют свою работу без всяких сомнений, и при этом они счастливы, просто-напросто потому, что им никогда в жизни не придет в голову размышлять, счастливы ли они при этом. Я думаю сказать ей, что счастлив только тогда, когда не размышляю, счастлив ли я, и что на самом деле я постоянно размышляю об этом, за исключением тех моментов, когда ем, бухаю, испражняюсь или кончаю. И еще иногда, когда дышу, а воздух прохладный и чистый. Я думаю бросить курить. Я думаю сказать ей, что хочу сделать что-то значительное. Что-то важное. Что-то, что сделает мир лучше, продвинет человечество вперед. Я думаю сказать ей, что бывают такие мгновения, когда я верю, что философская проблема сознания решаема и я мог бы стать тем, кто ее решит. Потом я думаю сказать ей, что, возможно, я потому сомневаюсь, стоит ли нам заводить детей, что считаю себя тем невыносимее, чем больше вокруг меня людей, но она гладит мое предплечье и говорит, а ты загорел. Тогда я думаю сказать ей, что у меня какой-то умственный дефект, наверняка так и есть, я просто не могу контролировать свои мысли, у меня аналитический синдром Туретта, и я говорю ей, а ты тоже. Я думаю сказать еще что-нибудь о докладе, с которым я должен выступить, но бросаю это дело.
Мы идем пешком через Манхэттенский мост. Мы видим молодые семьи в парке на берегу Ист-Ривер. Мамы играют с детьми в мяч, они так далеко, что мне не видно, красивы ли они, но я вижу: у некоторых есть грудь.
– Смотри, детишки.
– Да.
Радуга
За парком следует вода, за водой – другой берег, за ним силуэты высотных зданий, столь нереальные и чрезмерные и стереотипные, что я пытаюсь их не видеть. Перейдя мост, мы попадаем в Чайна-таун. Мы спускаемся по длинной лестнице, мимо изогнутых крыш, усыпанных нечитаемыми вывесками, и где-то там внизу мы сейчас будем есть утку по-пекински, она знает где, она нашла в путеводителе один из лучших ресторанов с уткой по-пекински.
Мы заходим в ресторан, садимся, и, когда я замечаю ее детское волнение, в животе у меня становится тепло, и как раз в тот момент, когда я чувствую это тепло достаточно отчетливо, чтобы сказать о нем, я вдруг смотрю на это чувство свысока, обесцениваю его тем, что параллельно думаю еще и о других вещах, говорю о других вещах, другие вещи накапливаются во мне, например, да что же это такое, не орите так, уроды, косоглазые, сиськи, ну вот опять, и пиво. И сигареты, конечно, и с чего только все без ума от этого города, он же просто большой и многолюдный, и, пока во мне все это роится, она с любопытством озирается, возбуждена, а у меня в животе уже не так тепло. Она благодарно улыбается мне, и мы едим, и нам вкусно, и мы платим и уходим. За дверью она крепко берет мою руку в свою и раскачивает ее в ритме своего уверенного шага, которым она познает этот город и свою жизнь, и я иду рядом, даже не чувствуя, касаюсь ли я земли. Она с любопытством озирается и впитывает в себя все вещи вокруг нас, вещи, о которых она знала, что они будут ждать ее здесь, она думала о них еще в самолете, думала, как здесь все выглядит, как хорошо звучит и пахнет, рыба в уличных лавках, гудки сдающего назад грузовика, разноцветные витрины массажных салонов и бесчисленные майки на стендах прямо на тротуаре, развешенные по цветам, радуга с надписью «Я люблю Нью-Йорк». Я думаю: гомосятина.
Я думаю, она еще в самолете думала обо всем этом, когда читала об этом в книге, которую купила после того как забронировала билет. Еще в самолете она думала о мостах, о голых башнях и белоснежных магнолиях, о статуе Свободы и Ист-Виллидж, о розовом ростбифе в «Деликатесах Каца». Я в самолете думал о том, что человек ощущает в эпицентре взрыва раньше, жар или грохот, перед тем как перестанет что-либо ощущать, и о том, осознает ли он еще тот миг, когда осознает, что в следующий миг он уже перестанет что-либо осознавать.
В самолете я размышлял, удастся ли мне сохранить верность ей, и хочу ли я этого, и, если я этого не хочу, то с чего бы мне вообще стараться, и почему бы мне не позвонить ей сразу по прилету и не сказать, что у меня не получится. Но я так и не додумал эту мысль, в какой-то момент она затухла сама по себе, наверное, когда я в полудреме и в сухом воздухе салона подумал о ее глазах, о том, как ее взгляд скользит по мне, в обыденной ситуации в обычном месте он лишь проскальзывает по мне, одно мгновенье, но ее глаза схватывают меня целиком, потому что они открыты, широко открыты, они большие, и удивленные, и они мчатся от одной вещи к другой и вбирают в себя все, что есть, они видят мир и видят, что мир прекрасен, даже если в нем много чего-то странного или трудного для понимания, в общем и целом все в порядке, все нормально, с тобой все нормально, мир, говорят ее большие смелые глаза, скользя по миру, а потом они проскальзывают и по мне, и вот я стою, там, где я есть, крепко стою на земле, я часть этой Солнечной системы, и я знаю – мое место где-то под взглядом этих глаз. А потом я думаю о чужих женских половых органах.
Наши друзья
У нее день рождения. Мы сидим в «Скай-баре» «Стандарт-отеля», время 17:42, мы можем оставаться здесь до 18:00, потом здесь могут сидеть только те, кто забронировал столик по телефону, который никто не знает и никто никому не говорит. Бар оформлен нарочито скромно, чуть ли не до обидного сдержанно, бесшумное газовое пламя в белоснежном камине и много пастельных тонов, повсюду пастельные тона, толстый пушистый ковер, барная стойка, столы, скатерти, кресла, в которых мы сидим, коктейльные платья официанток, худых и с меня ростом, а мне кажется, я высокий, к тому же они все до одной прекрасны. Стены тоже в пастельных тонах, туфли, и брюки, и пиджаки других гостей, моя рука на ее руке, ее глаза, небо за огромной прозрачной стеной.
Я говорю, поздравляю. Она улыбается. Она заказывает еще один коктейль.
– Когда нам надо быть на Пятой?
– Примерно через час.
– Ну и хорошо.
– Да.
Я тоже заказываю еще, мы быстро выпиваем, в 18:02 мы выходим из «Стандарт-отеля» через вращающуюся дверь, мы гуляем по Хай-Лайну, мы видим, как его весь озеленили и отреставрировали, с каким вкусом и как современно все сделано, мы видим реку Гудзон и за ней Нью-Джерси, а потом спускаемся в метро. Мы едем на Пятую авеню, там выходим и поднимаемся на лифте в другой бар, в бар, телефон которого можно узнать, куда можно позвонить и заказать столик, столик, за которым можно посидеть дольше, чем до 18:00. Этот бар темнее, он больше, здесь нет пастельных тонов, зато есть красное и черное. Повсюду стоят массивные мягкие уголки, темная кожа, квадратные диваны вокруг квадратных столов, а с потолка свисают кубы из плоских экранов, на которых показывают без звука разные спортивные соревнования.
Мы сидим вдвоем на огромном мягком кожаном квадрате и ждем и очень рады, что нас будет больше, люди уже смотрят на нас косо, оттого что нас так мало, нас двое, надеюсь, нас будет больше, надеюсь, скоро. Мы ждем наших мюнхенских друзей, когда-то это были ее друзья, теперь они наши, она с этими друзьями когда-то много чего повидала, а теперь мы вместе не видим ничего, эти друзья говорят, когда ты приедешь к нему в Нью-Йорк, мы с вами повидаемся, кто знает, когда еще побываешь в Нью-Йорке, в Нью-Йорк не каждый день выбираешься, можно, мы у вас переночуем, ну конечно, к тому же у тебя будет день рождения.
Мы ждем. Краем глаза я вижу один из экранов ближайшего куба. Я вижу людей, которые играют в американский футбол, они перемещаются как-то необычно, что-то в их движениях не так, поэтому я присматриваюсь и вижу: это женщины, и на них нет ничего, кроме нижнего белья, я тут же отвожу взгляд.
Смотри-ка, Lingerie-league[12], говорит она, и тогда я опять перевожу взгляд, и мы вместе смотрим на экран и видим, как две команды моделей в нижнем белье сталкиваются друг с другом грудями, задницами и ляжками, видим их развевающиеся волосы, которые выбились из-под шлема, их пухлые, мягкие губы. Я представляю себе, как они кричат.
Потом приходят наши друзья. Их меньше, чем ожидалось, в Исландии взорвалась какая-то гора, небо стало слишком грязным для полетов, но некоторым повезло, и вот они здесь, сперва они останавливаются у входа, решительно, но несколько растерянно, а потом видят нас и бросаются к нам и виснут у нее на шее и у меня тоже.
– Как у вас дела? – спрашивает один.
– Да, как у вас дела? – вторит другой.
– Хорошо, – говорю я. – Спасибо.
– Спасибо, хорошо, – говорит она.
– А у вас как дела? – спрашиваю я.
– Спасибо. Хорошо.
– Неужели мы встретились в Нью-Йорке, – говорит один, и они хлопают меня по плечам, а за окном светится Эмпайр-стейт-билдинг.
И с днем рождения, говорит другой, она говорит спасибо, и они встают и целуют ее в щеки, потом мы опять садимся, и я кладу руку ей на бедро.
Ха, Lingerie-league, говорит один, ха-ха, смеется другой, и если бы не они, следующий час я бы сосредоточенно наблюдал, как модели в нижнем белье сталкиваются друг с другом грудями, задницами и ляжками, но эти двое здесь, так что я только смеюсь очень взросло и чуть снисходительно и говорю: Америка – это нечто.
Мы пьем пиво. Мы пьем коктейли. Вполглаза смотрим бельевую лигу. Мы едим закуски. Мы пьем коктейли. Потом мы выходим на улицу, закуриваем и от опьянения и воодушевления падаем друг на друга, мы держим друг друга, мы все четверо, двое наших друзей, она и я, и видим огни, и чувствуем алкоголь, наконец, рядом с нами останавливается такси, оно везет нас в Бруклин. Наши друзья укладываются на разложенном диване, очень скоро они начинают храпеть, вскоре храпит и она, да, она храпит, храпят все, кроме меня, я не сплю и думаю, почему же я не счастлив, оттого что в моей жизни так много хороших людей.
На следующий день мы едем в Рокфеллеровский центр. Мы едим сосиски и пьем «Августинер» в немецкой пивной в Ист-Виллидж. Мы идем в МоМА. Мы идем на вечеринку друзей моего квартиросдатчика, вечеринка в знаменитом квартале Down under the Manhattan Bridge Overpass[13], и там пьют веганские коктейли. На стейтен-айлендском пароме мы плывем на Стейтен-Айленд. Мы летаем на вертолете над Манхэттеном. Мы смотрим фотовыставку в маленькой галерее и чувствуем себя выше остальных посетителей, потому что фотограф – бывшая подружка одного друга одного нашего друга. Мы идем в Центральный парк и валяемся на траве. Это первый теплый денек в году. Мы идем на игру «Метс». Мы едим хот-доги. Мы пьем пиво. Через четыре часа игры кто-то отбивает хоум-ран. Через неделю мы провожаем наших друзей в аэропорт.
Я отказываюсь видеть в этом плохое
Мы снова одни. Мы сидим на лавочке в парке у Ист-Ривер. Мы видим заброшенный сахарорафинадный завод. Мы видим, как мимо проплывают несколько барж с щебнем. Мы гуляем по Бедфорд-авеню. Мы заходим в маленький альтернативный книжный магазинчик. Мы идем домой. Мы выходим на лестницу покурить. Мы смотрим в окно. Мы видим Вильямсбургский мост. Мы слышим, как итальянка этажом выше говорит по телефону с отцом. Мы спим друг с другом. Мы засыпаем рядом.
Для меня физически невозможно проигнорировать появление женского тела в поле моего зрения. Я не могу увернуться от фотонов, летящих в мои глаза от округлых волокон ткани поверх округлой кожи поверх округлой массы из мышц и жира. Я не могу помешать формированию изображения на моей сетчатке. Я не могу выключить его обработку у меня в мозгу. Я не могу остановить цепочку ассоциаций, воспоминаний и фантазий, начиная с двенадцатилетнего возраста до настоящего, вот этого вот момента. Я не могу повернуть вспять то, что я был зачат, выношен и вырос. Я ничего не могу поделать с тем, что ношу в себе Y-хромосому.
Я отказываюсь видеть плохое в том, что бегу от своих инстинктов не в религию или в болезнь, а к компьютеру. Я отказываюсь извиняться за то, что я мужчина, в биологическом смысле. Я больше не стану отрицать, что хочу трахнуть любую, буквально любую женщину младше пятидесяти лет, легче восьмидесяти килограмов и с более-менее симпатичным лицом. Я протестую против того, что моя любовь к ней должна стать менее ценной из-за этой скучной непреложной истины.
То, что я хочу трахать других женщин, не значит, что мы должны расстаться. То, что я хочу трахать других женщин, не значит, что наше общество одержимо сексом, одурачено рекламой, отупело и разнузданно. То, что я хочу трахать других женщин, не значит ни что она страшная, ни что я больной, ни что мы не сможем счастливо прожить вместе до конца наших дней и умереть вместе, держась за руки. То, что я хочу трахать других женщин, даже не значит, что я этого действительно хочу, куда вероятнее, что просто что-то во мне хочет трахать что-то другое, а поскольку я ничего другого не знаю, я подставляю на эти пустые места слова «я» и «женщин». То, что я хочу трахать других женщин, вообще ничего не значит. Это абсолютно нормально. Гормоны. Углерод. Вода.
Что с тобой?
Я вскакиваю. Темно. Футболка липнет к груди. Над собой на фоне черного потолка вижу овальное, еще более черное пятно, эта чернота гораздо, гораздо ближе. Она гладит меня по лбу.
– Ничего.
– Все нормально?
– Да.
Мне не ничего не интересно
Мы выходим немного прогуляться. Я шарю по карманам в поисках сигарет, а она в это время нетерпеливо держит вытянутую руку, чтобы я наконец взял ее за руку, когда наконец-то найду сигареты. Я их не нахожу. И все-таки беру ее за руку. На каком-то крыльце лежит собака.
– Смотри, собака, – говорит она.
– Да.
На углу у еврейского супермаркета мы ненадолго останавливаемся, мы думаем, пойти ли нам направо или налево, направо – порт, налево – пуэрториканские краснокирпичные многоэтажки, и я спрашиваю, ты хочешь к порту или к пуэрториканским краснокирпичным многоэтажкам, а она кладет голову мне на плечо и говорит, мне все равно.
Она встает передо мной. Я смотрю в сторону порта. Она сжимает мою ладонь, в которой я держу ее, крепче прежнего. Я смотрю в сторону пуэрториканских краснокирпичных многоэтажек. Другой рукой она обнимает меня за бедра. Я оглядываюсь туда, откуда мы пришли, она притягивает меня к себе и целует в плечо через куртку. Я целую ее в макушку, смотрю на еврейский супермаркет и спрашиваю, нам еще что-нибудь нужно?
– Нет.
Она отпускает мою ладонь и кладет вторую руку мне на бедра, она крепко прижимает меня к себе, так что я тоже обнимаю ее, гораздо выше, я сам выше, и стараюсь обнимать ее достаточно крепко, чтобы передать любовь, но так, чтобы она не чувствовала себя стиснутой. В ответ она прижимает меня еще крепче прежнего. Я чувствую себя стиснутым.
– Пойдем к порту, – говорю я.
– Да, – говорит она.
Мы идем в сторону порта. После двухчасового марша вдоль оживленной дороги с одной стороны и двухметровым сетчатым забором с колючей проволокой с другой, мимо зарослей, пакгаузов, заброшенных капитанских домиков за забором, мы понимаем, что Бруклинская военно-морская верфь слишком велика, чтобы обойти ее пешком, и слишком ограждена, чтобы попасть на ее территорию, поэтому мы разворачиваемся. Над недоступной зоной восхитительные облака.
– Смотри. Облака.
– Да.
Ночью она просыпается и говорит, ты что, думаешь, ты один на свете?
– Что, прости?
– Ты что, думаешь, что ты один на свете?
За окном огни восьми миллионов.
– Нет.
– И какую цель ты видишь в том, что ты делаешь, помимо того, что ты надеешься доказать себе, что ты на это способен. Тебе же совсем неинтересна философия. Тебе и я неинтересна. Тебе же вообще ничего не интересно.
– Мне не ничего не интересно.
Она вздыхает:
– Ты хочешь, чтобы я ушла?
– Нет.
– Почему я должна тебе верить?
– Я не знаю. Я не могу тебя заставить мне поверить. Я не могу тебя уговорить. Я могу только надеяться. Я надеюсь, что ты мне веришь. Потому что иначе было бы ужасно. Ведь если ты не веришь мне сейчас, когда я говорю, я хочу, чтобы ты осталась, значит, ты считаешь, что я тебе вру. А если я сейчас вру, значит, ты наверняка считаешь, что я врал тебе и раньше, в подобные моменты, и чего тогда стоит наша любовь?
Она молчит. Я слышу ее дыхание в темной комнате. Я вижу силуэт ее тела на фоне городских огней. Он двигается. Она кивает.
– Все так. Если ты сейчас врешь, то, скорее всего, ты врал и раньше. Это значило бы, что мы вместе только потому, что ты боишься сделать мне больно. – Меня бросает в жар. – А этого не может быть.
– Вот именно.
Она снова ложится. Я медленно подбираюсь к ней, кладу руку рядом с ее головой, она приподнимается, а я подвигаюсь еще ближе, просовываю руку ей под голову, она ложится мне на грудь.
Мы дышим.
– Слушай. Ты же улетишь домой всего через четыре дня, – говорю я, и меня тут же опять бросает в жар, я в растерянности, не могу поверить, что действительно ляпнул такое после всего сказанного, после всего сказанного за последние два года, после всего, что я говорил много раз, и я знаю, она тоже в растерянности, но еще я знаю, что она больше ничего об этом не скажет, ни сегодня, ни завтра, никогда, и единственное мое утешение в эту минуту в том, что я уверен: я ошарашен не меньше ее.
Я чувствую, как она кивает. Она кивает медленно и дышит осторожно, словно еще что-то можно сломать, и она кивает и дышит и кивает и дышит, и у меня на груди вдруг что-то очень маленькое и очень мокрое.
Невероятные комбинации
Мы идем на мюзикл. Чувак в маске поет о любви, или о ее потере, или о своей тоске по ней, по любви или по потере. Иногда она тихонько мычит мелодию вместе с певцом. Замечая, что ее слышно, она умолкает. Бродвей меньше, чем я себе представлял, меньше, чем должен быть, судя по названию. Театр же, напротив, внутри гораздо больше, чем выглядит снаружи. Ярусы выше и их больше, обитые войлоком мягкие деревянные кресла кажутся до странности пластмассовыми и полыми, орнамент на них как будто не подходит ни одной эпохе, и я не знаю, безвкусица это или же во мне лишь говорит культурное псевдопревосходство европейца. Садясь на свое место, я думаю, что без Америки мы были бы теперь либо нацистами, либо крестьянами, либо мертвецами. Я не успеваю подумать, кто мы теперь с Америкой, потому что она говорит, как она рада быть здесь со мной, и берет меня за руку и сжимает ее очень крепко. Я ее тоже.
Мы идем в бар на крыше в Сохо. На нас ярко-красные флисовые пальто с капюшоном, выглядит очень смешно, все гости бара в таких пальто, тут холодно, и у выхода на крышу висит таких штук сто. Эмпайр-стейт-билдинг здесь наверху сияет не так ярко, широко и высоко, может, за этим люди и ходят в бары на крышах – чтобы самим стать больше, а мир чтобы стал меньше. И поднимаются в горы. И ходят по тротуарам.
Мы пьем коктейли и курим, здесь можно, мы на свежем воздухе, на горшечных растениях вроде пальм висят гирлянды лампочек, что напоминает мне Рождество, пожалуй, Америка – прежде всего, страна невероятных комбинаций. Таких, как она и я. И аденин, цитозин, гуанин, тимин.
Объяснения по биологическим шаблонам
Мы в моей квартире. Я читаю и-мейл от знакомого одного знакомого одного знакомого. Его зовут Джон, и я понятия не имею, чем он занимается, кроме того, что живет в Нью-Йорке, из и-мейла я узнаю, что у него скоро будет или недавно был или прямо сейчас день рождения: Birthday Bash East 9th Street, Avenue A[14].
– Хочешь пойти на вечеринку?
– Да. А ты?
Я падаю на диван. Размышляю, с чего это я должен идти на вечеринку, где никого не знаю, и тогда я думаю, что там наверняка будут бабы, вот что я думаю, именно так, бабы, я не думаю ни о прическах, ни о фигурах, ни о нарядах, а просто об этом слове, бабы, и тогда я думаю, что это чушь, ведь я там буду не один, и даже если б был один, хотя ну да, и тогда я думаю, насколько же все-таки просты объяснения по биологическим шаблонам, и что бы мы ни делали, мы делаем это ради размножения, но в конце концов так и не размножаемся, не хотим размножаться, или все-таки хотим? Чего мы вообще хотим? Если бы мы хотели размножаться, мы могли бы заняться этим и дома.
– Да. Я тоже хочу.
– Отлично.
Я размышляю, может, ребенок стал бы решением всех проблем. Когда у тебя есть ребенок, ты тратишь меньше денег на алкоголь и сигареты. У тебя меньше возможностей для онанизма. С ребенком нельзя по воскресеньям слушать «Вариации Гольдберга» до тех пор, пока они не осточертеют, с ребенком не замечаешь, какое дерьмо творят и пишут люди, потому что приходится откладывать газету, не дочитав статью до конца, потому что будешь ждать появления кого-то, кого-то Нового, и этот Кто-то будет чего-то хотеть и получать, и все экономические кризисы, дебаты об интеграции, все войны планеты станут такими же мелкими и неважными, как время на часах – это случайное побочное явление бытия, единица измерения реальности. Реальности столь скучной, что ее можно измерить. Я закрываю глаза.
– Ты устал?
– Немножко.
– Но мы же идем на вечеринку? Или как?
– Да.
Пока она выбирает, что бы ей надеть вечером, я думаю, что проблема с орущим ребенком в ресторане, наверное, была в том, что это был не мой ребенок. В том, что моего ребенка нет, хотя чисто технически у меня могло быть много детей.
– Какое, по-твоему, лучше?
– Это.
Пока она надевает платье, которое, по-моему, хуже, я думаю об онанизме. Не о моем лично, а об онанизме как таковом. О ежедневной гибели по всему миру потенциальных нобелевских лауреатов, полководцев или педофилов в носовом платке, носке, старой майке или в волосах на животе.
– Эти туфли подходят?
– Да.
Она начинает краситься, а я думаю о половом акте. О предупреждении беременности. Об армадах гаплоидных наборов хромосом, блуждающих в шейке матки и через некоторое время выбегающих обратно, их убеждают, будто один из них оказался быстрее, хотя не было никакого другого, обогнавшего всех, а было лишь несколько женских гормонов. Еще я думаю о стенах из латекса и о врезающихся в них снарядах, напрасных и вскоре высыхающих, о холостых выстрелах, которые даже не смогли толком вырваться из организма, чью уникальность они должны передать миру вместе с его талантами, его наследственными болезнями и, вполне возможно, с его глупым лицом.
– Ну, пойдем?
Мир без нас
Мы стоим в клубе, музыка играет бам-бам, и мы вместе пробиваемся к бару, она расталкивает чужие бедра, а я – плечи, и вот мы висим на стойке, толпа за спиной, улучив момент, я кричу джин-тоник и поднимаю вверх два пальца, и чуть позже человек ставит перед нами два стакана, мы платим, и вдруг наша миссия выполнена. Нас по отдельности относит от стойки, где мы были одним целым, пробившимся через чужие запахи, мимо чужих тел и одежд, и чужие глаза уже смотрят в сторону, они словно сдаются, уступают, соскальзывают по монолиту, которым мы оказались, когда хотели одного и того же – джин-тоника. Теперь мы им опять неинтересны. Мы и сами себе уже неинтересны.
Мне трудно выносить это положение, я хочу что-то сказать и говорю:
– Мне очень жаль.
– Чего?
Музыка играет бам-бам.
– Мне очень жаль.
– Это я слышала. Чего тебе жаль?
– Всего.
– Ага.
Я пью и снова смотрю в другую сторону, и я немного разочарован, потому что мне показалось, что здесь и сейчас я сделал фундаментальное признание, и вообще-то я ожидал какой-то реакции, хоть я и не знаю, какой именно, но уж точно чего-то большего, чем «ага», музыка играет бам-бам, а она делает движение, быть может, она что-то увидела в моем лице, во всяком случае, она осторожно берет меня за руку и говорит, да все в порядке, и пытается улыбнуться.
Я тоже пытаюсь.
Потом мы опять поворачиваем головы в сторону танцпола, и как только наши глаза отрываются друг от друга, я понимаю, что мы увидим разные вещи, и так будет всегда, и наши глаза отрываются друг от друга, и мы смотрим вперед, и я вижу осколки стекла, туфли, груди и задницы, и понятия не имею, что видит она, теперь не мы видим, что перед нами, теперь я что-то вижу, она что-то видит, и я думаю, ну вот и все.
Мы едем в такси, и я думаю, ну вот и все, и говорю, мир – дрянь. Она говорит, это слишком просто, я говорю, мир необозрим, она говорит, это слишком абстрактно, я говорю, именно это я и имею в виду, а она говорит, именно что ты имеешь в виду?
Я имею в виду будущее. Прошлое. Упущенное. Возможное. Этого всего слишком много.
Да.
Каждая встречная машина могла бы врезаться в нас.
И что?
Тогда бы мы умерли. Прямо сейчас. Вот так просто.
И что? Ну, мы бы умерли.
Ты не понимаешь, что я хочу сказать.
Нет. Ты не понимаешь, что значит жить. Жить значит вот именно это. Ты где-то есть. Когда-то потом тебя больше нет. Вот и все. Мир будет существовать и без нас.
Я говорю, да это-то я знаю, а сам думаю, что мы не можем знать, никогда не сможем узнать, что будет после нашей смерти.
В этот вечер она больше ничего не говорит.
Мы решаем еще раз предпринять что-нибудь интересное
Ночью опять выпал снег. Мы стоим на Пенсильванском вокзале, мы видим солдат в пикселизованном камуфляже и кевларовых шлемах, солдаты держат у груди автоматы для защиты от содержимого подозрительных чемоданов. Мы садимся в поезд, и он вывозит нас из города, сквозь темные туннели в сияющую белизну. Это не такая белизна, как в городе, она начинается за бухтой Джамейка. Белизна неба сужает зрачки, белизна снега – поры. С веток дрока она пролезает нам в голову. Мы едем к морю. Вообще-то слишком холодно для поездки к морю.
Мы идем по дороге навстречу ветру, время от времени проезжают машины, водители смотрят на нас, как на отбившуюся от стада скотину. Мы идем дальше. Вокруг нас разбросаны дома, в которых живут только летом. Напомни, почему мы здесь? Красиво тут. Каждый из нас знает, что ветер бьет другому в глаза и уши по меньшей мере так же больно и что другой по мере замерзания все слабее представляет, далеко ли еще идти, не заблудились ли мы на этих широких дорогах, мягко вьющихся по холмам, мимо кустов и домов и предназначенных для владельцев бунгало на внедорожниках и спорткарах. Мы идем дальше.
Мы идем по дорожной разметке грязно-желтого цвета, это единственный цвет, на который тут не больно смотреть, даже асфальт блестит холодно и жестко, а застывшие в нем камушки словно отполированы каждый по отдельности, хотя наверняка они все шершавые, мы их не трогаем. Мы хотим на пляж. Мы не разговариваем с тех пор, как прошли мимо отеля, где надеялись попить чего-нибудь горячего, оказалось, он закрыт. В поезде мы говорили о том о сем. Общие друзья, родители, братья-сестры, другие люди, которые нам нравятся, больше или меньше или иначе, чем мы друг другу. В поезде мы были счастливы. Да и сейчас мы в общем-то счастливы. Внутри нас хватает еды, на нас достаточно теплой одежды и подходящая случаю обувь, при температуре, по ощущениям, около минус десяти, мы идем на пляж. Мы жмуримся. Белизна становится невыносимой. Я оборачиваюсь, пытаюсь улыбнуться, извини, что так холодно и что одному из нас пришла в голову мысль поехать сюда, а красивые кусты, как тебе? Да. Красивые. Мы дошли до центральной площади поселка, которая была бы больше самого поселка, будь промежутки между домами поменьше. Кольцо, чтобы машинам было удобно разворачиваться, как только водитель поймет, что здесь ничего нет. Мы идем дальше.
Мы видим, что за возвышением с длинным рядом домов в обе стороны намечается прогал. Тропа. Песок. Белизна. Еще больше ветра. Мы приближаемся. Лишь когда до воды остается метров двадцать, прибой заглушает ветер. Свет плотнее нас, массивный блок, всесодержащий и всепроникающий. Мы стоим рядом, перед нами океан.
Мы больше ничего не видим и не слышим, мы просто есть, в случайном месте, в случайное время, и наши мозги перестают обрабатывать данные об окружающей среде и анализировать информацию, планы, идеи, причины того, что мы здесь, что мы это мы, что мы есть. Мир светел, ветрен и холоден. И мы в нем.
Мы присаживаемся на корточки за дюной, моя рука достает из кармана сигареты, зажигалка, к моему удивлению, работает, и дым обжигает мне легкие. Она касается моего колена, пока я даю ей прикурить, и мне хочется поблагодарить ее, потому что впервые за несколько дней я чувствую, что действительно существую. Холодно, да?
Да.
Мы идем дальше.
Я совсем не знаю, что такое любовь
Мне кажется, ты совсем не знаешь, что такое любовь, говорит она и проводит ногтем по простыне и смотрит на книги на полу у кровати, и я смотрю на ее ноготь, потом на книги и думаю, ну конечно, я этого не знаю, и говорю: Ну конечно, знаю. Любовь – это то, что мы испытываем друг к другу.
Она смотрит на большую серую бетонную балку под потолком над нами, и я думаю, раз мы говорим, что любим друг друга, и раз мы так употребляем слово «любить», значит, это любовь, ведь чем же еще может быть любовь, если не тем, что называют словом «любовь», и тут она спрашивает, и что же ты ко мне испытываешь?
И я говорю, я хочу, чтобы ты была счастлива, и думаю именно так.
Почему?
Что почему?
Почему ты этого хочешь?
Мое дыхание учащается, я воспринимаю этот вопрос как обвинение, он оскорбляет что-то во мне, не знаю что, может быть, что-то соответствующее моим представлениям о том, каким должен быть мир, ведь в хорошем мире люди могут просто принимать, что им желают счастья, не спрашивая почему, неблагодарная тварь, думаю я, радуйся этому, а не докапывайся, а потом я спрашиваю себя, почему же я ей этого желаю, может, это не такой уж плохой вопрос, но, я думаю, с тем же успехом я мог бы задуматься, почему вообще чего-то хочу, и ответ на этот вопрос, я уверен, будет я не-знаю, а следствие этого вопроса – нет, я ничего не хочу.
Я говорю, потому что ты это заслужила.
Она улыбается.
Она улыбается, но это не благодарная, радостная улыбка, которой я ждал, это улыбка вежливая, возможно, даже любящая, но в этой улыбке есть кое-что еще, и это меня беспокоит, потому что в этой улыбке заключено знание, какая-то недоступная для меня истина обо мне и причинах моего желания сделать ее счастливой, и я не знаю точно, что она знает, я же сам не знаю ничего конкретного об этих моих причинах, но очень медленно во мне формируется страх, страх того, что все это напрасно, потому что мое желание сделать ее счастливой связано не с ней, а со мной, всегда только со мной.
Она говорит, ты хороший человек.
Она отворачивается, и я задумываюсь, где у меня в голове находится то, что хорошо, когда я говорю, мне хорошо с тобой, где Я из фразы «Я люблю тебя», где любовь и что это, и тут мне становится ясно, что единственное, о чем я могу более-менее уверенно сказать, что это и где, это она. Она здесь. Она лежит рядом со мной в постели, так близко, что я могу прикоснуться к ее спине.
А потом она уходит
Она собирает вещи. Из шкафчика под мойкой она достает пакеты разных цветов и разных размеров, вытряхивает их быстрыми, резкими движениями, громко, очень громко, чуть ли не до боли в ушах, затем складывает свитера, и штаны, и блузки, бережно и аккуратно, и мне кажется, будто она мурлычет мелодию, ведь она всегда напевала под нос, когда чувствовала, что делает что-то правильно, и хорошо, и точно, но она совсем не поет, ее лицо серьезнее, чем обычно, и она на меня не смотрит, тут не на что смотреть, она знает, какой я, она все про меня знает, она все испробовала, затем она совершенно спокойно подкрашивает ресницы и лишь после этого складывает свои многочисленные принадлежности в многочисленные косметички, а косметички – в дорожную сумку, такую большую и тяжелую, что она едва может ее поднять, но сумка с колесиками, и она упирается в нее коленом и затягивает ремень, вот сумка и готова, и она готова, и такси ждет, и она целует меня в щеку и еще раз смотрит на меня, без злобы, но не без грусти и сочувствия. Она смотрит на меня, похоже, не без сочувствия, и я кажусь себе пациентом, не желающим принимать лекарство, которое могло бы ему помочь, потому что ему не нравится, как оно ему было прописано, тон врача при оглашении диагноза или объем аннотации на вкладыше, и я ловлю себя на том, что думаю о таких вещах, что эти мысли становятся громче и их все больше, и я стараюсь сосредоточиться, я понимаю, что сейчас важный момент моей жизни, момент, когда происходит нечто такое, чего нельзя будет повернуть вспять, значительный момент, печальный, я понимаю это и думаю, что хочу прожить этот момент таким, какой он есть, а это значит, нельзя думать о каких-то странных вещах, нужно быть живым, и честным, и чувствительным, наверное, то есть чувствовать, что происходит здесь и сейчас, чувствовать, что означает происходящее, но мне кажется, я этого не чувствую, потому что думаю слишком о многом, поэтому я концентрируюсь, стараюсь не думать о многом и разном одновременно, а думать только об одном, занять себя единственной мыслью, и я думаю: Давай же, подумай, пожалуйста, хоть раз в жизни ухватись всего за одну мысль и держи ее крепко, черт тебя дери! – и я концентрируюсь, и у меня получается, и как раз в тот миг, когда она в последний раз выходит из моей двери и еще раз на секунду оборачивается, я думаю лишь об одном, об аннотации на вкладыше, и тут же понимаю, что это неправильно, просто ужасающе неправильно, поэтому сразу же думаю о чем-то другом, спрашиваю себя, наконец-то, только сейчас, я всегда знал, что задумаюсь об этом, если когда-нибудь все зайдет так далеко и мне придется ее отпустить, я знал, что именно в тот момент, когда станет ясно, что я ее отпускаю, я задумаюсь, отпустила бы она меня, вот об этом я теперь себя и спрашиваю, и думаю только об этом и знаю, что это правильно, я знаю, что именно об этом и нужно подумать сейчас, я спрашиваю себя, отпустила бы она меня, окажись она на моем месте, а я – на ее, и я думаю: она бы не отпустила, – и тут дверь закрывается, и она уходит, и что-то у меня с глазами, наверное, свет, солнце светит прямо в лицо, я подхожу к окну, смотрю в окно, сощурившись, и от света мне больно, от света, но я все равно смотрю в окно, смотрю во всех возможных направлениях, только не вниз, где она прямо сейчас садится в такси и исчезает из моей жизни – навсегда, а я не смотрю туда, я просто смотрю на небо, смотрю на дома, крыши, мосты, вижу вертолет, машины, поезда метро, вижу вентиляционные шахты, пожарные лестницы, опоры ЛЭП, дымовые трубы, дым.
Я один
Мы сидим на больших камнях на берегу Ист-Ривер, и на заброшенный сахарорафинадный завод слева от нас, на баржи с щебнем перед нами, на открыточную панораму со ставшим всеобщим достоянием видом этого города, которая сейчас совсем не открыточная, потому что на нее льется вода, на все это льется вода. Место то же самое, как и всегда, точно такое, как мы ожидали, как ожидают миллионы людей, прибывающих сюда каждый день и уезжающих разочарованными или счастливыми, потому что их ожидания оправдались и это именно такое место, как они ожидали, и небо серое, и идет дождь, и я говорю, мне очень жаль. Я думаю о том, как часто мой нос вдыхал ее запах, мои руки осязали ее нежную кожу, мои уши слышали ее голос, а я всего этого не замечал, и я говорю, мне очень жаль. Мы сидим у воды, идет дождь, и я говорю, мне очень жаль, и я не знаю, о мире это или о ней, так же как не знаю точно, где заканчивается одно и начинается другое, и я не удивляюсь, что она не отвечает, ведь она уже сидит в самолете, а я один.
Я вижу тающего снеговика и думаю: мне очень жаль. Я вижу ржавый холодильник на обочине дороги и думаю: мне очень жаль. Я вижу модно одетую пару, что молча гуляет у воды, семью китайских туристов в прозрачных дождевиках и черного бродягу и думаю: мне очень жаль. Я вижу еврея-ортодокса и думаю, после задумчивой и уважительной паузы: мне очень жаль. А потом думаю: мне жаль, что я только что ни с того ни с сего подумал, что мне положено при виде еврея думать, что мне очень жаль.
Мне очень жаль, что я родился на свет и вошел в ее жизнь. Мне очень жаль, что мой мозг делает то, что делает. И еще мне очень жаль, что во мне есть Y-хромосома и из-за этого во мне вырабатывается тестостерон, вследствие чего я чувствую совершенно неподходящую к нынешним общественным отношениям тягу к совокуплению. Мне очень жаль, что когда-то я остался сидеть на лекции о сознании только потому, что на той лекции, которую я собирался послушать, не было свободных мест. Мне очень жаль, что из-за этого сидения я шесть лет проучился в университете. Мне очень жаль, что потом я совершил ошибку и счел философию не обычной профессией, вроде столяра, брокера, зеленщика или сантехника. Мне очень жаль, что я вообразил, будто Философия – это нечто более значительное, более основательное, и мне очень жаль, что эта воображаемая значительность привела к тому, что я работал не только головой, как сантехник, но еще и сердцем. Мне очень жаль, что я боюсь. Мне очень жаль, что мне нравятся все женщины, а потом, когда у меня есть одна, – все остальные. Мне очень жаль, что я понимаю, что это неприемлемо с точки зрения морали – ведь будь я глупее, или хитрее, или смелее, или круче, я бы просто трахал всех подряд. Мне очень жаль, что я никогда не говорю, что думаю. Мне очень жаль, что я солгал, сказав, что мне не за что тебя критиковать, но с какой стати она задает мне такие вопросы? Мне очень жаль, что человек устроен так, что ему всегда и во всем есть что критиковать, стоит лишь пройти времени, и что я был настолько глуп, что поверил, будто подавленный импульс можно когда-нибудь забыть. Мне очень жаль, что я предпочитаю смотреть футбол один. Я обо всем очень сожалею.
А потом я думаю, что это только я обо всем этом сожалею, другим-то вроде бы не так уж и жаль, и я понимаю: единственное, что заставляет меня жалеть, по-настоящему, ужасно жалеть, это одна крошечная и огромная штука, это губчато-расплывчатое, невидимое, всемогущее «Я».
Они ничего не знают
Вот там за окном
– Are you aware of Ned Block’s criticism of my idea of targetless higher order thoughts?[15]
Профессор сидит за письменным столом, я стою рядом, кипы бумаг и книг громоздятся, достигая моей груди, он читает конспект, который я вчера послал ему по и-мейлу, и я думаю, как у такого известного профессора может быть такой маленький, тесный кабинет, и говорю:
– I believe he said how can an empty thought about nothing create consciousness?
– Exactly. And what would I reply to that?
– I believe you would reply that it is not consciousness itself which is caused by the targetless higher order thoughts but merely the disposition.
– Exactly. And why do you suggest here, that a combination of Kriegel’s self-representationalism and Chalmers’ panprotopsychism would offer a solution to the problem of targetless higher order thoughts, when in fact, like you just said, they do not pose a problem at all?[16]
Он смотрит на меня. Он сидит за своим письменным столом в своем кабинете-пенале, внутри гигантской игральной кости, без дневного света и свежего воздуха, наискосок от Эмпайр-стейт-билдинг, и смотрит на меня очень незлобиво и снисходительно, как человек, готовый простить собеседнику интеллектуальные недостатки, если только тот объяснит, откуда взялась эта чушь, которую он тут понаписал и отправил ему и которую он, профессор, должен теперь читать и разбираться в ней, он ведь просто хочет понять, он сочувствует мне, несомненно, я только должен объяснить ему, с какой радости я решил, что бесцельная мысль высшего порядка – это проблема, почему я сомневаюсь, что мысль, ни на что не направленная, – это мысль, пусть мысль ни о чем, но все-таки мысль, ментальное состояние, которое обладает структурной мощью, достаточной для создания предрасположенности к сознанию, и я смотрю в его мягкие, стариковские глаза, на его обвислые щеки и говорю:
– Because I do have trouble conceiving of a thought without any content what so ever, I consider thoughts to be functional structures of brain activity, and how can a thought without content have a function?[17]
Он смотрит на меня. Смотрит на меня. Он вздыхает. И смотрит на меня.
– The thought’s function, – говорит он, и голос его звучит выше, чем прежде, гораздо выше, словно он говорит с ребенком, которого, пожалуй, считает милым, и продолжает смотреть на меня своими мягкими, добрыми, сочувствующими глазками, – is not to have any function[18].
Он все еще смотрит на меня, я перевожу взгляд на стену напротив двери, в торце его кабинета-пенала, и вижу, что она выкрашена в желтый, что краска, вероятно, содержит акрил, что стена, похоже, оштукатурена машинным способом, так как штукатурка безупречно ровная, вряд ли это могла сделать рука человека, да и здание слишком велико для ручной отделки. Я смотрю на стену, словно в окно.
– I see[19].
Он вздыхает. Куда он смотрит, не знаю, я смотрю на стену.
– Are you happy here in New York?
– Yes.
– What do you do?
– What do I do?[20]
Я опять смотрю на него.
– When you don’t work on this[21].
Он указывает кивком на мой конспект, уже приземлившийся на письменном столе.
– I take walks. I listen to music[22]. – Я вру.
– Do you see people?
– Yes, sometimes.
– Have you met some of the other students?
– Yes.
– Do you go out for beer?[23]
Он улыбается. Я тоже улыбаюсь. Мы оба знаем, что немцы любят пиво, так же как американцы, и чехи, и лаосцы, и тайцы, и французы, и швейцарцы, и, наверное, все неисламские нации этой планеты, но я улыбаюсь ему так смущенно, как только могу, – хочу, чтобы он думал, будто застал меня врасплох, и хочу, чтобы он этому обрадовался.
– Yes, we do[24].
Он рад.
– Excellent. Always remember: You are in NewYork. Go out. Meet people. Have fun. Don’t stay in too much. Don’t work too much. You can do these things when you are back in Germany.
– You are right, Professor. Thank you very much[25].
Мы не пожимаем друг другу руки. Это мы сделали при первой встрече и, вероятно, повторим при последней, так что после краткого кивка я делаю шаг в сторону из узкого зазора между письменным столом и стеной, профессор возвращается к своей работе, я выхожу в открытую дверь, оказываюсь в коридоре под неоновым светом и думаю: только здесь, в Нью-Йорке, я могу так хорошо сидеть в комнате, смотреть в окно и думать, вот там за окном Нью-Йорк.
Solid Ground[26]
Дома я открываю электронную почту: «Read some of the basics again. It’s always good to put an argument on solid ground»[27], – написал он мне вдогонку, как только я вышел из его кабинета. Так что я читаю текст о том, можем ли мы знать, каково быть летучей мышью. При этом я представляю себе ее, как она в алюминиевой трубе летит во тьме над Атлантикой, сквозь грозовой фронт, во вспышках молний за двойными стеклами иллюминаторов, маски для сна и носы, закрытые глаза и открытые рты, слюна, капающая с губ, местами лампочка светит на прыгающую книгу, наигранное хладнокровие, искренний страх.
Затем я читаю текст о некой гипотетической суперученой по имени Мэри, которая родилась и выросла в черно-белой комнате и через черно-белые мониторы изучила все физические явления мира, и теперь неизвестно, узнает ли она что-то новое, впервые увидев красную розу. При этом я представляю себе, как она заходит в свою кухню с темно-коричневым деревянным полом и оранжевыми шкафчиками, представляю, как она держит чайник под открытым краном, ставит его на подставку и включает, а сама принимается нарезать имбирь: так… так… так… так.
Я читаю текст о непротиворечиво представимых существах, полностью идентичных нам по физическому строению и неотличимых от нас в поведении, однако наполненных абсолютной внутренней темнотой, о людях без каких-либо переживаний, зомби, и я представляю себе, как она заливает кипятком кусочки имбиря в толстостенном стакане, и приятно кусачий пар проникает ей в нос, и она ждет, пока стакан не наполнится, отставляет чайник, и лишь тогда делает «хм-м-м».
Я читаю текст о мозге в резервуаре, которому компьютер внушает иллюзию, будто он человек и живет настоящей жизнью, и представляю себе, как она садится на диван с имбирным чаем в руках, сбрасывает обувь, поджимает ноги и свободной рукой накрывает их пледом.
Я читаю текст о моделировании мозга с помощью всего китайского народа, по человеку на каждый синапс, и представляю, как она включает телевизор, а там показывают клип Алиши Киз и Джея-Зи Empire State of Mind. Я представляю себе, что картинка расплывается, оттого что у нее в глазах слезы, но она не плачет, она лучше споет, и она подпевает во весь голос, поет назло своим слезам и разочарованию и тому, что она поет свою любимую песню уже дома, а не там, где та была написана, и не с тем, для кого она раньше хотела бы ее спеть, и она держит имбирный чай под носом и поет – чаю, пустой гостиной и нашему темному, холодному, незначительному родному городу.
Я бросаю чтение. Эмпайр-стейт-билдинг светится синим.
Я представляю, как она заплетает косу. Она сидит прямо. Она сосредоточенно смотрит в зеркало, она мурлычет мелодию, ее пальцы умело укладывают прядь за прядью. Я представляю себе воздух в ванной, минут пятнадцать назад она приняла душ, зеркало уже отпотело, но воздух все еще теплее, чем в коридоре и в гостиной. Она смотрит на свои волосы, которые превращаются в косу, прядь за прядью, медленно, но неуклонно, она знает это, и она знает, что коса будет идеальной, а она – красивой.
Я представляю, как она мастерит себе сережки. Она берет алебастровые бусинки, лакированные кусочки черного дерева и перламутровую крошку, протыкает их острой иглой и нанизывает на нейлоновую нить, прикрепленную к штифту. Каждый раз, нанизав очередной элемент, она поднимает получившуюся серьгу и разглядывает ее со всех сторон, затем подносит к уху и берет маленькое зеркальце, что лежит рядом на кровати, где она сидит скрестив ноги и трудится. Некоторое время она смотрит в зеркало на себя и на серьгу. Наконец она снова кладет украшение перед собой на белый платок, где лежат камни, кусочки дерева и перышки, и убирает лишнее, и добавляет недостающее.
Я представляю, как она одевается и выходит из дома. Я представляю стук ее туфель по тротуару, легкое позвякивание сережек и браслетов, ее аромат. Я представляю, что она уже с улицы звонит подругам. Я представляю, что они понимают; они придут, они поторопятся, и немногим позже они сидят в одном из баров квартала Глокенбах и, пропустив белое вино с минералкой, пьют сразу джин-тоник. Я представляю их в клубе, «P1», «Paradiso», «Первая лига». Я представляю, как она танцует. Я представляю, как она выглядит, когда танцует. Я представляю, что многие смотрят, как она танцует.
Я представляю, что люди на семьдесят два процента состоят из воды. Я представляю, что мы живем на шарике, который мчится вокруг Солнца со скоростью сто семь тысяч двести восемь километров в час. Я представляю кота, размазанного между состояниями «жив» и «мертв». Я представляю число π. Я представляю квадратный круг. Я представляю, как она спит с другим мужчиной.
Я гашу свет
Они ничего не знают. Они смотрят на меня так же, как раньше, когда я вхожу в здание, когда я прохожу между классицистских колонн под аркой из красного кирпича, когда я пересекаю холл с охранниками, темно-красными коврами на стенах, латунными дверными ручками и мраморным полом, это университет или казино? Они пока не реагируют на меня, они думают, если они вообще что-то думают, вот сейчас он пойдет и будет читать лекцию, но, скорее всего, они ничего не думают, я показываю пропуск, они кивают, едва заметно, они не говорят «нет, ты сюда не войдешь, больше никогда», пока не говорят.
Пока еще поднимаются уголки губ, а иногда подбородок или бровь, когда я вижу знакомые лица, в фойе, или в лифте, или в коридоре, я еще могу просто так зайти в аудиторию с номером, который запомнил, узнав дату доклада: 7112. В аудитории довольно много людей, человек пятьдесят.
Профессор, который пока считает меня своим гостем, пока еще представляет меня, еще говорит добрые слова обо мне и моем проекте и дальнем пути – из Германии в эту аудиторию, – на который я отважился, чтобы оказаться здесь, у них, и рассказать им, что я думаю. Они пока еще слушают.
Они смотрят на меня. Они смотрят на меня множеством глаз, все глаза разные, но все-таки все одинаковые – скептические. Они смотрят на меня. Я не смотрю на них. Они смотрят пристально. Я обвожу их взглядом, нескольких, одного за другим, третьего слева, вторую сзади, четвертую впереди справа, а потом останавливаюсь на одинокой ненужной розетке в правом дальнем углу аудитории. Аудитория больше в ширину, чем в длину. Это не плохо. Передо мной не аморфная масса, а лишь полоса распахнутых глаз, пять-шесть рядов в глубину, десять пар в ширину. Головы, в которых сидят эти глаза, приподняты, шеи вытянуты, такую позу можно было бы назвать гордой: Да, мы здесь и слушаем тебя, и да, мы достаточно образованны, чтобы быть здесь и слушать тебя, и да, мы образованны и сосредоточенны и, главное, достаточно быстры, чтобы понять, если ты допустишь ошибку, парень, если ты скажешь чушь, мы заметим это быстрее тебя, и потом мы тебе покажем. Мы поднимем руку, и ты поймешь, что сейчас получишь по ушам, и мы подождем, пока ты не обратишься к каждому из нас, по очереди, чтобы мы тебя размазали, как того требуют правила приличия, традиции и твои манеры, если они у тебя есть, а манеры у тебя наверняка есть, иначе ты не стоял бы сейчас здесь, это же City University of New York, сучонок, и мы занимаемся философией, так что смотри не облажайся с аргументами, добро пожаловать!
Есть ли у меня аргументы? Я вам с удовольствием скажу. Сейчас я вам все расскажу. Я хочу максимально точно объяснить вам, что такое сознание, ведь я так долго к этому готовился, так что я смотрю на первый слайд моей презентации в Power Point, а там написаны такие слова, как метарепрезентация, квалиа, интринзикализм, и вдруг они кажутся мне странными, ведь вообще-то я только хочу сказать очевидную вещь, которая и так всем известна, а именно: если человек, что-то делая, еще и думает, что он что-то делает, то он делает это не так хорошо, потому что часть того, что нужно, чтобы что-то делать или думать, тратит на то, чтобы думать – а что я тут вообще делаю?
Я вижу ваши голубые, зеленые, карие глаза, вашу желтую, белую, черную кожу, вижу волосы, если они у вас еще есть, вижу, позаботились ли вы о них сегодня утром перед зеркалом, и вижу, хорошо позаботились или плохо. Я вижу вашу одежду, майку, толстовку, кожаную юбку, рубашку и сапоги, и ортопедические шлёпки на сменку, и горные ботинки, кроссовки и туфли на шпильках с резиновой подошвой из-за дождя, я вижу цвет стены за вами и пигменты коврового покрытия, алюминиевые столы и стулья и темные вставки под дерево между ними, и еще я вижу, как в луче проектора кружатся пылинки.
Я вижу бутылку воды на кафедре рядом с моим ноутбуком, возле бутылки – стакан, и стакан этот так прозрачен и чист, бутылка тоже, но главное – вода, а потом я опять смотрю на лица передо мной, и на тела, и на стулья, на которых сидят тела, и на пол, на котором стоят стулья, там и сям я вижу пару ног, вижу столы, и стены, и вентиляционные решетки в потолке, и неоновые лампы, вижу тени, отбрасываемые телами в свете неоновых ламп, и тени все разные, потому что неоновых трубок много, и тел много, и много разных углов, под которыми свет неоновых ламп падает на тела, и я вижу, что всего так много и все такое разнообразное, а потом я опять смотрю на бутылку воды.
Я наливаю себе воды. Кто-то откашливается. Я беру стакан, подношу ко рту и не поднимаю глаз, потому что знаю: я могу сколь угодно долго смотреть туда, вперед, там ничего не изменится, там все так и будет – неровно, разноцветно, много, вода на вкус прозрачная и чистая.
– Excuse me? I think we are all curious to hear your talk. Would you like to begin?[28]
Я выпиваю еще глоток воды. Чувствую прохладу жидкости или скорее ее не-тепло, вижу ее не-цвет, осязаю ее не-форму. Я чувствую, как внутри меня что-то опускается и распространяется, вещество, которое происходит откуда-то извне, из конденсата в облаках, или из пород в недрах земли, или из равнинных рек или высокогорных озер. Я чувствую, как нечто, не бывшее мной, становится мной, оно становится частью меня, этот процесс идет где-то глубоко внутри меня, в темноте, и вода приобретает мою температуру, мой цвет, мою форму.
Она становится мной. А люди начинают беспокоиться. А я не обращаю на них внимания. Я смотрю на пылинки в луче проектора. И вдруг я понимаю. Я понимаю, как высокомерно считать, будто мозг чем-то лучше этих кружащихся пылинок, и я думаю, мой мозг всего лишь устроен немного сложнее этих пылинок, ровно настолько, что может размышлять, как это он так устроен, что может размышлять, как это он так устроен, и так далее.
И тут я понимаю, что каждая часть моего мозга сама по себе так же сложна и так же скучна, так же незначительна и так же прекрасна, как эти пылинки в луче проектора, поэтому я расслабляюсь, успокаиваюсь и решаю, что на сегодня я оставлю свой мозг в покое, отдохни, мозг, ты в порядке, смотри, пылинки, разве они не красивы?
И все вытекающие из этого вопросы вдруг теряют всякое значение и испаряются осторожно и тихо, и в голове у меня не остается ничего, кроме счастья от прозрачной воды в темноте внутри меня и от пылинок на свету передо мной, и я знаю: они наверное не знают, что они пылинки, но это не важно, ведь они есть и они красивы, они – пылинки.
А люди в аудитории шумят все громче и громче, и они говорят, this is ridiculous[29], и первые уже встают и собирают вещи, краем глаза я вижу, как они машут руками в мою сторону и качают головами, и двое из них уже идут к выходу, и внезапно мне становится еще легче, еще свободнее, еще лучше. Я знаю, я не сказал ни слова, потому что наконец понял, что слова не помогут, если хочешь узнать, что такое сознание, слова – это смерть сознания, переживания, а значит, и жизни. Вот какие вещи имеют значение, только они, и в каждой из них есть свое маленькое сознание, в сотни, в миллионы раз мельче, и честнее, и натуральнее, чем вот такое сложное, эгоцентричное сознание, как наше, мое или твое, мы – не мир, мир – это вещи вне нас.
Выходя из пустой аудитории, я гашу свет.
Я есть
В окнах – чернота
Я выхожу на улицу. Я переставляю ноги одну за другой, я двигаюсь в определенном направлении к определенной цели, я знаю цель, но мне не нужно о ней думать, потому что моя цель окутывает весь мой организм, я иду в кильватере, давай, вперед, туда, и мое отношение к моей цели такое же элементарное, и всеобъемлющее, и безличное, как связь между моими легкими и кислородом готовым к вдыханию, окружающим земной шар.
Я иду. Я останавливаюсь. Машина. Я иду дальше. Я перехожу перекресток Кент и Третьей Норд, и нейронный паттерн, независимый от ареалов мозга, формирующих мою личность и ее переживания, моделирует возможный маршрут: Метрополитен налево, Уайт направо, Первая Норд налево, Берри направо, Гранд налево, Бедфорд направо, Первая Саут налево, Дриггс направо, Вторая Саут налево, Рёблинг направо, Третья Саут налево, Хевемайер направо, Четвертая Саут налево, Марси, Марси, Марси. Я следую этим маршрутом.
Я вижу: еврейский супермаркет, еврейский шляпный магазин, еврейскую лавку старьевщика, еврейский строительный рынок, еврейскую аптеку, еврейскую почту, еврейскую мясную лавку с деликатесами, необязательно еврейский – во всяком случае, без ивритских букв – цветочный магазин, магазин одежды, тоже без намеков на религию владельца, а также: закусочную, стейк-хаус, стоянку стейк-хауса, охранника стоянки стейк-хауса, автобусное кольцо, автобусы, въезд на мост, мост, продавцов овощей под мостом, лавки старьевщиков под мостом, магазины электроники под мостом, магазины кроссовок под мостом, а потом – лестницу.
Мои подошвы касаются поочередно каждой ступеньки, рядом со ступеньками решетка, которая должна воспрепятствовать падению людей на дорогу, под колеса автобусов, такси, пожарных, грузовых и полицейских машин, затем платформа, вид с платформы на крыши, вид с платформы на фасады, вид с платформы на мост и на фасады и крыши за мостом, вид ожидаемо перекрывает прибывающий поезд подземки.
Поезд чистый и серебряный, он блестит, блестят двери подземки, которая называется подземкой, хотя здесь ездит над землей, двери открываются, я вхожу, вижу людей различных цветов и форм, в разной одежде, с разными целями, двери закрываются, подземка, которая здесь ездит над землей, отъезжает, она едет медленно, въезд на мост, сам мост, шум, сначала шум и вид с моста на воду, над ней: другие мосты, на них другие поезда, в них другие люди, другой берег, тоннель, грохот, звук разрушения пространства, насильственное разделение реальности на здесь и там, в окнах – чернота.
Или зеркала, в зависимости от фокуса, или изображения тел, и одежд, и поручней, и стоп-кранов, и всего, что вместе движется именно в этом отрезке Солнечной системы – заключенное в грохоте, оно несет этот отрезок мимо станций, на которых я не выхожу, мимо коротких перерывов в черноте на пути к определенному свету.
Я вижу пол внутри вагона, если смотреть из самого вагона, то он не движется, но с абсолютной точки зрения он движется и ускоряется по прошествии определенного отрезка времени, который рассчитывается из различных базовых свойств Вселенной, таких, как импульс, масса, инерция, гравитация. Я твердо стою на полу вагона метро, который несется все быстрее по четко определенному пути к четко определенной цели, моя рука сжимает металлическую штангу, на которой находятся микробы, не представляющие опасности для моей иммунной системы, я переношу свой вес с одной ноги на другую благодаря сигналам, исходящим от моих мышц и органа в слуховом проходе, пол движется, и система, расположенная у меня в ушах, заботится о том, чтобы сокращались именно те мышцы, которые должны сокращаться, чтобы я твердо стоял на полу, который движется по рельсам, проложенным по планете, которая тоже движется, а потом поезд останавливается, и я выхожу.
Я выхожу на улицу. Я пересекаю ее, оказываюсь на другой стороне, повсюду дома, они из дерева, камня и стали, из гипса, штукатурки и стекла, и я иду мимо них, а потом останавливаюсь перед одним из домов, прямо перед проемом в его середине, один метр в ширину, два метра в высоту, а над проемом вывеска, и я поворачиваю тело, которое и есть я, на девяносто градусов вправо, к проему, в проеме темно, почти черно, и я вхожу в проем, и вот я внутри.
Я чувствую, как бьется мое сердце
Я стою в темном помещении. Мои подошвы стоят на полу. Пол примыкает к стенам, на которых висят предметы, выделяющиеся на фоне стены, материалом, цветом и назначением. Я стою в темном помещении, рядом со мной кто-то стоит, рядом с ним тоже, и перед ним, и за ним, точное число стоящих никто не считал, но их много, тела стоящих соприкасаются, их голоса и взгляды тоже, и вместе им удается поднять температуру в помещении до такого уровня, какой каждый из них по отдельности назвал бы невыносимым.
Я чувствую, как возрастает уровень шума в момент, когда на экране над стойкой бара появляется мяч, лежащий на столе, на фоне поля, в конце коридора, а рядом с мячом стоит кубок, и в помещении, где стою я, в других, где я не стою, на другой стороне улицы, города, континента и океана люди говорят хоть и не больше и не быстрее, чем раньше, но громче.
Невообразимое число пар глаз воспринимает невообразимое число воспроизведенных с разным разрешением копий изображения мяча рядом с кубком, звук телевизоров приходится прибавлять, потому что разговоры перед телевизорами стали громче, потому что голоса телевизионных комментаторов стали громче, потому что разговоры на десятиэтажном круге, окаймляющем поле, на фоне которого лежит мяч на столе рядом с кубком, стали громче.
Они говорят об игре, что была позавчера или пять дней назад, или о политике, о странах, где люди гибнут, чтобы спасти от гибели других людей, и они немножко ругают мусульман, если сами они не мусульмане, или христиан, если сами они не христиане, или религию, глупость, отсталость и бедность, в которой те сами виноваты. Еще они говорят о новой песне того-то, об одежде такого-то бренда, о своих зарплатах, налогообложении, акциях, процентах и грабительских банках, о домашних животных, детях, школах и подростковой преступности, об иностранцах, машинах, сиськах и о пиве.
В их голосах появляется что-то режущее, значительное, хотя они знают, что говорят о банальных вещах, или как раз поэтому, и чем дольше длится разговор, тем яснее они понимают, что дело совсем не в том, что они говорят, а в том, где они это говорят, когда говорят и как говорят – сейчас, когда вот-вот начнется оно; и разговоры миллиардов людей, каждый из которых в среднем произносит по три слова в секунду, разбросанные по ста девяноста четырем странам и всем временным и климатическим поясам, – это всего лишь случайно изданные голосовыми связками и артикулированные речевым аппаратом звуковые волны, распространяющиеся в азоте, углекислом газе и кислороде, у них нет никаких функций, кроме преодоления отрезка времени, необходимого для их затухания, и они становятся жестче, точнее, короче, громче, четче, настойчивее, выше, живее, эти слова нетерпеливо ждут чего-то, что не имеет совершенно ничего общего с их словарным значением, и те, кто произносит эти слова, прекрасно об этом знают, и они всё говорят и говорят, а камера переходит по диагонали от мяча рядом с кубком на столе через газон к человеческой стене на заднем плане и обратно к мячу и столу и дальше, в темный коридор. В коридоре какое-то движение.
Я вижу, что в коридоре происходит какое-то движение, и чувствую легкую тянущую боль в нижней части позвоночника, только легкую, к счастью, я заранее выпил половинку ибупрофена, уверен, все будет хорошо, и моя уверенность основана в равной мере на ибупрофене и игроке, на футболке которого будет номер семь, когда он выйдет из коридора, где как раз сейчас какое-то движение, еще не видно, что там движется, возможно, это игрок с номером семь на футболке, я переношу вес на ту ногу, которая сейчас сильнее, отпиваю глоток пива, отвожу спину от стойки, опираюсь на стойку правым локтем, отпиваю еще глоток пива, поворачиваюсь на девяносто градусов, снова прислоняюсь, ставлю пиво на стойку. Какое-то время я стою так и вижу в коридоре какое-то движение, и у этого движения совершенно определенный цвет, и я еще не знаю точно какой, но вижу, что это один цвет, совершенно определенно, и я замечаю, как голоса вокруг меня становятся еще громче, и температура еще выше, и локти еще жестче, и животы еще мягче, и ягодицы еще крепче, и я отталкиваюсь от стойки и делаю шаг в сторону, обхожу чью-то ногу на полу, наступаю кому-то на ногу, кто-то наступает на ногу мне, и я говорю, извините, козел.
Я говорю козел, увидев, что первый, кто выходит из коридора, носит форму определенного цвета, я говорю оле, я ничего не говорю, я только пью пиво и уверенно хватаю за бедра женщину, стоящую вплотную ко мне, я смотрю на ее зад, заглядываю ей в вырез, я тоже, а я нет, и смотрю только в темный коридор, на парней, которые выходят оттуда на свет и шум миллиардов. Они идут.
Я отпиваю глоток пива. Они идут. Я налоговый консультант. Они идут. Я консультирую людей, у которых возникают вопросы по поводу их налоговых отчислений, я в этом разбираюсь, к счастью, поэтому я могу стоять здесь, заказывать пиво, платить и пить, а они идут, в форме правильного и неправильного цвета, и выбегают на газон, и я отпиваю глоток пива. Я отпиваю глоток пива, я ночной сторож, а они выбегают на газон, и некоторые из них машут мне, я охраняю объекты, которым нужна охрана, я обеспечиваю им охрану, и, когда закончится испытательный срок, я получу оружие, «Хеклер и Кох», калибр девять миллиметров, и надеюсь, мне не придется никому стрелять в лицо, я миролюбивый человек, некоторые из них пожимают друг другу руки, хотя на них форма разных цветов, но, если кто-нибудь посягнет на объект под моей охраной, бум. Я отпиваю глоток пива, а они бегут легко и пружинисто к бровке поля внутри десятиэтажного круга, я жестянщик, автомеханик, мехатроник выдвижных навесов, а они делают несколько прыжков, разминая мышцы, я латаю лопнувшие трубы, они поправляют гетры и щитки, я занимаюсь защитой бензоколонок от взрывов, они выстраиваются для общекомандного фото, я слежу за тем, чтобы тормоза тормозили, я занимаюсь коммутаторами, моторами и шарикоподшипниками, которые управляют светом и тенью, я менеджер инвестиционного банка, я безработный, я учитель, я журналист, я страховой агент, я занимаюсь тем, чем занимаюсь, потому что могу. Вот они. Я отпиваю глоток пива.
У меня есть волосы. У меня есть кожа. У меня есть сердце. У меня есть имя. Этим утром я избил мужчину. Прошлой ночью я с женщиной зачал ребенка. У меня болит зуб. У меня носки разного цвета. Я бы никогда не признался, что молюсь перед сном. Иногда я смотрю в окно. Я знаю семь разновидностей цветов. У меня есть мать. У меня есть сад, в котором дорожка ведет через лужайку, дорожка из чистого белого камня. Вчера в конце смены в родильной палате я выкинул полный мешок плацент. Я уснул у мусорного бака и чувствовал щекой мельчайшие неровности асфальта. Вчера я дал попрошайке пятьдесят центов, а он, увидев, что я отдал последнее, двадцать пять вернул мне, и я сказал спасибо. Однажды я обоссал кошку, я был пьян, было довольно весело. Однажды я уже симулировал оргазм. Я этого не заметила. Во время конфирмации я думал о дерьме, светло-коричневом, мягком дерьме, не в горшке или на какой-то поверхности, а о дерьме, свободном от мира, о дерьме как таковом. Я сконструировал себе проект жизни, в котором царит баланс между деньгами, спортом, полноценным питанием, любовью и сном. У меня есть свитер, немного застиранный и коротковатый, но он все-таки греет, поэтому я его ношу, ведь иногда на улице еще по-настоящему холодно, хоть и апрель на дворе.
Вот они. Стоят на поле, одни в форме одного цвета, другие – другого, и люди вокруг меня больше не пытаются артикулировать звуки, идущие из их ртов и носов, – мы кричим.
Они разбегаются по полю, мы кричим, они выглядят решительно, молодо и смело, мы кричим, и еще они делают вид, будто мяч, который прямо сейчас устанавливают на белой точке в середине зеленого поля, в окружении усыпанных людьми стен, телекамер, всего мира, – не так уж важен. Мы кричим. Они поднимают головы к этим стенам, показывают лица камерам и всему миру, они готовы и согласны, что мы наполняем их нашими надеждами, нашей яростью, нашим гневом, они несут все это для нас и берут с собой, когда устремляются навстречу нашим врагам. Мы кричим.
Вот я хватаюсь за холодную железную решетку между трибуной и полем. Вот я кладу пульт от телевизора на журнальный столик. Вот я касаюсь газона, вот выдергиваю несколько травинок, вот растираю их в пальцах, вот я крещусь. Я чувствую, как бьется мое сердце. Я киваю остальным. Теперь я вижу только мяч.
Над книгой работали
Редактор В.И. Генкин
Корректор Т.В. Калинина
Художник А.П. Иващенко
Художественный редактор К.Ш. Баласанова
Издательство «Текст»
E-mail: text@textpubl.ru
[битая ссылка]
Электронная версия книги подготовлена компанией [битая ссылка] Webkniga.ru, 2017
Примечания
1
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– У вас проблема со страховкой (англ.). (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)2
– В договоре не указано, кто берет на себя расходы на доставку вашего тела в Германию.
– Я не понимаю.
– Если вы, упаси Бог, здесь умрете (англ.).
(обратно)3
– Но в моем полисе написано, что страховка покрывает все расходы.
– Да, это я видела. Но там не написано, кто оплатит доставку ваших останков в Германию.
– Но разве это не входит во все расходы?
– Здесь этого не написано.
– Я уверен, что входит.
– Боюсь, этого недостаточно. Мне нужно, чтобы ваша страховая компания это подтвердила (англ.).
(обратно)4
…прекрасно подходит для личного пользования, мне нравится Бог… это очень хорошая штука (англ.).
(обратно)5
Пока-пока. (англ.)
(обратно)6
Вы уходите? Это вы зря (англ.).
(обратно)7
Тебе нравится Нью-Йорк? (англ.)
(обратно)8
В чем твоя проблема? (англ.)
(обратно)9
У меня нет проблем (англ.).
(обратно)10
Старик умирает, молодая женщина живет – честная сделка (англ.).
(обратно)11
ADAC – Всеобщий немецкий автомобильный клуб. Автомобили и вертолеты службы техпомощи ADAC всегда желтые.
(обратно)12
«Бельевая лига» (англ.).
(обратно)13
Проезд под Манхэттенским мостом (англ.), также известный как DUMBO.
(обратно)14
Гулянка по случаю дня рождения, Восточная девятая улица, авеню А (англ.).
(обратно)15
– Вы знакомы с критикой Неда Блока моей идеи о бесцельных мыслях высшего порядка? (англ.)
(обратно)16
– Кажется, он спрашивает, как пустая мысль ни о чем может создавать сознание?
– Верно. И что бы я на это ответил?
– Думаю, вы бы ответили, что бесцельные мысли высшего порядка обуславливают не сознание как таковое, а только предрасположенность к нему.
– Верно. Так почему же вы здесь предполагаете, что сочетание саморепрезентационализма Кригеля и панпротопсихизма Чалмерса дало бы решение проблемы бесцельных мыслей высшего порядка, если на самом деле, как вы только что сказали, они вообще не ставят такую проблему? (англ.)
(обратно)17
Потому что мне трудно понять, что такое мысль без какого бы то ни было содержания, я полагаю мысли функциональными структурами мозговой деятельности, а как мысль, лишенная содержания, может иметь какую-то функцию? (англ.)
(обратно)18
Функция мысли – не иметь никаких функций (англ.).
(обратно)19
Понимаю (англ.).
(обратно)20
– Вы счастливы в Нью-Йорке?
– Да.
– Чем занимаетесь?
– Чем я занимаюсь? (англ.)
(обратно)21
– Когда не работаете над этим (англ.).
(обратно)22
– Гуляю. Слушаю музыку (англ.).
(обратно)23
– Встречаетесь с кем-то?
– Иногда.
– Познакомились с кем-нибудь из студентов?
– Да.
– Ходите выпить пива?
(обратно)24
– Ходим (англ.).
(обратно)25
– Прекрасно. Никогда не забывайте: вы в Нью-Йорке. Ходите куда-нибудь. Знакомьтесь с людьми. Развлекайтесь. Не засиживайтесь дома. Не работайте слишком много. Этим вы сможете заняться, когда вернетесь в Германию.
– Вы правы, профессор. Большое спасибо (англ.).
(обратно)26
Прочное основание (англ.).
(обратно)27
Перечитайте некоторые основополагающие вещи. Всегда полезно строить доказательство на прочном основании (англ.).
(обратно)28
– Извините, думаю, нам всем интересно вас послушать. Может быть, вы начнете? (англ.)
(обратно)29
Это нелепо (англ.).
(обратно)




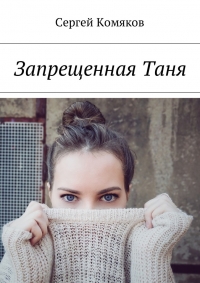

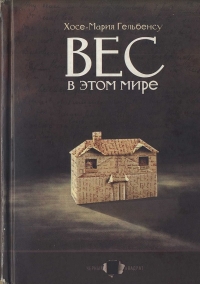





Комментарии к книге «Любовь. Футбол. Сознание.», Хайнц Хелле
Всего 0 комментариев