Васкен Берберян Дети разлуки
Издание опубликовано при содействии ELKOST International Literary Agency
Переведено по изданию: Berberian V. Sotto un Cielo Indifferente: Il romanzo / Vasken Berberian. – Sperling & Kupfer, 2013. – 492 р.
© Sperling & Kupfer Editori S.p.A., 2013
© Shutterstock.com /…… CHRISTOPHE ROLLAND, обложка, 2015
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2015
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2015
* * *
Эта книга – вымысел. Имена, персонажи, места и события – плод фантазии автора или использованы им в воображаемых ситуациях. Всякое сходство с реальными событиями или людьми, в прошлом или настоящем, лишь простое совпадение.
Посвящается Новарт и ее братьям
Предвидение
Ты и я – дети. Мы играем вместе. Вокруг очаровательный пейзаж, я не могу понять, где это, но он мне очень знаком. Мы бросаем камешки с берега бухты. Голыши легко подскакивают на водной глади, будто совсем невесомые. Каждый из нас пытается забросить свой камешек как можно дальше. Мы стоим рядом, ноги утопают в песчаной кромке. С трепетом следим за нашими бросками, но победителя нет. Нам это становится ясно сразу же. Хотя дымка не позволяет хорошо разглядеть, мы уверены, что там, далеко, траектории наших голышей из-за странного оптического эффекта сходятся и совпадают в одной точке. Мы смотрим удивленно, как зрители смотрят на фокусы, потом бросаем еще два камешка, следим за ними, пока они вновь не достигнут той точки, где совпадут, как по волшебству. Мы улыбаемся, довольные, и бросаем еще много других голышей, с детским упорством, будто бросая вызов волшебным фокусам залива, которые так и остаются неразоблаченными. Я поворачиваюсь посмотреть на тебя и задерживаю взгляд на твоем лице, таком похожем на мое, и пугаюсь, потому что ты вдруг удаляешься. Ты уходишь все глубже в воду прямо в одежде с последним камешком в руке. Ты отплевываешься, будто хочешь развеять заклинание, связывающее наши голыши, и, не обращая внимания на ледяную воду, решительно наступаешь.
Я хочу позвать тебя, но не знаю твоего имени, а потом неожиданно ты исчезаешь, будто поглощенный пустотой. Я не хочу терять тебя, дорогой друг, и тоже бросаюсь в воду, идя по следам, оставленным тобой на дне, и ища тебя повсюду. Наконец-то я нахожу тебя, но только потому, что, обернувшись назад, вижу тебя на берегу, на том самом месте, где совсем недавно стоял я. Ты стоишь с виноватым видом того, кто знает, что подверг меня серьезной опасности. Но я больше удивлен, чем рассержен, и досадую на самого себя за свою наивность, за то, что попался на крючок и последовал за тобой. Но потом я замечаю, что держу в руке тот самый камешек, что ты сжимал в кулаке, когда бросился в воду, и теперь я стою на твоем месте, как если бы вдруг стал тобою, а ты – мной. Клянусь, я больше не понимаю ни этой игры, ни смысла происходящего и некоторое время, не шевелясь, размышляю в подвешенном состоянии, как водяная молекула из окружающего нас тумана. В конце концов, хотя это невозможно, мне кажется, что я знаю, что ты думаешь, и даже более того, я чувствую то же, что и ты. Не из-за какого-то дара предвидения, а потому – и для меня это яснее ясного – что мы с тобой состоим из одного вещества, мы одна плоть, разделившаяся надвое.
Я вижу, как с берега ты взволнованно машешь мне, потому что понял, что я начинаю тонуть. Не делай так, прошу тебя! Не ты же установил правила этой игры.
Молчи и смотри!
Бухта превращается в реку. В бурную реку. Успокойся, сейчас я отдамся течению, и оно унесет меня туда, куда я хочу. Я не чувствую больше никакой обиды, только немного грустно, наверное, и жаль тех счастливых мгновений, что мы провели вместе.
Ты и я.
Мучение
1
Патры, Греция, 1937 год
– Любимая, мне надо идти, – прошептал Сероп жене.
Сатен повернулась в кровати с легким вздохом. Свет от масляной лампы, стоявшей на столике, блеснул в ее глазах, и, как всегда, Сероп был ослеплен их теплой янтарной красотой, золотисто-прозрачной, других таких он в жизни не встречал.
– Сейчас встану, – прошептала она в ответ, будто боялась кого-то разбудить, хотя они были одни.
– Нет, поспи еще, – сказал муж полным любви и заботы голосом.
Была глубокая ночь, и ему хотелось, чтобы Сатен отдохнула еще немного, но она уже сидела на краю кровати и искала тапочки.
Сатен была молода, хотя даже она не знала точно, сколько ей лет. Из рассказов, что она слышала, выходило, что она родилась весной 1919 года, за три года до трагедии Смирны, когда ужасный пожар, устроенный Младотурками[1], уничтожил этот прекрасный приморский турецкий город. В тот страшный день адского пламени и дыма маленькая Сатен потеряла всю свою семью и осталась одна на белом свете. Так что никто не мог с уверенностью сказать, когда она родилась.
– Я положу тебе свежий хлеб, его принесла Луссиа-дуду, – сказала она, надевая поношенный халат, слегка подпоясав его на талии.
Она была высокая и стройная, с гордой осанкой и длинными черными как вороново крыло волосами с синим отливом. Сероп все время засматривался на жену и повторял, что Бог незаслуженно осчастливил его, одарив такой женщиной. Взгляд его скользнул ниже и задержался на ее упругом круглом животе, который увеличивался с каждым днем: Сатен ждала ребенка.
– Съешь ты, это тебе нужно копить силы, – попросил он, опустив голову.
Беременность Сатен переполняла его гордостью и в то же время тревожила. Сероп был беден, как и все армянские беженцы в лагере, и мысль стать отцом в таких условиях железными клещами сжимала ему сердце, лишая сна.
В комнате, где они жили, едва помещались кровать, стол и один стул. В тех редких случаях, когда молодожены ели вместе, один из них должен был устраиваться на кровати. У них не было шкафа, и вещи просто развешивались на веревке, растянутой от одной стены к другой. Сбоку от двери, под открытым окошком, ютившимся почти у самого потолка, была пристроена металлическая раковина, из которой вода стекала в широкий таз. Сатен, как и другие женщины в лагере беженцев, вынуждена была сливать воду из таза прямо во дворе по нескольку раз в день. Над раковиной висел маленький жестяной умывальник с краником, который Сатен наполняла водой, взятой их городских фонтанов. На передней стенке умывальника читалось греческое слово «калимера» – добрый день, – окруженное цветочным орнаментом, и, когда Сатен пользовалась умывальником, ее взгляд неизменно падал на это пожелание и ей становилось немного веселей. Чуть в стороне, в деревянном шкафчике, который Сероп прибил к стене, хранились тарелки и две кастрюли – одна маленькая, а другая чуть побольше. На полу, слева от раковины, на нескольких кирпичах стоял примус. Требовалась немалая сноровка и осторожность, чтобы зажечь его, так что Сероп часто спрашивал себя, как это его жене удается готовить такие чудесные блюда на столь скромной и неудобной кухне.
– Вот, возьми, – сказала она, положив на стол узелок с хлебом, оливками и козьим сыром, чтобы он взял его с собой на фабрику.
Она двигалась несколько с трудом, и у нее появилась легкая одышка.
– Обещай мне, что снова ляжешь в постель, – нежно выговаривал он жене: у Сатен уже был один выкидыш.
Молодая женщина улыбнулась, показывая резцы с небольшой щербинкой. Сероп влюбился в нее именно из-за этой очаровательной особенности, заметив, как ее розовый язычок трепетал в щелке, когда она разговаривала.
– Хочу помочь тебе сшивать носки у тапочек, – заявила ему жена.
Он покачал головой:
– У тебя и так дел полно. Прибраться, постирать, приготовить еду и все остальное.
– Мне вовсе не тяжело, и я хочу помочь тебе. Чем больше ты сделаешь, тем больше заработаешь, – заявила она твердо.
С того дня, как он узнал, что в семье будет пополнение, Сероп решил найти вторую работу. Он был еще молод, силен, и тяжелый труд не пугал его. Как большинство мужчин в лагере беженцев, он работал на текстильной фабрике «Марангопулос», но, чтобы сводить концы с концами, решил использовать навыки башмачника. Этому ремеслу научил его отец, Торос-ага, у которого в свое время в городе Адапазары, в Турции, была одна из самых красивых обувных лавок, знаменитая «Алтин Чичек» – «Золотой Цветок». В перерывах между сменами на фабрике Сероп мог бы шить красивые, мягкие фетровые тапочки, как те, что делал его покойный отец. Он был уверен, что смог бы выгодно продавать их и зарабатывать необходимое. Сероп даже купил швейную машинку на воскресном блошином рынке в Ая-Варваре[2] – скорее хлам, чем полезную вещь; он разбирал ее по частям, а затем терпеливо собирал, пока она не заработала.
– И смотри, не поднимай ничего тяжелого, – продолжал выговаривать он, вспомнив о выкидыше.
Он хранил швейную машинку под кроватью, но уже несколько раз обнаруживал ее на столе, а Сатен за работой – она сшивала носки тапок, прекрасно справляясь, как прилежный подмастерье.
– Тогда вытащи ее сам, прежде чем уйти. Чего ты ждешь? – возразила она и засмеялась.
Сероп подумал, что он самый везучий человек на свете.
Выйдя из дома, он быстрым шагом прошел вдоль бараков, как две капли воды похожих на его жилище, из которых и состоял лагерь беженцев, где он жил вот уже пятнадцать лет.
Армяне прибыли в Грецию из Турции, как и другие тысячи беженцев в конце 1922 года, на борту союзных французских, английских и итальянских кораблей, которые спасли их от неминуемой смерти после ужасных последствий греко-турецкой войны. Они прибыли на Эгейские острова, многие остались в Афинах, другие поселились в более крупных городах. До Патры они добирались сначала морем, а потом поездом, с трудом волоча за собой то немногое, что им удалось увезти из мемлекет[3], прежней родины. Серопу было всего двенадцать, но он так никогда и не забыл взгляд отца в момент, когда они впервые спустились на платформу в Патрах. «Это красивый город, сынок, – пробормотал он, глядя на море и зеленые холмы, – но нет места милее, чем наш Адапазары. Ты молод, ты привыкнешь, а моя жизнь на этом закончилась», – добавил он с горечью.
Городские власти собрали их всех в одном месте, около собора Святого Андрея, покровителя Патры. Там были драгоманы – переводчики, которые с трудом пытались говорить с этими беднягами. Нужно было записать их имена, даты рождения, откуда они родом, а самое главное – вернуть им человеческое достоинство, которого их так жестоко лишили. Вместе с переводчиками служащие Красного Креста и других гуманитарных организаций помогали беженцам заполнять заявки на поиск членов их семей, потерявшихся во время эвакуации.
Торос-ага, отец Серопа, попросил сына подать заявку на розыск любимой племянницы Мириам, дочери умершей сестры. Она училась в американском колледже в Стамбуле, но известий от нее не было с самого начала военных действий. Потом их разместили на заброшенной полуразрушенной фабрике, в говуш – лагере армянских беженцев. Развалюха, как вскорости ее прозвали, – убогое место, но единственное имевшееся в их распоряжении в той чрезвычайной ситуации. Греция и сама была бедной страной, а война с турками, закончившаяся катастрофой, поставила ее на колени. Непрекращающийся поток греков, бегущих из Смирны, из Восточной Фракии, Понта[4], из всех тех земель, которые приходилось покидать после войны, обрушился на страну. Армяне были приняты лишь благодаря искреннему чувству гостеприимства и несомненным узам, существовавшим между двумя народами. Армениде, как их тогда называли, засучили рукава и сразу же взялись за дело. Каждый взял себе участок внутри здания и во дворе и с помощью металлических листов, досок и кирпичей, сделанных из глинистого раствора, худо-бедно соорудил собственный уголок. Целью каждого нового дня было только одно – выжить. Чтобы как-то выкручиваться, нужно было выучить новый язык, найти работу, ухаживать за больными и, что еще хуже, за теми, кого поразила неизлечимая болезнь – ностальгия. Иногда случалось, что кто-то просыпался глубокой ночью и кричал по-турецки: «Бен мемлекет гидиорум! Я возвращаюсь на родину!», – и было странно слышать, как бедняга называл «родиной» страну, которая подвергла его гонениям и пыткам.
С течением времени беженцы привыкли к новым условиям: дети выросли, молодежь переженилась, родились новые дети на новой родине. Красный Крест совершал чудеса, воссоединяя множество семей и находя многих пропавших без вести. Так и Торос-ага был несказанно счастлив, когда узнал, что племянница Мириам жива и здорова, живет за океаном, в Лос-Анджелесе. Мириам забрасывала их письмами, приглашая всякий раз переехать в Соединенные Штаты. Она вышла замуж за весьма влиятельного американского дипломата, так что добыть им визы и необходимые документы для экспатриации не составило бы труда.
«Позвольте мне хотя бы частично отплатить за Вашу щедрость, дорогой дядя. Если бы не Вы, я не смогла бы даже пройти рядом с престижным колледжем в Стамбуле», – просила она в письме, намекая на материальную поддержку, которую несколько лет получала от Торос-ага. Но он, уже глубокий старик, продолжал отказываться. «Да ниспошлет тебе Бог, дорогая племянница, благословение и счастье, – отвечал он, – но, если Господь захотел разделить нас, мы должны смириться с Его волей».
Старики больше всех страдали от вынужденной эмиграции и необходимости жить в диаспоре, многие не пережили внезапной потери того, что создавалось ими в течение всей жизни. Торос-ага был одним из них.
Спустя лишь год после прибытия в Патры, в ночь перед смертью, он призвал Серопа к себе и, взяв за руку, прошептал: «Сын мой, я прожил столько, сколько отвел мне великодушный Господь. Я ни о чем не жалею, кроме одного: мне жаль, что пришлось растить тебя одному, без матери». Услышав это слово, Сероп нахмурился. Лишь однажды они говорили на эту болезненную тему, когда Сероп еще ребенком, вернувшись домой из школы в слезах, спросил его: «Все говорят, что мама была шлюхой, почему ты скрывал от меня?»
Торос-ага отвесил ему оплеуху. «Не смей так называть свою мать!» – сурово произнес он, а потом закрылся в своей комнате, даже не выйдя к ужину. Но той ночью, перед смертью, Торос-ага почувствовал необходимость раскрыть семейную тайну, которая тяготила его.
– Твоя мать, – начал он, – была первой красавицей Адапазары…
– Отец, прошу тебя, – остановил его Сероп.
Но он замахал костлявой рукой, прося не перебивать.
– Она была не только самая красивая, но и самая желанная. Может быть, только у ангелов небесных бывает такой же свет в глазах, такая же легкая походка, такое же идеальное тело. И Господь подарил ее мне. Я работал денно и нощно в лавке, чтобы заработать как можно больше денег. Я должен был позаботиться об оплате колледжа Мириам, платить за аренду лавки, содержать красивый дом, в котором мы жили. Но я стал слишком алчным, ненасытным. Как я был глуп! Глуп и слеп. Так я потерял ее, – продолжал он. – Она была очень молода, намного моложе меня, а ты только что родился. Я возвращался поздно, а она ждала меня, прихорашивалась, ублажала меня своей стряпней, ласкала, а я, дурак, не обращал на это внимания. Она умоляла меня, хотела, чтобы я любил ее, чтобы мы проводили немного времени вместе, а я пожертвовал ее любовь на алтарь бога денег…
– Но ты возвращался домой таким уставшим, отец! – пытался оправдать его Сероп, краснея от смущения.
– Неправда, это была только моя вина! – воскликнул старик, качая головой. – Однажды вечером, придя домой, я не застал ее. Она оставила все, не взяла ничего с собой, и исчезла. Никогда больше я не видел ее.
Он замолчал, остановив на сыне взгляд мудрого человека.
– Ты уже достаточно взрослый, – продолжил он, – скоро можешь жениться. И даже если меня не будет рядом, помни: люби свою жену, заботься о ней, относись к ней как к самому нежному и драгоценному цветку в мире.
Неожиданно Торос-ага заплакал. Сероп наклонился, чтобы осушить его слезы.
– Ты всегда спрашивал, как ее звали…
Сероп напрягся. Несколько лет он пытался узнать у отца имя матери, единственное, что мог бы сохранить в памяти о ней. Но отец молчал, он боялся сломаться, лишь только произнесет это имя.
– Сирануш, Нежная любовь, – прошептал он наконец на ухо сыну.
Это были его последние слова.
Когда девушки подрастали и были на выданье, в лагере начинали бурную деятельность чопкатан, свахи, комбинируя свадьбы. Они ходили по домам возможных претендентов и за чашкой кофе и вазочкой фруктов в сиропе начинали плести свои сети. Они вели самые невероятные разговоры, делали самые абсурдные прогнозы: «У нее волшебные ручки, за что бы она ни взялась, все превращается в золото», или: «С такими белыми зубами она наверняка будет рожать только мальчиков», или еще: «Она родилась в субботу, кто женится на ней, тому будет сопутствовать удача», и другие похожие глупости – все, чтобы польстить тому, кто их слушал в этот момент, и убедить, что другой такой жены и невестки не найти, что она просто сокровище.
Однако ни одна чопкатан не ударила палец о палец для Сатен, хотя девушка была в том возрасте, когда пора уже выходить замуж. Когда она шла по лагерю с джарой[5] на плече, намереваясь наполнить ее водой из фабричных кранов, мужчины не могли оторвать от нее глаз. Они любовались ее крепкими бедрами, упругой грудью, янтарным цветом глаз и толкали друг друга локтями, шушукаясь между собой, даже краснели, но не делали никаких шагов навстречу. И не потому, что она была сиротой и бесприданницей. Как только Сатен попала в Патры, ее взяла к себе Розакур, одинокая старая беженка. Она вырастила ее и, самое главное, выучила. Розакур, в прошлом преподаватель иностранных языков, была ориорд[6] и учительницей общины. В крохотной комнатке при церкви в Ая-Варваре беженцы пристроили несколько парт, закрасили черной краской одну из стен вместо школьной доски и устроили теброц, первую армянскую школу в Патрах. Это была начальная школа, где дети учились читать и писать на армянском, греческом и английском языках, и Розакур руководила ею.
«Я оставлю тебе мои бурма[7], – обещала она Сатен, позвякивая множеством золотых браслетов на запястье. – В качестве приданого этого хватит», – уверяла она.
Она не считала, что замужество – единственная возможность для женщины обрести счастье, были и другие пути, но ей не хотелось, чтобы девочка грустила. «Смотри, их шестнадцать, – уточняла она. – Знаешь, что это означает? Что ты выйдешь замуж до того, как тебе исполнится шестнадцать лет». До того дня рождения оставалось несколько месяцев, но ни один мужчина еще не просил руки Сатен.
Злые языки говорили, что она странная, что в ней есть что-то коварное и нехорошее. Действительно, случалось, что Сатен, особенно в детстве, просыпалась ночью и, корчась, начинала кричать и метаться в кровати в сильном эпилептическом припадке. Кто видел ее в том состоянии, а таких было немало, учитывая, как тесно было в лагере, рассказывали о жутких криках, похожих на визг свиней на бойне, и ее искаженном от ужаса лице, будто она видела дьявола во плоти.
«Яцик, жаль, такая красивая девушка. Лучше, если Бог лишит тебя телесного здоровья, чем душевного», – так заканчивались все разговоры о ней. «Боже упаси, такие болезни передаются от матери к деткам!» С таким приговором никто не желал сватать Сатен за своего сына.
– Дочка, вставай и идем к доктору, – сказала однажды Розакур после очередного припадка. Надо было срочно начинать лечение.
– Нет, бабушка, не нужно, – возразила Сатен. Это был первый раз, когда она заговорила после приступа. Обычно она подолгу молчала, прежде чем ей удавалось составить фразу со смыслом. – Я сама поправлюсь, – произнесла она решительным тоном.
– И как же? – спросила, вздохнув, Розакур.
– Достаточно не обращать внимания на призраков, и я избавлюсь от видений, которые преследуют меня.
Розакур взяла ее за руку и нежно поцеловала.
– О чем ты говоришь, детка?
Сатен свернулась калачиком в ее объятиях, дрожа, как испуганный котенок.
– Я вся горю, бабушка, вся горю. Я в огне, и красные языки пламени хотят поглотить меня. Я хочу убежать, но не могу, и тогда я кричу, плачу и потом просыпаюсь…
Старая женщина почувствовала, как подкатывает комок к горлу. Она поняла, что болезнь Сатен была глубокой душевной травмой, отзвуком болезненного и тяжелого опыта, пережитого в раннем детстве.
В ту среду, 13 сентября 1922 года, маленькая Сатен играла в саду у дома, в Эрмени махалла, богатом армянском квартале, раскинувшемся на цветущих холмах Смирны. Она только что закончила обедать вместе с матерью, няней и братом чуть старше ее. Дни стояли жаркие, и они по привычке ели на веранде, откуда открывался великолепный вид на городской порт. Она знала, что мама вскорости отведет ее в детскую, почитает сказку, а потом уложит в постель на обычный полуденный отдых. Отец был еще на работе, в известном ювелирном магазине в порту, доставшемся ему по наследству от деда, и не вернется домой до сумерек.
Вдруг голубое небо почернело, и пылающее облако, плотное и едкое, накрыло весь квартал. Мама и няня испугались. Сатен помнила, как ее схватили за руку, ее и брата, и как очень долго, бесконечно долго она стояла так, а мать не знала, что делать и куда бежать. Дом охватило пламя, и языки этого адского чудовища уже высовывались из окон и дверей. Где-то страшно грохнуло, что-то взорвалось. Сад был окутан в черное облако, плотное и удушливое. Все стали кашлять: и мама, и брат, и няня, и она тоже.
«Я ничего не вижу», – хныкала она в дыму.
Один из карнизов сорвался, и почти сразу же у входа рухнули красивые пилястры девятнадцатого века. Мама издала хриплый звук и высвободила руку.
– Майрик[8], где ты? – Девочка бродила с закрытыми глазами, спотыкаясь о груды обломков.
– Сестричка, иди сюда! – кричал Амбик, брат.
– Куда? – едва успела спросить она, как новый взрыв засыпал все вокруг кирпичами, черепицей и деревянными щепками. – Амбик! – звала она отчаянно, но ответа так и не последовало.
Она помнила, что начала плакать, испуганно всхлипывая. Сад был весь в огне: раскидистые пальмы, красные розы, белые агапантусы. Растения горели, как факелы, охваченные всепоглощающим пламенем. Когда с огромной тысячелапой пихты дождем посыпались шишки, похожие на пылающие гранаты, Сатен бросилась к садовой калитке и выскочила на улицу вместе с другими людьми, жившими в квартале, который уже превратился в один огромный костер. Повсюду слышны были крики и стоны, а иногда отдельные выстрелы. Все бежали вниз, к порту, к морю, и этот людской поток увлек и маленькую Сатен. От едкого дыма слезились глаза и першило в горле, она постоянно спотыкалась о разные предметы, запрудившие улицу, а чаще всего о трупы.
– Дай ручку, девочка, – обратился к ней приличного вида мужчина, по крайней мере, она так поняла по его протянутой к ней руке, потому что человек говорил на языке, которого она не знала. – Где твои мама, папа? – спросил мужчина, но она только качала головой и плакала.
Незнакомец крепко взял ее за руку, и так они дошли до самого порта, где напирала огромная кричащая обезумевшая толпа. У многих людей были такие черные лица, что трудно было различить их черты, только глаза выражали замешательство, отчаяние, ужас. Люди старались спастись от настигавшего их пламени, а оно распространялось все быстрее, подгоняемое восточным ветром. Корабли в порту включили сирены, и их душераздирающий похоронный плач был слышен повсюду. Сатен с надеждой посмотрела туда, где находился магазин отца, но огонь уже уничтожил его. В этот момент кто-то резко толкнул ее, и она упала, выпустив руку незнакомца. Собрав последние силы, девочка пыталась лавировать между ног, готовых затоптать ее, а толпа несла ее к морю, к кораблям с развевающимися флагами. Там были шлюпки и каяки, но их не хватало, чтобы вместить всех несчастных, толкавшихся на пирсе, которые махали руками и кричали на разных языках одно и то же: «Помогите, ради бога, мы горим заживо!»
Когда языки пламени стали лизать ее худенькое тельце, инстинкт самосохранения вынудил Сатен броситься в море. В голубой воде залива она попыталась удержаться на плаву, как учил ее отец, но скоро поняла, что рядом не было его сильных и ласковых рук, поддерживавших ее, и тут же она почувствовала, как ее затягивает на дно и соленая вода льется в рот, не давая вдохнуть. «Так вот что случилось с Красной Шапочкой, когда злой волк проглотил ее», – подумала она, перестав сопротивляться.
В первый раз Сероп заговорил с Сатен, когда она обратилась к нему с вопросом. Сероп возвращался с утренней смены на фабрике. В голове у него был туман, все тело ныло, плечи тянуло вниз после долгих часов работы гребенкой на ткацком станке.
– Извини, земляк, – обратилась она к нему, как было принято между беженцами, – не знаешь случайно, на фабрике принимают на работу женщин?
Сероп посмотрел на девушку, которую считал самой красивой во всем лагере. Сатен было всего пятнадцать лет, но ее телу могла позавидовать любая сформировавшаяся женщина. Она подметала дворик у своего дома, где в хорошую погоду обычно сидела вместе с Розакур, радуясь погожему деньку.
– Почему бы тебе не спросить у меня? – вмешалась Ноэми по прозвищу Фитиль.
Ее сплетни и злословие часто становились причиной яростных ссор в лагере. Это была неуклюжая старая дева, жившая напротив Сатен. Она не работала и жила тем, что побиралась у соседей: там миску супа получит, здесь – кусочек тушенки. А в благодарность навязывалась предсказывать будущее. Она считала себя хироманткой с необычайными способностями. «Покажи мне твою руку», – настаивала она чаще всего из любопытства, из-за жгучего желания сунуть свой нос в чужие дела, нежели из-за того, что имела подлинные способности. Она все про всех знала, но почти всегда пересказывала в искаженном виде, не гнушаясь даже клеветой. Она вечно сидела на табуретке около дома и лузгала семечки, мастерски щелкая зубами и сплевывая шелуху.
– Потому что ты не работаешь на фабрике, – ответила ей Сатен.
Сероп почувствовал себя неловко. Он смотрел на обеих женщин с примирительной улыбкой и краснел от смущения.
Выглядел он в тот день не лучшим образом: хлопчатобумажная рубашка с короткими рукавами, из которых выглядывали мускулистые руки в противоположность щуплому телу, и слишком широкие штаны, лишь подчеркивавшие его худобу. У него было удлиненное, худощавое лицо, волосы цвета золотистой меди, зачесанные назад, и белая как молоко кожа. «Блондин», – так частенько звали его в лагере, чтобы отличать от других мужчин, в большинстве своем смуглых и темноволосых. Ему еще не было двадцати пяти, но жалкое существование, которое он влачил до сих пор, оставило свой след. С тех пор как умер отец, он жил один в самом дальнем углу лагеря, рядом с отхожими местами. Большинство его сверстников уже были женаты и растили детей, но он, казалось, решил остаться холостяком.
– Мне жаль, Сатен-кур, сестра Сатен, – ответил он наконец, стараясь избегать пристального взгляда янтарных глаз, – но моя работа вовсе не женская, там требуется определенная сила. Может быть, тебе стоит спросить в отделе упаковки, – добавил он.
– Но я сильная, – возразила она (язычок мило заколыхался в щелке между резцами) и расправила плечи, желая подчеркнуть, что она такая же высокая, как и он.
– Почему бы тебе не выйти за него замуж? Видишь, какие у него руки? Он будет работать за тебя, а ты будешь сидеть дома, – с издевкой сказала Фитиль, выплюнув очередную порцию лузги.
– Что ты говоришь, Ноэми-кур? – заикаясь, пробормотал Сероп, красный от стыда.
– Ты что, хочешь сказать, что она тебе не нравится? – съязвила Фитиль.
– Прекрати! – пригрозила ей Сатен, замахнувшись метлой.
Фитиль зашлась от смеха.
– Ты видишь? Да она же ерик зезог, драчунья, будет мужа бить, – завопила она, повернувшись к Серопу.
На улицу стали выходить соседи, с любопытством наблюдая за сценой. Сероп был готов провалиться сквозь землю.
А спустя пару месяцев он в сопровождении Луссиа-дуду, своей соседки, сидел у Розакур, пил кофе и просил, заикаясь, руки Сатен.
* * *
Фабрика «Марангопулос», где работал Сероп, была известной мануфактурой в Патрах. Говорили, что ее хозяин получил огромное состояние благодаря странному случаю, улыбке фортуны. В 1912 году торговое судно, груженное ценными французскими тканями, затонуло в порту. Ни один купец не захотел выкупить товар, опасаясь, что соленая вода могла его повредить. Единственным, кто рискнул, поторговавшись и купив всю партию за какие-то гроши, был молодой Марангопулос. Он тщательно промыл ткани и продал по высокой цене, получив таким образом возможность открыть свою первую маленькую текстильную фабрику.
Хитрость и решительность вкупе с любознательностью и новаторством привели Марангопулоса к успеху. В 1925 году он посетил текстильное предприятие под Болонией и, пораженный новой тогда технологией «летающий челнок», которая значительно упрощала все ткацкое производство, заказал около тридцати таких станков. «Думай о рабочих, – сказал он сыну, тогда еще ребенку, который постоянно сопровождал его в поездках по работе. – Теперь на каждом станке сможет работать один человек, и мы увеличим производительность».
Станки были погружены в Анконе и после почти трехдневного плавания по Адриатике прибыли в порт Патры.
Три кирпичных здания мануфактуры располагались по кругу, образуя дворик, в центре которого высилось столетнее оливковое дерево с мощным стволом и разросшимися ветвями. В перерывах рабочие рассаживались под сенью его серебряной кроны, сквозь которую просвечивали солнечные лучи. Чтобы попасть на фабрику, надо было пройти через железные ворота под пристальным взглядом охранника, который в своей конторке записывал имена и смены. Большинство рабочих были армянскими беженцами. Говорили, что Марангопулос испытывал особую симпатию к этому гонимому народу, ему почти братскому. Фабрика никогда не останавливалась, производя столовое и постельное белье, известное по всей стране. Непрекращающийся шум гребенок, бьющих по раме станка, был хорошо слышен снаружи, за десятки метров до фабрики. В конце каждой смены этот шум продолжал отзываться в головах рабочих всю дорогу домой, и даже после.
С течением времени фирма «Марангопулос» растеряла былые блеск и славу, в лучах которой прошли целые десятилетия. Новая текстильная промышленность выросла в нескольких километрах от порта: «Пераика-Патраика». Две крупных фирмы слились в одну и явили свету самую крупную и современную текстильную мануфактуру в стране. Станки по последнему слову техники были заказаны в Англии с благословения и при значительном финансовом участии Греческого Национального Банка. По сравнению с этим гигантом «Марангопулос» казалась старомодным пережитком. «Трудные времена!» – воскликнул сам Марангопулос в конце общего собрания со своими работниками.
Маленький Саак запыхался, прыгая, как заяц, по зеленым полям за городом. Иногда он останавливался, чтобы перевести дух, и высматривал дорогу к своей цели. Путь был недолгим, но ему нужно было спешить.
«Прошу тебя, постарайся как можно быстрее, – сказала ему Сатен, – сбегай на фабрику и позови моего мужа». Она стояла в дверях дома и едва держалась на ногах.
Добежав до фабричных ворот, мальчишка обратился к охраннику: «Мне нужно срочно поговорить с Серопом Газаряном!» Сероп вышел во двор и увидел Саака, сидевшего под оливковым деревом. Мальчик вскочил и побежал ему навстречу. «Господин Сероп, твоей жене плохо…» – пытался он перекричать шум работающих станков.
– Плохо?
– Да. – И мальчик сделал широкий жест руками на уровне живота. Из смущения и уважения он ни за что не заговорил бы открыто о родах и схватках беременной женщины.
Сероп бросился к воротам, но охранник задержал его и заставил снять белые перчатки, которые рабочие надевали, чтобы не запачкать белоснежные нити.
Отодвинув тяжелую портьеру, заменявшую в доме дверь, он нашел Сатен стоящей на четвереньках на кровати, сжимающей живот и стонущей от боли.
– Любимая… – прошептал он, наклонившись над ней.
Сатен была нагая, лишь накрыта простыней. На дворе был ноябрь, но осень в этом году стояла на редкость теплая. Молодая женщина попыталась улыбнуться.
– Я позвала тебя, потому что мне очень больно, – прошептала она, ласково погладив лицо мужа. На запястье звякнули золотые браслеты Розакур. Старая женщина скоропостижно скончалась несколькими месяцами ранее. С тех пор Сатен носила ее бурма не снимая.
– Я позову Луссиа-дуду? Ты думаешь, уже пора? – спросил Сероп, глядя на ее живот, который, казалось, вот-вот взорвется. Потом он заметил швейную машинку на столе, а рядом и на полу заготовки. – Зачем ты настояла, чтобы шить одной? Я же просил тебя не делать этого!
Сатен захрипела и упала на кровать. Сероп заметил, что простыни испачканы чем-то желтоватым, и, прикоснувшись к ним, почувствовал, что они еще теплые и влажные. Он выпрямился, не в силах скрыть испуг.
– Я сейчас, – сказал он и бросился к выходу.
Его сердце билось где-то в висках, в глазах стоял туман, он свернул направо и пошел быстрым шагом. Лагерь, в котором он провел большую часть жизни, показался ему теперь враждебным и холодным. Он быстро прошел мимо мальчишек, среди которых был и Саак, пинавших клубок шерсти, торопливо поприветствовал старого Легоса, удобно устроившегося в кресле и курящего свой наргиле́[9], отвернулся от старухи Фитиль, которая уже приподнялась со своей табуретки и раскрыла рот с застрявшей между зубов семечкой с намерением учинить ему очередной допрос.
Наконец он побежал, низко опустив голову, глядя на свои башмаки, которые носил уже много лет и продолжал латать. «Ты станешь отцом», – звучал в его голове голос, постепенно переходя от жалобного к кричащему. Его переполняли противоречивые чувства. Мысль о том, что у него будет сын, всегда радовала его, но теперь, когда ребенок должен был появиться на свет, страх и сомнения, справится ли он с этой непростой ролью, сковывали его.
Иногда он задумывался, по любви ли он женился или ему только казалось, что это любовь. Он попросил руки прекрасной Сатен, не будучи уверенным, что Розакур выдаст ее за него, необразованного бедняка, рано оставшегося сиротой, без проектов на будущее, да и без самого будущего. И он был удивлен, когда старая женщина встала и поздравила его и Луссиа-дуду, соседку, с которой он пришел.
Они поженились несколько месяцев спустя в церкви Ая-Варвары по армянскому обряду. Венчал их священник из церкви Сурб Акоп, приехавший специально по этому случаю из большой армянской общины Пирея[10]. На доллары, которые прислала Мириам, Сероп купил пару обручальных колец из червонного золота и внутри попросил выгравировать две буквы и дату: С. С. 1935.
Розакур угадала: Сатен еще не исполнилось шестнадцати.
– Почему ты женился на мне? – спросила Сатен в первую брачную ночь. Она лежала рядом с ним, нагая, после того как они занимались любовью.
– Потому что так было предначертано моей кисмет, судьбой.
Сатен насупилась, было очевидно, что она предпочла бы другой ответ.
– И потому, – продолжил Сероп, – что для меня ты всегда была самая красивая, и самая решительная, и самая умная. Я часто думал о тебе, но боялся, что ты не удостоишь меня даже взглядом.
Сатен засмеялась, и груди ее заколыхались. Капля крови испачкала простынь, неоспоримое доказательство ее девственности.
– А я думала, что ты хотел заткнуть рот старухе Фитиль!
– Нет.
– А как же сплетни про меня?
– У всех есть свои недостатки. Но я никогда не придавал значения тому, что говорят другие, – соврал он.
Сатен нежно погладила его плечо, и тогда он спросил ее в свою очередь:
– А почему ты согласилась выйти за меня?
– Потому что в тебе есть что-то детское, и это меня умиляет. Я хочу обнять тебя как мать, крепко обнять, успокоить и ободрить, что все будет хорошо, – прошептала она, глядя на него своими завораживающими янтарными очами. – И потом, мне хотелось иметь семью.
Сероп удивился ее мудрости и душевности, хотя она была на десять лет моложе его.
– Не стирай простынь. Повесь ее на улице, и чтобы было хорошо видно, – напомнил он чуть позже, вставая с кровати.
– Луссиа-дуду! – позвал он, обращаясь к бараку из заржавевших металлических листов. Сероп тяжело дышал и боролся с приступом тошноты, вызванным вонью из отхожих мест, смешанной с запахом жареного. Ему был хорошо знаком этот запах: Луссиа-дуду наверняка что-то стряпала. Он приблизился к окошку и заглянул внутрь. – Луссиа-дуду! – позвал он снова. Женщина стояла в нескольких метрах от него с вилкой в руке.
– А, сынок, я как раз жарю котлеты и за всем этим шипением не слышала, как ты подошел… – извинилась она и погасила конфорку. Подойдя к окну, она заметила страх в глазах Серопа. – Что, уже пора? – спросила она с сомнением.
Он кивнул.
– Прошу тебя, скорее, – взмолился он, нервным жестом теребя волосы.
Луссиа-дуду была женщиной неопределенного возраста. Когда ее спрашивали, сколько ей лет, она всегда отвечала: «Шестьдесят». Она была высокая и крепкая, с круглым лицом и выпученными глазами, типичными для людей с больной щитовидкой. Она прибыла вместе с другими беженцами в двадцать втором из Эрзерума[11], в Анатолии. И когда Сероп осиротел, она помогала ему пережить то нелегкое время.
Их бараки стояли рядом, и Луссиа-дуду стряпала для него, стирала одежду, коротала рядом с ним вечера, когда он болел, лечила его разными травами, в которых хорошо разбиралась. Говорили, что на старой родине она была медсестрой и даже любовницей известного хирурга, который, однако, так на ней и не женился. У него она научилась многому, а в особенности акушерству, и ее сильные и решительные руки помогли почти всем армянским детям, которые появились на свет в лагере. «Туркам на зло!» – неизменно восклицала она в конце каждых родов, памятуя жестокость, с которой они истребляли ее народ. Затем, осмотрев новорожденного, она слегка шлепала его по попке, чтобы он заплакал и наполнил воздухом маленькие легкие.
Первый в жизни вдох.
– Тужься, дочка, дыши и тужься…
Луссиа-дуду подложила две подушки под поясницу Сатен и прикрыла пах простыней, потому что мужьям не дозволялось видеть, как расширяется эта часть тела во время родов.
– Как ты себя чувствуешь, любимая? – спрашивал Сероп. Одной рукой он гладил ее разгоряченное и искаженное болезненной гримасой лицо, другой – погружал в тазик с прохладной водой платок и промакивал ей лоб, шепча нежные слова.
– Мега Асдвац, прости, Господи, я никогда не видела такого огромного живота, – бормотала себе под нос повитуха, пока осматривала Сатен и мяла ее живот книзу. – Тужься теперь! – приказала она. Стиснув зубы, повитуха время от времени засовывала пальцы между ног роженицы, которая стонала и тяжело дышала от боли. – Сероп, помоги ей согнуться еще…
Наконец-то головка ребенка, испачканная в крови и слизи, застенчиво выглянула наружу.
– Вот он! – радостно воскликнула повитуха.
– Где? – спросил Сероп, совершенно растерявшись.
– Ты смотри за женой! – прикрикнула на него Луссиа-дуду. – Бог мой, это чудный мальчик! – объявила она, вынимая ребенка.
Сатен приподнялась, улыбаясь и стараясь увидеть своего сына, но острая боль пронзила ее, и она снова откинулась на подушки. Она билась в руках Серопа и кричала, корчась от боли в паху.
– Держи ее скорее! – приказала повитуха Серопу.
Это был необычный случай. Луссиа-дуду видела на своем веку много родов и прекрасно знала, какой опасности подвергалась роженица и какие несчастия могли поразить семью.
– Она кровоточит, – прошептала себе под нос старуха. Затем слегка шлепнула ребенка, и тот сразу же закричал, как мать. – Хороший мальчик, – сказала повитуха и положила его на кровать.
Сероп наклонил голову и в первый раз посмотрел на сына. Сердце его забилось. Ребенок дрыгал ножками и кричал, раскрыв беззубый ротик, лицо его посинело от натуги, глаза были плотно закрыты. Прядь медно-красных волос прилипла к лобику. Он лежал рядом с Сатен, весь в крови, все еще связанный с нею пуповиной.
«Это мой сын», – подумал Сероп, и на глаза ему навернулись слезы. Повитуха заворчала, вытирая бедра неподвижно лежащей, будто в обмороке, Сатен.
– Что происходит? – спросил ее встревоженный Сероп, поняв по ее лихорадочным и взволнованным жестам – что-то не так.
Но Луссиа-дуду была слишком занята, чтобы ответить ему. Она продолжала ощупывать все еще вздутый и твердый живот Сатен. Наконец повитуха засунула руку во влагалище и осторожно исследовала его изнутри. Когда она подняла голову, лицо ее выражало изумление.
– Черт меня подери, там еще что-то есть! – заявила она, пронзив Серопа своими выпученными глазами.
– Что? – шепотом спросил Сероп.
– Еще один плут ждет своей очереди, – ответила повитуха, указав на живот роженицы.
В бараке лагеря беженцев новая жизнь пыталась вырваться на свет Божий.
– Еще один? – растерялся Сероп и непроизвольно посмотрел на Сатен, чтобы увидеть ее реакцию, но она неподвижно лежала, положив голову ему на плечо, потеряв сознание от ужасной боли.
– Приведи жену в чувство, – приказала ему Луссиа-дуду.
– Как?
– Пощечиной.
– Джерим, любовь моя, там еще второй ребенок, – прошептал Сероп, слегка похлопав ее по щеке.
Она пробормотала что-то невнятное.
– Нам надо спешить, – подгоняла его повитуха.
Сероп встряхнул жену за плечи. Сатен пришла в себя и сразу же начала стонать, пока муж увлажнял ей губы мокрым платком.
– Потерпи еще немного, – взмолился он.
Глядя на измученную жену, он чуть не плакал. Она была покрыта крупными каплями пота. Несмотря на то что Луссиа-дуду старалась промакивать кровь множеством тряпок, вся кровать была пропитана ею. Сатен была страшно бледна, но все внимание сейчас было уделено ребенку.
– Милая, ты меня слышишь? Нужно еще поднатужиться!
Луссиа-дуду начинала чувствовать усталость и нервничала из-за тяжелой ответственности, которая лежала на ней. Принять двойню – это была задача не из легких, для этого требовались сноровка и опыт куда более серьезные, чем для простых родов.
В прошлом это с ней случилось лишь однажды. Она сделала тогда все, что могла, потратив целый день, но, к сожалению, выжил лишь один ребенок. Мать с другим малышом спасти не удалось, хотя она боролась за их жизнь до конца. Она долго чувствовала себя виноватой в том, что случилось, некоторое время не выходила из дома и не принимала роды, несмотря на настойчивые просьбы семей. «Я этим больше не занимаюсь», – говорила она, когда просители стучались к ней в дверь. Но спустя несколько месяцев, выглянув из окна, она увидела пробегавших мимо детей, которым она помогла родиться.
– Привет, Луссиа-дуду! – радостно кричали ей дети.
Там были Бедрос и Луссарпи, Метеос и Агавни, и много других, больших и маленьких, и все они были ее детьми. Глядя на них, она почувствовала не только гордость, но и высокое патриотическое значение своего труда. «Я здесь, если вам еще нужна моя помощь», – сказала она одним весенним утром, появившись на пороге дома новой роженицы.
– Тужься теперь, – сказала она Сатен, придя в себя.
Молодая женщина, совершенно обессилевшая, дышала, не напрягая мышц.
– Помоги ей наклоняться, – крикнула повитуха Серопу, который сидел растерянный и ошеломленный, поняв наконец, какая опасность грозила его жене.
Луссиа-дуду засучила рукава и снова ввела руку во влагалище. Нащупала второго ребенка и обнаружила, что он был повернут ножками к выходу. Тогда она схватила их и тихонько потянула книзу. Сатен почувствовала острую боль и дико закричала.
– Встряхни ее, она не должна терять сознания, – приказала повитуха Серопу. – Второй ребенок сейчас родится! – К ней вернулись уверенность и спокойствие.
Показалась ступня крохотной ножки.
– Слава Богу! – воскликнула повитуха. – Теперь дай ей прикусить тряпку, засунь ее между зубов.
Затем одной рукой она раздвинула большие губы влагалища, а другой держала ножки и, поворачивая ребенка, тянула его на себя.
– Нет! – закричала Сатен, когда плечики ребенка застряли и надавили на стенки, расширяя выход.
В этот момент Луссиа-дуду заметила, что пуповина первенца обвернулась вокруг шейки второго ребенка и душила его. Ребенок был синюшного цвета, и под полуприкрытыми веками глазки, казалось, вываливались из орбит.
– Проклятье! – в сердцах выругалась повитуха. – Дай мне ножницы! – приказала она Серопу.
– Что происходит? – крикнула Сатен.
Сероп покачал головой.
– Сейчас, – сказала старая женщина, пытаясь распутать пуповину. Удавка уже почти затянула в своих витках маленькую жертву. Сероп оставил жену и вскочил на ноги. Он смотрел на руки повитухи и чувствовал, что теряет сознание в ужасе от того, что увидел.
– Что происходит? – спрашивала слабеющим голосом Сатен.
– Дай мне что-нибудь режущее, ради бога, что угодно! – крикнула ему Луссиа-дуду.
Сероп бросился к мойке, схватил нож и передал ей. Сатен попыталась сесть на кровати, чтобы понять, что происходит.
– Не давай ей двигаться, Сероп! – приказала Луссиа-дуду и, сжав пуповину между пальцев, разрезала ее уверенными движениями в нескольких местах. Затем быстро и ловко стала распутывать узел вокруг горла новорожденного. Как только ей удалось высвободить его, она взяла ребенка за ноги и, подняв в воздух вниз головой, несколько раз шлепнула его по попке. Раз, два, три.
– Дыши, малыш, дыши! – призывала она сквозь сжатые зубы.
Вдруг ребенок заплакал, разбудив своим криком даже брата, заснувшего рядом с матерью. Сероп и Сатен обнялись со слезами на глазах.
– Назло туркам, два в одном! – радостно воскликнула повитуха, положив младенца рядом с братом.
Затем привычными жестами она продолжила свою работу, вытирая и отрезая, промокая и пеленая. Влажной салфеткой обмыла тельца младенцев, ручки, ножки, хорошенько обмыла личики, которые оказались поразительно схожи, и затем положила их рядом с молодой матерью, одного – справа, другого – слева.
– Храни вас Господь, – прошептала она, осенив чело каждого крестным знамением.
Новость о рождении близнецов была встречена в лагере по-разному и с противоречивыми комментариями. Кто-то радовался, что община пополнилась двумя здоровыми мальчиками, другие воротили нос, утверждая, что отец новорожденных не сможет прокормить еще два рта, были и такие, что удивлялись с кривой усмешкой мужеской силе тщедушного Серопа. Мало кто отпускал замечания в адрес Сатен, а если и отпускал, то только чтобы напомнить о приступах падучей, хотя они и остались в прошлом, побежденные чудом материнства.
– Кто бы мог подумать, что у этого Газаряна будет такая милая семья? – говорило большинство.
Малышам желали доброго пути в жизни и надарили кучу подарков, согласно традициям общины. Каждый из подарков был в двойном экземпляре: две баночки ароматного базилика, две пары носочков ручной вязки, два медовых пряника с корицей, две наволочки с одинаковыми вышитыми уточками и другие недорогие вещи, подаренные от всего сердца. Саак, мальчик-посыльный, принес букетик свежих полевых цветов.
Земляки передавали подарки матери, а Сероп разливал в стаканы мосхуди, знаменитое ахейское вино.
– Чтоб они росли здоровыми и сильными! – все весело поднимали тост.
Луссиа-дуду, повитуха и женщина, которая вырастила Серопа, принесла две золотых монеты, так называемые куруш Османской империи, которыми провела по ступням, ладоням, лбу и наконец в области сердца каждого из новорожденных.
– Золото там, где ходишь, золото – то, что трогаешь, золото – то, что думаешь, золото – тот, кого любишь, – произнесла она дрогнувшим от волнения голосом. Затем крепко обняла родителей, положив оба куруша в руку Сатен.
– Луссиа-дуду, ты вовсе не должна, – сказал Сероп.
– Мы не можем принять их, – запротестовала Сатен.
– У меня нет детей, но это мои внуки, – просто возразила она.
Фитиль зашла к ним как-то вечером с пустыми руками.
– Я женщина бедная и ничего не смогла принести, – оправдалась она.
– Добро пожаловать, – приветствовал ее Сероп.
– Я хочу пожелать вам всего самого лучшего, – добавила она, приблизившись к новорожденным, которые мирно спали в кровати.
Она присела рядом и погладила их с напускной нежностью под недоверчивым взглядом Сатен. Потом медленно взяла их ручки и тихонько приложилась к ним губами.
– Какие хорошенькие, – сказала она, поворачивая ручки ладошками вверх, чтобы прочитать судьбу малюток, как опытная хиромантка, каковой себя считала. – Нет! – вскрикнула она спустя несколько мгновений, чуть не разбудив близнецов.
Сатен вздрогнула.
– Над ними тяготеет проклятие, – объявила старуха, в ужасе прикрыв рот ладонью и выпустив ручки младенцев. – Вижу много боли, – предсказала она, как заправская Кассандра, сквозь длинные вьющиеся локоны, закрывавшие ее лицо.
– Что ты несешь! – вскочил Сероп со стаканом мосхуди в руке, который только что наполнил для нее.
Женщина уже почти выскользнула из дома, но он остановил ее на пороге.
– Отойди, – потребовала Фитиль.
Однако Сероп не тронулся с места, зло сверкнув глазами, пока Сатен, онемев, наблюдала за сценой.
– Ты, – начала Фитиль, тыча пальцем в Серопа, – ты змея, которая пожирает собственные яйца. – И она прожгла его взглядом ровно столько, сколько потребовалось, чтобы до него дошел смысл сказанного.
Сероп отступил, пошатнувшись, и она смогла выйти, но, прежде чем исчезнуть в темноте, разразилась грубым смехом. Это был грудной, злой смех, эхом отдававшийся в голове Сатен всю ночь.
Патры, 2 ноября 1937 года
Дорогая Мириам,
у меня все хорошо, и надеюсь, что у тебя тоже.
С огромной радостью сообщаю тебе о рождении моих детей.
Да, ты правильно прочитала, их двое. По воле Божьей в субботу, 22 октября, я стал отцом близнецов, двух мальчиков. Только ты можешь понять, как гордился бы твой дядя, если бы дожил до этого дня. Роды были сложные. Схватки у Сатен были очень болезненные, как ты себе можешь представить. Но дети чувствуют себя хорошо, и она тоже оправилась довольно быстро. Слава Богу. Как только дети немного подрастут, я отведу их к фотографу и пошлю тебе их портрет, чтобы ты смогла увидеть, какие они красивые.
С работой сложно – то есть, то нет. Ходят слухи, что на фабрике будут увольнения. Вчера я был на манифестации в защиту прав рабочих. Мысль, что я могу потерять работу, пугает меня, особенно теперь, когда надо растить мальчиков. Но Бог всемогущ и, надеюсь, защитит нас…
А как у тебя дела? Дай знать о себе. Я знаю, что ты очень занята, но получить от тебя письмо – это всегда большая радость для нас всех. Ах, почему, дорогая кузина, мы живем так далеко друг от друга? Надеюсь, что судьба позволит нам увидеться еще хоть раз в этой жизни. Я смутно помню тебя и твою улыбку и, чтобы освежить память, часто смотрю на фотографию с твоей свадьбы. Какие вы красивые, ты и Джерри! Передавай ему привет от нас.
Теперь я должен заканчивать, потому что дети проснулись. Сатен шлет тебе нежный привет.
До скорого, надеюсь.
Крепко обнимаю, твой кузен Сероп.Рождение близнецов полностью изменило привычные будни Сатен и Серопа. Дети постоянно плакали, будто просили что-то, а что – родители не могли угадать. Но радость от двойного чуда, ниспосланного с Небес вместо одного, была такой сильной, что компенсировала любые жертвы и неудобства.
Лачуга Газарянов неожиданно наполнилась. В ней не было ни одного свободного угла. На кровати хранилось огромное количество вещей, да и сама кровать теперь выполняла несколько функций. Сероп смастерил люльку из досок, но она была рассчитана на одного ребенка, двоим в ней было тесно. Тем не менее дети с самого начала дали понять, что не позволят никому разделить их. Как только мать брала одного из них на руки, тут же оба начинали отчаянно плакать, заставляя ее положить младенца обратно, рядом с братом. И только снова почувствовав близость, ручку одного на животике другого, носик, упирающийся в щечку, ножку, застрявшую между ножек брата, они успокаивались и с самыми милыми улыбками снова засыпали.
– Кто из них первый? – спросил однажды Сероп, которому никак не удавалось различать близнецов. Он только что вернулся с ночной смены и, не переодеваясь, сел рядом с Сатен на кровать, глядя на спящих детей.
– Тот, у которого губы тоньше, – ответила она.
– Этот?
– Да нет же, другой!
– Мы должны дать им имена.
– Ты все равно не сможешь узнать, кто первый, а кто второй, – сказала жена, посмеиваясь.
– Метки какие-нибудь придумаю, справлюсь.
– Хорошо, какие имена?
– Первого мы назовем Торос-ага в честь моего отца.
– А второго?
– В честь твоего.
Сатен с сомнением покачала головой:
– Не подойдет, мы должны дать им такие имена, которые отражали бы их особенность.
– То есть?
– Ну, что они родились вместе, что похожи как две капли воды.
– И где же мы найдем такие имена?
Сатен вздохнула:
– Не знаю таких два имени, чтобы, зовя одного, не мог бы не думать о другом.
– Что-то очень сложно… – проворчал Сероп, поднимаясь.
Она проводила его взглядом. Ей показалось, что он еще больше похудел, плечи еще больше согнулись, лицо постарело. Вот уже несколько дней дети не давали ему спать, а Серопу очень нужно было отдохнуть после тяжелой работы на фабрике.
– Будешь суп? – спросила она, вставая с постели.
Один из мальчиков проснулся и заплакал, тут же за ним последовал и второй. Мать закатила глаза к небу, смирившись, и посмотрела на мужа, который уже сидел за столом, ожидая ее.
– Кажется, подошло время кормления, – сказала она и снова села на кровать.
Он только покорно проворчал что-то себе под нос.
Сатен высвободила груди и, взяв близнецов, приложила их к соскам.
– Мои ангелочки, – прошептала она.
Сероп отвел взгляд, засмущавшись от вида обнаженной груди жены, но в то же время его тронула эта сцена материнства в самом естественном ее проявлении. Сатен, как львица, неприкосновенная и гордая, со своими детенышами, прильнувшими к сосцам. И вся комната наполнилась нежностью и любовью.
– Придумала! – вдруг воскликнула она с довольной улыбкой.
Сероп поднял голову и вопросительно посмотрел на нее.
– Имена, я придумала имена!
Сероп все еще удивленно смотрел на нее и медленно жевал кусок хлеба.
– Одного мы назовем Микаэль, – сказала Сатен, наклоняя голову направо, – а другого – Габриэль, – добавила она, показывая на ребенка слева.
Муж остался безучастен к этому заявлению и лишь слегка приподнял брови.
Сатен нахмурилась.
– Тебе не нравится? Это имена двух архангелов, – обиделась она.
Он покачал головой, собирая пальцами крошки со стола.
– Да-да. Зови как хочешь, все равно их не покрестят, пока год не пройдет, – ответил он, думая о расходах на крестины. Потом резко встал и, отдернув портьеры, вышел из дома.
– Садитесь, господин Газарян.
Сероп поискал глазами стул. В кабинете господина Марангопулоса, куда его неожиданно вызвали, был только один свободный стул напротив письменного стола из красного дерева.
– Вы говорите по-гречески, полагаю, – начал Марангопулос.
– Я практически вырос в Патрах, – ответил Сероп, уставившись на его двубортный костюм в мелкую полоску.
– Отлично. – Хозяин поднес руку к лицу и приложил пальцы к губам с задумчивым видом, будто собирался начать серьезный разговор.
Он был уже немолод, высок и худ, с изнуренным лицом, и, если бы не дорогой костюм, никто бы не подумал, что это самый богатый человек города.
– Я знаю о твоих семейных делах, о рождении близнецов, о том, как тяжело поднимать их, и все остальное. Но запомни: я не позволю, чтобы это стало оправданием твоей халатности на работе, – сказал он, барабаня по столу пальцами, унизанными перстнями, один из которых был украшен крупным сапфиром.
Сероп густо покраснел.
– Твой начальник цеха доложил, что ты опаздываешь на работу и, что еще хуже, спишь тайком. Он застал тебя однажды. Это правда?
– Это… это… я… – начал, заикаясь, Сероп.
– Что «это»?
– Это случилось только один раз, – наконец выдавил он.
Марангопулос вздохнул.
– И одного раза хватило бы, чтобы уволить тебя. Но я великодушен и дам тебе еще один шанс. Но будь уверен, это первый и последний раз, – произнес он и театральным жестом дал понять, что аудиенция закончена.
Сероп встал и попятился к двери, чтобы не поворачиваться к хозяину спиной.
– Газарян! – окликнул его последний, когда тот уже открывал дверь.
У Серопа похолодело внутри.
– Чуть не забыл, – произнес Марангопулос и положил на стол две монетки, которых не хватило бы даже купить хлеба на неделю, – это наш подарок твоим детям.
Сероп вернулся с опущенной головой, робко, почти испуганно протянул руку и уже взял было монетки, когда ладонь хозяина упала на его руку, пригвоздив ее к столу.
– Я делаю это не из симпатии и не из жалости, – сказал он, кивая в сторону медяков, – а чисто из чувства долга, – закончил старик, прищемив Серопу мизинец перстнем с сапфиром.
– Спасибо, – прошептал тот, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть от боли.
Сатен устроила себе маленькую паузу и сидела напротив Луссиа-дуду, потягивая кофе и наслаждаясь кусочком печенья. Повитуха зашла к ней, по обыкновению. Она была одной из немногих женщин, которые помогали Сатен, и всякий раз приносила что-нибудь полезное для семьи: немного хлеба, сыра, свои котлеты и даже печенье. И тот день не был исключением. Сначала Сатен покормила малышей, потом подогрела воду, и они искупали близнецов в металлической раковине. Затем насухо вытерли их, высушивая полотенцем рыжие волосики, одели в ползунки и, спев любимые колыбельные, уложили в постель. Одного рядом с другим, как всегда.
Сатен должна была еще прибраться в доме, приготовить ужин и постирать белье. Луссиа-дуду обещала помочь ей, если сначала они выпьют по чашечке кофе.
– Хорошо ли ты ешь, милая? – спросила повитуха с искренним беспокойством, заметив, как Сатен похудела после родов. – Ты должна хорошо питаться, а то молоко обеднеет и совсем пропадет.
– Да, я стараюсь, но чувствую какую-то слабость.
– Прошло совсем мало времени. Вот увидишь, скоро станет лучше.
Сатен поставила чашку на стол.
– Я хотела тебя спросить, но стесняюсь… – потупилась она.
– Детка, со мной можешь говорить спокойно, ты же знаешь…
Девушка заерзала на кровати.
– Речь о моем муже. Он настаивает, чтобы мы занимались любовью, а я… – И она замолчала, покраснев от смущения.
Подруга молча слушала ее, дуя на горячий кофе.
– Знаешь, пока малыши спят с нами, но сейчас он мастерит двойную кроватку и поставит ее там, – показала Сатен на свободное место между кроватью и глиняной стеной. – Вчера вечером мы поругались, он говорит, что с тех пор, как родились близнецы, я на него больше не смотрю.
– Какой поганец! – воскликнула Луссиа-дуду, как возмущенная мать, которая выслушивает жалобы своей дочери на мужа.
– Ты же знаешь, каких сил и боли мне стоило родить этих двоих, – добавила Сатен, ласково поглядев на близнецов. – В последний раз, когда он попробовал, мне было очень больно, но я все снесла и не протестовала…
Повитуха покачала головой, всем своим видом показывая, как она солидарна с подругой.
– Я очень люблю его, – продолжила молодая женщина, – и понимаю, как он устает на фабрике, и с тапочками, и вообще. Я не хотела бы отказывать ему в том немногом, что жена может подарить мужу, – пожаловалась она.
Луссиа-дуду взяла ее руку и приложила к сердцу.
– Ты молода, но Бог наградил тебя доброй душой и мудростью. Не падай духом. Когда вы будете в постели, – зашептала она с видом человека, поверяющего большой секрет, – старайся быть с ним рядом… но по-другому. Рассказывай ему о твоих мечтах, твоих фантазиях, о том, что тебе хотелось бы с ним делать. Заворожи его, шепча на ухо ласковые и нежные слова. «То самое» – не самое важное, оно вообще перестает быть важным, если между супругами нет взаимопонимания.
Янтарные глаза Сатен вновь засветились.
– А пока, – продолжила повитуха, – я приготовлю тебе мазь, которую будешь наносить туда до тех пор, пока все не станет, как прежде. Это произойдет совсем скоро, вот увидишь, – заговорщически улыбнулась она.
– Ах, моя дорогая Луссиа-дуду, я искала тебя на небесах, но нашла на земле! – воскликнула Сатен, крепко обнимая ее в порыве искренней благодарности.
* * *
– Мой маленький паша, – сюсюкал Сероп, наклоняясь над ребенком и целуя его в животик.
Малыш засмеялся, открыв беззубый ротик, полный слюны и остатков молока. Рядом с ним брат уставился на отца, словно ожидая тех же ласк и для себя.
– Это кто? – спросил Сероп, показывая на него пальцем.
– Габриэль.
– Тот, что родился первым?
Жена покачала головой и улыбнулась. Ее забавляло, что муж до сих пор не различает близнецов. Конечно, они были совершенно одинаковые, по крайней мере физически, но Сатен различала в них те крохотные детали, те незначительные особенности, которые, наверное, только мать могла заметить: чуть другая гримаса плачущего малыша, лишняя диссонирующая нотка в смехе, более длинный волосок в брови.
Сероп выпрямился, подошел к столу и открыл ящичек.
– Что ты делаешь? Малыш обиделся и сейчас заплачет, – упрекнула его жена.
– Сейчас вернусь, – ответил он, копаясь в алюминиевой банке, где хранились цветные тесемки для сшивания тапочек. Затем он приблизился к детям, держа в руке две катушки. – Красная – для Микаэля, зеленая – для Габриэля, или как там мы их окрестим в конце концов! – радостно произнес он.
Затем он оторвал по кусочку от каждой катушки, взял ручку одного ребенка и пару раз обвернул тесьму вокруг запястья, затем завязал узелок, наклонился и откусил лишний хвостик. Малыш улыбнулся, явно радуясь новой игре, которую придумал папа.
– Вот так! – сказал Сероп и сделал то же самое с ручкой второго младенца.
– По-твоему, это нормально? – Сатен собралась было возражать, но кто-то позвал ее снаружи.
– Кто там? – спросил Сероп, дав знак жене замолчать.
– Почтальон.
Сероп, отодвинув портьеру, выглянул наружу.
Юноша в форме держал в одной руке коричневую коробку, а другой махнул в знак приветствия.
– Это вы господин Сероп Газарян?
– Да, – прохрипел Сероп, у которого перехватило дыхание от удивления.
– Вам пакет из Америки, господин.
Сероп взял коробку, но почтальон остановил его:
– Минутку, господин. Сначала распишитесь.
– Тогда заходи, а то холодно, – пригласил его Сероп. – Выпей мосхуди, согрейся, – добавил он, наливая в стакан, не дожидаясь ответа.
– Какие красивые малыши, – сказал почтальон, поднимая стакан в знак тоста.
Как только он ушел, муж и жена нетерпеливо развернули пакет довольно внушительных размеров. Когда они открыли его, комнату наполнил чудесный аромат, напоминавший смесь ванилина и шоколада. Сероп глянул на улыбающуюся Сатен, которая нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. Тогда он начал вынимать содержимое коробки и складывать все на столе. Сначала появились два элегантных и теплых пальтишка из синей и коричневой шерстяной ткани, потом пара махровых ползунков разного цвета, затем, в тонкой оберточной бумаге, две стопки микроскопического нижнего белья из тончайшего хлопка, на каждого брата. Но это было еще не все, потому что в коробке также лежала шкатулка, обтянутая красным бархатом, с надписью: «Barney’s deluxe chocolates»[12].
Сероп слегка встряхнул ее, и из глубины шкатулки донесся глухой звук.
– Ах, какой запах! – прошептала Сатен, завороженно глядя на шкатулку.
– Подожди, тут еще что-то есть! – воскликнул Сероп, вынимая две банки сгущенного молока и две коробки яичного порошка. Затем он провел рукой по дну коробки, думая, что она уже пуста, но нащупал книгу. – The Daring Young Man on the Flying Trapeze, – прочел он, неправильно произнося слова, – by William Saroyan[13].
Он посмотрел на обложку, на ней был изображен контур мужчины, повисшего на трапеции, в полете. Сероп перелистал книгу несколько секунд, прежде чем положить на стол с явным разочарованием: он не понимал ни слова из текста.
Затем он перевернул коробку вверх дном и потряс. На детскую одежду, разложенную на столе, упал заклеенный конверт. «Для Серопа», – было написано на нем круглым красивым почерком. Он вскрыл его и стал читать письмо:
Пасадена, Лос-Анджелес, 7 декабря 1937 года
Дорогой Сероп,
мы с радостью узнали о рождении твоих детей! Джерри и я сердечно поздравляем тебя и твою жену.
Прошу тебя, прими эти скромные подарки в знак моей искренней привязанности к вам. Надеюсь, что они вам понравятся. Пальтишки я сшила специально побольше размером, чтобы мои манчук[14] могли надеть их еще будущей зимой.
Дорогой Сероп, ты найдешь в посылке книгу. Это писатель армянского происхождения, Уильям Сароян, его родители переехали в Америку много лет назад. Этот сборник его рассказов пользуется здесь огромным успехом, американцы высоко оценили его человечность и чуткость. Я искала англо-греческий словарь, чтобы положить вместе с книгой в посылку, но, к сожалению, пока не нашла. Надеюсь выслать со следующей посылкой. Мне очень хотелось бы, чтобы ты и твои дети выучили английский язык, он мог бы вам пригодиться.
Желаю, чтобы у тебя все было хорошо с работой. На твоем месте я бы осторожнее относилась к участию в собраниях рабочих, там могут быть доносчики, которые потом все передают хозяину.
На этом заканчиваю и поздравляю тебя и твою семью с Рождеством. Джерри говорит, что ему повезло, что он на мне женился, потому что так он может праздновать Рождество два раза, 25 декабря и 6 января, в день армянского Тзенунд[15].
Мне вас не хватает. Крепко обнимаю,
Мириам.– Ой, а ведь и правда, почти Рождество, – сказала Сатен, будто только что очнулась от прекрасного сна.
– Да, любимая, – ответил Сероп, обнимая ее и целуя в нос. – С Рождеством!
2
Венеция, 1952 год
Большая группа молодых людей с высоко поднятыми головами энергично шла по мостовой. Она была похожа на темную змею или сороконожку, передвигавшую свои лапки с одинаковой скоростью и в одном и том же направлении. Поднималась на мостики и спускалась, уходила вперед и поворачивала в сторону, но ее форма оставалась неизменной. Никому не позволялось сбиться с шага, отвлечься.
– Мама, смотри! – Маленькая девочка удивленно показала пальчиком.
Мать остановилась. Молодые люди быстро обошли ее, мягко ступая.
– Эти армяне… – проворчала женщина себе под нос, разглядывая каждого, пока они проходили мимо.
Студенты шли колонной по двое. Напомаженные волосы блестели на вечернем солнце. Воротнички рубашек были кипенно-белыми, серые брюки безукоризненно отутюжены, со стрелкой. На бортах синих пиджаков отличного покроя красовалась золотая эмблема.
– Что там написано? – поинтересовалась девочка.
Женщина наклонилась и прямо посмотрела в ее зеленые глаза, нетерпеливо желающие все знать и понимать. А та улыбнулась, показывая молочные зубы и дырку от выпавших резцов.
– Это название их школы, детка, «Мурат-Рафаэль».
– Муратафаэль, Муратафаэль… – запела девочка.
Мать подняла голову и указала взглядом на монаха в начале колонны, который с трудом поспевал в ногу:
– Видишь падре, того, что в шляпе? Это один из их преподавателей.
Девочка наморщила носик, будто ей что-то не понравилось.
От ледяного порыва ветра зарябила водная гладь канала, окрасившись в цвет старинного серебра. Лодка заскрипела об опору, к которой была привязана. На севере край неба покрывался темными облаками.
Женщина поспешно поправила шарфик на шее у девочки.
– Все, теперь пойдем! – сказала она. – Скоро совсем стемнеет. – И потащила девочку прочь, взяв ее за руку.
– Бакунин!
Микаэль повернулся к товарищу, который звал его по прозвищу, полученному в колледже. Ему нравилось прозвище, потому что это было имя его любимого философа, и потом, он уже привык. В сущности, здесь у всех были прозвища. Например, парень, который его позвал, был известен как Азнавур, и, уж конечно, не из-за своего красивого голоса. Азнавур, при рождении Эмиль Мегоян, был сыном богатого владельца ресторана в Марселе. Сейчас они возвращались из кинотеатра в Санта-Маргерите, где обычно проводили воскресные вечера. Как всегда, их сопровождал отец Кешишьян, преподаватель языков и богословия. Он учил их армянскому, обязательному в колледже языку, а также итальянскому, английскому и французскому. Благодаря ему большая часть студентов хорошо изъяснялась на нескольких языках.
– Спорим, он вор, – зашептал Микаэлю Азнавур, кивая головой на Дика, их товарища, шедшего впереди.
Дик был долговязым юношей, мускулистым и проворным, как атлет. Он был сыном армянского промышленника из Детройта, впрочем, все они были армянами, отпрысками семей, желавших вырастить их в уважении к своим национальным традициям.
– Спорим? – настаивал Азнавур.
Микаэль скривил рот.
– Смотри, мы почти у цели! – тихо предупредил его друг.
В нескольких метрах впереди была лавка зеленщика с двумя выставленными снаружи лотками. Они были полны свежих фруктов и овощей, аккуратно разложенных и манящих. Студенты проходили мимо и уже почти миновали входную дверь в лавку, в глубине которой хозяин обслуживал клиента, когда Дик протянул руку, молниеносно схватил яблоко из корзинки и спрятал себе в карман.
– Ты видел? Я же тебе говорил, – зашептал Азнавур, толкая локтем в бок Микаэля.
Дикран-вор продолжал идти как ни в чем не бывало, сохраняя свое место в строю. Фыркнув, он откинул назад вечно падавшую на лоб прядь светлых волос, одернул пиджак, затем оглянулся и заговорщически подмигнул двум приятелям. Все произошло так быстро, что никто, кроме них, ничего не заметил.
– Ты дурак, – сказал Микаэль, краем глаза наблюдая за лавкой, не спохватился ли хозяин и не бежит ли за ними вслед.
– Fuck you, – ответил «вор» в своем любимом стиле. Он часто пользовался этим выражением, особенно когда не находил среди товарищей солидарности, на которую рассчитывал.
– На этот раз я тебя не буду покрывать, предупреждаю, – проворчал Азнавур. Высокий и коренастый, с лицом, испещренным прыщами, он отличался покладистым характером и лояльностью. Дик знал, что он никогда бы не выдал его.
Отец Кешишьян внезапно остановился. Его «антенны» уловили волнение в конце строя. Он пригрозил рукой, и все юноши опустили головы и продолжили путь, затаив дыхание.
– Я этого Дика убью, – прошипел Азнавур, когда они уже были в нескольких шагах от входной двери колледжа.
* * *
Колонна остановилась напротив внушительного здания в стиле барокко со строгим белесым фасадом под номером 2596 в Дорсодуро[16]. Под штукатуркой, сильно облупившейся в нижней части фасада, виднелись кирпичи блекло-розового цвета. Выходившие на улицу большие окна украшали мраморные карнизы и кованые фигурные решетки. Четыре колонны поддерживали центральный балкон, под которым на вывеске крупными буквами было написано: «Армянский колледж “Мурат-Рафаэль”». Главные ворота, выкрашенные в черный цвет, были почти всегда закрыты, за исключением особых случаев, и все обычно входили через запасной вход с левой стороны здания.
– Все здесь? – спросил, вздохнув, отец Кешишьян, проходя вдоль шеренги студентов и внимательно всматриваясь в их лица.
Он только что закончил считать, когда Дик достал из кармана яблоко и надкусил с таким громким хрустом, что воспитатель мгновенно повернулся в его сторону. Дик буквально окаменел с набитым ртом, спрятав руку с яблоком за спину. На колокольне церкви Кармини пробило пять ударов.
– Входите, – приказал воспитатель с мрачным лицом.
Студенты послушались. Молния осветила затянутое черными тучами небо. «Вор» замешкался, осмотрелся и попытался пройти последним. В этот момент Микаэль увидел, как он избавился от яблока, с удивительным проворством выбросив его в канал. Яблоко сначала скрылось под водой, но скоро появилось на поверхности и, подхваченное течением, поплыло, как лодочка, по гладкой поверхности канала, начинавшей рябить от первых крупных капель дождя.
– Покупаю гостиницу и два дома.
– Сто пятьдесят плюс… Ты мне должен двести тридцать тысяч долларов.
В общей гостиной студенты играли в «Монополию». Гостиная располагалась на первом этаже, сразу после холла, и окнами выходила в сад, усаженный розами. В центре зала стоял стол для игры в пинг-понг, а под окнами примостились широкие удобные диваны, хотя и немного потертые. Сбоку от входа стоял книжный шкаф из красного дерева, с полками, набитыми книгами на всех языках: религиозные монографии, учебники по истории, классические романы, томики поэзии, греческие трагедии, философские трактаты, архитектурные и географические журналы. Рядом с книжным шкафом стоял рояль. Микаэль иногда играл на нем, тщательно настроив. Стены украшало множество гравюр, на одних были виды Венеции девятнадцатого века, на других – сюжеты современной армянской истории – «славной армянской истории», как подчеркивали все время монахи.
– Эй, я тебя видел! – Керопе, тщедушный юноша с щетинистыми волосами, набросился на Дика-вора.
Отец Кешишьян посмотрел на них поверх своих очков для чтения.
– Да ты бредишь, приятель! – ответил Дик.
– Ты лгун, ты украл гостиницу! Да это и Бакунин видел, правда же, ты видел?
Юноша обратился к Микаэлю таким тоном, будто умолял его сказать правду.
Дик уставился на друга, пока тот не отвел взгляд.
– Ничего я не видел, – проворчал Микаэль.
Издевательская улыбочка скривила губы «вора». Керопе пнул его ногой в голень, но тот даже не обратил внимания.
– Тише, Волк идет!
Азнавур заметил, что отец Кешишьян поднялся со своего места и направился в их сторону. Волк – это прозвище дали ему студенты. Вполне оправданное, подходящее его проницательности, а точнее, безошибочному «нюху».
– Дик, что ты еще натворил? – спросил он невозмутимо.
– А что я-то, почему всегда я? – запротестовал юноша. У него здорово получалось притворяться, и те, кто его не знал, легко попадались и верили в его невинность. Он еще не закончил фразу, когда господин Беппе, привратник колледжа, появился на пороге зала.
– Отец Кешишьян, – громко позвал он, – тут один господин хочет вас видеть.
Волк обернулся, и приличного вида мужчина с седыми, аккуратно зачесанными волосами сделал шаг вперед. На нем был темно-зеленый фартук, завязанный на поясе, и он постоянно теребил его рукой, вероятно, из-за смущения и волнения. У него были мокрые башмаки и отвороты брюк. Волк удивленно уставился на него, спрашивая себя, какая нужда могла привести в колледж этого человека.
– Тот юноша, вон тот блондин, украл яблоко в моей лавке, – произнес мужчина спустя несколько секунд.
В первое мгновение отец Кешишьян хотел было заверить мужчину, что тот ошибся. Но зеленщик без тени сомнения указывал пальцем на Дика-вора.
– Сегодня вечером мяса не будет, как обычно по воскресеньям. Это мое наказание за то, что вы скрыли грехи вашего товарища Дикрана, – объявил директор, отец Айвазян. Это был пожилой человек с лицом, которое никогда ничего не выражало, в какой бы ситуации он ни оказался. – Теперь садитесь и помолимся.
Он подождал немного, пока студенты заняли свои места на лавках, и потом начал:
– Благословен Ты, Господь, Владыка Вселенной, питающий нас по доброте своей…
У него был хриплый голос с носовым звуком, который раскатистым эхом отскакивал от голых стен столовой. Молодые люди сосредоточились в почтительном благоговении. У них были мокрые волосы из-за проливного дождя, и кое-кто даже позволил себе чихнуть. Чтобы попасть в столовую, надо было пройти через двор, так что в плохую погоду легко было промокнуть.
– Аминь, – завершил молитву директор.
Он сделал пригласительный жест рукой, и три монашки начали обходить столы и разливать по глиняным плошкам картофельный суп. Острый запах жареного лука вызвал приступ тошноты у Микаэля, но он совладал с собой.
– Сестра Валентина, мне совсем чуть-чуть, – взмолился он, благодарно натянуто улыбнувшись.
Бормотание в зале покрыл звук колокольчика, это был сигнал к тишине.
Отец Сирапян по прозвищу Габиг, то есть обезьяна, названный так за густую волосатость, встал.
– Микаэль, пожалуйста, – сказал он, – сегодня вечером твоя очередь читать нам отрывок из «Чистилища». – И подвинул вперед черный томик, лежавший перед ним. Во время ужина студенты должны были читать по очереди отрывок из специально выбранной для этого случая книги.
Микаэль на мгновение замешкался, потом встал и пошел к большому столу, за которым ужинали все девять монахов колледжа. Темные одежды, выделявшиеся на фоне белых стен зала, делали их похожими на летучих мышей или по крайней мере на создания из потустороннего мира. Азнавур глянул на Микаэля, когда тот перешагивал через лавку, и ему не понравилось угрюмое и неопределенное выражение лица друга. Он проводил его взглядом, пока тот шел по проходу, и заметил, что Микаэль немного пошатывается. Азнавур даже забеспокоился, чтобы тот вдруг не упал.
– Итак, – начал отец Сирапян, – мы выбрали псалом «Помилуй, Боже». Нам показалось это целесообразным после известных событий сегодняшнего вечера.
Микаэль хотел было сказать что-то в защиту Дика. Он хотел объяснить монаху, что тот и не думал красть, а только хотел показать ловкость, свои навыки почти состоявшегося фокусника. Словом, это было просто ребячество, а вовсе не настоящая кража. Но неподвижное лицо директора, его ленивый и отсутствующий взгляд заставили юношу изменить свое решение. Сидевший рядом Волк окинул своего ученика проницательным взглядом. Микаэль взял книгу и направился к винтовой лестнице, которая вела к деревянному амвону. Стараясь не потерять закладку, он поднялся и неопытным жестом положил книгу на пюпитр, хлопнув ею в унисон с разразившимся в этот момент за окнами громом.
Затем он откашлялся и начал читать:
– «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей…»
Суп в плошках остывал. Никто не осмеливался есть его из опаски. Только директор зачерпнул ложкой бульон и втянул его, не беспокоясь о сопровождавшем этот жест звуке.
– «По множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое…»
– Святые отцы!
Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Беппе, возбужденный больше обычного. Дождевые потоки стекали у него по щекам, и видно было, что он с усилием старается не закрыть глаза. Директор перестал есть и так и застыл с ложкой на полпути ко рту.
– Святые отцы, случилось что-то ужасное. Студента Дикрана нет… Он исчез, – заикаясь, проговорил привратник.
Молния осветила розовый сад, и Микаэль вздрогнул, но губы его продолжали двигаться самостоятельно, будто и не слушались его вовсе:
– «Ибо в беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мати моя…»
– Микаэль, прервись, – приказал ему директор, поднимаясь. – Господин Беппе, прошу вас, постарайтесь объяснить нам понятнее, что вы только что сказали, – обратился он к привратнику, силясь сохранять спокойствие.
В голове моей перемешались образы, такие реальные, что дух захватывает, и я знаю, что это симбиоз, который нас связывает. Это как если бы один глаз продолжал видеть обычные ежедневные сцены в колледже: накрытые столы в столовой, товарищей, сидящих за партами, классные доски с каракулями на латинском, тела отдыхающих студентов на железных кроватях в палатах. Словом, послушный и укрощенный глаз. А другой, взбунтовавшийся и почти шизофреничный, видит реальность, которой я не знаю и в которой никогда не мог бы жить. Мне очень страшно, я чувствую, что что-то ужасное должно произойти. Но я молчу, потому что, если заговорю, мне никто не поверит и как минимум сочтут сумасшедшим.
– Спускайся, разве ты не видишь, что все уже ушли? – вернул его к реальности Волк.
Микаэль несколько минут стоял не двигаясь у пюпитра, с устремленным куда-то в одну точку взглядом, бледный как полотно, но, услышав голос преподавателя, вздрогнул и опустил глаза.
Отец Кешишьян был очень встревожен его странным поведением.
Открытый замок висел на дужке в дверной петле. Кто знает, почему Дик оставил его там, прежде чем отправиться в свободный полет, может быть, чтобы напомнить всем, насколько он ловок и хитер, или просто как сувенир.
В тот вечер монахи решили закрыть парня в кладовке на третьем этаже. Только однажды она была использована для наказания студента, у которого под матрасом нашли порнографический журнал. Это была тесная комнатка, полная коробок с моющими средствами, и, как только закрывалась дверь, в ней наступала кромешная тьма.
– За что вы закрыли его здесь? – спросил полицейский директора.
– За плохое поведение.
Полицейский, пузатый и лысый, покачал головой и передвинул швабры и ведра, словно надеялся, что Дик спрятался за половыми тряпками.
Толпа молодых людей запрудила коридор, пока монахи с трудом старались сдерживать их и держать подальше от места расследования. Любопытство брало верх. Как Дику удалось так легко высвободиться?
– Вы утверждаете, что видели парня, когда тот сбегал, – обратился полицейский к привратнику.
Господин Беппе посмотрел на директора.
– Ну да, я видел его со спины из окна. Он бежал как сумасшедший под дождем к библиотеке. – И он указал в направлении здания, стоявшего за садовым мостиком. – Я даже позвал его. Я крикнул: «Микаэль!» – потому что думал, что это другой студент, на нем был зеленый френч Микаэля.
Отец Айвазян пошевелил губами, будто хотел что-то сказать, но промолчал.
Полицейский сделал привратнику знак, чтобы тот продолжал.
– Ну вот… Я решил пойти за ним и остановить его, но потом, проходя здесь, увидел, что дверь распахнута настежь, замок открыт, и я сразу понял, что это был Дикран. Тогда я стал искать его повсюду, дождь лил как из ведра, в общем, я добежал до нижней ограды, там, в глубине… – Наступило краткое молчание, за время которого каждый сделал свои выводы.
Затем полицейский попросил, чтобы его проводили на первый этаж. Отец Айвазян и Волк пошли впереди него к мраморной лестнице, и все трое спустились вниз в молчании и задумчивости. Проходя по Зеркальному залу, полицейский замедлил шаг и, подняв голову, восхищенно разглядывал потолок, украшенный фресками. Затем они вошли в узкий коридор без окон.
Директор остановился напротив двери.
– Это моя комната, – сказал он, взявшись за дверную ручку. – Замок был взломан.
Обстановка в комнате была скромная, но вполне достойная. Совсем мало мебели и кое-какие предметы: кровать у стены, два стула, шкаф, письменный стол, много книг. Окно выходило во дворик, на подоконнике стоял горшок с геранью.
Полицейский осмотрелся в комнате, затем остановил взгляд на открытой металлической коробке, которая лежала на кровати. Он приблизился и изучил ее содержимое, слегка двигая одним пальцем.
– Вы говорили, что здесь ничего не пропало, за исключением паспорта юноши и денег?
Правила колледжа предусматривали, что студенты по прибытии отдавали директору свои документы и деньги, которые имели при себе. Это был хороший способ отвадить от побегов.
– Сколько? – спросил полицейский.
– Семь тысяч двести лир, все деньги моих студентов, – ответил Айвазян.
Все трое еще на несколько минут задержались в комнате. Затем полицейский надел фуражку и сказал:
– Мы уже сообщили данные беглеца в портовое и железнодорожное управления. Но, к сожалению, как я уже говорил, никаких следов Дикрана Саме…
– Самуэляна. Нет необходимости напоминать вам, в каком состоянии мы все тут пребываем, господин инспектор, – сказал Айвазян. – Если у нас не будет новостей до завтрашнего утра, я должен буду поставить в известность родителей в Соединенных Штатах.
– Мы сделаем все от нас зависящее, – заверил его полицейский и удалился.
Директор повернулся к отцу Кешишьяну:
– Приведите Микаэля. Я уверен, что он что-то знает. И если не скажет, то горько пожалеет об этом.
– Можно мне немного воды? – Глаза Микаэля были красные и сонные.
Волк взял графин со стола и налил в стакан воды, заметив, как бледен юноша. Были дни вроде этого, когда он горько сожалел, что стал преподавателем.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
Юноша кивнул.
Отец Кешишьян и директор допрашивали Микаэля всю ночь, заставляя его многократно повторять одну и ту же историю. Юноша клялся, что ничего не знает о побеге, хотя и признался, что видел, как его товарищ украл яблоко.
– А как же быть с френчем? – язвительно спросил отец Айвазян.
Микаэль не смог этого объяснить и растерял всю свою уверенность, что в глазах директора было очевидным свидетельством его причастности к побегу Дика.
А бедный Микаэль просто терялся в догадках: зачем друг взял его френч? Может, надеялся, что тот принесет ему удачу, или в спешке схватил первое, что ему попалось под руку?
– Потрудись объяснить нам, почему ты сразу же не заявил о краже? – снова настаивал отец Айвазян. – Скажите, отец, я прав или нет? – добавил он, обращаясь к Волку за поддержкой.
– Да, ты должен был прийти ко мне, – согласился Волк, читая в глазах ученика глубокое раскаяние.
В этот момент резко зазвонил телефон, так что все вздрогнули от неожиданности. В квестуре[17] появились новые данные по делу, которые срочно требовалось сообщить директору лично. Айвазян накинул на плечи плащ с капюшоном и, ничего не объясняя, выбежал из кабинета.
Волк заметил, что Микаэля знобило, что он стал еще бледнее, точно вот-вот упадет в обморок.
– Отдохни немного, – сказал он, показывая жестом на кушетку с подлокотниками из вишневого дерева. – Ты сможешь подняться в палату, как только директор вернется, – заверил он юношу.
Молодой человек присел на диван, который совсем не показался ему удобным.
– Возьми это… – Отец Кешишьян протянул ему подушку от кресла.
Микаэль лег. Он был строен, хотя и не высок, у него была светлая кожа, большая редкость для армянина, и волосы с медным отливом, что придавало ему вид одара, чужака. Когда Волк увидел его впервые входящим в класс, то нашел, что юноша напоминает чем-то лорда Байрона, изображенного на литографии, хранившейся в библиотеке на острове Святого Лазаря. У него была прямая походка, приятный тембр голоса и хорошие манеры, что, несомненно, отвечало его социальному статусу. Несмотря на то что отец Кешишьян много лет работал с молодыми людьми и был хорошо знаком с их проблемами, он повторял себе, что в Микаэле было что-то необъяснимое. Казалось, что он ревностно скрывал свой внутренний мир, из которого лишь иногда проступало что-то крохотное или вовсе ничего.
Между тем юноша, изрядно вымотавшийся, заснул в обнимку с подушкой, но Волк заметил, что он весь покрылся испариной. Тогда он встал и приложил ладонь к его лбу. Микаэль даже не пошевелился.
Ты проснулся раньше обычного и, лежа в постели, прислушиваешься к звукам в доме.
Дыхание Микаэля сделалось учащенным. Лицо скривилось в гримасе, грудь вздымалась, пока он тяжело дышал.
Волк встревожился и слегка потряс его за плечи.
– Не трогайте меня, не трогайте меня! – закричал юноша, отмахиваясь вслепую.
3
Патры, 1938 год
В тот вечер Мартирос, так многие звали маклера, заглянул на мануфактуру. Он делал это всегда, когда приезжал в Патры. Крупный, видный мужчина, он всегда носил на голове криво сидевшую соломенную шляпу. На нем был элегантный коричневый костюм, белая рубашка из поплина и шейный платок. Широченные по тогдашней моде брюки перехватывал на поясе ремень, да так высоко, что они казались слишком короткими для его роста.
Сам из семьи армянских беженцев, он вырос в лагере вместе со всеми, но в один прекрасный день вдруг решил переехать в Афины, где судьба улыбнулась ему: он познакомился с влиятельными людьми, греками и армянами, и они помогли ему устроиться. Он занимался коммерцией, и каким бы ни был товар, для него это был лишь источник доходов. Злые языки утверждали, что он был замечен в сомнительных кругах и не гнушался темными делишками, хотя это не сочеталось с его респектабельной внешностью голливудского актера.
– Что ты здесь делаешь? – спросил его охранник, широко улыбаясь. Однажды Мартирос оказал ему услугу, достав пару шелковых чулок для его невесты.
– Пройдусь, поздороваюсь со всеми, – ответил тот, подмигнув сквозь дым сигареты, едва державшейся в уголке рта.
Он направился к оливковому дереву и, сев в тени, стал ждать, когда друг детства Сероп закончит смену. А пока продолжал болтать с охранником, повышая голос, чтобы перекричать шум работавших станков, и вызывая удивление своими рассказами о столичной жизни. Он прервался только один раз, чтобы поприветствовать старых знакомых – уставших и много испытавших рабочих, которые выходили из фабрики.
– Начальник, сигаретки не найдется? – спросил его один из них в надежде получить в подарок всю пачку.
– Ты похож на Рудольфо Валентино, – польстил другой, кинолюбитель, кивнув на отличного покроя костюм.
Наблюдая за убогостью этих людей, Мартирос мысленно возблагодарил Бога за то, что тот уготовил ему другую судьбу, куда лучшую. Если бы он остался в Патрах, то влачил бы теперь такое же существование. Но более всего его поразил внешний вид Серопа, как только он увидел друга, показавшегося на пороге фабрики. Они не виделись всего полгода, но за этот короткий срок тот сильно изменился. На нем было какое-то рванье: рубашка, хотя и аккуратно заштопанная, была сильно поношена и почти просвечивала от частых стирок, потертые и лоснящиеся брюки с видневшимися там и тут заплатами из другой ткани. Но вблизи было еще заметнее, как сильно постарел его друг. Все лицо его было испещрено морщинами, которые придавали ему вечно грустное выражение.
– Эй, что с тобой, стахановец? – Мартирос хлопнул друга по плечу, стараясь скрыть смущение.
Шутка удалась, и на лице Серопа появилось некое подобие улыбки.
– Пойдем, расскажу, – ответил он, с опаской озираясь вокруг.
Мужчины вышли за ворота и направились по пыльной дороге в город.
– Пойдем полями, – предложил Мартирос с детским энтузиазмом.
– Зачем?
– Так просто, чтобы вспомнить времена, когда мы были детьми.
Мальчишками они играли в полях подсолнечника, прятались в цветах, втягивали их сладковатый аромат, грызли несозревшие семечки, по вкусу напоминавшие молоко. А когда шел дождь, они срывали подсолнухи, чтобы прикрываться ими, как зонтиками.
Сероп засмеялся, глядя на узкие, двухцветные башмаки друга, выглядывавшие из-под элегантных брючин.
– Да, но тогда ты бегал босиком, – заметил он, прежде чем скрыться в густых зарослях.
– Какая разница, – ответил Мартирос, бросил окурок, придавил его каблуком и последовал за другом.
– Как дети? – спросил Мартирос, закуривая другую сигарету.
– Хорошо, – ответил Сероп, пожав плечами. – Но тот, что родился первым, прямо злой какой-то.
Приятель ухмыльнулся.
– Он всего лишь ребенок, чего ты?
– Ну и что с того? Факт остается фактом: брат его чистый ангел, а он – дьяволенок…
– Как тебе удается его отличать?
– У него на запястье красная тесемка, а у другого – зеленая, – ответил Сероп, насупившись.
Они шли среди высоких цветов, прокладывая себе дорогу руками, особенно Сероп, который был ниже ростом, – единственное черное пятно на желтом фоне.
– Эй, смотри, какая красота! – воскликнул Мартирос, обернувшись и придерживая рукой шляпу, чтобы ветер не унес ее.
Они дошли до вершины холма, откуда открывался чудесный вид. Солнце на закате, восхитительный огненный шар, едва касалось края моря, позолотив всю бухту. От раскаленной за день земли исходил радужный пар, а в нем дрожали и расплывались контуры всего вокруг. Подсолнухи, сами как маленькие солнца, повернулись к заходящей сфере, чтобы почтить ее последним приветствием сегодня.
– Считаю до двадцати, и его не станет…
Сероп удивленно уставился на друга.
– Солнца, егбаир, брат, – уточнил Мартирос. – Сегодня – это уже вчера, и знаешь, что я тебе скажу? – Он выдержал паузу, чтобы привлечь внимание друга. – Завтра будет другой день! – воскликнул он театральным голосом бывалого комедианта.
Сероп посмотрел на горизонт, и вдруг дрожь пробежала по всему его телу.
– Что с тобой? – спросил Мартирос, заметив этот легкий озноб.
– Давай вернемся, – пробормотал Сероп, отгоняя кружившего вокруг него комара и возвращаясь к прерванному пути.
– На работе что-то не так? – попробовал угадать друг, но не получил ответа. – Живан сказал, что ты хотел видеть меня, – настаивал Мартирос, упомянув общего знакомого, водителя грузовика, который возил товар с фабрики в Афины.
– Да.
– Чем я могу помочь тебе?
Сероп неожиданно остановился.
– На днях меня вызывал к себе начальник цеха. Сказал, что есть излишки рабочей силы и что…
– Что?
– Вероятно, с сентября, после отпусков, меня уволят.
Он произнес эту фразу как-то отрешенно, будто речь шла о чужом несчастье.
– Твоя жена знает?
– Нет.
– Что думаешь делать?
– Обращусь в профсоюз, там меня хорошо знают. Хозяевам это с рук не сойдет, – заявил Сероп уверенно, вырвав подсолнух с такой силой, будто хотел выместить всю накопившуюся злость на цветке. – Пришло время дать им понять раз и навсегда, что они должны уважать права трудящихся.
Мартирос приподнял брови, он никогда не слышал от друга таких речей.
– Надеюсь, ты не стал коммунистом?! – удивленно добавил он.
Сероп выбросил цветок и сменил тему:
– Знаешь, я ведь шью тапочки, мягкие кундуры. Красивые…
– Да, мне сказали.
– Помоги мне продать их.
Мартирос с сомнением посмотрел на него.
– Ты знаешь много людей в Афинах, повсюду, – добавил Сероп. – И я готов заплатить тебе процент…
Мартирос засмеялся.
– Что тут смешного?
– Нельзя разбогатеть, продавая тапочки, друг мой.
– А я и не хочу становиться богатым. – Сероп резко повернулся в сторону бухты и застал то самое мгновение, когда солнце окончательно утонуло в море. – Я хочу растить моих детей, – объяснил он просто, пока последний солнечный луч гас на его лице.
– Понимаю, – ответил маклер с уважением, – но сколько пар тебе надо продать в неделю? Нет, лучше так, сколько ты сможешь сшить за это время? Две, три?
Сероп неуверенно покачал головой.
– К сожалению, я не могу тебе помочь, но я дам тебе совет… – Мартирос далеко отбросил окурок. – Знаешь итальянский квартал?
– С другой стороны порта? В Сан-Дионисио?
– Да. Пойди туда и поговори с Капуто, у него большой обувной магазин. Итальянцы умеют ценить красивые вещи. Если твои тапочки понравятся Капуто, он хорошо заплатит тебе за них. Можешь сказать, что тебя прислал я.
– Капуто?
– Да.
Они уже подходили к городу.
– Куда ты теперь? – спросил Сероп, смахивая со лба капельки пота.
– Вернусь в Афины девятичасовым поездом.
Сероп кивнул.
– Возьми, вытри их, – сказал он, протягивая платок и указывая на башмаки.
– А, спасибо. – Мартирос наклонился и вытер кончики башмаков, испачканные в глине. – Ладно, – завершил он. – Пойду здесь, так быстрее.
– До скорого.
– Если тебе что-то понадобится…
– Конечно…
Мартирос чуть приподнял поля своей шляпы и повернулся к огням, сверкавшим в полумраке. Сероп стоял, глядя, как тот исчезает среди узких немощеных городских улочек. Он подумал: «Какое, должно быть, счастье иметь возможность сесть в поезд и уехать куда-нибудь подальше от ежедневных забот».
«А если я не вернусь домой?» – спросил он себя, когда первая вечерняя звезда показалась на небе.
– Я тебя ждала, – сказала Сатен с ноткой упрека и повышая голос, чтобы перекрыть шум в комнате.
Сероп только что отодвинул портьеру в свою лачугу и чуть не оглох от крика детей. Сидя на кровати, его жена тщетно пыталась успокоить одного из близнецов, который громко и безутешно плакал, пока Луссиа-дуду занималась другим сорванцом, который резко и раздраженно протестовал.
– Что тут случилось? – спросил Сероп, приближаясь.
– От тебя пахнет мосхуди, ты пил? – Сатен помахала перед носом рукой, чтобы развеять неприятный запах.
– Что случилось? – повторил он, повысив голос.
– Да так, детские стычки, – вмешалась повитуха. – Один сделал больно другому, – добавила она, стараясь смягчить ситуацию.
– Кто?
Обе женщины выразительно посмотрели друг на друга.
– Микаэль, – ответила Луссиа-дуду, показав на ребенка, которого держала за руку. Сероп заметил красную тесемку на запястье.
– Что еще он натворил?
– Он уколол своего брата иглой, – ответила Сатен с напускным равнодушием.
– Иглой?
– Да, я сшивала носки тапочек… – Она кивнула в сторону швейной машинки на столе.
– Ты все время упрямо пытаешься работать одна! – закричал Сероп, покрывая крики детей.
Сатен вздрогнула от испуга.
– Это была моя идея. Я хотела помочь ей, – скромно вступилась Луссиа-дуду.
– Молчи! Замолчите все!
Впервые в жизни Сероп позволил себе неуважительно отнестись к той, что вырастила и воспитала его. Он был вне себя. В порыве ярости он вырвал Микаэля из рук повитухи и поднял его в воздух, сильно встряхнув пару раз.
– Ты злой! Злой! – кричал он с выпученными глазами, не замечая, что бельевая веревка, натянутая через всю комнату, оказалась под подбородком ребенка, пока он тряс его.
– Ты задушишь его! – вскрикнула испуганно Сатен и соскочила с кровати, бросив другого малыша.
– Не двигайся, женщина, – остановил ее Сероп, оттолкнув.
– Силы небесные, прекратите вы оба! – вмешалась Луссиа-дуду. – Стыдитесь! – Затем без лишних слов взяла свою хозяйственную сумку из пеньковой веревки, ту самую, которую обычно наполняла продуктами для них всех, и ушла.
Дети наконец-то уснули в люльке. Сатен и Сероп лежали в кровати, уставившись в жестяной потолок.
– Прости меня за сегодняшнее, – прошептала Сатен.
Сероп фыркнул.
– Ты много работаешь, и нервы у тебя на пределе… – добавила она, повернувшись к мужу, который упорно молчал. – Почему ты не разговариваешь со мной? Я твоя жена, ты должен полагаться на меня…
Сероп подавил смех.
– Что ж, если тебе так этого хочется, я поговорю с тобой. Посмотрим, можешь ли ты мне помочь…
Сатен вытянулась в кровати с довольным видом, поправила на плече лямочку от ночной сорочки и сложила руки на животе, готовая слушать.
– Меня уволили. Что ты думаешь теперь делать? – неожиданно с вызовом выдал Сероп, приподнявшись на локте и приблизив почти вплотную свое лицо к лицу жены. – Так что? Послушаем! – жестко произнес он.
Сатен онемела от растерянности и удивления.
– Это все, что ты можешь мне сказать? – произнес он с издевкой, взяв ее за руку, будто хотел встряхнуть от оцепенения. – И знаешь, по чьей вине? – Он повысил голос. – Вот его, Микаэля, он приносит несчастья.
Сатен покачала головой, сначала медленно, потом все сильнее, как в эпилептическом припадке.
– Вчера утром, когда меня выставили за дверь, он разбудил меня. И даже поцарапал руку… видишь? – говорил он все более возбужденно, показывая жене красный след на руке, не обращая внимания на боль, которую ей причиняли его слова.
– Прошу тебя, – взмолилась Сатен, едва сдерживая рыдания.
Сероп был необразован, склонен к суеверию, к поверьям, устоявшимся среди таких же малограмотных бедняков, как и он, выросших в нищете.
С самых родов, когда он с ужасом увидел, как пуповина Микаэля душит второго близнеца, он уверился в том, что этот ребенок – зло во плоти и принесет только несчастья, будто малыш делал это специально. С тех пор его уверенность усилилась не без помощи некоторых банальных совпадений, которые Сероп расценил как зловредное влияние ребенка на судьбу семьи.
И все-таки он никогда не говорил об этом жене так открыто. Сатен была подавлена, потрясена, и Сероп, как только прошли первые мгновения ярости, понял, что зашел слишком далеко. Ему было больно видеть жену в таком состоянии, он всегда старался защищать ее, заботиться о ней.
– Перестань, прошу тебя. Я погорячился. Найду другую работу, – сказал он, стараясь успокоить ее, но она продолжала всхлипывать, уткнувшись в подушку.
Он погладил ее длинные волосы, разметавшиеся по грубой льняной наволочке.
– Не плачь, – прошептал он.
Сатен вздрогнула, и он прижался к ней, охваченный неожиданным и страстным желанием. Несколько недель из-за тяжелых рабочих смен он не прикасался к ней.
«Люби твою жену, как нежный и редкий цветок…» – Совет, данный покойным отцом, эхом пронесся в его голове. Тщетно.
Он грубо подмял ее под себя, задрал сорочку и, держа за плечи, овладел ею с первого же раза, легко скользя благодаря испарине, которой покрылось ее тело.
– Нет!.. – застонала Сатен, поддавшись этому непривычному жесткому натиску, но в то же время испытав удовольствие.
– Скажи, что любишь меня, – потребовал Сероп.
Она молчала, не двигаясь под грузом его тела.
– Скажи, что любишь, – настаивал он.
Ничего.
Сероп отстранился от нее, давая понять, что не намерен продолжать, если прежде она не заверит его в своих чувствах. Он подождал несколько секунд и затем, так и не получив ответа, повернул ее на бок, лицом к себе. В темноте он увидел ее глаза, два янтаря, сиявшие как никогда.
– Так ты любишь меня? – спросил он снова, но на этот раз умоляюще.
– Я не могу любить тебя, если…
Сатен не закончила фразу, потому что Сероп прижал ее к себе и стал целовать с безудержной страстью. Он нежно кусал ее язык, губы, затем раздвинул ее ноги, поднял их и положил себе на плечи. Запах женщины опьянил его, ошеломил. Он слегка дотронулся до ее влажной кожи и, не сдержавшись, наклонился, чтобы «вкусить» запретный плод, а она изогнулась, вздрагивая от наслаждения.
Она первой услышала слегка свистящее дыхание. Повернув голову, она различила в темноте контур одного из детей. Он стоял в люльке, держась за край, и смотрел на нее, не двигаясь.
– Господи помилуй! – воскликнула она.
Оттолкнув от себя мужа, она бросилась на кровать, схватила влажную и мятую простынь и завернулась в нее.
– Что случилось? – запротестовал Сероп, сбитый с толку.
Он вытирал с губ капельки наслаждения Сатен, когда заметил краем глаза ручку с красной тесемкой на запястье.
Патры, 27 июля 1938 года
Дорогая Мириам!
У нас все хорошо, надеюсь, что и у вас тоже.
Наконец-то мне удалось сделать семейную фотографию. Видишь, какими славными стали дети? Все говорят, что они похожи на меня. На стуле сидит Сатен, у нее такой красивый цвет глаз, но здесь не видно. Разумеется, мужчина за ее плечами – это я. Я одолжил костюм и шляпу у друга.
Спасибо за пять долларов, что ты нам прислала с последним письмом, ты нас балуешь. К сожалению, у нас не получится отметить крестины детей этим летом. Мне бы хотелось устроить праздник, ты же знаешь, как важна для нас эта традиция, но нам не хватает для этого денег. С работой совсем плохо, меня уволили. Чем буду заниматься? Пока не знаю.
Благодарю тебя за твое приглашение приехать в Америку, но, дорогая моя кузина, меня это пугает. Я не говорю на языке и никого не знаю, даже тебя, в том смысле, что я тебя очень давно не видел. Помню, как тяжело было привыкать здесь, в Греции, учить язык, заводить знакомства… Думаю, если мне придется ехать куда-нибудь, то только чтобы вернуться на родину, в родную Армению. В страну моих прадедов, где все говорят на моем языке, молятся теми же молитвами и понимают меня прежде, чем я заговорю. Слышал, что сейчас, когда она стала частью Советского Союза, там живут хорошо, там равенство, там нет больше ни хозяев, ни батраков. Все вместе строят лучшее будущее, говорят. Может быть, мне надо было уехать уже в тридцать шестом, с караваном остальных беженцев. Но я надеюсь на Бога и терпеливо жду.
С наилучшими пожеланиями тебе и твоему дорогому мужу.
Еще раз спасибо,
твой кузен Сероп.P. S. Сатен и дети шлют тебе множество поцелуев.
Молодая женщина, постучавшаяся в дом к Газарянам, привлекла внимание Фитиля с вечно застрявшей между зубов семечкой. Женщина была стройная, одета по-европейски, утонченно, даже изысканно. Она подождала некоторое время, но, не получив ответа, отодвинула портьеру.
– Госпожа Газарян? – позвала она с легким иностранным акцентом.
Фитиль нагнулась вперед насколько могла, но так больше ничего и не услышала, потому что, как только появилась Сатен, незнакомка заговорила с ней очень тихо. Обе женщины задержались лишь на несколько мгновений на пороге, а потом Сатен пригласила незнакомку войти в лачугу.
– Присаживайся, Лузинэ, – пригласила хозяйка дома, указывая на единственный стул.
– Люси, – уточнила гостья. Она смущенно улыбнулась, быстро осмотрелась вокруг и села, разгладив одной рукой свое шелковое платье.
– Как видишь, у нас тут не так много места, и, к счастью, ты пришла в тихий час! – сказала Сатен, указывая на люльку.
Люси вскочила.
– Да они близнецы? – спросила она, сделав шаг вперед.
Дети спали в обнимку, один из них положил ножку поверх ножки братца, будто хотел зацепиться за него, вернуться в те времена, когда они были неразлучны в утробе матери.
– Какие красивые! – восхищенно воскликнула девушка.
– Спасибо.
– Сколько им месяцев?
– Восемь… Хочешь? Их только что собрали. – Сатен подвинула ближе стоявшую на столе тарелку со свежим инжиром.
– Сейчас нет, спасибо. Может быть, позже.
– Ты сказала, что твои родители знали Розакур?
– Моя мама ходила вместе с ней в школу в Адапазары.
– Но ты родилась в Лондоне?
– Да, мои родители познакомились и поженились в Англии.
Сатен покачала головой, не понимая причины этого неожиданного визита.
– Понимаете, – продолжила Люси, заметив ее сомнение, – я должна получить новое назначение в вашем городе. АБС[18], Армянский благотворительный союз, основанный в Соединенных Штатах, предложил мне место преподавателя в Патрах, начиная с сентября. Вы слышали, наверное, о средствах, выделенных на расширение школы в коммуне?
Сатен отрицательно покачала головой.
– Я уже несколько месяцев как почти никого не вижу и практически не выхожу из дома, – пояснила она. – Когда моя приемная мать преподавала, она мне все рассказывала. Она была высокообразованная женщина. – В ее тоне слышалась гордость.
Комок подкатил к горлу Сатен, когда она заговорила о Розакур. С тех пор как она сама стала матерью и узнала не понаслышке, как тяжело воспитывать детей, она часто вспоминала женщину, которая пригрела ее и вырастила с любовью и заботой, как настоящая мать.
– Видишь? – добавила она, показывая на украшения, которые носила на запястье. – Это ее браслеты. Она подарила мне шестнадцать, но сейчас их осталось десять, несколько нам пришлось продать…
Люси заметила горькую улыбку на лице Сатен и сменила тему.
– Все очень ценят то, что Розакур сделала для коммуны, для детей беженцев, и благословляют ее память, – подчеркнула она. – Без ее усилий многие так и остались бы неграмотными.
– А ты тоже будешь учить армянскому языку? – перебила ее Сатен.
Девушка засмеялась:
– Нет, что вы!
– Давай на «ты», я ведь моложе тебя.
– Как хочешь. Я преподаю английский, а мой армянский слишком слаб.
Они помолчали, сидя напротив друг друга. Сатен почувствовала запах роз и корицы, которым наполнилась комната с появлением Люси.
– Я хотела узнать, – снова заговорила девушка, откашлявшись, – не осталось ли у тебя школьных книг, которыми пользовалась Розакур на своих уроках? Я бы хотела взглянуть на них. Было бы неплохо следовать той же методике в изучении английского языка, чтобы ученики могли воспринимать одновременно на двух языках одни и те же понятия и слова.
– Если не ошибаюсь, что-то должно было остаться, – ответила Сатен, – я все сложила в одну коробку.
Она встала и, наклонившись, пошарила под кроватью.
– Наша жизнь в одной коробке… – пробормотала она, вытаскивая на свет шкатулку, обтянутую красным бархатом.
– «Barney’s deluxe chocolates», – прочитала Люси.
– Вот. Все, что осталось, находится здесь, – сказала Сатен, открывая шкатулку. – Посмотри сама, – предложила она.
Девушка на мгновение замешкалась, потом стала перебирать бумаги, среди них свидетельство о смерти Розакур, свидетельство о браке Сатен, некоторые домашние работы, так и не востребованные учениками, и в самом низу учебник по грамматике армянского языка.
– Вот он, – воскликнула она и стала жадно перелистывать, задерживаясь на заметках, оставленных на полях рукой учительницы. – Великолепно… – прошептала она.
– Там должны быть еще и фотографии, – вмешалась Сатен. – Посмотри получше.
– Неужели Розакур читала Сарояна на английском? – удивилась Люси, достав из коробки книгу.
– Нет. Это подарок из Америки. Ее прислала кузина моего мужа. Говорит, что очень интересный писатель. Ты его знаешь?
– Прекрасный, ты обязательно должна прочитать эту книгу, – ответила девушка, тут же покраснев от неловкой фразы. – Прости, я не хотела…
– Ничего… Скажи, о чем она?
Люси вздохнула:
– Ничего особенного. Просто рассказы, но язык великолепен.
– Но должна же быть какая-то история? – настаивала Сатен.
– Ну конечно. Скажем, рассказ, название которого носит вся книга, – это история молодого писателя в период Великой депрессии, которая поразила Соединенные Штаты почти десять лет назад. Помнишь? – спросила она снова слишком поспешно. – Она трогательная, увлекательная, и ты не можешь оторваться от книги, пока не дочитаешь все до конца.
– А как она называется? – спросила Сатен, показывая на обложку.
– «The Daring Young Man on the Flying Trapeze» – «Отважный молодой человек на летающей трапеции».
– Что такое «трапеция»?
– Это акробатический снаряд в цирке, палка, подвешенная на канатах под самым куполом, – попыталась объяснить гостья, рисуя рукой в воздухе.
– А при чем здесь это?
Люси задумалась на минуту. Подняла глаза и заметила висящую на натянутой через всю комнату веревке мокрую майку, с которой еще капала вода.
– В конце писатель умирает от голода…
– Умирает?
– Да.
– И что?
– Думаю, что Сароян, автор рассказа, сравнивает возбуждающую магию полета на трапеции с психозом, который предшествует смерти…
Сатен слушала ее затаив дыхание.
– Это грустная история, – пробормотала она.
– Да, но очень поэтичная.
– Ты счастливая, что прочитала ее. Что смогла… Почитай мне начало! – вдруг взмолилась она.
– Сейчас? – спросила Люси и засмеялась, не в силах сдержаться.
– Прошу тебя!
– Но мне придется переводить на ходу…
– Разве ты не преподаешь английский? – тут же парировала Сатен.
Девушка заерзала на стуле и открыла книгу. Запах типографской краски смешался с ароматом роз и корицы.
– Первый абзац, – сказала Сатен.
– Хорошо, первый.
Учительница откашлялась и тихо прочла первые слова, затем подумала какое-то мгновение и начала по-армянски:
– «Сон. Бодрствование в горизонтали на вселенских просторах, смех и радость, сатира, конец всему…» – Она резко положила книгу на колени и недовольно покачала головой. – Нет, так нельзя, я убиваю текст, я должна хорошо обдумать, – пожаловалась она.
Один из мальчиков зашевелился во сне, и она, воспользовавшись ситуацией, встала.
– Уже поздно, я не хочу мешать, – сказала она. – Можно я возьму это? Обещаю, что верну, – попросила она, показывая на старый букварь Розакур.
Сатен немного подумала.
– Да, – разрешила она, – при условии, что…
Люси подняла голову и посмотрела ей в глаза.
– …при условии, что ты расскажешь мне историю с трапецией, переводя слово в слово. Ты сделаешь это для меня?
Молодая женщина посмотрела на нищенские условия, в которых жила Сатен: на люльку из четырех сбитых гвоздями досок, в которой лежали, обнявшись, близнецы, на майку и ползунки на бельевой веревке, с которых капала вода, на умывальник с надписью «калимера», на сшитые наполовину тапочки на кровати, на шкатулку из-под конфет рядом с инжиром, на муху, жужжащую над ними.
– Почему бы и нет? Мне кажется, это хорошая идея, – ответила она с напускной легкостью. Затем она взяла обе книги и попрощалась, махнув изящной рукой. – Я скоро вернусь, – пообещала она, прежде чем исчезнуть за портьерой.
4
Ереван, Армянская ССР (Советский Союз), 1952 год
В западных кварталах Еревана начинался необычно жаркий для этого времени года день. Солнце еще не взошло, но петухи уже нетерпеливо предвещали его появление. Гора Арарат, мрачная и внушительная, выделялась на фоне еще темно-синего неба, где блеск звезд слабел в такт порывам свежего ветра, волновавшего позолоченные кроны деревьев. Желто-красные трамваи с трудом и скрежетом тащились по блестящим, недавно проложенным рельсам. Это была Новая Себастия, строящийся квартал для репатриантов, для агбер, братьев, как местные жители называли их с сарказмом. В последнее время их прибыли тысячи из Европы, Америки, со всего света. Кампания по возвращению, хитро организованная Церковью с одобрения самого Сталина, убедила их, что для армянина нет будущего за пределами Родины, «славной любимой» Армении.
Высокие бетонные здания возникали тут и там, подавляя немногие сохранившиеся домишки из лавового камня. Скоро уже совсем исчезнут огороды, гумна и курятники. В долине, по ту сторону холма, за городом, множество труб выбрасывали в воздух дым и пар.
Уже давно улицы были запружены толпами людей, по большей части рабочих, спешивших к началу смены. На остановке на бульваре Оханова красные огоньки сигарет нервно поблескивали в темноте, прежде чем очередной трамвай уносил прочь эти измученные души.
Они избегали смотреть друг на друга, смотреть в лицо было запрещено.
В квартире Газарянов было еще темно. Габриэль проснулся раньше обычного и, лежа в постели, прислушивался к звукам в доме. Часы из обсидиана на буфете в гостиной тикали в унисон с отцовским храпом. Габриэль любил понедельники, единственный день, когда вся семья собиралась за завтраком. Он и сестричка Новарт садились за стол, как принц и принцесса, пока отец, у которого в этот день не было утренней смены, доставал молоко, а мама разогревала хлеб и резала сыр.
Новарт в соседней кровати вздохнула во сне. Габриэль поднял голову и ласково посмотрел на сестру. Он любил ее больше всех на свете, четырехлетнюю пичужку с копной черных кудряшек, одна прядь которых теперь выглядывала из-под одеяла. Газаряны недавно приехали в Армению, и, хотя это может показаться странным, у них не было друзей в городе. Те немногие люди, с которыми их связывала искренняя привязанность, решили остаться в Греции, не доверяя обещаниям, которыми пропагандисты размахивали у них перед носом.
Однажды юноша подслушал разговор под дверью спальни, где родители ругались вполголоса: мама говорила, что скучает по дому и что приезд в Армению был ужасной ошибкой…
Резкий визг тормозов снаружи заставил его вздрогнуть. Затем послышался жесткий скрежет и сухой удар закрываемой с силой автомобильной дверцы.
Габриэль задержал дыхание, спрыгнул с кровати, выглянул в окно и зажмурился от яркого солнечного света, ударившего в глаза поверх домов. Машина кремового цвета стояла поперек дороги напротив подъезда. Он успел заметить трех мужчин, которые заходили в дом. Он замер и несколько секунд так и стоял босыми ногами на холодном полу, прислушиваясь к шуму в подъезде. Кто бы ни были эти трое, они не вызвали лифт, а поднимались по лестнице, перескакивая через ступеньки. Прямо как он, когда возвращался из школы.
Он бегом вернулся в кровать и зарылся под одеяло. Сердце билось все сильнее – с каждой новой пройденной ступенькой. Страх сковал его, стало не хватать воздуха, и показалось, что он задыхается. Рядом безмятежно спала Новарт, он почувствовал, как ее дыхание пахнет розами. Ее имя по-армянски означало «розовый бутон». Он взял ее за ручку и, когда в дверь их квартиры громко постучали, сильно сжал ее в своей.
Не дожидаясь, пока кто-то откроет, трое выбили входную дверь ногами, и она с грохотом распахнулась. Запах потной формы распространился по дому.
– Новарт-джан, – прошептал Габриэль сестренке, чувствуя, как бешено пульсирует вена на шее.
Он услышал приглушенные голоса родителей в соседней комнате.
– Сероп Газарян, встаньте, – приказал отцу по-русски незнакомый голос.
– Что… Что происходит? – пробормотал тот, прежде чем послышался звук упавшего тела.
Мама слабо сопротивлялась:
– Прошу вас, позвольте, я разбужу детей.
Отца взашей выпихнули в гостиную.
Габриэль ждал, затаив дыхание, пока в комнату не вошел человек.
– Мальчики, вставайте! – гаркнул он и включил свет.
Это был молодой еще человек, высокий и крепкий, на голове его была серовато-коричневая фуражка с красной звездочкой в центре околыша.
Габриэль выпустил ручку сестренки и вскочил на ноги на кровати. Мужчина попытался схватить его.
– Не трогайте меня, не трогайте меня! – закричал юноша, отбиваясь ногами от чужака.
Новарт тут же проснулась и заплакала, будто от страшного сна. Потом она запрыгнула на кровать и спряталась за спиной Габриэля.
– Агбарик, братец, – хныкала девочка с лиловым от напряжения лицом и испуганными глазами.
Габриэль закрыл ее собой, как щитом, продолжая брыкаться ногами, пытаясь держать подальше от незнакомца. А тот, устав от его жалких наскоков, обошел вокруг кровати и, схватив в охапку девочку, с силой сдернул ее. Новарт взвизгнула и вцепилась ногтями в спину брата, в ужасе от того, что их сейчас разлучат.
Габриэль словно помешался, он не выносил, если кто-то трогал Новарт. Он был на одиннадцать лет старше и всегда и везде защищал ее. Он схватил с ночной тумбочки чугунную лампу и обрушил ее на голову мужчины. Тот скривился от боли, из носа его потекла кровь, но после первого мгновения оторопи он вскочил на кровать. Фуражка его почти доставала до потолка. Габриэль увидел мерзкие сапоги и следы грязи на маминых кипенно-белых простынях, прежде чем мужчина скрутил его и приподнял.
– Вот гаденыш! – сказал он и сбросил парня с кровати.
Новарт попятилась. На мгновение она подумала, что ее брат умер.
– Зовите меня Дмитрием, – сказал человек с проседью, не выпуская изо рта сигарету.
На старике, к которому он обращался, был старый халат в красных и черных квадратиках с обтрепанным воротником апаш и застарелыми пятнами от мыльной пены для бритья на груди. Ему было не меньше девяноста лет.
– Товарищ Аганян, присаживайтесь, – добавил Дмитрий, провожая его в квартиру Газарянов. – Вы должны только сидеть и смотреть. И ничего больше, ясно? – По его акценту можно было догадаться, что он из Еревана.
Аганян устало сел на стул посреди гостиной и слезящимися глазами посмотрел на соседей. Все четверо, тесно прижавшись друг к другу, уместились на диване, стоявшем под окном. Они оказались в ярких лучах солнца, которые, как нарочно, освещали именно этот угол комнаты, оставив все остальное в потемках.
Дмитрий был единственный в гражданской одежде, двое других, помоложе и явно не армяне, носили форму сотрудников министерства государственной безопасности.
– Имя? – спросил Дмитрий, повернувшись к главе семейства.
– Сероп.
Дмитрий сделал запись на сером бланке.
– Фамилия?
– Газарян.
– Дата рождения?
Сероп нахмурился, будто припоминая:
– Август 1910-го.
– День?
– Не знаю.
– Место рождения?
– Адапазары, Турция.
– Имя отца?
– Торос-ага.
– Имя матери?
– Не знаю, – сказал он после минутного замешательства. Сирануш, Нежная любовь, – слишком красивое имя, чтобы трепать его при таких обстоятельствах.
Мужчина испепелил его взглядом.
– Никто никогда не говорил мне его, – солгал Сероп.
Дмитрий постучал ручкой по столу. Слишком много неточных данных.
– Что указано в твоих документах?
– Неизвестная.
Дмитрий выдохнул сигаретный дым кольцами и продолжил:
– Имя жены?
– Сатен.
Чтобы заполнить бланк, потребовалось полчаса. Когда они закончили, Дмитрий обратился к Аганяну:
– Товарищ, вы знаете этих людей?
Старик посмотрел на диван. Он увидел маленькую Новарт, прижавшуюся к матери и продолжавшую тихонько хныкать. Несмотря на катаракту, заметил синяки на лице Габриэля и выражение ужаса во взгляде Сатен. Конечно, он их знал. Аганян жил в квартире напротив. Сатен единственная во всем доме стучалась к нему в дверь. «Дадиг, дедушка, я выхожу, тебе нужно что-нибудь?» – спрашивала она. Габриэль, возвращаясь из школы, приносил ему лекарства. Новарт, малышка, дарила ему свои рисунки, которые он развешивал на стенах. Сероп часто приглашал его в холодные зимние вечера разделить с ними горячую тарелку супа. Газаряны заботились о нем и старались унять его горе. Он, вдовец, репатриант из Румынии, остался совсем один, после того как его единственный сын был сослан в Сибирь.
Еще бы он их не знал!
Газаряны были его семьей в некотором смысле.
Его замутненный взгляд блуждал по их лицам. Сероп слегка наклонил голову, и старик ответил ему тем же.
– Да, я их знаю, – сказал он наконец.
Дмитрий кивнул, и двое в форме начали обыск. Они рылись в ящиках и шкафах. Вынимали и высыпали все из банок и коробок. Вспарывали матрасы и стеганые одеяла. Даже туалет разгромили, срывая трубы и сбивая плитку. Потом они вернулись в гостиную и бросили на пол все, что нашли в ящиках. Обыскали книжный шкаф и пересмотрели письма, присланные из Греции. Полностью разобрали швейную машинку Сатен. Шум переворачиваемой мебели и падающих предметов разносился по всей квартире, заставляя всякий раз вздрагивать девочку в объятиях матери. Габриэль наблюдал за отцом, надеясь, что тот повысит голос, станет сопротивляться этой бессмысленной разрушительной ярости. Но он ошибался. Сероп молчал.
Иногда сотрудники приносили Дмитрию результаты обыска и с надеждой показывали ему: кукла Новарт, гармошка Габриэля, шелковые тапочки Сатен, импортный крем для бритья Серопа.
– Может, это? – спрашивали они.
Дмитрий качал головой.
– Продолжайте искать, – приказывал он.
В полдень он потянулся и опять обратился к Аганяну с подобием улыбки:
– Энкер[19], не волнуйся. Сейчас закончим, вот увидишь.
Его подчиненные удивленно переглянулись, вытирая со лба капли пота.
– Можно мне стакан воды? – Габриэля мучила жажда, но ему не разрешали ни пить, ни есть. В наказание за то, что он сделал. На лбу у него вскочила шишка, верхняя губа была рассечена, и из нее сочилась кровь.
Дмитрий строго посмотрел на него.
– Да пожалуйста, чувствуй себя как дома, – издевательски пошутил он, и его люди засмеялись. – Возвращайтесь на кухню, – прогремел он, погасив очередную сигарету в пепельнице, полной окурков. – Чего ждете?
Затем он неприкрыто зевнул, и у него заслезились глаза. Было ясно, что он томится. Когда Габриэль вернулся на свое место, тот встал и прошелся до середины гостиной, вероятно, чтобы размять онемевшие ноги. Он был невысок и немолод, хотя мускулист и крепок.
– Так, понятно, придется самому, – пробормотал он.
Присоединившись к своим людям на кухне, он резкими и решительными движениями начал вышвыривать тарелки и ломать полки. Затем он выбросил столовые приборы и раскидал белье. Открыл подвесной шкафчик и стал шарить внутри, достав три стакана из цветного стекла и две банки для продуктов. Он открыл их, понюхал содержимое, затем простучал стенки, обтянутые бумагой. Приподнял дно шкафчика и что-то вытащил. Его лицо просветлилось.
– Вот то, что мы искали! – воскликнул он, торжествуя.
Все с интересом посмотрели на него. Даже Аганян нагнулся вперед, стараясь понять, что тот держал в руке.
Это была обложка книги.
– «The Daring Young Man…» – с трудом прочитал он по-английски. – Литература, и к тому же американского писателя. Молодец! – объявил он с сарказмом, размахивая обложкой и приближаясь к Серопу. Его молодчики последовали за ним.
– Ты можешь объяснить, что это такое? – спросил он, ткнув обложкой ему в лицо.
Сероп покраснел.
– Мне повторить вопрос? Что это за мусор? – Дмитрий резко повысил голос.
Габриэль увидел, что отец опустил голову, как мальчишка, на которого накричали. Его угнетало, что у отца не хватало смелости произнести имя автора, которого он всегда очень высоко ценил. Сколько раз он читал ему его рассказы, садясь после ужина на тот самый диван, где теперь теснились они все. Габриэль знал наизусть целые абзацы, самые красивые фразы, самые насыщенные: «Он с легкостью полетел бы, отважный молодой человек на летающей трапеции».
– Это обложка книги, – ответил юноша, не сдержавшись.
Сатен пронзила его взглядом, а Новарт подумала, что ее брат герой.
Дмитрий присел на корточки напротив юноши, прикусил губу и покачал головой.
– Отлично, спасибо, что ты меня просветил. Могу поспорить, что ты ее читал, а?
– Конечно читал, – вмешался сотрудник, которого мальчик ударил лампой по голове. Из ноздрей у него выглядывали кусочки ваты, поскольку из носа все еще сочилась кровь.
– Мой сын тут ни при чем, – заговорил наконец Сероп. – Это книга, которую я привез из Греции.
– Это всего лишь рассказы, прошу вас… – взмолилась Сатен, нервно ерзая на диване.
– Не надо держать меня за дурака, гражданочка, – остановил ее Дмитрий. – Я прекрасно знаю, кто такой Уильям Сароян, и знаю, о чем он пишет. Мы хорошо проинформированы и знаем, что вредит нашему народу и угрожает ценностям, в которые мы верим. – Он сделал глубокий вдох и добавил: – Так значит, вы храните обложку от книги вместе с мукой и рисом, как пищу для ума, что ли? Но сам текст где?
– Выбросил. Там все обтрепалось, сгнило… – ответил Сероп.
Дмитрий выпрямился, сделал шаг в его сторону и ударил по лицу с такой силой, что тот запрокинул голову назад. Новарт в ужасе уткнулась в широкий халат матери. Габриэль почувствовал боль отца и вздрогнул. Он хотел было ответить, но Сатен вовремя остановила его красноречивым взглядом.
– Это чтоб ты знал: не сметь, никогда не сметь лгать родине, матери-России, – заорал Дмитрий с красным от злости лицом.
– Прошу вас, товарищ, – вмешался Аганян тихо. – Эта книга принадлежала моему сыну, это я одолжил ее им. Видите ли, у меня не было ничего другого, чем я мог бы отблагодарить за доброту и заботу, с которой они ко мне всегда относились, – закончил старик, кашляя и тяжело дыша.
– Заткнись, убогий, – с презрением сказал Дмитрий. – Твой сын плесневеет в ледниках, а ты, надеюсь, уже завтра сдохнешь, – сказал он и сплюнул на пол.
* * *
Уже смеркалось, когда Серопа и Габриэля увезли на машине кремового цвета, что стояла у подъезда.
Целый день они отвечали на самые разные вопросы, а Дмитрий заполнял несметное количество бланков. С утра у них не было маковой росинки во рту, но и отец, и сын не чувствовали голода. Старый Аганян подписал-таки заявление, в котором подтверждал, что присутствовал при обыске в квартире Газарянов, который проходил согласно букве закона, без насилия, угроз или превышения власти.
– Простите меня, – пробормотал он, еще держа перо в руке, после того как поставил свою подпись.
Затем уполномоченные надели наручники на отца и сына и, забрав единственный крамольный предмет – поблекшую обложку книги Уильяма Сарояна, – вышли, хлопнув дверью.
– Куда вы их увозите? – крикнула Сатен, выбежав на лестничную площадку. – Когда я смогу их увидеть? – напрасно спрашивала она, пока кое-кто из соседей украдкой наблюдал в глазок своей двери.
– Садитесь.
Раненый сотрудник открыл дверцу машины. Сероп послушался.
Резко похолодало, на небе стали собираться серые тучи. Габриэль замешкался на мгновение, с жадностью вдыхая свежий колючий воздух. В этот момент перед ним пролетели чередой сценки из ежедневной жизни, которые теперь имели для него совсем иное, особое значение. Красивая девушка с сосредоточенным лицом, выходящая из трамвая, женщина в подъезде дома напротив, пытающаяся достать письмо из почтового ящика, мальчишки, бегающие по стройплощадке рядом с домом, пара старичков, переходящих дорогу и делающих вид, что не видят его, наконец, темное пятно черных волос Новарт, высунувшейся из окна, – все это пронеслось перед его взором в одно мгновение, прежде чем он опустил голову и сел в машину.
Когда машина тронулась и стала набирать скорость на бульваре, Габриэль обернулся и постарался запечатлеть в памяти эту последнюю фотограмму жизни, которая, как он догадывался, навсегда ускользала от него.
Ночь они провели в одной из камер, предназначенных для политзаключенных в подвале министерства государственной безопасности, на улице Налбандяна, в центре Еревана. Это было трехэтажное здание с парадной лестницей на фасаде, которую Габриэль сразу же узнал, как только они подъехали. Во время воскресных прогулок они, случалось, проходили мимо, и он видел другие машины кремового цвета, стоявшие у входа, пока кто-то в спешке подталкивал людей к лестнице. Он вспомнил, что отец, видя эти сцены, всегда ускорял шаг, мама переводила взгляд на кончики своих туфель, а ему не хватало смелости, держа за руку Новарт, спросить, что это за место.
На заре легкий дождик спрыснул каплями окна здания. Серопа и Габриэля привели в кабинет следователя. За письменным столом сидел худощавый человек с мертвенно-бледным лицом. Отец и сын молча ждали, пока он аккуратно складывал бумаги и закуривал одну сигарету за другой, тут же забывая их в хрустальной пепельнице. За его спиной в рамке на стене доминировала над всеми фотография «отца народов», товарища Сталина.
– Садитесь, – наконец сказал он, не поднимая головы. – Я прочитал ваше дело и с сожалением узнал, что среди нас есть личности, которые хотят совратить сознание нашего народа, – продолжил он.
– Но… – попытался оправдаться Сероп.
Человек остановил его, подняв руку.
– Слушайте, товарищ… – он поискал в документах, – Газарян, я подготовил заявление, в котором вы признаете свою вину и…
– Но я ничего не сделал, вы нашли всего лишь обложку от старого сборника рассказов.
– И этого вам кажется мало? Это мусор, язва на здоровом теле нашей партии! У вас дети, – он показал на Габриэля, который не сводил с него глаз, – вы обязаны воспитывать их в духе наших ценностей и идеалов. – Тон его был спокойным, но сразу становилось ясно, что он не примет никаких возражений.
Сероп замолчал.
– Итак, как я уже сказал, вы должны подписать это заявление. – И он положил лист бумаги и ручку перед Серопом, предлагая ему прочитать документ.
– Я, нижеподписавшийся, Сероп Газарян, перед лицом советского народа признаю себя виновным в том, что читал и распространял книги и статьи антикоммунистического содержания с целью навредить Советскому Союзу и его великому народу. Заявляю, что глубоко раскаиваюсь в содеянном, в том, что вел себя как враг народа, и желаю искупить вину перед Родиной за вред, который ей причинил.
– Что скажете?
Сероп покачал головой, не зная, что ответить.
– Значит, вы подпишете этот документ. К нему будет приложен другой, который мы подготовим вместе здесь и сейчас, то есть рапорт об обыске в вашем доме. Как вы понимаете, мы даем вам возможность, хотя вы ее и не заслуживаете, прояснить раз и навсегда, как такое могло случиться.
Неожиданно тело Серопа содрогнулось от сдерживаемого рыдания, и Габриэль посмотрел на него с удивлением.
– Папа… – тихо сказал он.
Следователь не понял, хотел ли юноша выразить свое сочувствие или же призывал отца к сдержанности.
– А ты, юноша, сколько тебе лет – пятнадцать, шестнадцать? Надеюсь, что ты отдаешь себе отчет во всей серьезности ситуации, – сказал он и закурил очередную сигарету.
Габриэль внимательно посмотрел на него, и вдруг перед ним раскрылась вся сущность этого человека: бюрократ, оказавшийся в слишком большом для него мундире, сидящий за письменным столом в кожаном кресле, полученном благодаря бог знает каким компромиссам, гнусностям и подлостям. Он обратил внимание на пожелтевшие от никотина дрожащие тонкие пальцы и испугался, что сигарета вот-вот выпадет из них. Он посмотрел на это осунувшееся лицо, на восковой цвет кожи, тонкие губы, сквозь щель в которых можно было заметить несколько золотых зубов.
– Тебе же хуже, – наконец сказал следователь, будто почувствовав презрение, которое испытывал к нему Габриэль. Он нажал на кнопку, и резкий трезвон эхом прокатился по коридору за кабинетной дверью. Почти сразу же на пороге появился молодой сотрудник. – Напечатай его признание, – обратился он к вновь прибывшему, показывая на подготовленное заявление Серопа.
Молодой человек замялся.
– Это невозможно, – наконец выдавил он.
– Почему?
– Наша машинка сломалась, сегодня к вечеру ее должны починить.
– Возьми пока другую, со второго этажа.
– Нельзя.
Следователь встал, и небрежно наброшенный китель соскользнул с его плеч.
– Не понимаю… – сказал он.
– В той машинке нет ленты.
– И что с того? Вставьте ленту из нашей.
Молодой сотрудник покачал головой:
– Мне жаль, но она не подходит, это разные модели, товарищ майор.
5
Венеция, 1952 год
– Намыливайтесь!
Крепко держась за кран, синьор Беппе командовал подачей воды с воодушевлением полководца. Только он и никто другой мог включить водопровод, основной кран которого находился рядом с коридором общих душевых. На стене слишком высоко для мальчиков крепилась длинная труба с множеством душевых леек. Оттуда вода брызгала во всех направлениях, но, что хуже всего, она была ледяной. Стоял ноябрь, и мыться в душе каждое утро было сродни пытке. Все энергично растирались мыльной пеной, надеясь хоть немного согреться.
– Споласкивайтесь! – послышался приказной окрик привратника, который, кажется, развлекался, глядя, как мальчики дрожат под ледяной струей. Кто-то прыгал, кто-то кричал, стараясь увернуться, а кто-то просто отходил в сторону, отказываясь мыться как следует.
– Бррр… Это все равно что в Сибири, даже хуже, – шутил Азнавур, ополаскиваясь с удивительной быстротой. – Что ты застрял? Шевелись!
Микаэль неподвижно стоял под душем, лицом к стене, с опущенной головой. Вода стекала по его спине, смывая мыльную пену с плеч и спины.
– Эй, я с тобой говорю! Ты что, заснул? – Азнавур дернул его за руку, и наконец Микаэль повернулся. – Тебе что, не холодно? Стоишь там, как кукла! – продолжал друг.
– Мне что-то грустно, – пробормотал Микаэль.
Вода в старых и ржавых трубах урчала, как зверь в клетке.
– Что ты говоришь?
– У меня сердце разрывается.
– Вытираться и прочь отсюда! Уже семь часов, – прогремел голос синьора Беппе, и привратник выключил воду.
Облачки мыльной пены, качаясь на воде, как маленькие айсберги, стекались к сливным отверстиям. Пора было возвращаться в палаты, одеваться и бежать на завтрак, а потом – в классы.
– У нас у всех разрывается, – ответил Азнавур. – Дик правильно сделал, что сбежал, а сейчас, кто знает, может, нежится в каком-нибудь хаммаме у себя дома. – Он взял размытый кусок мыла и положил в металлическую мыльницу.
Он просто не услышал его и даже толком не разглядел. Если бы он был повнимательнее, то, помимо потоков воды, стекавших по лицу Микаэля, заметил бы слезы, которые, несмотря на все усилия, другу не удалось сдержать.
Шел урок богословия, которое отец Кешишьян преподавал с обычным рвением и способностью привлекать внимание молодых людей даже к весьма неприятным и сложным темам. Несмотря на его строгость, ученики признавали за ним отменную подготовку и значительную харизму. Микаэль, которого особенно интересовала теология, восхищался его образованностью, выходившей за рамки предмета, и интуитивно чувствовал его горячность, его жажду знаний. Да, Волк был действительно особенным человеком. В этот момент он говорил о Халкидонском соборе и диспуте о природе Христа, пользуясь древнегреческой терминологией.
Слушая звучание античных терминов, Микаэль смотрел в окно, выходившее в сад колледжа. Его взгляд скользил поверх ограды из кованого железа и дальше, за романтический мостик, соединявший два зеленых холмика, потом вдоль тропинки, выложенной булыжником, и наконец задержался на неоклассическом фасаде Казин, библиотеки колледжа.
Микаэль вспомнил, как впервые увидел это здание. Он только что приехал из Греции после долгого путешествия по Адриатическому морю. Войдя через небольшую боковую дверь, он на минуту поставил свои чемоданы на пол и через окна холла увидел его. Элегантность этого сооружения напомнила ему родину. На мгновение ему показалось, что Казин – это Парфенон, и он просто выглянул в окно, чтобы полюбоваться на красоту Акрополя. Весь остаток дня он страдал от ужасной ностальгии, такой сильной, что испытывал буквально физическую боль. И ему захотелось схватить свои чемоданы, сбежать в порт и ждать на пристани, когда вернется «Канарис», греческий пароход с красной трубой и множеством иллюминаторов, чтобы сесть на борт и отправиться в родную сторону.
Прошлой весной, за несколько недель до конца учебного года, однажды утром в понедельник священник армянской диаспоры отец Петросян позвонил в дверь дома Делалянов.
– Тикин[20] Делалян, не уделите мне полчасика? – спросил он у Вероники, матери Микаэля. – Я хотел бы обсудить с вами очень важное дело.
Тикин Веронику не удивил этот визит, священник часто заходил в гости. Весь вид Петросяна говорил, что дело срочное, но, несмотря на это, она сначала приготовила кофе, подала его на серебряном подносе вместе со стаканом холодной воды и только потом выжидательно устроилась в кресле.
– Я слушаю вас, – сказала она с улыбкой.
На ней было черное платье. С тех пор как умер ее муж, она все время носила черные платья и собирала в традиционный пучок седые с голубоватым отливом волосы.
– Я хорошо знал вашего мужа, доктора Харутюна, царствие ему небесное, – начал священник. Вероника поправила заколку для волос, чтобы скрыть волнение, которое по-прежнему охватывало ее при упоминании имени мужа, хотя после его смерти прошел уже год. – Я также знаю, как много он сделал для диаспоры, истинная опора для нашего народа, – продолжал он. – Его преждевременная кончина опечалила нас всех, это невосполнимая потеря.
Вероника отвела взгляд. Небо за окном сияло, как бирюза.
– Спасибо, отец Петросян, – тихо сказала она.
– Но жизнь продолжается, мы не должны сдаваться… Поэтому нет смысла напоминать, как важно растить новые поколения, чтобы наши коммуны могли развиваться в странах диаспоры. Мы живем в Греции, ничего плохого, напротив, мы должны благодарить эту страну за то, что она предоставила нам кров и пищу. Но только если наши дети смогут приобщиться к высокой культуре и получить образование, только тогда, говорю я, будет у нас будущее.
Разговор был действительно серьезный. Эта тема не раз поднималась во время многочисленных обеден и проповедей по праздникам. Вопрос, безусловно, насущный, но зачастую трудновыполнимый.
– Чем я могу помочь? – спросила Вероника, подумав, что речь идет об обычном сборе пожертвований для бедных семей или в поддержку начальной школы имени Заваряна в пострадавшем от землетрясения квартале Палия Коккиния. – Мне надо посмотреть, сколько наличных есть в доме.
Отец Петросян улыбнулся:
– Это не вопрос денег, это гораздо больше. Речь идет о Микаэле.
Вероника вздрогнула и прикрыла рот рукой, услышав имя сына.
– Я знаю, что у вас остался только он, что он ваша единственная надежда и опора. Но такие почтенные семьи, как ваша, должны подавать пример, чтобы другие последовали за вами. Видите ли, в Венеции вновь открылся армянский колледж, и там готовы принять наших мальчиков, гарантировать прекрасное образование, подготовить их к успешной жизни и в то же время привить им сознание армянской идентичности.
Женщина выпрямилась в кресле, прикусив губу от волнения.
– Микаэль – юноша редкого дарования, я сразу обратил внимание на его незаурядный ум, когда преподавал в начальной школе. В колледже он сможет развить свои многочисленные способности, например музыкальные, – продолжал Петросян, указывая на рояль, на котором стояли семейные фотографии. Изображение доктора Делаляна в белой рубашке выделялось среди всех остальных. – Я долго молился, прежде чем прийти сюда, и могу сказать без тени сомнения: я уверен, что наш дорогой доктор был бы горд, если бы его сын получил диплом в престижном колледже «Мурат-Рафаэль».
Вероника опустила голову. Она незаметно вытерла слезы вышитым платочком, но не смогла скрыть всхлипывания и дрожь в руке.
Тогда отец Петросян встал и по-отечески погладил ее по плечу.
– Дочь моя, – сказал он, – я знаю, что это непросто, но когда-нибудь вы будете меня благодарить, вот увидите. Подумайте, хорошенько подумайте.
Потом он направился к двери, немного удивленный, что Вероника осталась сидеть в кресле и не проводила его.
* * *
В тот день Микаэль вернулся из школы раньше обычного.
– Что у нас сегодня вкусненького на обед? – прокричал он еще с порога.
Не получив ответа, он вошел в кухню. Его мать хлопотала у плиты. От аромата мантов, больших пельменей с мясом, у него потекли слюнки.
– Ты меня не слышала? – спросил он, подставляя щеку для привычного поцелуя.
Когда Вероника прикоснулась к нему губами, он заметил ее замутненный взгляд.
– Что-то случилось? – Микаэль редко ошибался в определении душевного состояния матери, к которой был очень привязан.
– Мы потом поговорим, сынок, – ответила она, расстилая клетчатую скатерть. Она всегда тщательно накрывала на стол, еще когда муж был жив. Все должно было быть так же, как до его смерти. – Хочешь немного сумаха?[21]
Микаэль кивнул, и она поставила перед ним мисочку со специей амарантового цвета. Оба начали молча есть, но Вероника лишь передвигала пельмени в тарелке.
– У тебя очень отросли волосы, – сказала она, глядя на каштаново-медную шевелюру сына.
Они остались сидеть за столом и после обеда, в ожидании чего-то, что никак не наступало.
– Микаэль, ты знаешь, как я тебя люблю, – наконец выдавила Вероника с большим трудом.
Мальчик насторожился. Он сложил салфетку и положил ее рядом с тарелкой, в которой еще оставалась пара мантов в сметанном соусе.
– Я подумала, что так будет лучше для твоего будущего. – Она прервалась и начала всхлипывать.
– Мама, что происходит? Что ты такое говоришь? – спросил Микаэль, взяв ее руку и крепко сжав.
– Ничего. Я подумала, мы вместе подумали с отцом Петросяном, что ты должен продолжить образование в Венеции, в колледже мхитаристов[22], – ответила она на одном дыхании.
Микаэль не сказал ни слова, оторопев от неожиданности.
– В Венеции? – смог наконец выговорить он через некоторое время.
– Ваше превосходительство Делалян, – ироничный оклик Волка заставил его вздрогнуть, – просветите нас, коль вы так хорошо знаете древнегреческий, как переводится и что означает термин «логос»?
Резко вернувшийся в реальность, юноша сложил руки на парте с сосредоточенным видом, чем немало развеселил Азнавура, и ответил:
– «Логос», от глагола «легейн», означает «смысл», «сознание», «слово», а также «учение». В христианстве слово «логос», глагол, олицетворяет Христа, сына Божьего.
Глаза Волка загорелись. Он был доволен, Микаэль в который раз показал, что обладает блестящим умом. Вне всякого сомнения, этот мальчик подавал большие надежды.
– Что ж, неплохо, – прокомментировал он, сдерживая свое удовлетворение. – Итак, продолжим.
Отец Кешишьян кашлянул, как всегда, когда хотел сосредоточиться.
– Тот, кто страдал, тот хорошо знает цену причастия ко Христу на Кресте. – Он поправил очки, сморщив нос. – Кто страдал, тот знает, как долог, труден и тернист путь, ведущий к этому познанию.
– А если… – Голос Микаэля прервал речь преподавателя, и весь класс повернулся в его сторону. Тогда юноша встал и продолжил без колебаний: – А если, и этот вопрос я задаю всем, этот длинный и сложный путь ни к чему не приведет?
– Поведай нам твои сомнения, – предложил ему учитель, который тоже встал и подошел к нему поближе.
– Если мы обнаружим, что религия просто уничтожает человеческое в пользу божественного? Способствует обнищанию, закрепощению человека в пользу Христа и Церкви?
Волк стоял от него в двух шагах с напряженным лицом и пронизывающим взглядом.
– Это не твоя мысль, ты повторяешь как попугай идеи Бакунина, который, как нам хорошо известно, тебе нравится, – сказал он с укором.
В классе послышались шепот и смешки.
– Я же, как и мы все, хотел бы знать, что ты сам думаешь по этому поводу, Микаэль Делалян? – добавил учитель.
Микаэль сглотнул и сжал сильнее перьевую ручку, которая тут же испачкала чернилами ладонь.
– Вот, – начал он чуть тише, – я думаю, что только через веру человек может стать свободным в этой жизни и только в вере может найти силы, чтобы идти вперед, но…
В полной тишине все ждали продолжения.
Микаэль наклонил голову, а когда снова поднял ее, то было заметно, как заблестели его глаза.
– Иногда меня одолевают сомнения, я начинаю размышлять, но чем больше думаю, тем меньше понимаю, все смешивается, я теряю нить и…
– И?
– Не знаю. Читаю, ищу ответ в Святых Писаниях, у философов, во всем, что могло бы озарить меня, хотя тезисов и различных теорий очень много. И тогда я снова теряюсь…
Азнавур смотрел на него с открытым ртом, восхищенный и тронутый его смелостью.
– Признаюсь, я задаю себе вопросы, – продолжал Микаэль, – потому что считаю, что нужно твердо верить, не иметь сомнений или раскаяний, – закончил он.
В этот момент трижды прозвенел звонок, означавший, что настало время обеда.
Микаэль сидел на деревянном табурете, наклонившись вперед всем телом, и играл на рояле. Его подвижные гибкие пальцы, казалось, едва касались клавишей, перебирая их с удивительной быстротой. У него был сильный и немного хриплый голос. Он пел «Йезебель», популярный в то время шлягер. В общей гостиной кто-то читал, кто-то играл, а многочисленные поклонники Микаэля собрались в кружок вокруг рояля, приплясывая в ритм песни. Если кто-то осмеливался подпевать, другие тут же шикали и толкали его локтями. Никто не должен был портить впечатление от исполнения песни, потому что Микаэль был неоспоримой звездой колледжа. Его идеальный американский акцент и хорошо поставленный голос напоминали Фрэнки Лэйна, Джина Келли и даже иногда самого Фрэнка Синатра. Азнавур с энтузиазмом покачивал в такт головой, вместе с двумя другими товарищами импровизируя и пританцовывая. Микаэль закончил петь на высокой ноте, это был его собственный творческий вклад, который вызвал восторг у поклонников и шквал аплодисментов. Юноша вскочил и поблагодарил легким поклоном всех собравшихся, как заправский крунер[23].
Постепенно все слушатели разошлись. Эти краткие мгновения веселья помогали студентам преодолевать остаток тяжелого дня.
– Слушайте все!
Некоторые молодые люди еще не покинули зал, кто-то разговаривал в холле, некоторые бродили по саду. Голос Габига, преподавателя естествознания, привлек их внимание, перекрыв звон тарелок, которые в этот момент как раз выносили из столовой.
– Подойдите сюда, я не могу кричать, – сказал учитель, размахивая конвертом с американской маркой и цветными полями, разорванным с одного края.
Мальчики собрались в холле, окружив учителя.
– У нас тут письмо от Дикрана Самуэляна, вы помните такого, верно?
Студенты негромко переговаривались, кое-кто криво ухмыльнулся. История с Диком была уже пройденным этапом. Парню удалось вовремя пересечь границу, избежав полицейского контроля, и он добрался до Вены. Оттуда он позвонил отцу, умоляя позволить ему вернуться домой. Он был готов на все, лишь бы не жить в колледже. Господин Самуэлян поверил ему и сразу же выслал деньги, чтобы тот мог вернуться в Детройт.
– Угадайте, кому адресовано это послание? – спросил Габиг, старательно расправляя листок.
Микаэль вздрогнул, догадавшись и начиная чувствовать себя неловко. Публичное чтение писем в случае, если святые отцы считали это целесообразным, стало неприятной привычкой. Но в колледже все было общим, даже секреты.
– Сейчас я вам зачитаю, – продолжал Габиг. – «Дорогой Бакунин, надеюсь, что с тобой все в порядке. Здесь собачий холод, fucking freezing, man, а в Венеции?» – Учитель прервался и обвел всех собравшихся взглядом. – Великая литература, не находите? – проговорил он с сарказмом. – Ну-с, так продолжим: «Простите меня, если я подставил вас своим бегством, но оставаться там у меня уже не было сил. Твой френч я сохраню как память о тебе. В тот вечер шел сильный дождь, а у меня не было ничего, чтобы накинуть на плечи. Пост скриптум. Ничего не добавляю, потому что письмо наверняка вскроют. Но все-таки, даже если колледж жуткая дыра, иногда мне его не хватает. Привет Азнавуру, Бедросу, Керопу, и вообще всем. Вы лучшие друзья, какие у меня когда-либо были. Дик-вор».
Когда он закончил читать, среди молодых людей установилась неловкая тишина, будто искренность Дика тронула их до глубины души. Учитель приблизился к Микаэлю и протянул письмо. Тот схватил его так неловко, что монах покачнулся, потом Микаэль развернулся и бросился бежать вверх по лестнице, что вела в палаты. Гнев стучал в его висках, и все внутри клокотало от унижения.
Где ты? Что это за место? Я ничего не вижу.
Тебя унизили, растоптали твою честь.
Тебя закрыли в темноте. Тебя бросили туда, как животное на скотобойню.
6
Советский Союз, 1952 год
Их было много в темноте товарного вагона, направляющегося бог знает куда. Кто-то сказал, что их везут в Сибирь, но ничего более.
Поезд шел без остановок, и стук колес монотонно отбивал ритм, лишь время от времени прерываемый свистком локомотива. В тишине вагона Габриэль слушал этот стук и представлял, что пишет песню на его мотив. Слова были бы веселые и остроумные, в противовес его душевному состоянию. Он закрыл глаза в надежде заснуть хоть ненадолго.
Его отец подписал признание. Мертвенно-бледный следователь все-таки заставил его, мучая, обзывая, угрожая, пока Сероп не сдался и не признал себя врагом народа. Но в то же самое мгновение, подписывая признание, он бросил в лицо своему мучителю:
– Я не враг никому. Я приехал в эту страну, потому что разделяю ваши идеологические убеждения. Я люблю Армению. Я пошел на жертвы, чтобы выкупить билеты для себя и семьи на пароход, а потом на поезд, который привез нас сюда. Я всегда верил в нее и верю до сих пор. Вы ошибаетесь, это страшная ошибка, умоляю вас, – добавил он тихо.
Потом пришел Дмитрий. Сначала он отпечатал на отремонтированной машинке свой рапорт об обыске, проведенном в доме, подчеркивая, с какой враждебностью он и его люди были встречены семейством Газарян. Затем он описал буйную реакцию Габриэля, который напал и ранил одного из сотрудников чугунной лампой, и предположил, что мальчишка спрятал обложку книги на кухне, когда ходил туда под предлогом выпить стакан воды. Наконец он заявил с явной досадой, поправляя серый чуб, что отец все время покрывал сына самым что ни на есть постыдным и достойным осуждения образом. С такими бунтарями, как Сероп и его сын, было бы трудно строить светлое будущее в Союзе…
– Что ты можешь сказать в свое оправдание? Говори, защищайся, ты еще можешь спасти себя! – кричал мертвенно-бледный следователь.
– Видите ли, эта книга – подарок кузины, Мириам, которая давно живет в Америке, она прислала ее мне вместе с другими вещами много лет назад. Мы тогда еще жили в Греции, а когда мы собрались уезжать, я не мог, то есть мне было жаль оставлять ее там и… – Сероп старался оправдаться, но вконец запутался и замолчал.
Тогда Габриэль, громко и четко произнося слова, сказал:
– Это была моя любимая книга. Тетя прислала ее мне, и я читал ее, несмотря на то что не очень хорошо знаю английский.
Дмитрий и молодой сотрудник переглянулись, а на лице следователя промелькнула едкая улыбочка, пока секретарь на мгновение застыл, но пришел в себя сразу же и продолжил печатать с удвоенной скоростью.
– Отвезите их на вокзал, – была последняя фраза, сказанная следователем.
Прежде чем поставить печать на документе, подготовленном секретарем, он, нахмурив брови, бегло прочитал его, проверяя, все ли в порядке. Потом закурил еще одну сигарету и положил ее тлеть рядом с предыдущими в хрустальную пепельницу.
– Папа! – крикнул Габриэль в темноту вагона.
– Я здесь, – услышал он в ответ из дальнего конца.
Он увидел отца в тот день, когда их сажали в поезд. Он был одним из последних, кого буквально впихнули в вагон, прежде чем солдат закрыл тяжелую дверцу, оставив их в полной темноте.
Юноша полз на четвереньках, раскачиваясь в ритм идущего поезда. Темнота мешала ему ориентироваться, но он должен был добраться до отца. Он продвигался по телам незнакомых людей. Сотня человек разместилась в этом вагоне для перевозки скота. Острый запах навоза, которым был пропитан вагон, смешивался со зловонием грязных тел. Человеческий товар, где бы он ни находился, перевозился в пункт назначения быстро и без потерь.
– Папа! – снова позвал Габриэль.
– Заткнись, – прорычал чей-то злой голос.
Кто-то вздохнул во сне, кто-то пробормотал что-то еле-еле.
Все окоченели от холода и обессилели от усталости.
Они ехали уже несколько дней без остановок. Казалось, что у этого пути нет ни конца, ни места назначения. Невозможно было отличить день от ночи. В узенькие щелки между досками иногда просачивался слабый и обманчивый свет, это мог быть и солнечный луч, и свет от фонаря на рельсах.
– Не могу дышать, мне не хватает воздуха, – простонал мужчина где-то в дальнем конце вагона.
Иногда во всеобщем оцепенении слышались жалобы, сначала громкие, потом они становились все тише. В этот раз Габриэль услышал в голосе ужас человека, который понимает, что умирает всеми брошенный, в одиночестве. Никто не помог бы ему и не остался бы рядом. Он попытался представить себе его лицо, откуда он родом, чем занимался раньше. Этот несчастный незнакомец в нескольких метрах от него, так далеко и так близко, пал жертвой той же судьбы, что и он. Он почувствовал сострадание к нему и стал стучать в стенку вагона.
– Откройте, откройте! – кричал он.
Ему ответил лишь долгий свисток локомотива.
– Если он умрет, то и мы все умрем, потому что окажемся в одном вагоне с трупом. – Он попытался встать, чтобы его было лучше слышно.
Незнакомец задыхался в конвульсиях. Габриэль снова стал стучать в стенку, на этот раз ногами. Так сильно, насколько мог.
– Откройте! – закричал он, набрав в легкие как можно больше воздуха.
Кто-то присоединился к нему. Еще один человек стал стучать.
– Помогите! – теперь кричали они вдвоем.
Вскоре к ним присоединились остальные.
– Откройте! – кричали люди.
Их открыли слишком поздно и вовсе не потому, что услышали. Поезд дернулся и остановился на какой-то станции для пополнения топлива, и солдат открыл дверь. Свет залил вагон, и ледяной воздух принес облегчение от застоявшейся внутри него вони.
– Здесь есть мертвый, – сказал Габриэль, впервые ясно увидев то, что окружало его столько дней: скорченные тела, экскременты.
Солдат вскарабкался на край вагона.
– Здесь. – Мужчина с седой бородой показал на своего соседа, который, казалось, заснул с запрокинутой головой. Габриэль посмотрел на его лицо. Оно было не таким, как он себе представлял. Это был молодой человек, не более чем на пару лет старше его, и смерть сделала его похожим на восковую статую.
– Расступись! – приказал солдат, прикрывая нос и проходя вперед.
Он схватил труп за воротник куртки и потащил его к двери. Потом пнул его каблуком сапога, и тело упало с глухим звуком на припорошенные снегом рельсы.
Габриэль, воспользовавшись моментом, постарался рассмотреть, где Сероп. Он понимал, что скоро они снова окажутся в темноте. Он увидел отца, скорчившегося в нескольких метрах от него, рядом с дверью. Опустив голову к коленям, он сидел не двигаясь с отсутствующим взглядом. Габриэль стал пробираться к нему, но вагон снова закрыли и поезд тронулся. Он продолжил путь в темноте, по инерции, и наконец достиг цели.
– Я здесь, – прошептал он отцу, слегка встряхнув его.
Сероп что-то проворчал.
– Мне очень жаль, папа. Это моя вина, – сказал Габриэль. – Нам надо было сжечь эту книгу, и обложку тоже, ты был прав. – Он помолчал, потом добавил: – Но Новарт не хотела, и я дал ей слово. – И, вздохнув, обнял отца за плечи.
Отец нашел его руку и взял в свою.
КСА, обувная фабрика в Ереване, где Сероп работал, находилась в здании, отделанном плитками из туфа, когда-то здесь располагалась начальная школа. По размерам и объему производства фабрика считалась предприятием малого и среднего сегмента, и внимание ей уделялось весьма скромное. В СССР в то время делали ставку на тяжелую промышленность. КСА располагалась в южной части Еревана, и до нее не доходили трамвайные линии, так что добираться приходилось на автобусе, который отходил каждые полчаса с полустанка на окраине.
Сероп всегда выходил из дома с большим запасом времени, чтобы справиться с любыми возможными неожиданностями и не опоздать. Он считал важным показать начальству, какой он ответственный человек, уважающий правила и ценности, которые всецело принимал, решив вернуться на историческую родину.
Утром он частенько появлялся на фабрике гораздо раньше своих коллег. Это был его выбор. Он надевал фартук цвета антрацита, тщательно расправлял его, зажигал лампочку над рабочим столом и садился. Прежде всего он проверял, все ли инструменты на месте: прошивки, шило, дратва, кривой сапожный нож и рашпиль. Потом он смотрел на часы и, если у него было еще несколько минут времени, надевал очки, раскрывал газету и читал ее с большим интересом.
– Энкер Сероп, ты все время читаешь, тебе надо было стать учителем, – приветствовал его Ампо Селлиан, репатриант из Нью-Йорка.
Ампо был вторым, кто приходил на работу. Высокий и грузный, с одутловатым лицом и огромными от толстых линз глазами, американский товарищ был похож на комика из немого кино. Тогда Сероп складывал газету и душевно болтал с коллегой. Ампо говорил по-армянски с таким смешным акцентом, что казалось, будто рот его набит камешками и ему никак не удавалось выплюнуть их. Они говорили о женах, детях, о ежедневных заботах идеальной советской семьи. Естественно, в разговорах никогда не упоминались Соединенные Штаты, где Ампо родился и вырос, и тем более причины, по которым он оказался в Ереване.
Любой разговор прерывался мгновенно с появлением товарища Раффика. Раффик, начальник производственного цеха, никогда не приходил заранее, но и никогда не опаздывал. Он был всегда очень пунктуален. Не успев снять пиджак, он уже контролировал в реестре присутствие работников цеха. Еще довольно молодой, он слегка прихрамывал, но прежде всего бросался в глаза его длиннющий горбатый нос, который доходил почти до самого рта. В краткие моменты отдыха все, как-то даже не желая того, смотрели на его хобот. Когда он пил чай, то почти всегда попадал в него кончиком носа. Даже если это было очень смешно, никто не смел шутить по этому поводу и тем более смеяться. Товарища Раффика боялись, потому что он был уважаемым членом партии.
– Мы должны сделать шестнадцать пар обуви до конца смены, – объявлял он со своим гортанным акцентом, характерным для ереванского диалекта, к которому Сероп так и не привык.
– Какой размер? – часто спрашивал ответственный за поставку кожи.
– Тридцать восьмой женский, – отвечал Раффик.
– Не получится, у нас мало кожи и коричневой лайки.
– Ты уже сообщил об этой нехватке в центр?
– Месяц назад, товарищ.
– Но мы не можем не выполнить план, – повышал голос Раффик, при этом лицо его краснело от одной только мысли, что план не будет выполнен.
– Даже не знаю, как быть, товарищ.
Раффик поворачивался к окну, будто решение проблемы было написано где-то в небе.
– Будем делать детскую обувь, сделаем тридцать второй и тридцать третий размер. На них материала должно хватить, – предлагал он тогда.
– Не забывайте, что последний раз, когда мы изменили размеры без предупреждения, нам было поставлено на вид, – протестовал снабженец.
– Но мы можем улучшить раскрой, уменьшив отходы материала, – однажды утром вмешался Сероп, став свидетелем одного из подобных споров, которые никогда не заканчивались практическим решением. – Нужно просто переделать шаблоны. Мы так расточительно используем кожу и лайку! – не сдержался он.
Раффик окинул его холодным взглядом.
– Тебя никто не спрашивает, приятель, – сказал он с презрением.
Сероп научился благородному искусству башмачника у отца, Торос-ага, самого известного башмачника в Адапазары, в Турции. У него была самая красивая обувная лавка в центре города с элегантными витринами. На деревянной вывеске было написано: «Алтин Чичек» – «Золотой Цветок». Торос-ага шил обувь прямо в лавке, это были настоящие произведения искусства. Выполнив заказы, в свободное время он шил просто красивые туфли разных размеров и разных цветов, расставлял их на витрине на пурпурном бархатном покрывале, располагая модели разных оттенков с большим вкусом и чувством меры. Часто он выходил из лавки, прятался за ближайшим деревом и некоторое время наблюдал, какой эффект вызывали его работы у прохожих. Если никто не останавливался, Торос-ага возвращался в лавку и расставлял товар по-другому в надежде сделать его более привлекательным, чем раньше.
– Торос-ага, да ты художник, твои туфли так же прекрасны, как розы, – воскликнула однажды Эсме-ханум, жена одного богатея. – И более того, – добавила она, примеряя пасум на позолоченном каблучке, – они даже мягче павлиньих перьев.
Сероп, который наблюдал за сценой, стоя за прилавком, покраснел от гордости. Похвала отцу от турецкой женщины означала высокое признание его искусства.
Сероп начал помогать отцу еще ребенком. По вечерам, после школы, он приходил в лавку, приносил отцу немного фруктов и сыра и оставался там, наблюдая, как шьется обувь. Вскоре он стал подмастерьем, и отец обращался с ним как со взрослым, требуя от него максимального внимания и дисциплинированности.
– Всему этому я научился за долгие годы тяжелого труда, сын мой, – повторял он. – Так что можешь считать, что тебе повезло. Слушай внимательно и запоминай, потому что придет время, когда настанет твоя очередь делать всю работу!
Серопу хотелось плакать от одной только мысли, что однажды отец умрет, и он наклонялся к прилавку, делая вид, что ищет что-то, чтобы не заметен был влажный блеск его глаз. Под прилавком он вдыхал аромат кожи и немецкого клея, от которого кружилась голова, потом снова выныривал наружу и смотрел, как Торос-ага работает. Его умелые руки растягивали и резали, склеивали и били молоточком, сшивали и натягивали подкладку. Как по волшебству из ничего возникала туфля: кусочек кожи, жменя гвоздиков, несколько капель клея. По завершении работы был еще один ритуал, который Сероп очень любил. Торос-ага ставил туфлю на ладонь и нежно поглаживал ее, как отец гладит только что родившегося ребенка.
– Ты должен любить свою работу, любовь движет всем в мире, тянет, как на буксире.
Сероп не до конца понимал эти слова, но все равно внимательно слушал.
– Любовь и уважение. Уважение к природе, к бедным животным, которых приносят в жертву, чтобы заполучить их кожу. Ведь без них ничего этого не было бы. – Торос-ага заглядывал в глаза сыну: – Анадин ме, ты меня понял? – Спрашивал он по-турецки, будто хотел подчеркнуть важность разговора, и садился курить свой наргиле. – А самое главное, экономь. Расточительство – это грех, за который Бог наказывает, – заканчивал он, подкручивая черные усы.
– Нет, ну это ж надо, как он с тобой обошелся-то вчера? Этот Раффик – червь, мнит себя бог знает кем, только потому что у него влиятельные друзья.
Сероп осмотрелся с опаской. Они были одни в цехе.
– Это говеная страна, – комментировал Ампо.
У Серопа перехватило дыхание.
– Жду не дождусь, когда же вернусь в Америку. Воздух свободы!
Ампо подвинул табуретку поближе к Серопу и зашептал ему на ухо:
– Я бы все сделал, чтобы получить выездную визу. Но эти свиньи боятся, что, вернувшись, я разболтаю о всех их проделках Гарри.
– Кому? – прошептал в ответ Сероп еще тише.
– Гарри Труману, приятель, президенту Соединенных Штатов Америки. – Ампо иронизировал, когда хотел. – Я помог бы им в «охоте на ведьм». – И он сделал жест куда-то в сторону, должно быть туда, где собирались «ведьмы» коммунизма.
Сероп понимающе кивнул, постукивая пальцем по газете. Он густо покраснел, сердце его бешено колотилось.
– Сатен просила поблагодарить твою жену Дируи за яблочный пирог. Говорит, что теперь ваша очередь, вы должны обязательно прийти к нам на ужин.
Сероп не хотел, не мог продолжать разговор на политическую тему с Ампо, поэтому он решил поговорить о чем-нибудь вполне безобидном. Приятель выпрямился и смерил его взглядом, в котором сквозило презрение.
– Сатен настаивает, она хочет, чтобы вы пришли в это воскресенье. Приводите Эди, Габриэль будет очень рад. – Сероп намеренно повысил голос, чтобы коллеги, которые постепенно приходили на рабочие места, услышали.
Шептаться в этой стране было запрещено. Слишком подозрительно.
В то воскресенье Сатен поднялась рано. Она прибралась в доме, вытерла пыль в каждом уголке и вымыла пол, Габриэль и Новарт ей помогали. Девчушка с тряпкой в руке протерла каждую вещичку на комоде в гостиной.
Потом Сатен стала готовить ужин для гостей. Ее коронным блюдом, в котором ее никто не мог превзойти, были ишли-кюфта, котлетки из полбы и мяса, и хюнкар-бейенди, баклажанное пюре с мясным гуляшом. К счастью, Серопу удалось купить на рынке немного филе ягненка, без которого эти блюда невозможно было бы приготовить.
Вечером она покрыла стол кружевной скатертью, которую аккуратно выстирала и отгладила накануне. Тарелки и стаканы, правда, были теми же, которыми пользовались каждый день, потому что у них, к сожалению, не было хорошего фарфорового сервиза, так же как и хрустальных бокалов. Но Сатен надеялась, что качество ее стряпни компенсирует этот недостаток.
Селлианы пришли на пять минут раньше, когда Сероп был еще в тапочках. Как только он открыл дверь, Ампо хмыкнул, указывая на их стоптанные носки, выглядывавшие из-под штанин, тем более что в остальном хозяин дома был безупречен, включая галстук. Так что этот воскресный ужин начался с хорошего настроения. Все хвалили стряпню Сатен и пили красное вино «Арени».
– Ты счастливчик! – воскликнул Ампо. – Твоя жена не только красавица, но и прекрасная стряпуха. Смотри, какой стол, все просто чудесно.
Сатен поблагодарила, а после ужина Дируи, взяв ее под руку, уселась с ней на диван немного поболтать.
– Хочу попросить тебя сшить мне платье, я доверяю только тебе, в наших краях портнихи лучше нет, – пожаловалась Дируи.
Ампо смотрел на нее из другого конца комнаты, окруженный облаком сигаретного дыма, – он закурил из предложенной Серопом престижной пачки «Астра», предназначавшейся исключительно для гостей.
– Если у тебя есть ткань, я с удовольствием сошью тебе платье, – заверила ее Сатен, перехватив взгляд и довольную улыбку мужа.
Габриэль тем временем отвел Эди в свою комнату показать баян. Это был подарок отца и, хотя он был подержанный, блестел, как новенький. Серые мехи красиво сочетались с черной клавиатурой.
– Очень красивый. – Эди дотронулся до инструмента, не скрывая зависти. – А ты играть-то умеешь?
– Выбери любую пьесу, – с вызовом сказал Габриэль, указывая на сборник нот.
Эди выбрал самую трудную мазурку Глинки.
Новарт сидела поодаль без подружки, с которой можно было бы поиграть, так что время от времени она ходила среди гостей, привлекая к себе внимание.
– Тебе нравится моя кукла? – спрашивала она, переходя от одного к другому. Все гладили ее по голове и трепали за щечки, но она все равно чувствовала себя одиноко. – Значит, нравится? Я сама сшила ей юбочку, – настаивала она.
В этой группе людей у нее не оказалось роли, она была лишней, и тогда она придумывала что-нибудь, чтобы выставить себя напоказ.
Когда Новарт появилась с томиком в руках, Сатен сразу же встревожилась, будто должно было произойти что-то нехорошее. Сероп закашлялся и не переставал кашлять, даже когда девочка вложила книгу Уильяма Сарояна в огромные ручищи Ампо.
– Дядя Селлиан, ты же умеешь читать по-английски, почитаешь нам рассказы из этой книжки? – спросила она своим нежным и наивным голоском.
Эта сцена неизгладимо запечатлелась в памяти Серопа: заблестевшие глаза Ампо, подмигивание Дируи. И теперь, сидя в товарном вагоне с Габриэлем, направляясь бог знает куда, вероятно в Сибирь, он вспомнил ответ товарища Селлиана.
– Моя дорогая, эта книжка не для таких девочек, как ты, – сказал он Новарт, при этом так выразительно посмотрев на Серопа, что у того все похолодело внутри. В это время из соседней комнаты Габриэль, немного фальшивя, играл не слишком веселую мазурку.
Несколько дней спустя Селлианам была выдана желанная выездная виза, и они вернулись в Америку.
7
Патры, 1938 год
– Господин Капетанаки…
– Зови меня «товарищ».
– Товарищ, меня уволили.
– Я знаю, и многих других тоже уволили.
– Да, но у меня двое маленьких детей!
Профсоюзный деятель кивнул.
– Я думал, может, вы поговорите с хозяином, объясните ему мою ситуацию.
– Хорошо, я поговорю, – обещал тот, – хотя все и так знают твою ситуацию, – добавил он, теребя кончит бородки клинышком.
В зале послышался недовольный ропот. Кто-то выругался.
– Вообще-то я надеялся, что вы уже поговорили.
– Мы все живем в очень нестабильное время, – продолжил прерванную речь профсоюзный деятель, пытаясь перекрыть нарастающий ропот и делая жесты рукой, чтобы успокоить присутствующих. – Ситуация не обещает ничего хорошего не только в Греции, но и по всей Европе.
– Они уволили людей на Вессо и Ладопулос, – выкрикнул какой-то тип, еще более худой, чем Сероп.
– Товарищи! – Оратор повысил голос и ударил кулаком по столу, требуя внимания. – Наступают тяжелые времена! Этот наш брат – яркий пример того, что нас ждет. – И он ткнул пальцем в Серопа, стоявшего рядом с небольшой группой людей.
– Долой капитализм, за здравствует марксизм! – прокричали некоторые из них.
Всего в тот вечер в подвале фабрики, в тесном и мрачном помещении, насквозь провонявшем плесенью и средством от мышей, собралось около двадцати рабочих, впрочем, как и каждую последнюю пятницу месяца. Сероп посмотрел вокруг, спрашивая себя, что он там делает.
Пару лет назад к нему подошли у выхода из фабрики. «Вместе мы победим, – сказали ему тогда, словно пароль. И добавили: – Ты больше не будешь один, вместе мы преодолеем все трудности и будем бороться за право на труд». Слишком много красивых обещаний, много убедительных слов. И он пожертвовал часть своего ценного времени, чтобы участвовать в собраниях, ходить на манифестации и митинги, ничего не прося взамен. Чаще всего он садился в уголок и молча слушал рассказы о том, как изменится мир. Он слышал разговоры на прекрасные темы, о справедливости и равенстве, и замечал, что, в сущности, эти разговоры не сильно отличались от того, что всегда говорил ему Торос-ага. Но сегодня, стоя в этой орущей грубой и вульгарной толпе, он понял, что это была всего лишь болтовня и никакой конкретной помощи ждать не приходилось. Он не понимал, зачем эти лозунги, эти крепкие слова, эти оскорбления, летающие в воздухе.
Он должен был просто кормить семью и хотел знать, как теперь ему это делать…
– Извините! – закричал он, впервые возмутившись. – Я думал, что вы меня защитите. Другие рабочие, которых уволили, – пожилые, у них уже большие дети. Мне всего лишь двадцать восемь лет! – пожаловался он.
– Хозяева – звери! – закричал рядом с ним толстопузый тип с пожелтевшей от курения бородой. И тут же целый хор голосов присоединился к нему, клеймя и обзывая владельцев и управляющих фабрики. Впрочем, в такое время они могли это делать без опаски: в три часа утра начальство спокойно спало у себя дома.
Когда голоса утихли, глубоко опечаленный Сероп взял свой мешок, висевший на спинке стула, перекинул его через плечо и, извинившись перед соседями, стал пробираться к выходу.
– Куда ты идешь, товарищ? – окликнул его профсоюзный деятель, когда он был уже у двери.
– Мне нужна работа, господин Капетанаки, – ответил он, обернувшись, – а все остальное – что справедливо, а что нет – я и так знаю.
Он пошел к морю по дороге, освещенной серебряным светом полной луны.
Прошел мимо старинных оливковых садов с уродливо скрученными деревьями, так сильно склонившимися к земле, что казалось, будто они лежат. В стволе одного дерева он заметил дупло, похожее на улыбающуюся маску сатира.
Под веткой, полной олив, он остановился, сорвал две и положил в рот. Они были еще не очень приятные на вкус.
«Земля и солнце», – подумал он, пытаясь определить привкус неспелых оливок.
Он подержал косточки во рту, время от времени трогая их языком, и пошел дальше, обойдя огород с помидорами и баклажанами, а потом поля инжира, миндаля и апельсинов.
– Бог велик, и дары Его неиссякаемы, – сказал он, осеняя себя крестным знамением. Затем он поднял голову и поверх крон деревьев увидел купола церкви Святого Андрея, сверкавшие под лунным светом.
Эту церковь, настоящую жемчужину города, самую красивую и богато украшенную, вторую по красоте после Святой Софии в Константинополе, Сероп хорошо знал. Он часто ходил туда помолиться, вставая на колени перед иконой, на которой был изображен святой с белой бородой, распятый на деревянном колесе. Сероп вздрагивал от одной мысли оказаться там, где принял мученическую смерть этот человек, и долго стоял так, не двигаясь, рассматривая обеты, оставленные верующими за полученную милость: изображения ноги, глаза, тела.
– Святой Андрей, – взмолился он, глядя в небо, – помоги мне!
Он попытался было залезть во двор церкви и подождать, когда откроют тяжелые двери, чтобы впустить пришедших в город паломников, в том числе и иностранных, которые обычно спали во внутреннем дворике. Но ночной воздух заворожил его, эта свежая бодрящая влага толкала его вперед, поэтому он повернул направо и вдоль моря направился к кораблям, чьи очертания нечетко просматривались в тумане зарождавшегося утра.
В тот час в порту было полным-полно народу.
Серопа удивило, что люди были отнюдь не сонные: на самом деле они еще и не ложились спать. Два шлюпа и один парусник с высокими мачтами стояли на якорях у центральной пристани. Шеренга грузчиков, потных и уставших, передавала друг другу деревянные ящики. Кто-то напевал в ритм работе.
«Эй, вира, эй, майна», – слышалось отовсюду в порту.
Сероп остановился, чтобы посмотреть. Молодой парень, почти еще ребенок, работал энергично и старательно. Он легко подбрасывал ящики, будто они были пустые, но, как только они попадали в руки следующему грузчику, сгорбленному тщедушному старику, казалось, они неожиданно наполнялись доверху. Один из ящиков выскользнул у него из рук и упал в море. Бедняга завыл, как собака. Грузчики остановились, смотритель выругался и, подойдя к старику, ударил его несколько раз плеткой, которая обычно торчала у него за поясом. Старик, как две капли воды похожий на Святого Андрея с его белой бородой, покачнулся и осел на землю.
– Справедливость и равенство! – горько улыбнулся Сероп.
Возмущенный этой сценой и в то же время подавленный, он пошел дальше куда глаза глядят. У него не было определенной цели, он просто бродил по своему городу, страстно желая получше его рассмотреть. Уже несколько лет он не позволял себе обыкновенной прогулки.
В конце концов он углубился с преувеличенной уверенностью в давно забытые узкие и длинные, как кишки, переулки старого города. Неясные тени скользили по углам, останавливались под портиками и шептали слова, которые у него не хватило бы духу повторить, вызывая отвращение, но в то же время искушение. Женщины и мужчины предавались жарким объятиям без стеснения, заставляя его краснеть от стыда. Ему никак не удавалось принять равнодушный вид, и тогда Сероп спрятался в первом попавшемся кабаке. Его встретили печальные звуки бузуки[24].
В кабаке было полно народу, теснившегося за немногими грязными столами. Мужчины курили, дружески хлопали друг друга по спине, смеялись во весь голос и говорили женщинам пошлости. В глубине зала была небольшая сцена, на которой молодой музыкант терзал свой бузуки, а рядом с ним красивая и пышная девушка в облегающем платье выводила рулады сильным и чистым голосом.
– Моя нежная пташка, ты сводишь меня с ума, – пела она, постукивая бубном по туго обтянутым бедрам.
– Маноула моу еси, лакомый кусочек мой! – закричал какой-то мужчина, бросив блюдо к ее ногам. Вокруг нее и без того уже было полно осколков разной посуды, которую, по греческой традиции, бросали к ногам артиста, дабы выказать свой восторг.
Сероп вздрогнул.
– Посторонись! – толкнул его официант с множеством тарелок в руках.
Сероп замер в центре зала, принюхиваясь к ароматному дымку от мусаки[25]. Он почувствовал, что устал и голоден. Он был на ногах и без крошки хлеба во рту уже целые сутки.
– Сероп! – позвал его кто-то.
Он, щурясь, осмотрелся по сторонам и сквозь туман табачного дыма разглядел осунувшееся лицо Живана, водителя фабрики Марангопулоса.
– Что ты здесь делаешь? Садись со мной, – пригласил тот.
– И выпей стаканчик, – добавил чуть позже Живан, наливая ему раки[26].
– Нет, брат, я уже и так выпил лишку мосхуди, – промямлил Сероп.
– Брось, это лучше любого лекарства, дезинфицирует вены, – настаивал тот и, подняв стакан, сунул его под нос Серопу.
Сероп взял, посмотрел на блестящую лысую голову Живана и одним залпом выпил самогон.
– Что, уже лучше, не правда ли?
Сероп кивнул.
– Да, но все-таки это последний, иначе мне не хватит денег заплатить… – с трудом проговорил он, прерываемый икотой.
– Кстати, – Живан неожиданно перешел на шепот и придвинул стул поближе к Серопу, будто собирался открыть ему какой-то секрет, – что тебе сказал Мартирос? Он поможет?
– Ничего важного, – ответил Сероп. С того вечера в подсолнухах он видел его всего раз, когда маклер одолжил ему один из своих шикарных костюмов для семейной фотографии.
– Вот негодяй! – выругался Живан, выдохнув на Серопа дым сигареты. – Только прикидывается крутым, а на самом деле он тряпка. Сказал мне, что поговорит с тобой об одном дельце.
– Да, он назвал мне имя одного итальянца, которому я могу показать мои кундуры.
Живан разразился таким громким смехом, что соседи повернулись в их сторону.
– Какие кундуры?
Сероп постарался сесть на стуле поровнее и посмотрел приятелю в покрасневшие мутные глаза.
– И он ничего не сказал тебе о ребенке? Вот это действительно дельце! – Живан поднял воротник своей куртки, отгородившись от остальных, и прошептал: – Три тысячи драхм, это ж целое состояние. Я мог бы жить пять лет не работая.
– О чем ты говоришь, приятель?
– У тебя их двое, избавишься от одного, все равно он еще слишком маленький, вряд ли ты привязался к нему. И потом, – закончил он с глупой улыбкой, – у тебя с одного раза получается заделать двойню.
Сероп почувствовал, как внутри у него все перевернулось и сжалось. Он едва не потерял сознание.
– Заткнись, идиот, – зашипел он, не сдержавшись.
– Зови меня идиотом! – ответил тот, сплюнув на пол. – Когда вы подохнете от голода, ты, твоя распрекрасная женушка и ваши чудные детки, тогда ты сам поймешь, кто тебе настоящий друг. Я предлагаю тебе выход, потому что с тобой уже все кончено, теперь увольняют повсюду.
Сероп застонал от отчаяния.
«Ты ко мне на коленях приползешь!» – последнее, что он слышал, прежде чем рухнуть в забытьи на стол, опрокинув кофейник и стаканы.
«Только во сне мы можем знать, что еще живы. Только там, в живой смерти, мы можем встретить самих себя и далекие земли, Бога и святых, имена праотцов наших, сущность далеких мгновений».
Люси положила книгу на стол и посмотрела в глаза Сатен. Она не могла понять, был ли взгляд молодой женщины таким отсутствующим под впечатлением завораживающего текста Сарояна или же собственные мысли уводили ее куда-то далеко. Она была знакома с Сатен уже несколько недель. Они вместе провели немало времени, она практически перевела для нее почти весь рассказ (впрочем, это была история всего на нескольких страницах), но так и не могла понять, что творилось в ее голове.
Конечно, Сатен была всегда приветлива и добра, но часто случалось, что взгляд ее становился грустным и она мрачнела, будто нехорошие мысли осаждали ее.
– Все в порядке? Хочешь, чтобы я продолжала? – спросила Люси в тот день.
Сатен с трудом улыбнулась:
– Да, хотя…
Люси взяла ее за руку.
– Поговори со мной, прошу тебя, – попросила она с искренним интересом.
Сатен высвободила руку и прикрыла рот, будто хотела запретить ему произносить какие-либо звуки.
– Иногда обмен двумя словами может только пойти на пользу, – настаивала подруга.
– Я так несчастна, – неожиданно сказала Сатен, покачав головой. – Несчастна… – повторила она, всхлипывая.
Люси опешила от такого неожиданного поворота. Она пыталась сказать что-то, но не находила подходящих слов. Тогда она просто обняла Сатен, как сестру. Ей хотелось успокоить ее, дать понять, что она не одна.
Но Сатен вся напряглась: до сих пор ни одна женщина не обнимала ее, и этот жест смутил и встревожил ее. Даже Розакур, которая заменила ей мать и очень любила ее, никогда не позволяла себе лишней ласки.
Она резко отстранилась от Люси, быстро вытерла слезы, вскочила и подошла к раковине. Но сообразив, что там ей нечего делать, обернулась и сделала вид, что проверяет детей, безмятежно спящих в своей люльке.
– Вероятно, я просто устала, – извинилась она, снова садясь за стол.
– Конечно.
– Устала быть одна, – добавила она. – Если бы я могла хоть поговорить с мужем… Ему бы тоже это не помешало, я уверена. Он потерял работу, и думаю, что ему сейчас хуже, чем мне.
– Мне жаль, – тихо сказала Люси, пораженная этим признанием и доверием, которое так неожиданно ей оказали.
Сатен кивнула с горькой улыбкой:
– Вчера он не вернулся домой, всю ночь провел неизвестно где. Я ждала его, волновалась, не могла же я пойти искать его, оставив двух малышей одних? – Она снова сдержалась, чтобы не заплакать. – А когда он пришел, – продолжила она, покачав головой, – он него несло, как от свиньи, и вся одежда была в грязи. Наверняка свалился где-то по дороге, потому что был настолько пьян, что едва держался на ногах. – Она осеклась, живо вспомнив всю сцену. – И как только я спросила, где он ходил, он набросился на меня. «Ты шлюха», – сказал он и дал мне пощечину. «Кто ты такая, чтобы лезть в мои дела?» – кричал он и обзывал меня по-всякому, пока не проснулись дети.
У нее дрогнул голос. Сатен опустила голову и, наконец не выдержав, расплакалась.
– А ты, что ты ему сказала?
– Ничего. Я хотела поговорить с ним, но уважила и промолчала.
– А если бы не промолчала, то как бы ответила тогда?
Сатен посмотрела на маленький умывальник с надписью «калимера», потом отвлеченно провела рукой по кровати, на которой сидела.
– Я бы сказала ему: я засыпаю и просыпаюсь рядом с тобой, я разделяю твои мечты и твои страхи, охраняю каждый твой вдох по ночам, мы становимся одной плотью, когда обнимаем друг друга. Ты мой муж, а я – твоя жена.
Люси слушала молча и с уважением.
– Знаешь, – продолжила Сатен, слизнув слезу, которая задержалась у нее на губе, – когда я согласилась выйти за Серопа, я думала, что моя жизнь изменится. Я надеялась найти настоящего друга. Я всегда была одна, без сестер и братьев, без семьи. Меня не тяготит бедность, но одиночество, обос… – она запнулась.
– Обособление, – с готовностью подсказала подруга.
– Обособление. Мы оба еще молоды, можем работать, вместе переносить жизненные невзгоды. Бог послал нам двух детишек, здоровых и красивых. Это дар, за который мы должны возблагодарить Его и радоваться. – Она выпрямилась и с новой энергией воскликнула: – Как только они подрастут немного, я сразу же примусь за дело. Я хочу, чтобы у них было будущее. Хочу, чтобы они учились, чтобы стали уважаемыми людьми. Но более всего хочу, чтобы они любили и заботились друг о друге. Они особенные, каждый по-своему. Конечно, они очень похожи, практически одинаковые, но я, их мать, знаю, что они разные. Они дополняют друг друга, – проговорила она на одном дыхании и замолчала.
Люси была поражена: эта речь, пусть и сказанная простыми и наивными словами, несла в себе необыкновенно глубокий смысл.
– Ты думаешь, что мужчина и женщина равны? – спросила она спустя какое-то время.
Сатен удивленно приподняла брови:
– Что ты имеешь в виду?
– Я хочу спросить, как ты считаешь, женщина должна подчиняться мужчине?
Сатен помолчала, обдумывая вопрос. До сих пор она не то что не задавалась такими вопросами, но и вообще никогда не задумывалась на эту тему.
– Например, – постаралась объясниться Люси, – если твой муж захочет сделать что-то, что тебе не нравится, ты воспротивишься ему? Ты скажешь, что думаешь по этому поводу?
– Ну… – начала Сатен, но тут же прервалась, стараясь подобрать правильные слова, чтобы выразить свое мнение по такому сложному вопросу. – Розакур говорила мне, – продолжила она грустно, – что нет мужчин и женщин, а есть только Божьи создания. Когда Сероп пришел с Луссиа-дуду просить моей руки, она спросила меня, чего бы я хотела. «Тебе выбирать, – сказала она, – знай, что он не сильный человек, не образован и, наверное, даже не слишком умен, поэтому тебе придется восполнять то, чего ему не хватает». Восполнять, она прямо так и сказала. – Сатен улыбнулась. Люси ответила ей тем же. – Я часто вспоминаю Розакур, ее мудрость, ее советы. Мне всегда казалось, что она не такая, как другие женщины в лагере.
– Она была учительницей, образованной женщиной.
– Да, это так.
Они помолчали, глядя друг на друга. На Люси была юбка в складку шоколадного цвета и кремовая блузка с ватными подплечниками. Каштановые волосы вились спереди и были собраны в шиньон на затылке. На худощавом лице с тонкими чертами выделялись огромные голубые глаза.
Неожиданно Сатен схватила книгу Сарояна и перелистала ее.
– Хочешь знать, какая часть меня более всего поразила? – спросила она у подруги дрогнувшим голосом, показывая пальцем текст.
– Какая?
– Та, где говорится, что из всех вещей, которые писатель продал, чтобы купить себе еду, ему более всего не хватало книг. Продать их было для него настоящей болью.
Люси слегка кивнула, поощряя продолжать.
Выражение лица Сатен изменилось, как и тон ее голоса, теперь он был уверенный, даже дерзкий: «Когда писатель умирает, его смерть другая, необычная. Его мысли, его идеи – вот самое главное. Он сетует на реальность, которую покидает…»
Молодая женщина посмотрела на подругу с благодарностью.
«Он знает, что умирает, как всякий человек, но за свою короткую жизнь он хотя бы смог понять мир, который его окружал. Нет ничего хуже, чем умирать в неведении. Спасибо тебе», – прошептала она, опустив глаза.
Люси посмотрела на часы и извинилась: у нее вдруг обнаружилось очень важное дело, о котором она чуть было не забыла и которое непременно надо было сделать именно сегодня. Она спешно попрощалась с подругой и вышла, оставив за собой знакомый аромат роз и корицы.
Фитиль, которая, как всегда, сидела на улице напротив барака, задумалась, о чем таком трогательном могли говорить эти две женщины, что заставило плакать молодую английскую леди прямо посреди улицы.
– Сначала надо подготовить афлеки.
– Что это?
– Дратва, чтобы сшивать подошву. Она слишком толстая и не проходит через ушко иголки, видишь?
Сатен кивнула.
– Поэтому сначала через ушко пропусти нитку, она значительно тоньше, а затем хорошенько скрути ее с дратвой, чтобы они стали как одно целое, вот так, – говорил Сероп, энергично растирая ладони одну о другую. – Смотри, они должны немного распушиться, иначе не скрутятся. Теперь попробуй ты.
Сатен и Сероп работали вместе, сшивая тапочки. У нее уже было достаточно опыта, чтобы помогать ему и таким образом увеличить их небольшое домашнее производство.
Муж объяснял ей, как сшивать носки с подошвой, – самый сложный и тяжелый этап работы.
Близнецы, сидевшие рядом на кровати, наблюдали за ними с почтительным молчанием, будто пытались понять, что именно родители собирались делать со всеми этими нитками, иголками, шильями и всякими прочими штучками, разбросанными повсюду в комнате.
– Тапочки должны быть прочными, – говорил Сероп, протискивая иглу в дырочку в подошве.
– Прежде всего они должны быть красивыми, – сказала Сатен с воодушевлением.
Муж поднял голову и уставился на нее с удивлением:
– Что, разве сейчас они не красивые?
– Но могут быть еще красивее.
Сероп не отрывал взгляда от жены, которая взяла пришивной носок от тапочки и, тыча в него пальцем, сказала:
– Нужно сделать их единственными в своем роде, особенными. Например, я думала вышить здесь сверху цветок, вот как этот, – и указала на виньетку под надписью «калимера». – Я могу сделать это цветными нитками, можно даже написать «добрый день». Представляешь, как здорово было бы читать доброе пожелание каждое утро, надевая тапочки!
Сероп почесал затылок в растерянности. Он просто хотел шить тапочки, мягкие и удобные кундуры, как учил его отец.
– Но я думал отнести их в итальянский квартал, – будто оправдываясь, произнес он.
– Тем лучше, я уверена, что им понравится. Позволь мне сделать хотя бы образец, так и узнаем, как они отреагируют, – настаивала Сатен.
Один из мальчиков наклонился к ним с кровати и с абсолютно взрослым выражением лица стал рассматривать тапочки.
– Что смотришь? – улыбаясь, спросил его Сероп, стараясь сменить тему разговора.
Он погладил ребенка по головке. Это был Габриэль, его любимчик, тот, что с зеленой тесемкой на запястье. Его брат тут же насупился, подполз к отцу и попытался протиснуться между ним и братом, требуя свою порцию ласки. Сероп тихонько отодвинул его, надеясь, что Сатен не заметит.
Но она заметила.
– Пойду приготовлю булгур[27], – сказала она с тяжелым сердцем, взяв на руки отвергнутого ребенка. – Иди-ка к маме!
Потом, пока сыпала в кастрюлю зерна пшеницы, всего-то одну жменю, решила, что настало время прекратить этот маскарад. Завтра же она снимет эти дурацкие тесемки с ручек детей. Она и так слишком долго это терпела.
Квартал Гамбетта, заселенный в основном итальянскими эмигрантами, находился рядом с Сан-Дионисио, в восточной части города, откуда дорога вела в Афины. Диаспора, насчитывавшая несколько тысяч человек, выходцев из Апулии, Кампании и Калабрии[28], обосновалась в Патрах в конце девятнадцатого века. Торговля и рыболовство в относительной близости от исторической родины склонили этих людей к эмиграции. И не только. Среди них было много потомков античных колонистов из Великой Греции. Они считали себя греками и гордо говорили на архаичном дорическом[29] диалекте, напоминавшем о тысячелетнем языке.
Итальянцы, жившие в Патрах, пользовались большим уважением у местного населения. Они были прекрасными мастеровыми, успешными торговцами, учеными, архитекторами. Они несли с собой аромат Европы, такой привлекательной и обожаемой греками, лишь недавно освободившимися от турецкой гегемонии.
– Добрый день, чем я могу вам помочь? – спросил у Серопа продавец, выходя из-за стойки. Это был молодой мужчина в отлично скроенном костюме.
Сероп стоял не двигаясь, любуясь интерьером магазина. Попав в итальянский квартал, он стал спрашивать, как пройти в обувную лавку синьора Капуто, и довольно быстро нашел ее, потому что это был самый роскошный магазин в городе.
– Синьор? – повторил настойчиво продавец, не сводя глаз с этого худого мужчины, сгорбившегося под тяжестью мешка, перекинутого через плечо, и явно не похожего на клиента.
Сероп напрягся. Мысль, что он ошибся местом, сковала его. Он посмотрел на обувь, выставленную на полках и на витрине. Шикарная, очень дорогая обувь. Зачем здесь его кундуры?
– Можно… Можно синьора Капуто? – пробормотал он, заикаясь.
Продавец продолжал с подозрением смотреть на этого бедняка, который теперь еще и претендовал на разговор с самим хозяином.
– Синьора Капуто? – переспросил он, не скрывая удивления.
– Да, – ответил Сероп смущенно, – я от Мартироса.
– Извините?
– Мартирос, – повторил он, четко произнося имя друга.
– Подождите здесь, – сказал молодой человек повелительным тоном и скрылся за стеклянной дверью.
Сероп на мгновение увидел свое отражение, он уже не помнил, когда последний раз видел себя в полный рост. Когда он брился, то пользовался маленьким зеркальцем, в котором его лицо было видно лишь по частям: подбородок, щека, скула. У него было смутное представление о своем внешнем виде. Конечно, иногда удавалось посмотреться в какую-нибудь витрину, проходя мимо, но увидеть себя вот так четко и ясно – это было совсем другое дело. Он был поражен, он почти не узнал себя. Он отвел взгляд от зеркала и осмотрелся. В магазине была еще одна синьора, блондинка в крохотной шляпке с вуалью. Шляпка каким-то чудом держалась у нее на затылке. Она сидела на плюшевом диванчике. У ее ног продавщица, стоя на коленях, примеряла ей коричневый сапожок. Обе женщины посмотрели на него с плохо скрываемым презрением, и он покраснел.
– Синьор Капуто примет вас сейчас, – объявил продавец, указав ему на прикрытую дверь.
– Спасибо. – Сероп поправил мешок за плечами и открыл дверь.
Капуто, подтянутый мужчина средних лет с черными волосами без проседи, говорил по телефону, когда вошел Сероп. Кабинет был элегантно обставлен, но совсем не так шикарно, как помещение магазина, и Сероп почувствовал облегчение.
Не вставая из-за стола, его владелец подал знак присаживаться и подождать, пока он закончит разговор.
Сероп помедлил, но потом робко опустил мешок на пол и, съежившись, устроился в кресле. Голос Капуто заворожил его: легкий, хорошо поставленный, певучий.
– И что обычно делают в таких случаях? – спрашивал он в этот момент с выражением искренней озабоченности.
Подождав несколько секунд, он что-то написал на листке бумаги.
– Хи-ни-н, правильно? – проговорил он, затем снова замолчал, слушая и качая головой с негодованием. – Так где я это найду? – спросил он. – Хорошо, я тебе очень благодарен, – сказал он наконец с облегчением. Затем наморщил лоб, вероятно, ему говорили что-то очень печальное. – Не думай, что здесь лучше, – бросил он, – вымерло целое село в районе Кунупели, об этом еще не говорят, но, похоже, начинается настоящая эпидемия.
Сероп был удивлен, что Капуто говорил о вещах, очевидно не имевших ничего общего с его торговлей. Он наивно полагал, что хитрый коммерсант интересуется только делами, непосредственно связанными с работой: новыми моделями обуви, кожей, техникой шитья. Однако теперь было ясно, что какое-то срочное дело совсем из другой области серьезно беспокоило синьора Капуто.
– Как я могу помочь вам? Вы друг Мартироса? – обратился он, повесив трубку.
– Да, синьор.
– Вы хотите мне что-то показать, я полагаю.
– Да, синьор.
Капуто жестом предложил ему раскрыть мешок.
Сероп развязал узел и выудил из мешка пару своих кундур, тех, что, на его взгляд, получились лучше всего, и собирался было поставить их на стол.
– Нет, не ставьте ничего сюда, – резко остановил его Капуто.
Сероп вздрогнул и так и остался с тапочками в руках, как глупец.
– Покажите мне их немного издалека, – попросил коммерсант.
Сероп отвел руку, стараясь, чтобы его кундуры было лучше видно, и указал на двойной шов в подошве.
– Мягкие и крепкие, – промямлил он, краснея.
Капуто кивнул.
– Что-нибудь еще?
– Здесь двенадцать пар таких.
– Разные?
– Да, у меня есть пара с вышивкой.
Капуто дал ему понять, чтобы он поспешил, что у него мало времени.
– Вот эти, – сказал Сероп, показывая пару.
– Очень мило. Сколько стоит пара?
Сероп неуверенно пожал плечами:
– Не знаю.
Капуто поднялся:
– Отлично, я покупаю тридцать пар твоих кундур с вышивкой, с тридцать шестого по тридцать восьмой размер, дорогой…
– Сероп.
– Принеси их мне, как только будут готовы, пятьдесят сантимов за пару.
– Но…
– Пятьдесят, и ни сантима больше.
Сероп не дышал.
– Ты живешь в лагере армянских беженцев, не так ли? У тебя есть жена и дети?
Сероп кивнул.
– Будь осторожен с комарами, – предупредил его Капуто, когда телефон снова зазвонил.
Когда Сероп вышел на улицу, магазин закрывался. Неожиданно он почувствовал тошнотворный запах тухлых яиц и увидел с удивлением, что молодой продавец опрыскивал чем-то помещение, держа в руке металлический баллончик с наконечником, из которого вырывалось облако. У Серопа запершило в горле и захотелось кашлять.
8
– Как тебя зовут?
– Франческа, а тебя?
– Микаэль.
– Микаэль?
– Да, Микаэль, – сказал юноша с ударением на последнем слоге.
Под прикрытием густых зарослей лаврового куста он забрался на стену, которой был обнесен колледж, опираясь на выступающие кирпичи. За библиотекой стена немного разрушилась, так что было несложно забираться на нее и наблюдать за окружающим миром за пределами колледжа.
Девушка, с которой он болтал, стояла с другой стороны стены, и было ей, судя по всему, не больше пятнадцати лет. Она была тоненькой, но в контраст с внешностью обладала сильным и решительным голосом. На ней было голубое полупальто «монтгомери» с широким капюшоном на шотландской подкладке, который покрывал ей плечи, как шаль. В руках у нее была палочка, и она постукивала ею, как фея, по всем щелям в стене.
– Что ты делаешь?
– Меня прислала графиня, – ответила она, указывая на здание напротив. – Она боится, что здесь где-то крысиная нора. Вчера утром она орала, как сумасшедшая, и разбудила нас всех.
– А ты что должна делать?
– Ну, не знаю, проверить, действительно ли это так. – Они посмотрели друг на друга.
Она была совсем обычная девушка, только глаза очень красивые, ясные, и в них поблескивало множество золотых искорок.
– Это школа? – спросила она, показывая на здание за спиной Микаэля.
– Колледж.
– Вы ведь не итальянцы, правда?
– Армяне.
– Моя мама рассказывала мне про вас, говорит, что вы там всегда были.
Микаэль кивнул.
– Что это за книга? – спросила Франческа, показывая на томик в кожаном переплете, который он прижимал к груди.
– Это роман. «Преступление и наказание», читала?
– Нет.
– Федора Достоевского.
– «Идиот».
– Что?
– Этого писателя я читала только «Идиот».
– Ну, это совсем другая история.
– О чем в ней говорится?
– О преступлении и наказании. – И Микаэль засмеялся над своей шуткой.
Франческа чуть улыбнулась.
– Прочти мне самый интересный отрывок.
– Их много, даже не знаю.
– Тогда прочти, какой хочешь.
– Давай лучше так: я открою книгу на случайной странице и прочту.
– Хорошо, – ответила Франческа.
Юноша попытался принять более удобное положение, растянувшись на боку на стене.
– Раз, два, три. – Он закрыл глаза и раскрыл книгу, потом бегло просмотрел страницу и подмигнул девушке, которая терпеливо ждала.
Наконец Микаэль глубоко вздохнул и начал читать:
– «В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же» – Он вздрогнул.
Шорох среди деревьев заставил Микаэля повернуться в страхе, что кто-то из товарищей или, того хуже, преподавателей шпионит за ним. Из-за этого резкого движения он потерял равновесие. Чтобы не упасть, он схватился за стену обеими руками и выронил книгу, но Франческа ловко подхватила ее на лету.
– И что теперь? – спросил Микаэль испуганно.
– Теперь я почитаю, – сказала она, посмеиваясь.
– Это не моя книга, я взял ее в библиотеке. Если меня уличат…
– Тогда я принесу ее тебе, встретимся у входа в колледж.
– Нет, нет, боже упаси!
Франческа улыбнулась:
– Как же быть?
– Тебе нравится ходить в кино? – спросил Микаэль, стараясь вложить в эти слова все свое обаяние.
Через некоторое время он спрыгнул со стены со сладким привкусом во рту, будто только что сосал медовую карамельку.
Встреча с этой «феей» с золотыми глазами привела его в восторг, и он пошел по саду с таким чувством, будто шел по лесу – лучшего места для встречи со сказочными созданиями не найти. Он обошел лавровые кусты у тропинки, вдыхая их приятный аромат, и чуть дальше наткнулся на таинственные улыбки двух мраморных амуров, бывших на страже этого зачарованного райского сада. Перед ним вырос ливанский кедр, и по привычке он прислонился к его стволу, желая обнять его. Он вдыхал запах далеких земель, славных сражений и плодовитых жен и остался стоять неподвижно, размышляя о бренности существования человека, на мгновение возомнив себя всемогущим и бессмертным. Наконец он поднялся на мостик, под которым журчал ручей, и посмотрелся в водную гладь, влюбленный Нарцисс, сын космической пыли.
– Кто ты на самом деле? – спросил он сам себя, вглядываясь в изумрудную воду.
Среди камней, покрытых зелеными водорослями, плавал головастик. Микаэль заметил, как вздымаются жабры в унисон с его дыханием. Недавно появившееся на свет, но уже дерзкое создание двигалось, шевеля длинным хвостом.
В этот момент ворон молниеносно спланировал на воду, подняв вокруг столб ледяных брызг. Микаэль зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел, что головастик болтается в клюве птицы. Ворон, должно быть, почувствовал, что за ним наблюдают, уставился на Микаэля черными, непреклонными и безжалостными глазами и в несколько секунд проглотил бедную жертву. Микаэль замер. Порыв ветра взъерошил перья птицы. Ворон выпрямился на когтистых лапах и взлетел, расправив крылья, едва коснувшись ими юноши, и тот испуганно отпрянул.
– Каррр!
Ты проснулся от «каррр».
Это поезд тормозит со звуком вороньего карканья, заставляя твое сердце подскочить к самому горлу. Солдат в шинели открывает дверь вагона, помахивая перед лицом рукой, чтобы развеять спертый воздух, вырвавшийся наружу.
– Выходите! – приказывает он.
Никто не двигается с места, кроме тебя, нетерпеливого. Ты встаешь на ноги, побуждая отца сделать то же самое. Там, снаружи, бушует вьюга, но ты все равно спрыгиваешь вниз с легкостью шестнадцатилетнего мальчишки. Отец следует за тобой, а потом и все остальные. Вы сбиваетесь в толпу, теснясь друг к другу, чтобы защититься от обрушившихся на вас порывов ледяного ветра.
* * *
Микаэль оперся на деревянные перила мостика, его взгляд блуждал по саду. В нескольких десятках метров от него слышались голоса товарищей. Даже если бы один из святых отцов заметил его, то не встревожился бы: Микаэль часто уединялся.
Нет, я не успокоился, вовсе нет. Я должен держать себя в руках, должен научиться контролировать это ощущение, но ты увлекаешь меня за собой.
Кто-то толкает вас, и вы, как стадо овец за жестоким пастухом, бредете на свет, что мигает в серебряном небе за занавесом бешено крутящихся снежинок. Ты проваливаешься ногами в снег и щуришь глаза, ставшие уже двумя щелками, потому что осмеливаешься смотреть вперед, хотя метель, как плетью, бьет тебя по лицу. Вдруг ты заметил радугу, и на душе становится веселей – это добрый знак в таких ужасных условиях. Но перед воротами, куда вас ведут, ты поднимаешь голову и понимаешь, что это всего лишь цветные полоски плакатов, броских и издевательских, плохо приклеенных на фанерном листе.
«Честным трудом заплачу долг моей Родине», – написано над входом огромными буквами. Вы слишком устали, чтобы понять смысл этих слов. Вас пропускают по одному через проходную, и два охранника держат вас под прицелом, готовые стрелять в любую минуту. Вы выходите на открытую площадку, где офицер приказывает вам разделиться на группы по пять человек и потом заходит в барак, а вы ждете, неподвижные, как колышки, вбитые в землю, и вас постепенно засыпает снегом.
Отец не говорит с тобой, даже когда ты обращаешься к нему, просто слегка качает головой. У него тяжелые опухшие веки, затуманенный взгляд, и, если присмотреться к нему, он кажется даже смешным, с побелевшими бровями и бородой и сизыми щеками и носом.
Коренастый офицер в ушанке, которая постоянно сползает ему на глаза, пересчитывает вас: «Один, два, три» – и что-то старательно пишет в своем списке. Потом, недовольный, пересчитывает снова и снова. Теперь он громко вызывает вас по именам, азербайджанским, белорусским, узбекским, калмыцким и, наконец, армянским. Отец вздрагивает, услышав свое имя, он и хотел бы ответить, но молчит, как парализованный. Офицер выкрикивает имя еще раз, и еще, и еще. «Отец, прошу тебя, подними руку, поспеши, скажи что-нибудь». Охранник приближается к вам решительным шагом и, крепко сжимая винтовку в руках, угрожающе встает перед вами. Все смотрят в ожидании. Отец делает шаг назад и теряет равновесие. Ты хочешь поддержать его, но не успеваешь, потому что охранник бьет его по голове прикладом. От сильного удара он падает наземь. Ты ошеломлен и смотришь, как он корчится на снегу и вокруг расплывается красное блестящее пятно. Ты хочешь нагнуться, чтобы помочь ему, скорее просто обнять его, но охранник предупреждает, что выстрелит в тебя, и ты стоишь неподвижно, с ужасом на лице и ненавистью в сердце.
В лесу волк воет отмщение.
Габриэль посмотрел за деревянную изгородь, покрытую снежными шапками. Двойная колючая проволока на уровне человеческого роста ограничивала площадь повсюду, куда только падал взгляд. Группа бараков, как страшный вертеп, размещалась в центре лагеря. Помимо колючей проволоки, темные верхушки елей очерчивали горизонт расплывчатым контуром. Серое, как жидкая ртуть, небо обрамляла огненно-красная кайма.
Если бы Габриэль мог оторваться от земли и подняться вверх, он сумел бы разглядеть просторную гористую местность, полную озер и рек, пересекающих долины. К югу он увидел бы внушительную громаду горы Белухи, сурового стража на монголо-китайской границе, а на востоке – озеро Телецкое, «Золотое озеро», как его называли, дремлющее под ледяным покрывалом в ожидании весенней оттепели. А на западе в солнечные дни он увидел бы быстрые воды реки Катунь и, возможно, едва заметную дорогу, соединяющую десятки исправительно-трудовых колоний, которая приводила в конце концов к единственному населенному пункту в регионе – городу Барнаулу, в двухстах километрах от его лагеря.
За Барнаулом не было ничего.
Это были координаты лагеря номер 11 на Алтае, его номер был выбит на скале сбоку от дороги. Один из лагерей ГУЛАГа, в котором содержались главным образом политические заключенные, так называемая контра – граждане, выступавшие против режима, приговоренные к искуплению своей вины перед народом ценой собственных пота и крови.
– Направо, налево, – кричал охранник, разделяя заключенных на две длинные шеренги. – Направо, – указал он Серопу. – Налево, – приказал Габриэлю.
Юноша вынужден был отпустить руку отца. Тот поднял глаза и качнул головой.
– Хачогутюн, удачи, – пожелал он сыну и, еле передвигая ноги, пошел к своей шеренге. На лбу и вдоль висков у него запеклась кровь.
Невероятная вонь ударила в нос Габриэлю, как только охранник открыл дверь барака и подтолкнул его вперед. Внутри воздух был спертый, воняло нечистотами и махоркой. И было полно мужчин, которые снимали с себя влажную робу в конце рабочего дня перед ужином. Одежду развешивали на веревке, натянутой над буржуйкой. Некоторые из заключенных, совсем обессилевшие, растянулись на нарах, расположенных в два ряда друг над другом, и курили. Увидев вновь прибывших, человек двадцать глухо заворчали, издав непонятные звуки, что-то среднее между стоном и издевкой.
– Скоты, – прикрикнул на них охранник.
Габриэль рассмотрел заключенных и обнаружил, что здесь были люди всех возрастов. Они были очень худые, даже тощие, особенно один, слонявшийся между дверью и печкой, – он больше походил на скелет, шатающийся призрак.
– Я вас приветствую!
Голос принадлежал крупному мужчине в одной майке, несмотря на холод, с мощными татуированными бицепсами. Он лежал на верхней наре, свесив ногу, а мальчишка, сидящий на нижней полке, массажировал ее отработанными и медленными движениями. Габриэль заметил, что у мужика длинные загнутые, как ястребиные когти, ногтищи.
Охранник сплюнул.
– Занимайте свободные места, – сказал он новым заключенным и вышел, хлопнув дверью.
Все бросились занимать лучшие нары из тех, что еще оставались, и началась драка, немало позабавившая старожилов барака.
– Ты что, забронировал тут? – спрашивали они с сарказмом, раздавая пенделей.
Габриэль сдвинулся с места последним. Он заметил свободные нары в глубине барака, вдали от печки, в холодном и влажном месте.
– Эй, ты!
Юноша обернулся.
– Иди сюда.
Мужик с татуировкой высвободил ногу от массажиста и сел на соломенном тюфяке. Габриэль не шевельнулся.
– Я сказал, иди сюда! – повысил голос мужик.
Тогда он приблизился.
– Что ты умеешь делать?
Вблизи мужик казался менее грозным. У него были приспущенные по краям веки, и он был совсем лыс, но с маленькой светлой бородкой.
Габриэль молчал, не зная, что ответить.
– Что ты умеешь делать? Говори! Он, например, – и мужик показал на мальчишку, – хорошо делает массаж, вон тот моет парашу, а вот этот умеет… – и он сделал вульгарный жест рукой.
Все засмеялись. Человек, о котором шла речь, ответил гримасой, но потом присоединился к товарищам, криво ухмыляясь. Хоть он и был молод, у него совсем не было зубов, только черные и опухшие десны.
– Понимаешь теперь, почему Червяк хорош для этого? Он беззубый, как дождевой червь.
Смех продолжался.
– Все, хватит, – приказал мужик, подняв руку. – Ну, так что ты умеешь делать? Если не ответишь, я сам придумаю тебе занятие здесь, у нас. – И он резко изменился в лице.
Габриэль пожал плечами.
– Я умею играть на баяне и петь, – сказал он наконец.
Мужик спрыгнул с нар. Он был такой высокий, что Габриэлю пришлось отступить назад, чтобы видеть его лицо.
– Из каких краев будешь? У тебя странный акцент… – сказал высокий и внимательно посмотрел на Габриэля. – Грузин или… армянин, – решил он.
– Я из Еревана.
– А, йес кес сирум ем, я тебя люблю, – сказал мужик.
Габриэль и бровью не повел.
– Зови меня Гора. А ты?..
– Габриэль.
– Ты сказал, что играешь на баяне? – И он пошел к нарам.
Гора порылся в каких-то вещах, переставил пару сапог без подошвы, переложил груду грязных тряпок, алюминиевый котелок и наконец достал картонную коробку. Сдул пыль с крышки, открыл ее и достал гармонь.
– Лучшим был Шурик, – сказал он, приближаясь к Габриэлю, – царствие ему небесное. Вы его помните? Вот он точно умел всех нас пронять, когда брал эту штуковину в руки.
Гора замолчал и протянул инструмент Габриэлю:
– Играй. Что хочешь.
Юноша почувствовал на себе множество взглядов. Заключенные перестали разговаривать и обступили его. Он посмотрел на эти изможденные лица с провалившимися от голода и усталости глазами, и ему показалось, будто они молча умоляли его о чем-то. Им нужна была передышка, искра надежды. Тогда он перекинул через плечо гармонь и пробежался пальцами по клавиатуре, обдумывая, что сыграть. Надо было взять что-то простое и известное, подходящее для его слушателей.
– Очи черные, очи страстные, – запел он, еще не играя.
Гора весь напрягся, будто эти слова напомнили ему о еще не зажившей ране, но тут же заслушался, как только аккомпанемент подхватил слова:
…очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, Знать, увидел вас я не в добрый час.Гора отвернулся от него и подошел к окну, задумчиво уставившись в темноту сибирской ночи.
Другие заключенные, тронутые этим неожиданным исполнением, застыли в одной позе, глядя куда-то вдаль, должно быть, воскрешая в памяти всю их непутевую жизнь.
– Но не грустен я, не печален я, утешительна мне судьба моя, – тихо подпевал Гора Габриэлю.
И Габриэль заметил, хотя Гора старался не подавать виду. Габриэль увидел, как вздрагивали его плечи: этот огромный сильный мужик плакал, опершись руками на подоконник.
Каждый день в половине пятого утра они должны были строиться на плацу перед входом в лагерь.
Начальник бригады разбудил их криком. Они оделись в темноте, кашляя и ворча, потом быстро позавтракали: чай и черствый хлеб. Еще один кусок хлеба был выдан каждому на обед – короткий перерыв на делянке, где они работали.
В сопровождении двух конвоиров с автоматами заключенные дошли до барака, где как попало валялись кирки и ледорубы, лопаты и заступы, молотки и кельмы, пилы и тачки. Каждый заключенный произвольно выбрал себе инструмент.
– Бери лопату, будем рядом, – шепнул Гора Габриэлю, слегка хлопнув его по спине.
Парень не понял его.
– Я откалываю, ты – сгребаешь лопатой, – объяснил он, толкая его локтем в бок, отчего юноша согнулся почти пополам. – Я сделал тебе больно, цыпленок? – пошутил тот.
Габриэль хотел ответить, но заметил человека за колючей проволокой. Еще одна группа заключенных построилась на плацу для раздачи ежедневной нормы, и его взгляд остановился на знакомой фигуре, на мужчине небольшого роста с сутулыми плечами.
– Папа… – прошептал он.
Несмотря на плохое освещение, Габриэль увидел, что Сероп едва стоит на ногах, и забеспокоился.
– Итак. – Сергей, начальник смены, вышел вперед и, подняв руку, потребовал общего внимания. Скрепя сердце Габриэль вынужден был оторвать взгляд от отца. – Для вновь прибывших: сегодня мы идем на обычный объект. Мы намечаем дорогу, обходную, если быть точным, между лагерями номер одиннадцать и номер двадцать семь. Все работы должны быть завершены к весне. В районе есть болото, и, как только появятся комары, работать станет невозможно. А поскольку математика – это не выдумка, это сама жизнь, нам надо закончить двадцать один метр дороги сегодня, как и каждый день. Так что я буду стоять у вас над душой и буду беспощаден. Вы же знаете, каково наказание для лодырей, верно, Червь?
Беззубый парень вздрогнул. Он дремал стоя.
– Конечно, – с готовностью ответил он, – кто не работает, тот не ест. – И он зашелся в странном смехе. Пар теплого воздуха, вырвавшийся изо рта, скрыл его больные десны.
– Ну, так пошли, – скомандовал Сергей.
Габриэль обернулся в надежде еще увидеть отца, но на плацу уже никого не было.
Они шли в дымке, которая постепенно рассеивалась, в сопровождении вооруженных конвоиров. Небо над их головами медленно светлело.
– Что с тобой случилось? – спросил Гора, шагая рядом с Габриэлем. – Ты что, призрак увидел?
Юноша не ответил.
– Ну, так что? – настаивал тот.
Они обошли стороной лес и свернули на утрамбованную просеку. Ледяной ветер свистел меж ветвей деревьев.
– Ну и черт с тобой! – сплюнул Гора.
– Я увидел отца.
Мужик сдержал смешок:
– Так вы здесь всей семьей, и где же дедушка?
Габриэль сверкнул на него глазами.
– Да ладно, что же вы такое натворили, должно быть, что-то ужасное, а?
Юноша покачал головой:
– Они нашли книжку в доме. Не книжку даже, а только ее обложку.
– Только? А остальное?
– Осталось у моей сестренки. Куда она положила, не знаю, но они не нашли.
В этот момент над их головами всполохнул яркий свет, будто радуга, и он замолчал от неожиданности. Три сияющих полосы возникли в небе и заволновались, как марлевые шторы под легкими порывами бриза. Они были ярко-зеленого цвета, почти люминесцентные, с розовой каемкой. А в середине билось темно-фиолетовое сердце.
– Северное сияние[30], – сказал кто-то.
Колонна замедлила шаг, и все в удивлении подняли головы.
– Это Господь с нами говорит.
Габриэль смотрел с открытым ртом. Это чудо природы вызывало в нем смешанное чувство восхищения и страха, но более всего уверенности, что это знамение – доказательство величия Бога. В сердце его появилась надежда, и после долгого перерыва он снова подумал о Новарт. Ему жаль было не разделить с ней это чувство. Новарт была его маленькой ученицей, он всегда старался научить ее всему, что знал сам, любить красоту, ценить добро и справедливость, воспитать в ней благородные чувства.
Его сестренка была не просто очень умной, но хитрой и проницательной, та еще девчушка, способная добиться своего без особых усилий. Ее проворство – типичная способность многих женщин – веселила Габриэля. Делая вид, что не замечает ее выходки, он предоставлял ей свободу действий и все прощал, находя неотразимой ее детскую наивность.
– Что это за язык? – спросила однажды вечером Новарт брата, который читал рассказы Сарояна.
– Английский.
– Но Сароян армянин.
– Да, но он родился в Америке, как я родился в Греции.
– Ты умеешь читать по-английски?
– Я начал изучать его в Патрах. В школе у меня была замечательная учительница.
– Ты научишь меня тоже? – взмолилась девочка, с восхищением перелистывая страницы.
Габриэль улыбнулся:
– Я могу рассказать тебе одну из историй, если хочешь.
Новарт округлила глаза от счастья:
– Какую?
– «Отважный молодой человек на летающей трапеции».
– Про что эта история?
– Про одного безработного во времена Великой американской депрессии.
– Депрессии?
– Это такой экономический кризис, ну, в общем, когда дела идут плохо и люди становятся все беднее и беднее.
Новарт понимающе кивнула и свернулась калачиком на софе рядом с братом. Перефразируя текст, чтобы сделать его понятнее, Габриэль рассказал грустную историю об одном дне молодого писателя в терпящем бедствие мире. Он рассказал ей о том, как безуспешно искал писатель работу и как был вынужден продать все свои вещи – книги, одежду, дорогие ему предметы, – чтобы купить что-то поесть. И, наконец, как он остался без гроша в кармане, и лишь единственный цент, новехонький пенни, только что с монетного двора, ярко блестел на столе в его мансарде.
– Подожди, подожди! – прервала его Новарт, сморщив личико и силясь не чихнуть. Она не хотела пропустить ни слова. – Что он сделал с этой монеткой? – спросила она затем с влажными глазами.
– Ну, он знал, что все кончено. Он не ел уже несколько дней, знал, что умирает, и…
– И?..
Габриэль отложил книгу и прижал девочку к себе, чувствуя, как бешено бьется ее сердечко.
– И он подумал, что этот пенни пропадает зря, что он мог бы подарить его какой-нибудь бедной девочке, прежде чем умереть.
Он закончил фразу, глядя ей в глаза, еще более влажные, чем раньше.
– Где это написано? Покажи, – сказала она.
– Здесь, – он показал на слово «child».
– Это означает «девочка»? Почему девочка, а не мальчик?
Габриэль откашлялся.
– Потому что девочки более понятливые и знают лучше мальчиков, как потратить пенни, – соврал он. Маленькая невинная ложь, чтобы угодить сестренке, которую он очень любил.
* * *
Они прибыли на делянку после часа ходьбы, когда солнце уже поднялось над верхушками деревьев, и приступили к работе изо всех сил, какие еще оставались, раскалывая камни, распиливая стволы, разгребая и расчищая под пристальным оком охранников, под постоянными окриками и руганью начальника смены.
Габриэль орудовал лопатой бок о бок с Горой. Его товарищ раскалывал камни с удивительной силой, а его задачей было без промедления собирать отвалившиеся куски и сбрасывать их в тачку Червя, который в свою очередь спешно сбрасывал их по обочине дороги. Все шло своим чередом, только повторяющиеся механические движения, одно сплошное нечеловеческое усилие.
В полдень они остановились для короткой передышки.
Гора расстелил какую-то тряпку на земле и сел на нее, покряхтывая.
– Садись здесь, если не хочешь отморозить себе задницу, – сказал он Габриэлю.
Заключенные достали свои пайки хлеба и молча съели. Есть хлеб было почти как совершать религиозное таинство. Прежде всего они вдыхали его запах, потом откусывали маленькими кусочками и медленно перекатывали их во рту, наслаждаясь вкусом, пока они совсем не таяли.
– Чем дольше ты его сосешь, тем слаще он становится, – сказал Червь, расположившись в нескольких шагах от них, и отправлял в рот даже крошки с блаженным выражением.
– Это ты о хлебе? – подколол его Сергей, но его шутка осталась незамеченной. Все были слишком заняты едой.
Габриэль заметил, что пальцы у Червя были скрючены и поджаты.
Червь перехватил его взгляд и улыбнулся.
– Что, сочувствуешь? – спросил он, помахав рукой.
Габриэль покраснел.
– Двенадцать лет тяжелого труда – вот что это такое, – сказал он, вдруг перестав улыбаться. – Я был красавчик, когда меня привезли сюда, куда красивее тебя, и смотри, во что превратился. – Он вскочил и отошел. – Говно! – выругался он в сердцах, удаляясь.
Он встал под дерево спиной к остальным и стал колотить по стволу кулаками и ногами. С веток на него посыпался снег, мгновенно покрыв голову и плечи. Потом он успокоился, стал расстегивать пуговицы на штанах, спустил их и испражнился на глазах у всех.
– Вот именно, что говно, – проворчал он.
9
– Отец! – воскликнул Габриэль с волнением.
– Сынок.
– Как ты, папа?
– Ничего, потихоньку.
Они случайно столкнулись у входа в барак, где размещалась столовая. В воздухе висел острый запах кислой капусты. Габриэль как раз собирался войти, отец в этот момент выходил. Они крепко обнялись, не беспокоясь о взглядах охранников.
Сероп рассказал сыну о маленькой обувной мастерской на территории лагеря, где он работал. Он шил войлочные сапоги, подходящие для снега и сибирского климата. Врач счел его негодным для работы вне лагеря, а он был рад и считал, что ему повезло. Если бы его не распределили в мастерскую, то ледяной воздух тайги наверняка убил бы его.
– А ты, сынок, как себя чувствуешь? Ты осунулся… – сказал он с тоской.
– Я в порядке, папа.
Они отошли в уголок, чтобы не мешаться на пути входивших и выходивших заключенных, и не могли наглядеться друг на друга, будто не виделись много лет.
– Мой начальник хвалит меня, – сказал с гордостью Сероп. – Знаешь, хорошее поведение – это очень важно, кто знает, может быть, скоро…
Габриэль почувствовал, как сжалось его сердце. Отец обманывал себя, надеясь, что их палачи в скорости могут изменить свое решение и отпустить их домой. Но он согласно кивнул, горько улыбаясь. «Арах Аствац, Бог велик», – добавил он, подняв глаза к небу.
– А что это у тебя? Раньше этого не было, – спросил он чуть погодя у Серопа, показывая на шрам над правым веком.
– Это ерунда! Я поскользнулся…
– Где?
Сероп замешкался.
– Где? – более настойчиво повторил Габриэль.
– В душевых, он поскользнулся в душевых, – сказал кто-то вульгарным тоном.
Габриэль заметил человечка за спиной у отца. Он был в компании другого типа, одноглазого здоровяка. Оба взяли Серопа под руки, не давая ему двигаться.
Габриэль испугался.
– Эй, оставьте в покое моего отца! – запротестовал он.
– Смотри-ка, какой петушок! – воскликнул кривой.
– Напрашиваетесь на неприятности? – Этот голос нельзя было спутать, он прозвучал еще до того, как огромная фигура Горы заполнила все пространство вокруг.
Охранник поодаль напрягся.
– Что тут происходит? – спросил Гора у Габриэля.
– Ничего, – ответил за него низкорослый заключенный, отпустив Серопа. – Мы тут просто похавали маленько и теперь идем на боковую, не так ли, товарищ?
Сероп кивнул. И два приятеля вытолкнули его из барака в холодную темную ночь.
– Этот Кривой и Подстилка – редкие сволочи, – сказал Червь.
– Ты их знаешь? – спросил Габриэль.
Тот лишь криво ухмыльнулся:
– Червь знает всех.
Он потягивал свою теплую похлебку. Столы и лавки в столовой стояли кое-как. Заключенные заботились лишь о том, чтобы поскорее съесть свой паек. Питались посменно. Кто заканчивал раньше, мог выкурить самокрутку.
– Он сначала жил в их бараке, пока не попал к нам, – вмешался Гора. – А к нам его перевели, потому что там его избили до полусмерти.
Червь вздрогнул и посмотрел в заиндевевшее окно. Когда он снова заговорил, то лицо его было красное как рак:
– Если они выбрали твоего отца, тогда готовься к похоронам. – И он зашелся своим странным двусмысленным смехом.
Габриэль опустил глаза.
– Но мы можем сделать так, чтобы этого не произошло, – добавил Гора.
– То есть? – спросил Габриэль с надеждой.
– Мы можем договориться, – прошептал он.
Весь вид Червя говорил, что он знает, о чем идет речь.
Габриэль положил ложку в миску с сомнительного цвета баландой, в которой плавали несколько капустных листов.
– О чем договориться?
– На что ты готов пойти ради твоего отца?
– На все.
– На все?
– Да.
Червь снова засмеялся.
Сергей, начальник смены, ходил между столами с корзиной в руке и выдавал каждому его пайку хлеба. Положил рядом с Горой его кусок, другой дал Габриэлю, но пропустил Червя.
– Эй, а мне! – запротестовал тот.
– Сегодня вечером тебе – ничего. Не заработал, – сухо ответил Сергей.
– Твою мать! Дай мне мой кусок хлеба! – Червь вскочил и схватил из корзины самый большой кусок.
От неожиданности начальник смены отпрянул, и корзина выпала у него из рук.
– Чертов педик! – закричал Сергей, набросившись на Червя.
Он повалил его на стол и стал бить головой о доски. Миски и ложки полетели в разные стороны, брызнула кровь. Никто из присутствовавших охранников не шевельнулся, продолжая смотреть на происходящее с веселым видом.
– Ну, хватит, однако! – сказал Гора, вставая и вытирая подбородок.
Сергей посмотрел на него исподлобья, но промолчал. Этот человек действительно был огромен, как гора.
– Соберите хлеб обратно в корзину, если не хотите, чтобы я вас перетрахал всех, – заорал начальник смены.
Червь между тем сполз на землю, как мешок соломы, оставляя за собой кровавый след.
Габриэль встал, чтобы помочь ему.
– Сядь! – остановил его Гора. – Это не твое дело.
– Бить человека – единственное развлечение здесь.
Гора закурил свою самокрутку, повернувшись против ветра. Они обошли барак и остановились в самом темном месте.
– Хочешь затянуться?
Габриэль взял окурок и глубоко вдохнул. Едкий дым обжег ему горло.
– Чего они хотят от моего отца? – спросил он, закашлявшись.
– Да ничего. Просто стая чует слабаков.
– Ты думаешь, что его бьют?
– Я в этом уверен.
Габриэль поежился. Его сердце забилось сильнее. Гора двумя пальцами взял его за подбородок и приподнял лицо к свету. Мальчик плакал.
– Я все устрою, – сказал он мягким и доверительным голосом, неожиданным для такого мужлана.
В его взгляде вспыхнула искра страсти. Он обнял Габриэля за тонкую талию и с силой прижал к себе, страстно ища его губы.
– Поцелуй меня…
– Нет, ты что?
– Всего один поцелуй, сейчас.
Габриэль вырвался и попятился с отвращением, вытирая тыльной стороной ладони щеку и рот, влажные от чужой слюны.
– Иди к черту! – закричал он.
Гора пронзил его своим ледяным взглядом. Под слабым освещением бородка придавала ему дьявольскую внешность. Габриэль выдержал его взгляд несколько секунд, потом бросился бежать как сумасшедший к бараку.
– Беги, беги, маленькая шлюха!
Габриэль не обернулся.
– Ты такой же онанист, как и твой отец.
Габриэль открыл дверь в барак, и в нос ему ударил все тот же тошнотворный запах.
– Он все равно уже конченый человек, – донеслось до него последнее предупреждение Горы, прежде чем он притворил едва державшуюся на петлях дверь.
Габриэль двигался в темноте с крайней осторожностью. Была глубокая ночь, и в бараке был слышен только храп заключенных.
Юноша пробирался на цыпочках. Проскользнул мимо нар Червя, который все еще стонал от нестерпимой боли. Глаза его заплыли, на голове было множество ссадин и синяков, нос был забит запекшейся кровью, поэтому он тяжело дышал открытым ртом.
Кто-то кашлянул, и Габриэль присел на корточки. Заключенный повернулся на бок и сплюнул. Как только он снова захрапел, юноша выпрямился и огляделся, пытаясь различить в темноте нары Горы. Он узнал его по огромной массе тела, осторожно пробрался к нему, встал на нижнюю полку и подтянулся, потом лег рядом.
– Добро пожаловать, – проворчал тот.
– Делай что хочешь, – прошептал Габриэль безучастным тоном.
Гора накрыл их с головой одеялом, и запах грязного белья стал еще сильнее.
– Прижмись ко мне, – сказал он.
Габриэль послушался.
– Тебе нравится?
– Скажи, что я должен делать.
– Разденься.
Габриэль быстро снял с себя одежду.
– Повернись!
Юноша закрыл глаза и подождал, все тело его напряглось. Лицо отца, слабого и избитого, встало перед глазами. Габриэль спросил себя, понял бы его отец, если бы увидел сейчас, продолжал бы гордиться им? Нет, никто бы его не оправдал, даже мама. В этом он был уверен. Единственная, кто заступился бы за него, была Новарт, его «розовый бутон», да и то только потому, что она была слишком маленькая, чтобы понимать, что сейчас должно было произойти. «Розочка моя, я не хочу, чтобы убили папу», – сказал бы он ей, а она просто улыбнулась бы ему, откинув назад черные кудряшки.
– Убирайся к черту! – оттолкнул его Гора, откидывая с головы одеяло.
Габриэль повернулся и уставился на него.
– Я просто хотел проверить, насколько сильно ты любишь отца.
Габриэля будто что-то отпустило внутри.
– Убирайся из моей кровати, – приказал Гора, отпихивая его.
Кто-то их заключенных заворчал:
– Закрой пасть!
– А как же отец?
– Убирайся из этой чертовой кровати, быстро!
Габриэль медленно сел, спустил ноги и поискал в темноте, на что бы опереться. В висках у него бешено пульсировало от злости и унижения. Но как только он спрыгнул, Гора схватил его за руку. В полумраке глаза этого бугая горели, как два аметиста. По какой-то необъяснимой причине Габриэль почувствовал в этом взгляде обещание, молчаливую клятву, но, несмотря на это, вырвал руку, будто обжегшись. Потом, вздохнув с облегчением, быстро пробрался к своим нарам.
– Тебе хоть понравилось? – хихикнул Червь, кривясь от боли. Он был полуживой, но перемещения Габриэля от него не ускользнули.
Мальчик не ответил и бросился на нары. Он так и не сомкнул глаз, пока Сергей не приказал всем подниматься. Тогда он быстро оделся и одним махом, обжигаясь, выпил свой чай. Когда они шли на делянку, Габриэль заметил, что Гора встал рядом с ним, как всегда, будто этой ночью ничего не произошло. Он шел с высоко поднятой головой и с заступом на плече. На улице было сорок градусов ниже нуля.
Не останавливайся, неподвижность может убить. Ты скачешь на одной ноге, как безумный. Вы энергично похлопываете друг друга по спине в надежде немного согреться. Бедняги, вас заставляют с одним кайлом в руках построить целый мир из ничего. Вы вышли утром и продолжаете работать без передышки. Стемнело, и ты ждешь не дождешься, когда вернешься в лагерь и согреешься рядом с печкой. На тебе мокрая одежда, вокруг рта, на бровях и подбородке – иней.
– Эй, малолеток, теперь ты знаешь, какое у тебя будет лицо в старости, если доживешь, – шутит твой начальник смены, но ты даже не слышишь его, потому что неожиданно ветер начинает рычать, как разъяренный лев.
– Буран, начинается буран! – кричат люди и бросаются на землю, и ты за ними.
Твое сердце колотится от волнения, ты невольный свидетель силы природы. Ты не двигаешься, пока снежный вихрь увлекает за собой все вокруг, какие-то обломки, куски картона и зубило, которое вонзается в землю в опасной близости от тебя. Кто-то помогает тебе подняться, но ты не знаешь кто, потому что ничего не видишь. Контуры лагеря, звезды, Северное сияние, раскрасившее небо, – все исчезло. Тебя окружает только холодный туман, пустой, как и твое существование, где никого нет рядом.
Ледяной дождь, смесь из камней и снега, с остервенением набрасывается на тебя, как еще одна кара за прегрешения.
Микаэль вскочил, и его профиль, попав в луч проектора, появился на экране, как в китайском театре теней.
– Эй, пригнись, – возмутился кто-то из зрителей.
И юноша сел на свое место.
Это был обычный воскресный вечер, который он проводил, как всегда, в кинотеатре Санта-Маргерита. Иль чине вечо, старый кинотеатр, как называли его на венецианском наречии, располагался в церкви, оскверненной во времена наполеоновских реформ, когда множество храмов и монастырей были закрыты. Над зданием возвышалась полуразрушенная колокольня, стоявшая в таком виде уже как минимум полтора века. У основания ее можно было полюбоваться двумя статуями из белого мрамора: морским чудовищем и драконом с раздвоенным языком. В недавнем прошлом приход решил отдать здание под кинотеатр, в котором показывали бы картины с высоким религиозным и социальным содержанием.
В то воскресенье Волк настоял на том, чтобы никто из студентов не пропустил «Похитителей велосипедов», фильм, который он считал настоящим шедевром. Зал был набит битком. Очевидно, приключения Антонио, безработного из Рима, сразу после войны интересовали и волновали публику. Многие курили, некоторые женщины тихо плакали, и Микаэль, отличавшийся особой чувствительностью, ощутил потребность выйти на свежий воздух.
Он снова встал, но на этот раз с осторожностью, наклонившись. Выскользнув из ряда, он услышал, как кто-то звал его шепотом:
– Микаэль.
Он обернулся и в темноте разглядел девушку, сидевшую в партере, под галереей.
– Я принесла тебе книгу.
Напрягая зрение, он узнал наконец нежное личико Франчески.
С того раза они больше не виделись. Он часто забирался на стену, надеясь встретить «фею» с золотым взглядом. Он даже осмеливался громко звать ее по имени, разумеется, так и не получив ответа. А теперь эта встреча взволновала его, и сердце полетело вскачь.
– Садись с нами, – пригласила его Франческа, указывая на свободное место.
Микаэль молча сел рядом.
– Мы только что пришли. Это Марина, – сказала Франческа, кивнув в сторону подруги.
«Папа, папа!»
Душераздирающий детский плач с экрана перебил шепот в зале. Это был Бруно, сын Антонио, который кричал в отчаянии, видя, как линчуют его отца, только что укравшего велосипед. Франческа скинула с головы капюшон «монтгомери», и ее светлые волосы рассыпались по шотландской подкладке, а в воздухе распространился тонкий аромат ее духов. Микаэль вдохнул его с восторгом, пытаясь определить, что это. И через некоторое время понял: она пахла апельсиновым цветом.
«Вор, подлец, в тюрьму его!»
На экране маленький Бруно с отцовской шапкой в руке умолял толпу на улице отпустить отца.
Микаэль искоса глянул на Франческу и увидел, что она плачет, взволнованная этой сценой. Ему было жаль ее, и он стал подбирать слова, чтобы утешить, но пока думал, ее рука, теплая и мягкая, нежно коснулась его руки.
И перед ним разверзся целый мир диких апельсиновых деревьев в цвету.
Мы возвращаемся из кинотеатра и уже почти подходим к колледжу, когда вонь, поднимающаяся от канала, перехватывает мне горло и я вдруг вижу тебя: у тебя мокрые ноги и влажная одежда, потому что ты уже много дней трудишься по колено в воде, что-то роя на берегу обледеневшей реки. Вы должны построить мост и сделать это очень быстро, потому что если вы не успеете вовремя, то вам будет нечего есть. Но тебя не пугает даже голод. Как заведенный, ты сжимаешь зубы и колешь обледеневшую землю.
Бьешь и бьешь, уже ничего не чувствуя.
– Тебя зовет начальник лагеря, – сообщает тебе начальник смены.
Ты только что вернулся в лагерь и снимаешь робу.
– Знаешь где? Барак с флагом, – настаивает Сергей.
Ты снова одеваешься и идешь к центральным баракам, где встречаешь твоего отца прямо под портретом Сталина, чей проникающий взгляд, кажется, вот-вот раздавит беднягу.
– Те двое еще приставали к тебе? – спрашиваешь ты, обнимая его за плечи.
– Нет, – бормочет он, качая головой, но ты пытливо смотришь ему в лицо, потому что тебя не убедил тон его голоса.
– Сразу же мне сообщи, если те двое тронут тебя хоть пальцем, – говоришь ты отцу в тот самый момент, когда появляется начальник лагеря, такой же усатый тип, как и спаситель родины, не удостоив вас даже взглядом.
– Садитесь, – приказывает он вам.
Никаких бесполезных вступлений.
Начальник лагеря берет со стола конверт, открывает его и достает письмо. Он читает вам письмо равнодушным тоном, как если бы это был отчет о продвижении работ. Ты подался вперед – весь внимание, как в школе. Ты хочешь понять русские слова, юридическую терминологию, которую еще не знаешь так хорошо. Скоро ты начинаешь думать, что это шутка, потому что, если ты правильно понял, твоя мать отрекается от тебя. Мама, женщина, которая подарила тебе жизнь, не желает тебя признавать, тебя и отца. Она осуждает вас, считает опасными и ненадежными элементами, которые угрожают целостности Советского Союза. Она отмежевывается от вас и заявляет, что не хочет вас видеть никогда и ни по какому поводу до конца своих дней. Ты ошарашен, ты смотришь на отца, который кажется еще меньше, чем был. Ты хочешь, тебе просто необходимо взять его за руку, но голос начальника останавливает тебя. «Здесь обручальное кольцо, которое твоя жена тебе возвращает», – говорит он отцу и протягивает маленькую коробочку, обтянутую бархатом. Отец берет кольцо в руку и сжимает его так крепко, что у него белеют костяшки пальцев. Ты хочешь возмутиться, потребовать разъяснений, но письмо, прошуршав, падает достаточно близко от тебя, чтобы ты мог узнать подпись твоей подлой матери. Тебе очень больно, так больно, как если бы тебе вспороли брюхо и выпотрошили, как волк ягненка.
Я чувствую твою боль, жестокость этого мира и останавливаюсь.
– Дорогие мальчики, у вас трудный и опасный период жизни, – начал отец Элия.
Этот пожилой мужчина, высокий и сухопарый, с копной седых волос, похожих на нимб, был полон энтузиазма, что для его возраста было само по себе удивительно.
– Господь пока дает мне силы, – отвечал он тем, кого удивляла его жизненная энергия. Отец Элия утверждал, что может пройти путь от Берега Рабов, где причаливали пароходики с острова Святого Лазаря, до самого колледжа менее чем за двадцать минут, невероятное время даже для молодого человека.
«Чего там, в самом деле? Пойду к Академическому мосту, потом сверну направо, и я пришел», – говорил он, размахивая руками, испещренными синими венами.
Выходец из Персии, он уже более полувека жил в келье островного монастыря. Он считался отличным монахом-мхитаристом, опорой армянской коммуны, где его уважали и почитали чуть ли не за ангела, сошедшего с небес. Дав обет затворничества, монах никогда не покидал острова, разве что только ради колледжа, где он по собственной инициативе преподавал пресловутый предмет под названием «Сексуальное воспитание и поведение».
– Многочисленные искушения терзают вашу незрелую плоть. – Его голос громыхал в классе, как голос шекспировского трагика.
Вся его фигура, выделявшаяся против света на фоне окон, нагоняла благоговейный страх на студентов, и они слушали его в тишине и с вниманием.
– Керопе, сын мой, ты не должен испытывать стыд. – Он приблизился к густо покрасневшему студенту и погладил его жесткие волосы отеческим жестом. Это был его любимчик, наверное, потому что они оба были выходцами из Персии, или потому что монах еще видел в нем ту невинность, которую все остальные, переживавшие самый пик гормональной бури, уже потеряли.
– Сатана везде подстерегает вас, и не надейтесь скрыться от него. Он придет к вам вечером, ночью, в самые неожиданные моменты, и будет смущать вас. Вам будут сниться сны, которыми вы не посмеете ни с кем поделиться, и мерзкие желания будут снедать вас. Но Господь, – он вознес руки к небу, – подарит вам спасение, если вы обратитесь к нему.
Солнечный луч осветил ладонь его правой руки.
– Бакунин, – шепотом позвал Азнавур.
Микаэль повернулся к другу, который тыкал пальцем в свою ладонь, но глазами указывал на монаха.
– Посмотри на его руки. – Азнавур лишь шевелил губами.
Микаэль чуть не подскочил: глубокая затянувшаяся рана, которую можно было нанести только чем-то очень острым, отчетливо виднелась на ладони старика чуть выше линии жизни.
В колледже личность отца Элия была окружена ореолом тайны. Поговаривали, что у него есть стигматы и что они кровоточили, особенно в моменты сильного душевного потрясения, будто сигнальные лампочки, указывавшие на силу давления, которым дьявол смущает братьев коммуны.
– Сестры, что стирают ваше белье, сообщили мне, что кто-то из вас испачкал спермой простыни. Я знаю, кто именно, я вычислил его по номеру койки, вышитому на простыни, но я не предам гласности его имя, а лишь посочувствую его низкому поведению.
Мальчики украдкой поглядывали друг на друга: кто этот грешник?
– Есть вещи, которые вы еще не в состоянии понять. Пока еще нет. Великий дар любви, взаимное дополнение мужчины и женщины. Союз двух полов в браке отражает щедрость и плодотворность Создателя. Но в браке, повторяю, только в браке, к которому каждый из вас должен прийти незапятнанным душой и телом.
Послышались всхлипывания и сдержанные рыдания. Один из студентов уронил голову на руки и горько заплакал. Он был такой высокий и крупный, что еле помещался за партой.
Отец Элия, как молния, подлетел к нему:
– Ампо, сын мой, ты поддался дьяволу, но исповедайся и молись о прощении твоих грехов. Я уверен, что это больше не повторится, теперь ты будешь начеку, ты будешь бдителен и непреклонен, когда искушение подкрадется к тебе вновь. – Затем он тронул его за плечо, предлагая подняться.
– Я не виноват, – повторял парень, икая и всхлипывая, – я спал и ничего не помню, только утром проснулся весь мокрый.
Керопе, глубоко взволнованный страданиями друга, попытался оправдать его:
– Да, это правда, я сам видел, как он в туалете пытался застирать пятно.
– Две кока-колы, пожалуйста.
Официант обменялся улыбками с молодой парой, сидевшей в дальнем углу бара.
– Боишься, что тебя кто-то увидит? – спросила Франческа у Микаэля, сняв свой «монтгомери». Она была тоненькая, с едва заметной грудью.
Микаэль покачал головой:
– Мои товарищи еще на исповеди.
– А почему в церкви Босоногих?
Он пожал плечами. Ему как-то никогда не приходило в голову, почему святые отцы выбрали для покаяния студентов колледжа красивую церковь Санта Мария ди Назарет, или, по-другому, «босоногих» кармелитских монахов. Он поднял голову и в просвете витрины бара увидел на фасаде Мадонну с младенцем.
– Право, не знаю. Но она действительно очень красивая, – сказал он.
Часто случалось, что кто-то из мальчиков вдруг испытывал срочную надобность исповедаться, вероятно, потому, что в таких случаях монахи давали им разрешение на выход за пределы колледжа в одиночестве, правда, только до церкви. Для студентов это был единственный способ оказаться немного на свободе без постоянной слежки. Единственное условие – соблюдать время возвращения в колледж, назначенное директором.
– Одна и вторая. – Официант поставил на столик две бутылки с живительным напитком.
Франческа сосредоточилась на своей кока-коле.
– Ты уже пробовала ее? – спросил Микаэль.
– Да. Мама говорит, что она вредная.
– Мне нравится шрифт, которым написано название, буквы словно обнимаются.
– И правда. – Франческа внимательно рассмотрела этикетку.
– Какую тебе? – спросил Микаэль и повертел двумя соломинками.
– Какие красивые! Я беру синюю.
В баре никого не было. Уборщица подметала крошки под стойкой.
– Ты скучаешь по семье?
– Иногда. Ностальгия.
– У тебя пожилые родители?
– Моей матери пятьдесят один год, а отец…
– Что?
– Умер два года назад.
Франческа втянула первую порцию напитка через синюю соломинку. Глаза ее наполнились слезами.
– Ее надо пить потихоньку, а то будешь плакать, – пошутил Микаэль.
– Извини.
– Что с тобой? – спросил он нежно.
– Проблемы в семье. У папы появилась другая женщина, и не только.
– То есть?
– У него будет ребенок от нее. Через пару недель он уйдет из дома и… – Она не закончила фразу и заплакала.
Микаэль обнял ее за плечи.
– Ну-ну, не надо, прошу тебя, – он тихонько провел пальцами по ее мокрой щеке, – Франческа.
Золотые сверкающие глаза посмотрели на Микаэля. Прошло несколько секунд. Она смотрела на юношу, спрашивая себя, можно ли ему довериться. А он любовался ее красотой и думал, что, может быть, она считает и его привлекательным.
Потом Микаэль, сам того не сознавая, поцеловал ее. Это случилось непроизвольно, искренне, он будто желал сказать: я здесь и, если ты захочешь, тебя не оставлю, я буду рядом с тобой. Франческа застыла, взволнованная. Он отпустил ее, боясь, что не сможет сдержаться от чувства смятения и опьянения ароматом апельсиновых цветков.
– Ты раньше целовал кого-нибудь? – спросила его Франческа, покраснев.
– Да, – соврал он.
С улицы кто-то постучал по стеклу. Они повернулись на стук и увидели сплюснутый нос, прилипший к запотевшему стеклу.
Франческа засмеялась:
– Так это не?..
Микаэль на секунду раньше узнал Азнавура. За его спиной стояли Керопе и Ампо и, улыбаясь, подавали ему знаки выходить. Пришло время возвращаться в колледж.
– Официант, счет! – позвал Микаэль, ища в кармане брюк монетки.
– Давай договоримся – в два, каждый день. У стены, – предложил он Франческе.
Она кивнула и выскользнула наружу, сверкнув последней слезинкой, задержавшейся на длинных ресницах.
10
– Да что Мефис понимает в любви? Старик, к тому же всю жизнь проживший за монастырскими стенами, – проворчал Азнавур.
– О чем ты?
В палате уже не горел свет, и синьор Беппе, как всегда, дважды повернул ключ в скважине. Микаэль слышал дыхание друга в темноте, между их кроватями было не больше пяди.
– Об отце Элия, то есть Мефисе, от «Мефистофель». Когда с ним говоришь, кажется, что говоришь с дьяволом собственной персоной. Он даже сильнее его.
– В каком смысле?
– В том, что у него есть власть изгонять дьявола. И знаешь, что я тебе скажу? Если Бог есть суть… как там сказано?
– Если Бог есть господин, то человек есть раб, – подсказал Микаэль.
– Молодец, Бакунин!
Из сада послышалось высокое жалобное гиканье. Пролетела сова.
– Ты, например, знаешь больше его, – продолжал Азнавур. – Ты уже трогал женское тело.
Микаэль промолчал.
– Тебе нравится Франческа? – настаивал друг.
– Вполне, – соврал он.
– Она просто идеальна.
– Она не идеальна, она идеальна для меня, – поправил Микаэль.
Они надолго замолчали. Слышно было, как храпит кто-то из их товарищей.
– Как ты думаешь, мы можем познать только ту реальность, в которой живем и которую можем потрогать руками? – неожиданно спросил Микаэль, меняя тему.
– Бакунин, прошу тебя, сейчас не время философствовать, – устало ответил друг.
– Нет, правда. Как думаешь, существует другой мир за пределами нашего, реального, который мы ощущаем?
– Почему ты меня об этом спрашиваешь?
– Ответь!
– Не знаю. Может, да. Ведь есть же сны.
– Нет, я не говорю про то, когда ты спишь.
Азнавур не понимал.
– Я говорю, когда ты, скажем, просто гуляешь или учишься, словом, в любой момент перед тобой возникает другая реальность, ты видишь ее, ощущаешь и вдруг как бы оказываешься внутри ее. – Микаэль прервался, подбирая нужные слова. – Когда ты как бы живешь жизнью другого человека, – добавил он тихо. – Жизнью, полной мучений, в местах, которые тебе не известны, и в ситуациях, в которые ты никогда не попадал раньше. Кажется, будто это театр. Там все печальнее, жестче и трагичнее. Может быть, для того чтобы ты больше ценил реальную жизнь, которая, несмотря ни на что, вовсе не такая уж мучительная.
Он замолчал, испугавшись, что зашел слишком далеко, и прислушался, надеясь получить хоть какой-то ответ от друга, всего пару слов, которые могли бы утешить его. Но на соседней кровати никто не шевельнулся. Тишина.
– Я смутил тебя? – спросил Микаэль, приподнявшись на локте.
Грудь его друга медленно вздымалась и опускалась, потом Микаэль услышал храп и понял, что говорил в пустоту.
* * *
Кровь хлещет изо рта…
Мальчики завтракали в спешке горячим шоколадом и бутербродами с джемом. В то утро строгая дисциплина, обычно царившая за столами, отсутствовала, потому что никто из монахов еще не спустился к завтраку.
Азнавур поставил на стол свой поднос и сел рядом с Ампо.
– Парелуис![31]
Ампо пробурчал в ответ что-то непонятное с набитым ртом. Микаэль, сидевший напротив, ничего не сказал.
– Ты что, не хочешь есть? – спросил его Азнавур.
– Немного джема.
– Говорит, что его тошнит, – влез со своими объяснениями Ампо.
Микаэль отодвинул от себя поднос. Кусок хлеба с намазанным джемом лежал в крошках на подносе. Чашка еще была полна горячего шоколада, свернувшегося по краям.
– Это не удивительно. Сначала не спит по ночам, а потом плохо себя чувствует! Что вы там рассказывали друг другу вчера? – бросил как бы между прочим Ампо с типичным сирийским акцентом и неизменной слабой «эр».
– О фантазмах говорили, правда, Бакунин?
Отец лежит ничком на земле, безжизненное тело среди разбросанных заготовок, кусков кожи, чуть поодаль валяется открытая металлическая банка. Кажется, будто это только что взорвавшаяся мина разбросала вокруг мельчайшие сапожные гвоздики.
Ты смотришь на него ошарашенно, как зритель на спектакле-гротеске.
– Как это случилось? – спрашивает офицер у охранников, толкущихся в мастерской.
Тут же в толпе стоят Кривой и его приятель, с досадой качают головами.
– Мы тут ни при чем, мы были на обеде, – решается ответить пожилой заключенный.
Охранник наклоняется над отцом и поворачивает его на спину.
– По-моему, он покончил с собой, – констатирует охранник.
– Это еще надо установить, не будем терять времени, – приказывает офицер.
Микаэль сполз с лавки на пол, ударившись головой о плитку.
– Ты что? Шутишь? – удивленно и испуганно спрашивает Азнавур.
Охранник пинает его ногами, но этого недостаточно. Тогда он запрыгивает на него сверху. Тело отца кажется кукольным: ноги дергаются, голова и руки болтаются, как у марионетки…
– Скорее! Бакунину плохо!
На полу в столовой Микаэль дергался в жестоких конвульсиях. Взволнованные товарищи окружили его, пока Азнавур старался держать ему голову.
– Черт, кровь, у него идет горлом кровь! – воскликнул он, увидев на шее и подбородке друга подтеки красного цвета.
– Нет, его стошнило. Это просто вишневый джем, – поправил его Ампо, растерев пурпурную массу между пальцев.
– Давайте поднимем его. Волк уже идет, – сказал кто-то, запыхавшись.
Взгляд Габриэля блуждал по бесчувственному телу отца. Маленький человек, он казался еще меньше в огромной, не по размеру, одежде. После каждого удара ногой у него изо рта вырывался поток крови. Габриэль стоял, не двигаясь, и смотрел на это мучение, будто охваченный нездоровой страстью мазохиста, стараясь ничего не пропустить, огнем выжечь в памяти.
В какой-то момент офицеру это надоело, и он наклонился с раздраженным видом, приподнял голову Серопа и внимательно всмотрелся в его лицо.
– Кончено, – сказал он. Потом неожиданно раздвинул ему челюсть и засунул пальцы в рот, проталкивая их все глубже, будто хотел схватить желудок и вывернуть его наружу. Когда он вынул руку и разжал кулак, с ладони скатились десяток гвоздиков и запрыгали по полу. – Этот болван пропустил свои потроха через мясорубку! – воскликнул он, покачав головой.
Острая боль пронзила Габриэля, и он дернулся, как попавшая на крючок рыба.
– Черт! – Офицер поднялся и, увидев Габриэля в толпе, направился к нему, вытирая на ходу руку куском тряпки. – Мне жаль, армянин, – сказал он, слегка дотронувшись до него ушанкой.
Габриэль посмотрел в глаза этому человеку, надеясь прочитать там хоть немного сострадания.
– Мне жаль, – повторил тот, – гвоздей.
Кривой и его приятель подавили смешок.
Два охранника подняли тело. На мгновение Габриэль почувствовал желание броситься на них, но сдержался. Он не должен был поддаваться бесполезному бунту. Он уже был готов к худшему, когда его срочно вызвали в лагерь. Ему бы никогда не позволили просто так оставить работу, если бы речь не шла о чем-то серьезном.
– Куда вы его несете? – спросил он, когда охранники проходили мимо.
– За территорию, как и всех остальных. Мы похороним их весной.
– Подождите! – Рука отца свешивалась и волочилась по земле. Габриэль поднял ее. На мизинце сверкнуло кольцо. Он быстро и незаметно снял его и спрятал в карман.
Это было обручальное кольцо его матери.
* * *
Он смотрел вслед охранникам, пока те не исчезли за сугробом, потом вернулся в свой барак. Открыв дверь, он попал в самый разгар бешеной свары.
– Твою мать, где мой хлеб? – орал человек в рабочей спецовке и с остатками инея на лице, который быстро таял, стекая тонкими струйками. – Я оставил половинку под подушкой. Где она?
Червя окружили. На него зло смотрели и пинали.
– Я не знаю, – защищался он.
– Ты единственный здесь оставался.
– Тогда кто бы это мог быть?
– Мы работаем, а ты тыришь у нас хлеб!
В ярости они схватили его за руки и за ноги, раскачали и подбросили вверх.
– Подождите! – закричал Червь под потолком.
На его лице еще виднелись следы недавних побоев. Он еще не совсем оправился, и его освободили от работы на объекте. Но те, кто не работал, получали только половину дневного пайка, а иногда и вовсе не получали. Червь не выдержал голода и украл чужой паек. Но, по неписаному закону лагеря, хлебный вор приговаривался к смерти. Можно было украсть трусы, бритвы, расчески, но чужой хлеб – никогда. Это считалось самым подлым и неприемлемым преступлением, потому что хлеб – это святое и неприкосновенное.
Червяка подкинули и отступили, он грохнулся оземь с мерзким звуком треснувших костей.
– Нет, прошу вас, прошу пощады! – плакал он, корчась на полу.
– Отдавай хлеб! – Голос Горы заглушал все остальные.
– У меня его нет. Я был голоден.
Гора кивнул другим, и они наклонились, чтобы снова схватить истерзанное тело Червя. Габриэль отошел с чувством отвращения. Он не мог вынести еще одну пытку. Молча он поспешил к своему месту и, встав на колени, стал рыться в вещах.
– Хватит! – закричал он, вставая.
Остальные остановились и посмотрели на него с удивлением. Никто не имел права вмешиваться в сведение счетов, и уж тем более малолеток вроде него.
– Сколько не хватает? – спросил он, медленно приближаясь.
Гора отодвинул в сторону остальных и встал перед Габриэлем в полной уверенности, что напугает его своим ростом.
– Как думаешь восполнить?
– Я дам вам это, если вы оставите его в покое.
Габриэль протянул руку. На ладони лежал кусок хлеба.
– Ты хочешь отдать мне свой паек? Я правильно тебя понял? – спросил с недоверием тип в спецовке, не сводя глаз с краюхи.
Мальчик кивнул. Тот подскочил, схватил горбушку и тут же глубоко вдохнул ее аромат, будто хотел наполнить легкие этим душистым запахом.
– В следующий раз я сам разобью тебе морду, – поклялся Габриэль, наклонившись над Червем.
Бедняга попытался встать, но тут же повалился навзничь, застонав от боли.
Габриэль перехватил презрительный взгляд Горы, но не придал ему значения. Ему не позволили проводить в последний путь отца, даже молитвы прочитать. Взамен он спас жизнь другому человеку, пожертвовав очень дорогим, своим пайком. Он надеялся, что этого жеста хватит, чтобы Господь принял душу его отца, простив его в своем бесконечном милосердии.
От открыл дверь барака и вышел нетвердым шагом. Порывы ледяного ветра хлестали его по щекам, словно тысячи иголок вонзались в его плоть. Он направился к плацу, не зная, куда идти, под прицелом двух охранников на вышках. Было уже темно, и свет от фонарных столбов отбрасывал слабые тени на его ледяной покров. Собака на цепи бешено лаяла, бросаясь вперед и позвякивая железным ошейником.
Габриэль остановился, колени его подогнулись, и он осел в снег, смешанный с грязью. Он лежал так до тех пор, пока тепло его тела не растопило лед под ним. Куртка пропиталась ледяной водой, и холод пробрал его до костей. Он думал об отце, брошенном в кучу с другими трупами за большим сугробом.
В этот момент его охватила горькая уверенность, что он остался один на всем белом свете.
11
Патры, 1938 год
Осень 1938 года началась под плохим знамением и не обещала ничего хорошего.
Политическая обстановка в мире указывала на раскол, который в скором времени перерастет во Вторую мировую войну, самую чудовищную и безжалостную в истории, стоившую шести лет страданий, разрухи и истребления и пятидесяти пяти миллионов жизней.
Главные европейские силы медленно делились на два противоположных фронта: с одной стороны – немецкие нацисты и итальянские фашисты, объединенные пактом «оси»[32], с другой – Франция и Англия. На западе – Испания, истерзанная гражданской войной, в которой националисты генерала Франсиско Франко с помощью Гитлера и Муссолини победили молодую Республику, дав начало жесточайшей диктатуре. В сердце Европы агрессивная экспансионистская политика нацистов милитаризировала приграничные районы с Францией, игнорируя положения Версальского договора, санкционировала аннексию Австрии со стороны Германии, а в скором времени оккупировала бы Богемию и Моравию с последующим распадом Чехословакии.
Однако в Греции эти события не взволновали общественное мнение. Страна была маленькой, не имевшей веса в разгоревшихся политических играх, к тому же она находилась на задворках Европы, в самом низу Балканского полуострова. А главное – это была бедная страна. В Греции еще оставались следы турецкого ига, и она старалась изо всех сил справиться с множеством собственных тяжелых проблем: практически несуществующая промышленность, сельское хозяйство, не способное удовлетворить потребности населения… Миллион греческих и армянских беженцев, осевших там после завершения конфликта с Турцией, лишь ухудшили ситуацию.
Жители же Патры вынуждены были бороться еще и с настоящим стихийным бедствием: после почти библейской засухи, которая уничтожила большую часть урожая, осень принесла с собой ужасные ураганы и ливни, по разрушительной силе сравнимые с тропическими, которые снесли с лица земли гектары виноградников и вырвали с корнем даже столетние оливковые деревья.
– Больше не будет ни вина, ни оливкового масла. Это проклятие, – говорили крестьяне, осеняя себя крестным знамением.
Множество животных погибло от голода. Туши в полях, лесах, на берегах озер и даже на обочинах дорог медленно разлагались, наполняя воздух тошнотворной вонью. Великие западные болота были полны илистой воды, кишели комарами и их личинками.
После животных пришла очередь людей. Они умирали от так называемой болотной болезни – малярии. Сгорали от высокой температуры за несколько дней, с жестокими головными болями и черной мочой. Спасался только тот, кто мог купить хинин – экстракт коры хинного дерева с чудотворными свойствами.
Но большая часть населения была бедной, если не сказать нищей, и потому погибала.
И падала, как скот, по обочинам дорог.
– Ну что, погуляем? – спросила Сатен у детей.
Малыши смотрели на нее с удивлением.
Она хорошенько завернула каждого в одеяло и уложила в мешок, который сама сшила на машинке. Это была большая переметная сума из конопляного сукна с двумя карманами и длинной перекидной заплечной лентой. Изначально это был мешок из-под американской муки, которую Красный Крест иногда привозил в лагерь беженцев. С одного края мешка виднелась полустертая надпись «манитоба»[33], слово, значения которого Сатен не знала.
Это было редкостью, чтобы она выходила из дома, разве что только вылить во дворе грязную воду из таза, а потом сходить набрать новой у общего фонтана. Или же собрать фрукты с растущих поблизости деревьев: инжир, груши, горсть маслин, но всегда в спешке, опасаясь, что дети остались дома одни и никто не присматривает за ее ангелочками. Это был первый за долгое время чистый и безоблачный вечер, звезды сверкали на небе, и ей захотелось выйти подышать свежим воздухом вместе с детьми.
Сероп где-то пропадал, пытаясь продать свои тапочки в соседних селениях. Часто он не появлялся дома по нескольку дней, пытаясь наладить продажу в процветающих поселках горной Этолии[34]. Иногда ему удавалось обменять пару-другую своих кундур на буханку хлеба, или домашнюю лапшу, или даже на целую курицу.
На самом деле голод был второстепенной проблемой в лагере, главной бедой была малярия. В лагере беженцы мерли как мухи. Каждое утро сюда приезжала повозка, запряженная худой, как скелет, ослицей. Погонщик звонил в колокольчик и ждал несколько минут. Родственники выносили, оплакивая и стеная, трупы своих родных, складывали их в повозку один на другой и, когда она трогалась, прощались с ними навсегда.
Луссиа-дуду умерла одной из первых. Сероп нашел ее однажды вечером лежащей на полу, с закатанными глазами, еще теплую, и остался с ней на всю ночь, зажег свечу и прочитал все молитвы, которым она его научила. На следующее утро он взвалил ее на плечи и, пройдя через весь лагерь с торжественностью священника, аккуратно устроил ее тело в свободном углу в повозке, умоляя погонщика никого не класть сверху.
– Позаботься о моей матери, – попросил он.
Потом, когда колеса повозки заскрипели по проселочной дороге, ведущей к кладбищу, Сероп почувствовал, как силы покидают его, и рухнул в отчаянии наземь среди луж и грязи.
– Ну, так что? Когда вы решите заговорить? – спрашивала Сатен детей, перекидывая через плечо переметную суму. – Не видите, как мне одиноко? – добавила она.
Близнецы засмеялись так мило и заразительно, что она ответила им тем же с легким сердцем. Потом она откинула портьеру и выглянула наружу. Фитиля не было. Во дворике стоял ее пустой стул, а вокруг валялась шелуха от семечек. Уже несколько дней она лежала дома больная, и говорили, что ее дни сочтены.
Лагерь был погружен во тьму.
Сатен повязала платок на голове и выскользнула наружу, как тень. Порыв теплого и влажного ветра обласкал ее лицо, и ей показалось, что природа обещает ей с завтрашнего дня перемены к лучшему. Она шла, плохо видя все вокруг, поскольку перед этим несколько часов вышивала цветы на тапочках. Оставалось еще несколько пар до тридцати – заказ, полученный от Капуто, – а потом Сероп отнесет ему всю партию и покажет с гордостью. «Смотрите, какие красивые», – скажет он, прежде чем получит оговоренную плату – пятнадцать драхм.
От одной этой мысли Сатен пробрала дрожь. Уже несколько дней им практически нечего было есть, и она даже собрала диких трав в поле, чтобы хоть что-нибудь пожевать. Ей казалось невозможным в скором времени располагать такой суммой денег. Они купили бы мясо, масло, горячий хлеб и какую-нибудь игрушку для детей, новую рубашку для Серопа, и если еще что-то осталось бы, то, может быть, духи для нее – роза и корица, такие же, как у Люси.
– Что вы хотите, чтобы мама вам подарила? – спросила она у близнецов и несколько секунд ждала, будто они действительно могли ей ответить.
Вот уже несколько месяцев Сатен разговаривала с ними, как с большими, словно они могли понять ее разговоры.
Но ей это было крайне необходимо, потому что дети были ее единственной компанией.
Малыши непонятно агукали, и мать посчитала, что они не согласны со списком подарков. Каждый хотел что-то другое.
– Если так, то я вам ничего не куплю, – пожурила она их.
Дети расширили глазки и замолчали. Но один из них снова заулыбался, и тут же его скопировал второй. У Сатен поднялось настроение, и она крепко прижала их к груди.
Спустя некоторое время она поднялась на лысый холм, испещренный зелеными камнями. Ветряная эрозия придала им странные формы. Один даже походил на рассерженного рычащего льва, и Сатен села на него верхом, положив суму с детьми в его распахнутую пасть.
– Ваш отец где-то здесь сейчас работает для нас, – сказала она детям, блуждая взглядом по горе Крионери. – Вы плод нашей любви. И неожиданность, потому что мы не ждали вас вместе. Но когда вы вышли из моего живота, потому что вы именно здесь были, вот здесь, девять месяцев, – и она погладила рукой свой живот, – мы были несказанно рады. – Потом, прижав их к себе, будто желая увериться, что оба младенца с ней в безопасности, она добавила: – Вы мое солнышко и моя луна. Разве может одно существовать без другой? – Затем она положила их так, чтобы они оказались лицом к лицу. – Посмотрите на себя, – потребовала она.
Братья улыбнулись, им понравилась только что придуманная мамой игра. Они протянули друг к другу ручки и дотронулись слегка, пальчик к пальчику. Ей было так смешно наблюдать, как два совершенно одинаковых создания делают одни и те же движения. Мать взялась за пухленькие запястья и решительно разорвала уже порядком истрепавшиеся тесемки. Потом она связала их вместе и бросила по ветру.
– Вот и все, – сказала она, следя за полетом этой единой теперь тесемки, пока та не исчезла в темноте. – Теперь вы неразлучны.
Она выпрямилась и глубоко вздохнула, затем подняла глаза к небу, усыпанному звездами.
– Сурп Астватц, – обратилась она к Всевышнему, подняв руки к небу, – храни их. И пусть проклят будет тот, кто сделает им плохо! – прокричала она со злостью, будто предчувствуя что-то. – Навсегда, – завершила она, обращаясь к луне, которая в этот момент выглянула из-за облака. Это была полная луна с серебристым ореолом. Лунный свет осветил голову Сатен. Она казалась Мадонной с двумя младенцами на руках.
Вселенная слушала ее в молчании, может быть, зная о жестоком роке, который был для нее уготован.
Сероп медленно шел с мешком на плечах по главной дороге Неохори.
Три дня он ходил под дождем и ветром и страшно устал. Чтобы как-то держаться на ногах, он ел аганари, дикие артишоки, колючие и безвкусные, смородину и плоды арбутуса. Он пил дождевую воду и один раз козье молоко, только что надоенное, которое один жалостливый крестьянин ему предложил. Днем он отдыхал в тени какого-нибудь дерева, а ночью спал в полуразрушенных хлевах.
Он заходил во все селения, какие попадались ему на пути, предлагая людям свои красивые кундуры ручной работы.
– Примерьте хотя бы, – говорил он, расставляя их на покрывале на главной площади.
Прохожие останавливались, бросали быстрый взгляд, кривили рот. Какая-то старушка даже пощупала пару. Но никто не захотел примерить и тем более купить.
– Откуда ты? Мы не хотим здесь чужестранцев, – сказал ему мужчина с подозрительным видом.
– Вы приносите болезни, – добавил другой.
Кто-то даже пригрозил ему, замахиваясь и пиная ногами его товар:
– Убирайся отсюда, уходи туда, откуда пришел!
Люди боялись.
Малярия добралась и до их селений, сея боль и смерть. Сероп дошел до Неохори уже к вечеру. В своих скитаниях он дошел почти до края земли и вот оказался в этом городке в забытой богом долине.
Теперь он осматривался на главной улице и никак не мог понять, почему в округе нет ни одной живой души. Площадь была пуста, витрины кофейни закрывали жалюзи. Из домов с закрытыми ставнями не доносилось ни звука.
Вдруг из-за полуразрушенной стены появился небольшой кортеж. Во главе его шел священник в развевающейся черной рясе, с длинными волосами, собранными в пучок, в руках он держал крест и кадило. Сразу же за ним Сероп увидел два гроба, один был маленький, выкрашенный в белый цвет, наверняка детский. Послышались приглушенные рыдания, стенания и вздохи родственников, пришедших на похороны. Молодого мужчину поддерживал другой, шедший рядом, скорее всего брат, уж больно они были похожи. Мужчина шел, спотыкаясь, по булыжной мостовой. Совсем сломленный, небритый, время от времени он протягивал руку и трогал гробы, будто хотел соединиться с ними навечно. Рядом с ним девочка, скорее всего дочь, держала его за руку, обессиленно прислонясь головкой к его боку.
– Где мама, где мой братик? – спрашивала она, всхлипывая.
Потрясенный этой сценой, Сероп стоял не двигаясь. Мешок соскользнул у него с плеча и упал, раскрывшись, и из него выпали и покатились по дороге тапочки. Тогда он наклонился и стал спешно их собирать, а когда выпрямился, то увидел, что похоронная процессия стоит перед ним.
Священник обернулся, и гробы поставили на землю для благословения.
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, – читал священник, размахивая кадилом с ладаном, – все мы вышли из земли, в землю и вернемся.
Затем по его сигналу с гробов сняли крышки.
Сероп увидел в большом гробу молодую и красивую женщину с гладкими каштановыми волосами и утонченным лицом, одетую в широкое платье из черного кружева, которое только подчеркивало бледность ее кожи. В маленьком гробу лежал ангелочек с ручками, сложенными на груди, и пожелтевшими от жестокости смерти ногтями.
– Нет! – закричал молодой мужчина и, высвободившись из объятий своего брата, бросился на жену, приподнял ее голову с подушки в цветах и прижал к себе, покрывая поцелуями все лицо, не в силах сдержать душевного порыва. Потом он упал на маленький белый гробик и в последний раз обнял тельце своего ребенка. – За что? За что? – повторял он в отчаянии и в слезах.
Сероп не мог отвести взгляд от этой тягостной и мучительной сцены, всеми фибрами души чувствуя боль вдовца, и наконец дошел до того, что стал мысленно просить Бога в его бесконечном милосердии вернуть к жизни эти два тела.
А когда процессия тронулась дальше, он был настолько впечатлен, что ему почудилось, будто он узнал Сатен в молодой мертвой матери.
Его поразил дикий страх, и тогда он побежал прочь от этого места, волоча за собой мешок и теряя по дороге тапочки. Но ему было все равно, потому что в этот момент он больше всего на свете хотел вернуться домой, прижать к себе Сатен, сказать ей, как он любит ее, как ему повезло с такой женой, как она. И что он рад, что у них близнецы, которых он любит больше всех на свете.
Он хотел пообещать ей, что скоро уже сможет содержать семью как положено, что они никогда больше не будут страдать от голода и холода.
У Сатен был жар.
Она простыла на прогулке. Уложив детей спать и почувствовав озноб, она легла в постель и укрылась одеялом.
Вот уже несколько лет она не испытывала больше ощущения потерянности и озноба, которые обычно предвещали эпилептический припадок.
«Боже, что со мной? – подумала она испуганно. – Кто же будет смотреть за детьми, если я заболею?» – Эта единственная мысль крутилась у нее в голове, пока температура неуклонно росла. Нет, она должна бодрствовать, не сдаваться болезни. Но она все больше слабела и после многократно повторившейся рвоты откинулась на кровать, окончательно обессилев.
– Любимая, – позвал ее Сероп, испугавшись.
Он только что вошел, промокнув до нитки, попав под вновь начинающуюся грозу с ослепительными молниями и громом, от которого, казалось, содрогалась Земля.
– Жена, что с тобой? – Он повысил голос и потряс ее за плечи. Затем он осмотрел ее всю: прежде он не замечал, что она так исхудала и осунулась. А теперь бедняжка пылала, и жар ее чувствовался даже на расстоянии.
– Что же мне делать? – спрашивал себя Сероп в отчаянии, глядя на лицо жены, на ее пожелтевшую кожу, закрытые синюшные веки, потрескавшиеся губы с засохшей рвотой. Сатен еще дышала, но как долго она продержится?
Ужас сковал его. Сознание оцепенело, он никак не мог сосредоточиться, чтобы обдумать способ, как спасти Сатен. Ему казалось, что он проваливается в зыбучие пески все быстрее и быстрее.
Он хотел закричать: «Помогите!»
Но не было никого, кто мог бы протянуть ему руку помощи.
В этот момент молния осветила колыбель.
Один из детей проснулся и молча смотрел на него.
И Серопу почудилось, что мальчик смотрит на него с презрением. Осуждает за несостоятельность и неспособность бороться, за то, что он так легко опускает руки. Он заметил, что ребенок сидит в колыбели, все время поворачиваясь к нему лицом. Может быть, чтобы было легче наблюдать за ним, осуждать его с этим видом всезнайки, посмеиваться над ним.
Это коварный ребенок с дурным глазом, приносящим несчастье.
Демон во плоти.
Много лет спустя, кляня себя, он задавался вопросом: возникла ли у него эта мысль от отчаяния или, того хуже, была самооправданием того, что он совершил позже?
Он приблизился к ребенку, а тот сразу же прильнул к брату, крепко обнял его, уткнулся личиком ему в грудь, слушая дыхание, и обхватил ножками.
Отец схватил его с досадой и вынул из колыбели, вырвав из объятий брата, который отчаянно плакал, будто сознавая то, что должно было случиться.
Когда Сероп вышел из дома с закутанным ребенком на руках, небо пересекла такая молния, что он, испугавшись, оступился.
– Господи, прости меня! – прокричал он, когда земля содрогнулась от раската грома.
Он добрался до порта под проливным дождем и направился к площади, откуда обычно грузовики уезжали в Афины. Он огляделся в поисках Живана, на которого теперь возлагал все свои надежды. В скорости он узнал его грузовик с ярко-желтой кабиной, выделявшейся на фоне других. Машины были припаркованы в ряд в ожидании, когда закончится гроза, никто не хотел отправляться в далекий путь до столицы под таким ливнем. Сероп приблизился, идя вдоль стены старого здания и укрывая ребенка широкими полами своего плаща.
– Чего это ты подкрадываешься? – спросил водитель с издевкой, укрывшись под козырьком рядом со своей машиной.
Сероп сделал вид, что не понял.
– Брат, помоги мне, – взмолился он.
Живан глубоко затянулся, осветив на мгновение лицо огоньком сигареты, и поправил кепку на затылке. Он посмотрел на Серопа исподлобья, но не произнес ни слова.
– У меня здесь, под этим… – заикаясь, стал объяснять Сероп, показывая на плащ.
Живан засмеялся:
– Товар, что ли?
– Моей жене очень плохо. Она может умереть, а у меня нет ни гроша, чтобы позвать врача и купить лекарства.
Живан пожал плечами:
– Мне-то какое дело?
– Если я отдам его, то смогу хотя бы спасти ее, а вместе с ней другого, иначе мы все погибнем.
Живан повернулся и собрался уходить.
– Умоляю тебя, – прошептал Сероп, положив дрожащую руку ему на плечо.
– За это дело надо было хвататься сразу же, когда был случай. А теперь поздно, – ответил Живан.
Сероп обогнал его и преградил путь.
– Смотри, какой красивый, – зашептал он, слегка отодвинув полу плаща.
Показалась головка ребенка. Малыш моргал от яркого света или дождевых брызг, которые летели ему в лицо, и смотрел вокруг с удивлением и растерянностью, будто детеныш, оказавшийся вдали от своей норы.
Живан мельком взглянул на него и фыркнул:
– Ну, не знаю, не могу ничего обещать.
– Это здоровый и красивый ребенок, где еще они найдут такого?
– Да ты, я погляжу, стал настоящим торговцем.
– Если моя жена умрет… – Сероп заплакал.
– Перестань! – раздраженно сказал Живан, глядя на него с пренебрежением. – Жди меня здесь, никуда не уходи. Мне надо позвонить.
Одним щелчком пальцев он далеко отбросил окурок, поднял воротник куртки, надвинул на брови кепку и побежал под дождем. Сероп смотрел ему вслед, пока тот не скрылся среди людей, толкавшихся у здания таможни. Он прищурился и рассмотрел стрелки на башенных часах невдалеке: было уже двадцать минут девятого, хотя по-прежнему темно. Жалобный писк ребенка встревожил его. Мальчик дергался под плащом, старался освободиться, ему не хватало воздуха. Сероп заметил брошенные ящики в углу под козырьком. Он взял два из них, сел на один и положил ребенка в другой, как в кроватку.
Он ждал возвращения Живана, постоянно поглядывая то на здание таможни, то на башенные часы. Он трясся как осиновый лист. Влажная одежда уже почти высохла на нем. Вот уже сутки как он ничего не ел и не пил.
Увидев Живана, он вскочил, и сердце его бешено забилось. Потом он взял ребенка на руки и крепко прижал его к груди, почувствовав запах того, что несколько часов назад находилось в ящике.
– Тебе повезло! – крикнул водитель уже издалека.
Сероп выпрямился.
– Слушай меня внимательно! – Живан говорил резким тоном. – Никаких вопросов, никаких «я передумал», – пригрозил он, приблизив кончик своей сигареты. – Понятно?
Сероп кивнул. Живан подождал немного, окинув его взглядом, прикидывая, способен ли он выполнить условия договора.
– Вот адрес, – наконец сказал он. – Улица Виллари, номер семь. На домофоне три «альфы», это в районе площади Омониа, в самом центре Афин.
Сероп слушал его с затуманенным взором.
– Ты понял?
– Да.
– Повтори!
– Улица Виллари, семь, три «альфы», площадь Омониа, – повторил Сероп.
– Позвонишь и поднимешься на третий этаж. Там тебя будет ждать Мартирос, хорошо?
– Хорошо.
– У тебя есть деньги на поезд?
– Нет. Я думал, мы вместе поедем, на грузовике.
Живан засмеялся.
– Ты что, думаешь, я засвечусь тут вместе с тобой? – сказал он, скривившись, и ткнул его пальцем в грудь.
Сероп опустил голову. Его ноги тонули в грязи.
– Возьми. – Живан кинул ему несколько монет. – Только туда, обратно у тебя будет достаточно денег, чтобы купить себе билет.
Сероп поймал монетки на лету.
– Ладно, а теперь мне пора, – сказал Живан, глядя в наконец-то посветлевшее небо. Он направился к своему грузовику, открыл дверцу и залез в кабину. – И не говори мне, что я тебе не друг! – крикнул он, выглянув из окошка и слегка приподняв кепку в знак приветствия.
– Спасибо, – ответил Сероп и остался стоять на площади, одной рукой прижимая к груди ребенка, а в другой держа монеты Живана.
12
Думаешь, я написал это из любви или, может быть, от лени. Думаешь, что я пою во славу хлеба, утопая в колосьях, что я выглядываю в окно, наблюдая за моими детьми в поле, жена напевает что-то, собака прыгает, играясь, и солнце греет. Нет, эти строки полны крови, написанные, пока меня увозили в поля золотистого хлеба, и потом в темноте, в смраде из пота, мочи и блевотины…– Почему ты выбрал это стихотворение? – перебил его Волк взволнованно.
У Микаэля был врожденный талант к исполнительскому мастерству.
– Потому что я обожаю Даниела Варужана[35] и считаю, что «Песнь хлеба»[36] – одно из лучших его произведений.
– Банальный ответ, господин Делалян. – Волк, облокотившись на подоконник, теребил пальцами свои очки.
Микаэль вздохнул, посмотрел на суетливые завитки гипсовой пыли в солнечном луче и подумал о портрете поэта в черном двубортном пиджаке в школьном учебнике. Он мог бы, конечно, прочитать целую лекцию о множестве причин своего выбора, но решил открыть только одну.
– Потому что он был студентом нашего колледжа, и я хотел почтить его память, – сказал он. – Признаюсь, что меня пробирает дрожь всякий раз, когда я прохожу мимо его комнаты.
Он вспомнил ощущение, возникшее, когда он впервые вошел в ту комнату, крохотную, походившую больше на келью. Она находилась в самом конце коридора и была одной из шести комнат, предназначавшихся для студентов старших курсов. «Здесь спал Даниел Варужан», – сказали ему, и он почувствовал толчок в сердце.
– Понимаю, – пробормотал Волк. – Ты уже был знаком с «Песнью хлеба»?
– Да, но никогда не осмеливался читать ее вслух.
– То есть как это?
Микаэль прикусил губу.
– Это последняя вещь, которую Даниел написал перед тем, как его убили. «Песнь» не была завершена, и я уверен, что он складывал в уме строфы, когда его пронзили кинжалом. Он мученик, жертва геноцида армян, и это стихотворение, в некотором смысле, – его завещание.
Глухо забили колокола церкви Кармини, привнося в атмосферу еще больше грусти. Класс молчал. Прошло всего несколько десятков лет после армянского геноцида от рук турок. Воспоминания о трагических событиях были еще живы в народной памяти, и раны начинали кровоточить при каждом их упоминании.
– Отче! – Ампо, сидевший на задней парте, попросил слова.
Волк согласно кивнул, и юноша встал.
– У нас в Сирии, в пустыне Дейр-Зор, – начал он, чуть заикаясь, – рассказывают, что до сих пор находят останки наших соотечественников, которые были департированы.
Ампо покраснел, смутившись от пристального взгляда Волка. Ему показалось, что его слова были некстати, и он замялся, прежде чем продолжить:
– Мой отец, когда был молодым, поехал на экскурсию в район городка Аль-Мансура. Когда они вышли из автобуса, то в песке он нашел золотой крестик с выгравированными на обратной стороне именем и датой. – Он запустил руку за пазуху и вынул из-под свитера крестик на цепочке. – Вот он, – сказал он, смущаясь еще больше, повернул крестик и прочитал: – «Ампартсум, тысяча девятьсот пятнадцатый».
Волк выпрямился, расправил плечи и склонил голову в знак уважения.
– Годы спустя, когда родился я, меня решили назвать тем же именем, что и ребенка, погибшего в пустыне. – Ампо повернулся к товарищам и воодушевленно произнес: – С тех пор я ношу его имя и его крестик.
Азнавур вскочил. Казалось, он хотел что-то добавить, но остался стоять с высоко поднятой головой и сжатыми губами, будто отдавая честь кому-то.
Керопе последовал его примеру, а затем и Левон – чилиец, и Семпо – ливанец, и Арам – грек, а за ними Дадино и Дадоне – венгерские кузены, пока наконец не поднялся весь класс.
Все стояли ровно, неподвижно, поглощенные мыслью о всеобщей боли.
– Микаэль!
Юноша обернулся.
– Куда ты идешь?
– Хочу отнести мои часы отцу Никогосу.
Волк улыбнулся:
– Значит, ты ему доверяешь.
Отец Никогос по прозвищу Тик-Так был монахом, выходцем из Стамбула, и уже много лет жил в колледже. Он не был ни преподавателем, ни административным работником. Его единственной обязанностью был ремонт часов всех типов: от ручных и настольных до карманных и ходиков. Он сидел в своей каморке, в центральном коридоре, там, где размещались классы и лаборатории. Тик-Так скрупулезно и с удовольствием чинил часы студентов, а также всей армянской диаспоры в лагуне.
– Что с ними не так? – спросил Волк.
Микаэль завернул манжет и показал старые часы «Омега», принадлежавшие его отцу. В центре циферблата виднелись капельки конденсированной влаги на запотевшем стеклышке.
– Вероятно, намокли. Мне приходится постоянно заводить их, иначе они останавливаются.
Они пошли дальше по коридору бок о бок до комнатки часовщика. Одинокая лампочка свешивалась с потолка и освещала тесное пространство, в коморке никого не было.
– Отец Никогос! – позвал Микаэль, перегнувшись через стойку, на которой валялись шестеренки, спирали и винтики. Крохотные пинцет и отвертка поблескивали на свету.
– Может, он спрятался под столом, – пошутил Волк. – Наверняка сейчас в капелле, в это время он молится.
Юноша кивнул с сожалением.
– Как вообще у тебя дела, Микаэль? – спросил Волк, пока они шли обратно.
– Простите?
– Жизнь в колледже тебе нравится?
Юноша задержался с ответом.
– Не очень, отче.
Волк вопросительно посмотрел на него:
– Это из-за случая в столовой? Ты почти потерял сознание!
– Я почувствовал неожиданный приступ рвоты.
Учитель замедлил шаг:
– Микаэль, ты ведь знаешь, что все мы здесь в вашем распоряжении. Я хочу сказать, что бы с тобой ни случилось, ты не должен бояться рассказать мне об этом. Как другу, как старшему брату.
Они спустились по лестнице, ведущей на первый этаж.
– Я предпочел бы услышать от тебя о твоих затруднениях, чем от других, – добавил Волк, понизив голос. – Ты так не думаешь?
Микаэля спас Тик-Так, который как раз поднимался по лестнице с неожиданной быстротой. Худое, почти юношеское тело и постоянная радостная улыбка на лице делали его похожим на постаревшего мальчика.
– Я как раз искал вас! – воскликнул Микаэль, показывая свои часы.
Монах остановился и наморщил лоб, будто силясь вспомнить что-то.
– Это «Омега», да? – спросил он спустя пару секунд.
– Да.
– Ход калибра Нуар? – сказал он, глянув на часы.
Микаэль не понял вопроса и уставился на него в замешательстве.
– Тебе повезло, это просто сокровище, правда, отец Кашишьян?
Волк снисходительно улыбнулся.
– Пойдем со мной. Мы их сразу же прооперируем, и без наркоза. – Монах взял Микаэля под руку и повел наверх в свою «операционную».
– Если побежим, то еще успеем.
Франческа посмотрела на свои стоптанные и потерявшие форму замшевые мокасины.
– Не могу, Микаэль.
– Да сможешь, давай, за мной!
Они летели почти с детским восторгом, обгоняя время: у них было не более получаса, потому что Микаэль должен был вернуться в колледж ровно в три.
А тем временем…
– Волк болен и отменил урок, – объяснил он.
– И вы решили исповедоваться всей группой?
Они засмеялись. Это было одно из тех мгновений, когда ни о чем не думалось, было просто хорошо и ничто не могло потревожить их, кроме влечения, еще не ярко выраженного, которое они испытывали друг к другу.
– Куда бы ты хотел пойти? – спросила его Франческа.
– Право, не знаю. Решай ты, ты же венецианка.
– Я бы хотела отвести тебя в Риальто[37].
– Отлично.
– Тогда свернем здесь, – сказала девушка, увлекая его за собой в узкие переулки, о существовании которых могли знать только местные жители.
Наконец, запыхавшись, они выбежали на небольшую площадь с красивым зданием с арочными окнами.
– Мы у Наранцарии[38]! – воскликнула Франческа.
Они посмотрели направо и восхитились открывшимся им великолепным видом.
– Риальто, – прошептали они одновременно.
Мост из белого камня, похожий на парусник, величественно перекинулся через Большой канал. Молодые люди замешкались на площади в нерешительности, куда еще пойти, почти утонув в людском потоке, текущем меж установленных вдоль канала лотков. На мосту были заметны сверкающие на солнце витрины. Ювелиры Риальто славились своими изделиями.
– Ты когда-нибудь видел, как работают ювелиры?
Микаэль покачал головой.
– А что, если нам пойти в Пескарию? – спросил он у подружки.
– Давай!
Под портиками вдоль канала расположились прилавки под разноцветными навесами. Плиты мостовой были мокрые, и от них воняло чем-то солоновато-горьким. Огромное количество голодных чаек кружило над всем этим богатством недр морских. Мужчины в резиновых сапогах громко зазывали покупателей, расхваливая свой товар. Лавраки и ораты, еще живые кильки и сардины, ракообразные и морепродукты лежали в деревянных ящиках, обложенные лимонными дольками и зелеными водорослями.
– Две лиры за килограмм! – кричал рыбак, поливая серебристые скумбрии.
Этот сильный проникающий запах напомнил Микаэлю афинские рынки. И он подумал об отце, который был не только большой любитель рыбы, но еще и уверял, что она весьма полезна для здоровья. «Все, что происходит из моря, пойдет тебе только на пользу, – говорил он, – ешь в изобилии, сын мой». В колледже никогда не подавали к столу рыбу, разве что вяленую треску, так что от одной мысли о свежей рыбе, приготовленной на гриле, у него потекли слюнки.
Какой-то шум отвлек его: отважная чайка спикировала на лоток напротив и, схватив несколько сардин, улетела прочь, как левантийский вор. Это было весело.
– Франка!
От этого жесткого с прононсом голоса у Франчески все похолодело внутри. Микаэль обернулся и увидел женщину с такими же золотистыми глазами, как у его подружки, стройную блондинку, у которой кое-где уже пробивалась седина.
– Что ты здесь делаешь? – спросила она, поставив на землю хозяйственную сумку. – Разве ты не должна была делать уроки?
Франческа застыла неподвижно, не произнося ни слова, как статуя.
– А кто этот молодой человек? – добавила женщина.
– Добрый день, меня зовут Микаэль, – сказал он, протягивая ей руку.
Женщина кивнула, не пожав руки, и окинула его взглядом с головы до ног: растрепанные волосы, широкий свитер с круглым вырезом, холщовые брюки. Наверняка Микаэль произвел бы лучшее впечатление, будь он в форме колледжа.
– Пойдем, – приказала она дочери, подтолкнув ее вперед.
– Мама, я…
Франческа начала оправдываться, когда звонкая пощечина заставила ее вздрогнуть и задохнуться от боли. Микаэль почувствовал острую боль в груди. Он подумал было объяснить ее матери, что вина тут только его, что это он уговорил девушку выйти из дома. Он хотел объясниться, признаться в своей любви к этому нежному созданию, источающему аромат апельсиновых цветов, занявшему самое укромное место в его сердце.
Но он ничего не сказал, и они ушли, провожаемые изумленными взглядами людей.
– Da noveo tuto se beo[39], – пошутил над ним рыбак.
Шутка развеселила других продавцов, и их смех вывел Микаэля из оцепенения.
– Франческа! – позвал он.
Но, увы, девушка уже скрылась в толпе.
13
«Смерть Сталина лишила Советский Союз его лидера, а трудящихся всего мира – твердого и надежного наставника. Сталин вошел в историю, оставив за собой внушительную громаду дел и свершений…
С уверенностью, что дело Сталина будет завершено, с глубоким прискорбием мы, социалисты, склоняем головы перед прахом преемника и продолжателя дела Ленина, выражая советскому правительству и советскому народу наше глубокое соболезнование.
Никто из народных правителей не оставлял после своей смерти такую пустоту, какую оставил товарищ Сталин. Со вчерашнего дня чего-то не хватает в мировом равновесии».
Пьетро Ненни, 6 марта 1953 годаВолк положил перед собой на письменный стол выпуск «Вперед!» и задумался над этой важной новостью. В особенности над последней фразой, написанной Ненни, секретарем социалистической партии, который подчеркивал временность мирового баланса. Это обеспокоило его более всего.
Какая судьба ждала Армению теперь, когда умер этот великий государственный деятель? Отец Кашишьян слышал о Сталине с самого своего приезда в Венецию. Он только что прибыл из Стамбула и устроился в монастырской келье на острове Святого Лазаря, где должен был жить во время обучения на высших семинаристских курсах. Отец Атанас, пожилой монах, поведал ему историю некоего Бепи по прозвищу Дель джассо, то есть ледяной, молодого грузина, который в далеком 1907 году бежал от преследований царского режима[40]. Бепи, один из большевистских руководителей, бежал из России на торговом корабле, перевозившем зерно из Одессы в Анкону. Молодой революционер скитался по многим городам, пока наконец не попал в Венецию, где его приютили на острове армян, поскольку, опять же по мнению старого монаха, он говорил по-армянски и умел служить мессу по православному и латинскому обрядам. Но лучше всего у него получалось звонить в колокола со всеми тонкостями, которых требовали обе конфессии.
– А ты как думал, через нас все прошли! – воскликнул отец Атанас. – Венеция всегда была центром мироздания.
Волк с сомнением посмотрел на него, не понимая его речи. Он слышал о художниках, писателях, политиках, которые находили убежище в стенах армянского монастыря, как, например, легендарный лорд Байрон, но в этом случае не имел ни малейшего представления, на кого намекает аббат.
– Потом этот звонарь стал известен во всем мире под другим именем – Сталин, то есть стальной человек, самый устрашающий политический руководитель всех времен, – продолжал старик, окончательно ошеломив Волка.
– А почему он ушел с острова? – спросил он.
Отец Атанас засмеялся:
– Он был совершенно неуправляемый. Решил звонить в колокола только по православному обряду. И после первого же выговора игумена собрался и вернулся обратно в Россию.
После этого разговора довольно долго Волку нравилось видеть в Сталине простого звонаря с острова армян. Он всегда думал, что между государственным деятелем и его народом существует какая-то особенная связь, судьбоносная, и его дела были тому подтверждением. Благодаря ему исстрадавшийся армянский народ, казалось, обрел после десятилетий скитаний сильную и уважаемую страну, ставшую членом союза, преуспевающего в промышленности и науке, с крепкой экономикой, где никто не голодал, где всем гарантировали хлеб насущный, работу и образование. Как настоящий звонарь, что созывает верующих в церковь, Сталин позволил армянам диаспоры обрести их родину, предложив им надежное пристанище. Позволил вернуться на родину из тех стран, в которых им приходилось испытывать постоянные унижения и презрение людей, которые, не зная истории, принимали их за безграмотных кочевников или, того хуже, варваров с Кавказского нагорья.
Волк был в этом уверен. Товарищ Сталин был неоспоримым создателем той родины, которую они так долго и страстно желали, – Советской Социалистической Республики Армения.
Он снял очки и стал покусывать дужку, бросив взгляд на газету. На первой странице слева была помещена фотография Сталина. Он снова взял в руки газету и стал рассматривать портрет, приблизив его к глазам. К сожалению, прямо над густыми усами со слегка приподнятыми кончиками при печати остался след краски, который скрывал все лицо. Тогда он удовлетворился изучением военной формы, которую, несмотря на черно-белую фотографию, четко себе представлял: болотного цвета с позолоченными нашивками на погонах, красными петлицами на воротнике-стойке и неизменной блестящей звездой на груди слева.
Он подумал еще немного и наконец решил отнести газету в класс.
В то утро, 6 марта, не Сергей дал команду на подъем, а громкоговорители лагеря.
Габриэль поднялся под ворчливый звук военного марша, прерванного приказом всем заключенным собраться на центральном плацу, где будет сделано очень важное объявление. Заключенные, торопясь, выскакивали из бараков, толпились на плацу и терпеливо ждали. У некоторых под наспех наброшенной курткой виднелась пижама. Начальник лагеря вышел из своего барака с развевающимся над входом флагом и, поднявшись на трибуну, объявил с торжественным видом:
– Вчера вечером в 21.50 радио Москвы передало новость, которая потрясла весь мир. Умер Сталин, Иосиф Виссарионович Джугашвили, председатель Совета министров СССР и секретарь Центрального комитета КПСС.
Порывы ветра рассеивали слова начальника лагеря, делая малопонятной его речь. Некоторые заключенные, еще полусонные, подумали, что речь идет об очередных притеснениях, которым их подвергнут.
– Его жизнь была конкретным и незабываемым примером служения рабочему классу и идеям революции. Мы скорбим о потере великого вождя советского народа и всего человечества, стремящегося к свободе.
– Я правильно расслышал? Умер Сталин? – шептали некоторые заключенные, обмениваясь быстрыми взглядами.
Начальник лагеря всматривался в толпу заключенных, которые никак не реагировали на его объявление. Над лагерем нависла странная тишина, и он не понимал почему – то ли из-за лени этой стаи предателей, то ли по причине замешательства и волнения от такой новости.
– Повторяю, умер Сталин! – прокричал он почти с негодованием.
– Ура! – в воздух полетела одинокая кепка, довольно высоко, даже в последних рядах заключенных ее было видно.
– Теперь или никогда, – сказал другой заключенный и тоже подбросил свою кепку.
– Да, теперь мы вернемся домой! – кричала группа заключенных.
Весь лагерь неожиданно оживился. Заключенные, поняв наконец, что тиран умер, так выражали свои чувства и эмоции, как еще несколько часов назад было бы невозможно: восторженные высказывания, выражения ненависти, грубые жесты, вздохи облегчения, ропот надежды.
Руководство лагеря и охрана стояли с растерянным видом.
– Что с нами будет? – тревожился охранник на одной из смотровых башен.
– Сохраняйте спокойствие, – приказывал другой.
Всем было ясно, что кончина Сталина означала и конец всей системы, и начало неостановимого процесса радикальных изменений.
Габриэль услышал, как кто-то за его спиной усмехается. Обернувшись, он увидел Червя, улыбающегося во весь рот, как всегда, но на этот раз в его глазах стояли слезы.
– Не думал, что доживу до этого дня, – признался он Габриэлю, прямо глядя ему в глаза. – И этим я обязан тебе.
Черный блестящий рояль «Безендорфер» стоял на помосте в левом крыле роскошного Зеркального зала, поскольку это место считалось единственным достойным такого ценного инструмента. Это был подарок колледжу от мецената Манукяна, и на нем играли только в особых, торжественных случаях.
– Что ты выбрал, Микаэль?
Голос отца Айвазяна эхом раскатился по пустому залу. Он сидел вместе с Волком в центре одного из рядов партера.
– Я думал, Прелюдию номер 5, опус 23, Рахманинова, – ответил мальчик.
– Надеюсь, ты улучшишь свое исполнение ко дню торжества, – проворчал отец Согомон, который сидел рядом с Микаэлем на табурете перед роялем. Священник и музыкант специально прибыл с острова Святого Лазаря, чтобы помочь ему с этой непростой задачей.
– Мы не можем сесть в лужу. Камиль Шамун[41], президент Ливана, прекрасно разбирается в классической музыке. Лучше выбрать что-нибудь другое, – сказал директор с видом человека, который предостерегает, а не советует.
– А что думает сам пианист? – вмешался Волк.
Микаэль покачал головой, не зная, что сказать.
– Лучший способ принять решение – послушать, как он играет, – сказал отец Согомон.
Юноша откашлялся, уставившись на клавиатуру, потом нервно поправил ноты перед собой. Внезапно знаки на нотном стане показались ему непонятными символами, и на мгновение он испугался, что не сможет сыграть даже детскую песенку.
Он извлек первые звуки, вызывая в памяти осунувшееся лицо русского композитора. Он хорошо знал страдальческую жизнь Сергея Васильевича Рахманинова, его тревоги, его боль, и сосредоточился на игре с единственной мыслью – воспроизвести это музыкальное произведение так, как его задумал автор, акцентируя внимание на меланхоличной нежности жизни, с ее утопиями, несбывшимися мечтами и призрачными надеждами. Но в то же время следовало подчеркнуть непоколебимое желание выжить, несмотря на несчастья, призывая на помощь всю решительность.
Музыка наполнила весь огромный зал, казалось, она слегка касается старинных фресок, позолоты, зеркал. Микаэль качал головой в такт напористому ритму, который требовал уверенной игры и особой точности, и в этот момент его охватило прекрасное ощущение единства с инструментом, будто они стали одним целым. Лоб его покрылся испариной, но он продолжал играть с горячностью, забыв обо всем на свете. Ему было необходимо перейти границу пространства и времени и погрузиться в то упоение, к которому может привести только музыка.
Прелюдия закончилась кратким каскадом звуков, пальцы пианиста быстро бежали по клавишам до последнего легчайшего прикосновения, которое почти тайком завершило прекрасное исполнение.
Пальцы Микаэля задержались над клавиатурой, словно не уверенные в том, что им делать дальше в мире, где музыка исчезла.
– Восхитительно! – воскликнул Волк, не сдержав энтузиазма.
– Очень неплохо, правда? – спросил падре Согомон, осторожничая в ожидании мнения директора.
– Ну, действительно, я думал, будет гораздо хуже, – признался Айвазян, – хотя в первой части он пропустил одну ноту, – добавил он, вставая.
– Подождите, – остановил его Волк. – Вы еще не слышали Дле Яман, которую Микаэль споет в конце торжества.
Директор улыбнулся, а это случалось нечасто.
– Я не сомневаюсь, что он прекрасно справится. Бог Всемогущий наделил господина Делаляна прекрасным голосом. – И он направился к галерее мраморных колонн, которая вела к его скромной, ничем не украшенной комнате.
– Мне кажется, что экзамен сдан, – сказал Волк сидящим у рояля.
– Да, – ответил ему отец Согомон, ослабив белый воротничок, выглядывавший из-под его сутаны.
– Микаэль?
Юноша покачал головой.
– По правде говоря, нет, – сказал он. – Пропустить ноту – это непростительная ошибка.
От Волка не ускользнула саркастическая нотка в его голосе.
– Извините, отец Согомон, но мне непременно нужно поговорить с Микаэлем в моем кабинете, – сказал он, поднявшись и ожидая, когда юноша сойдет со сцены. Затем они вместе молча пошли в его кабинет.
– Садись, – резко сказал учитель, закрыв за собой дверь.
Микаэль сел. На письменном столе рядом с маленькой Библией стояла чашка с недопитым чаем.
– Вот что, дорогой мой, – начал монах, еще не сев в кресло, – твое поведение недопустимо. Это школа, а не клуб твоих поклонников. И только через самокритику ты сможешь добиться вершины искусства, которым занимаешься. Талант ни к чему не приведет, если его не поддерживают труд и самозабвение. – Волк говорил порывисто, с красным от досады лицом. – Так что не смей считать себя особенным. Путь долог, и ты всего лишь в его начале.
– Я всего лишь высказал свое мнение. Пока мы живем в свободной стране, это мое право, – парировал Микаэль.
– И что?
– Я решил избегать ненужного лицемерия. Вы не можете всегда затыкать мне рот, как позавчера.
Волк нахмурился с видом человека, который взвешивает каждое слово.
– О чем ты говоришь?
– Когда вы принесли в класс газету с некрологом Сталину.
– И что?
– Я не согласен. Сталин был не великим персонажем, как написали в статье, а тираном, чудовищем, которое могла породить только тоталитарная система. Почему вы не дали мне выразить мою точку зрения?
Волк растерялся от неожиданности, и, пока он обдумывал, что на это ответить, молодой человек поразил его цитатой, которую он сам часто повторял в классе.
– «Je désapprouve ce que vous dites mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire»[42] – Франсуа-Мари Аруэ, он же Вольтер. – Микаэль почти прошептал этот универсальный афоризм, который не нуждался в громком голосе.
– У меня здесь список имен, который я сейчас зачитаю, – объявил начальник лагеря заключенным, построившимся в шеренги на равном расстоянии друг от друга на центральном плацу лагеря. – Итак, Суубат Казака, Игорь Шегевили, Виктор Кристенко, Габриэль Газарян…
Габриэль вздрогнул, услышав свое имя, которое уже несколько месяцев никто не произносил, обращаясь к нему. В бараке у заключенных не было имен: они понимали по тону голоса, кто к кому обращается. Чаще всего пользовались прозвищами. Габриэля звали просто Армянин.
Со дня, когда было объявлено о смерти Сталина, весь лагерь, особенно охрана, был в состоянии фибрилляции[43]. Опасались нового кровопролития и вспышек мести по всей стране и говорили, что в Кремле принимают решение о больших переменах в ГУЛАГе. Многие начальники, охранники и надзиратели буквально умирали от страха. Каждый старался максимально проявить себя, улучшая систему принудительных работ, чтобы оправдать собственное участие в ней. Неожиданно приоритетной задачей стало разбудить эти пахидермы[44] от наркозного сна.
– Те, кого я назвал, становятся сюда, – приказал начальник, указывая на место слева от себя.
Девять заключенных вышли из строя и построились в шеренгу. Габриэль удивился, когда увидел в их строю Червя, впрочем, он ведь не знал его настоящего имени.
– Герасим Миусов – это я, – представился Червь. – Приятно познакомиться, товарищ Газарян, – добавил он с видом заговорщика и встал за его спиной. Он еще хромал, несмотря на то что почти месяц провел в лазарете.
– Вы девять, – обратился к ним начальник, – отправляетесь завтра утром. У нас приказ о вашем переводе в новый лагерь, где вы сможете наилучшим образом послужить родине.
Обеспокоенные и растерянные заключенные начали протестовать.
– Тихо! – скомандовал офицер, в то время как два охранника поспешили к нему, сдергивая с плеч автоматы.
– Скажите хотя бы, куда вы нас переводите! – выкрикнул один из заключенных.
– Ты думай о том, чтобы хорошо работать, контрик, на тебе еще много лет висит! – ответил начальник, презрительно на него посмотрев.
Червь прошептал на ухо Габриэлю:
– Урановые рудники. На севере, у черта на куличках.
– Внимание! – оскалился офицер. – Я еще не закончил. Сейчас я зачитаю еще имена. – И он снова развернул лист. Число заключенных, которые должны были отправиться в другие лагеря, выросло.
Многие проекты на Алтае были приостановлены. И объект, на котором работал Габриэль, был заморожен, потому что Министерство юстиции сочло его «бесполезным в плане нужд национальной экономики». Предпочтение отдавалось проектам, направленным на техническое и промышленное развитие, в частности делалась ставка на добычу золота и других металлов, но особенно урана, в связи с его применением в качестве топлива на атомных реакторах. Нужно было осваивать территории с богатыми залежами этих ископаемых, такие как легендарная земля чукчей, «почитателей медведя», не беспокоясь о последствиях. Северные лагеря, в которых добывали и обогащали уран, были настоящими лагерями смерти. Никто не выживал там больше года из-за тяжелейших условий и особенно из-за смертельной радиации.
Погибали все – и заключенные, и охранники.
– Ты готов умереть, Армянин? – спросил Червь у Габриэля и рассмеялся своим обычным смехом, будто бросая вызов судьбе.
– Значит, едешь?
Габриэль вышел выкурить последнюю самокрутку в лагере, где он провел шесть месяцев своей юной жизни. Вечер выдался ясный, ветер был менее сильным, чем обычно, и видно было, как сверкают звезды.
– Вот именно, – ответил он, повернувшись к Горе, которого узнал по голосу.
Тот встал рядом, сворачивая свою самокрутку.
– Волнуешься?
– Мне нечего терять, все места одинаковы.
Гора кивнул. С того дня как умер отец, Габриэль замкнулся в себе. Часто держался в стороне, будто хотел пережить свой траур подальше от других, что было непросто, учитывая тесноту в лагере.
– Увезешь от нас Червя, – пошутил Гора с некоторой издевкой.
Габриэль сделал вид, что не расслышал. Глубоко затянулся и выдохнул дым высоко вверх. Падающая звезда очертила яркую дорожку в небе.
– Если не хочешь говорить, если я тебе мешаю, так и скажи, – произнес Гора раздраженно.
– Нет, ты мне не мешаешь, – ответил Габриэль. – Время, которое я здесь провел, в некотором смысле пошло мне на пользу… – добавил он.
– Неужели?
– Да. Например, я научился не вестись больше на внешнюю показуху.
Вдали залаяла собака, и другая ей ответила.
Габриэль спокойно выдержал взгляд ледяных глаз Горы.
– Я поверил тебе, – сказал он, – был уверен, что ты защитишь моего отца. Ты – такой большой и сильный, и я смел думать, что твое слово тоже что-нибудь значит. – Он сделал два шага вперед, его кепка едва доставала до подбородка Горы. – Вся твоя громада делает тебя еще более смешным. Не знаю, за что ты сидишь, из-за злополучной жизни или потому, что это в твоей натуре. Но знай, что ты жалок. Тот же Герасим, которого ты так презираешь, куда смелее тебя.
Гора скривился от злости и сжал кулаки, готовый к драке, но мальчик не отступил:
– Бесполезно. Я больше не боюсь тебя. – Он саркастически улыбнулся: – Как можно бояться мужика, который и не мужик вовсе?
Они стояли друг против друга, Давид и Голиаф, на фоне сибирского неба, усыпанного миллиардами звезд.
Афины, 19 марта 1953 года
Дорогой сынок,
как ты поживаешь?
Сегодня я получила письмо от отца Кашишьяна, скорее даже короткую записку, но она так сильно обеспокоила меня, что я решила сразу же написать тебе.
Твой учитель сообщает мне, что твое поведение не достойно студента колледжа. «Способный и умный юноша, но, к сожалению, не соблюдает дисциплину, которая является основой образования», – это его слова. Он сообщил мне о вашем споре о Сталине и том высокомерии, с которым ты перечил ему. Ты учишься в колледже не для того, чтобы заявлять о своих политических пристрастиях – ни один молодой человек, более или менее хитрый, никогда бы этого не сделал, – а для того, чтобы копить знания.
Что с тобой происходит, сын мой?
Нет необходимости говорить, что твой отец, будь он жив, был бы расстроен и разочарован. Он возлагал на тебя большие надежды, был уверен, что ты одаренный, с добрым характером и способен вести себя с уважением и терпимостью. Мы многим жертвуем, чтобы ты мог учиться в колледже, – далекие расстояния, немалые расходы, невозможность увидеться и обнять друг друга, как нам бы хотелось, – но я всегда верила, что ты с честью носишь имя нашей семьи.
Через несколько недель исполнится три года, как не стало твоего отца, и этот день совпадает с Пасхой. Как и каждое воскресенье, я отнесу на кладбище цветы на его могилу и поговорю с ним. Это единственное место, где я могу еще испытывать тот душевный покой, которого мне не хватает в жизни. Что же я должна рассказать ему о тебе?
Каждый вечер я молюсь Богу, чтобы Он благословил тебя и наделил мудростью и силой, такими необходимыми для преодоления жизненных невзгод.
Знай, что я считаю дни до твоего возвращения в Афины.
Я очень, очень тебя люблю.
Обнимаю тебя крепко-крепко,
мама.P. S. Эти цветы я сорвала в нашем саду. Помнишь, когда ты был маленький, ты называл это дерево деревом невесты, когда оно все покрывалось белым цветом. Это первые цветы в этом году, и мне захотелось послать их тебе.
Микаэль перевернул конверт, который ему выдали уже вскрытым, с письмом, прикрепленным скрепкой.
Белые лепестки выпали, закружились в воздухе и упали ему на лицо, на подушку и на кровать, где он лежал. Запах дикого апельсинового дерева наполнил его легкие. Он вспомнил «невесту» из их сада и деревья, высаженные вдоль улиц квартала, где он жил.
Возвращаясь из школы, он всегда срывал пару бутонов и растирал их пальцами, чтобы ощутить аромат.
Из раскрытого окна палаты доносились голоса его товарищей, игравших в футбол во дворе. Внезапно все показалось ему далеким и бессмысленным.
Он закрыл глаза и подумал о единственном своем смысле жизни – о Франческе, его маленькой «невесте».
14
Судно безостановочно качало и бросало на волнах.
Оно скрипело и стонало, будто каждый болт, скреплявший его, готов был выскочить из своего гнезда. Оно карабкалось на гребни огромных волн, дрожа, задерживалось на мгновение наверху и затем стремительно падало вниз.
Габриэль, свернувшись калачиком, лежал на покрытом дегтем полу трюма, в темноте и тесноте, где вместе с ним находились сотни других заключенных. Запах их тел смешивался с вонью тухлой рыбы, но Габриэль после многих месяцев жизни в лагере даже не замечал этого.
Несколько дней назад они вышли из порта Владивостока, куда их привез товарняк, который собирал по пути других мужчин и женщин, приговоренных к исправительно-трудовым работам в северных лагерях.
На центральном причале порта их поделили на группы в ожидании посадки. Женщин подняли на борт первыми.
– Свеженькое мясо, – прокомментировал заключенный, осужденный за бытовуху, глядя, как они поднимаются по трапу. Другие заключенные засмеялись.
Бедняжки были укутаны в бесформенные и тяжелые одежды, и ничто не указывало на их половую принадлежность, кроме платков, повязанных на голове. Они выстроились в длинный ряд, как множество муравьев, и медленно продвигались вперед по трапу на судно с двумя красными дымящимися трубами.
– Иван, – прочитал Герасим надпись на носу судна. – Знаешь, что это означает? – спросил он у Габриэля.
Тот отрицательно покачал головой.
– Милость Божья[45], – сказал приятель с напускной набожностью. – Запомни: эта посудина привезет нас в рай.
Мужчины сели на корабль несколько часов спустя под проливным дождем, который напрочь стер на горизонте границу между небом и морем. На трапе Габриэль на несколько секунд задержался на заржавевшей от налета соли ступеньке. Неожиданно его охватило желание броситься вниз и отдаться волнам, почувствовать в последнее мгновение свободу, это неотъемлемое право, которого его несправедливо лишили.
Потом кто-то нетерпеливо подтолкнул его сзади, и он поднялся на борт корабля, отправлявшегося в рейс без возврата.
Слабо светившая лампочка свешивалась с потолка в дальнем конце трюма. Она покачивалась в ритм волнам, отбрасывала колеблющиеся тени, пятнала темноту. За несколькими телами в стороне Габриэль увидел Герасима, который громко храпел, лежа на полу. Странным образом присутствие товарища из старого лагеря его успокоило. Он был неким мостом, связывавшим его с прошлым, и в то же время плотом, на котором он плыл в океане общих воспоминаний.
Вдруг он услышал глухой шум, вверху со скрежетом открылся люк, и луч света проник в трюм.
– Вода! – крикнул матрос и стал медленно спускать в трюм алюминиевое ведро с привязанными по бокам ковшиками.
Тут же началась суматоха. Мужчины и женщины, проснувшись, бросились к железным решеткам, отделявшим их друг от друга и от коридора.
– Откройте, дайте пить! – кричали мужчины, сотрясая железные прутья.
– Спокойно, – приказал охранник, позвякивая тяжелой связкой ключей. – Сначала женщины.
Послышались непристойности и непотребные звуки.
Освобожденные женщины бросились к ведру, размахивая руками и дерясь между собой, чтобы заполучить ковшик. Они вырывали их из рук друг у друга, потому что без злополучных посудин невозможно было пить.
– Тут на всех хватит, прекратите!
Золотой отблеск светлой копны волос привлек внимание Габриэля. Он приблизился к решетке и, вытянув шею, увидел профиль хрупкой девушки, которая терпеливо ждала с краю толпы, образовавшейся вокруг ведра. Когда настала ее очередь пить, какая-то женщина оттолкнула девушку и заняла ее место.
– Эй, сейчас ее очередь! – крикнул охранник.
Это был приземистый тип в наглухо застегнутой форме, которая была ему немного тесновата в груди. Он взял девушку за руку и, отодвинув других женщин, подвел ее к ведру. Затем наполнил ковшик и протянул ей.
– Пей, – сказал он, глядя ей в глаза.
Наступила тишина, все онемели от такого неожиданного жеста.
Она протянула руку с тонкими пальцами и взяла ковшик. Затем сделала глоток, намочив губы, и теперь они казались ярко-красными и блестящими.
– Прошу вас, можно мне отнести немного воды моей матери? У нее высокая температура, и она едва держится на ногах, – прошептала она, глядя себе под ноги.
Габриэль наблюдал за этой сценой затаив дыхание. Молодая заключенная стояла как раз под лучом света, падавшим сверху, и на мгновение показалась ему видением, миражом в пустыне его души.
– Да, но ты должна сказать мне свое имя, – ответил охранник.
Девушка медлила.
– Нина, – наконец тихо произнесла она, прежде чем отойти с ковшиком в руке.
Когда она проходила мимо, Габриэль крепко ухватился за прутья, чтобы не упасть от внезапно охватившей его слабости, и проводил ее взглядом, пока она не исчезла в темноте трюма. Оцепеневший от этого видения, он долго стоял, вдыхая аромат ее золотых волос, задержавшийся в воздухе.
Он не сдвинулся с места даже тогда, когда охранник открыл решетку и его товарищи ринулись в бой за глоток воды.
– Возьми, попей немного, – услышал он голос Герасима, который протягивал ему кружку, украденную в лагере номер 11.
– Почему нас держат в трюме? – спросил заключенный с белой бородой.
– Потому что на палубе невозможно держать всех под контролем. Боятся, что мы сбежим, – ответил другой, откусывая голову у селедки и проглатывая ее полностью, не жуя.
– Ерунда, – вмешался Герасим. – Здесь убежишь, как же. Бросишься в море? – И он засмеялся. – Мы еще в видимости японского берега, они не хотят, чтобы желтомордые поняли, какой груз на корабле.
– Почему? Какое им дело? – возразил бородатый.
Герасим сплюнул и вытер рот рукавом куртки.
– Потому что японцы не должны ничего подозревать, что затевают русские. Они должны думать, что это торговое судно или промышленное. Кстати, видишь, чем нас кормят? Селедки завались.
Габриэль обгладывал остатки хвоста. После первого куска, такого соленого, что у него засвербело в носу, он постепенно привык к ее вкусу. Чем больше он держал селедку во рту, тем слаще она становилась, будто слюна, растворяя белые кристаллики, высвобождала вкус моря, казавшийся уже потерянным навсегда.
* * *
Качка прекратилась.
Слышно было только, как двигатели монотонно ворчали, нагоняя дремоту, словно русалка, живущая в неволе в машинном отделении, пела колыбельную.
Габриэль шевельнулся, отодвинув тела рядом лежащих заключенных. После многодневного путешествия они впали в состояние спячки. Только самым выносливым удавалось бодрствовать несколько часов.
Юноша медленно переместился туда, где было немного посвободнее. Но там его чуть не задушила вонь от мочи и испражнений. Угол за перегородкой, которая делила трюм надвое, служил отхожим местом, и Габриэль был одним из немногих, кто упорно пользовался им. Он не сдавался, не хотел, как многие его товарищи, ходить под себя.
Шаркающие шаги на женской половине насторожили его. На цыпочках он подошел поближе, стараясь не наступать на ручейки мочи, растекавшейся по полу. Он залез на решетку и, вытянув шею, стал вглядываться. Скоро он заметил копну золотых волос и почувствовал знакомый аромат, слегка напоминавший спелый абрикос, который обволок его, подавляя все другие запахи.
– Нина… – позвал он шепотом.
Девушка медленно выпрямилась, и ему показалось, что она парит в воздухе вопреки гравитации. Габриэль увидел ее профиль в слабых лучах далекой лампочки. Потом она повернула голову, и он увидел глаза пшеничного цвета, которые с любопытством уставились на него.
– Нина… – позвал он снова.
Девушка подошла и встала напротив Габриэля. Она была одного с ним роста, и глаза их встретились. Они изучали друг друга несколько мгновений, два незнакомых лица, разделенные железной решеткой.
– Меня зовут Габриэль, – первым произнес он.
Нина кивнула.
– Как себя чувствует твоя мама?
Девушка опустила глаза.
– У тебя есть какие-нибудь лекарства?
– Нет, – грустно улыбнулась она.
Габриэль почувствовал ее замешательство, ее отчаяние, и сердце его дрогнуло.
– Я поспрашиваю, может, у кого-то найдется аспирин, – попытался он подбодрить ее.
Он слегка дотронулся до ее руки, которой она держалась за прутья. Нина не отреагировала.
Позвякивание, донесшееся из коридора, напугало их. Обернувшись, они увидели, что охранник, стоявший всего в нескольких шагах, наблюдал за ними молча и неподвижно, лишь нервно перебирая связку ключей, висевшую на поясе.
Молодые люди вздрогнули. Несмотря на свою внушительность, мужчина передвигался так осторожно и легко, что никто из них не услышал, как он подошел.
– Лев следит за вами, – предупредил он надменно.
Молодые люди отпрянули, их руки коснулись друг друга в последний раз, прежде чем каждый исчез в недрах своей темницы.
Охранник подождал, пока тьма не поглотила их, и ушел, посмеиваясь над трусостью двух молодых людей.
Габриэль снова свернулся калачиком между товарищами. Он поднес руку к губам и поцеловал то место, которым коснулся Нины.
Потом он закрыл глаза и скоро заснул.
– Это напоминает мне твои глаза.
Франческа улыбнулась в замешательстве.
– Золотистые отблески мозаики великолепны, не правда ли?
Они стояли в соборе Святого Марка, под куполом Пятидесятницы. Стены собора ярко сверкали под солнечными лучами, проникавшими через барабанные окна.
– Иди сюда.
Микаэль взял подружку за руку, и они отошли на несколько шагов к центру, встав под мозаику, на которой был изображен трон. От него отходили в разные стороны двенадцать лучей, по одному на каждого апостола.
– На троне голубь, – заметила она.
– Это Святой Дух. Говорят, что, если ты встанешь точно по линии с голубем, твое сознание озарится.
Франческа наклонила голову:
– А сердце?
– А для сердца… – ответил он, делая вид, что задумался, – есть я!
Глаза девушки засверкали, как византийская мозаика. Она прижалась к Микаэлю и обвила бы его шею руками, если бы ее не смущало святое место, в котором они находились.
– На сегодня хватит культуры, как ты думаешь? – шепнул Микаэль и слегка подтолкнул ее к выходу на площадь, полную туристов.
Всякий раз, проходя по этой площади, он чувствовал себя приподнято. Ему нравился дух космополитизма, которым она была пропитана, это легкое состояние вечного праздника, подчеркнутое в тот момент присутствием элегантных синьор в длинных кисейных платьях и мужчин в облегающих темных костюмах.
– Что тут происходит? – спросила Франческа, показывая на толпу около кафе «Флориан».
– Приехал Лукино Висконти, – сказал ей господин, проходивший мимо.
Франческа улыбнулась ему и остановилась. Ее привлекала толпа, но в то же время и немного пугала.
– Ну, что ты? Давай покажем себя, может, он нас пригласит в свой следующий фильм, – подначил ее Микаэль, потянув за рукав.
Она покачала головой.
– Лучше давай заберемся на парон[46], – указала она на башню за спиной, – полюбуемся на закат.
Микаэль бросил взгляд на свою «Омегу»:
– Да, пожалуй, успеем.
Они побежали прочь, заплатили за вход и быстро поднялись по лестнице до самой колокольни. На площадке, запыхавшиеся и потные, они крепко обнялись, прижавшись к парапету, слушая, как бьются в унисон их сердца.
– Мой дедушка видел, как башня рухнула, – сказала Франческа. – Летом тысяча девятьсот второго года. Он говорил, что это было ужасно.
– Но потом ее воссоздали в первоначальном виде.
– Верно. Откуда иностранец может это знать?
– Не знаю, – ответил он, – но пытаюсь угадать, и часто мне это удается.
Франческа задумалась на мгновение, потом отодвинулась от него и, выглянув с балкона, показала в небо:
– Тогда скажи, что находится там, на конце шпиля?
– Статуя ангела.
– Да, но какого?
– Архангела Михаила.
– А вот и нет! – воскликнула она с победоносной улыбкой. Микаэля трудно было превзойти, но ей удалось. – Архангела Гавриила.
Микаэль, казалось, сник.
– Не расстраивайся, эй! – подбодрила его Франческа, нежно потрепав по щеке.
Имя Гавриила как-то сбило его с толку. Он был уверен, что позолоченного ангела, охраняющего ночной сон Венеции на стометровой высоте, звали так же, как и его. Он всегда так думал и даже частенько упоминал в разговорах, утверждая, что это был знак судьбы – учиться в городе, который защищает сам архангел Михаил. Кто знает, почему он так ошибался? Он прочитал все, что нашел о соборе, о колокольной башне, он даже знал имена колоколов. Так почему же он допустил такую грубую ошибку?
Он посмотрел в небо, будто искал там ответ на свой вопрос. Облако, повисшее над мостом Риальто, казалось, загорелось от последних лучей солнца. Церковь Делла-Салюте, острова Джудекка и Сан-Джорджо, весь город были накрыты позолоченной дымкой.
– И что мне теперь делать, низложенному ангелу? – спросил он вслух, задетый за живое.
Франческа заметила, как его взгляд подернула грусть.
– Хочешь защищать меня? – спросила она.
В ответ Микаэль обнял ее и сомкнул ее губы поцелуем, как обещанием.
– Я люблю тебя, – прошептал он, прежде чем солнце утонуло в водах лагуны.
15
Патры, 1938 год
Когда Сероп вышел на платформу, уже слышен был высокий и надрывный гудок локомотива.
На вокзале царила суета в ожидании поезда. Запыхавшиеся носильщики спешили к началу состава, где находился первый класс. Железнодорожники в их голубых формах бегали туда-сюда, свистя тем, кто слишком близко подходил к краю платформы. Были там и жандармы, которые ходили в толпе и время от времени пристально всматривались в какого-нибудь незадачливого пассажира.
– Эй, ты! Куда ты идешь с ребенком? – спросил у Серопа один из них. Козырек его фуражки доставал почти до середины носа, придавая ему строгий, даже злобный вид.
Сероп вздрогнул. В первый момент он думал спрятать малыша под плащом, но тот брыкался, плакал, хотел смотреть на окружавший его мир.
– Жар, жар уже два дня, – пробубнил он.
– Ну так что?
– Я везу его в Афины, хочу найти какого-нибудь врача, который вылечит его, – жалобно проговорил он и заплакал, как заправский актер.
Платформа затряслась, предвещая прибытие поезда.
Жандарм хотел спросить у него документы, но было уже поздно. Он должен был построиться со своими людьми вдоль перрона, поскольку прибывающих пассажиров надо было всегда проверять.
– Парастика, ни пуха ни пера, – пожелал он Серопу.
Локомотив ворвался на станцию в клубах дыма, похожий на голову гигантской змеи, которая ползла в свою нору. Поезд замедлил ход и остановился с последним театральным фырканьем. Вагоны дернулись и встали со скрежетом на рельсах.
Сероп все еще дрожал.
Странно, но он надеялся, что поезд не остановится, что проедет мимо Патр, что свершится чудо, которое не даст ему отправиться в это злосчастное путешествие.
Но поезд стоял как ни в чем не бывало напротив него, с локомотивом, который дотащит состав до самых Афин.
В громкоговорителе что-то скрежетало, проводники хлопали дверьми, люди садились в вагоны.
– В Афины? – спросил его начальник станции.
Сероп пришел в себя, посмотрел в серые глаза мужчины со свистком во рту и попытался ответить.
– Вы уезжаете? – настаивал железнодорожник.
Сероп вынул из кармана билет и показал ему. Затем он побежал, потому что вагон, на который ему указал начальник станции, был последним, в самом конце перрона.
Наконец он добрался до него и вошел, задыхаясь, в купе. Совсем обессилевший, он буквально упал на деревянную лавку рядом с окном, не обращая внимания на любопытные взгляды других пассажиров.
В этот момент поезд тронулся и снова засвистел.
Стоя на перроне, начальник станции помахал рукой ребенку, который, прильнув носиком к окну, радостно ему улыбался.
Запах феты, кислый и острый, вызвал у Серопа приступ тошноты. Хоть он и был голоден, этот вонючий запах сыра, наполнявший купе, был отвратителен.
– Как тебя зовут? – Маленький мальчик, который ел хлеб, щедро намазанный фетой с маслинами, обратился к ребенку на руках у Серопа, уставившись на него черными выпученными глазами. Он был худенький, но на костлявых плечах держалась непомерно большая голова.
– Иди сюда, он еще слишком мал и не умеет говорить, – притянула его к себе мать, маленькая и такая же худая женщина, в красном с желтыми цветочками платке на голове. – Ему еще и года нет, правда? – спросила она у Серопа, глядя куда-то в сторону, а не в глаза.
Сероп слегка кивнул, но это не удовлетворило любопытства женщины.
– Моему уже семь, но бедняжка болен, – продолжала она, показывая на сына. А тот улыбался, довольный, будто болезнь – это достоинство, которое делало его особенным. – Твой тоже болеет? – спросила женщина, качаясь в ритм едущего поезда.
– Нет.
– Тогда я плохо расслышала на вокзале, мне показалось, что ты говорил, будто у него жар.
– Нет, – повторил Сероп с растерянным и в то же время удивленным видом.
– Храни его Бог! – воскликнула женщина и перекрестилась. – Скажи мне, за какие грехи наказан мой сын? Долихоцефалия – я целый год училась только правильно произносить это слово. Когда у него случается припадок – это мучение какое-то, он мечется, бьется головой о стены, кричит и хнычет.
Ее глаза наполнились слезами.
– Если его не лечить, у него лопнет голова, – сказала она, размахивая руками.
Старуха, сидевшая рядом с Серопом, вздрогнула от ужаса.
– По, по, Панагья му[47], – прошептала она и перекрестилась.
– Мне сказали: отвези его к профессору Аливизатосу, он волшебник. Вот уже несколько лет мы ездим из Пиргоса в Афины каждые три месяца, у нас уже не осталось ни гроша, мы все продали. Но я не жалею. Я только хочу, чтобы он поправился.
– Мама, покажи петуха, – закричал ребенок с набитым ртом, кусочек феты прилип к его губе.
– Веди себя хорошо, не кричи!
– Петуха! – настаивал мальчик, мгновенно покраснев. Ясно было, что он не отстанет, пока его требование не будет удовлетворено.
Мать раздраженно покачала головой:
– Он хочет, чтобы я показала вам подарок, который мы везем профессору.
Затем, ворча, она наклонилась и начала искать что-то под лавкой в своих свертках, вытащив на свет корзинку. Медленно приподняла крышку и показала курицу с болтавшейся головой. Клюв ее был чуть приоткрыт, и из него торчал язычок, розовый гребешок едва дрожал, красно-серебристые перья отсвечивали в слабом освещении купе. На горле у нее был длинный и глубокий порез.
Испугавшись, ребенок Серопа начал плакать и ухватил отца за шею в поисках защиты.
Круглый глаз курицы, испачканный кровью, уставился на Серопа.
Под номером семь на улице Виллари Сероп нашел небольшое здание в неоклассическом стиле.
Он прибыл в Афины еще затемно, после семичасовой поездки. На станции Пирейской он обратился к прохожим, и ему посоветовали сесть в трамвай нового маршрута под названием «Бестия», который пересекал город с севера на юг. Этот трамвай и привез его на подземную остановку на площади Омониа, в самом сердце столицы. Жизнь такого города, как Афины, огромного и полного развлечений, на время отвлекла его от мучительных мыслей. Ребенок, кажется, уже привык сидеть на руках у отца. Впервые они проводили так много времени вместе. Малыш крепко обнимал его, обхватив за шею, пока они шли в толпе, и даже чмокнул в щеку. Так они шли по леофорос, широким и изящным бульварам, останавливались у витрин магазинов, восхищались элегантностью людей, рассматривали проезжавшие мимо сверкающие машины. Сероп показал ему издалека воздвигнутую на холме и доминирующую над городом величественную громаду Парфенона. Он мог бы сойти за одного из многих отцов в туристической поездке с сыном, если бы не был одет в лохмотья и не смотрел так затравленно, будто объявляя заранее о преступлении, которое собирался совершить.
Он остановился перед открытой парадной дверью и, задрав голову, посчитал этажи. На третьем окно было открыто настежь, и створка ставни хлопала на ветру. Он уставился на нее. «Если кто-нибудь закроет ее, пока я вдохну пять раз, значит, все будет хорошо», – загадал он. Он вдохнул уже в четвертый раз, но ничего не случилось. Тогда он задержал дыхание, но быстро почувствовал, что задыхается. Он готов был уже сдаться, когда увидел молодую женщину, выглядывающую из окна. У нее была очень светлая кожа, и светлые волосы развевались на ветру, как шелковые нити. Она протянула руку ладонью вверх, будто держала что-то. Голубь сел ей на руку и начал поклевывать семена, которые она ему предлагала.
«Какая добрая», – подумал Сероп.
Женщина встретилась с ним взглядом и несколько секунд наблюдала за ним с голубем на руке. Сероп подумал, что сейчас она заговорит с ним, по крайней мере, он надеялся на это, но она только улыбнулась ему и, когда голубь улетел, аккуратно притворила ставню и скрылась в глубине комнаты.
* * *
– Куда вы идете? – спросил подслеповатый консьерж.
Сероп вошел в холл, шаркая ногами, с ребенком на руках, и консьерж принял его за бродячего торговца.
– Три «альфа», – ответил Сероп, словно это был пароль.
Тот посмотрел на него с сомнением. Что нужно такому бедолаге в офисе, занимающемся импортом и экспортом? За много лет службы он видел, как туда ходили только хорошо одетые мужчины с накрахмаленными белыми воротничками и в лакированных туфлях.
– Третий этаж, – наконец сказал он и указал на лифт.
– Можно я по лестнице? – Сероп не знал, как пользоваться лифтом, да и не хотел садиться в эту железо-деревянную коробку, подвешенную на канатах.
Консьерж пожал плечами.
– Если тебе все равно, – проворчал он, переходя на «ты», и поднял трубку телефона, нажимая на какие-то кнопки.
Сероп медленно поднялся по лестнице, тяжело дыша от усталости.
Дверь с табличкой, на которой были изображены три «альфы», была приоткрыта. Он слегка толкнул ее и вошел в маленькую гостиную с письменным столом и двумя диванчиками у стен. Где-то в квартире зазвонил телефон, и тут же он услышал громкий мужской голос, который говорил на неизвестном Серопу языке.
– Брат, как поживаешь? – неожиданно возник Мартирос. Он вышел из боковой двери, как всегда, элегантно одетый. Он собрался было обнять Серопа, но отступил, увидев ребенка у него на руках. – У тебя усталый вид, – только и сказал он.
Сероп кивнул.
– Тебе что-то нужно? – спросил Мартирос, кивая на ребенка. – Наверняка он хочет есть, да вы оба голодны, я думаю.
Казалось, Сероп даже не слушал его. Он молча стоял посреди комнаты с растерянным видом.
Другой человек, маленький и худой, появился из темноты коридора. Укутанный в широкий шарф, который скрывал почти пол-лица, на глазах темные солнечные очки, очевидно было, что он не хотел быть узнанным. Незнакомец едва кивнул головой в знак приветствия и заинтересовался ребенком.
– Покажите мне его, – произнес он на греческом с явным затруднением.
Мартирос взял ребенка из рук Серопа, но так естественно, будто любящий дядя, который хотел дать отдохнуть уставшему отцу.
Сероп не думал, что ему больше не вернут сына, и отдал ребенка. Мартирос был ему как брат, он доверял ему.
Ребенка уложили на стол и быстро раздели. Потом оба мужчины внимательно обследовали голенькое и беззащитное тельце, осмотрели рот, уши, мяли пальцами повсюду, сжимали и разжимали ручки и ножки, приближали к глазам лампу. Сероп стоял неподвижно, глядя, как его сына рассматривают, будто товар, и в какой-то момент заметил маленькое запястье.
Запястье, на котором не было красной тесемки.
– Подождите, я ошибся, – прошептал он. – Я ошибся! – повторил он, повышая голос, и сердце его чуть не выскочило из груди.
Двое повернулись и посмотрели на него.
– Я думал, что все ясно. Живан ведь четко объяснил тебе, никаких передумываний, – предостерег его Мартирос.
Сероп увидел в его глазах безжалостность, которую раньше никогда не замечал за ним, и понял, что слухи о нем были правдивыми.
– Отдайте моего ребенка! – сказал он твердым голосом, расправив плечи.
Мартирос хотел было ответить, но этого не понадобилось. Человек с шарфом достал из пиджака свернутые в рулон банкноты, откашлялся и начал громко отсчитывать.
Тридцать сотенных.
Затем он положил деньги на стол рядом с ребенком. Сероп смотрел на банкноты как завороженный, как жертва, которую вот-вот проглотит змея.
Мартирос взял их и, приблизившись, сунул банкноты ему в карман.
– Вот увидишь, ты не пожалеешь об этом, – шепнул ему в ухо.
Когда незнакомец вместе с ребенком исчез в коридоре, в комнату вошел посыльный с подносом, на котором стояли чашки с дымящимся кофе и тарелочка с горячими слоеными пирожками с сыром.
– Куда он его понес? – крикнул Сероп.
– Он сейчас вернется, – соврал Мартирос. – А ты пока садись и поешь, – добавил он и подтолкнул Серопа к одному из диванчиков.
Сероп беспомощно упал на диван, больше не сопротивляясь. Он откусил пирожок и стал жевать, глядя на двухцветные туфли маклера. И про себя заметил, что кончики туфель были, как всегда, немного испачканы глиной.
Сатен осторожно спускалась по дороге. На небе постепенно все ярче проявлялась луна, пока солнце спешно скрывалось за горизонтом. Несмотря на каменистую дорогу, она была счастлива. Она шла, любуясь солнцем с одной стороны и луной – с другой, и удивлялась, как ей повезло увидеть оба светила одновременно. Потом она вспомнила, что у нее на плечах две головы, совершенно одинаковые. Она гордилась этими головами, будто ее физическое уродство – Божий дар, чудесное явление.
У нее было двойное зрение и двойной слух. Два носа, чтобы вдыхать ароматы, и два рта, чтобы вкушать.
Две головы, чтобы думать и мечтать.
И любить.
Как богиня какого-нибудь доисторического культа.
Вдруг солнце исчезло, а луна спряталась за скалой, и только слабый свет звезд освещал ее путь.
Тогда Сатен остановилась, испуганно оглядываясь вокруг. Она крутила головами во все стороны; бдительная и осмотрительная, она не доверяла миру без луны и солнца. И пока она решала, идти дальше или нет, ее пронзила острая боль: топор вонзился ей прямо в шею, отрубив одну из голов. Кровь хлынула рекой, и тут же платье пропиталось ею, и земля вокруг нее, и отрубленная голова покатилась вниз под откос.
Сатен закричала и проснулась. Потом одной рукой дотронулась до шеи, а другую протянула к люльке, стремясь в отчаянном порыве найти то, что – она уже знала – потеряла навсегда.
Обратный путь был для Серопа настоящим мучением. Мысль, что он продал ребенка, била как обухом по голове. Она была как гематома, которая поначалу кажется излечимой, но затем мало-помалу начинает распространяться в мозгу с пагубными последствиями.
Он сидел на лавке, но не мог держаться прямо: казалось, у него не было больше позвоночника, и он то и дело сползал то вправо, то влево, в ритм движению поезда. Пассажир, сидевший рядом с ним, вежливо отталкивал его, но скоро Сероп снова падал на него. Другие пассажиры в купе начали посматривать на него с удивлением, не понимая причины такого оцепенения. Сначала они думали, что он пьян, но от него не исходил характерный запах алкоголя. Тогда кто-то предположил, что он спит, но и эта версия отпала, потому что Сероп все время бормотал что-то вроде литании[48]. Иногда он приоткрывал глаза и вперялся влажным и подернутым пеленой взором в одну точку, а затем снова закрывал их. Он не пошевелился, даже когда контролер попросил предъявить билет. Тому пришлось несколько раз хорошенько встряхнуть Серопа, прежде чем он наконец медленно достал билет трясущимися руками.
Какая-то женщина предположила, что он болен малярией, что вызвало некоторый переполох. Несмотря на то что проводник несколько раз опрыскивал купе, многие решили сменить место, согласившись даже стоять в проходе, потому что свободных мест не было.
На вокзале в Патрах ему помогли выйти.
– У тебя есть семья? Дом? – спросил его начальник станции.
Сероп не отвечал, а лишь смотрел на него грустно и безнадежно, как пес, который знает, что натворил что-то непростительное.
Его проводили до скамейки, усадили и оставили там. Он все больше наклонялся вперед, рискуя упасть лицом вниз.
– Надо позвать жандармов, – посоветовал кто-то.
– Нет, – прошептал Сероп, собрав весь остаток сил. – Это просто долгая дорога, сейчас мне станет лучше.
Он издалека увидел говуш, лагерь армянских беженцев, и заплакал, всхлипывая и дрожа всем телом. Колени его подкосились, и он чуть не упал.
– Господи, возьми мою душу, – шептал он не переставая, – я не достоин жизни.
По инерции он дотащился до своего барака, сердце его билось уже где-то под горлом. За несколько шагов от дома он остановился. Что ждало его внутри? Разрушенная семья. Все казалось ему другим, чужим, нереальным, он ужасался от одной мысли, что вот сейчас услышит трупный запах, уверенный, что его жена умерла.
Набравшись смелости, он собирался уже отодвинуть портьеру, когда Сатен опередила его, возникнув на пороге и преградив ему путь.
Сероп отступил, удивленный, что она жива и на ногах. Он внимательно посмотрел на нее, но от того состояния, в котором он ее оставил всего лишь день назад, не осталось и следа, за исключением красных и сухих глаз и неподвижных век. Радость от того, что она еще с ним, оживила его, и он на мгновение забыл о том, что сделал. Он приблизился, желая обнять ее, увериться, что это не сон и не видение. Он хотел зацепиться за нее и плакать вместе.
Но Сатен остановила его рукой:
– Где мой ребенок? – Ее взгляд был холодный как лед, а янтарные глаза сверкали как никогда.
Сероп потупил взор.
– Где он? – повторила она невозмутимо.
Сероп склонил голову.
Сатен прикусила губу, которая начала предательски вздрагивать.
– Если хочешь, входи, но знай, что я тебе больше не жена, а ты мне не муж, – сказала она и плюнула с презрением в землю.
И пока Фитиль, или точнее то, что от нее оставалось после болезни, вырывала себе волосы, напевая заунывную погребальную песню об агнце, принесенном в жертву, Сероп вошел в дом и положил на стол свернутые в рулон банкноты.
Выручку от продажи сына.
16
– Лев! – звал матрос в открытый люк, который вел на мостик.
Охранник поднял голову, наморщив лоб.
– Вот то, что ты искал, – и матрос бросил что-то.
Лев постарался поймать предмет, но не смог, тот отскочил и угодил прямо в одну из дырок решетки, которая закрывала мужскую половину. Предмет упал на пол, завертелся как волчок, покатился и исчез где-то между тел, скорчившихся на полу.
– Пеняй на себя, – сказал матрос, ухмыльнувшись, прежде чем закрыть люк.
В трюме снова стало темно.
– Черт! – выругался Лев, шаря вокруг в поисках того, что принес ему сослуживец.
Габриэль заметил, куда упал предмет, и, пока Лев был занят поисками в полутьме, быстро поднял его. Это был пузырек из коричневого стекла, в котором перекатывались белые таблетки.
– Эй, кто-нибудь видел флакон? – спросил Лев и потряс решетку, чтобы заключенные проснулись.
Никто не ответил.
– Ладно, рано или поздно я его найду, – проворчал он и отошел.
Габриэль протянул вперед руку с пузырьком и в слабом свете лампочки прочитал этикетку. «Аспирин», – прошептал он с улыбкой, в полной уверенности, что ему улыбнулась удача.
Увидев Нину, он поразился ее бледности.
Женщины снова вышли из клетки, чтобы напиться из ведра, спущенного в люк. Габриэль подал ей знак, и она поняла.
Несколько часов спустя она подошла к старому месту, пользуясь перерывом, когда Лев уходил, чтобы помыться. Это был один из двух моментов, когда молодые люди могли встретиться, не рискуя быть увиденными, другой – когда охранник храпел после очередной бутылки водки.
Теперь их жизнь вращалась вокруг этих бесценных минут, которые делали ужасное существование двух молодых людей осмысленным, помогали им справляться с окружавшей их убогостью и мерзостью и придавали силы идти вперед.
В эти быстротечные мгновения Габриэль без памяти влюбился в Нину. Он чувствовал, что они были созданы друг для друга, и ему казалось чудом, что он встретил ее среди этого сброда.
У него даже сменилось настроение, и Герасим, заметив это, подшучивал над его неожиданным и беспочвенным оптимизмом.
– Я хочу жениться на ней, – поделился с товарищем Габриэль, и тот рассмеялся, но на этот раз от счастья.
Когда Габриэль должен был встретиться с Ниной, Герасим помогал им. Следил за охранником и с помощью оговоренных сигналов давал знать о его передвижениях. Как только Лев удалялся, Габриэль тут же бросался к условленному месту и ждал свою возлюбленную. Бывали случаи, когда она приходила раньше его и стояла за решеткой с распущенными по плечам длинными светлыми волосами, как ему нравилось.
– Любовь моя, – шептал он ей, как только приближался, – обожаю тебя.
А она улыбалась, показывая маленькие, как у ребенка, зубы и морща носик в смешном приветствии.
– Ангел мой, – звала его она. Только так и никак иначе, памятуя о его библейском имени.
Прощаясь, они дважды похлопывали себя кулаком в грудь там, где находилось сердце. Два удара, легких, как крылья бабочки, что на их секретном языке означало: «Я живу только для тебя».
– Все хорошо? – спросил он, поглаживая ее пальцы через прутья решетки.
Нина кивнула.
Габриэль достал пузырек из кармана. Он был завернут в кусок бумаги.
– Я принес тебе аспирин.
Ее лицо озарилось.
– Где ты его взял?
Габриэль пожал плечами и не ответил.
– А это что? – спросила Нина, показывая на бумагу, в которую был завернут пузырек.
– Прочти его, но не сейчас, и ответь мне.
– Спасибо.
У нее был тихий и нежный голос, всегда сдержанный и вежливый тон, напоминавший Габриэлю о ее высокородном происхождении. Нина была дочерью крупных украинских землевладельцев. Революцию ее семья пережила только потому, что не сопротивлялась национализации своих земель. Но на плодородных равнинах Черкасс, где они жили, ненависть и зависть все равно не исчезли. Спустя годы их обвинили в противостоянии режиму, объявили контрой, отпрысками презренного и коварного рода. Отца и брата Нины убили у нее на глазах, а ее саму вместе с матерью Татьяной депортировали.
– Твоя мать поела что-нибудь? – спросил Габриэль, беспокоясь.
– Запах рыбы вызывает у нее тошноту.
Нина смотрела влажными глазами куда-то в неопределенную точку.
– Я боюсь, что она не вынесет этого.
– А вот и нет. Ты должна заставить ее принять вот это. Пусть держит таблетку под языком, пока она не растворится, – объяснил он.
Нина кивнула:
– Ангел мой, ты единственная моя радость в этой жизни. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Не могу поверить в то, что со мной происходит. Это так нелепо! Я так хочу вернуться домой. Мне хватило бы шалаша и твоей улыбки. И ничего другого.
Слезы Нины, горячие и невинные, скатились на руку Габриэля.
– Прошу тебя… – взмолился он.
Девушка подавила рыдания.
– Смотри! – сказал он, протягивая руку.
Нина увидела, как на ладони блеснуло кольцо.
– Это обручальное кольцо моей матери. Единственное, что мне осталось на память от нее. Я хочу подарить его тебе. – Он взял ее руку и надел кольцо ей на палец.
Это произошло так быстро, что Нина не успела проронить ни слова.
– Но я не могу… – сказала она наконец в сильном волнении.
Габриэль не дал ей договорить. Ее слегка раскрытые губы были как раз напротив квадратного просвета решетки. Он приблизил к ним свои, надеясь хотя бы слегка их коснуться, и удивился, когда обнаружил, что чудеса могут случаться даже в самых отвратительных и мерзких местах. И когда они подарили друг другу первый поцелуй в смрадном трюме плавающей тюрьмы, Габриэль поверил: несмотря ни на что, жизнь стоила того, чтобы ее прожить.
Он коснулся кулаком своей груди и убежал, боясь, что она заметит слезы в его глазах.
Любовь моя,
не проходит и минуты, секунды, чтобы я не думал о тебе. Я живу только ради тех нескольких мгновений, когда мы можем видеться. Ночью засыпаю с мыслью о тебе и, представляя себе твое лицо, набираюсь сил, чтобы выносить нечеловеческие условия, в которых мы живем.
Но я уверен, что скоро все кончится. Я уповаю на Бога. Я знаю, Он не позволит нам умереть вот так никчемно. Мы слишком молоды, наша жизнь только началась. Ты выйдешь за меня замуж, моя нежная Нина? Здесь и сейчас?
Давай обручимся, поклянемся друг другу в любви. Заявим открыто о нашем желании жить вместе как муж и жена, как только судьба позволит нам это. А если нет… то я все равно не могу думать ни о какой другой девушке, достойной носить кольцо моей матери.
Ответь мне письмом. Сердце мое не выдержит отказа, произнесенного твоими устами.
Я живу только ради тебя,
твой ангел.P. S. Герасим предложил быть нашим свидетелем.
Нина отложила письмо и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она поднялась с пола с болью в груди, будто у нее вырвали сердце.
Никто никогда не говорил ей с такой искренностью и простотой о своих чувствах. Никто за все ее пятнадцать лет. И все же прекрасные слова ее Ангела невыразимо мучили ее. Она прекрасно знала, что означает ее приговор к исправительным работам, и страдала от этого. Она поверила, что судьба подарила ей любовь всей ее жизни именно тогда, когда жизнь эта не предполагала для нее никакого будущего.
– Нина, – позвала мать, закашлявшись.
Она быстро спрятала письмо в карман и поспешила к матери. Татьяна лежала на земле среди других женщин.
– Я здесь, мама, – сказала она, погладив ее лоб, покрытый капельками пота.
– Слава богу, я чувствую себя немного лучше, – прошептала женщина.
Нина улыбнулась ей и поправила узелок из тряпок вместо подушки у нее под головой.
– Слава богу, – прошептала она в ответ, глядя в голубые глаза матери.
– Я вижу, ты уже встаешь, товарищ, – обратился Лев к Татьяне с сарказмом в голосе, пока наливал воды в протянутую ею миску.
Женщина, опираясь на дочь, терпеливо отстояла свою очередь.
– Благодаря Господу, – ответила она.
– Какому Господу, дура? Благодаря аспирину, – вмешался голос у нее за спиной, в котором сквозило явное пренебрежение к ее вере. Это была женщина с бритой головой. Отвратительный шрам пересекал ей глаз. – Когда у тебя такая дочь, то без труда найдешь то, что тебе нужно.
Пробираясь ближе к воде, она так сильно оттолкнула обеих, что те буквально упали в объятия охранника.
– Где ты нашла аспирин? – Лев тряхнул Нину за плечи, уронив половник в ведро и забрызгав все вокруг.
Девушка испуганно вздрогнула.
– Где? – повторил тюремщик.
– Между ног, вот где нашла, – вмешалась одноглазая, и вся очередь злорадно засмеялась. – Ты что, не видишь, у нее даже кольцо появилось! – И бритоголовая, схватив Нину за руку, подняла ее вверх.
– Не надо, прошу вас, – взмолилась Татьяна так тихо, что ее едва можно было услышать, – это подарок милосердной души.
– Заткнись, потаскуха, старые времена кончились, – ответила ей косая. – Все молишься, а сама такое же дерьмо, как и мы. – И она плеснула в нее из миски, подергивая изуродованным глазом.
– Хватит! – крикнул в бешенстве Лев, пиная ногами все, что попадалось у него на пути, и опрокинув ведро с водой.
До него дошло, что его подло обманули. Он из кожи вон лез, чтобы найти чертов аспирин, хотел раз в жизни совершить благородный поступок. Он думал подарить его Нине, чтобы она поняла, что у него, несмотря ни на что, тоже есть сердце и он тоже умеет заботиться. А этот армянский мальчишка – кто ж другой, если не он? – провел его, выпендрился за его счет.
– Пошли вон, за решетку все! – зарычал он на женщин.
Бедняги бросились назад, ворча и ругаясь про себя.
Габриэля трясло. Он проклинал себя за то, что подставил свою возлюбленную. Он повел себя как мальчишка, неосторожно и легкомысленно. И теперь, когда она стояла одна, беззащитная перед этим головорезом, сердце его разрывалось на части.
«Это сделал я», – хотел он крикнуть, но Герасим, поняв его намерения, закрыл ему рот рукой.
– Стой смирно, хватит глупостей, – сказал он тихо.
Татьяна, бледная как полотно, пошатнулась. Нина, увидев, что мать сейчас упадет в обморок, метнулась было к ней, но Лев не отпустил ее и силой потащил за собой в дальний угол.
– Если не хочешь, чтобы твой распрекрасный армяшка сдох, истекая кровью, подойдешь сегодня ночью к решетке, – прошептал он ей на ухо. Потом отпустил и оттолкнул подальше, к матери, которая уже сползла на колени. – Сгиньте! – приказал он, и его китель чуть не лопнул на груди.
Нина помогла матери подняться, и они вместе медленно направились к решетке, за которой переминалось множество возбужденных теней.
– Сынок, давай подумаем вместе, что тебя тревожит.
Микаэль вместе со своими друзьями, как всегда, пришел в церковь Босоногих, чтобы исповедаться. Он хотел быть сегодня первым, надеясь, что через это таинство ему удастся освободиться от мучительных видений, которые не оставляли его уже несколько дней. Особенно по ночам, когда в голове роились отвратительные, тошнотворные образы. Ему пришлось даже несколько раз вставать ночью, чтобы, высунувшись из окна, вдохнуть свежего воздуха, унять бешено колотившееся сердце и избавиться от ощущения, что он вот-вот умрет.
Микаэль в волнении опустился на подколенник в исповедальне. За мелкой решеткой просматривался профиль дона Антонио, который молча ждал. Юноша смущенно откашлялся, но так и не смог произнести ни слова.
– Итак, сын мой? – Пальцы священника нетерпеливо постукивали по деревянной стенке. – Тебя посещали нечистые мысли?
– Да, отче, – ответил Микаэль.
– Поведай мне.
Сквозь маленькие дырочки решетки молодой человек едва различал лицо священника.
– Я хотел…
– Я помогу тебе. Ты трогал себя, думая о теле женщины?
– Да.
– Ты желал овладеть им?
Микаэль сглотнул, в горле жгло, будто желудок его был полон огня.
– Ma ti se sbregà? Parla, muso da mona![49] – воскликнул дон Антонио с заметным негодованием.
Микаэль не поверил своим ушам.
Неужели с той стороны сидит тот самый добропорядочный священник, которому он не раз исповедовал свои грехи? Может быть, ему послышалось, и это все из-за его болезненного состояния. Да, конечно, так оно и есть. Неожиданно ему показалось, что за решеткой сидит дьявол собственной персоной, и он почувствовал в воздухе характерный запах серы. Его охватил панический страх, он вскочил и бросился наутек, будто сам сатана гнался за ним.
– Эй, ты что, уже закончил? – бросил ему вдогонку удивленный Ампо.
Микаэль мотнул головой, промычал что-то непонятное и кинулся вон из церкви.
– Ты куда? – крикнул ему Азнавур, пытаясь догнать.
Но его друг даже не обернулся и продолжал бежать, как обезумевшая лошадь.
* * *
Прибежав к зеленым воротам на калле[50] Дель Авогариа, где жила Франческа, Микаэль остановился и, склонившись, ухватился за колени, чтобы перевести дух. Из окон двухэтажного дома доносился домашний шум – плохо различимые слова, звон тарелок, бормотание радио. Микаэль уставился на последнее окно вверху, это была комната Франчески, потом поднял камешек и бросил его в приоткрытую створку. Почти сразу девушка появилась в окне.
– Поднимайся, – пригласила она, едва шевеля губами и делая жест рукой.
Микаэль не заставил себя просить дважды.
– Тебя кто-нибудь видел на лестнице? – спросила она чуть позже.
Молодой человек покачал головой.
Они сели на кровать в комнате Франчески со светлыми стенами и мебелью. Ее мать была где-то в городе и не должна была вернуться раньше полуночи.
– Что случилось? Ты бледный как воск.
– Я видел дьявола собственной персоной, – начал он, закрыв лицо руками.
Она нахмурилась.
– В церкви Босоногих, в исповедальне, он овладел доном Антонио. – Голос Микаэля звучал хрипло от ужаса.
Франческа ничего не сказала, лишь нежно улыбнулась, стараясь развеять его смятение. Потом она обняла его, как мать обнимает ребенка, испугавшегося страшного сна.
Микаэль обмяк в ее объятиях.
– Если бы мир был таким же прекрасным, как тот, что ты несешь в себе, – прошептал он, поглаживая ее нежные плечи.
Когда он поднял глаза, Франческа еще улыбалась. Но это была улыбка, которую он никогда раньше не видел. Спокойное понимание силы своей женственности, как если бы девочка стала женщиной в одно мгновение, так быстро, что ни один из двоих даже этого не заметил.
– Когда-нибудь ты устанешь от меня? – спросил он.
Она прервала его, поцеловав в губы, и толкнула на кровать. Он сдался и лежал неподвижно, пока она ласкала его волосы и нежно покусывала мочку.
– Там будет видно… – пошутила она.
Микаэль лег на бок, привлек ее к себе и крепко обнял одной рукой, а другой придержал ее голову и долго смотрел в глаза, ища скорее согласие, чем разрешение. Франческа покраснела и перестала улыбаться. Стыдливость, которую он прочел в ее глазах, возбудила его, и он жгуче пожелал обладать ею, его пробрала дрожь, и пульс в паху участился. Порыв страсти накрыл их обоих, они стали быстро раздеваться неловкими движениями и, обнявшись, катались по скрипящей кровати. Франческа села верхом на Микаэля и, когда он вошел в нее, сдавленно застонала то ли от боли, то ли от удовольствия.
– Я твоя, – прошептала она.
Кисейная занавеска качнулась, подернутая дыханием бриза, принесшим с собой запах апельсиновых цветов.
Микаэль закрыл глаза.
В это мгновение ему показалось, что комнату наполнила небесная музыка, и на несколько волшебных секунд его существование возымело смысл.
– Любовь моя, – сказал он, тяжело дыша.
Затем, на вершине блаженства, он подумал, что ему открылась тайна жизни.
Розу срезали еще в бутоне,
Больше не будет ни росы, ни даже весны.
* * *
Микаэль заснул и видел сон… Мужчины обступили тело девушки. Он расталкивал их, как манекены, спеша приблизиться к ней, узнать, кто она. Когда он оттолкнул последнего, ужасное зрелище открылось ему: Франческа лежала в луже крови бездыханная, обнаженная, с широко расставленными ногами.
Рядом с ней свернулась калачиком лиса, как на полотне Гогена «Потеря девственности».
– Нет! – закричал Микаэль и проснулся с сильно бьющимся сердцем.
Комната была погружена во тьму. Растерянный, не понимая, где он находится, он посмотрел на свои часы: люминесцентная стрелка не двигалась, не слышно было и тиканья.
Время остановилось.
Неожиданно на комоде зажегся абажур, и обнаженное тело на кровати томно потянулось.
– Я прямо умерла… – сказала Франческа, зевая.
Микаэль затрясся в ужасе.
В последующие дни он попытался оправдать свое недостойное поведение, сваливая вину на тени. Темные и дрожащие тени, которые исказили ее черты и изменили контуры предметов. В тот момент, когда девушка наклонилась над ним с намерением обнять его, он грубо оттолкнул ее и вскочил.
– Не приближайся ко мне, – резко сказал он.
От резкого толчка Франческа скатилась с кровати и, ударившись головой о стул, вскрикнула больше от удивления, чем от боли. Микаэль оделся (она еще никогда не видела, чтобы кто-то так быстро одевался), затем, открыв дверь, бросился вниз по лестнице и выскочил на безлюдную калле.
Нину насиловали впятером…
Той ночью судно сильно кренилось и скрипело, будто протестовало, желая заявить о жестоком преступлении, готовом свершиться в его темном чреве.
Девушка поднялась и, покачиваясь, пробралась к решетке. Она так и не заснула в ту ночь, угрозы охранника столь напугали ее, что она не сомкнула глаз, находясь во власти самых худших мыслей. Но в своей наивности она полагала, что, уступив желаниям охранника, сдержит его ярость.
Лев ждал ее, улыбаясь, и даже приветствовал, тихонько открыв дверцу.
Потом он взял ее за руку и, все так же улыбаясь, повел по длинному коридору, проходя мимо решетки, за которой сидели мужчины. От нее отделились четыре тени. Нина испугалась, и Лев зажал ей рот рукой, не отпуская, пока другой, схватив ее за волосы, не затолкал в конуру под лестницей.
Там эти скоты сорвали с нее одежду, завязали ей рот платком, который она носила на голове, и изнасиловали – сначала по очереди, а потом и все сразу. Они лишили ее девственности, совершили над ней все возможные непристойности, не обращая внимания на ее стоны, сдавленные крики и слезы боли и унижения.
– Доставьте удовольствие этой потаскухе! – приказывал Лев.
Нина задыхалась и умоляла взглядом своих насильников, надеясь на их жалость, на то, что искра человеческого еще осталась в них, как в любом, даже самом жестоком человеке.
Но она ошибалась.
Никто их этих чудовищ даже не удостоил ее взглядом. Их интересовало только ее белое, нежное и беззащитное тело.
Они были как голодные шакалы перед жертвой, доставшейся им на растерзание.
* * *
Вдруг лезвие ножа блеснуло в жалких лучах убогой лампочки.
– Шутишь? – спросил один из насильников, посмеиваясь.
– Слишком узкая, – сказал уголовник, принимавший участие в расправе.
Лев остановил бы его, если бы не был так занят ее маленькой грудью, которую мял своими пальцами и лизал крохотные соски.
Мужик резко и глубоко полоснул ее по верхней части вагины. Нина дернулась, и поток крови хлынул, залив все вокруг.
– Ты что, охренел? – закричал Лев.
Но было уже поздно, все в этом закутке, включая его лицо, было залито горячей и липкой жидкостью.
17
Ливанский президент Камиль Шамун был высоким и крупным мужчиной. Его напомаженные волосы блестели на солнце, пока он помогал жене выходить из мотоскафа. На нем был элегантный серый костюм с перекинутой через плечо двуцветной лентой, отличительным знаком его страны, – бело-красной с изображением зеленого кедра в центре. На госпоже Шамун, красивой и намного моложе его, был светлый жакет и юбка, а на голове был повязан цветной шарфик.
В честь гостя был открыт центральный вход в колледж и расстелена красная дорожка от входа до ступенек пристани. Приколы для гондол были украшены разноцветными лентами и тремя флажками: итальянским, армянским, а между ними ливанским, которые весело развевались на весеннем ветерке.
Коллектив колледжа в полном составе собрался у входа, чтобы приветствовать почетного гостя. Директор первым подал ему руку, а потом обнял с волнением, подчеркивая их давнюю дружбу. Они обменялись несколькими словами на ливанском, который отец Айвазян выучил за время своей учебы в семинарии при монастыре Святого Георгия недалеко от Бейрута.
Студенты в парадной форме, построившись в ровные ряды, молча ждали в проходе, ведущем во внутренний дворик. Как только Шамун появился в воротах, они приветствовали его, слегка склонив голову.
– Bonjour, monsieur le Président. On est honoré de vous accueillir dans notre college[51], – скандировали они хором.
В Зеркальном зале занавес из синего бархата скрывал сцену, украшенную по случаю такого события. Когда гости вошли, занавес открыли и показался хор студентов. Рояль «Безендорфер» блестел как никогда. Микаэль как пианист стоял сбоку от табурета. Он поклонился партеру. Хоть он и репетировал опус Рахманинова до поздней ночи, но все равно боялся, что не сможет сыграть его как должно.
Он чувствовал себя удрученно, нервы его были непривычно напряжены. Слишком много странных событий необратимо встревожили его. Кроме того, он был уверен, что, как только закончится концерт, монахи примерно накажут его за нарушение правил, ведь он вернулся в колледж намного позже установленного часа в тот вечер, когда был с Франческой.
– Ваше превосходительство Делалян! Какая честь лицезреть вас здесь, – высмеял его Волк, столкнувшись с ним на лестнице. – Случайно не скажете, который час?
– Мне очень жаль, но мои часы опять встали, – оправдался он, показывая «Омегу» на запястье. – Мне придется опять отнести их Тик-Таку, то есть, извините, отцу Никогосу, – оговорился он.
– Мы с тобой потом разберемся. Послезавтра приезжает наш гость. На твоем месте я репетировал бы даже ночью, – ответил учитель со всей строгостью, на которую был способен, когда того требовали обстоятельства.
Более всего Микаэль корил себя за то, как он обошелся с Франческой. Первое свидание должно быть незабываемым, восхитительным, а он все испортил. Ах, если бы только он мог объяснить ей свои страдания: разбившиеся вдребезги убеждения, вера, которая рушилась на глазах, видения и сцены насилия, кровь и смерть, которые неожиданно подкрадывались к нему.
Тем временем гости уже рассаживались по банкеткам восемнадцатого века. Микаэль глубоко вздохнул, на несколько мгновений задержал выдох, надеясь хоть так – он где-то вычитал об этом способе – облегчить головную боль, которая мучила его.
Маэстро, отец Согомон, с дирижерской палочкой в руках дал знак хору. И после первых тактов национального ливанского гимна все встали, слушая чистые юношеские голоса. «Все мы встанем за Родину, за знамя и славу», – пели они.
Президент Шамун, прямой и чопорный, слушал с влажными от волнения глазами.
– Самый лучший подарок, какой я когда-либо получал, – заявил он в конце выступления, поблагодарив всех.
Как только все снова уселись, Микаэль объявил исполнение опуса Рахманинова.
– Будьте снисходительны, – шепнул директор на ухо Шамуну, – но я должен был сделать вам этот подарок.
Президент и его жена благосклонно улыбнулись и приготовились слушать прелюдию в исполнении этого мальчика с изящным профилем. Микаэль начал с впечатляющим порывом. Ноты взорвались в зале, подчинив себе слушателей.
Госпожа Шамун, очарованная, благодарно кивала директору, когда на пороге зала появился господин Беппе. Волк встревожился. Привратник никогда не позволил бы себе помешать действию, если бы причина не была слишком серьезная. Он энергично жестикулировал, пытаясь что-то объяснить, но его прервали несколько карабинеров, которые, не дожидаясь, вошли следом в зал. Микаэль споткнулся на той самой ноте, за которую его пожурил директор. Рядом с карабинерами он увидел женщину. Это была мать Франчески.
– С вашего позволения… – шагнул вперед фельдфебель.
Все повернулись и посмотрели на непрошеных гостей.
Директор встал в замешательстве.
– Что случилось? Чем я могу помочь? – спросил он тоном, который выдавал его раздражение.
Фельдфебель собирался было объясниться, но в этот момент женщина отделилась от группы и побежала к сцене, обойдя даже стену из вооруженной охраны президента. Она была растрепанная, с красными и опухшими глазами, словно долго плакала.
– Синьора… – пробормотал Микаэль, поднимаясь с табурета больше от удивления, чем для приличия.
Женщина вгляделась в его лицо, словно хотела убедиться, что перед ней тот самый человек, которого она искала.
– Где моя дочь? Я прождала ее всю ночь, но она не вернулась. Где она?! – закричала женщина, покраснев от ярости и отчаяния.
У Микаэля перехватило дыхание.
– Говори, проходимец!
– Синьора, вы можете объяснить мне, что происходит? – вмешался директор.
Женщина спустилась со сцены и приблизилась к нему.
– Конечно, вы здесь празднуете, а моя Франка, моя единственная дочь, пропала, ее обманул… – она повернулась к Микаэлю и указала на него пальцем, – ваш ученик!
По залу прокатился недоверчивый и возмущенный ропот. Президент и его жена обменялись быстрыми и удивленными взглядами.
Мать Франчески вдруг обмякла.
– Я хочу увидеть мою дочь, – заплакала она, всхлипывая.
Директор, пожалев ее, обнял за плечи отеческим жестом.
– Уберите от меня руки! – истерически вскрикнула она. – Вы, армяне, должны стыдиться!
Вечером восьмого мая «Иван» перешел на малый ход, и к нему присоединился буксир, чтобы сопровождать в порт.
Судно бросило якорь в бухте Нагаева, в нескольких милях от Магадана. Областной центр Колымы в 1953 году был небольшим городком, где заключенные регистрировались и распределялись, в зависимости от назначения, по различным подземным шахтам.
Габриэль сошел с корабля крайне изнуренный. За время почти месячного плавания он истратил последние силы и удивлялся, что еще выжил, перенеся отчаяние и боль после смерти Нины. В то ужасное утро, на рассвете, его разбудили крики, женские голоса и всеобщая суматоха. Он поднялся и подошел к решетке, у которой уже собрались другие заключенные. Сначала он лишь заметил светлые волосы, потом, заставив расступиться остальных, бормотавших что-то в явном замешательстве, он увидел всю сцену.
Его Нина полулежала на полу, совсем нагая, прислонившись спиной к дверце, голова безвольно свесилась на грудь, которую чуть прикрывали светлые волосы. Руки были сложены на животе, а ноги широко расставлены. Красный след тянулся от ее бедер до самого коридора, где неожиданно и подозрительно прерывался. Ее одежда, вся в крови, валялась рядом. Татьяна Петровна обнимала тело своей любимой дочери, сотрясаясь от рыданий. Вся сцена походила на Пьета[52], но только какого-то извращенного художника.
Габриэль почувствовал, как сердце его остановилось, или, может быть, он просто захотел умереть.
Лев стоял в нескольких шагах от трупа, позвякивая ключами и качая головой.
– Это так просто не пройдет, – рычал он.
Но когда несколько часов спустя пришли за телом, никто из официальных лиц не заинтересовался насильственной смертью заключенной. В то время как никогда жизнь человеческая была лишена своей ценности.
Татьяна Петровна и Габриэль поднялись на палубу в сопровождении двух охранников. Женщина вцепилась в него, чтобы не упасть, шатаясь в ритм волнам. В тот пасмурный день тело Нины было выброшено в море, как мешок с мусором, без каких-либо проводов. Эта сцена будет преследовать Габриэля всю жизнь, как незаживающая рана в его душе.
Когда пенистая волна поглотила навсегда его любовь, затянув ее под киль, он слегка ударил себя в грудь кулаком, там, где находилось сердце, – два удара, легких, как взмах крыла бабочки.
«Я живу только для тебя».
Это было его последнее «прощай», пока золотистая копна волос исчезала в мутных водах Охотского моря.
Как только Габриэль увидел замученное тело Нины, он готов был убить всех и каждого, кто стоял вокруг, не оставить никого на корабле: заключенных, смотрителей, весь экипаж. И в конце покончить с собой.
Он хотел, чтобы «Иван» стал символом плавающей смерти.
Все же постепенно он справился с собой, поклявшись отомстить и покарать убийц. И тогда терпеливо, с крайней осторожностью, он стал выяснять, задавать вопросы, пытаясь узнать, кто совершил это ужасное преступление. Но он столкнулся с круговой порукой заключенных, которая встала перед ним, как непреодолимая стена. В его руках оказались лишь слабые улики, кое-какие подозрения и ничего более. Изначальная ярость постепенно уступила место унынию и глубокой печали. Он надолго потерял интерес к жизни, не пил и не ел, и, если бы не Герасим, который настойчиво ухаживал за ним, он наверняка умер бы. Его товарищ заставлял его пить хотя бы немного воды из своей кружки и всегда придерживал для него кусочек копченой селедки, уговаривая съесть хоть немного.
Габриэля неоправданно мучило чувство вины, так что он даже избегал Татьяны, отводя взгляд всякий раз, когда она проходила мимо. Ее черты напоминали ему Нину, и он не смог бы обменяться с ней даже словом поддержки или просто взять ее за руку и дать ей возможность смягчить отчаяние.
– У меня есть кое-что для тебя, – однажды вечером шепнула ему женщина, появившись в том месте, где они с Ниной обычно назначали свидания.
Габриэль вздрогнул от неожиданности. Он часто приходил туда и вспоминал пережитые там минуты счастья и нежности, хотя и знал, что потом ему будет еще хуже.
Он попытался сказать что-то Татьяне, но она уже просунула сквозь решетку листок бумаги.
– Я нашла его среди ее вещей и думаю, что это касается тебя, – сказала она, прежде чем исчезнуть в полутьме трюма.
Габриэль некоторое время молча стоял с листком в руке. Он почувствовал легкий запах абрикос, исходивший от него, наконец собрался с духом и прочитал:
Нежный Габриэль мой,
я долго плакала, когда прочла твое письмо. Я и не думала встретить настоящую любовь на этом корабле, чей путь лежит к месту нашего заключения. Моя мать и я приговорены к тридцати годам[53] исправительных работ.
Но, несмотря на это, твое предложение выйти за тебя переполняет меня радостью. Дает мне надежду. Я хочу верить в лучшее будущее. Хочу думать о семье и о наших с тобой детях.
Я ношу на пальце обручальное кольцо твоей матери. И глажу его с любовью. Хоть я и не знакома с твоими родителями, они уже кажутся мне родными.
Ты спрашиваешь, хочу ли я выйти за тебя замуж…
Так знай, что я уже чувствую себя твоей. И это самое главное.
Обещаю быть тебе верной и любить беспредельно, пока смерть не разлучит нас.
Твоя жена Нина– Итак, ты говорил, что вы разделись?
– Да.
– И?..
Микаэль сглотнул. Фельдфебель вперил в него свой пронизывающий взгляд. Ему было лет пятьдесят, маленький и крепкий, с бычьей шеей.
– Так что? – настаивал он.
– Мы обнялись.
Фельдфебель обменялся понимающе-насмешливым взглядом с коллегой, бригадиром помоложе, но таким же крепышом.
– Обнялись? – иронично повторил последний.
– Слушай, сынок, – сказал фельдфебель, поднимаясь с места, – я не собираюсь сидеть тут всю ночь и играть с тобой в угадайки, понял?
Он приблизился к Микаэлю и, облокотившись на письменный стол, сухо спросил:
– Вы занимались любовью или нет?
Юноша посмотрел вокруг. Комната, в которой они сидели, была чуть больше конуры. На стене напротив него висело зеркало, и он подумал, что это замаскированное стекло, за которым, вероятно, стояли мать Франчески и монах из колледжа и слушали о приключениях двух молодых людей, до сих пор ничем себя не запятнавших.
– Итак?
– О нет, мы не делали этого, – соврал Микаэль.
Фельдфебель вздохнул:
– Значит, вы обнялись обнаженные в постели, но любовью не занимались.
– Нет.
– Почему?
– Потому что…
– Ну?
Микаэль никак не мог понять причины, по которой карабинеры так настойчиво хотели знать то, что было исключительно его личным делом. И не видел связи между ним и исчезновением Франчески.
– У меня разболелся живот.
Фельдфебель развел руки в удивлении.
– Объяснись получше, – приказал его коллега, тот, что помоложе.
– Вероятно, я съел что-то… и мне пришлось бежать в туалет.
– Где?
– Ну, я вернулся поскорее в колледж.
Оба карабинера с сомнением покачали головой.
– Не понимаю я вас, современную молодежь, – вздохнул фельдфебель с очевидным укором. – Но ты не думай, что мы тебя так просто освободим, нам еще нужно кое-что уточнить, – припугнул он юношу.
Эту ночь Микаэль провел в камере, несмотря на то что монахи задействовали все свои знакомства, чтобы его выпустили на поруки.
– Надеюсь, это послужит тебе уроком, – отчитал его Волк, настояв на том, чтобы проводить мальчика до камеры.
Микаэль не поднимал глаз.
– Скажи мне, ты имеешь какое-то отношение к исчезновению девушки? Мне ты можешь сказать, и лучше, если сделаешь это сейчас, – добавил учитель.
Но юноша покачал головой и промолчал.
Он любил Франческу больше всего на свете. Известие о ее исчезновении сильно взволновало его, еще больше обострив и без того подавленное состояние. В начале он испугался, все ли с ней в порядке. Но, преодолев первоначальный шок, он задумался, пытаясь найти объяснение случившемуся. Он оставил ее, сбежал, даже не объяснившись. А она смотрела на него в растерянности, сидя на полу после падения. Вероятно, своим исчезновением она хотела привлечь к себе внимание. В последнее время она признавалась ему, что чувствовала себя одиноко, мать часто оставляла ее одну из-за работы, а отец бросил их ради новой семьи.
А тут еще он со своим непонятным поведением. Вероятно, Франческа почувствовала себя отвергнутой, и это после того, как она подарила ему свою девственность. Она любила его.
– Если до завтра это дело не прояснится, нам придется сообщить обо всем твоей матери, – пригрозил ему Волк.
– Она никогда не поверит. Моя мать знает меня лучше вас! – запротестовал он, сломавшись.
Волк сжалился над мальчиком, достал из кармана свою миниатюрную Библию и протянул ему, но Микаэль ее не взял.
– Надеюсь, ты найдешь здесь поддержку, которая тебе понадобится, – сказал Волк и положил книгу на койку.
Он подождал еще несколько секунд и наконец вышел из камеры, кивнув смотрителю.
– Отче! – окликнул его Микаэль, прежде чем тот исчез за дверью.
Волк оглянулся.
– А вы что думаете? Вы верите, что я невиновен?
Тот замешкался, не зная, что ответить.
– А, не важно, я не хотел ставить вас в неловкое положение, – сказал с огорчением юноша и махнул рукой.
Ночью ему снилось море.
Но это было не Эгейское море со сверкающей волной, а холодное и бесцветное.
Он находился на борту какого-то судна и исследовал его от носа до кормы, но так и не нашел ни одной живой души. Машинное отделение было пусто, хотя двигатели работали полным ходом, в кабинах тоже никого не было.
– Есть тут кто-нибудь? – кричал он на ветру. – Отзовитесь!
Наконец на мостике в носовой части он увидел стоявшего к нему спиной моряка, который спускал якорь. Между тем шум двигателей стих.
– Эй! – позвал он.
Но моряк не обернулся и продолжал спускать канат, пока не закончил свое занятие. Потом он сел на пол и прислонился спиной к шлюпке.
Микаэль приблизился к нему.
– Зачем ты это сделал?
Но тот опять не ответил. Он сидел, низко опустив голову.
– Зачем? Ведь мы еще не приплыли, – запротестовал Микаэль.
Чтобы рассмотреть его лицо, он приподнял ему голову.
– Ты… – пробормотал он, обомлев.
Лицо юноши, на которое он смотрел, было невероятно похоже на его собственное.
– Да, – ответил он, – это я.
– Но ты так похож на меня.
Юноша улыбнулся.
– Как две капли воды, – уточнил он.
– Что ты здесь делаешь?
– Я жду тебя.
– Зачем?
– Чтобы попрощаться с тобой, мы больше не увидимся. – Грусть подернула его глаза. – Я очень хотел познакомиться с тобой, – сказал он и протянул руку для пожатия.
– Но кто ты на самом деле?
Моряк улыбнулся еще раз и крепко пожал руку Микаэлю.
– Я твой брат, – ответил он.
Микаэль с сомнением рассмеялся:
– Это невозможно, у меня нет братьев!
В это мгновение кто-то сильно потряс его за плечо, и он проснулся.
– Вставай. За тобой сейчас придут, – сообщил ему карабинер.
Франческа вернулась домой.
– Значит, ты уезжаешь… – вздохнул Герасим и закашлялся.
Габриэль получил разрешение навестить его в госпитале.
– Да, корабль отчаливает через несколько часов.
Друг улыбнулся ему. Несмотря на проводимое лечение, он совсем не шел на поправку.
Когда в Магадане Габриэль сошел с корабля, он был похож на ходячее привидение. Он сильно исхудал и пал духом, сердце его было разбито. Заключенные строились в ряды на портовой пристани, когда на Герасима вдруг напал приступ рвоты, хоть он и выглядел немного лучше.
– Должно быть, морская болезнь, – сказал он Габриэлю, который бросился к нему на помощь. Но темные пятна свернувшейся крови на асфальте не обещали ничего хорошего.
– Теперь они обязаны лечить тебя. – Габриэль постарался подбодрить товарища.
Согласно протоколу, каждый заключенный при распределении должен был пройти медицинский осмотр в местном военном госпитале, который располагался в трехэтажном здании, отведенном специально для заключенных. На самом деле там отделяли здоровых людей от больных или тех, кто был уже при смерти. Заключенные, признанные годными, продолжали свой путь на рудники, остальных помещали в специальном приюте – это был последний этап перед концом.
– Ты узнал, куда вас везут? – спросил Герасим слабым голосом.
– Я слышал, в Певек.
– Певек? Да туда даже полярные медведи не ходят!
Умирающий заключенный захрипел в агонии на соседней койке, крупная опухоль на шее душила его.
– А вчера умер тот, что лежал напротив, – сказал Герасим, кивнув на пустую кровать.
Габриэль посмотрел в окно. Магадан лежал перед ним под ослепительными лучами солнца. Он увидел причалы в порту, которые, как клешни гигантского краба, обнимали три корабля. Один из них был готов отчалить. Посмотрел на сгрудившиеся бараки, на фабрики с дымящими трубами, на холмы вокруг, припорошенные снегом. Вдалеке заметил змейку дороги, ведущей на север.
– Тебе будет его не хватать? – пошутил над ним Герасим.
Габриэль обернулся. Он привык видеть вокруг себя изнуренных людей, но Герасим был не просто изнурен. Его голова походила на череп, обтянутый кожей. Он вспомнил, когда увидел его впервые в лагере: худого, потрепанного человека, беззубого, с больными деснами. Теперь у него был тот восковой цвет кожи, какой бывает обычно у людей, чьи дни сочтены.
– Мне будет не хватать тебя, – сказал он другу.
Герасим хмыкнул, собираясь было перевести все в шутку, но от начавшегося кашля слова застряли у него в горле.
– Знаешь, когда в последний раз кто-то сказал мне то же самое? – с усилием выговорил он.
Габриэль покачал головой.
– Моя мать. Мне было пять лет, и я уезжал на лето на дачу.
Конвоир издалека жестом показал, что время свидания уже вышло.
– Мне пора.
– Хорошо.
Герасим улыбнулся своей привычной улыбкой и протянул ему руку. Ту, у которой были скрюченные пальцы.
– Ты был настоящим товарищем в пути, – шепнул ему Габриэль, и, поскольку простое пожатие руки казалось ему недостаточным, он наклонился и обнял его с искренним чувством благодарности, которое испытывал к этому человеку.
18
Стоя рядом со шлюпкой, часовой всматривался в порт, который медленно растворялся в морском тумане. Дым от папиросы, которую он крепко сжимал в зубах, уносило ветром.
«Линка» только что покинула Магадан. Это было старое китобойное судно сравнительно небольшого водоизмещения, значительно меньшее, чем «Иван», обустроенное для перевозки пассажиров. Оно шло к рудникам на Крайнем Севере. Добраться до них можно было только морем, потому что те немногие дороги, что попадались в этом районе, были непроходимы. На судне заключенные уже не сидели просто в трюме, каждому из них было поручено какое-то дело, уборка и ремонт.
Габриэль заметил человека, когда драил палубу. Что-то в его позе показалось знакомым. Он взял ведро и подошел чуть поближе, чтобы лучше его разглядеть, а тот, услышав шум, резко обернулся.
Это был Лев.
– Не ожидал! – воскликнул он, посмеиваясь, и шутливо приподнял свой картуз в знак приветствия.
Габриэль пристально посмотрел ему в лицо. При дневном свете было видно, что он намного моложе, чем казалось раньше. Ярко выраженные черты: широкое лицо, высокие скулы, развитые надбровья – напоминали о его народе.
– Не здороваешься со мной? – съязвил Лев.
Габриэль продолжал драить шваброй палубу, но слегка кивнул головой.
– Посмотри на меня, это приказ! – наступал тот.
Юноша остановился и поднял глаза, опершись на ручку швабры.
Лев приблизился к нему. Он стоял прямо, выпятив грудь, подбоченившись одной рукой, другой поправив фуражку, и всем своим видом показывал Габриэлю, что тот должен подчиниться.
В бледном утреннем свете на его мизинце поблескивало обручальное кольцо червонного золота.
– С. С. 1935, – подчеркнул он, ухмыльнувшись и показывая кольцо. – Не переживай ты из-за той девчонки, она была просто потаскушка. – И он закончил фразу пошлым жестом, облизав кончиком языка верхнюю губу.
Габриэль почувствовал, как ярость закипает в нем. Кольцо матери, залог любви к бедной Нине, на мизинце этого подонка вызывало в нем чувство глубокого омерзения. Он едва сдерживался, чтобы не наброситься на Льва, не опрокинуть его наземь и не задушить своими руками. Наконец-то он нашел убийцу своей возлюбленной, и желание мести переполнило его. «Никаких глупостей», – сказал он себе, памятуя совет Герасима. Нужно действовать хитростью и поймать этого подлеца, когда он того не будет ждать. Поэтому Габриэль опустил голову и с бешено бьющимся сердцем вернулся к своему занятию, надраивая палубу под ехидным взглядом Льва.
Двадцать пятое мая 1953 года, день Святой Троицы, или Пятидесятницы, дирекция колледжа решила отметить экскурсией на остров Святого Лазаря. Этот праздник, напоминание о сошествии Святого Духа на апостолов, весьма почитался отцами-мхитаристами.
– Бакунин, почему такой мрачный? Поклянись, что не думаешь о ней! – воскликнул Азнавур, садясь рядом с Микаэлем на вапоретто[54].
Тот покачал головой.
– Врешь, – засмеялся друг.
– Я просто не выспался, – ответил юноша, соврав.
Он действительно думал о Франческе, думал о ней каждый день.
После того как девушка вернулась домой, Микаэля выпустили за отсутствием состава преступления. Бригадир сообщил ему, что Франческа целые сутки и еще ночь пряталась у Марины, подруги-студентки, которая жила одна. Затем, раскаявшись, а скорее устав прятаться, вернулась в родные пенаты.
– Никакого заявления на тебя, так что можешь идти, – сказали ему.
Тогда Микаэль взял Библию Волка, который ждал его за воротами казармы, и вместе с ним вернулся в колледж.
Монахи, как бы там ни было, проявили достаточно снисходительности к нему, может быть, пожалели мальчика, пережившего шок, а может, потому, что не хотели придавать огласке такое деликатное дело. Так что его матери не сообщили о происшествии, и когда Микаэль мельком упомянул об этом в своем письме, его изъяли, чтобы зачитать потом вслух перед всеми.
– Сначала попадает в переплет, а потом рассказывает об этом всему свету, – заявил директор, пока товарищи Микаэля посмеивались над ним.
Но все-таки ему были назначены три типа наказания: пост, молитвы и милостыня. Микаэль неделю не допускался в столовую, его посадили на хлеб и воду, он проводил часы в капелле колледжа, читая «Аве Мария», и должен был раздавать нищим свою еду.
Азнавур тайком приносил ему кое-какие остатки со стола, и он жадно ел их под одеялом.
– Я видел вчера, как ты ждал ее у стены, – пристал друг, когда вапоретто отчалил.
Микаэль пожал плечами, не желая оправдываться. Он каждый день приходил к стене свиданий, но Франческа так больше и не появилась и на воскресное кино тоже не пришла.
Керопе и Ампо, пошатываясь, пробирались к ним.
– Ну-ка, подвинься, – сказал перс.
– Тут для девчонок нет места, – пошутил Азнавур.
Керопе все равно уселся, отталкивая приятеля, чтобы освободить немного места.
Наблюдая за товарищами, Микаэль подумал, что, в сущности, они были еще детьми. Даже в отношении него они вели себя не как взрослые и часто ранили его чувства. Пусть кто-то и делал равнодушный вид, но большинство высмеивали с ухмылками и намеками. Несмотря на то что все они уже давно мечтали, каким будет их «первый раз», и постоянно шептались об этом по вечерам и в свободное время, никто из них так и не рискнул поговорить с ним, спросить его о первом опыте, расспросить, может быть, о каких-нибудь особых «деталях». Никто, кроме Азнавура, не попытался понять, что он почувствовал и каково ему было теперь. Более того, всегдашние друзья-приятели отдалились от него, отвергли. Или, может быть, кто знает, он сам, того не замечая, отдалился от них.
– Я такой голодный, – пробормотал Ампо.
– Надеюсь, нам дадут что-нибудь вкусненькое, – ответил Керопе.
– Кто, монахи? Ржаной хлеб, козий сыр и пару маслин. А если будешь хорошо себя вести, то, может, еще вартануш, – хихикнул Азнавур.
– Что это такое?
– Это варенье из лепестков роз из их сада.
– Скорее бы сесть за стол, надеюсь, месса будет недолгой.
– Как минимум полдня, – вмешался Ампо.
– Да уж, пока не прочитают все девять Евангелий, – пошутил Азнавур.
И все засмеялись. Микаэль позавидовал их беспечности, желанию радоваться и шутить, легкости, с которой они воспринимали жизнь.
– На следующей! – громко объявил Волк.
Микаэль поднялся с легким сердцем. Скоро закончится учебный год и студенты разъедутся по домам на летние каникулы. И, может быть, вдалеке от колледжа он сможет по-другому оценить все, что с ним произошло.
«Время залечивает раны», – решил он, пока они приближались к армянскому острову Святого Лазаря.
Когда-то остров Святого Лазаря был лепрозорием[55], но в 1717 году Венецианская республика передала его Мануку ди Пьетро, армянскому монаху по прозвищу Мхитар, который и основал одноименный монашеский орден. Мхитар и его последователи бежали от преследования из Османской империи, и Светлейшая[56], ценя культуру и историю армянского народа, с которым она имела контакты еще со времен торговли в византийских землях, отдала заброшенный остров мхитаристам, чтобы они могли основать там новый монастырь ордена.
Монахи засучили рукава и с помощью состоятельных армянских благотворителей восстановили церковь и остатки старого монастыря. Сам остров был укреплен, и на нем был разбит роскошный сад с редкими растениями и цветами.
Старинную готическую церковь Святого Лазаря, посвященную покровителю прокаженных, перестроили и декорировали. Апсида[57] была скрыта под покровом, согласно требованиям армянской традиции. Алтарь, выдвинутый вперед, чтобы освободить место для хора, был выстроен заново с использованием ценных сортов мрамора, следуя указаниям самого Мхитара. Три высоких витража с изображением святого покровителя в центре, привезенные из Инсбрука, были установлены за алтарем и вызывали великолепную игру света в солнечный день.
В тот понедельник Пятидесятницы большое число верующих собралось в церкви на праздничную мессу. В церкви стоял сильный, почти приторный запах ладана. Возглавлял церемонию отец Самуэль, молодой, худощавый, с ежиком жестких волос на голове, с суровым видом византийского монарха. В широкой красной мантии из камчатной ткани, он торжественно декламировал: «О, Бог ветхого и нового союза, который явился в пламени огня на Святой горе и снизошел в Пятидесятницу, предай огню лишь гордыни наши».
Микаэль внимательно слушал, стараясь понять подлинный смысл этой молитвы, и, несмотря на то что литургия ему всегда нравилась, в этот день он странным образом чувствовал неловкость.
Священник сделал шаг вперед, на ногах у него были мягкие туфли, вышитые золотой ниткой и инкрустированные двумя красными самоцветами по центру.
– «Огонь пришел Я низвести на землю», – прогремел падре Самуэль. Его мантия колыхалась от каждого движения, и казалось, будто он сам охвачен пламенем. Микаэля гипнотизировал этот голос.
– «Огонь, – повторил священник, глядя ему прямо в глаза, – и как желал бы, чтобы он уже возгорелся».
От этой цитаты из Евангелия от Луки Микаэля бросило в жар. Слово «огонь» преследовало его. Он осмотрелся и встретился взглядом с отцом Элией, пресловутым преподавателем сексологии, а точнее, заклинателем злых духов, который смотрел на него суровым и враждебным взглядом.
С алтаря на верующих посыпались лепестки красных роз, как множество маленьких огненных язычков, символизируя Святой Дух, которым должны были исполниться их души.
– Приди, о Дух Святой, даруй нам Свет Божественный… – пел хор.
Микаэль почувствовал дурноту, у него потемнело в глазах, и он потерял сознание.
Позже, придя в себя и лежа на кровати в келье, куда его перенесли, он силился вспомнить, что произошло, и понять, почему во время службы, отделившись от своих товарищей, он вдруг оказался в центре нефа и в ужасе кричал падре Самуэлю: «Vivi missi sunt hi duo in stagnum ignis ardentis sulphurae»[58].
Встревоженный и потрясенный, он спрашивал себя, каким образом в его измученном подсознании вдруг возникла именно эта цитата на чистой латыни из Апокалипсиса Иоанна Богослова, где ад вызывал такое отвращение и ужас, что он упал замертво, будто пораженный молнией.
– Наш враг, дьявол, как ревущий лев, ищет тех, кого он может мучить, – заявил отец Элия, цитируя известное изречение апостола Петра[59].
– Допустим, что ты прав, – сказал Волк, силясь не противоречить ему. – Но как ты пришел к такому умозаключению? – В прошлом ему уже доводилось спорить со старым монахом, поэтому он знал: если тот упрямо верит, что вопрос входит в его компетенцию, его невозможно переубедить.
После того как Микаэль почувствовал себя плохо, оба монаха задумались над тем, как помочь мальчику, который, очевидно, страдал серьезным душевным расстройством.
Отец Элия выглянул в окно своей кельи. В саду внутреннего дворика монастыря собралось немало студентов.
– Видишь этих юношей? – спросил он у Волка. – Они вполне нормальные. Кричат, играют, смеются. Я достаточно хорошо знаю Микаэля, чтобы утверждать, что он всегда вел себя по-особенному, а с некоторых пор все хуже. Ты сам говорил мне, что его товарищи часто слышали, как он просыпается ночью, что у него постоянные боли в животе, тошнота и рвота, а во время твоих уроков он проявил некоторую неприязнь к вере и ко всему тому, что свято.
– Ну, на самом деле он всего лишь задавал себе вопросы. Это нормально в его возрасте.
– Неправда, и ты это знаешь, – возразил отец Элия, – мальчик проявляет типичные признаки того, кем овладел дьявол. Я наблюдал за ним сегодня во время мессы. Незадолго до того, как потерять сознание, он смотрел на меня в совершенной растерянности. Он искал помощи, я прочел это в его глазах.
Волк решил не перечить. Он должен был во что бы то ни стало защитить Микаэля, но осторожно, такими доводами, чтобы обезоружить старого монаха.
– Это самый способный юноша, какого я когда-либо встречал, – заметил он. – Он остро и глубоко чувствует, и, в отличие от его товарищей, у него невероятный для его возраста уровень зрелости и мудрости. Не говоря уже о музыкальном таланте. Когда он играет, мурашки бегут по коже, а поет… – Ему не хватило слов, чтобы выразить свои ощущения от необыкновенного голоса юноши, и он просто указал пальцем в небо. – Разве это не дар Божий? Не двусмысленный знак Божественного благословения? – Волк встал напротив отца Элии и посмотрел ему прямо в глаза.
Саркастическая улыбка подернула потрескавшиеся губы старика.
– Тогда ты не знаешь, на что способен сатана, – ответил он, покачав головой. – Демон одаряет своих слуг чудесными дарами. Они горят своим внутренним светом, он возвышает их до небес, чтобы потом низвергнуть в бездну. Красота, вечная молодость, талант, гений – он всем может одарить несчастного, который продаст ему свою душу. Сегодня Микаэль процитировал целый стих на латыни, тебя это не удивляет?
– Но он прекрасно говорит на пяти языках, – постарался оправдать его Волк.
– Включая древние? – просверлил его взглядом старик. – В него вселился дьявол, – уверенно заявил он.
Волка передернуло от такого приговора.
– Нет, ты ошибаешься, с ним происходит что-то другое, – возразил он. – Микаэль просто слишком много перенес. История с этой девушкой, я уверен, что тебе уже донесли, его слишком встревожила. Ночь в камере, допросы, тревога за свою невесту. Мы не можем сбрасывать со счетов все это.
– Вот именно, не должны недооценивать, – подчеркнул отец Элия. – Знай, ты будешь в ответе за то, что он сделает. Не пытайся скрывать от меня его поведение и возможные болезни, я все равно об этом узнаю.
Затем он открыл ящик своего стола, вынул деревянный крест с фигурой Христа из слоновой кости и благоговейно поцеловал его.
– Мне подарил его наш патриарх много лет назад, в монастыре Святого Иакова в Иерусалиме. Дерево, – прошептал он, слегка поглаживая его дрожащими руками, – взято от Истинного Креста.
– Хвала Всевышнему! – воскликнул Волк, привлеченный не столько распятием, сколько стигматами на ладонях монаха. Он уже слышал об этой истории, которую отец Элия рассказывал всякий раз, как выдавался удобный случай. Благоговение святого отца перед реликвией всегда поражало его. Это была единственная вещь, которая принадлежала монаху за всю его долгую жизнь.
– Хорошо, – сказал он наконец, – я сообщу тебе, если замечу что-то странное в его поведении, но сейчас, прошу, позволь мне проверить, как он себя чувствует.
Отец Элия протянул ему руку с распятием. Волк наклонился и поцеловал его, осенив себя крестным знамением.
– Оно никогда не врет, – напомнил старик, – и поможет нам понять, вселился ли Люцифер в нашего мальчика. И если я прав, тогда мы вместе изгоним его, – завершил он с воодушевлением бесстрашного воина.
«Линка» с человеческим грузом на борту бороздила спокойные воды Берингова моря, направляясь в Певек.
Корабль был в плавании уже три дня, выйдя из Магадана. Три дня Габриэль драил палубы, убирал каюты, мыл мостик и делал все, что ему приказывали, но всегда с низко опущенной головой, чтобы не встретиться взглядом со Львом. Ненависть к нему, конечно, не угасла, напротив, разгоралась с каждой минутой все больше, так что он даже не мог спать, он был одержим Львом, чувствовал его присутствие повсюду.
Солнце садилось за почти оголенным полуостровом Камчатка. Это было время года, когда закаты наступали поздно и все вокруг ненадолго погружалось в сумерки. Через некоторое время заключенные должны были разойтись по своим местам в трюме, а пока заканчивали работу, убирая ведра, швабры и тряпки. Это были живые трупы с опущенными плечами, слабыми ногами, затрудненным дыханием. Они мечтали только о том, чтобы свернуться калачиком на своих соломенных тюфяках. На следующее утро некоторых из них недосчитаются: по ночам непременно кто-то умирал. Но Габриэля не было среди умерших. Еще не было. Жажда мести привязывала его к жизни, пока не свершится правосудие.
Шуму двигателей не удавалось перекрыть голос его врага. Габриэль хорошо слышал этот грубый голос и, не выдержав, поднял голову. Лев разговаривал с двумя другими охранниками и курил самокрутку, облокотившись на шлюпку.
– Это последний рейс, – говорил он, – потом мне дадут отпуск на два месяца.
– Что так? – спросил охранник с закрученными вверх усами.
– Знакомства есть.
– Проклятье! – пошутил усатый.
– Ну, на самом деле есть причина, – уточнил Лев. – Я собираюсь жениться на моей милашке. Вам кажется, что я пропустил бы свою свадьбу?
– Вот сукин сын, – снова вмешался усатый.
– Поздравляю! – воскликнул второй.
Они похлопали его по плечам и громко засмеялись.
Габриэля выворачивало. Наблюдаемая сцена привела его в бешенство, у него непроизвольно застучали зубы. Если б только представился удобный случай, если б только он смог наконец-то отомстить…
Неожиданно судно вздрогнуло. От оглушительного взрыва Габриэль, Лев и его товарищи потеряли равновесие. В следующее мгновение экипаж, охранники и заключенные забегали в панике по палубе.
– Пожар! На судне пожар! – кричал человек, выскочивший из машинного отделения. У него слезились глаза, лицо было покрыто сажей, волосы растрепаны. Он был не в состоянии что-либо объяснить, потому что беспрерывно кашлял и отплевывал черную слизь.
Завыла сирена. Казалось, будто это страдальческий стон застрявшего на мели кита.
Второй взрыв, еще более сильный, расколол судно, и палубу охватило пламя, поглотившее все вокруг. Металл плавился, балки крепления прогибались, вся конструкция рушилась. Люди, обезумев, метались, но спастись от огня было невозможно. Большинство из них уже горели, другие были ранены. Немногие оставшиеся невредимыми пытались спастись: кто-то в наивной надежде бросался в ледяные воды Берингова моря.
Сквозь языки пламени Габриэль увидел, как Лев в ужасе пытается спустить на воду шлюпку, и решил, что это тот самый момент, которого он ждал. «Теперь или никогда», – сказал он себе и прыгнул на него. От неожиданности Лев, вместо того чтобы попытаться выстрелить, казалось, хотел попросить его помочь спустить чертову шлюпку. И спастись вместе.
Но он ошибся. Габриэль, охваченный необоримой яростью, схватил его за горло и вонзил в него зубы, вплоть до того, что вырвал кусок мяса и почувствовал, как кровь хлынула ему в рот. Тогда он отпрянул, чтобы рассмотреть его получше. Лев хрипел в агонии и смотрел на него, ошеломленный, понимая, что ему пришел конец. Тогда Габриэль схватил его голову двумя руками и прижал к себе в неосознанном порыве, может быть, от отчаяния, затем резко ударил ее о палубу, еще и еще раз, пока не разбил. Вот теперь все было кончено. Нина была отомщена.
Габриэль будто избавился от приступа неистового возбуждения. Он отпустил голову своего врага, и тут его передернуло от отвращения. Он задрожал и отчаянно заплакал. Как он мог совершить такое?! Его праведный гнев превратился в исступление убийцы, слепое и непреодолимое, которое заставило его совершить ужасающий поступок. В его голове молнией пронеслась мысль о прошлом, о сладостном детстве, не таком уж и далеком, о невозвратно потерянной невинности, и осознание того, чем он стал, пронзило его сердце, как кинжалом. Он посмотрел на безжизненное тело смотрителя, в его распахнутые глаза, на горло и грудь, испачканные кровью, и в одно мгновение почувствовал на себе печать Божьей кары, той, что была возложена на Каина, убийцу брата: «Проклят и изгнан будешь на земле!»
Потом он лег рядом со Львом, всхлипывая, а языки пламени уже лизали его. В отчаянии решил он умереть, сгореть в этом огне, и остался на раскаленной палубе, как принесенная на заклание жертва.
На вапоретто, который с острова Святого Лазаря перевозил их в Венецию, Микаэлю казалось, что он весь горит. Это ощущение мало-помалу усиливалось, будто он сидел на вязанке горящих дров. Его охватили испуг и желание бежать. Он молча поднялся со скамейки и легким прыжком вскочил на фальшборт вапоретто, сохраняя слабое равновесие. Над лагуной сгущались сумерки.
На какое-то мгновение ему показалось, что он находится в том месте, которое ребенком часто видел в повторяющемся сне, – берег бухты, где он играл со своим вымышленным другом.
Падение было быстрым, ни у кого не было времени остановить его.
Контакт с водой погасил жжение кожи, но не пламя, которое пылало у него в сердце.
– Микаэль, нет! – закричал Волк, слишком поздно поняв его намерения.
19
– Как поживаешь?
Микаэль кивнул.
– Лучше?
– Да, – ответил он слабым голосом.
Волк, сидевший рядом с кроватью в келье, поправил ему одеяло.
– Хочешь чаю?
– Не сейчас, спасибо.
– Тебя слишком сильно рвало, тебе нужно восполнить запасы жидкости в организме. – Он взял старый чугунный чайник и наполнил чашку. – Ну-ка, приподнимись.
Юноша послушался, хотя и с трудом.
Волк приподнял подушку и устроил ее повыше под головой, затем поставил чашку на столик.
– Он не слишком горячий, можешь пить.
Микаэль сделал несколько глотков. Руки его слегка дрожали.
– Почему вы так на меня смотрите? – спросил он учителя.
– Я обеспокоен.
Слабая улыбка коснулась губ юноши.
– Я же не умираю. – У него были покрасневшие глаза, волосы были зачесаны назад, за исключением одной непослушной пряди, ниспадающей на лоб. – Эмиль еще здесь?
– Нет, они все вернулись в колледж. Здесь только ты и я.
Близилась полночь. Волк терпеливо ждал, когда мальчик проснется, и с розарием в руках читал свои молитвы.
– Зачем ты сделал это, Микаэль? – спросил он без обиняков.
Юноша отвернулся.
– Ты не хочешь мне сказать? – спросил Волк разочарованно.
– Я бы сказал, если бы вы меня выслушали, если… – он прервался и посмотрел учителю в глаза, – если бы вы поклялись, что попытаетесь понять.
Волк приблизился к нему, подвинув стул.
– Откройся мне, и я обещаю, что не оставлю тебя.
– Вы не понимаете: мне не нужны союзники, я не на войне и, более того, вовсе не испытываю необходимости оправдываться. То, чего мне не хватает, – это чтобы кто-то выслушал меня, не осуждая, – сказал он резко, с досадой и злостью, которую не мог больше сдерживать. – Если я нахожусь в этом состоянии, то, боюсь, тут не только моя вина. Мы все ошибались: и я, и вы, и весь колледж. Если бы вы дали мне понять, что готовы помочь, то я рассказал бы вам о моей Голгофе.
– Голгофе?
– О неописуемых страданиях.
– По какой причине?
Микаэль пожал плечами.
– И как давно это продолжается?
Юноша не ответил.
– Как давно, Микаэль?
– Давно, еще с тех пор, как я был ребенком, но хуже стало только сейчас, в колледже, – уточнил он с ненавистью.
– Ты кому-нибудь говорил об этом, может, Эмилю?
– Я попытался однажды вечером, пока мы болтали, лежа в постелях.
– А он?
– Захрапел еще до того, как я закончил объяснять, что со мной происходит.
– Кому-нибудь другому?
– Франческе, но я только намекнул на видение.
– Видение?
Микаэль кивнул.
– Как это было? – прошептал Волк.
Впервые юноша услышал в его голосе искренний интерес любящего человека.
– На самом деле очень просто: в какие-то моменты мне кажется, что я живу жизнью другого человека.
– Ты знаешь, кто он?
Микаэль вздохнул.
– Нет. Это молодой человек, который очень похож на меня. И один раз мне приснилось, что он говорил, будто он мой брат, но у меня, как вы знаете, нет братьев.
– А почему тогда тебе так больно? – спросил его Волк.
– Потому что жизнь этого другого человека – сплошное мучение. И она открывается мне внезапно, как секретный ход, через который я попадаю в его мир и там вынужден наблюдать за его мучениями и чувствовать его боль.
Он посмотрел в глаза Волку, решив прерваться, как только заметит в нем малейший признак недоверия. Но учитель слегка качал головой и, казалось, серьезно обдумывал то, что юноша ему только что рассказал.
– Что заставило тебя броситься в воду? – спросил он тихо.
– Тот другой горел заживо, и я с ним.
Волк был решительно в замешательстве.
– На корабле, на котором он плыл, начался пожар, но он не хотел спастись. Он хотел умереть, сгорев заживо.
– Не понимаю…
Неожиданно Микаэль заплакал.
– Он убил человека! Убил и сам хотел покончить с собой!
– И тогда ты бросился в море, от отчаяния?
Микаэль поднял полные слез глаза.
– Нет. Я хотел, чтобы он последовал за мной, хотел придать ему силы, хотел спасти его. Я не мог просто смотреть, как он умирает.
Он замолчал, в келье наступила тишина.
– Если бы он умер, я умер бы вместе с ним, – заявил он спустя некоторое время так искренне, что Волка пробрал озноб.
Чуть позже Микаэль снова уснул, и Волк остался охранять его сон, как ангел-хранитель, прекрасно понимая, какой шок пережил мальчик.
Пока монах ходил взад-вперед по келье, в его памяти снова и снова всплывали эти драматические моменты.
Сразу же после падения Микаэля в море на вапоретто поднялась суматоха. Хотя Волк и сохранил самообладание и тут же сообщил о случившемся капитану, чтобы тот остановил судно, он все равно, как завороженный, повторял всем:
– Он упал в море. Микаэль упал в море.
Благодаря ловкости Азнавура удалось избежать трагедии. Прекрасный пловец, он быстро сбросил обувь и прыгнул за другом в воду.
– Бакунин! – кричал он, держа голову над водой.
Волк, не сводя с него глаз, страстно молился, пока на лагуну спускалась тьма.
Азнавур уже ничего не видел, но с вапоретто наконец-то смогли направить на него прожектор.
И первое, что заметил юноша, это были светлые брюки Микаэля. Его тело лежало на глубине нескольких метров. Рот был приоткрыт, а волосы покачивались, как темные щупальца осьминога. Не теряя больше ни секунды, Азнавур нырнул, схватил его за пояс и поднял на поверхность.
– Хватайтесь! – крикнул кто-то из экипажа, бросая в воду оранжевые спасательные круги.
Несколько минут спустя неподвижное тело Микаэля с огромным трудом было поднято на борт вапоретто.
Как только что выловленная рыба, он лежал ничком на палубе, а преподаватели и студенты стояли вокруг.
– Разойдись, разойдись! – крикнул матрос.
– Расступитесь! – попросил Волк.
Мальчика перевернули на бок, и после нескольких коротких ударов по спине вода, которой он наглотался, освободила его легкие. Микаэль стал кашлять и наконец нормально задышал.
– Хвала Всевышнему! – воскликнул Волк, не сдерживая слез. – Эмиль, храни тебя Господь, – тихо сказал он Азнавуру, который пытался вытереться накинутым на плечи покрывалом.
В дверь постучали. Отвлекшись от своих мыслей, отец Кешишьян посмотрел на часы: было четыре утра.
– Кто там? – тихо спросил он, не открывая.
– Это я, Элия, – захрипели в ответ.
Волк повернул ключ и открыл дверь.
– Ты хорошо сделал, что закрылся, – сказал старый монах, входя. – Нужно действовать очень осторожно.
– Не рановато ли? – усомнился Волк. – Он обессилел, и ему нужен сон.
– Нет, – отрезал Элия, – через час взойдет солнце, мы не можем больше ждать.
Волк попытался возразить, но холодный взгляд Элии остановил его.
– Он что-нибудь сказал? – спросил старик.
– Нет. Он только спросил про Эмиля, вероятно, хотел поблагодарить.
Так оно и было на самом деле.
Вапоретто срочно вернулся на остров Святого Лазаря, чтобы отправить Микаэля в монастырь. Азнавур едва успел принять горячий душ и сменить одежду. Потом, несмотря на его протесты, монахи запретили ему оставаться рядом с другом и заставили уехать вместе с остальными.
– Позвольте мне побыть с ним, – просил Азнавур, обращаясь к директору, как только они сели на вапоретто.
– С ним останется только отец Кешишьян. В нашем присутствии здесь нет необходимости, тем более что он наверняка завтра вернется в школу, – попытался успокоить его директор, обращаясь заодно и к остальным мальчикам, которые слушали его с волнением.
Так что приятели больше не виделись и не перекинулись даже парой слов, и Микаэлю было жаль, что рядом с ним нет друга, который спас ему жизнь.
– Я уже предупредил отца Самуэля, он ждет нас в церкви. Разбуди его, как только я выйду, – приказал Элия Волку.
Юноша застонал во сне и повернулся.
Отец Кешишьян потрогал ему лоб.
– Боюсь, что у него жар, – сказал он и протянул руку за термометром, который лежал на столике.
– Оставь, – остановил его старик. – Нет лучшего средства, чем то, которое мы собираемся ему предписать. Изгнание бесов его вылечит. Это не болезнь тела, а болезнь души, – заявил он безапелляционно.
– Славный князь небесного воинства, святой архангел Михаил, – начал отец Элия, стоя в центре нефа. В левой руке он держал старый молитвенник, а в правой – распятие, то самое, реликвию из Святой Земли.
Отец Самуэль в своей праздничной мантии размахивал в апсиде кадилом, распространяя дым от тлеющего ладана с каждой фразой, произнесенной изгонителем демонов.
Микаэль в сопровождении Волка сидел в кивории[60] на стуле, оплетенном соломой, лицом к алтарю. Его одели в белую тунику, обычную одежду молодых семинаристов, стянув ее на поясе веревкой. Вокруг него горели огромные свечи, расположенные по четырем сторонам света.
В пять часов семнадцать минут утра первый солнечный луч, как горящая стрела, поразил юношу в лоб и отразился в сердце. Это был идеальный сигнал для начала ритуала изгнания дьявола.
Волк, крайне взволнованный, стоял за спиной Микаэля, словно его паладин. Он попытался остановить это действо, но не смог, и теперь корил себя за то, что не проявил достаточной решимости.
Когда отец Элия вышел из кельи, Волк подождал какое-то время, потом направился к отцу Самуэлю.
– Мне надо поговорить с тобой, – сказал он. – Но что это? – спросил он тут же, заинтересовавшись кожаной шкатулкой, которую священник держал в руках.
– Магнитофон, Элия хочет все записать.
Волк напрягся.
– Это безумие, страшная ошибка, – произнес он.
– Не понимаю. – Отец Самуэль выключил свет в комнате и открыл дверь, слегка подтолкнув его рукой к выходу.
– В Микаэля не вселился дьявол.
– Разногласия во мнениях, – отрезал священник, прибавив шагу.
– Он просто запутался.
– Ты видел его вчера на мессе? Он бредил, цитировал Апокалипсис и смотрел на меня с презрением.
– Может быть, он просто болен? Ты никогда не слышал о душевных болезнях? Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, эти имена тебе что-нибудь говорят? Не все начинается и заканчивается религией. Психика, мой дорогой брат, обладает необычайной силой. Она превосходит даже…
– Что?.. – Отец Самуэль резко остановился и уставился на него, враждебно насупившись, не скрывая своего раздражения.
– Я обеспокоен, – продолжал Волк.
– Чем?
– Тем, какую непоправимую травму может нанести этот ритуал. В сущности, он всего лишь мальчик.
– По правде говоря, я думаю иначе. Должен тебе напомнить, что он уже мужчина, мы все прекрасно осведомлены о его ранних любовных похождениях. В остальном, дорогой отче, немного молитв пойдет ему только на пользу. – И он внимательно посмотрел на Волка. – Лучше не терять времени зря, ритуал должен начаться, как только первый луч солнца падет на алтарь. Тебе ведь это известно, верно?
Подавленный Волк больше не раскрыл рта и вернулся в келью за Микаэлем.
– Мы должны идти, – прошептал он и разбудил юношу, слегка потрепав его за плечо.
Микаэль открыл глаза.
– Куда? – спросил он, приподняв голову с подушки.
– В церковь.
– В такой час?
Отец Кешишьян не ответил.
– Зачем? – настаивал юноша.
Волк заплатил бы что угодно, лишь бы избежать этой щекотливой темы.
– Для утренней молитвы, – пробубнил он.
Микаэль покачал головой.
– Это для твоего же блага, ты почувствуешь себя гораздо лучше потом, – добавил Волк, садясь на край кровати.
– Отче, я молюсь каждый божий день и всегда молился. Чем сегодняшнее утро отличается от всех остальных?
Волк взял его за руку и сжал ее с отеческим чувством, он никогда не позволил бы себе подобного жеста с любым другим учеником, но по его лицу можно было понять, что он глубоко взволнован и даже потрясен.
– Сынок, это всего лишь особенная месса, посвященная тебе, твоей болезни. Отец Элия и другие тоже думают, что твои страдания вызваны демоном, дьяволом собственной персоной.
Микаэль высвободил руку.
– Глупости! Я же признался вам, рассказал такие вещи, о которых не знает даже моя мать, мои друзья, моя девушка.
– Это всего лишь молебен, – слабо возразил Волк.
– Нет, я не об этом говорю, а о том, что мне жаль, как несерьезно вы отнеслись к моей проблеме. Вы поклялись, что попытаетесь разобраться. Я так уважал вас, я думал, что вы сможете мне помочь, найти корень всего этого, причины моей боли, даже если… – И он резко прервался.
– Даже если?
– Боюсь, что нет настоящего средства, которое помогло бы мне, – закончил он, вставая, с горькой улыбкой на лице.
– Мы приказываем тебе, изыди, нечистый дух, сатанинская сила, враг рода человеческого! – Голос отца Элии эхом разносился меж розовых мраморных колонн. Монах стоял напротив Микаэля и потрясал распятием, пока отец Самуэль на алтаре пел григорианские псалмы хриплым голосом, размахивая опахалом в виде солнца с бубенчиками по краям и распространяя ладан в воздухе. Солнечные лучи освещали позолоченные стены и формировали огромный ореол вокруг них. Создавшаяся атмосфера была особенно впечатляющей, и Микаэль подчинился, позволив себе перенестись в свой таинственный мир, в это параллельное существование, скрытое в нем. На мгновение, только на мгновение он поверил, что молитва, может быть, действительно единственный возможный выход.
* * *
Я уже простил тебя.
Смой кровавые пятна в море, никто не узнает об этом.
Плыви вперед, не плачь и не отчаивайся.
Я молюсь за тебя.
Лоб отца Элии блестел от пота, когда он с силой прижал распятие к груди Микаэля. Юноша вздрогнул, и его передернуло, а сзади Волк держал его, крепко обняв, будто этим жестом хотел защитить от темных сил.
– Тебе приказывает Бог-Отец, тебе приказывает Бог-Сын, тебе приказывает Бог-Святой Дух, – декламировал Элия, явно изнуренный.
В этот самый момент на какое-то мгновение Микаэль и Габриэль стали одним целым, одним существом, будто пространство между ними исчезло, физическое и виртуальное, и они воссоединились.
Я с тобой.
Габриэль с трудом держался на воде. Хотя он и вознамерился умереть после того, как убил Льва, какая-то таинственная сила заставила его броситься в море. И теперь он отчаянно пытался добраться до одной из шлюпок, которые экипажу удалось спустить на воду. Но вода была ледяная, и он все больше выбивался из сил. Тогда, смирившись, он лег на спину и отдался на милость волн, стараясь в последние мгновения думать о чем-то прекрасном. И он увидел отца, разогревавшего молоко, и мать, которая нарезала хлеб, себя и Новарт, его «розовый бутон», садившихся за стол завтракать.
– Возьми мой бутерброд, сестричка, – прошептал он.
Потом глубоко вдохнул закатного воздуха, и ему показалось, что он узнал запах волос Нины – аромат поспевшего на солнце абрикоса. С трудом он поднес кулак к груди и дважды ударил себя там, где было сердце, два удара, легких, как взмах крыла бабочки. «Я живу только для тебя», – хотел он сказать, но понял, что на самом деле умирал.
Он решил больше не двигаться и, качаясь на волнах, смотрел в небо, окрашенное в чудесные тона, от синего до красно-фиолетового. Он спросил себя, чего ему не хватало в этой короткой жизни, и ответ пришел сразу же.
«Ничего», – ответил он сам себе.
Из ничего вдруг возник и зазвучал в его голове григорианский псалом и проскользнули обрывочные видения: дымящееся кадило, опахало в форме солнца, распятие на старом деревянном кресте. А в центре, в облаке из света и ладана, он увидел юношу, очень похожего на него, который с молитвой предлагал ему спасение и надежду.
Он улыбнулся.
И вдруг, ловко и слаженно, с грацией юного спортсмена на летающей трапеции, он на мгновение отделился от своей телесной оболочки и слился с тем другим, который был на него похож как две капли воды. В конце он снова посмотрел на небо и замер в ожидании, когда жизнь выскользнет из него.
Самопознание
20
Торонто, 1991 год
– Дамы и господа, капитан информирует вас, что через несколько минут мы зайдем на посадку в Торонто, – сообщил голос из громкоговорителей в салоне.
Микаэль нервно заерзал в кресле, поискал в кармане свою коробочку для пилюль, взял две белые таблетки и проглотил их, запив остатками воды в картонном стаканчике. Затем пристегнул ремень, хорошо затянул его и стал смотреть в иллюминатор: в голубом небе плыли редкие облака, похожие на ягнят с мягкой и пышной шерстью на небесном лугу. Внизу он увидел озеро Онтарио, узнав его по удлиненной форме, похожей на фасоль. Озеро простиралось до самого Торонто. Самолет спускался, и от резкой перемены давления ему заложило уши.
«Азнавур был прав, надо было лететь самолетом европейской компании», – подумал он.
Но потом ему пришло в голову, что отцы-мхитаристы никогда не оплатили бы ему билет дороже и в любом случае он не согласился бы. В это путешествие он пустился по заданию колледжа «Мурат-Рафаэль». В течение недели он должен был убедить канадскую диаспору сделать пожертвования для школы, которая, увы, была на грани банкротства. Это было весьма ответственное задание, и Микаэль осознавал всю его сложность.
Он несколько раз сглотнул, чтобы освободить заложенные уши, и продолжал рассматривать город сверху, его многочисленные небоскребы, мысленным взором обводя их силуэты. Вдалеке стояла национальная башня Канады, знаменитая Си-Эн Тауэр, обращая на себя внимание своей веретенообразной формой с иглой. Это здание Азнавур постоянно восхвалял в своих письмах, даже с некоторой гордостью, будто это он его спроектировал, и обещал, когда Микаэль в конце концов решит приехать, отвести его на ужин во вращающийся ресторан на последнем этаже.
– Это как сидеть за столом в раю! – сказал он как-то вечером по телефону.
Микаэль закрыл глаза и представил себе лицо Эмиля Мегояна, увы, располневшего и облысевшего, каким он увидел его на последней присланной фотографии. С тех пор как Эмиль переехал жить в Канаду, он здорово прибавил в весе, и Микаэль подумал, а узнает ли он его в толпе в аэропорту. Все-таки они не виделись почти сорок лет, хотя постоянно писали и звонили друг другу.
Когда наконец самолет приземлился, Микаэль почувствовал, как бешено забилось сердце от волнения в предвкушении встречи со старым другом.
«Кто знает, станет ли он звать меня Бакуниным?» – подумал Микаэль и улыбнулся.
– Какова цель вашего визита в нашу страну? – спросила его женщина-офицер иммиграционной службы. У нее были ярко выраженные азиатские черты лица, но говорила она на прекрасном английском, только вот звук «р» не выговаривала, произнося его как «л».
– Туризм, – ответил Микаэль.
Женщина согласно кивнула и продолжала перелистывать его паспорт. От нее исходил аромат жасмина, который немного кружил голову Микаэлю в ранний утренний час.
– Почему вы встали не в ту очередь?
– Просто невнимательность, как я вам уже сказал. Мне жаль.
– Невнимательность, – повторила она, покачав головой.
Перед этим Микаэль, задумавшись, встал со своим чемоданом в более короткую очередь и, подойдя к окошку, протянул свой паспорт офицеру. Но тот с досадой предложил ему прочитать надпись над окошком.
– Здесь только для граждан Канады и Соединенных Штатов, – сказал офицер.
Микаэль покраснел и, бормоча извинения, собрался было уже встать в другую очередь, но офицер остановил его жестом. Потом поднял трубку телефона и стал тихо говорить с кем-то. Скоро пришла женщина с азиатскими чертами лица и предложила ему проследовать за ней в офис, где Микаэль понял, что его заподозрили в намерении нелегально въехать в страну.
И теперь эта женщина продолжала задавать ему вопросы.
– Вижу, что вы проживаете в Риме.
– Да.
– Но родились в Афинах.
– Да.
– Почему вы живете в Италии?
– Я учился в колледже в Венеции и потом…
– Это там вы так хорошо выучили английский язык? – перебила его женщина.
– Совершенно верно.
Она стала скрести ногтем уголок паспорта, потом поднесла к оконному стеклу, осматривая его несколько секунд.
– Чем вы занимаетесь, господин Делалян?
– У меня антикварный магазин.
– Хм, – сказала женщина, и выражение ее лица смягчилось. – Что именно вы продаете?
Микаэль вздохнул.
– Старинные вещи, в частности реликвии, иконы, византийские манускрипты и тому подобное. Как вы, наверное, уже поняли по моему имени, у меня армянские корни. Так что я езжу по свету в поисках предметов, связанных с историей моего народа, и часто бываю в Анатолии[61], Сирии, на Кипре, в Египте, словом, во всех странах, где византийская культура, а также армянская оставили яркий след. В моем магазине выставлена и моя личная коллекция, разумеется, не на продажу.
Это была его работа, но он также интересовался богословием и философией, писал в специализированные журналы по этим темам и публиковал прекрасные эссе.
Женщина слушала его с интересом, скрестив руки и опершись локтями на стол. Впрочем, голос Микаэля всегда завораживал его собеседников, особенно если он говорил о том, во что верил и что любил.
– Хорошо, – заявила в конце женщина-офицер и проштамповала его паспорт. – У вас туристическая виза сроком на один месяц, господин Делалян, – завершила она разговор, поднявшись и возвращая ему документ.
– Спасибо.
Женщина проводила его до двери и показала направление к выходу.
– Еще раз извините, – пробормотал Микаэль, пожав ей руку.
– Что ж, алливедельчи Лома![62] – воскликнула она по-итальянски, заставив его улыбнуться из-за своего произношения. – Так ведь говорят, да? – добавила она и тоже улыбнулась.
– Совершенно верно, – ответил он. Затем поднял свой чемодан и направился к выходу.
– Бакунин! – прокричал голос из задних рядов.
Микаэль обернулся, но никого не узнал в переполненном людьми зале ожидания.
– Микаэль! – снова позвал голос, на этот раз уже ближе.
Высокий и крепкий мужчина пробирался через толпу, извиняясь, широко улыбаясь и лихорадочно жестикулируя. Это был Азнавур, которого так и распирало от удовольствия и счастья.
Микаэль тоже разволновался, когда увидел его, и прибавил шаг, чтобы поскорее обнять.
– Азнавур, старина, – сказал он, крепко обняв друга. Радость от встречи спустя несколько десятилетий была настоящая, искренняя.
– Ах, как мне тебя не хватало! – говорил друг, похлопывая его по спине.
Микаэль отступил, чтобы лучше его разглядеть. Эмиль хорошо выглядел, в отличие от впечатления, производимого его фотографиями. На лице было мало морщин, кожа еще сохранила эластичность и упругость, а глаза блестели юношеским задором. Микаэль узнал прежний взгляд, и ему показалось, что они вернулись в прошлое.
– Ты хорошо долетел? – спросил его Азнавур, подтягивая джинсы и поправляя огромную голубую толстовку с изображением в центре кленового листа и надписью «Toronto Maple Leafs» – эмблемы его любимой хоккейной команды.
– Да, будь спокоен, – соврал Микаэль.
Азнавур подхватил его чемодан и направился к выходу.
– Пройдемся до стоянки, не возражаешь?
– Напротив, мне нужно размять ноги после десяти часов сидения в кресле, – пробормотал Микаэль, остановившись у лифта. – Далеко же ты забрался.
– Вижу, ты совсем не изменился, – сказал друг, внимательно оглядев его: серый костюм, белая рубашка, летнее пальто кремового цвета, перекинутое через руку. – Ты все такой же, даже в своей манере одеваться. Эмблему колледжа куда дел?
Тут они оба рассмеялись и не переставали смеяться, даже когда сели в лифт.
В новеньком «кадиллаке» друга Микаэль окончательно расслабился и стал с интересом смотреть по сторонам. Ему казалось, что все вокруг более широкое и ухоженное. По обеим сторонам дороги, на сколько хватало глаз, простирались зеленые угодья, там и тут возникали фермы, небольшие виллы, коммерческие центры. Машины двигались ровным потоком по своим полосам, и никто не выделывал опасных фортелей. Дорожные знаки вдоль дороги были легко читаемые и чистые. Автобан номер 401, на который они только что въехали, был обозначен большими зелеными щитами с номером, выгравированным на фоне белой короны.
– Почему белая корона? – спросил Микаэль, удивившись.
– Из-за королевы. Мы же страна Содружества[63], ты что, забыл?
– Ну и что? Хотят напоминать вам об этом, пока ведете машину?
Они снова засмеялись. Азнавур всегда оказывал на Микаэля такое влияние: рассеивал его тревоги, успокаивал его страхи, словом, поднимал настроение.
– Ты уже подготовил свое воскресное выступление? – спросил его друг напрямик.
– Кое-какие тезисы набросал в самолете.
– Что бы ты ни сказал, они будут очарованы, твои слова проникают прямо в сердце. Культурный центр чрезвычайно возбужден в связи с таким событием. Для диаспоры это большая честь наконец-то принимать тебя в гостях, интеллектуала с мировым именем, философа высокого уровня.
– Перестань, Эмиль. – Микаэль заерзал на сиденье. – Это не шутки. Здесь речь идет о деньгах, а ты знаешь, как тяжело заставить людей доставать их из карманов.
– Да, но это на благородное дело. Они должны понять, что, если не будет пожертвований, если они будут скряжничать, колледж закроют.
Мысль о будущем без их колледжа расстраивала обоих, так что они вместе решили бороться всеми силами и средствами, чтобы этого не случилось.
– Что, действительно так плохо? – спросил Эмиль.
– Хуже некуда. Никто не записывается, по крайней мере, из богатых семей, которые могут позволить себе вносить установленную плату. Иногда приедет какой-нибудь мальчик из Бейрута, Дамаска или Багдада. Ты же представляешь? Все держится на пожертвованиях и субсидиях, но как долго так может продолжаться?
Азнавур кивнул.
– Ты говорил, что был у них недавно.
Микаэль вздохнул:
– Да, ездил на карнавал, но было бы лучше, если бы я отказался. Тяжело было смотреть. Стены облупились, сад запущен, грязь и мусор повсюду. Я буквально сбежал оттуда.
Они долго молчали, каждый, казалось, воскрешал в памяти время, проведенное в колледже «Мурат-Рафаэль».
– Помнишь, ты вырезал на спинке кровати дату, когда поступил туда? – сказал Микаэль. – Представь, она еще сохранилась.
В машине послышался звонок телефона, и Азнавур взял свой сотовый.
– Хелло, – сказал он, растягивая «о», в огромную трубку размером с кирпич и с антенной сантиметров двадцать. Несколько секунд молча слушал. – Отрицательно, – возразил он затем, – Джош может говорить что хочет, а я хочу дымовую машину и проектор на двадцать тысяч ватт, чтобы дырявил сцену. Нам нужно делать шоу, за это нам платят, Доминика! – Затем он улыбнулся и снова заговорил своим мягким голосом: – Да, милая, он здесь, со мной в машине, и я везу его домой, – сказал он и свернул на выход с автобана под названием «Don Valley Parkway».
Эмиль жил в шикарном коттедже в престижном жилом комплексе, утонувшем в зелени раскидистых деревьев. Их кроны в это время года уже покраснели. Повсюду раскинулись элегантные лужайки в английском стиле с автоматическим поливом. Подъездные дорожки вели к домам обязательно на подъем, чтобы создать впечатление, что дом еще больше и представительнее. Породистые собаки бегали там и тут со счастливыми и беспечными мордами вместе с детьми, катавшимися на велосипедах или роликах. «Добро пожаловать в Канаду», – подумал Микаэль, пока «кадиллак» его друга величественно спускался по пандусу в гараж.
Войдя в дом, они сначала попали в полуподвальное помещение, открытое и большое пространство, почти как сам коттедж.
– Оставим чемодан здесь, твоя комната за этой лестницей, – сказал Азнавур.
Микаэль заметил тренажеры, диваны, телевизор. В центре стоял бильярд с цветными шарами, уложенными в деревянный треугольник.
– Если хорошая погода продержится еще, то в воскресенье устроим барбекю в саду, – пообещал Азнавур. – А теперь поднимемся, Доминика тебя ждет.
Они поднялись по лестнице и попали в холл главного входа, который вел в просторную гостиную, обставленную дизайнерской мебелью. Диван с большими подушками стоял у дальней стены. Вокруг него разместились кресла, два из которых были бержерки. На той же стене висели на металлических струнах многочисленные рамки с золотыми и серебряными дисками внутри, каждый со своей табличкой, на которой были выгравированы имя певца или группы победителей и дата, когда диск был получен. Рядом на игорном столике в стиле ампир стояла ваза с белыми орхидеями, а через окно размером во всю стену можно было любоваться видом кленовой рощицы. Наконец, в центре гостиной стоял белый рояль, который даже самые рассеянные люди не могли бы не заметить.
Улыбнувшись про себя, Микаэль мысленно сравнил свою квартирку в Риме и этот плацдарм.
Он жил в двухкомнатной квартире в квартале Трионфале, который выбрал для удобства, поскольку оттуда в хорошую погоду мог добраться пешком до своего антикварного магазина в районе Борго[64] Анджелико. Он купил эту квартиру только тогда, когда прожил в Риме много лет и накопил достаточно денег, чтобы не брать ссуды и не залезать в долги. До этого он всегда снимал. Его друзья находили, что его дом – «настоящее сокровище, просто прелесть», особенно терраса, с которой открывался великолепный вид на собор Святого Петра. Каждый день первый солнечный луч падал на его кровать, наполняя энергией все вокруг и его в том числе.
– Это Доминика, моя жена, – сказал Эмиль с горделивой ноткой в голосе. Высокая стройная женщина, моложавая, с ослепительной улыбкой приблизилась к нему, немного покачивая бедрами в обтягивающих джинсах и отбросив назад длинные каштановые волосы.
– Привет, Микаэль, – сказала она, старательно произнося имя с ударением на последнем слоге. – Чувствуй себя как дома, для меня ты член нашей семьи, Эмиль говорит только о тебе, – добавила она с непринужденностью, типичной для представительниц крупной буржуазии.
– Доминика, наконец-то!
Микаэль по-дружески обнял ее. Хоть он и видел ее впервые, но все знал о ней. Она была редким алмазом, самым дорогим, что было у Азнавура. Друг рассказал ему каждую деталь их истории любви, с первого дня, когда они встретились.
«Сегодня утром, пока я скучал до смерти в Lobarts Library[65], передо мной возникло чудесное создание. На улице было, наверное, двадцать градусов ниже нуля, но мое сердце так и пылало», – написал он много лет назад, рассказав о девушке, которая вскоре стала женщиной его жизни.
Доминика была коренной канадкой, родом из Квебека, из интеллигентной и богатой семьи. Азнавур познакомился с ней в 1959 году, почти сразу после того, как «высадился на берег», как принято говорить в тех краях, навешивая ярлыки на менее удачливых эмигрантов. Они оба поступили на филологический факультет университета Торонто, стали встречаться и некоторое время были неразлучны, но потом по глупости расстались. Несколько лет спустя, уже окончив университет, они случайно встретились в трамвае.
– Hi Dom, tu vas bien?[66] – приветствовал он ее по-французски, на языке, который давал ей возможность почувствовать себя как дома.
Доминика посмотрела на стоявшего перед ней здоровяка с кудрявыми черными волосами и добродушной улыбкой и вдруг поняла, как ей не хватало его все это время. Был снежный февральский вечер, и когда они сошли с трамвая, Дом пригласила его на чай к себе в комнату в доме в викторианском стиле, где она жила. Как только они вошли в квартиру, то сразу же занялись любовью, страстно и одновременно нежно, как обычно бывает с людьми, которым суждено быть вместе всю жизнь.
Спустя неделю Эмиль переехал к ней, и больше они никогда не расставались. Он принес свою зубную щетку и войлочные тапочки 46 размера и много лет жил в этой квартире с Дом и еще пятью девушками, не обращая внимания на косые взгляды и сплетни соседей. Доминика нашла работу в адвокатской конторе, которая специализировалась на авторском праве, он же организовывал телевизионные постановки для местного канала. В субботу вечером они пили Buds до зари, курили коноплю и разбрасывали пустые бутылки по всему дому, пока Майк Джаггер пел «Time’s on my side, yes it is» своим хриплым всесокрушающим голосом. Их любовь крепла день ото дня, несмотря на недовольство родителей Доминики, которые хотели для своей дочери мужа WASP[67], и желательно побогаче.
Назло всем, кто был против, Доминика и Эмиль поженились майским воскресным утром, в кругу немногих близких друзей. Церемония бракосочетания состоялась в только что открытом фантастическом муниципалитете города, прозванном Глаз правительства.
– Идите сюда, – позвала Доминика, приглашая мужчин присесть вместе с ней на диван, – выпьем прекрасный кофе с печеньем. – Она протянула чашечку с дымящимся напитком Микаэлю, который устроился в кресле. – Надеюсь, ты нормально переносишь джетлаг[68], – добавила она.
– Каким ты себе представляла его, моего друга? – спросил Эмиль, севший с ней рядом.
Микаэль слегка покраснел под взглядом прекрасных карих глаз Доминики.
– Ну, на самом деле он гораздо моложе и красивее, – уточнила Дом.
Микаэль протянул руку, чтобы взять два кусочка сахара.
– Знаешь, я дочитала твои «Откровения», – сказала она уже более серьезным тоном. – Мне понравилось, хотя один момент меня смутил, но мы поговорим о нем после.
– Спасибо, – сказал он.
– Какая удача заполучить автора домой, а? Так он может лично все тебе объяснить, – пошутил над ней Эмиль, взяв сигару из коробки.
Микаэль посмотрел на него исподлобья.
– Сейчас мне достанется, вот увидишь, – пожаловался Азнавур жене. – Я не рискнул закурить в машине всю дорогу.
– Ах, так вот что это было! Я чувствовал запах табака, но думал, что это кожаные сиденья так воняют.
Все трое рассмеялись, скорее потому что рады были оказаться вместе, а не из-за шутки.
– Ты мне еще ничего не сказал о Канаде. Тебе нравится? – спросила его Дом спустя какое-то время.
– То немногое, что я видел до сих пор, нравится.
Они пили кофе и говорили о стране, принявшей множество беженцев и эмигрантов со всех концов света, которая предоставила им возможность трудиться, защищает их права независимо от цвета кожи, религиозных верований, политических взглядов.
– Это, дорогой Бакунин, настоящее многонациональное общество, – заявил Эмиль.
– У нас на работе, – продолжила Дом, – есть выходцы из семи стран. Каждый привнес немного своей культуры, и это пошло только на пользу. Все вместе мы существуем в гармонии.
– Меня никогда не дискриминировали здесь, ну, разве что только ее родители, – перебил жену Эмиль, посмеиваясь.
Она ткнула мужа локтем в бок и тоном, не терпящим возражений, сказала:
– Милый, почему бы тебе не перезвонить Джошу? Он там в чем-то не уверен.
Эмиль фыркнул и поднялся.
– Извини, старик, но мы организуем концерт новой группы, некая «Нирвана», ты слышал? Кажется, они там все громят, и мой компаньон очень возбужден. А ты, пока меня тут не будет, не рассказывай ей ничего, что она не должна знать, – шутливо пригрозил он, показывая на жену, прежде чем скрыться за стеной.
Она улыбнулась.
– Нет нужды говорить тебе, как он счастлив видеть тебя здесь. Он так волновался, уже больше месяца, как только узнал, что ты прилетаешь.
– Я тоже волновался.
– Да, конечно, – перебила его Дом, которая хотела как можно более понятно изъясниться. – Он, видишь ли, выработал отвержение всего того, что связано с Францией и Италией, не говоря уже о Марселе и Венеции, – и она понизила голос на этом последнем слове. – Мне кажется, что он отчаянно старается выбросить из памяти какую-то давнюю травму. Когда ему приходится ехать туда по работе, а это случается довольно часто, поверь мне, он все время настаивает, чтобы ехал кто-нибудь другой. Если бы ты не приехал сюда, боюсь, вы никогда больше не увиделись бы.
Микаэль кивнул. Он и хотел бы сказать ей, что прекрасно понимает душевное состояние своего друга, но не мог, а потому промолчал.
– Сегодня он хочет праздновать дома. «В этом году устроим что-нибудь скромное, в кругу семьи, тем более Микаэль будет с нами», – так сказал он мне недавно.
Микаэль удивленно посмотрел на нее.
– Как, ты что, забыл? Сегодня 14 сентября, и Эмилю исполняется пятьдесят три года.
Чуть позже, когда Микаэль снова поднялся на второй этаж, у него был безукоризненный вид.
В доме играла музыка в стиле рок в сопровождении хриплого злого голоса, который доносился из глубины коридора.
Микаэль страшно устал. Он проспал более пяти часов в комнате для гостей – это была скорее квартира с ванной комнатой – и был резко разбужен невероятным шумом. Посмотрев на часы, он увидел, что было уже шесть часов вечера. Он поднялся со страшной головной болью и выпил еще две таблетки, надеясь, что они помогут. Затем принял горячий душ и наконец надел свой элегантный костюм, «лондонский дымчатый», со свежей белой рубашкой.
– Есть там кто-нибудь? – громко спросил он, стоя на верхней площадке лестницы.
Подождал какое-то мгновение, прислушиваясь, и, не получив ответа, пошел по направлению оглушительного шума. Он прошел мимо множества дверей, некоторые были закрыты, другие распахнуты настежь, пока не попал в комнату, которую искал.
– Здравствуйте! – приветствовал он еще с порога.
Чернокожий юноша со щенком на руках лежал на кровати и поглаживал его. Увидев чужака, он вскочил и бросился к стереоустановке. Как только он ее выключил, в доме наступила звенящая тишина.
– Добрый вечер! Вы, должно быть, Микаэль, – сказал он и протянул руку.
– А ты наверняка Матиас. Как поживаешь?
Юноша улыбнулся. На нем были черные джинсы и толстовка вся в красных точках, очевидно, специально нанесенных краской из баллончика.
– Надеюсь, я вас не побеспокоил, но эта группа мне нравится до смерти. Я ставлю звук на максимум, когда родителей нет дома. Я думал, что вы все ушли.
– Ничего страшного.
– Вы слышали, как я пел?
– Это был ты?
– О боже, стыд-то какой! – воскликнул Матиас, скривившись.
– Зря, ты неплохо поешь.
– Ну, чтобы дойти до их уровня…
Микаэль присмотрелся к сыну Азнавура и, хоть это было нелепо, подумал, что он похож на отца, хотя прекрасно знал, что мальчик был усыновлен. У него было круглое лицо, казалось, вылепленное из шоколадного крема, нос слегка приплюснутый с немного вздернутым кончиком и полные, выступающие ярко-красные губы. Черные курчавые волосы были причесаны в африканском стиле. Матиас был усыновлен, когда Эмиль и Дом после многочисленных безрезультатных попыток завести ребенка сдались. Они полетели на Мартинику и вернулись оттуда с прекрасным ребенком. У Микаэля сохранилась его детская фотография: два огромных черных глаза, которые, казалось, прожигали насквозь поляроид. «Это Матиас», – было написано ниже по-английски зеленым фломастером.
Щенок пискнул: ему хотелось, чтобы его еще погладили, и мальчик взял его на руки.
– А это Ромео, наш подарок папе на день рождения.
– Какой симпатяга, это левретка?
– Уиппет, он чуть меньше.
– А кажется маленькой газелью, – сказал Микаэль, дотронувшись до влажной блестящей мордочки.
– Мы с мамой думали, хорошая ли это идея подарить ему другую собаку. Все-таки он так переживал после смерти Спайка.
Микаэль подумал, что мальчик очень сильно любит отца, и растрогался.
– Если бы мой сын подарил мне собаку, я был бы счастлив! – воскликнул он, желая сделать ему приятное и приободрить.
– У вас есть сын? Сколько ему лет? – спросил юноша, заинтересовавшись.
От этого вопроса Микаэль слегка растерялся:
– Томмазо… Ему тридцать шесть, нет, тридцать семь.
– Ого, мне только четырнадцать.
Микаэль чуть было не сказал ему, что стал отцом примерно в его возрасте, но воздержался.
От шума двигателя в гараже задрожал пол.
– Они вернулись, – сказал Матиас взволнованно, – пойду спрячу его. – И он быстро закрыл щенка в ванной.
Брошенный Ромео снова заскулил.
– Happy birthday to you… – пропела Доминика, поставив торт на стол.
– Это что, я? – спросил Эмиль, показав на длинную белую свечу в центре торта.
– Это твоя душа, чистая и светлая, – пошутила Дом, пододвинув торт к нему.
Матиас хихикнул, довольный, затем все снова пропели «Happy birthday» в ожидании, что Эмиль задует свечу.
Он подождал, пока они допели до конца, и потом, окинув всех любящим взглядом, заявил:
– Я везучий человек, – и задул свечу.
– Поздравляем! – закричали все, хлопая в ладоши и целуя его по очереди.
– Ты молодо выглядишь для старичка, – пошутил над ним Матиас.
– С днем рождения, любимый, – прошептала Дом.
В этот момент зазвонил телефон.
– Алло, – ответила Дом. – Конечно, сейчас передам. – Она протянула трубку Микаэлю. – Это тебя, твой сын.
Он встал и отошел от стола, тихо разговаривая в полутьме гостиной.
– Все в порядке? – спросил его Эмиль, когда он вернулся.
– Да, он просто хотел знать, хорошо ли я долетел.
– Какой молодец! – похвалила Дом.
– А который теперь час в Италии? – спросил Матиас.
– Пять часов утра, – ответил Эмиль. – Он у тебя рано просыпается, однако…
– Сегодня он должен был куда-то ехать, но связь прервалась и…
– Так перезвони ему, чего ты ждешь! – пожурил его друг.
Снова зазвонил телефон, и Микаэль нажал на кнопку ответа на трубке, которую держал в руках.
– Привет, это Роз, – сказал женский голос, глубокий и приятный, с заметным непривычным акцентом. Микаэль от неожиданности не нашелся, что сказать. – Извини, что в такой поздний час, но я хотела поздравить тебя, дорогой Эмиль, – продолжал голос.
– Мне очень жаль, но я Микаэль, друг…
– Микаэль Делалян? – перебила она его.
Азнавур, заинтересовавшись, сделал жест, спрашивая, кто на проводе.
– Роз, – ответил Микаэль, только пошевелив губами.
У Дом появилось на лице удивленное и в то же время восхищенное выражение.
– Очень приятно, – говорила Роз, перейдя на армянский. – Я знала, что вы приезжаете, и с нетерпением жду воскресенья, чтобы познакомиться с вами, – завершила она с искренним энтузиазмом.
– Спасибо, мне тоже будет приятно познакомиться с вами. Тогда до встречи, а сейчас я дам вам Эмиля, – сказал Микаэль и передал трубку другу.
Эмиль быстро свернул разговор, но говорил с женщиной в уважительном и несколько формальном тоне, хотя и сердечном, как говорил бы с клиентом или с важным человеком.
– Вот кто мог бы здорово помочь в нашем деле, – сказал он Микаэлю, положив трубку. – Роз Бедикян. У нее с мужем фирма по пошиву одежды, «Роз», так и называется, настоящий клондайк.
Матиас нетерпеливо ерзал на стуле.
– Давай, па, открывай же шампанское, а потом будут подарки, – подгонял он и уже себе под нос пробормотал: – Надо поскорее забрать его из туалета.
Когда праздник закончился, Азнавур и Бакунин тихо разговаривали в гостиной. Микаэль устроился в кресле, а Эмиль растянулся на диване с Ромео под боком, который блаженно спал.
– Ты уверен, что не хочешь спать?
– Я уже выспался, а вот ты? – ответил Микаэль.
– Завтра суббота, так что я свободен. Мне надо будет только смотаться в Опера-Хауз, чтобы проверить декорации.
– Это был приятный вечер.
– Да, не помню уже, когда я так себя чувствовал.
– То есть?
– В окружении тех, кого люблю. – Азнавур уставился на друга. – Знаешь, чему я научился за эти пятьдесят три года? Самое главное в жизни – это когда люди, которых любишь, счастливы.
Шум, донесшийся с улицы, разбудил Ромео, он потянулся на длинных лапах и навострил любопытную мордочку.
– Что такое «муч»? – спросил хозяин, поглаживая его короткую шерстку. Щенок повернулся вокруг себя и, покачиваясь, снова свернулся калачиком на диване. Между ними двумя уже возникла особая связь. Может быть, потому что их первая встреча была необычной.
В подходящий момент Матиас побежал в туалет, чтобы забрать щенка. Но долгое ожидание вывело щенка из себя, и он выскочил из комнаты, как ракета, влетел в гостиную и начал испуганно носиться по ней под удивленным взглядом Эмиля до тех пор, пока, дрожа, буквально не бросился ему в руки.
– Цакуг, цыпленок, откуда ты? – воскликнул тот, прижав щенка к груди.
– Ты счастлив, Бакунин? – неожиданно спросил он.
Микаэль напрягся. Он не понимал, куда друг клонит. При других обстоятельствах он мог бы прочитать целую лекцию на тему о счастье, цитируя философов и мыслителей, он доказал бы все и тут же опроверг бы, но этот вопрос, такой прямой и личный, привел его в замешательство.
– Ду… думаю, что да, – пробормотал он наконец.
Азнавур кивнул.
– Хорошо, что он позвонил тебе.
– Томмазо?
– Да. Ты часто его видишь?
– Мы виделись пару месяцев назад, он был в Риме по работе.
Микаэль достал из кармана портмоне и вынул фотографию.
– Это последняя, – сказал он и протянул фотографию другу.
Эмиль повернул фотографию к свету и внимательно ее рассмотрел: отец и сын казались сверстниками.
– Красивый парень, – сказал он.
– Мужчина, – уточнил Микаэль.
– Да. У него есть что-то от тебя, но мне все-таки кажется, что он больше похож на Франческу.
– Ну, это же ты у нас физиономист.
– Он продолжает ту же работу?
– Да. Переводчик высокого уровня.
– Ты говорил мне, что он прекрасно говорит на семи языках.
– Да, особенно на русском. Кажется, теперь он очень востребован.
– Он тебя превзошел. Ты говоришь на пяти.
– Превзошел.
Два друга помолчали немного. Ромео время от времени тихонько вздрагивал и скулил – ему что-то снилось.
– Завтра съездим в Центр.
– О’кей.
– На случай, если чего-то будет не хватать, потому что в воскресенье трудно что-либо найти.
– Конечно.
– Знаешь, – продолжал Эмиль, – Роз – королева диаспоры, вернее, она ею стала.
– Сколько ей лет?
– Сороковник, но выглядит что надо.
– Она из Еревана?
– Да, акцент выдает. Приехала лет десять назад вместе с пожилой матерью, много пережившей, которая умерла год спустя.
Микаэль смотрел на него из-под тяжелых от усталости век.
– Потом вышла замуж за Акопа Бедикяна, он тоже из Еревана, но давно живет в Торонто. У него уже была своя фирма по пошиву одежды, но с ее приездом, а она женщина напористая, им удалось максимально раскрутиться. Это она все решает. Создает модели одежды, контролирует создание выкроек, выбирает цвета. Этим летом ей посвятили статью в «People’s Magazine», в воскресном приложении. «Сбывшаяся канадская мечта» называлась, с фотографиями госпожи в ее имении Форест Хиллс. Понимаешь?
– Счастливая. А вы друзья?
– Нет. Я бы сказал, знакомые.
– Тогда почему она позвонила тебе домой и в такой поздний час?
– Ну, весной, когда они переехали в этот свой замок Форест Хиллс, она попросила меня ангажировать известного тенора для праздника новоселья. Я ей помог, вот и все. Вероятно, она поздно узнала о моем дне рождения, но все равно захотела поздравить. Она очень щепетильна в этикете, – добавил он.
Микаэль постарался подавить зевоту.
– Пойдем спать, Азнавур, я начинаю чувствовать тяжесть перелета.
– Это тебя года тяготят, Бакунин, – пошутил друг, и они рассмеялись.
21
– Спасибо, спасибо, – благодарил Микаэль, стараясь жестом унять аплодисменты. – Эмиль преувеличенно красиво представил меня. Но я его понимаю, – продолжал он, повернувшись к другу, который как раз занимал место в первом ряду партера, – это он мне льстит, чтобы я не выдал секреты из нашей жизни в колледже.
В партере засмеялись.
– Спасибо еще раз.
В этот воскресный вечер зал Культурного центра Торонто был полон зрителей. Даже коридоры были забиты теми, кто не нашел свободного места и был вынужден стоять. В мероприятии принимали участие все известные представители армянской диаспоры в Канаде, а также гости из Соединенных Штатов и посланники Североамериканской апостольской церкви. Заместитель мэра сидел рядом с архимандритом, отцом Гевондом, прилетевшим из Нью-Йорка по такому случаю.
Голос Микаэля, сильный и чистый, перекрывал аплодисменты, которые то и дело взрывались в зале.
– Но если подумать, не знаю, право, что скучнее, рассказы из нашей молодости или речь, которую я собираюсь произнести.
Снова аплодисменты и смех в зале.
– Я прилетел позавчера в эту прекрасную страну, сейчас немного одуревший от джетлага, еще не пришел в себя окончательно, и, если кто-то спросит у меня, который час, я отвечу: как минимум два часа ночи. Так что будьте снисходительны, если находите, что у меня вид человека, которого только что подняли с постели.
– Браво! – крикнули из партера и засмеялись.
– Не так давно в Париже, – продолжал Микаэль более серьезным тоном, – я познакомился с одним маленьким мальчиком, – и он показал рукой рост мальчика на уровне своего бедра. – «Привет! – сказал я ему по-армянски. – Как тебя зовут?» Для меня было естественным говорить с ним на нашем языке, тем более что мы находились в Армянском культурном центре. И знаете, что он мне ответил? «Je m’appelle Armén, mais je ne parle pas l’arménien».
Микаэль помолчал несколько секунд, дав возможность людям в зале понять смысл сказанного. В зале стояла тишина.
– Да, господа, этот мальчик сказал мне: «Меня зовут Армен, но я не говорю по-армянски». Тогда я спросил его: «Почему?» И он ответил: «Потому что в Париже больше нет армянской школы». Этот мальчик не говорит на родном языке, хотя и носит имя, которое связывает его с исторической родиной, только потому, что во французской столице нет больше школы для армян… – Он прервался на мгновение и затем повторил, скандируя каждое слово: – Нет больше школы для армян!
В зале зааплодировали.
– Я, – воскликнул Микаэль, приложив руку к груди, – получил аттестат зрелости в колледже мхитаристов в Венеции. Признаться, не знаю, кем бы я был, какого человека вы лицезрели бы перед собой сегодня вечером, если бы я не окончил это легендарное заведение. Меня воспитали педагоги, чьи наставления я до сих пор помню, и я несу в себе знания литературы, поэзии, музыки моего народа. Этим ни с чем не сравнимым духовным богатством я обязан отцам-мхитаристам, тем усилиям, которые они приложили, чтобы привить мне то, что каждый молодой человек должен чувствовать: гордость от принадлежности к своему народу. И эту ценность, дорогие друзья, мы постепенно теряем, – добавил он, качая головой.
Послышались вздохи и бормотание, но Микаэль продолжал с решимостью:
– Наши дети подвергаются новому геноциду, «белому» уничтожению. Оно бескровно, не переполнено страданиями, в нем нет зримого врага, в нем нет даже турок, которые нападали бы на них. Но, несмотря на это, результат получается тот же – исчезновение, уничтожение армянского народа. Сегодня, к сожалению, над нашими головами висит дамоклов меч. Нашему выживанию, нашей самобытности угрожает острый клинок, который держится буквально на конском волоске. – И он поднял голову, будто искал меч, о котором говорил.
– Лопнет ли этот конский волосок или нет, зависит от нашего сознания, от нашего желания.
Азнавур вздрогнул. Ему было неловко поддаваться чувствам, но он растрогался, как мальчишка, от речи друга. Было в Микаэле нечто такое – он почувствовал это уже давно, – что делало его особенным, когда он выступал перед аудиторией. Врожденный дар, способность зажигать и потрясать своих слушателей.
– Мы не можем позволить, чтобы это произошло. Мы должны действовать! Немедленно! – восклицал его друг, перекрывая взрыв аплодисментов в зале.
– Колледж «Мурат-Рафаэль» закрывается. Моя, наша школа, школа наших отцов, наших детей корчится в агонии, – продолжал он, пронизывая взглядом публику. – Поможем ей! Уильям Сароян, известный писатель, которого все мы прекрасно знаем, был поражен в момент, когда вошел в стены колледжа. «Это подлинный храм армянской культуры», – сказал он, чувствуя, как только он один мог чувствовать, сущность этого места.
Так поддержим же этот храм, пока он не рухнул! Поможем из любви ко всем тем писателям, философам и ученым, которым колледж «Мурат-Рафаэль» предоставил наилучшие возможности проявить свой талант. Поможем ему в память о тех апостолах, что несли в мир простую, но главную мысль: несмотря ни на что, мы, армяне, еще существуем.
Собравшиеся слушали Микаэля как завороженные, более пятисот человек затаили дыхание в почтении и волнении.
– А теперь, дорогие айренагиз, я бы хотел завершить свое выступление строками одного из наших самых известных поэтов и тоже, кстати, выпускника венецианского колледжа, Даниела Варужана. Его стихи сопровождали меня с самых юных лет, учили меня любви и надежде. Я посвящаю их вам от всего сердца.
Микаэль приблизился на несколько шагов к краю сцены, отойдя от пюпитра. Он застегнул пиджак, выпрямился и начал:
Сейте, сейте даже вдали от границ! Как звезды, как волны, сейте! Что с того, если походя кто-то ненароком растопчет зерно? Бог вместо них посеет жемчужины.Взволнованные овации покрыли последние слова Микаэля. Это был триумф.
– Бакунин!
Мужчина атлетического телосложения, уже немолодой, звал его из толпы у буфета. У него были взъерошенные, местами выгоревшие на солнце волосы. Поверх костюма для игры в гольф был надет френч цвета хаки, который был ему заметно мал.
Микаэль сжал бокал, который держал в руке, стараясь понять в окружавшей его суматохе, кто этот тип. Люди окружили его, желая познакомиться с ним лично, поблагодарить за отличное выступление, обменяться мнениями о будущем армянской диаспоры.
– Я привез тебе подарок, – шепнул ему кто-то на ухо. Это был незнакомец, который пробрался к нему, расталкивая толпу.
Микаэль вздрогнул от неожиданности и посмотрел на мужчину с удивлением и любопытством.
Первое, что он узнал, был дерзкий взгляд, почти вызывающий, который даже время не смягчило.
– Дик?
– Твой френч… – пробормотал тот, пока с трудом снимал куртку. – Черт, он всегда был мне тесен, – сказал он, справившись наконец с френчем.
Микаэль заметил легкое дрожание в его руке и уязвимость во взгляде, которую Дик всегда умело скрывал за повадками хулигана. Он даже не взглянул на френч и крепко обнял друга.
– Да, правда, и мне тебя очень не хватало, – сказал он.
Азнавур стоял в нескольких шагах от них, заметно растроганный, и, когда увидел, что Микаэль заметил его, тут же скрылся в толпе. В веселой праздничной толпе, пребывавшей в полном неведении о том маленьком чуде, которое здесь только что свершилось.
– Ты знал и ничего мне не сказал!
– Он позвонил мне всего пару часов назад из аэропорта Детройта и сказал, что прилетает, – оправдывался Эмиль.
Три друга уединились в сторонке и болтали, возбужденные встречей спустя много лет.
– Спасибо, что приехал, – сказал Микаэль Дику.
– Ну, рано или поздно я должен был вернуть тебе этот френч.
– Надеюсь, он принес тебе удачу, – добавил Микаэль.
– Да, у меня хорошая работа и двое замечательных детей, мальчик и девочка.
– Перед тобой президент гольф-клуба Детройта, а точнее, страшный бизнесмен.
– И подумать только, что его звали «вор»… – пошутил Микаэль.
Три друга засмеялись.
– Я узнал, что у тебя есть сын.
– Да, Томмазо.
– Сколько лет?
– Тридцать семь… Да, тридцать семь, – ответил Микаэль.
– Вот повезло, а мне еще долго ждать, пока мои повзрослеют, – заметил Дик.
– Да он всегда был ранним, – отозвался Азнавур.
– Знаешь, вот когда ты выступал сейчас, то сказал одну фразу, которая меня глубоко тронула. Что-то вроде «я сформировался как личность благодаря наставлениям, которые получил в этой школе». Я с тобой полностью согласен. Я сам, хоть и оказался дезертиром, считаю себя осененным печатью отцов-мхитаристов.
– Что верно, то верно, ты больше никогда не крал, – кивнул Азнавур, которого всегда немного раздражали разговоры о колледже.
– Туше! – воскликнул Микаэль.
– Знаешь, почему в тот вечер я украл твой плащ? – продолжал Дик невозмутимо.
– Ну, я всегда думал, что у тебя просто не оказалось ничего другого под рукой, чтобы защититься от ливня, – ответил Микаэль, пожав плечами.
Его друг улыбнулся.
– Ошибаешься, причина была в другом. Я знал, что мне придется нелегко, что у меня было мало шансов, и тогда я взял его как амулет. Я всегда считал тебя хорошим парнем, чистым ангелом, сошедшим на Землю. Мне нужно было чувствовать, что ты рядом со мной, так или иначе.
Микаэль мельком взглянул на френч, который держал в руке.
– Знаешь, я думаю, что теперь он твой, – сказал, накинув его на плечи Дика.
– Он прав, – согласился Азнавур, – и потом, этот френч тебе больше идет.
И три друга снова засмеялись.
– Эмиль, – вдруг позвал женский голос, хриплый и решительный, который Микаэль сразу же узнал.
– Роз! – воскликнул Азнавур, направившись к ней и обняв вежливо, но формально. – Как поживаешь? Идем, я представлю тебя моему другу Микаэлю.
– Извини, – оправдывалась она, протягивая руку Микаэлю, – но я приехала, когда в зале уже выключили свет, и не смогла поприветствовать тебя раньше.
Микаэль сразу заметил необыкновенный цвет ее глаз: тимьяновый мед, освещенный солнцем. Странно, но таким же был и аромат, исходящий от нее. У Роз была очень светлая кожа и полные блестящие алые губы. Длинные, до плеч, прямые волосы были такие черные, что, казалось, отсвечивали темно-синим блеском. Она была высокая и стройная, с узкими бедрами, которые лишь подчеркивали полную грудь, выглядывавшую из декольте.
– Как поживаешь, Роз? – спросил Микаэль, не в силах оторвать от нее взгляда.
– Теперь лучше, но раньше, там, в зале, – она сделала жест рукой в сторону, – я так резко почувствовала собственное ничтожество. Каждое твое слово было, как стрела, направленная в сердце, я чуть не расплакалась.
– Да, ты права, – вмешался Дик. – О, извини, я – Дикран Самуэлян из Детройта, – представился он.
– Роз Бедикян.
– Знаю, я недавно читал статью о тебе.
Женщина улыбнулась.
– И тогда я спросила себя, – продолжила она, – какой смысл быть армянами, если мы не будем бороться все вместе, чтобы сохранить нашу культуру и нашу общую память. Твоя борьба, дорогой Микаэль, это и моя борьба тоже, наша общая борьба, и я хочу помочь тебе.
Азнавур бросил беглый взгляд на друга, который не проронил ни слова, лишь слабо улыбаясь.
– Я решила организовать прием у себя дома для сбора средств. Я уже переговорила с Акопом, моим мужем. Он приносит извинения, что не смог приехать: один из наших детей, Торос, болеет, и у него высокая температура.
– Сколько у тебя детей? – спросил Микаэль.
– Двое. Ты познакомишься с ними на приеме. Эмиль, ты поможешь мне его организовать? Я уверена, что все должны внести свою лепту, независимо от того, армяне они или нет. Колледж – это учебное заведение высокого международного культурного уровня, достаточно открыть любой путеводитель.
– Прекрасная идея! – воскликнул Азнавур.
– Мне очень понравилось, как ты цитировал Сарояна, дорогой Микаэль: храм армянской культуры. Он великий, он мастер. Книга «Отважный молодой человек на летающей трапеции» всегда была моей любимой. И для моей семьи тоже. Она была книгой моего детства, не слишком счастливого. – Голос ее дрогнул, но она постаралась скрыть это, кашлянув. – Извините, я тут попробовала боерек, и, вероятно, какая-то крошка застряла в горле, – сказала она и снова улыбнулась.
Дик взял бокал вина с подноса у проходившего мимо официанта и протянул ей.
– Никакого алкоголя, – ответила она, отклонив бокал рукой, и на ее безымянном пальце сверкнул крупный изумруд.
Микаэль рассматривал ее одежду. На ней было зеленое платье простого покроя, чуть выше колена, и замшевые балетки того же цвета.
– Я думаю устроить прием в следующую пятницу. Знаю, что ты уезжаешь в воскресенье, – продолжила Роз, обращаясь к Микаэлю.
– Спасибо, мне кажется, это отличная идея.
– В пятницу будет немного проблематично, у меня концерт группы, – вмешался Азнавур.
– Ну, тогда сделайте прием в субботу, – посоветовал Дик, потягивая вино из бокала.
Роз покачала головой.
– Это невозможно, пятница – самый подходящий день, я хочу пригласить людей, которые обычно на выходные уезжают в свои коттеджи на озера.
Друзья растерянно переглянулись.
– Тогда нам не остается ничего другого, только пятница, – сказал Микаэль тоном, в котором сквозила ироничная нотка.
– О’кей, – сдался Азнавур, – пусть будет пятница. В сущности, тебе, Роз, не нужно мое присутствие, достаточно присутствие нашего заклинателя, – сказал он, обняв за плечи друга.
Роз улыбнулась, довольная, демонстрируя щелочку между передними зубами: дефект, который делал ее еще обаятельнее и необычнее.
Было уже десять вечера, и Культурный центр почти опустел.
Микаэль еще долго болтал со своими соотечественниками. Молодые и старые звали его просто для того, чтобы обменяться парой слов. У каждого была своя история, которой хотелось поделиться с ним. Некоторые были выходцами из Ирана, уехавшими оттуда после падения режима шаха, другие приехали из Ливана, растерзанного бесконечными войнами, иные – из Турции, которой больше нельзя было доверять, многие – из Сирии, где тоже нельзя было ожидать ничего хорошего. Но большинство были выходцами из Армении.
Советский Союз уже несколько лет подавал признаки разложения, и реформы, названные «перестройкой» и «гласностью», привели к его окончательному распаду. Небольшие прибалтийские республики, входившие в состав Союза, выдвинули притязания на независимость, и заявление о суверенитете со стороны Армении было уже неизбежным. Политическая нестабильность и экономическая неопределенность, которые царили в стране, вызвали поток иммиграции в Северную Америку, и Канада была вожделенной целью.
– Шестнадцать тысяч двести долларов, – объявил Азнавур, садясь рядом с Микаэлем.
– Что-то около тринадцати тысяч настоящих долларов, то есть американских, – уточнил Дик, потягивая уже второй бокал вина.
– Нет, мы их уже конвертировали в американские доллары, – поправила Дом, заметно уставшая от всей этой регистрации пожертвований.
– Они будут уже на счету колледжа, когда ты вернешься, я отправлю тебе по факсу все данные, – добавил Азнавур.
– Спасибо вам за все, вы все были очень щедры. – Микаэль встал и сделал легкий поклон.
– Что они будут делать с такой суммой? Не думаю, что она может их спасти, – сказал задумчиво Дик.
– Нет, но это начало. И важное начало, потому что привлекает всю диаспору, внушает доверие, разжигает пламя, возбуждает интерес, который уже едва теплился, в отношении колледжа.
– Я согласен с Микаэлем, самое сложное – это восстановить доверие, – заметила Дом.
– Па! – позвал Матиас. Он прибежал, запыхавшийся, в компании друга.
– Да?
– Гаро и я должны обязательно попасть на «Нирвану» в пятницу.
– Это невозможно.
– Ну, па, сделай нам такое одолжение!
– Барон Мегоян, прошу вас, это мои кумиры, – взмолился друг, стройный юноша с длинными до плеч волосами, одетый в джинсы, разорванные в нескольких местах и с бахромой в разрезе посередине штанины, из которого торчало костлявое колено.
– Вы слишком маленькие, вам нельзя.
– Да нет же, не в зале, мы могли бы остаться с тобой в бэкстейдже[69].
– Нопе. – Азнавур был непреклонен.
– Прошу тебя, па.
– Послушай, Матиас, у тебя есть еще целая неделя, чтобы убедить твоего отца, – вмешалась Дом. – Милый, мы возвращаемся домой, я сама выгуляю Ромео, – добавила она, ища в сумочке ключи от машины.
Потом она вышла из зала вместе с двумя мальчиками, но спустя некоторое время на пороге снова возник Гаро.
– Господин Делалян, отличная речь, – сказал он, подняв большой палец. – Но вы забыли сказать, что первая школа – это семья, я выучил армянский дома.
Микаэль собрался было ответить ему, но парнишка уже исчез.
– Их не обманешь, а? – подтрунил над ним Дик.
Микаэль покачал головой.
– Эта сегодняшняя молодежь… – проворчал Азнавур.
– Переходный возраст – ужасная вещь, вон на моих смотрю… – добавил Дик.
– Представляете, Матиас хочет стать рок-звездой.
– И ты будешь возить его по всему свету, как отец Джексона, – пошутил Дик.
– Ну, Эмиль вообще-то хорошо смотрелся с африканскими завитушками, ты что, не помнишь? – засмеялся Микаэль.
– Мои вообще не знают, чего хотят, только веселье на уме, – пожаловался Дик.
– Да уж, – вздохнул Эмиль.
– Тут нужен был бы Волк… – сказал Микаэль, улыбаясь.
– Бакунину повезло, он получил сына уже взрослого, – бросил Дик.
– Ну, если хочешь знать, – ответил Микаэль, – это было не так-то просто. Я предпочел бы видеть, как он растет.
– Это минное поле… – предупредил Азнавур.
– Нет, больше нет, – заверил его Микаэль, поправив длинные седые волосы. – Я уже давно признался себе, что это мое поражение.
Два друга смущенно опустили глаза, признание Микаэля было таким искренним, что они почувствовали себя неловко.
– Хорошо, что ты заговорил об этом, я хочу разделить с вами свой опыт. Вы ведь мои друзья.
– Нет, я не хочу этого слышать, – возразил Азнавур.
– Не будь говнюком. Если он хочет… Мы здесь одни, посмотри, вокруг ни души.
– Ну хорошо, – вздохнул Эмиль, – но только если вы мне позволите закурить сигару, – пробормотал он и полез в карман пиджака.
– Итак, ровно… – начал Микаэль, быстро подсчитав в уме, – семь с половиной лет назад, второго февраля 1984 года, в магазине зазвенел входной колокольчик. Было почти два часа дня, и это было странно: клиент пришел в такое время, когда у нас был обеденный перерыв. Но, как вы говорите, business is business, и я пошел открывать, удивленный и немного раздраженный. Я вгляделся в витрину и увидел молодого мужчину, который терпеливо ждал на ступеньках магазина. Я уже хотел было проигнорировать его, когда он снова позвонил.
«Кто этот надоеда?» – подумалось мне.
– Что вам угодно? – сказал я, чуть приоткрыв дверь. Молодой человек помолчал несколько секунд, и мне показалось, что он изучает меня в щелку. – Магазин закрыт, – предупредил я и хотел закрыть дверь.
– Простите, вы синьор Делалян? Микаэль Делалян? – заговорил он наконец.
– Да.
– Простите за беспокойство, но я не в магазин пришел, на самом деле… я пришел к вам.
Я внимательнее рассмотрел его: ему было не более тридцати лет, правильные черты лица, стройный, одет хорошо, без напускной элегантности.
– У меня не так много времени. Если дело займет несколько минут, то прошу, проходите, – ответил я и распахнул дверь.
«Наверняка какой-нибудь журналист из районной газетки», – подумал я, учитывая, что как раз в то время с успехом вышла моя первая книга.
Мы устроились в кабинете, надо сказать, это просто уголок в магазине, куда я поставил письменный стол, который привез из монастыря Гегард в Армении.
– Я слушаю вас, дорогой синьор?..
– Меня зовут Томмазо, – представился молодой человек, ничего не добавив и разглядывая мебель и старинные предметы, пока не остановился наконец на почерневшей от времени иконе, висевшей на стене. Казалось, он искал у нее поддержки, чтобы продолжить разговор.
– Вы хотите поговорить о моей книге? – спросил я его.
– Нет, синьор, хотя я ее прочитал и она мне очень понравилась, но я не могу комментировать, поскольку я тут необъективен.
– Как это понимать? – спросил я.
– Видите ли, мне понадобилось несколько лет, чтобы решить: стоит прийти сюда и познакомиться с вами или нет, – ответил он.
– Послушайте, Томмазо, не томите, переходите к главному, ко мне скоро должны прийти клиенты, – сказал я уже несколько раздраженно.
Молодой человек нервно заерзал на стуле.
– Сегодня – мой день рождения, – пробормотал он, – я родился ровно тридцать лет назад, в 1954 году. – Я слушал его в растерянности. – Я обещал себе сделать необычный подарок в этом году, все-таки тридцать лет – это важная веха… Нечто такое, о чем я мечтал уже давно, но все не решался сделать.
Его голос, глубокий, мягкий, искренний, иногда подернутый легкой грустью, произвел на меня впечатление. Потом я заметил, как его глаза сверкнули, как множество янтарных брызг, и сердце мое екнуло. Это было не прозрение и даже не подозрение, а просто далекая схожесть с одним взглядом, который я похоронил в своей памяти.
– Моя мать говорила, что это вы познакомили ее с кока-колой, а также с классической литературой и великими музыкантами. Но самое главное, вы научили ее быть самой собой, несмотря на запреты и табу тогдашнего воспитания, и отстаивать свое мнение, даже если никто не принимал его всерьез. И еще она рассказывала мне… – Томмазо прервался, но я продолжал смотреть на него с пониманием и волнением. – Она говорила мне еще, – сказал он наконец, почти перейдя на шепот, – что вы были ее ангелом, ее архангелом Михаилом… Что было время, когда ее сердце билось только для вас, и что она была вам благодарна, потому что вы сделали ей самый большой подарок, какой только мужчина может сделать женщине, – вы подарили ей свою любовь вместе с сыном.
Затем Томмазо поднялся и встал напротив меня. Я был так потрясен, что мне пришлось опереться на стол, чтобы удержаться на ногах. Я подошел к нему почти вплотную, желая обнять его и попросить прощения. Но я не смог.
– Что ты хочешь сказать? – пробормотал я.
Томмазо улыбнулся, и это была улыбка облегчения.
– Если моя мать, Франческа, рассказала мне правду, думаю, что вы – мой отец.
И наконец меня отпустило, я последовал инстинкту и крепко обнял его.
И должен вам сказать, друзья мои, что в этот момент я почувствовал в магазине забытый волшебный запах: аромат апельсиновых цветов. Аромат моей Франчески.
22
– Что за тип этот Делалян, который тебе так нравится?
Акоп Бедикян сидел в зале заседаний фирмы «Rose & Co». В то утро ему потребовалось на одевание больше времени, чем обычно. Приезжали американцы, с которыми намечалась крупная сделка, и он хотел произвести хорошее впечатление.
– Весьма обаятелен, – ответила Роз, разглядывая журнальные вырезки в book для презентации.
– Как на обложках своих книг?
Жена подняла глаза и уставилась на него с лукавой улыбкой.
– Даже больше, – провоцировала она его, – он очень sexy с такими длинными седыми волосами, – добавила она, моргнув своими прекрасными медовыми глазами.
Акоп поправил узел галстука, и Роз внимательно его осмотрела: в костюме из гризайля, в белой рубашке с запонками и узких парадных туфлях ее муж походил на английского лорда. «Идеально, даже чересчур, – подумала она. – В настоящей элегантности всегда есть что-то небрежное».
Она встала и приблизилась к Акопу, обойдя стеклянный стол.
Он поставил свою чашечку кофе.
– Какая ты красивая… – прошептал он с искренним восхищением и любовью.
Роз остановилась и оперлась коленями в его вращающееся кресло. Акоп протянул руку, обхватил ее бедра и прижал к себе, ласково погладив их ладонью. Жест почти незаметный, но она вздрогнула от удовольствия.
– Как думаешь, они сразу подпишут бумаги, если увидят, как мы занимаемся любовью на столе? – пошутила она.
– Мы можем вернуться в офис и закрыться на ключ, они все равно раньше чем через полчаса не приедут.
– Только полчаса? – пошутила она, приподняв брови. Потом отодвинулась от мужа и села рядом. – В пятницу вечером… хочу сделать все стильно, – сказала она, сжав его руку, лежавшую на столе.
– Yes, maàm, – обнадежил он ее, – Лью-хо обзвонила каждого из «Золотой телефонной книги». Некоторые уже ответили согласием.
– Лучше, если я все-таки проверю сама, вместе с Лью.
Хоть она и не сомневалась в эффективности кантонской секретарши, Роз хотела лично проследить за приготовлениями к приему – она придавала ему слишком большое значение.
– Отчего вся эта суматоха из-за какого-то колледжа по ту сторону океана?
Роз встала и подошла к окну. Она боялась высоты, но все равно время от времени смотрела вниз с двадцать третьего этажа, на котором располагались офисные помещения их фирмы. Ее психоаналитик объяснил, что она делает это, чтобы напоминать себе, каких высот достигла. Ерунда: на самом деле ей всегда нравилось бросать себе вызов, преодолевать свои страхи и слабости.
– Все-таки это место стоит каждого доллара, который мы за него платим! – воскликнула она перед захватывающим дух видом.
– Ты не ответила на мой вопрос.
Она повернулась, отбросив волосы, стянутые в хвост, и Акоп заметил искорку, блеснувшую в ее взгляде: когда он видел ее такой, то знал, что она не отступит.
– Потому что Делалян меня убедил. Такой ответ тебя удовлетворит?
Он улыбнулся: это было предложение выложить карты на стол.
За десять лет супружеской жизни Роз поняла, что искренность в отношениях была главным и необходимым условием, поэтому сдалась.
– Ну хорошо, – сказала она, – ты помнишь Маклиана?
– Эдварда Маклиана? Журналиста?
Телефон в зале заседаний зазвонил.
– Я отвечу, – сказала она и подняла трубку. – Спасибо, Лью, передай мне его… Алло? – Она слушала некоторое время, потом губами, не произнося ни звука, дала понять мужу: «Гонконг». Тот посмотрел на часы и скривился: казалось, китайцы никогда не прерывались на отдых.
– Послушайте, Чан, я готова посмотреть товар. Когда, вы говорите, он прибудет? О’кей, вот что мы сделаем: я проверю все образцы до одного. Если цвет, как вы утверждаете, приближается к фиолетовому, мы поговорим об этом. В противном случае отправлю вам все обратно. Я специально ездила туда лично, чтобы проверить возможность получения этого оттенка. Я не люблю сюрпризов, понятно?
Акоп услышал, как на другом конце провода голос просил о чем-то. Роз озорно подмигнула ему.
– Сделаем в полцены. Если вы мне снизите цену вдвое, я возьму все прямо сейчас, – отрезала она. – О’кей, об остальном переговорите с Лью. Спасибо, до скорого! – завершила она разговор и повесила трубку.
– А если не подойдет? Если все хуже некуда? – подначил ее Акоп.
– Кто согласен получать за свою работу полцены, согласится и на четверть. В крайнем случае не будем этикетировать, продадим на рынках, посмотрим, словом, – ответила она решительно, слегка зардевшись.
Муж покачал головой.
– Делай, как знаешь. Что ты говорила мне о Маклиане?
Роз посмотрела на него задумчиво.
– Маклиан? Ах, да. В последнем интервью «People’s» он задал мне вопрос off the record[70]. «Это очень деликатный вопрос, миссис, – сказал он. – Правда, что у вас было несчастное детство, что ваша семья была разбита? Что ваш отец был сослан в Сибирь?» – Роз прервалась, будто ей не хватало духа продолжать.
– И что? – спросил Акоп. – Поэтому ты хочешь помочь Делаляну?
– И поэтому тоже, но не только. Я уверена, что сегодня недостаточно быть богатыми. Напротив, думаю, что деньги должны служить для того, чтобы можно было стать… не знаю, художником, философом, писателем, меценатом… Словом, человеком, которого уважают за то, что он есть, а не за то, сколько у него есть.
Акоп слушал ее несколько растерянно.
– Я хочу сказать, что быть богатым, только богатым, – это не… комильфо, – обобщила она. – Даже напротив, – решила она уточнить, – это вульгарно.
– Да ты что! – воскликнул Акоп ехидно.
Роз повернулась к нему спиной, и он перестал смеяться.
– Знаешь, в тот день я хотела ответить Маклиану: «Да, дорогой Эдвард. И я борюсь в первых рядах, чтобы этого больше не повторилось, чтобы не было больше разрушенных семей на моей родине. И с этой целью я создала фонд «Rose Foundation», чтобы конкретно помогать тем людям в моей Армении, кто нуждается в помощи и кто борется за ее независимость от России. Видите, какая благородная цель. А теперь напишите это».
– Любимая, ты вне себя.
Она резко повернулась и продолжала, подняв указательный палец:
– Людям все равно, есть ли у тебя крупный счет в банке. Чтобы тобой восхищались, они должны знать, что ты делаешь с этими деньгами, куда ты их инвестируешь, с какой целью. А потом уж любой Маклиан сможет писать длинные душещипательные статейки, которые сделают благородным какой бы то ни было наш поступок. И если кто-нибудь вдруг усомнится в легитимности наших доходов, потому что мы эксплуатируем страны третьего мира и все такое прочее, мы будем уже неприкосновенны.
– А колледж-то тут при чем?
– Это только начало. Я хочу связать свое имя со значимым и благородным делом. И не забывай, что это было одно из самых престижных армянских учебных заведений, в котором учились выдающиеся люди, ставшие известными потом во всем мире.
Акоп задумался над тем, что говорила ему жена.
– Иными словами, получается: не хочу только золото, но хочу еще и славу, – заговорщически подмигнул он ей.
Роз всегда удивляла его, с самого первого дня их знакомства. Эту женщину, уже не молоденькую, он встретил в Культурном центре, как и множество других беженцев из советской Армении. Благодаря новому закону, принятому при президенте Рейгане, в тот год, 1980-й, десятки тысяч армянских беженцев «причалили к берегам» Соединенных Штатов. Часть из них решила переселиться в соседнюю Канаду.
Это была высокая стройная женщина с гордой осанкой. Весь ее вид говорил, что она не удостоит тебя даже взглядом, если только ты не принц или магнат. «Кто это?» – шептались члены диаспоры, когда она проходила мимо, но на этот вопрос никто не мог ответить исчерпывающе. Знали только, что ее зовут Роз, уже само по себе странное имя для армянки, и что она приехала из Еревана с пожилой больной матерью.
Первый раз они обменялись двумя словами в Центре, на маленькой кухне, где стояли автоматы по раздаче напитков и легких закусок в пакетиках. Акоп открыл дверь и увидел Роз, которая искала в сумочке монетки для автомата. Она даже не подняла глаз, чтобы посмотреть, кто вошел.
– Привет, – сказал Акоп.
– Привет, – ответила Роз, пересчитывая монетки.
– Мы тут встречались уже пару раз, – продолжал он.
Она просто кивнула головой.
– Меня зовут Акоп, – представился он, – и я знаю, что тебя зовут Роз.
Она медленно подняла глаза. Акоп сглотнул: это было все равно что смотреть в море золотившейся ржи.
– У тебя есть полдоллара? – спросила она с невозмутимым видом.
– Да, должно быть, есть где-то, – ответил он, пока думал, что сейчас вот-вот потеряет сознание. Он достал единственную монету из кармана в надежде, что ее хватит на то, чтобы купить напитки для двоих. – Что ты будешь? Я угощаю.
– Перье[71], спасибо, – сказала она, заказав самую дорогую воду, что была в автомате.
Пока утоляли жажду, прислонившись к автомату, постепенно разговорились.
– Ты тоже из Еревана?
– Да, что, так слышно? – спросил он, покраснев.
– Немного. Что ты здесь делаешь?
– У меня маленькое дело по пошиву одежды.
Роз изменилась в лице.
– Правда? А я окончила швейный техникум и создаю модели одежды.
– Модельер?
– Вот именно.
– А где ты работаешь?
Она пожала плечами.
– В данное время работаю секретаршей в фирме по импорту-экспорту. Им нужен был кто-то, кто говорит по-русски.
– Ты живешь здесь поблизости?
– В Скарборо, – сказала она, имея в виду северный квартал города, в котором массово проживали беженцы из-за скромной арендной платы. – В двухкомнатной квартирке, моя мать и я.
Акоп присмотрелся к одежде Роз. «Как одевается модельер?» – подумал он и с удивлением отметил, что просто: длинная широкая трикотажная юбка, хлопчатобумажная блузка без рукавов, спортивные туфли на низком каблуке. Она была решительно против модных веяний, в отличие от других беженок, которые предпочитали пышный, даже помпезный стиль. Казалось, что Роз хочет заявить ясно и четко: «Прошу вас, не обращайте на меня внимания или хотя бы старайтесь».
– А ты?
– О, извини. В центре, на Янг-стрит. Живу один.
– Отлично, – сказала она, поставив бутылку. Потом выпрямилась и слабо улыбнулась ему, показав щербинку между зубов.
– Может, мы сможем… – пробормотал Акоп еле слышно, совершенно растерявшись от влечения, которое испытывал к этой женщине, такой необыкновенной.
– Что?
Он достал из заднего кармана джинсов визитную карточку.
– Это номера моих телефонов, – сказал он, протягивая ей карточку, – нижний – номер моей фирмы.
– «Smart Clothes»[72]?
– Да.
– Смешное название, – сказала она с легкой укоризной.
– Тебе не нравится?
– Мне кажется, оно не слишком коммерческое.
– Да, я недолго над ним задумывался. Давай обсудим, если хочешь.
– О’кей! В какие дни ты наиболее свободен?
– В понедельник вечером?
– Хорошо, – ответила Роз и засунула визитную карточку в кармашек блузки.
Она позвонила в следующий понедельник:
– Хочешь пропустить стаканчик в Йорквилле? – И когда Акоп, запыхавшийся, примчался на свидание, он заметил у нее под мышкой картонную папку.
Потом, когда она стала его женой, и еще много лет спустя Акоп часто спрашивал себя, почему она позвала его на то свидание. Потому ли, что действительно хотела вновь увидеть, или это был просто повод, чтобы показать ему свой book, полный набросков и рисунков? Выполненные в интересной манере и оригинальном стиле, они могли составить целую коллекцию одежды.
Бар «Bemelman’s» в самом центре Торонто был любимым заведением деятелей шоу-бизнеса, а также многих политиков и деловых людей. Интерьер в отличном нью-йоркском стиле был вечно погружен в полутьму. Большая стойка с отделкой латунью, черные лакированные столы и стулья, старые зеркала на стенах и множество обаятельных официантов сплошь в ослепительно белых рубашках и черных брюках – все привлекало посетителей.
– Во сколько ты мне обходишься, Бакунин! – пошутил Азнавур, обняв его за плечи.
Они только что вошли, и красивая девушка азиатского происхождения сразу же подошла к ним.
– Вы забронировали?
– Да. Мегоян, столик на троих.
– О, конечно! – воскликнула она. – Вы ожидаете Биг Лучано[73].
– Тс-с-с, – пошутил Азнавур, приложив палец к губам. – Никто не должен об этом знать.
Девушка засмеялась.
– Прошу вас, идите за мной, – сказала она, взяв меню.
Они устроились в дальнем углу, самом темном в помещении. Из колонок доносился голос Мэрилин Монро: «I wanna be loved by you».
– Хочу поблагодарить тебя, – шепнул Микаэль.
– Dudu, bidù, – пропел Азнавур мелодию синхронно с голосом Мэрилин.
– Я не шучу, слышишь?
– Это всего лишь заслуга Дом. Это она позвала его, а главное, смогла уговорить прийти сюда без его менеджера.
– Дом идеальна.
– Она не идеальна, она идеальна для меня.
– Эта фраза…
– Да, я украл ее у тебя. Теперь-то могу себе позволить признаться в этом. Прошло почти сорок лет!
– Ну, я тогда ошибался.
– Да ты просто не дал Франческе возможность доказать тебе это!
Микаэль опустил голову.
– Я переживал тогда сумбурный период, и потом, мне было всего пятнадцать лет… – пробормотал он.
– Ты мог еще все восполнить, все-таки у вас сын. Почему ты не попытался?
– Когда я узнал о Томмазо, было уже слишком поздно. Мы стали чужими людьми.
– Люди меняются, и чувства тоже. – Азнавур откинулся на спинку стула и снял кепку. – Если хочешь знать, когда ты стал встречаться с Франческой, я очень переживал, ревновал тебя, нашу дружбу, и не хотел делить тебя ни с кем. Мне тоже было пятнадцать лет, и я должен был еще многому научиться.
– В котором часу у нас назначено? – спросил Микаэль, пытаясь сменить тему.
– Потом я увидел, что Франческа положительно влияет на тебя, успокаивает неугомонную часть твоей души, темную, мучающуюся, и тогда я принял ее, – продолжил Эмиль, не замечая попытки друга. – А когда узнал, что у вас была ночь любви, признаюсь тебе, я плакал. Мой друг стал мужчиной, сказал я себе, мы больше не равные. – Азнавур повертел кепку в чуть дрожащих руках.
– Для меня вы были самой прекрасной в мире парой, и я был уверен, дурак такой, что увижу, как вы вместе стареете, – добавил он, глядя другу прямо в глаза.
«Nobody else but you», – продолжала щебетать Мэрилин своим голоском, который никак не подходил к теме их разговора.
Микаэль откашлялся и сложил руки на столе.
– Хорошо, – вздохнул он. – Ты не знаешь, я никогда тебе не говорил, но я звонил ей. – Он прервался на мгновение, затем продолжил: – Ты помнишь Марину? Ее подругу? Так вот, я случайно встретил ее несколько лет спустя на площади Святого Марка, мы разговорились, и она сказала мне о сыне. Франческа переехала в Милан с матерью и ребенком. Тогда я попросил Марину дать мне номер ее телефона и позвонил.
– Подожди, когда, ты говоришь, позвонил?
– Это была Пасха в шестидесятом.
– Черт! Ему было шесть лет!
– Томмазо? Да.
– И что вы сказали друг другу?
– Ничего, я позвонил ей.
– Нет, – перебил его друг, – я хочу знать точно, что ты ей сказал.
Микаэль сделал вид, что набирает пальцем номер телефона.
– Алло?
– Алло, – ответила она.
– Привет, это Микаэль.
– Я знаю. – Она сразу же меня осадила.
– Марина дала мне твой номер.
– Я знаю, – сказала она холодно.
– Послушай, Франческа, я не знал, где искать тебя, я много раз приходил к твоему дому, но ставни были закрыты.
– Мои соседи знали, куда мы переехали, – перебила она меня. – Мы им оставили адрес. – Когда она молчала, я слышал на том конце провода веселый говорок ребенка.
– Как он?
– Хорошо.
– Можно мне поговорить с ним?
– Что ты можешь ему сказать? Если бы это было что-то важное, ты не ждал бы шесть лет!
– Не злись на меня.
– Я не злюсь, я просто разочарована.
– Мы можем встретиться, если хочешь, и попробовать все исправить.
– Микаэль, честно говоря, мы с тобой так далеки друг от друга, что единственное, что мы можем сказать, так это: «Счастливой Пасхи!» – И она повесила трубку.
– И ты больше не перезвонил? – спросил Эмиль с ноткой удивления и негодования.
Микаэль молчал.
– Никогда больше не звонил?
– Нет, – ответил тот, покачав головой.
Они молча стали изучать меню.
Прошло несколько минут, может, четверть часа, когда Азнавур, глянув в окно, шепнул:
– Вижу машину, которая паркуется здесь. – Он подался вперед, вытаращив глаза. – Это он, – сказал взволнованно. – Имей в виду, ты должен очаровать его, как только ты умеешь. Биг Лучано сомневается насчет подлинности дела, он только слышал о колледже и все. Ты должен его убедить. Было бы проще, если бы он спел в каком-нибудь учреждении или в фонде, а не в частном доме, но Роз не хотела слушать возражений. Да ты уже понял, какая она. У нее такая тонкая манера дать тебе понять: или так, или никак. Она просто прижала нас к стенке, Дом и меня.
Микаэль как раз собирался сказать «мне жаль», как Азнавур вскочил и воскликнул:
– Лучано, как я рад тебя снова видеть!
Великий тенор раскрыл объятия другу.
– Это Микаэль, – сразу представил Эмиль.
Все трое сели за стол и стали разговаривать о том о сем, особенно об опере и великих исполнителях.
В какой-то момент певец воскликнул:
– Вы, армяне, невыносимы, говорите на всех языках мира, а на итальянском лучше меня!
– Это все заслуга колледжа.
– Кстати, я хотел пару слов сказать об этой школе, – начал Микаэль.
– Я уже все знаю, его жена прочитала мне лекцию, – рассмеялся тенор, обращаясь к Эмилю. – Лучше поговорим о том, что будем делать. Дом сказала мне, что ты поешь и прекрасно играешь на фортепиано.
– Она мне польстила.
– Недавно я слышал один опус вашего религиозного композитора, Комитаса, если не ошибаюсь. Прекрасный хорал, Питер Гэбриэл хочет использовать его в фильме.
– «Дле Яман», все играется на дудуке?
– Точно, как там?
Микаэль смущенно запел первую строчку: «Дле Яман арев дибав Масис сарин».
– Прекрасно, – обрадовался тенор. – Можем спеть вместе, по строчке на каждого.
Микаэль быстро взглянул на Азнавура, который согласно кивнул.
– Отличная идея, Лучано! Мне кажется, гениально, правда, Микаэль?
– Конечно.
– Вы готовы заказывать? – спросил их официант елейным голосом.
– Что здесь подают? – спросил Лучано.
– Самый вкусный в мире луковый суп, – посоветовал Азнавур.
– Совершенно верно, вы можете попробовать просто суп или суп с жареными сухарями, – сказал официант, приложив шариковую ручку к губам.
– Но я на диете, – пробормотал тенор.
Официант сделал вид, что хмурится.
– Жаль. Что же тогда?
– И тогда я возьму… с жареными сухарями, – взорвался тенор типичным для эмильянцев[74] заразительным смехом, к которому присоединились и все остальные.
– Госпожа, хотите, чтобы я убрала сейчас фотографии с полок?
Лина, молодая молдавская домработница, повернулась с тряпкой в руке.
Роз задумалась на секунду.
– Нет, оставь их там, просто убери в других комнатах.
Basement, или по-другому полуподвал роскошного коттеджа Бедикянов, на самом деле был самым настоящим этажом, во всех смыслах. Огромное помещение, из которого можно было попасть в апартаменты для гостей, в крытый стеклянной крышей бассейн и в health spa с хаммамом и сауной.
Роз спустилась туда, чтобы проверить, как идет уборка дома. Она всегда так делала, когда рано возвращалась с работы, не потому что не доверяла домработнице, напротив, скорее потому, что та совала нос куда не следует. Basement был единственным местом, где она чувствовала себя не в своей тарелке: там хранилось много вещей, которые напоминали ей о несчастливом прошлом.
Часто она думала, что Акоп прав: она не должна была оставлять на виду ничего, что напоминало бы о том времени. Но она была упрямая женщина и не послушалась назло мужу. А он просто хотел сложить все в коробки и убрать с глаз долой, потому что эти вещи теребили ее и без того израненную душу. Может быть, со временем она и свыклась бы.
Когда Лина ушла, Роз приблизилась к шкафам и стала рассматривать фотографии в серебряных рамках, и хотя они были расставлены очень аккуратно, она все-таки поправила несколько, слегка коснувшись их пальцами. Кроме пары более-менее современных, это были в основном старые фото ее матери, брата и ее собственные, когда она была маленькая.
Фотографий отца не было.
«В сущности, никто из нас так и не меняется и остается все тем же ребенком, каким был, даже если теперь вырос», – подумала она, разглядывая фотографии.
Она протянула руку и взяла одну из первого ряда. На ней мать с изможденным лицом и затуманенным взглядом, с золотыми вставными зубами, улыбалась ей с плохо скрываемой грустью.
– Мама, я спасена, посмотри на меня, – шепнула она, коснувшись на портрете черного пятнышка, шрама на левой ноздре.
Сердце ее бешено забилось, кровь пульсировала в висках. Ей захотелось бросить фотографию на пол, топтать ее до полного уничтожения, но вместо этого она с завидным спокойствием аккуратно поставила ее на место и затем, упорно желая причинить себе боль, взяла другую. Это была единственная сохранившаяся дорогая ей фотография любимого брата: на ней он был подростком, обнимал ее, еще совсем маленькую девочку, и целовал в щеку. На заднем плане виднелась громада монумента Родина-Мать[75], внизу кто-то подписал: «Ереван, 20 марта 1952 года».
На снимке запечатлелись нежность, любовь и, главное, счастье. Время не могло сгладить их, разрушить или обезличить.
Ее охватило сильное волнение, и она упала в кресло как подкошенная, не чувствуя под собой ног. Не зная, как избавиться от тревожного состояния, она открыла первый ящичек стола и бросила в него фотографию. Та упала с легким стуком, стекло треснуло, и трещина пересекла их радостные улыбающиеся лица, повредив это выражение вечного блаженства.
Роз вскочила и снова взяла в руки фотографию с видом девочки, которая только что сильно сглупила. Она провела по трещине дрожащим пальцем, надеясь, что какое-то чудо исправит ее ошибку.
– Мама! – где-то в доме позвал звонкий голос Тороса, ее любимчика.
Она тут же пришла в себя, сделала глубокий вздох и поднялась.
– Иду! – крикнула она, поставив фотографию на место.
– Я тебя очень люблю.
– Опять? – Матиас фыркнул.
– Никогда не забывай этого.
– Папа, мне нужно заниматься! – Юноша поднял голову над письменным столом и посмотрел на своего отца, прислонившегося к стояку двери.
– И никогда не сомневайся в этом, – добавил Эмиль, не обращая внимания на раздражение сына. Казалось, ему нужно было сообщить сыну что-то очень важное. – Ты меня слышал? Никогда, – повторил он. – Даже если, как говорится, ты не моя кровь, ты… душа моей души, – закончил он, и глаза его увлажнились.
Матиас молча смотрел на отца, стараясь понять глубинный смысл этих слов.
– Почему ты говоришь мне об этом именно сейчас?
– Потому что нам вечно не хватает времени и потому что говорить об этом никогда не поздно. Я просто сказал тебе, и все.
Матиас задумался, запустив пятерню в кудряшки, ниспадавшие ему на лоб.
– Тогда докажи! – воскликнул он наконец, весь зардевшись. – Пусти меня на концерт в пятницу.
Эмиль вздохнул.
– Я знал, что этим все кончится, – пробормотал он. – Посмотрим, но я ничего тебе не обещаю, – добавил он, повернувшись, чтобы уйти.
– Папа! – окликнул его Матиас, бросившись к нему и обняв за шею. Последний раз он делал это, когда был ребенком.
Отец прижал его к себе так сильно, как только мог.
Он плакал, глупец этакий среднего возраста, слишком легко поддающийся эмоциям. Да, он плакал. К счастью, Ромео, крутясь у них под ногами, подпрыгивал и лаял так громко, что за шумом не было слышно его всхлипываний.
Пес ревновал. Никто не смел красть у него любовь хозяина.
Только он был его любимчиком.
23
Сидя за туалетным столиком, Роз рассматривала свое лицо под разными углами.
В эту пятницу она не пошла в офис: хотела подготовиться к приему и особенно заняться собой – она должна была выглядеть потрясающе.
Она, как всегда, рано встала и позавтракала с мужем и детьми. Пока фирма-кейтеринг, нанятая ею для обслуживания гостей, уже наполняла кухню разными коробками, тележками и всей необходимой утварью, она отвезла детей в школу на своей машине. Как это часто случалось, спускаясь с холма и делая виражи на всех двенадцати поворотах, она испытывала гордость и удовлетворение.
Это был Форест Хиллс, ее квартал, престижный квартал, квартал тех, кто высоко поднялся по социальной лестнице.
– Я отправлю за вами Ленни, – сказала она детям, имея в виду водителя, пока они выбирались из машины. Дети хлопнули дверцами и побежали к величественному каменному зданию, в котором размещалась школа.
Когда она вернулась домой, ей пришлось отвечать на многочисленные вопросы прислуги.
– Госпожа, желаете мусс или запеканку с семгой?
– Сколько столов поставить под навесом?
– Под каким соусом подавать клешни королевских крабов?
– Будем накрывать по периметру бассейна тоже? Желаете подогрев?
– Какие фужеры для шампанского?
– Добавить бразильские орехи в хлеб нашей выпечки?
Роз отвечала всем, заботясь о каждой, даже самой ничтожной мелочи, вплоть до указаний, на каком расстоянии друг от друга должны стоять тарелки, каким шрифтом печатать фамилии участников приема на карточках для стола и куда сажать каждого известного гостя.
– Никогда не сажайте рядом двух политиков или, того хуже, двух красивых женщин, – шутила она.
В какой-то момент шеф-повар послал за ней, чтобы решить срочный вопрос у плиты. Роз уже входила в кухню, когда рассеянный официант смахнул бутылку шабли и она разбилась, оросив все вокруг стеклянными и винными брызгами.
Роз вздрогнула и тут же взорвалась, крича и оскорбляя официанта, явно не справляясь с неконтролируемой яростью, слишком преувеличенной для такого банального инцидента. Потом она все-таки успокоилась и в некотором роде извинилась.
– Ладно, забудем. Ничего страшного, возвращайтесь к работе, – сказала она самым спокойным тоном, на какой была способна в тот момент. Потом быстро прошла в свою комнату и, взяв трубку, по памяти набрала номер.
– Артур? – спросила она. – Я должна тебя видеть. Сейчас!
Затем села в машину и помчалась в центр города, нервно крутя руль дрожащими руками. Она бросила машину в запрещенном для стоянки месте, напротив небоскреба в форме обелиска, влетела в холл, затем в лифт, поднялась на пятьдесят четвертый этаж и постучала в дверь.
– Роз, ты уже здесь? – удивился Артур, открыв ей.
– Что ж, расскажи мне, что случилось, – сказал психоаналитик, устраиваясь в кресле и предложив ей лечь на кушетку.
– В доме разбили бутылку вина, – начала она, – и я… – Она прервалась, будто не могла выразить то, что почувствовала в тот момент.
– Ты испугалась.
– Да.
– И, конечно, не из-за шума.
Роз покачала головой.
– Артур, это было ужасно, будто ничего не изменилось. Конечно, я была уже немного на взводе по поводу сегодняшнего приема, но ведь ты знаешь лучше меня, я могу контролировать это, я занимаюсь этим каждый день на работе.
Артур кивнул.
– Я почувствовала себя как та, прошлая Роз.
– То есть Новарт?
– Да, она, – ответила женщина, и лицо ее скривилось от боли. Это была реакция на хроническую болезнь, эффективное лечение которой она так никогда и не нашла.
– Я снова пережила тот вечер, будто оказалась все в той же лачуге в Ереване, наедине с моей матерью… И осколки бутылки вина на полу.
Она откашлялась, будто пытаясь освободиться от комка в горле, который душил ее, и хотела встать с кушетки, но Артур остановил ее.
– Останься там, – сказал он и сделал легкий жест рукой. – Дыши, – его тон стал более повелительным. – Вдох, выдох, – говорил он спокойно, чтобы помочь ей расслабиться и контролировать душевную боль, корнями уходившую в прошлое, которое продолжало мучить ее.
Роз подчинилась. И когда она снова заговорила, то казалась более спокойной и решительной.
– Теперь, когда Сатен умерла, мне легче находить оправдания, как для нее, так и для отца, будто мне крайне необходимо доказать их невиновность.
– Хочешь рассказать мне о том вечере? – вмешался Артур с ноткой любопытства в голосе, как если бы ему пришлось выслушивать эту историю впервые, хотя на самом деле он хорошо ее знал.
Роз провела тыльной стороной ладони по губам.
– Мне было шестнадцать, и я сильно пила. Целыми бутылками, не беспокоясь о том, что именно в них находилось, важно было отрубиться… – Внезапно она замолчала и посмотрела ему в глаза. – Я была алкоголичкой, Артур.
Артур скрестил руки и оперся подбородком на большие пальцы. Непринужденность и кажущаяся легкость, с которой Роз рассказывала о трагедии своей жизни, произвели на него впечатление.
Роз, казалось, была под гипнозом.
Взаимоотношения между психоаналитиком и анализируемым можно сравнить с любовной связью, в которой влечение и отчуждение всегда идут рука об руку. С годами Артуру удалось выстроить позитивный трансфер, притягательные и доверительные взаимоотношения со своей пациенткой. Роз – он был в этом уверен, хотя и задавался вопросом, понимала ли она это – перенесла на него то же эмоциональное отношение, которое когда-то питала к брату, своему идолу, человеку, которого она любила больше всех на свете и которого у нее жестоко отняли, вырвав из объятий, когда она была еще совсем маленькой.
– Почему ты разбила ту бутылку? – спросил он низким ласковым голосом.
Роз вздохнула.
– Жить в Ереване в шестидесятые годы матери-одиночке с ребенком было тяжело, тем более если на ней лежала печать жены врага народа. Я видела, как мама сникала день за днем, хотя и пыталась скрыть это, делая вид, что ничего не изменилось. Я была уверена, что она винила во всем себя. Она работала на дому, без отдыха, кроила и шила, шила и кроила. Мы почти не разговаривали, говорили друг другу только самое необходимое. Ссорились без повода, часто даже дрались. Никуда не ходили, ни с кем не общались, знаешь, как прокаженные в прошлом. Было что-то очень неправильное в нашей жизни, будто кто-то тайком подливал яд в воду, которую мы пили, постепенно отравляя все наше существование. – Роз взмахнула рукой. – В пятнадцать лет я стала сама уходить из дома, и она не могла мне запретить. Физически я была уже сформировавшейся женщиной, и внутри меня горел огонь подавляемой злости. Я так и не простила мать за то, что она легко поддалась судьбе, что никогда не искала своего мужа, своего сына – моего единственного обожаемого брата. – Она опять скривилась от боли и заскрежетала зубами, но, взяв себя в руки, продолжала: – Я хлопала дверью и уходила, и когда она пыталась встать у меня на пути, я отталкивала ее: «Не приближайся ко мне!»
Роз повысила голос и заметалась на кушетке. Лицо ее постепенно густо покраснело.
– Почему ты разбила бутылку? – настаивал Артур.
Она откинулась, не в силах продолжать.
– Скажи мне, – побуждал психоаналитик.
– В тот раз я вернулась домой под утро, – снова заговорила Роз. – Где-то шаталась всю ночь. Еле держалась на ногах, пьяная вдрызг. Сатен меня ждала. Я увидела ее, как только вошла, – тень в кресле. Она пристально вглядывалась в меня, словно изучая, как я одета, как накрашена, а главное, она смотрела на бутылку вина, которую я держала в руке. Потом она встала и сказала негодующе: «Это будет твой конец, это тебя убьет!» Я не придала ее словам значения и уже собиралась идти к себе в комнату, когда услышала, что она плачет. «Я больше не могу, если я потеряю и тебя, я наложу на себя руки. Ты единственный ребенок, который у меня остался… Единственная, кого мне оставили», – сокрушалась она. А потом сказала… – Роз прервалась, и Артур заметил, что ей стало трудно дышать. Он сделал жест, чтобы она восстановила дыхание, но Роз не смотрела в его сторону. – «Бог дал мне троих детей и теперь забирает всех, – закричала она, – по одному!»
– Ты сказала, троих?
Роз кивнула.
– Я повернулась. «Я, конечно, пьяна, – сказала я ей, – но у тебя всегда было двое детей. Что за чушь ты несешь?» Тогда мать подняла руку и показала мне три пальца, качая головой и продолжая плакать. «Да ты бредишь?! – кричала я ей, и чем больше я кричала, тем сильнее она плакала. – Кто третий? Кто он? – мучила я ее. – Скажи мне кто…» Я замахнулась на нее бутылкой, пока…
Артур благожелательно и понимающе смотрел на нее, она почувствовала его поддержку, облегчающую боль.
«Тот, которого твой отец вычеркнул из нашей жизни… мой ребенок».
Роз истошно застонала, будто ей пронзили кинжалом сердце, и выпрямилась на кушетке, тяжело дыша.
– Роз, успокойся, – позвал ее Артур.
Она задыхалась, схватившись руками за горло в слабой попытке избавиться от душившего ее кома.
Тогда Артур сел рядом с ней на кушетку.
– Ну, успокойся, все прошло, все прошло, – повторял он, заключив ее в свои объятия.
– Я бросила в нее бутылку, – говорила Роз, заикаясь между рыданиями, – я бросила ее с силой, с презрением, я хотела, чтобы она замолчала навсегда… И я поранила ей лицо. Бог мой, кровь смешалась с вином!..
Артур слегка поглаживал ее плечи. Он не позволял себе этого с другими пациентами, но Роз была особенная. Было что-то такое в ее жизни, что глубоко трогало его. Он терпеливо дал ей выплакаться, освободиться от всей той тяжести, которую она носила в сердце.
– Спасибо, – пробормотала она через какое-то время, – мне уже лучше.
И она осторожно отодвинулась от Артура. Психоаналитик уже много лет рассеивал ее тревогу и облегчал страдания, время от времени терзавшие ее душу, угрожая затянуть в свой черный водоворот.
* * *
– Госпожа, вам принесли платье, – тихо сказала Лина, появившись на пороге с большой коробкой в руках и оторвав ее от своих мыслей перед зеркалом.
Она уединилась у себя в будуаре, рядом со спальней, как только вернулась домой от Артура. Всякий раз, когда ей хотелось побыть одной и набраться сил, она закрывалась там под предлогом макияжа, маникюра или маски для лица.
– Отлично, тогда открой, – сказала она домработнице.
Женщина аккуратно развернула упаковку из тонкой бумаги и вытащила пышное тюлевое платье.
Глаза Роз загорелись от возбуждения.
– Тебе нравится? – спросила она Лину.
Домработница покраснела. Внимательно осмотрела это простое платье с узким лифом и широкой юбкой. Обратила внимание на необычный цвет тюля, который ей напоминал белый сильно разбавленный чай, на нежно-розовую нижнюю юбку. Потом задержалась на декольте, необработанный край которого слегка напоминал бахрому.
– Я уверена, что вам оно будет к лицу, – соврала она.
Роз рассмеялась, поняв, что Лине это платье совсем не понравилось. На самом деле она не хотела нравиться в этом платье, ей нужно было поразить, провоцировать. И она уже решила как.
– Цветы доставили? – спросила она, выглянув в окно, выходившее в сад, где целая команда рабочих в спешке устанавливала сцену.
– Да, их уже расставляют по вазам.
– Нет же, я имела в виду розочки для платья! – сказала она.
Домработница пожала плечами, она не знала.
– Пойди и спроси. И как только приедет портниха, сразу же отправь ее сюда ко мне вместе с цветами. Их надо будет пришить по одному к платью, но где именно, я должна решить сама.
Лина слегка поклонилась и ушла той же легкой походкой, с какой и появилась.
* * *
Ближе к вечеру по дому эхом раскатились радостные голоса детей.
Роз услышала их в бассейне – ей хотелось немного поплавать и снять напряжение. Позже она хотела еще раз проверить, как идут приготовления, со всей щепетильностью, которая отличала ее от других.
– Будьте осторожны, не бегайте там, где мокро, – наставляла она детей, выходя их бассейна и надевая халат.
Дети встали перед ней. Хоть они и были весьма озорными, но все-таки следовали правилам, заведенным матерью. Роз посмотрела на них, и ей стало смешно от того, как они выстроились плечом к плечу, будто солдатики.
– Что нового в школе? – спросила она, подавив улыбку.
Левон, старший, высокий и крепкий, пожал плечами.
– Ну, я получил самый высокий балл по французскому, – пробормотал он.
На лице Роз появилось удивленное и в то же время восхищенное выражение. Но тут вмешался Торос, младший, и таким же, как у нее, решительным тоном заявил:
– А я получил наивысший балл по всем предметам.
Роз посмотрела на него с обожанием, борясь с желанием прижать его к себе и расцеловать. То, что Торос – ее любимчик, не было секретом ни для кого, и именно поэтому она взяла себе за правило не выставлять напоказ свою особенную любовь к нему, тем более в присутствии старшего сына.
– Ах, так? – ограничилась она, протягивая руку, чтобы поправить ему спутавшийся чуб.
Торосу едва исполнилось семь лет. Он был строен, и, хотя был еще слишком мал, уже становилось ясно, что он будет высоким мускулистым парнем. Его лицо было копией лица матери в миниатюре: те же янтарные глаза, длинный узкий нос, полные губы.
– Как мы его назовем? – спросил Акоп у жены за несколько дней до родов. – Старшему мы дали имя моего отца, а младшего следовало бы назвать именем твоего.
– Нет! – вскрикнула она инстинктивно. – Назовем его именем моего дедушки по отцу. Простое интернациональное имя: Торос, Теодоро.
Со временем, глядя, как мальчик растет, она спрашивала себя, почему не захотела назвать его Серопом. Ей было четыре года, когда ее отца забрали. Она едва помнила его, худого, сутулого, с выражением безысходности на лице. Но, как ни пыталась, не могла вспомнить ничего другого: ни жеста, ни ласки, ни объятия, даже нежного слова… Ничего! Казалось, в памяти все стерлось, будто кто-то нажал на кнопку «delete» на рекордере прошлого в том самом месте пленки, где был записан ее отец.
Роз удалила все.
И даже в те немногие редкие случаи, когда Сатен упоминала Серопа, не со злостью, нет, скорее с грустью и обреченностью, Роз восставала против этого. «Не хочу слышать ни слова больше», – говорила она и затыкала уши. Ее пробирала дрожь, один раз ее даже стошнило. В глубине души, особенно после того дня, когда она разбила бутылку, она вынесла ему свой приговор, признала виновным, записала в слабаки, трусы, никчемные людишки, не достойные зваться отцами.
Однако по прошествии лет, возвращаясь к этой теме, она смягчила свой жесткий приговор, это твердое убеждение, что ее отец ни на что не годился. Она сама оказалась не такой сильной, как думала. Она стала мягче и, наверное, мудрее. И тогда, не прощая Серопа, но признавая, на какие ужасные компромиссы иногда толкает нас жизнь, она стала невольно искать оправдание его поступку.
И наконец пожалела, что не назвала второго сына именем его деда. Корила себя за то, что не соблюла традиции своего народа. Разорвала цепь, сместила звено, расстроила порядок вещей, заведенный много веков назад.
Но обо всем этом она ни с кем никогда не говорила, только с Артуром.
– Идите переодеваться, – посоветовала она сыновьям. – Скажите Бесси, чтобы она одела вас элегантно.
Торос улыбнулся, показывая щербатые зубы.
– Надену бабочку? – спросил он.
Роз кивнула, и глаза ее увлажнились от умиления.
– Ну, живо! – приказала она, хлопнув в ладоши.
Она смотрела им вслед, пока они убегали вприпрыжку. Торос размахивал руками, стараясь объяснить Левону, как нужно завязывать галстук-бабочку. Она вгляделась в его профиль и в который раз спросила себя, пошло бы ему имя отца, человека с тяжелой и несчастной судьбой?
– Никогда! – воскликнула она со всей любовью, которую испытывала к своему ребенку.
Потом запахнула халат и почувствовала спазм в животе.
– Привет, Роз, как поживаешь?
– Кто это?
– О, извини… Это Эмиль.
– Эмиль, прости меня, я в саду с мобильником, и здесь не очень хорошо слышно. Как дела?
– Неплохо, спасибо, а у тебя? Как все продвигается?
– Отлично. Твои ребята просто прелесть, они соорудили настоящую сцену.
– Я рад.
– Нет, серьезно, жаль будет разбирать ее потом.
– Не беспокойся. Я звонил в надежный гидрометцентр.
– Ах, так?
– Говорят, что могут быть осадки, но лишь под утро.
– Эх, никогда не знаешь, в котором часу народ решит расходиться, – пошутила она.
– Тоже верно.
– В котором часу приедет Микаэль?
– В семь, его привезет наш водитель и подождет, чтобы отвезти обратно домой.
– Он приедет с Лучано?
– Нет-нет, Лучано приедет сам.
– Но ведь он приедет, правда?
– Приедет, приедет.
– Он будет петь только «Дле Яман»?
– Да.
– А если его попросят что-то другое?
– Сложно, у него уже есть ангажемент в девять тридцать, так что он быстро уйдет.
– М-м-м, понятно.
– Мне жаль.
– Знаешь, что я подумала, Эмиль? Было бы здорово, если бы у нас был третий скрипач.
– Третий?
– Да, в оркестре. Как думаешь, сможешь найти еще одного?
– Поздновато, но попробую. Есть одна японская скрипачка.
– Надеюсь, она знает репертуар.
– Главное, свободна, – подчеркнул он.
– Спасибо тебе… и Микаэлю. Какую речь он подготовил?
– Он никогда не готовится, ему нравятся экспромты.
– Достаточно, чтобы не распространяться слишком долго.
– Он не такой.
– Гости уже знают, о чем идет речь, ему надо быть просто душкой и убедить их достать свои кошельки.
– Это не в его стиле, и потом, ты же знаешь, когда он говорит, то увлекает всех без исключения.
– Да, это необычный человек, особенный.
– Еще бы, и мой лучший друг! Что-нибудь еще, Роз? Извини, но мне уже нужно бежать.
– Конечно.
– Сегодня вечером у меня концерт «Нирваны».
– Тогда ни пуха ни пера!
– И тебе ни пуха.
– Эмиль.
– Да?
– Спасибо тебе за все.
– Не за что, до скорого.
– Пока.
Когда Акоп приехал домой, до начала приема оставалась пара часов.
– Удивлена? – спросил он Роз, взяв ее за руку, когда она входила в гостиную из сада.
– Ты уже здесь? – улыбнулась она. Акоп, казалось, только что вышел из салона красоты, надушенный, причесанный, в отличном двубортном костюме с иголочки.
– Поднимемся? – предложил он.
– Пожалуй. Я только что закончила осмотр, – вздохнула она, – и даже поплавала в бассейне.
– Смотри-ка. А я-то думал, что ты уже одета, – шепнул он и томно поцеловал ее в губы, слегка раскрыв халат, не обращая внимания на взгляды прислуги, хлопотавшей вокруг.
Потом он взял жену за руку и повел наверх, в спальню.
– Как все прошло? – спросила его чуть позже Роз, пока сыпала в ванную ароматическую соль.
– Война цен, – вздохнул Акоп. – Кто-то сделал американцам неотразимое предложение. Нас спасли наша репутация и качество продукции.
– Где они собирались шить? – спросила она, сбросив халат.
– Угадай. – Он не мог оторвать взгляд от двух ярко выраженных ямочек чуть ниже поясницы жены. – Китай выбивает из колеи мировую экономику. Через десять лет на Западе вообще ничего больше не будут производить! – воскликнул он.
Но Роз уже не слушала его, погрузившись в наполненную пеной ванну.
– Для меня найдется местечко?
Сначала одна, потом вторая нога неожиданно оказались в теплой воде, расплескав пену повсюду.
– Нет! – взвизгнула она раздраженно, прикрыв лицо руками.
Он обиделся. Стоя перед ней обнаженный и по колено в пене, он казался беспомощным.
– Я все сделал, чтобы освободиться пораньше и побыть немного с тобой, – пробормотал он. В его карих глазах читалось желание, он хотел ее. Он решительно сделал шаг вперед, не сводя с нее глаз и все более возбуждаясь.
Роз лукаво улыбнулась, приподнялась и поманила его.
– О да… – простонал Акоп, протянул руку и нежно дотронулся до ее лица.
– Ты вернулся изголодавшийся? – прошептала Роз.
Затем она привлекла его к себе, и он ощутил ее гладкую шелковистую кожу. Она сладострастно посмотрела ему в глаза и начала ласкать, как ему нравилось.
Акоп закрыл глаза, слегка вздрогнул от удовольствия, и замер.
Позже, еще ощущая привкус мужа во рту, Роз спросила себя, достаточно ли женщине секса, чтобы чувствовать свою принадлежность мужчине. Пока портниха подгоняла вечернее платье по фигуре, она продолжала обдумывать эту мысль: было ли между ней и мужем что-то еще, кроме очевидной сексуальной связи, какой-то другой тип глубокой привязанности? Конечно, это было не самое подходящее время для подобных вопросов, за несколько минут до приезда гостей, но она никак не могла успокоиться: что ее связывало с Акопом, помимо физического влечения и жажды богатства?
К сожалению, ей не пришло на ум ничего другого.
Ничего.
По крайней мере, до того момента, как первый гость позвонил в дверь.
24
В имение Бедикянов входила усадьба в стиле викторианской неоготики и гектар угодий.
Усадьба была построена в 1870 году, когда лорд Кавендиш, потомок благородного английского рода, породнившегося с королями, и высокий государственный чин, был вынужден переехать в канадскую колонию. Сильная любовь к родине и всему, что окружало его с самого детства, вдохновила его на притязательный проект перемещения в колонию родного дома. Он перевез усадьбу по морю в Канаду – по камешку, каждую дверь, окно, а также всю мебель и предметы обихода. Привлек целую армию архитекторов, бригадиров и каменщиков, которые за семь лет, точно следуя подлинным чертежам, возвели самую красивую усадьбу в Торонто.
И теперь ее новыми владельцами были Бедикяны.
– А здесь совсем неплохо, – иронически заметил молодой водитель, который привез Микаэля на прием.
Они уже проехали ворота и поднимались по аллее, обрамленной красными кленами. Молодой человек посмотрел в зеркало заднего вида на удобно устроившегося пассажира. Тот походил немного на Шона Коннери, уже в возрасте, в роли профессора или писателя. Непростая, таинственная личность. Он был безукоризненно одет – водитель обратил на это внимание, когда заехал за ним к своему шефу, господину Мегояну. На пассажире был костюм цвета «лондонский туман», белая рубашка и красивый темно-синий галстук с мелкими белыми лилиями. По дороге водитель пытался заговорить с ним, поболтать о том о сем, но пассажир был не очень разговорчив, и он оставил его в покое.
– Как тебя зовут? – неожиданно спросил водителя Микаэль.
Молодой человек смущенно кашлянул:
– Дейв, господин Делалян.
– Дорогой Дейв, ты останешься здесь или уедешь?
– Господин Мегоян попросил меня подождать вас.
– Отлично, значит, мы сможем сбежать, когда захотим, – заметил он и впервые слегка улыбнулся.
Наконец за кронами деревьев показался величественный фасад огромного трехэтажного здания, все окна которого были освещены. Множество шикарных машин, среди которых один лимузин, были припаркованы во дворе, покрытом гравием, с кипарисами в гигантских тосканских вазонах, выстроенных в линию и образующих великолепный вход. Лакеи в ливреях спешили принять гостей и проводить в холл, освещенный гигантской люстрой, спускавшейся с потолка.
– Ого! – воскликнул Дейв, не скрывая восхищения.
Распределитель постучал по окошку.
– Прошу, ваше имя?
– Господин Микаэль Делалян.
Мужчина расплылся в улыбке.
– Господин Делалян, это честь для нас, – сказал он и поклонился, приветствуя гостя, еще сидящего в машине. – Мы как раз вас ждали.
Он обошел вокруг машины, что-то говоря по рации, затем открыл дверцу и встал смирно, пока почетный гость не вышел.
– Пожалуйста, не отправляйте его далеко, – пошутил Микаэль и шепнул, показывая на Дейва: – Это мой ангел-хранитель.
Распределитель улыбнулся и указал на свободное место поблизости.
– Я поставлю его на первую стоянку, вон там.
– Спасибо, вы очень любезны.
Микаэль встретился глазами с водителем.
– Надеюсь, ты взял с собой книжку, Дейв, – сказал он и направился к входу, где слуга уже спешил ему навстречу.
Войдя, Микаэль первым делом увидел хозяйку дома, спускающуюся по мраморной лестнице, всю в ярком свете и в цветах. Внизу Роз ждали фотографы, журналисты и операторы, толпившиеся на последней ступеньке, готовые наброситься на нее с вопросами, щелкать фотоаппаратами и снимать на видеокамеры.
– Госпожа Бедикян, повернитесь сюда!
– Ваше платье просто прелестно!
– Пожалуйста, улыбку!
Микаэль стал разглядывать туалет женщины. На Роз было белое платье из тюля с плотно прилегающим лифом и широкой юбкой воланами длиной до самого пола. Модель сама по себе обычная, уже виденная много раз, если бы не десятки бутонов живых роз, прикрепленных к ткани: белых внизу, розовых посередине и ярко-красных от пояса вверх. Единственная пурпурная роза, впечатляющая по форме и размерам, украшала прическу.
– Ребята, не сейчас, после, – говорила Роз, отдаляя прессу и телевидение грациозными жестами. – Микаэль! – крикнула она, как только заметила его.
Она приподняла юбку обеими руками и, лавируя в толпе, побежала ему навстречу. Ее изысканный наряд, непосредственность в выражении чувств, стремительность движений напомнили одну из героинь Толстого. В душевном порыве Роз обняла и поцеловала Микаэля в щеку. Вся сцена была запечатлена многочисленными камерами.
Это была другая Роз, не та замкнутая и сдержанная, которую Микаэль запомнил при первом знакомстве.
– Пойдем со мной, – сказала она ему, отстранившись, взяла за руку и увлекла за собой в сад.
Как только хозяйка дома появилась в крытой галерее, над толпой гостей поднялся восхищенный гул, смешанный с восторгом.
Она спустилась по лестнице, стала переходить от одного гостя к другому, приветствуя представителей высшего общества, принявших ее приглашение.
– Ты сегодня красива как никогда, – сделала ей комплимент жена мэра, маленькая полная женщина, затянутая в платье с головокружительным декольте.
– Кто скрывается за этой маской? – прокомментировала ее лучшая подруга, жена крупного промышленного магната.
Роз всем улыбалась.
Хотя платье, прическа и все приготовления к приему стоили ей немалых усилий и напряжения, в этот момент она вела себя непринужденно и естественно. Увлекая за собой Микаэля, она по дороге радостно приветствовала всех, улыбаясь направо и налево.
– Это Микаэль Делалян, представитель колледжа «Мурат-Рафаэль» собственной персоной, – говорила она, представляя почетного гостя несколькими точными словами.
Микаэль скромно кивал головой и тоже улыбался, стараясь сохранять достоинство.
С огромной сцены, установленной в центре луга, послышались скрипки оркестрантов, заигравших вальс.
– Дорогой Микаэль, первый танец со мной, – попросила она.
– Но я…
– Прошу тебя, – настойчиво повторила она.
Микаэль обнял ее за тонкую талию, она положила руку ему на плечо, и вместе они грациозно закружились под звуки неувядающего вальса.
– Микаэль, где ты научился так вальсировать? Ты просто очарователен, – заметила Роз.
– В колледже, моя дорогая, в колледже.
Она снова улыбнулась, и пока остальные пары присоединялись к ним, украдкой наблюдала за гостями, заметив с огромным удовольствием, что все веселились и, кажется, были рады этой вечеринке.
Это был один из самых счастливых вечеров в жизни Роз.
– Акоп, – позвала она мужа, – не нагоняй тоску на наших гостей.
Он обернулся. С ним рядом стояла группа людей, среди них российский посол с красавицей женой, которые о чем-то оживленно говорили на родном языке.
– Любимая, меня спрашивали, в чем секрет вечеринки, зачем все эти бутоны на платье, – ответил он, обхватив ее за талию и привлекая к себе. – Кажется, у кого-то слишком длинный язык.
Роз наигранно нахмурилась.
– Дорогие друзья, вы узнаете об этом сами, но в свое время. Настоящий сюрприз – не мое платье, конечно же, – добавила она, посмотрев на Линдси, известную кантри-певицу и ее неизменную соперницу в свете.
Лицо той покраснело от зависти.
– Множество розочек, таких же, как ты. Твои пути неисповедимы, дорогая Роз, – только и смогла сказать она.
Микаэль, стоявший невдалеке в окружении людей, которые забрасывали его вопросами, невольно услышал разговор. Впрочем, он уже заметил заговорщические взгляды между Роз и ее мужем, с которым только что познакомился. Ему показалось, что между ними было полное согласие. В течение вечера он несколько раз замечал любопытную синхронность пары – слова, брошенные точно к месту, своевременные жесты. Он передавал ей слово, и она забивала очко. Микаэль готов был поклясться, что эти двое все тщательно отрепетировали.
Телохранитель подошел к Роз и встал у нее за спиной, что-то шепнув на ухо. Она встревожилась, поискала глазами Микаэля и подала ему знак, едва кивнув головой в сторону. Затем они оба направились к сцене и исчезли за кулисами.
* * *
Первые нежные звуки арии поплыли над оркестром. Свет притушили, и силуэт внушительного мужчины появился на сцене. Гул поднялся над толпой приглашенных, которые, узнав, встретили его бурной овацией. Его голос взорвал тишину в героическом порыве, взяв на высокой ноте три слова: «Vincerò! Vincerò! Vincerò!..»[76]
Толпа безудержно выражала свой восторг.
– Спасибо, – сказал тенор, когда прожекторы снова загорелись и Роз с Микаэлем поднимались на сцену.
– Дорогие друзья, желанные гости, – провозгласила Роз в микрофон дрогнувшим от волнения голосом, встав слева от певца. – Это самый прекрасный вечер в моей жизни. Для меня большая честь принимать у себя дома Лучано, – и она повернулась к гостю, – тенора мировой величины, которым мы все восхищаемся. Микаэля Делаляна, с которым вы познакомились сегодня вечером. И всех вас, кто принял мое приглашение, готовых поддержать дело, в которое Лучано, Микаэль и я искренне верим. Лучано?
У подножия сцены фотографы и операторы устроили суматоху.
Тенор улыбнулся.
– Да, Венеция – прекрасный город, полный исторических жемчужин, которые, увы, незаметно исчезают, как армянский колледж, ради спасения которого мы все здесь собрались. Но пусть свое слово скажет Микаэль, – произнес он своим мягким теплым голосом.
– Спасибо, Лучано. Не хочу быть слишком нудным и портить такой прекрасный праздник. Я благодарю вас от имени всех бывших и, надеюсь, будущих студентов колледжа. Благодарю от имени отцов-мхитаристов, которые столько лет высоко несут знамя нашего армянского сознания. Спасибо!
– А теперь, – объявила Роз, взяв микрофон, – в знак признательности, одно из чудесных песнопений моего народа, я посвящаю его вам с огромной благодарностью.
Свет снова притушили, и скорбный звук дудука возник в воздухе. Вступила арфа, и смычковые инструменты пересеклись с ней в неописуемой небесной мелодии.
Дле Яман, арев тибав Масис лерин[77]Голос Лучано пронзал самое сердце.
А когда на второй строфе Микаэль мягко присоединился к пению, не беспокоясь о суждениях и сравнениях бормочущей публики, один электрик клялся потом, что видел, как госпожа Бедикян разрыдалась на задворках сцены.
Около десяти часов вечера Роз объявила о начале пожертвований.
Лучано к тому времени уже давно уехал, а гости наелись и напились вдоволь, хотя половина того, что было приготовлено, еще оставалась на длинных столах, украшенных бантами и свечами. Официанты с подносами, полными фужеров с шампанским, лавировали между приглашенными. И атмосфера приема стала менее формальной. Вальсы уступили место пьесам из репертуара пиано-бара, слышны были громкие голоса и смех, временами грубый хохот.
– Роз! – позвал полный мужчина в шелковом синем костюме.
Роз подала ему знак: она подойдет к нему, как только закончит за столом, к которому только что подсела. Ее секретарша ходила за ней как тень с блокнотом в руке, делала заметки и записывала пожертвования. Несмотря на то что прием длился уже несколько часов, Роз была по-прежнему свежа, с идеальной прической, украшенной роскошной розой, с сияющим лицом и довольным видом. Ее задумка удалась. Только платье немного пострадало: многие бутоны оторвались, другие повисли на нитке, в некоторых местах можно было заметить даже разорванный тюль.
– Я здесь, Альберт, – сказала наконец Роз, подойдя к мужчине, который был уже весьма навеселе. Он сидел за столом с тремя другими людьми, своей женой и Маклианом, известным журналистом, с супругой.
– А ты все-таки осчастливила нас своим присутствием.
– Почту за честь, – ответила она. Это был брокер, торговавший зерном, один из крупнейших в стране.
– Садись и выпей что-нибудь с нами.
– Я уже пью, – солгала она, показывая фужер с шампанским, который держала в руках, улыбнувшись всем присутствующим.
Мужчина хмыкнул.
– Хорошо, сначала – за здоровье, а потом – за колледж «Мурат…» Как там правильно?
– «Мурат-Рафаэль», Альберт.
– Вот именно, за «Мурат-Рафаэль», – повторил он, сдерживая икоту.
Все выпили, и Роз сделала вид, что пьет, поднеся фужер к губам. Альберт осушил свой бокал одним махом и мотнул головой с помутившимся от хмеля взором.
– Дай мне знать, когда ты будешь готова к интервью, – напомнил ей Эдвард Маклиан. – Расскажешь, сколько денег тебе удалось собрать, – пошутил он.
– Еще рано, – грубо вмешался Альберт, – я еще не сделал пожертвование.
И он пальцем пригласил Роз наклониться к нему, чтобы шепнуть ей на ухо свое предложение.
Роз послушалась, грациозно отбросив назад прядь волос, которая ниспадала с одной стороны лица.
– Альберт! – сказала она, удивленно хихикнув, как только услышала названную им сумму. – Это достойно красного бутона розы, самого красного, какой только есть! – воскликнула она, пытаясь оторвать от лифа самый красивый цветок. Их осталось довольно много на груди. Красные цветки преподносились самым щедрым донорам, розовые – тем, кто сделал менее крупные пожертвования, а белые, которых практически не осталось на юбке, – скромным.
– Я хочу вот эту, – сказал мужчина, показав на розу, украшавшую ее прическу.
Роз, занятая поисками самого красного цветка, неправильно поняла его требование.
– Возьми, она твоя, – согласилась она.
Мужчина запустил всю пятерню в ее волосы. Роз отпрянула и подняла руки к голове.
– Что ты делаешь? – воскликнула она, испепеляя его взглядом.
– Эта роза моя, – настаивал Альберт.
– Она не продается, – упрямо заявила Роз, стараясь всеми силами держать себя в руках.
Мужчина засмеялся издевательски.
– Ты слышал, Эдвард? – обратился он к журналисту. – В мире, оказывается, есть цветы, которые нельзя купить.
– Дорогой, перестань, – вмешалась его жена.
Альберт заставил ее замолчать, закрыв ей рот рукой.
– Сколько ты хочешь за эту розу? – Он встал, покачиваясь, от него сильно пахло алкоголем. – Пятьдесят? Семьдесят?
Роз была невозмутима.
– Ладно, тогда сто тысяч для колледжа, – сказал он. – Господа, послушайте меня все, я жертвую сто тысяч долларов этой старой вонючей школе в Венеции, – заорал он, глядя налившимися кровью глазами на гостей, которые слушали его, не веря своим ушам и в полной растерянности. Потом он приблизился к Роз и зашипел ей в ухо: – Теперь я могу взять этот паршивый цветок у тебя на голове?
Роз сжала зубы, чуть не взорвавшись, но сдержалась и, скрыв негодование за доброжелательной улыбкой, сказала:
– Ну конечно, Альберт.
Она наклонила голову и позволила ему снять цветок со своей прически. Освобожденные от заколки волосы рассыпались у нее по плечам. Выпрямившись и отбросив непослушные пряди, она поймала суровый взгляд Микаэля, который дрожал, и это было заметно даже на расстоянии, от отвращения и гнева.
Он встал и быстро пошел к лестнице портика, ведущей в дом. Взбежав по ней, перепрыгивая через ступеньку, он скрылся в холле.
Микаэль прошел по длинному коридору и остановился в небольшой полутемной гостиной, освещенной только рассеянным светом от лампы с абажуром. Ему казалось, что он задыхается, ком в горле не давал нормально вздохнуть. Он поискал в кармане и взял из коробочки две таблетки, которые проглотил не запивая. «Пройдет», – сказал он сам себе.
В тишине комнаты ему почудились вздохи. Он присмотрелся и увидел силуэт на маленьком диване. Он осторожно приблизился и понял, что это был ребенок. На нем была пижама с Винни-Пухом, голые ножки торчали под подлокотником, лицо было повернуто к спинке дивана.
– Привет, – шепнул ему Микаэль.
Малыш вздрогнул.
– Все хорошо?
Не получив ответа, он сел рядом. Он узнал малыша, это был Торос, младший сын Роз. Он познакомился с ним и его братом в начале вечера, но тогда мальчик был элегантно одет, даже с бабочкой.
– Что-то не так? – спросил Микаэль.
Торос покачал головой.
– Мне тоже грустно, – признался ему Микаэль.
Мальчик повернулся и приподнял голову. Он смотрел на него некоторое время и наконец решил, что этому мужчине с длинными седыми волосами можно доверять. Он сменил положение и свернулся на диване калачиком, как щенок.
– А ты почему грустишь? – спросил малыш, размазывая слезы по щеке.
– Потому что я хотел бы, чтобы мир был другим.
– Я тоже, – пробормотал Торос.
– То есть?
– Без злых людей.
– Ты уже познакомился с кем-то из них?
Мальчик кивнул, нахмурившись.
– Кто они?
Торос пожал плечами.
– Тот толстый пьяный тип, который лапал маму своими ручищами.
– Ты видел?
– Да, из своей комнаты. Я был в кровати, когда услышал, как кто-то кричит.
Микаэль грустно улыбнулся и погладил мальчика по головке. Ему было жаль, что этот инцидент обеспокоил ребенка. Дети должны расти в надежном мире, без проявлений мелочности и духовного убожества в поведении взрослых, где никто и ничто не могло бы потревожить их хрупкую душу.
Чистая утопия!
– Тот человек кричал, чтобы его слышали все гости, – солгал он и тут же пожалел об этом.
Торос сел, пытаясь повторить позу Микаэля, со свесившимися ногами.
– Я видел, как мама разозлилась, я ее понимаю.
– Может быть, мама просто устала, – сделал попытку Микаэль. – Знаешь, подготовка к приему и все такое прочее.
– Да, – сказал малыш с сомнением.
– По-моему, ты сейчас должен вернуться в кровать, а завтра утром, вот увидишь, все пройдет. Что ты на это скажешь?
Торос кивнул.
– А ты что будешь делать? Ляжешь спать здесь?
– Нет, я скоро уеду.
– О’кей! – мальчик спрыгнул с дивана и улыбнулся. – Пока, Микаэль.
– Пока.
Он нехотя побрел, шлепая босыми ногами по старинному паркету.
– Торосик, – позвал его Микаэль.
– Да, – ответил тот, обернувшись.
– Мне нужно в туалет, где здесь?..
– Есть один в холле. А, нет! – воскликнул мальчик, сменив направление. – Есть еще один, гораздо ближе, под лестницей.
Микаэль поднял большой палец и, как только мальчик исчез за дверью, направился в ту сторону, которую тот указал, потом спустился по лестнице, ведущей в полуподвал. И пока он спускался, ему вдруг почудилось, что он стоит на пороге чего-то важного, что чары вот-вот рассеются и тайна, до сих пор остававшаяся нераскрытой, теперь прояснится.
Внизу он увидел большой книжный шкаф, освещенный бронзовой настольной лампой. На полках стояло множество книг, старинных и новых, и большое количество всяких безделушек, побрякушек разного типа, сувениров, привезенных из поездок, и среди них комболои[78] из янтаря, греческий розарий[79], который праздные посетители кафе любят теребить, чтобы убить время.
Потом на более широкой полке он заметил фотографии.
Лампа высвечивала как раз одну из серебряных рамок. Может быть, поэтому, или из-за трещины на стекле, или просто потому, что так было угодно судьбе, Микаэль протянул руку и взял фотографию, чтобы рассмотреть ее поближе.
На ней была изображена счастливая девочка в объятиях подростка, который целовал ее в щеку, прижав к себе, будто хотел защитить от всех и вся.
Девочкой наверняка была Роз, тот же разрез глаз, нос, та же щербинка между зубов. Но кто был подросток, этот юноша, который с таким обожанием обнимал девочку? Микаэлю показалось, что у него потемнело в глазах, он несколько раз моргнул, провел рукой по глазам, снова посмотрел на фотографию… и ничего не понял. Почему этот юноша был как две капли воды похож на него, когда ему было столько же лет: черты лица, телосложение, мимика? Микаэль хорошо помнил свои фотографии в семейном альбоме и не сомневался в этой невероятной схожести.
Крайне возбужденный, он поставил фотографию на место и стал перебирать другие, дрожащими руками и тяжело дыша. Наконец он нашел фотопортрет и на первом плане лицо, которое искал. Он приблизил фотографию к свету и стал тщательно рассматривать ее, каждую деталь.
Наконец упал в кресло, почти в астматическом припадке, ему не хватало воздуха.
– Микаэль, ты здесь?
Появилась Роз и уставилась на него с удивлением, держа в руке фужер с шампанским.
Микаэль поднял глаза и, когда их взгляды встретились, почувствовал, насколько близка ему эта женщина, вне всякого ожидания.
– Сто сорок три тысячи долларов! – победно объявила она.
– Извини меня, Роз, – ответил он, – но мне нехорошо.
И он оставил ее там, ничего не сказав, сбежав, как вор, и направившись прямо к парковке.
– Добрый вечер, господин Делалян. Домой к Мегоянам? – уточнил Дейв, как только увидел его, запыхавшегося, на стоянке.
Микаэль бросился на сиденье и глубоко вздохнул.
– Мы можем позвонить Азнавуру куда-нибудь?
– Что, простите?
– Можно позвонить Эмилю на мобильный?
– Мне очень жаль, но он всегда отключает телефон во время концертов.
– А где он сейчас?
– В Опера-Хаус, там шоу в полном разгаре, – ответил Дейв, посмотрев на часы.
– Сколько туда ехать отсюда?
– М-м-м… двадцать минут, полчаса.
– Отвези меня туда, и, прошу тебя, как можно быстрее, – взмолился он таким тоном, что водитель встревожился.
– С вами все в порядке, господин? Могу я сделать что-либо для вас?
Микаэль покачал головой.
– Чем быстрее ты меня туда доставишь, тем лучше, – ответил он и молчал потом всю дорогу.
– Вот и приехали, – объявил Дейв, припарковавшись у тротуара.
Микаэль увидел простое здание из красного кирпича с золотой надписью «Opera House» над входом, как в каком-то захудалом английском пабе.
– Можно войти?
– Конечно! – засмеялся Дейв. – Достаточно купить билет, – сказал он, указывая на кассу в холле.
Как только Микаэль вошел в зал, на него тут же обрушился плотный пульсирующий красный свет задника сцены. В театре было битком людей. Пронзительный звук электрогитары скреб воздух, стены дрожали, и толпа качалась в ритме, задаваемом струнами.
На сцене молодой человек с ангельским лицом пел что-то, полное ярости, отвращения, искреннего страдания, Endless, Nameless, тряс длинными светлыми волосами, пока его худое и обнаженное тело в одних трусах вибрировало, как пневматический молоток. Его фигура вызывала в памяти фигуру Иисуса, когда Сын Человеческий был раздет и поднят на кресте.
– Курт! Курт! – орала толпа в экстазе.
Ошеломленный Микаэль старался вникнуть в эту атмосферу, неожиданно открыв для себя, что, в сущности, ему нравится здесь: было что-то успокаивающее в голосе, в ритме, даже в декорациях, будто бы можно было выплеснуть свои тревоги на этого ангела, который принимал на себя, как новый Мессия, чужие страдания.
– Тебе тоже нравится «Нирвана»? – крикнул ему в ухо молодой парень, окинув его взглядом с ног до головы, немного удивившись его серому «лондонскому» костюму, но оценив длинные волосы, хотя и седые.
Микаэль собрался уже ответить, когда в задымлении, обволакивающем сцену, он заметил Азнавура. Тот стоял в стороне вместе с Матиасом и Гаро и покачивался в ритме вместе с другими. Микаэль стал продвигаться в этом человеческом море, как утопающий, который хочет добраться до спасительной шлюпки.
– Друг мой, дорогой мой друг, – сказал он спустя некоторое время, бросившись в объятия Эмиля, а в голове его стоял образ того брата, которого в реальности у него никогда не было, но который всегда был внутри него.
Азнавур улыбнулся, удивленный таким взрывом эмоций.
– Да что случилось? Мир перевернулся? – кричал он поверх плача электрогитары.
Признание
25
Торонто, декабрь 1991 года
Артур открыл дверь на третий стук.
– Привет, Роз.
Два глаза цвета янтаря смотрели на него из-под меховой шапки.
– Привет.
– Как поживаешь? – спросил психоаналитик с искренней заинтересованностью.
Роз помедлила, тогда он втянул ее за руку внутрь офиса и закрыл дверь.
– А тебе идет, – сказал он, показывая на шапку и приталенное каракулевое пальто, которое подчеркивало ее стройную фигуру.
Она обняла его, да так и замерла, не отрываясь некоторое время, будто хотела впитать его энергию.
– Я так странно себя чувствую. Иногда мне кажется, что я нахожусь в самом разгаре драмы абсурда.
– Жизнь вообще театр, – сказал Артур, улыбаясь.
– Сегодня давай поговорим здесь, в гостиной, – предложила Роз, бросив взгляд на полуприкрытую дверь кабинета.
– Как хочешь.
– Можно мне чаю? – попросила она, снимая шапку. – И какого-нибудь печенья! – добавила вслед Артуру, который уже суетился на кухне. Потом она подошла к огромному витринному окну и засмотрелась на великолепную панораму, открывавшуюся с пятьдесят четвертого этажа.
– Предпочитаешь пить стоя? – спросил Артур, появившись на пороге с подносом в руках.
Роз улыбнулась и плюхнулась в одно их мягких удобных кресел, под картиной Ботеро, изображавшей ожиревшую Мону Лизу.
– Как он отреагировал? – спросил Артур, поставив чайник на столик.
– Кто? Акоп?
– Нет, Микаэль.
– Сначала убежал, я же тебе рассказывала, – начала она. – А я, естественно, не поняла почему, пока мне не позвонил его лучший друг, Эмиль Мегоян.
– Его товарищ по колледжу в Венеции?
– Да, для Микаэля он как брат, которого у него никогда не было, по крайней мере, до сих пор. – Она говорила с необычной легкостью и поняла это, когда обратила внимание, что выражение лица Артура изменилось.
– Неожиданно узнать, какой была твоя биологическая семья, не говоря уже о том, что у тебя есть сестра и брат-близнец! Должно быть, это травмирует, нет?
– Да, – пробормотала Роз, втягивая аромат горячего чая, который, как ей показалось, отдавал слегка шафраном. – Мама говорила, что они были настолько похожи, что даже отец не различал их.
Психоаналитик сидел, подперев подбородок руками. Обычно этот жест означал, что он обнаружил что-то значительное.
– Более того, – возбудилась Роз, – я узнала, что подростком Микаэля мучили паранормальные видения.
Артур слушал ее очень внимательно.
– Он мысленно общался с воображаемым другом, который был на него очень похож, и каким-то образом «жил» его жизнью, трагической и мучительной, как казалось.
– Это он тебе рассказал?
Роз покачала головой:
– Нет, Эмиль. – Она опустила глаза и пригубила чаю. – Он избегает говорить об этом. Кажется, что он стер эти воспоминания из памяти, вероятно, они были очень тяжелыми.
– Тяжелыми?
– Да, потому что у Микаэля из-за этих ужасных видений даже были эпилептические припадки или что-то в этом роде.
– А ты, Роз? – неожиданно психоаналитик коснулся весьма болезненного вопроса.
Роз вжалась в кресло, как улитка в свою раковину, вспомнив телефонный звонок Эмиля в тот вечер, его явно растерянный и извиняющийся за поведение друга голос.
Она сразу спросила его, почему тот убежал, даже не попрощавшись с ней, не поблагодарив.
– Такое разочарование после всего, что я для него сделала! – пожаловалась она.
– Мне очень жаль, Роз, но позволь мне кое-что объяснить, – попросил ее Эмиль необычно угрюмым голосом.
– Вообще-то это он должен был бы мне позвонить, а не ты.
– Выслушай меня, – перебил он ее. – Я уверен, что ты поймешь, как только я тебе все расскажу.
– Хорошо, но только потому, что я тебя очень уважаю.
– Роз, случилось что-то, что можно считать невероятным. Микаэль потрясен. Он закрылся в своей комнате и со вчерашнего вечера не выходит. Я очень беспокоюсь о нем, о его здоровье.
Роз промолчала, полагая, что Эмиль пытается просто смягчить ее сердце и оправдать поведение друга.
– Только не говори, что у него открылась церебральная лихорадка и он теряет разум, – сказала она с сарказмом.
– Ну, кажется, он близок к тому. Говорит, что… О боже, он говорит, что видел у тебя старую фотографию с тобой и твоим братом, как он думает. И он утверждает, что твой брат как две капли воды похож на него… двойник… близнец.
Роз пошатнулась и опустилась рядом с туалетным столиком на табурет, накрыв его своим широким пеньюаром.
– Видишь ли… Микаэль был усыновлен. Его мать открыла ему эту тайну перед смертью.
С другой стороны провода доносилось только затрудненное дыхание.
– Роз? – позвал Азнавур, но безрезультатно.
– Я здесь, – наконец произнесла она, стараясь сдержать дрожь в голосе.
– Ты думаешь, он сходит с ума?
– Нет! Нет! – воскликнула Роз. – Сатен родила двух мальчиков-близнецов, я в этом уверена, – сказала она, придя в себя.
После этого заявления они оба не проронили ни слова, обдумывая новую ситуацию, которая раскрывалась перед ними со всей очевидностью.
– Пожалуйста, передай ему, что я жду его здесь, у меня, – с мольбой в голосе попросила Роз. – Прошу тебя, – добавила она, глядя на тюлевое платье, висящее в открытом шкафу.
Оставшиеся увядшие бутоны роз выделялись на белом фоне, как капли свернувшейся крови.
Она приняла его в той же гостиной, где он встретился с Торосом. Как только он вошел, она поднялась с дивана и протянула ему руку в легком замешательстве:
– Привет, Микаэль.
Он потерял свой безукоризненный вид, который впечатлил всех накануне: воротничок рубашки не был уже таким белым, брюки были мятые и без стрелок, красивое лицо было напряжено и приняло сероватый оттенок. Он приветствовал ее легким рукопожатием и сел рядом в кресло. Мягкий свет от торшера освещал часть седых прядей с оттенком желтизны, спадавших ему на лоб до самой переносицы, подчеркивая горбатый точеный нос. Мелкие морщинки безжалостно обрамляли уголки рта.
– Как ты? – спросила она.
– Хорошо. Извини, ты-то как? – спохватился Микаэль, будто очнулся в тот момент от глубокого сна.
Они обменялись быстрыми взглядами. Каждый хотел обнаружить в другом знак, отметину, не замеченную ранее, хоть наколку на коже, как бы невероятно это не показалось, хоть что-нибудь, что могло бы подтвердить их кровное родство.
Роз была очень бледна, будто кровь отлила у нее от лица.
– У тебя есть с собой какая-нибудь твоя фотография в юности? – спросила она с завидным самообладанием.
– Да.
Микаэль поискал в кармане и вынул фотографию со студенческой книжки колледжа, которую носил всегда при себе, вроде амулета. Роз взяла ее и повернулась к свету, чтобы внимательнее рассмотреть. Мгновение спустя Микаэль увидел, как ее плечи дрогнули, сначала едва заметно, затем сильнее, от глубоких несдерживаемых рыданий.
– Это Габриэль, это мой брат, – бормотала она, – мой ангел.
Она прижимала фотографию к груди, как вновь обретенное сокровище, с которым теперь уже никогда не рассталась бы. Микаэль, тронутый, поднялся с кресла, чтобы сесть рядом с ней, а она старалась сохранять самообладание. Вытерла глаза, выпрямилась, пригладила растрепанные волосы.
– Вы – одно лицо, – прошептала она, сдерживая слезы. – Теперь я никогда не смогу смотреть на тебя, не думая о нем.
Она подняла голову и посмотрела на него, а Микаэль ей мягко улыбнулся, смущенный и взволнованный.
– Даже не знаю, с чего начать, не знаю, что рассказывать тебе… На это потребуется вся жизнь, – начала Роз.
– Я завтра улетаю.
Его замечание ободрило ее.
– Прежде всего, я хочу, чтобы ты знал, что Габриэль значил для меня.
Она прервалась в поисках нужных слов, чтобы выразить чувства, которые испытывала к брату, но не нашла их, может быть, из-за сильного волнения.
– Могу себе представить, – сказал тогда Микаэль.
Тут Роз вскочила, выдвинула ящичек секретера, стоявшего сбоку от дивана. Вынула оттуда какой-то предмет, завернутый в кусок светлого бархата. Аккуратно развернула его, как если бы это была дорогая реликвия, и достала книгу без обложки, тонкую и потрепанную, с загнутыми уголками страниц.
– Вот причина всего, – сказала она, снова сев на диван. – Я знаю, что это теперь кажется безумным, но папа и Габриэль были арестованы и сосланы в Сибирь из-за глупого рассказа. Хотя он не такой уж и глупый. – Она прижала книгу к сердцу и процитировала наизусть: – «…Он упал лицом на кровать, выговаривая себе, что должен был отдать монетку ребенку. Какой-нибудь ребенок мог бы много всего купить на один пенни».
– Сароян! – воскликнул Микаэль.
– Габриэль всегда читал мне его на ночь, – продолжала она, кивнув. – Мы спали вместе и вместе просыпались… Когда ночью мне было страшно, он обнимал меня, отдавал мне свой кусок хлеба, если я была голодна… мягко выговаривал и ласкал.
Потом она снова посмотрела Микаэлю в глаза, будто собиралась поведать ему вселенскую тайну.
– «Ты моя Новарт, моя розочка», – говорил он мне, и когда за ним пришли той ночью, я…
Она задрожала и сцепила руки, чтобы было не так заметно, как ее колотила лихорадка. Книга выпала у нее из рук на мягкие подушки дивана.
– Я помню его лицо, его глаза, как он смотрел на меня из окна милицейской машины, в которой его увозили, но я была слишком мала и наивно думала, что он скоро вернется. Я не могла себе представить, что никогда больше не увижу его.
Лицо Роз скривилось в болезненной гримасе, и она снова заплакала. Микаэля охватило желание обнять ее, успокоить, но он сам чувствовал себя потерянным и смущенным. Перед ним сидела его сестра, которая все-таки оставалась для него чужой, и рассказывала ему, как потеряла их отца и брата. От всего этого можно было сойти с ума.
– Я считаю, что Габриэль еще жив, – вдруг заявила Роз. – Я каждый день читаю истории бывших узников, прошедших через ГУЛАГ, которые нашли своих родственников, годами считавших их пропавшими или мертвыми. Многие сменили имена, скрывались в затерянных сибирских селениях. Я знакома кое с кем в русском посольстве, они могут достать документы, помочь найти его. Но одна я это все не потяну. – И она с мольбой посмотрела на Микаэля. – Прошу тебя, давай искать его вместе, ведь мы же родные, – прошептала она.
Микаэль предпочел бы, чтобы она молчала, чтобы не была так порывиста. Роз ошарашила его ужасной историей, а он не был еще готов к тому, чтобы принять и разделить ее тяжесть. Нужно было многое уточнить, кое-что проверить. Или он просто не хотел верить из боязни неожиданного поворота, который принимала его жизнь? Из трусости?
– Мама тебя обожала, – сказала Роз, удивив его. – Однажды она призналась мне, что чуть не умерла, после того как папа отдал тебя. Говорила, что долго еще, несколько лет проверяла, не пропиталась ли ее одежда кровью, потому что ей все время казалось, что сердце ее кровоточит от боли.
Микаэль не отвечал ни да ни нет, но что-то в этом разговоре все-таки тронуло его, и он поднял глаза к потолку в слабой надежде загнать обратно слезы, щипавшие глаза.
– Ты думаешь, что он твой брат, близнец Габриэля? – спросил Артур, возвращая ее к действительности.
– Когда он показал мне свою фотографию в юности, я не сдержалась и заплакала. Не могла поверить своим глазам. Не просто из-за физического сходства, но из-за того, что она передавала. То же тепло, ту же нежность. И все же…
– И все же?
– Не знаю. Как я могу быть уверена?
– Что говорит тебе твое сердце?
– Я бы не хотела цепляться за химеру, за надежду, которая потом окажется несбыточной. Ты знаешь, как я настрадалась и как мне тяжело до сих пор.
– Он захотел узнать что-нибудь поподробнее о своем близнеце? – спросил Артур.
– Мне показалось, что его больше интересовало то, что касалось его самого, – ответила Роз, откусив кусочек печенья.
– Ну, это нормально. Поставь себя на его место.
– Если он мой брат, – продолжала Роз, – как я надеюсь, я бы хотела, чтобы он понял, как нам было тяжело, мне и маме. Во всяком случае, я рассказала ему о репатриации в Армению, о репрессиях, об аресте Габриэля и нашего отца, я рассказала ему все. Он ушел от меня запоздно, потрясенный, растерянный. – Она поставила на столик чашку и положила рядом надкусанное печенье. – На самом деле Микаэль и я не имеем ничего общего, нет ничего, что бы нас связывало, – завершила она. – Видишь ли, Артур… наверное, боль – это единственное, что может сблизить нас.
26
Рим, декабрь 1991 года
– Она уверена, что он еще жив.
– Я тоже, – резко перебил его Томмазо, что выходило за рамки его обычного терпеливого и вежливого поведения.
Отец и сын медленно прогуливались по тенистой аллее Пинчо[80] с намерением дойти до смотровой площадки и полюбоваться открывавшимся с нее видом на Рим в лучах закатного солнца.
Микаэль ничего не сказал, только посмотрел на Томмазо растерянно и слегка раздосадованно. На его взгляд, сын делал преждевременные выводы и был слишком уверен в том, в чем сам он еще сомневался.
– Тебе не понравилось то, что я сказал? – спросил Томмазо. – Я уверен, что твой брат еще жив, – повторил он, бросив на отца пронзительный взгляд черных глаз.
Микаэль по-прежнему, нахмурившись, молчал.
– Я тебя понимаю, поверь мне. Я знаю, что это непросто вот так вдруг узнать о родной семье и о событиях, которые касаются тебя лично, но о которых ты до сих пор ничего не знал. Когда ты позвонил мне в Милан и сказал, что должен поговорить об очень важном деле, я не предполагал, что речь пойдет о… такой бомбе.
* * *
Томмазо приехал к отцу в Рим через неделю после того телефонного звонка. Он воспользовался случаем, поскольку должен был переводить для русского гостя, приглашенного на телевизионную передачу в прямом эфире.
За несколько дней до того Россия, Украина и Белоруссия подписали Беловежское соглашение, которым провозглашался роспуск Советского Союза и создание Содружества Независимых Государств. Событие мирового значения, которое, разумеется, привлекло внимание средств массовой информации, и Томмазо, в совершенстве владеющий русским языком, оказался завален работой. После ток-шоу он взял такси от РАИ[81] и примчался к отцу домой, где после обеда Микаэль и рассказал ему все, что с ним случилось за неделю пребывания в Канаде. Потом они вышли прогуляться, продолжая говорить об этой невероятной истории.
Отец и сын остановились полюбоваться закатом на смотровой площадке Пинчо.
– Она позвонила мне вчера, – неожиданно сказал Микаэль. – Объявила, что нашла способ получить визы для нас обоих.
Томмазо смотрел на него непонимающе.
– Твоя тетя Роз, – пояснил Микаэль, ухмыльнувшись, будто называть ее так было смешно, – настаивает на том, чтобы ехать в Сибирь искать нашего брата, и хочет во что бы то ни стало, чтобы я сопровождал ее, потому что она боится ехать одна.
– А ты?
– Не знаю. Зато точно знаю: мне в жизни было так одиноко, что от одной только мысли, что у меня может быть брат, который, вероятно, еще жив, я уже чувствую себя счастливым.
На город надвигались сумерки, но они не успевали сгуститься, потому что миллиард загоравшихся огней, сверкавших, как звезды, мало-помалу рассеивал их. Томмазо подумал о Габриэле, близнеце своего отца, сосланном в сибирский лагерь, заложнике времени, который всеми силами пытался освободиться.
– Ты должен ехать, папа, – сказал он наконец неожиданно даже для себя самого.
Он назвал Микаэля «волшебным» словом, которое до сих пор не осмеливался произнести.
Милан, 18 декабря 1991 года
Дорогой папа!
Хочу поблагодарить тебя за гостеприимство, с тех пор как у меня появился ты, приезжать в Рим для меня – все равно что возвращаться домой.
Я захотел написать тебе, чтобы разъяснить свою позицию и то, что я думаю об истории, которую ты мне рассказал. Я не смог бы сделать это лично, иногда мне не хватает смелости, что-то сдерживает меня, когда я нахожусь рядом с тобой. Надеюсь, со временем смогу установить такие отношения, когда каждый из нас будет свободно высказывать другому то, что думает и чувствует.
То, что случилось в Торонто, – это знак судьбы. Трагические события, о которых ты узнал, касающиеся тебя лично и твоей семьи, конечно, разрушительны, но они остались в прошлом, рана затянулась, остался только шрам, ты уже выздоравливаешь.
Я вспоминаю одну из твоих фраз: «Мне в жизни было так одиноко, что от одной мысли, что у меня может быть брат, который, вероятно, еще жив, я уже чувствую себя счастливым». Я не переставал думать об этих словах, пока летел в Милан, может быть, потому, что в них было такое знакомое, близкое мне чувство.
Вооружись терпением и поезжай в Сибирь. Я понимаю твои опасения: поиски твоего близнеца могут закончиться хорошо, но могут закончиться и плохо. Но, несмотря на это, я убежден, что ты должен попробовать. Прими вызов! Только так ты сможешь и дальше жить без сожалений.
Я буду рядом с тобой.
Я люблю тебя.
ТоммазоМикаэль положил письмо на стол. Первое письмо, которое написал ему сын. Он посмотрел на магазинные ходики. Если он не ошибался, в Торонто сейчас было ровно семь часов утра. Он поднял трубку и набрал десять цифр из записной книжки, написанных напротив имени Роз.
– Добрый день, – сказал он хриплому голосу, ответившему на звонок. – Ты уже собрала чемоданы?
27
Петропавловск-Камчатский, июнь 1992 года
В то утро Евгений Козлов встал рано.
Выйдя на маленькую терраску своего дома в одной майке, он ждал, когда солнце покажется из-за холма. Заря раскрасила небо в яркие цвета, и хотя лето уже наступило, утренний воздух был по-прежнему режуще-ледяной. Он глотнул дымящегося чаю из кружки, которую держал в одной руке, и сразу после этого глубоко затянулся сигаретой, которую держал в другой. Выпустил дым в сумрачное утро и закашлялся сухим кашлем, скоблившим легкие, как наждачная бумага.
Он посмотрел вниз, на бухту, которая в этот утренний час, казалось, была наполнена жидкой ртутью. В порту, как желтые глаза стаи волков, сверкали огни. Краны двигались над причалами, как зомби, медленно волочась. Отдаленный гул фабрик, неустанных производительниц богатств, ласкал слух, словно грустная колыбельная песня.
Каждое утро он несколько минут любовался открывавшейся перед ним панорамой, особенно наблюдая за траулерами, которые заходили в порт. Это была главная причина, по которой он переехал в этот убогий домишко, старую избу у подножия холмов Петропавловска. Он влюбился в этот пейзаж с первого взгляда, как только вышел на терраску.
Какое-то судно дало три коротких гудка, которые эхом раскатились по бухте, словно плач кита. Евгений посмотрел на часы и вернулся в дом, сооруженный из досок и бревен. Сегодня он не увидит восход солнца, не порадуется первому солнечному лучу, освещающему, в зависимости от времени года, тот или иной угол комнаты. И он жалел об этом, потому что любил наблюдать, как зарождается новый день, – это наполняло его душу радостью, вселяло надежду.
Но в то утро у него не было времени. Он должен был ехать в аэропорт на первый рейс в Магадан, который был в восемь. Он надеялся, что самолет вылетит без задержек, сразу после обеда у него была назначена встреча.
Вот уже несколько лет они не выходили на связь, и он надеялся, что все закончилось. Но пару дней назад телефон опять зазвонил и кислый голос секретарши сказал, что передает трубку полковнику Литвенко.
– Эй, торговец рыбой, все еще прозябаешь в Авачинской бухте? – начал тот, вероятно, желая пошутить. Это был человек, который в считаные доли секунды мог перейти от радушной сердечности к презрительной сухости.
– Ты же мне не звонишь, вот я и довольствуюсь семгой, – ответил Евгений в том же тоне.
– Мы хотим тебя видеть в следующий вторник, в два часа дня, переговори с секретаршей, – сказал Литвенко и положил трубку.
Это походило на сцену из старого фильма времен холодной войны, но это была его жизнь. То, что случилось с ним в прошлом, служило поводом для шантажа и давало КГБ право требовать от него услуг, которых у обычных людей не просили.
Прошлое имело силу предопределять будущее.
Сидя на кровати в одних трусах и натягивая серый носок, второй лежал на таком же сером одеяле, он рассматривал свое тело. Уже давно то, что он видел, вызывало у него отвращение. Увядшая морщинистая кожа, растянувшийся обвислый живот. Тогда с презрением и немного с жалостью к самому себе он стал массажировать его резкими круговыми движениями, будто хотел растопить чудесным образом жир, который накопился за много лет.
Потом он быстро надел коричневые брюки и желтую рубашку. Выходя, собирался набросить на плечи кожаную куртку, которая висела в прихожей на вешалке. Надо было привести себя в порядок, раз в Магадане ему предстояло встретиться с людьми определенного уровня. Прежде чем выйти из дома, он пошел в туалет помочиться. Хоть ему и было всего чуть больше пятидесяти, он страдал от расстройства мочевого пузыря, и непреодолимое желание справить малую нужду мучило его целый день, где бы он ни находился. В больнице ему посоветовали сдать анализы, а пока он должен был бросить курить и, разумеется, не пить водку, к которой был неравнодушен.
Выйдя из туалета, он посмотрелся в зеркало над мойкой и задержался. Бывали дни, когда он отвергал человека, который отражался в зеркале, не хотел удостоить его даже взглядом. Он решил было отрастить себе бороду, чтобы хоть как-то спрятать это лицо. Но в то утро волнение перед дорогой и беспокойство о новом задании, которое его ждало, сломили его сопротивление. Он смело посмотрел на себя в зеркало. Единственное, чего не коснулось время, – так это шрам от ожога, длинный рубец, пересекавший левый глаз и доходивший до верхней губы. Евгений внимательно рассмотрел обезображенный глаз. Веко было испещрено микроскопическими порезами, белок пересекали лопнувшие капилляры, зрачок подернут белой пленкой. Он коснулся шершавой, как корка неудавшейся яичницы, кожи, словно хотел оживить воспоминание о событии, которое терялось где-то в глубине его памяти. Остальная часть лица принадлежала плохо сохранившемуся мужчине средних лет с множеством морщин, редкими седыми волосами, пожелтевшими зубами и короткой бородкой, которая никак не могла спрятать его уродство.
– Евгений Козлов, ты просто жаба, – сказал он своему отражению в зеркале, улыбаясь саркастически.
Потом проверил еще раз документы и пошел к входной двери. Перед выходом он надел черную кожаную куртку, засунул во внутренний карман неизменную плоскую фляжку с водкой и стал искать ключи от фургона. Он только что закрыл входную дверь, как снова влетел в дом, запыхавшись. Бросился в туалет, схватил то, что искал, и засунул в карман.
Это была повязка, которой он прикрывал обезображенный глаз.
По дороге на него, как всегда, произвел впечатление величественный вулкан Корякский, доминировавший над равниной и сверкающий белой вершиной, как гигантский метеорит, свалившийся из космоса. Это была другая часть панорамы, которой ему не хватало дома. Этот вулкан был виден из любого конца города, над которым он нависал, как молчаливый страж. Евгений на секунду остановился и уважительно приветствовал его. Он представлял себе, как в недрах вулкана тикают часы, отмеряя время до следующего извержения, когда земля вздрогнет и лава вырвется из его рта, как раскаленная река, прокладывая себе путь в снегах.
Он открыл дверцу своего болотно-зеленого «Москвича» и с трудом устроился на просевшем сиденье. Нежно погладил руль и завел двигатель. Евгений гордился своим фургоном, несмотря на то что ему было уже более десяти лет. У него была полноприводная система, двигатель на семьдесят пять лошадиных сил и сзади много места, чтобы перевозить товар. В тех немногих случаях, когда он решал нажать на газ, его «Москвич» срывался с места, как метеор, оставляя далеко позади себя большую часть машин. В свое время ему удалось заполучить этот фургон, дав понять кому следует, что он не может ездить на развалюхе. Евгений развозил рыбу. Загружал в порту ящики с рыболовных судов и развозил по торговым точкам в городе, и не только. Самое сложное в его работе было добраться до селений, разбросанных в самых затерянных уголках полуострова, к которым вели только малопроходимые и опасные дороги. Так что ему была нужна надежная машина, чтобы систематически выполнять свою работу.
Он выехал на областную дорогу и прибавил газ. Когда стрелка спидометра показывала «сто», а солнце искрилось на лобовом стекле, Евгений опустил окно, чтобы впустить свежий воздух в салон, провонявший морской солью и рыбой. Этот запах вовсе не раздражал его, он привык к нему, он даже был ему как родной. Просто ему хотелось получить удовольствие от свежего ветра, несущего украденные у ледяных вод Арктики запахи, путавшего волосы и ласкавшего его лицо.
Это было одно из немногих ощущений, которое напоминало ему свободу.
В нескольких километрах от аэропорта он заметил милицейскую машину. Он улыбнулся. ГАИ годами выставляла пост в одном и том же месте, за тем же деревом, в надежде на вероятную добычу. Милиционеры останавливали без реальной причины ничего не подозревающих автомобилистов. Угрожая изъятием водительских прав или даже всех документов, они вымогали у них деньги под видом штрафа за нарушение правил дорожного движения, чтобы затем отпустить. В худших случаях они говорили, что конфискуют саму машину, и несчастным водителям не оставалось ничего другого, как подчиниться.
Евгений надеялся, что теперь ситуация изменится к лучшему. Он смотрел телевизионные новости, в которых говорили об идущих больших переменах, о бурлении в обществе, прокатившемся по всей стране, которая наконец-то, казалось, расшевелилась. Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации (теперь больше не говорили Советский Союз), запретил коммунистическую партию и конфисковал ее имущество. Старая система доживала последние часы. Может быть, и сотрудник КГБ перестанет ему звонить, раз и навсегда.
«Перестройка и гласность спасут Россию!» – гласил плакат перед милицейским постом. Евгений присмотрелся и узнал их: это была все та же пара, Пушка и его зам Руби. Он помахал им рукой и улыбнулся одной из своих обезоруживающих улыбок.
– Привет, Евгений! – крикнули они в ответ хором.
В других странах, наверное, его задержали бы. Пушка прекрасно знал, что Евгений не должен был водить машину, что он был практически слеп на левый глаз, что получил права по блату. Кто знает, сколько клешней королевских крабов они ему стоили! На самом деле зрение в левом глазу с годами улучшилось: Евгений мог теперь различать тени на светлом фоне и надеялся, что скоро какой-нибудь врач изобретет хирургический способ, который вернет ему зрение. А пока он был уже счастлив тем, что видел, и часто не надевал повязку, которая раздражала кожу, и плевать хотел на отвращение, которое его шрам мог вызывать у людей.
За долгие годы он привык не обращать на это внимания.
Он заехал на широкую территорию аэропорта Елизово, окруженную колючей проволокой, оставил фургон на стоянке, быстро пошел к залу вылетов и поискал глазами туалет. Снова справил малую нужду, затем встал у мойки и вымыл руки красноватым мылом с ароматом земляники. Вынул повязку из кармана, приложил ее к глазу, пропустив резинку за ухом и далее вокруг головы. Теперь он был готов.
– У меня предоплаченный билет в Магадан, – сказал он некоторое время спустя девушке за стойкой и улыбнулся.
Полет длился почти два часа.
В аэропорту Сокол, от которого до Магадана было пятьдесят километров, Евгений решил сесть на микроавтобус. В нем помещалось до восьми пассажиров. Внутри воняло табаком и потом, проезд стоил чуть дороже, чем в обычном рейсовом автобусе, но зато был быстрее и удобнее.
– До площади Ленина, – сказал он, садясь рядом с водителем.
Он посмотрел на часы и успокоился, до встречи оставалось еще около часа. Самолет взлетел вовремя, а приземлился даже на десять минут раньше. Евгений пообедал в аэропорту, купив в кафетерии бутерброд, который запил глотком водки из своей фляги. Потом он поискал телефон, одну из голубых кабин «Сибирьтелекома», и набрал номер оператора.
– Чем я могу вам помочь? – спросил его мужской голос откуда-то издалека.
– Семь, четыре, один, один, клиника «Ясная Авача».
– Камчатка?
– Да.
Он услышал странные шумы, потом оператор передал линию.
– «Ясная Авача», – ответила женщина.
– Это Козлов.
– Я вас не слышу.
– Евгений Козлов, я звоню по поводу Аннушки Печиновой, – прокричал он в трубку, заставляя оборачиваться проходивших мимо людей.
– Что вы хотите знать?
– Как она сегодня себя чувствует?
Женщина ответила не сразу.
– Так же, как и сорок лет назад, – сказала она наконец, и он удивился, что обладательница такого нежного голоса была способна на такой цинизм.
– Где тебя высадить, товарищ?
Вопрос водителя оторвал его от мыслей.
– У Главного управления, – пробормотал он.
Водитель бросил на него равнодушный взгляд и спустя некоторое время припарковался у тротуара.
– Семь тысяч рублей, – пробубнил он.
Евгений вылез из автобуса под моросящий дождь. Подтянул брюки, застегнул куртку, поправил глазную повязку и поднялся по лестнице, ведущей ко входу в здание серого цвета. Казалось, что здание заброшено. Не было всегдашнего обычного суетливого потока входивших и выходивших людей, какой он помнил, и над входной дверью не развевались больше флаги ни с серпом и молотом, ни с другими знаками. Была только табличка с тремя буквами: КГБ. Аббревиатура от Комитета Государственной Безопасности. Еще несколько лет назад, когда он был частым гостем в этих кабинетах, Евгений обнимался бы направо и налево, приветствуя знакомых, сталкивался бы с многократно награжденными офицерами, чувствовал бы себя причастным к укреплению мощи СССР. В самом деле, впечатление, что страна разваливается, было сильнее в больших городах, чем в его маленьком Петропавловске-Камчатском, на краю земли.
– Кого ищешь, товарищ? – спросил его худощавый тип болезненного вида в информационном окошке.
– Полковника Литвенко.
– Документы? – Худой посмотрел на фотографию в удостоверении личности и сравнил ее с посетителем, стоявшим напротив него. – Пришло время сменить, – сказал он, отложив документ и выдав ему пластифицированную карту.
– Я уже подал заявление.
– Третий этаж, – буркнул человек, стиснув в зубах сигарету.
Пока он ждал в некотором волнении тех, кто его вызвал, Евгению вдруг вспомнилась одна сцена, которая даже спустя много лет вызывала в нем умиление.
Ему было чуть больше двадцати, и он уже тогда развозил рыбу. Охотское море славилось хорошими уловами, рыболовецкие суда возвращались в порт, груженные всевозможными деликатесами: крабами, лангустами и неизменными метровыми лососями.
В то утро он загрузил лососевые головы, отрубленные на уровне жабр, – товар, пользовавшийся большим спросом в больницах, потому что стоил дешево и из него получался отличный наваристый бульон. Рецепт был прост: в кастрюлю с холодной водой бросали лук, морковку, много картошки и рыбьи головы. Все варилось до тех пор, пока не разваривалось до кашицеобразного состояния, затем фильтровалось и подавалось больным и ослабевшим старикам. Легкая и питательная еда, настоящая панацея.
Среди адресов, по которым он должен был развозить товар, было убогое здание с надписью при входе «Реабилитационный центр “Авача”». Он остановился напротив здания, вытащил пару ящиков и понес их на кухню со служебного входа. Было всего лишь шесть часов утра, и никого вокруг.
– Мне нужна подпись, где заведующий? – спросил он посудомойщика.
– Выше этажом, – ответил парень и поставил огромную кастрюлю в мойку.
Евгений поднялся по лестнице и почувствовал запах хлорки, от которого сразу защипало в носу. На втором этаже он толкнул тяжелую металлическую дверь и очутился в коридоре. Не зная, в какую сторону идти, посмотрел направо и налево в поисках кого-нибудь, у кого можно было бы спросить. Уборщик мыл пол, и Евгений направился к нему, но тот скрылся за углом, шумно волоча за собой свою тележку. Тогда Евгений попытался было догнать его, но, передумав, повернулся и пошел в другую сторону. В резиновых сапогах, парусиновых штанах и зеленом прорезиненном фартуке он прошел по всему коридору мимо множества прикрытых дверей, из-за которых доносилось шарканье ног, приглушенные стоны, кашель, словом, типичные звуки просыпавшейся клиники. Он уже собирался свернуть за угол, когда его внимание привлекла девушка. Она сидела в кресле-каталке на пороге последней комнаты. В полутьме, которая ее окружала, Евгений заметил бледную как полотно кожу и золотистые волосы, заплетенные в длинную, ниспадавшую на грудь косу. Она была худа, тонкие плечи покрывала серая шаль с бахромой. У нее был потерянный взгляд, в руках она сжимала тряпичную куклу, которая странным образом была на нее похожа, такая же худая и с длинной косой из соломы. Евгений посмотрел на нее с любопытством, а она неожиданно пришла в себя и уставилась на него своими огромными зелеными глазами, подернутыми грустью.
– Извините, где здесь кабинет заведующего? – спросил Евгений, вдруг почувствовав необъяснимое желание услышать ее голос.
Девушка промычала какие-то странные звуки, и, когда он приблизился, на ее розовых губках появилась несмелая улыбка, тронувшая его до слез. Взволнованный, он отступил, испугавшись, что девушка заметит его слабость, увидит, как у него перехватило дыхание. Но она лишь пригласила его мягкими, пленительными жестами приблизиться. Казалось, что она просит его встать перед ней на колени, наклониться к каталке, чтобы шепнуть ему на ухо какой-то секрет.
Евгений сделал, как она просила, и опустился на одно колено, как принц из сказки, который просит руки своей возлюбленной. Она смотрела на него зелеными глазищами и улыбалась вместе с ним. Евгению показалось, что он вот-вот умрет. В этот момент девушка уронила свою куклу и протянула руку, чтобы коснуться его черной повязки.
Она будто спрашивала: что с тобой случилось?
– Аннушка, что ты делаешь?
Сказка рассеялась мгновенно. К ним спешила медсестра, требуя постороннего немедленно отойти.
– Товарищ Козлов, а ты неплохо выглядишь!
Василий Литвенко, внушительных размеров мужчина в форме защитного цвета с многочисленными наградами, входил в огромный кабинет. За ним следом шел Алексей Калкин, маленький и худой, семеня, как утенок семенит за мамой-уткой.
Евгений вскочил и замер, пока Литвенко, приблизившись, не протянул ему руку. Алексей ограничился только кивком головы.
– Чаю? – предложил Литвенко.
– Нет, спасибо, ничего не надо.
Оба офицера сели за стол напротив Евгения, положили перед собой красные папки и внимательно посмотрели на него.
– Мы не виделись три года, – начал Литвенко.
– Три года и несколько месяцев, – поправил Евгений. – Я начал уже скучать по Магадану.
– Магадан не ценишь, пока из него не уедешь, – ответил Литвенко с важностью. – Но вернемся к нашим делам.
Евгений почувствовал, как быстрее забилось его сердце, так было всегда, когда ему поручали задание.
Калкин открыл папку и, поискав в ней, достал листок факса.
– Две подозрительные личности должны приехать в Петропавловск, – сказал он, глядя в листок поверх очков. – Микаэль Делалян, холост, пятьдесят четыре года, место рождения не указано, проживает в Италии, в Риме, антиквар, и Новарт Газарян, в замужестве Роз Бедикян, двое детей, сорок два года, место рождения – Ереван, Армения, проживает в Торонто, Канада, предприниматель. Дата въезда: семнадцатое июня, московский аэропорт, рейс KLM пять-шесть-шесть из Амстердама.
– Эти двое уже в Барнауле, – вмешался Литвенко. – Наши коллеги только что нам сообщили. Они пожелали посмотреть списки одиннадцатого лагеря на Алтае. Ищут заключенного Габриэля Газаряна, пропавшего брата женщины. – И жестом пригласил Алексея продолжать.
– Рабочая виза выдана посольством в Оттаве, Канада, – читал он. – Заявленная цель поездки – изучение традиционной одежды народов Чукотки по заданию фирмы «Роз и Компаньоны», владелицей которой является госпожа Бедикян.
– Одежды народов Чукотки? – воскликнул Евгений и засмеялся глухим смехом. – Что еще они придумают?
Этих двоих тоже, казалось, развеселила указанная причина.
– Это бред, – добавил Евгений, ударив кулаком по столу.
– Ну а если серьезно, что ты думаешь?
– Извините, товарищи, но я должен выйти на минутку. – И Евгений встал, сдерживая смех. – Мне нужно в туалет, от этого анекдота мой мочевой пузырь сейчас лопнет.
Он подмигнул единственным глазом, призывая к пониманию, и вышел из кабинета, словно не мог больше сдерживаться.
Евгений не знал, как убить остаток времени в Магадане. Было шесть часов вечера, а его рейс вылетал в полночь.
Этот город, когда-то одна большая зона, как многие сибирские города, Евгений хорошо знал, в молодости он провел там долгие месяцы. Он солгал, сказав, что скучал по городу, и теперь жалел об этом. Черта с два! Он сказал это, только чтобы сделать приятное начальству, из-за мерзкого низкопоклонства, время от времени вылезавшего наружу, которое он не мог в себе подавить. Он ненавидел этот город. Каждая улица, каждый дом Магадана были пронизаны болью и отчаянием. Вся эта земля была пропитана слезами и кровью.
Он сидел на скамейке в парке под деревом и думал. Вокруг не было ни души. Евгений был один, как и все последние десятилетия, но время научило его терпеливо сносить одиночество. Однако сегодня это с трудом достигнутое равновесие было нарушено – новое задание. Он не хотел, более того, совсем не хотел выполнять его. Не мог!
Если бы он был дома, то сел бы в свой фургон и помчался бы в «Ясную Авачу», где уже много лет жила его любимая Аннушка. Он проехал бы весь этот нелегкий путь по извилистой горной дороге с узкими крутыми поворотами, чтобы только заключить ее в свои объятия. Она улыбнулась бы ему своей прекрасной улыбкой и снова уронила бы свою куклу, чтобы дотронуться до его руки и почувствовать его тепло. И они рассказали бы друг другу многое, глядя в глаза в полном молчании, потому что слова только порождают путаницу. Иногда достаточно нескольких мгновений, чтобы почувствовать себя счастливым.
Он резко поднялся и пошел по спуску к морю. Ему казалось, что это правильное направление. Там, внизу, беспредельный простор волн обещал ему великий дар – забвение. Как будто огонек подпалил стог сена, так в его сердце зажглась слабая надежда. Он пересек город и прошел по дороге «костей», специально по самому ее центру, по асфальту, замешанному на смоле и костях, – останках заключенных, которые строили этот город. Он хотел услышать их крики, хотел понять, есть ли в мире мертвых кто-то, кто страдал больше него.
И он готов был с ним поменяться.
Женщины выстроились вдоль стены и казались манекенщицами, предлагавшими на обозрение модели одежды.
Евгений рассматривал их со вниманием режиссера, которому нужно было выбрать главную героиню для своего фильма. Роль ему была еще не ясна, многое зависело от качеств актрисы. Там были блондинки и брюнетки, худые и в теле. Если бы ему захотелось другую, к примеру, высокую или низкую, ему бы ее наверняка тотчас доставили.
Главное – плати.
Девушки прохаживались, льстиво, с намеком поглядывали, качая бедрами в коротких платьях, выдыхая сигаретный дым в лицо клиентам. Их задачей было привлекать мужчин, рабов страстей и порочных желаний. Пожилая женщина с начесом на голове сидела за письменным столом. Это была хозяйка борделя, она выдавала ключи, висевшие в шкафчике сбоку, записывала имена девушек, которые поднимались в комнаты, и получала тариф авансом. Только так.
В борделе Евгений вновь ожил. Он сидел вместе с другими мужчинами в небольшой комнате, зале ожидания, как пациент в очереди на прием к зубному врачу. Он чувствовал тепло тел, совокуплявшихся в комнатах, запах высвобождаемой влаги, оживлялся от стонов и шепота. Первая комната, которая освободилась, была для него. Сейчас он возьмет за руку выбранную им девушку и поведет ее в темноту. Смотреть друг другу в лицо не было нужды.
– Ты часто приходишь сюда? – спросил его мужчина со странным акцентом. Здесь было обычным делом встретить чужака, это был вавилонский город.
Евгений пожал плечами:
– Когда как.
– Мне сказали, что здесь хорошо… – Мужчина, хитро улыбаясь, сделал вульгарный жест пальцем.
Евгений снова пожал плечами.
– Тут есть девочка вот такого роста, – пробубнил мужчина, наклонившись вперед. – Мне ее описали, но я ее еще не видел.
– Кто, армянка? – вмешался другой из дальнего угла комнаты. Он был толст, и живот его вздрагивал, когда он говорил. – Она заболела, потому что делала это без резинки.
– Какая глупость! – ответил чужак.
– По молодости я тоже хотел делать без, но сейчас… – опять заговорил пузатый, размахивая рукой, – это невозможно, слишком опасно.
– Одиннадцать, – объявила хозяйка.
Евгений встал и приблизился к девушкам. Взял за руку первую попавшуюся, даже не раздумывая. Это была маленькая брюнетка, плохо выглядевшая, с отвисшими до живота, как пустые мешки, грудями.
– Ты знаешь, кого выбрать, – шепнула ему на ухо мегера, подавая ключ, – только для тебя сорок пять тысяч.
Евгений заплатил и поднялся по лестнице, увлекая за собой женщину, которую только что купил.
– Мне нужно на минуту в туалет, – сказал он, не заметив, что унитаз стоял в углу комнаты.
Она начала раздеваться, пока он справлял нужду. Когда он обернулся, она уже лежала на кровати почти полностью обнаженная, в одних черных кружевных трусиках. Она терла ляжки одна о другую, гладила себя по внутренней части бедер медленными чувственными движениями. Женщина хотела выглядеть желанной, волнующей и закончить все поскорее. Время – деньги.
– Что ты делаешь?
– Все.
– С или без?
– С… но…
– Но что?
– Если ты заплатишь…
– Сколько?
– Еще пятьдесят тысяч.
Евгений засунул руку в карман и вынул банкноты, свернутые в рулон. Он взял из него требуемую сумму, добавив десять тысяч, и положил ей на живот. Женщина вздрогнула от удовольствия, схватила их, сложила и сунула под подушку.
– Не говори ничего хозяйке, а то она меня выгонит.
– Наклонись, – приказал он, не ответив на ее просьбу.
Женщина медленно повернулась к нему спиной и встала на колени. Он приблизился к ней и стал рассматривать. Трусики были крошечные и едва скрывали женские прелести. Евгений отодвинул кружевную ткань и погладил костлявый зад проститутки. Женщина симулировала стон удовольствия.
– Брось, мне это не нравится, – сказал он.
Он стал ласкать ее, а она – качать бедрами, стараясь следовать в такт его движениям.
– Не двигайся, – приказал ей Евгений.
Проститутка не двигалась и молчала, как ей было сказано. Наконец он расстегнул ремень, спустил брюки и одним лишь движением, сильным и решительным, садомизировал ее. Женщина сдержала крик, пока он хватался за ее обвисшие груди. Через некоторое время он прислонил голову к ее выгнутой и костлявой спине и закрыл глаза. Он не хотел обидеть ее. Он не был злым. Он просто хотел убить чувство, которое упорно терзало его сердце.
Он хотел уничтожить в себе любовь.
28
Барнаул, Алтай, Западная Сибирь, июнь 1992 года
– Садитесь, не стойте, прошу вас, – предложил человек в форме.
– Что он говорит? – спросил Микаэль.
– Предлагает нам сесть, – шепнула Роз, отодвинув один из стульев, стоявших перед письменным столом.
– Для меня, для нас всегда очень прискорбно сообщать родственникам о судьбах заключенных, которые в прошлом сидели здесь, – начал полковник Никитин, говоря нарочито медленно, чтобы Роз успевала переводить с русского. – Вы понимаете, что мы говорим об определенном историческом периоде нашей страны. Много информации было утеряно, много списков уничтожено. Хотя в лагерях, по правилам, каждое самое незначительное происшествие должно было записываться, но, к сожалению, не все эти документы дошли до наших дней.
Его голос гремел в кабинете, обставленном без претензий, с голыми стенами. Только географическая карта страны и портрет нового президента Бориса Ельцина висели у него за спиной. Государственный деятель, тщательно причесанный, казалось, ни за что не захотел улыбнуться фотографу.
– К счастью, если позволите так выразиться, в вашем случае мы смогли найти некоторую информацию относительно ваших родных. Товарищ… – Никитин, красивый мужчина лет сорока с интеллигентным лицом, наклонил голову и глянул в документ, который держал в руке, – Сероп Газарян и его сын Габриэль.
Микаэль заметил, как у Роз слегка подрагивали руки, которые она держала на коленях, изящно переплетя пальцы.
– Что? – спросил он ее, стараясь отвлечь, хотя уже догадался о содержании фразы, но она была как парализованная, почти не дышала.
– We have some information about your relatives[82], – неожиданно сказал полковник по-английски с гортанным акцентом.
– Не беспокойтесь, – ожила Роз, – вы можете говорить мне, а я потом переведу.
Офицер широко улыбнулся ей.
– Как хотите, – сказал он. – Итак, из записей следует, что Сероп Газарян и его сын прибыли двадцать первого ноября 1952 года в лагерь номер одиннадцать на Алтае. У нас есть фотокопия документа, в котором указаны их имена. – Он показал листок с черными подтеками. – Так… несколько месяцев спустя, примерно в феврале, точная дата не указана, мы можем с уверенностью утверждать, что Сероп Газарян скончался.
Роз вздрогнула.
– С уверенностью, вы сказали?
– Да.
– Что случилось с господином Газаряном? – вмешался Микаэль, волнуясь.
– Наш отец умер, – прошептала Роз. – По какой причине? – спросила она по-русски у офицера.
– Здесь сказано… – Было заметно, что Никитин чувствовал себя стесненно под острым взглядом женщины.
– Что сказано?
– Он покончил с собой.
– Я тоже хочу знать, – снова вмешался Микаэль. – What happened to Mr.Gazarian? – спросил он немного раздраженно.
– Suicide, – ответил полковник, опустив глаза и выронив листок из рук.
Роз посмотрела в окно. Они находились в адресно-справочном бюро Управления внутренних дел города Барнаула, которое располагалось на седьмом этаже одного из суперсовременных зданий в центре города, откуда они начали поиски Габриэля. Если и была хоть какая-то надежда найти живым кого-то из них, то это был бы скорее Габриэль, чем Сероп, по очевидным причинам, но все же узнать, что твой отец наложил на себя руки, было невыносимо больно. Она не могла этого предположить, пускаясь в дальний путь. Она всегда презирала Серопа, не афишируя это публично, никогда не жалела его и тем более не хотела знать, как он кончил. Но сейчас все изменилось.
– Что касается молодого Габриэля Газаряна, – продолжил офицер своим мягким голосом, – мы знаем, что некоторое время спустя он был переведен сначала на перевалочный пункт в Магадане, а затем поднялся на борт судна «Линка», отплывавшего на рудники в Певек… Но… – Он глубоко вздохнул, будто опережая трагические события в жизни главного героя, эдакого Одиссея, преследуемого злым роком, и посмотрел на своих собеседников, стараясь выразить сострадание во взгляде. – Похоже, что «Линка» так никогда и не вошла в порт Певека.
– Как? – спросила Роз.
– Могу я узнать, что он говорит? – спросил Микаэль.
– Кажется, судно затонуло по причинам, которые на сегодняшний день не известны.
– Корабль затонул, – повторила Роз так тихо, что Микаэль ее едва расслышал. – И что же теперь? – спросила она затем, но это был вопрос, заданный скорее самой себе, чем полковнику.
Никитин пожал плечами в замешательстве. Он и хотел бы сказать им что-то в утешение, но не мог.
– Известно хотя бы где? В каком месте это случилось? – настаивала Роз.
Офицер переложил некоторые листки в папке. Что-то нашел и быстро прочитал.
– Кажется, это могло произойти, когда «Линка» находилась в Авачинской бухте. – Он поднял глаза и понял, что оба сидевших перед ним собеседника не имели ни малейшего представления об этом районе земного шара. – Знаете, где это? – спросил он, как учитель у учеников, и, не получив ответа, встал и подошел к географической карте. – Этот полуостров в форме клешни краба – Камчатка, Авачинская бухта – находится вот здесь, – сказал он, ткнув шариковой ручкой в маленькую точку на карте.
– Но это очень далеко, – заметил Микаэль.
– Как туда можно добраться? – спросила Роз.
– Зачем, что нам там делать? – спросил Микаэль.
– Как вы считаете, там можно получить более точную информацию о кораблекрушении? – настаивала Роз.
– Миссис, это случилось сорок лет назад. – Никитин развел руки.
– Но вы что думаете?
– Петропавловск – городок рыбаков, кто-нибудь тогда наверняка мог что-то видеть, и… Если случайно кто-то остался в живых, может быть, там вы узнаете больше. – Он сделал два шага вперед и потрогал подбородок, размышляя. – Судно затонуло в конце апреля, и физически крепкий человек в шлюпке мог бы попытаться добраться до берега, если море было свободно ото льда… Но я не хотел бы вас обнадеживать, – сказал он, покачав головой.
– Как туда можно добраться? – снова спросила Роз, взяв себя в руки.
– Мы никуда не поедем, если ты сначала мне все не объяснишь, – повысил голос Микаэль.
– Да, сейчас я тебе все скажу, потерпи еще минутку, прошу тебя, – ответила она.
– Вам придется вернуться в Москву и оттуда самолетом.
– А отсюда разве не летают?
Полковник отрицательно покачал головой.
– Нельзя нанять частный самолет?
Офицер хмыкнул, хотя и вежливо, что вообще было его отличительной чертой.
– Прошу вас, вы должны мне помочь, сколько бы это ни стоило! – взмолилась Роз.
В полумраке номера ультрасовременного отеля, где Микаэль и Роз остановились, брат и сестра в некотором роде узнавали друг друга. Кровной связи было мало, чтобы между ними возникли взаимопонимание, тепло и привязанность, которые возникают, только когда люди переживают одни и те же события, моменты радости и горя… Словом, жизнь. Им обоим нужно было время, чтобы «притереться» и действительно «встретиться».
– Есть одна вещь, которая меня смущает, – сказал Микаэль, будто неожиданно вспомнил какую-то важную деталь.
– Какая? – спросила Роз.
– Ты сказала мне, что отношения между Сатен и Серопом безвозвратно испортились, после того как он продал ребенка, то есть меня.
– Именно так, мама мне всегда это повторяла.
– Тогда почему они решили снова сойтись, даже вернуться на родину, в Армению, не говоря уже… – он махнул рукой в ее сторону, – чтобы завести еще одного ребенка? Не понимаю.
– Довольно долго они жили под одной крышей как чужие или, скорее, как деловые партнеры, потому что у Серопа был договор с итальянцем, если не ошибаюсь. Он поставлял тапочки, которые Сатен вышивала.
– Избавление от меня не принесло ему удачи? – заметил Микаэль.
– Но вскоре началась Вторая мировая война, – продолжала Роз, пропустив его замечание. – Патры стали первым городом, который заняли итальянцы. Все встало, торговля, школы, особенно с приходом нацистов, которые рыскали по дорогам с автоматами.
– Да, я видел фильмы.
– Вот именно… Тогда папа бежал в горы вместе с партизанами, он ведь был членом компартии. Если бы его нашли, то сразу же казнили бы.
Микаэль, сидевший скрестив ноги на кровати, лег, глядя на сестру рассеянным взглядом.
– Сероп приходил домой, прячась, ночью или на рассвете уходил, только чтобы побыть со своим сыном, который между тем рос. Ничего более, потому что Сатен была непреклонна в своем отказе мужу. Ты меня слушаешь?
– Да.
– В конце войны началась репатриация, которой способствовал Всеармянский благотворительный союз.
– А, ассоциация по сохранению армянской идентичности и культуры в мире! – воскликнул Микаэль с негодованием. – Один из самых позорных и низких обманов в истории. Сталину нужна была дешевая рабочая сила, и он договорился с Церковью и ВБС, этой шайкой миллионеров, фальшивых коммунистов, американской диаспоры.
– В то время велась мощная пропаганда: призывы публиковались в газетах, тут и там возникали пункты сбора средств на оплату поездки. Серопу это показалось хорошим поводом, чтобы начать жизнь сначала и восстановить развалившийся брак. В июне сорок седьмого он примкнул к большому каравану. Только из Греции на родину вернулось более тысячи армян.
– Я знаю. Помню, как будто это было вчера, тот плакат с молодой семьей: мать с ребенком на руках, взирающие с раболепием на солнце Армении. Мои тоже чуть не попались на удочку. Мама Вероник очень хотела, но папа выдержал ее натиск.
– Почему?
– Потому что хорошо знал, что такое коммунистический режим. Они были армянами из Бухареста, и папа учился в соседней Украине. Хотя идея репатриации его привлекала. Он был страстный патриот. Но он все равно понимал, что в советской Армении у них не было надежды на счастливое будущее.
– В каком году они уехали из Бухареста в Афины? До или после…
– Усыновления? – Микаэль приподнялся на локтях, встал с кровати и подошел к огромному, как витрина, окну номера. – Осенью тридцать восьмого, – сказал он наконец, скользя взглядом по многоэтажкам, выросшим на холмах Барнаула. – Когда они прибыли на границу с Грецией, то записали и сына, кто-то смог провезти ребенка с другой стороны. Папа заплатил огромные деньги, он не хотел, чтобы в Афинах диаспора узнала об усыновлении, боялся, что в этом случае какие-нибудь злые языки могли навредить его сыну.
– Как же ты узнал? – спросила Роз, тотчас же пожалев о своей бестактности.
Микаэль повернулся и посмотрел на нее, словно хотел понять, достойна ли сестра, которая ворвалась в его жизнь по воле судьбы, его откровенности.
– Мы с Вероник были очень привязаны друг к другу, – тихо сказал он, сев в кресло, стоявшее рядом. – Я был ее баловнем, тем более что папа был всегда очень занят на работе. Знаменитый доктор Арутюн был единственным врачом в диаспоре, уходил из дома на заре и часто возвращался затемно. Его смерть была для мамы сильным ударом, но худший она перенесла, когда отправила меня в колледж в Венецию. Она осталась совсем одна, кружила по дому среди своих воспоминаний… Ее жизнь потеряла всякий смысл. – Микаэль откинул назад длинные волосы и кашлянул, растрогавшись. – Она умерла за год до моего диплома. К счастью, было лето, и я был рядом с ней.
– Микаэль, если ты думаешь, что…
Он поднял руку, чтобы она замолчала.
– Я знал, что она умирает. Хирург, который ее оперировал, дал ей несколько дней жизни. Я всячески пытался скрыть отчаяние и говорил ей, улыбаясь, что все будет хорошо, что в Венеции я знаю прекрасного врача, к которому скоро отвезу ее, и что там она непременно поправится. Я садился на край ее кровати и читал романы и стихи, которые ей очень нравились. В один из таких вечеров, жарких и душных, – ты себе представляешь, что такое август в Афинах? – она вдруг резким движением отклонила книгу, которую я держал в руках, и прошептала:
– Микаэль, я должна тебе кое-что сказать.
– После, мама, послушай вот это.
– Нет, сейчас, – настаивала она едва слышным голосом и с мольбой во взгляде.
– Ты у нас упрямица, – пошутил я, погладив ее лоб.
Она вся горела от жара. Схватив мою руку, крепко сжала ее, словно хотела набраться смелости, чтобы начать разговор.
– Ты не мой сын, – выдавила она из себя.
– Что ты такое говоришь?
– Микаэль, ты не наш сын, – повторила она, глядя мне в глаза.
– Ты бредишь, – возмутился я, высвободив руку.
Она покачала головой, ее седые волосы растрепались.
– Ты был усыновлен. Папа и я, мы не могли иметь детей. Ты был одной из сторон нашего счастья, без тебя мы бы никогда не чувствовали себя полноценной семьей.
Я был в смятении и все блуждал взглядом по комнате, останавливаясь на самых обычных предметах. Лампа, коробка с лекарствами, паук, который полз по потолку.
– Микаэль, посмотри на меня, – попросила мама строгим голосом, который я помнил с детства. – Это правда, – сказала она чуть мягче, – ты не наш биологический сын, но я не могла бы любить сильнее родного сына. Папа и я обожали тебя, как сокровище, как дар Божий, который осчастливил нас, когда мы уже думали, что будем стареть в одиночестве.
Я плакал, низко опустив голову.
– Думай что хочешь, но я не жалею, – заявила мама. – Скоро я отдам Богу душу, я думаю, что ты достаточно взрослый, чтобы понять.
Она терзалась, видя, как я плачу, но я был в самом деле сильно потрясен.
– Только любовь имеет смысл в этой жизни, помни об этом всегда, сердце мое, – пробормотала она, тоже заплакав. – Единственное, что имеет смысл, – это любовь, – повторила она, снова взяв меня за руку. – И я любила тебя больше всего на свете, – прошептала она, приложив мою ладонь к потрескавшимся губам.
Микаэль лежал скорчившись на кровати и плакал.
Роз не могла смотреть на брата в таком состоянии. Она приблизилась к нему, почти опасаясь того, что собиралась сделать, потом обняла его за шею в искреннем душевном порыве. Он не отреагировал, но, к ее удивлению, позволил приласкать себя, как безутешный ребенок.
На следующий день рано утром Роз позвонил Никитин.
– Здравствуйте, госпожа Бедикян, надеюсь, что я вас не побеспокоил, – сказал он вежливо.
– Здравствуйте, – ответил ему неуверенный голос, явно опасавшийся плохих новостей.
– Миссис Бедикян, вчера вечером мне удалось узнать еще кое-что о крушении судна, на котором находился ваш брат.
Молчание.
– Миссис… вы меня слушаете?
– Да, я слушаю.
– Вынужден сообщить вам плохие новости. Я узнал причину, по которой судно затонуло. На «Линке» возник пожар, как только она вышла из Авачинской бухты.
– Пожар?
– Да, но неизвестно, по какой причине. Во всяком случае, тому были свидетели, рыбаки, которые в тот момент находились на рейде и… Миссис?
– Что вы хотите этим сказать? – спросила Роз ледяным тоном. – Чтобы я собирала чемоданы и возвращалась домой? – И она непроизвольно застучала зубами так, что вынуждена была отодвинуть трубку, чтобы на той стороне провода ее не услышали.
Полковник ответил не сразу. Помолчав, он сказал:
– Отнюдь. Я даже нашел для вас небольшой военный самолет, который за должную плату отвезет вас в Петропавловск. Я просто хотел сказать, что, как вы сами понимаете, шансов найти кого-то, кто выжил, очень мало. Я должен был вас предупредить, даже если бы вас это обескуражило.
– Благодарю вас за беспокойство, – сказала она, чувствуя, как рвота подкатывает к горлу. Нужно было срочно сменить тему, иначе ее стошнило бы. – Скажите, что это за самолет?
– Сначала вы прилетите в Магадан обычным рейсовым самолетом. Там пересядете на военный самолет, который доставит вас в Петропавловск. Отсюда это было бы невозможно, это более четырех тысяч километров.
– А в котором часу рейс на Магадан?
– Вы уверены, что не хотите еще раз все взвесить?
– Прошу вас, в котором часу?
– Есть один в 15.20. Полет длится шесть часов.
– Значит, мы прилетим в 21.30.
Полковник хмыкнул.
– Госпожа Бедикян, Россия – огромная страна, добавьте еще пять часов разницы во времени. Так что в Магадан вы прилетите около двух часов ночи.
– Спасибо, я переговорю с моим братом и дам вам знать.
И Роз повесила трубку в крайнем возбуждении.
– Значит, он разбудил тебя в такое время, чтобы сообщить эту новость?
– Да. – Роз ковырялась в яичнице на своей тарелке. Она решила позавтракать в ресторане гостиницы в компании с Микаэлем, а заодно и поговорить с ним о том, что делать дальше.
– И ты решила лететь в Петропавловск?
– Вот именно.
– И что ты там будешь делать? Спрашивать у старых вонючих рыбаков, при условии, что кто-то из них еще жив, не видели ли они случайно мальчика в акватории бухты сорок лет назад, пока горел корабль, переполненный заключенными?
– Перестань!
– Знаешь что? Я не могу понять, почему ты так упорствуешь. Почему именно сейчас? Почему ты ничего не предпринимала все эти годы?
Роз молчала и продолжала срывать зло на своей яичнице, тыкая в нее вилкой.
– Ну, так что? Соизволишь мне ответить?
– Раньше я была одна.
– А теперь мое присутствие придает тебе недостающей энергии?
– Ты жестокий! – бросила она со слезами на глазах.
– Теперь ты будешь плакать?
– Я гораздо сильнее, чем ты думаешь. Хочешь вернуться в Рим – скатертью дорога, а я полечу в Магадан, – заявила она, пронзив его взглядом, в котором просматривались одновременно упрямство и безотчетность. – Так что, господин Делалян? Что вы решили делать? Вернуться в свою нору, засунуть голову в песок и ждать, когда пройдет гроза?
Микаэль рассматривал буфет с богатым ассортиментом и попытался встать, желая уклониться от неловкой ситуации, возникшей за их столиком.
– Он и твой брат тоже, ради бога! Он твой близнец! – взорвалась Роз.
Он снова сел на стул.
– У меня нет братьев, я вырос один, наш отец решил выбросить меня из семьи. И лучше, если все так и останется. Нет нужды ворошить прошлое, это слишком болезненно для нас обоих, – парировал он треснувшим голосом. – Я никогда не пустился бы в это бесполезное путешествие, в эти безумные поиски, если бы мой сын не принудил меня к этому.
– Томмазо всего лишь пролил свет на что-то, что таилось в глубине твоей души. Нет такого человека, который не хотел бы узнать о своем происхождении, о своих корнях, вновь обнять своего брата, с которым его разлучила злая судьба.
Микаэль сидел в задумчивости, полный сомнений, медленно потягивая кофе и склонив голову к камчатной скатерти.
– Знаешь, Микаэль, я просто не могу отказаться, больше не могу.
– Почему?
– Потому что всю жизнь чувствую себя виноватой в аресте брата. Я не могу больше терпеть это, я должна что-то сделать.
Микаэль не понимал.
– Ты помнишь ту книгу Сарояна?
– Ту, что ты хранишь в бархатном лоскуте?
– Да, я сказала тебе, что она была причиной ареста. Но я не сказала, что мы держали ее в доме потому, что я заставила Габриэля поклясться мне, что он не уничтожит ее. А ведь это было время, когда милиция постоянно совершала обыски. Папа приказал нам сжечь ее, но мы не послушались. Это был наш маленький секрет.
– И вы рискнули жизнью ради книги?
– Эта история была для нас примером человеческого достоинства и цены, которую надо платить, чтобы не отказаться от него. Габриэль был мечтателем, маленьким актером в некотором смысле. Когда он читал мне ее, то изменял текст в зависимости от того, что могло произвести на меня большее впечатление в тот момент. Он хотел сделать мне приятное. Там есть одна фраза, в самом конце, про пенни.
– «Ребенок может купить много чего на один пенни».
– Да, эта… Так вот, пока я не выучила английский, я была уверена, что в оригинале сказано «девочка». И всегда спрашивала у Габриэля, почему Сароян предпочел девочек, говоря так. И знаешь, что он мне отвечал?
Микаэль покачал головой.
– «Потому что девочки умнее мальчиков». Я воспринимала это на свой счет, думала, что автор имел в виду меня, как если бы он, позволь уж мне этот термин, сделал дарственную надпись маленькой Новарт. Я не могла сжечь этот текст, такой… личный, я бы сказала. И потом, я действительно была очень мала и упряма и не знала, не могла соразмерить опасность таких действий. А Габриэль ради меня был готов на все.
Хотя Роз говорила тихо, было ясно, как важны для нее эти воспоминания. Микаэль слушал, увлеченный и очарованный наивностью той девочки, которую никогда не знал.
– Мы оторвали от книжки обложку, – продолжала Роз, – и спрятали ее в зазор между стеной и стенкой кухонного шкафчика, а сам текст я спрятала в обрезках тканей, которые мама давала мне для игр. Они нашли обложку, и этого им хватило.
Микаэль был глубоко тронут, он взял руку сестры и нежно погладил ее.
– Позвони полковнику… Хочу оттаскать за уши этого бедолагу, фальсификатора литературы, нашего брата, – сказал он, вставая, чтобы налить себе еще кофе.
Роз улыбалась. И, глядя на нее, казалось, что это вернулась маленькая Новарт.
Они наспех собрали чемоданы, и Роз позвонила в Торонто, разбудив Акопа.
– Любимая, все хорошо? – спросил ее муж хриплым голосом.
– Да, не знаю… Говорят, что он, скорее всего, погиб при пожаре на корабле, на котором его перевозили в другой лагерь.
– Что? А теперь?
– Ничего, еду на его поиски. Постараюсь узнать, может, он спасся.
Акоп не удивился такой настойчивости.
– Могу я помочь тебе как-нибудь?
– Скажи Лью, что мне нужен срочный перевод в Сибирь. Я перезвоню ей через четверть часа.
– О’кей, ты-то как?
– Хорошо.
– С Микаэлем?..
– Лучше, спасибо. Слушай, мне уже нужно бежать.
– Мальчики спрашивают о тебе.
– Поцелуй их за меня крепко. Я скучаю по ним, – ответила он с легкой грустью.
– А по мне? – спросил Акоп, когда его жена уже положила трубку.
Роз пришлось долго сидеть на телефоне с Лью, чтобы разобраться с банковским переводом. В конце концов требуемая сумма была перечислена на счет, который ей указали. Десять миллионов рублей. Если бы речь шла о работе, она поторговалась бы, но торг из-за самолета, который, вероятно, мог доставить ее поближе к Габриэлю, был неуместен. Это было бы кощунством. Микаэль предложил внести свою долю, но настаивать было бесполезно, потому что Роз считала это несправедливым. Ведь именно она решила лететь частным рейсом, и расходы должны были ложиться на нее.
Прежде чем поехать в аэропорт, им пришлось еще раз заскочить в Управление, чтобы получить специальное разрешение с подробным планом их перемещений.
Полковник подготовил все, что могло им понадобиться.
– В Магадане вас будет ждать первый пилот Антон Павлович, в руках он будет держать плакат с вашими именами. Это один из наших лучших летчиков, десять тысяч часов налета на счету.
– Этот самолет очень маленький? – спросила Роз, явно обеспокоенная.
– Нет, не волнуйтесь, – ответил он, подавляя улыбку, – это аэротакси. Мы часто пользуемся им для коротких перелетов.
– Пара часов?
– Пожалуй, три.
– Хорошо. Спасибо, полковник, мне уже лучше. Вы получили подтверждение банковского перевода?
– Да, вы сделали все очень быстро, спасибо.
– Не за что, нам часто приходится делать срочные перечисления.
Офицер кивнул с вежливой улыбкой.
– Да, я хотел сказать, что в Петропавловске вас будет встречать один наш доверенный человек, я уже вписал его имя в ваш маршрутный лист вместе с вашими координатами. Его зовут Евгений Козлов, он живет там всю жизнь и будет вашим гидом.
– Там есть гостиницы?
– Широкий выбор, пятизвездочная вас устроит?.. Я пошутил. Евгений все знает, он отвезет вас туда, где вы будете проживать. Он немного странный, но когда пройдет первый шок, увидите, что он действительно расторопный малый.
– Прямо не знаю, как вас благодарить, полковник… – Роз поняла, что не помнит его имени.
– Никитин, Михаил Никитин.
Микаэль молча слушал, как говорили Роз и офицер, его знаний русского языка не хватало, чтобы удовлетворить любопытство, так что ему приходилось лишь гадать о содержании их разговора.
– Простите мне мой вопрос, миссис, – неожиданно сказал Никитин. – Полагаю, что человек, которого вы ищете, должно быть, ваш единственный брат. Вы так настаиваете на его поисках…
– Нет, вы ошибаетесь, вот этот господин – его близнец, – ответила она, показывая на Микаэля.
– Что ты ему обо мне сказала? – тут же захотел он узнать, но остался без ответа.
– О господи, я не думал. У вас разные фамилии. – Полковник был удивлен.
– Ну, это уже другая история, если бы у нас было больше времени, я бы вам ее рассказала с удовольствием.
Никитин улыбнулся:
– Счастливого пути! – и протянул руку.
– Спасибо за все, полковник.
– Миссис…
– Спасибо, – сказал по-русски Микаэль, пожимая ему руку. – Ты можешь мне объяснить, что ты там насплетничала ему про меня? – проворчал он сестре, которая уже удалялась, не обращая на него внимания.
– Клянусь, что сяду учить русский, – пригрозил он ей и потряс кулаком.
Они вылетели из Барнаула с получасовым опозданием.
Прорвав нависшую над городом облачность, самолет вырвался в чистое небо, и тут же на его фюзеляже заиграли ослепительные солнечные лучи.
Роз пришлось надеть свои черные очки в стиле звезд Голливуда.
– Это самая лучшая часть полета, – сказала она брату.
– Какая?
– Внезапный ослепляющий свет, когда ты думаешь, что уже темно.
Курс на восток быстро погасил солнце, которое закатилось за хвостом самолета еще до того, как стюардессы прошли со своими тележками с ужином.
– Колбасу или курицу? – спросила у Роз красивая блондинка в красной форме.
– Курицу, спасибо.
– Мистер, а вам?
– Тоже, – решила она за брата.
– Икры не надо, – пошутил Микаэль.
– Как это открывается? – Роз не справилась с картонным контейнером, в котором был ее ужин. – Ничего не вижу, – бормотала она.
– Ну, может быть, лучше снять солнечные очки?
– Шутник.
Чуть позже свет в салоне погас, и Роз, смертельно уставшая, прикорнула, прислонившись к плечу Микаэля. Он не сдвинулся, а между тем аромат тимьяна щекотал ему ноздри. Он закрыл глаза и вспомнил самую любимую свою сказку про Ганса и Грету, двух потерявшихся в лесу детей, брата и сестру. Ему вспомнились иллюстрации в книжке, которую ему кто-то подарил. Грета с метлой в руке освобождает Ганса из кельи, в которой его держала злая колдунья.
И, перед тем как заснуть, он спросил себя, кто в их сказке была злая колдунья, которую предстояло посадить в печь.
Когда самолет приземлился, он проснулся первым, вздрогнув.
– Добро пожаловать в Магадан, – шепнула Роз, отодвигаясь от его плеча.
Она медленно открыла глаза с таким видом, будто не совсем понимала, где находится.
– Не так уж и далеко, – сказала она, потягиваясь.
29
Петропавловск-Камчатский, Авачинская бухта, 19 июня 1992 года
В Петропавловск в тот день пришло настоящее лето.
Евгений вернулся с работы, разделся, наполнил ванну свежей водой и пролежал в ней весь вечер, пристроив неизменную флягу с водкой на краю.
В его распоряжении было много времени. Гости, которых он должен был встречать, прилетали поздно ночью.
Погрузившись в воду, он закурил сигарету, привычно глубоко затянулся и задержал дым в легких, пока не почувствовал их протест. Тогда он выпустил его и закашлял своим обычным, дерущим горло кашлем.
Из радио неслась старинная народная песня. Звуки лились, словно нотный водопад. Они как будто отпрыгивали от балалайки и, как брызги, разлетались в разные стороны, веселые и легкие. Евгений представил себе девушек, бегущих по цветущему полю. «Вот дурак», – отругал он сам себя, посмеиваясь.
Музыка захватила его, и он стал постукивать в такт пальцами по краю ванны.
– Тин, тири-тин, – подпевал он.
Потом его взгляд упал на кольцо, надетое на мизинец: оно издавало глухой звук среди других нот. Тогда он решил снять его – он носил кольцо не снимая уже много лет, – но ему не удалось. Он намылил палец и резко потянул кольцо, оно соскользнуло и упало в ванну. Евгений шарил в воде под мыльной пеной и когда наконец нашел, то уставился на него так, будто видел впервые. Это было обычное обручальное кольцо из червонного золота с гравировкой внутри: «С. С. 1935».
– Они поженились пятьдесят семь лет назад… Сколько времени прошло! – пробормотал он как бы в удивлении.
Он повернул кольцо пальцами, будто хотел вернуться назад во времени. Видение корабля, объятого пламенем, неожиданно возникло у него в мозгу. Дым, кашель, крик горевших заживо людей. Потом два яростно борющихся человека, вкус крови и мяса, в которое вонзаются зубы, и потом еще…
Евгений резко приподнялся, будто хотел отогнать воспоминания, и положил кольцо на край ванны, рядом с флягой. Он снова глотнул из нее, на этот раз довольно прилично, и рыгнул, отбросив назад голову. Оса пролетела на уровне его глаза. Она была намного крупнее обычной, коричневое тело с желтыми полосками, и стала крутиться у окна, то бросаясь на стекло, то отлетая, чтобы снова броситься. Евгений завороженно смотрел на насекомое, потрясенный его неустанной жаждой свободы. Казалось, оса не сдастся, пока не найдет выход.
– Глупая, не видишь, что оно закрыто? – сказал он в голос.
Он поднялся в ванне, забрызгав все вокруг, приблизился к окну и распахнул его. Оса еще некоторое время пожужжала у его лица, будто хотела поблагодарить за услугу.
– А теперь лети! – подначил он ее.
Оса вылетела наружу, пропав навсегда в легком летнем воздухе.
– Мы полетим над морем? – спросила Роз у майора Павловича.
– Так точно, – ответил он. – Вы же не боитесь, верно? – пошутил он, почувствовав ее беспокойство.
– Нет, конечно, чего там! – вмешался Микаэль.
Они были в воздухе уже двадцать минут, было почти три часа утра. Майор Павлович был свеж как роза. Высокий и мускулистый, он мог бы запросто сойти за какого-нибудь бесстрашного героя в фильме про войну. Он встретил их в Магадане широкой добросердечной улыбкой. После обычных при знакомстве вопросов и ответов и чашки кофе он проводил их к зеленому летательному аппарату. Что-то вроде комара по сравнению с обычными рейсовыми самолетами. Роз постаралась завуалировать свое недоверие глупой улыбкой и села рядом с пилотом. Микаэль свернулся на заднем сиденье, багаж они устроили в ногах. Пилот завел двигатель, и пропеллер начал раскручиваться. Затем аэроплан сдвинулся, сначала медленно, затем все быстрее. Выехал на взлетную полосу, разогнался, подскакивая на каждой ямке, и наконец оторвался от земли.
– Нам повезло, – сказал в этот момент Павлович, – хорошая погода.
– Хотя бы это, – проворчал Микаэль по-армянски.
Впрочем, пропеллер так сильно шумел, что майор ничего не понял бы, произнеси он это даже по-русски.
– Сколько нам лететь? – прокричала Роз.
– Около трех часов, – ответил пилот. – Вы уже бывали в Петропавловске?
– Нет, – покачала головой Роз, уставившись куда-то вдаль, в ветровое стекло, едва ли шире лобового стекла ее машины.
– Это волшебное место, – сказал майор. – В местных племенах верят, что там сбываются мечты.
– Все?
Он кивнул.
– Даже самые невероятные желания, – уточнил он.
– Что он говорит? – прокричал Микаэль, наклонившись к Роз.
– Что это прекрасное место.
Роз еще не успела произнести последнего слова, как самолет затрясся, попав в турбулентный поток воздуха. Казалось, что невидимая волна сейчас опрокинет его навзничь. Оба пассажира вцепились в кресла в полной уверенности, что им пришел конец.
– Не бойтесь, – успокоил Павлович, – ничего страшного, обычное дело.
Роз и Микаэль растерянно посмотрели друг на друга.
– Это всего лишь один прыжок из серии, – предупредил их пилот. – Но вы не беспокойтесь, представьте себе, что вы на…
– Американских горках! – крикнул Микаэль, впервые поняв, что ему говорили.
– С этого момента вашим ангелом-хранителем будет вот он, – сказал Павлович.
Приземистый мужчина с черной повязкой на глазу улыбался им, не выпуская сигареты изо рта. Было шесть часов утра. Они только что прошли паспортный контроль в пустом сонном аэропорту.
Роз нерешительно протянула руку, рассматривая гида.
– Евгений Козлов, очень приятно.
– Роз Бедикян. – Она опустила руку, незаметно вытерев ее о жакет, потому что у Козлова были потные руки.
– А я Микаэль, – представился брат и тоже пожал ему руку.
– Евгений, будь с ними полюбезнее, – вмешался Павлович. – Господа, желаю вам приятно провести время. – И удалился, взяв под козырек.
– Еще раз спасибо, майор.
– Действительно, спасибо, – подчеркнул Микаэль, – особенно за захватывающий дух полет, – пошутил он.
Майор Павлович, правда, его не слышал, потому что уже направлялся строевым шагом к своему аэроплану.
– Дайте мне ваш багаж! – воскликнул Евгений. – У меня здесь машина, – добавил он, поднимая рюкзаки и дорожные сумки. – Готов поклясться, что вы устали.
– Я как вареный. Как это говорят по-русски? – сказал Микаэль.
– Так не говорят, – ответила Роз.
Болотно-зеленый фургон был припаркован сразу у выхода. Слабое просветление слегка очертило холмы на востоке, где через некоторое время должно было показаться солнце.
– Вот здесь, – сказал Евгений, доставая из кармана ключи.
Роз не слушала его, она смотрела на прозрачную луну, висевшую в небе, и вдыхала утренний воздух, словно хотела в одно мгновение впитать всю энергию этого места.
– Садись, что ты там делаешь? – позвал Микаэль, уже устроившись в салоне машины.
– Мы все поместимся?
– Если хочешь, можешь сесть сзади, в кузов.
– Что за шутки?
– Завтра у нас будет арендованная машина, раньше ее не удалось взять, – извинился Евгений.
Роз села рядом с братом и опустила окно, которое упало с глухим звуком.
– Придется потесниться, но здесь недалеко. И извините за беспорядок.
– А с вонью как быть? – хмыкнул Микаэль.
– Прекрати, – шикнула на него Роз.
– Знаете, а ведь я немного понимаю по-армянски. Вы ведь армяне, правда?
– Ах, да?.. И где вы научились? – пробормотала Роз.
– Я быть в трудовой лагерь, – начал объяснять Евгений, с трудом подбирая армянские слова. – Охрана. Как сказать «охрана»?
– Смотритель? – подсказала ему Роз.
– Да, иметь много армяне в бараки.
– В бараке, где вы были смотрителем, было много армян? – вмешался Микаэль.
– Да-да.
– Где, в каких лагерях? – атаковала Роз.
– О, далеко. Владивосток, Магадан.
Маленький человечек вышел из пропускного пункта на выезде из аэропорта и направился к фургону с намерением проверить, что тот везет, но Евгений издалека помахал удостоверением, человечек кивнул и пропустил их.
– А вы сами откуда? – спросил Микаэль чуть позже.
– Грузия… Но ты говорить без «вы», мы тот же возраст, – предложил Евгений с сердечной улыбкой. – Сколько ты иметь?
– Пятьдесят пять осенью.
– Я тоже, – кивнул он.
– Ровесники, значит.
– Да, я быть из Батуми, много армян в Грузия тоже.
– Говорите по-русски. Вы не должны напрягаться из-за моего брата, он немного понимает, – сказала Роз.
– А, так он ваш брат? Я думал, муж.
– Нет-нет, он мой брат.
Евгений бросил быстрый взгляд на своих гостей.
– Сейчас, когда вы мне сказали, и верно, некоторое сходство есть.
– Что он сказал? – спросил Микаэль.
– Что мы похожи.
– Это потому что вы не видели меня утром с разглаженным лицом. – И он натянул кожу на лице руками.
Роз засмеялась, ей понравилась шутка.
– Откуда вдруг у тебя появилась эта комическая жилка? Вот уж никогда бы не подумала.
– Это усталость, дорогая сестра, усталость. И страх, – добавил он, резко изменив тон.
– Страх? – удивился Евгений, пока Роз старалась понять, что именно имел в виду ее брат.
– Если будет холодно, скажите мне, – предупредил Евгений, опустив стекло спустя несколько минут, и ветер тут же растрепал ему волосы.
Дорога проходила по зеленой долине, пересеченной бурной рекой с прозрачной голубой водой. Широкие пятна изумрудных кустарников раскрашивали прилегающие холмы. Роз показалось, что она слышит трели дроздов в зарослях, шелестевших на ветру.
– А это Корякская сопка, – объявил Евгений, показывая пальцем слева от себя на заснеженную гору, – самый красивый в мире вулкан.
Роз и Микаэль наклонились вперед, чтобы лучше рассмотреть его через лобовое стекло.
– В Петропавловске двадцать вулканов.
– А, очень интересно! – сказал Микаэль, фотографируя своим «Кодаком инстаматик».
– Не бойтесь, они все спят, – заверил гид, по-дружески слегка ткнув его локтем в грудь, – много тоже в море, в Авачинская бухта, старые времена много цунами, – добавил он, изображая рукой волну и смешивая русский с армянским. Он решил, что это лучший способ общаться со своими гостями.
– Ужасно, – сказали вместе брат и сестра.
Евгений наклонил голову и включил авторадио: смесь баяна и барабанов вырвалась вместе с глубоким тенором на свободу.
– Вам нравится русская музыка?
Оба кивнули.
– Я так и знал! – обрадовался он. – Завтра музыкальный вечер ваша гостиница.
– Отлично, – ответил Микаэль.
– Мы вас благодарим, – добавила Роз, – но мы здесь не как туристы.
– Да, конечно, – кивнул Евгений.
– Когда нам назначен прием в Управлении?
– Сегодня в два, так что вы еще сможете немного отдохнуть.
– Отлично, мы бы хотели посмотреть списки, архивы тех лет. Полковник ведь вам рассказал, нет?
– Да.
– Как вы думаете, мы найдем что-нибудь о кораблекрушении, о пожаре на «Линке»… на корабле?
Евгений состроил гримасу сомнения.
– Спросить ничего не стоит, – ответил он.
– Да уж, – проворчал Микаэль.
– Но вы не знаете кого-нибудь в городе, кто видел ту трагедию?
– Госпожа, это было почти сорок лет назад.
– Ну, остался же в живых какой-нибудь старик здесь, среди нетронутой природы, – заметил Микаэль, показывая на завораживающий пейзаж, который их окружал.
Евгений нашел его слова забавными и рассмеялся, ударив несколько раз ладонью по рулю.
– Конечно, поедем в дом престарелых.
Роз и Микаэль с сомнением посмотрели друг на друга.
– Хорошо, вы знаете какой-нибудь из них?
– Еще бы… «Ясная Авача», – ответил он, прослезившись от смеха.
– Сколько жителей в этом городе?
– Тысяч сто восемьдесят, думаю, – ответил Евгений.
Они как раз въехали в Петропавловск и спускались вниз по улице, ведущей в бухту. Промышленные здания чередовались с блочными домами в типичном советском стиле. Кое-где мелькали деревянные домики, традиционные избы. Роз прикорнула, прислонившись к стеклу, и ее длинные каштановые волосы развевались на ветру.
– По большей части рыбаки и продавцы рыбы, как я. Летом я еще сопровождаю туристов… чтобы подработать, – объяснял Евгений Микаэлю, который кивал в ответ, наблюдая за интенсивным движением в проснувшемся городе.
– Прекрасный вид, да? – крикнул Евгений, протянув руку к морю и разбудив Роз.
– Что случилось? – спросила она, немного ошеломленная.
– Смотрите, я живу там, наверху, вон в том домике, – сказал он и показал на холм напротив, но ни брат, ни сестра не уделили ему внимания.
Они повернулись направо и рассматривали внушительных размеров белую церковь с яркими голубыми куполами.
– Сюда я приходить праздновать Пасха, – объяснил Евгений.
– Еще далеко до гостиницы? – спросила Роз, явно борясь с усталостью.
Евгений посмотрел на нее.
– Вот она, госпожа, – ответил он со всей вежливостью, на какую был способен.
Проехав светофор, он припарковался рядом со зданием неопределенного архитектурного стиля. Это был бетонный куб с несколькими флагами над входом, среди которых один уже превратился в лохмотья. Швейцар в красном пиджаке поспешил проводить гостей, которые с трудом выбрались из машины и болезненно кривились, распрямляя ноги и разминая затекшие мышцы, пока Евгений переносил их багаж в холл.
– Добро пожаловать, – приветствовал их служащий за стойкой. У него была бритая голова и здоровый румянец на щеках. – Будьте добры, ваши паспорта. – Затем он начал заполнять серию бланков, особенно внимательно изучая визы. – Номера 18 и 19, – наконец сказал он, выдав им тяжелые ключи из латуни и забрав документы.
– Хорошо, – сказал Евгений и протянул руку для прощания. – Увидимся здесь внизу в час тридцать?
– Отлично, – кивнули брат и сестра и повернулись, чтобы уйти, игнорируя его руку.
– Если захотите перекусить, – крикнул он вслед, – тут неплохой ресторан.
Микаэль обернулся, пока Роз вызывала лифт.
– Спасибо.
Евгений подождал, пока они вошли в лифт, потом быстро направился к выходу, на ходу жестом приветствуя парня за стойкой.
Он не пошел к своему фургону, а свернул за угол гостиницы, где был посажены березы. Там оперся на одно из деревьев в припадке неудержимой рвоты. Сердце его бешено колотилось. Ему было плохо, как собаке.
– Что ты разглядываешь?
– Ничего. Тут сад во дворе, – ответил Микаэль. Он стоял, облокотившись на подоконник, и любовался панорамой.
– Я так устала, что не могу заснуть. Хочешь перекусить что-нибудь?
– Через пять минут.
Вскоре они спустились в ресторан гостиницы. Столы, накрытые красными скатертями и сверху золотыми салфетками, были расставлены полукругом недалеко от сцены, украшенной гирляндой из красных и позолоченных шариков, словно кокарды, развешанные на белых стенах. В воздухе витал запах вареной капусты.
– Готова к русской вечеринке? – спросил Микаэль.
– Только если будем танцевать казачок, – пошутила Роз.
Приятная пухленькая женщина приблизилась к ним, улыбаясь.
– Что желаете?
– Завтрак и чаю, пожалуйста.
– Есть копченый лосось, сельдь с луком и борщ.
– Нет, спасибо, только чай и немного хлеба с джемом.
– Это уже прилагается к напитку, – сказала женщина и удалилась, оставив после себя крепкий запах лака.
– Тебе нравится наш ангел-хранитель? – спросил Микаэль.
– Не знаю, странный тип.
– Он пьет. От него разило водкой.
Официантка вернулась, поставив на стол медный самовар, показавшийся им жалкой претензией на стиль дореволюционного времени.
– А, значит, это была вонь не от рыбы, – пробормотала Роз.
– Что случилось с его глазом?
Роз фыркнула:
– Он работал смотрителем в ГУЛАГе. Что тут непонятно?
– Думаешь, он ненадежный или даже опасный? – спросил ее брат, разливая чай.
– Нет, не думаю. В этих краях все в той или иной мере имели отношение к лагерям.
– Значит, мы в хороших руках.
Появилась официантка со свежим хлебом, маслом и вазочками с джемом.
– Это наш, мы сами делаем! – воскликнула она с гордостью. – Джем из роз.
Когда она отошла, они намазали немного джема на хлеб.
– Неплохо, – сказала Роз, попробовав.
– Мне вспомнилось время, проведенное в колледже, и вартануш монахов с острова Святого Лазаря, – сказал Микаэль.
– Что еще ты помнишь о том времени?
Микаэль не ответил, засмотревшись на самовар, словно пытаясь понять, почему он такой некрасивый.
– Поднимемся в номер? – спросила Роз несколько минут спустя, вставая из-за стола.
– Боль, – пробормотал в этот момент Микаэль.
– Что, прости?.. – Роз снова села на место.
– Мучение… – добавил он. – Потерянная молодость.
– Ты имеешь в виду историю с твоим сыном?
– Нет, он стал для меня благословением. Я говорю о том, что взрослел быстрее других, потому что на меня свалилось сразу много всего.
Роз ощутила в словах брата глубокую грусть, которую годы так и не смогли смягчить.
– Я ужасно мучился, временами думал, что схожу с ума, le chagrin de vivre[83].
Позолоченный шарик оторвался от гирлянды и раскачивался в воздухе. Они оба следили за его полетом, пока шарик не упал в углу сцены.
– Тебе удалось понять, откуда это у тебя, в чем причина такого тяжелого недомогания?
– Я был всего лишь мальчик, фантазер. Думал, что живу жизнью какого-то другого человека.
Роз, заметно разволновавшись, заерзала на стуле.
– Кого?
Микаэль повернулся к окну, яркий свет безжалостно бил ему в глаза.
– Такого же, как я, мальчика. Я ощущал его тревоги, его боль и хотел утешить его, старался дать ему немного надежды в том аду, в котором он жил.
Роз слушала, затаив дыхание.
– Однажды я даже почувствовал физически, что горю. Словно я действительно был в это время на корабле, объятом пламенем – на самом деле я вместе с товарищами плыл на вапоретто, – и я прыгнул в воду, чтобы спастись от огня.
Микаэль склонил голову, окруженный призраками прошлого, и Роз едва слышно начала повторять, словно мантру, одно и то же имя: «Габриэль, Габриэль, Габриэль».
Ты и я – дети. Мы играем вместе. Вокруг восхитительный пейзаж, я не могу понять, где это, но он мне очень знаком. Мы бросаем камешки с берега бухты. Голыши легко подскакивают на водной глади, будто совсем невесомые. Каждый из нас пытается забросить свой камешек как можно дальше. Мы стоим рядом, ноги утопают в песке у кромки воды. С трепетом следим за нашими бросками, но победителя нет. Нам это становится ясно сразу же. Хотя дымка не позволяет хорошо разглядеть, мы уверены, что там, далеко, траектории наших голышей из-за странного оптического эффекта сходятся и совпадают в одной точке. Мы смотрим удивленно, как зрители смотрят на фокусы, потом бросаем еще два камешка, следим за ними, пока они вновь не достигнут той точки, где оба, как по волшебству, упадут. Мы улыбаемся, довольные, и бросаем еще много других голышей, с детским упорством, будто бросая вызов волшебным фокусам бухты, которые так и остаются неразоблаченными. Я поворачиваюсь к тебе и задерживаю взгляд на твоем лице, таком похожем на мое, и пугаюсь, потому что ты вдруг удаляешься. Ты уходишь все глубже в воду, прямо в одежде, с последним камешком в руке. Ты отплевываешься, будто хочешь развеять заклинание, связывающее наши голыши, и, не обращая внимания на ледяную воду, решительно наступаешь.
Я хочу позвать тебя, но не знаю твоего имени, а потом неожиданно ты исчезаешь, будто поглощенный пустотой. Я не хочу терять тебя, дорогой друг, и тогда тоже бросаюсь в воду, идя по следам, оставленным тобой на дне, и ища тебя повсюду. Наконец нахожу, но только потому, что, обернувшись назад, вижу тебя на берегу, на том самом месте, где совсем недавно стоял я. Ты стоишь с виноватым видом того, кто знает, что подверг меня серьезной опасности. Но я больше удивлен, чем рассержен, и досадую на самого себя за свою наивность, за то, что попался на крючок и последовал за тобой. Но потом замечаю, что держу в руке тот самый камешек, что ты сжимал в кулаке, когда бросился в воду, и теперь я стою на твоем месте, как если бы вдруг стал тобою, а ты – мной. Клянусь, я больше не понимаю ни этой игры, ни смысла происходящего и некоторое время, не шевелясь, размышляю в подвешенном состоянии, как молекула воды из окружающего нас тумана. В конце концов, хотя это невозможно, мне кажется, что я знаю, что ты думаешь, и даже более того, я чувствую то же, что и ты. Не из-за какого-то дара предвидения, а потому – и для меня это яснее ясного, – что мы с тобой состоим из одного вещества, мы одна плоть, разделившаяся надвое.
Я вижу, как с берега ты взволнованно машешь мне, потому что понял, что я начинаю тонуть. Не делай так, прошу тебя! Не ты же установил правила этой игры.
Молчи и смотри!
Бухта превращается в реку. В бурную реку. Успокойся, сейчас я отдамся течению, и оно унесет меня туда, куда я хочу. Я не чувствую больше никакой обиды, только немного грустно, наверное, и жаль тех счастливых мгновений, что мы провели вместе.
Ты и я.
– Микаэль, проснись! – Роз стучала в дверь номера. – Евгений нас ждет.
Он отбросил подушку, влажную от слез, и посмотрел на часы. Было уже около двух часов дня.
– Иду! – крикнул он, вскакивая с кровати.
Управление внутренних дел находилось вблизи старого порта, в голубом здании, напротив рыбного рынка.
Евгений, умело маневрируя среди машин, довез их в считаные минуты.
– Пройдитесь, пока я припаркуюсь, – попросил он, когда они вылезли из машины.
Роз и Микаэль перешли через дорогу и стали рассматривать рыболовецкие суда, мягко покачивающиеся на волнах, крепко привязанные швартовыми. Все они вернулись в порт утром, и кое-кто из рыбаков еще сидел на пристани, распутывая сети. Чуть поодаль стояли освещенные лотки с рыбой разных видов, заметно отличавшейся от той, что ловилась в Средиземном море, подумал Микаэль. Крупные лососи лежали в ряд на мраморных плитах, и продавцы рыбы поливали их морской водой, набранной тут же в порту. Огромные крабовые клешни, похожие на оранжевые шершавые и колючие клещи, позволяли представить себе размеры всего членистоногого, которому они когда-то принадлежали.
– Представляешь, оказаться перед таким чудовищем на каком-нибудь подводном камне?
– Мне это не грозит, я никогда не нырну в это море, – ответила Роз.
Микаэль сфотографировал ее рядом с одной из клешней.
Тем временем с другой стороны улицы Евгений подавал им знаки и звал.
Халил Ахундов, начальник Управления МВД по Камчатской области, ждал их.
ПОЖАР В АВАЧИНСКОЙ БУХТЕ
Вчера в 20.39 на судне «Линка», приписанном к организации «Дальстрой», в машинном отделении возник пожар. Судно раскололось вследствие трех сильнейших взрывов и затонуло. «Линка», судно среднего водоизмещения, вышло 19 мая из порта Магадан, должно было пришвартоваться в Певеке 12 июня и сгрузить оборудование различного типа. На борту судна находился двадцать один человек экипажа и некоторое количество заключенных, перевозимых в иные пункты назначения. Оставшихся в живых нет.
«Камчатская правда», вторник, 26 мая 1953 годаКОРАБЛЕКРУШЕНИЕ «ЛИНКИ»
Следствие выясняет причины, повлекшие возникновение пожара на судне «Линка» 22 мая, в результате которого корабль затонул в Авачинской бухте. Судно, приписанное к флоту «Дальстроя», взорвалось по пути к Певеку, вероятно, из-за ошибки экипажа в машинном отделении. Никто их членов экипажа и заключенных, находившихся на судне, не выжил.
«Правда», среда, 27 мая 1953 года– Вот, – сказал Ахундов, – это газетные заметки, которые были опубликованы после трагедии.
Он порылся в вырезках из газет и журналов и протянул еще две своим гостям.
– Вот еще, но там всего лишь несколько строк. К сожалению, в то время почти ничего не печаталось, если событие было каким-то образом связано с ГУЛАГом.
Микаэль выпрямился на стуле.
– Но все-таки, возможно, кто-то выжил? Кто-нибудь из заключенных, может быть, добрался до берега на шлюпке? – спросил он, попросив сестру перевести на русский.
Ахундов покачал головой.
– Если бы вы были одним из тех заключенных, который чудом спасся, вы бы сообщили кому-нибудь свое имя, рискуя быть возвращенным в лагерь?
Роз и Микаэль одновременно отрицательно покачали головой. Евгений, сидевший за их спиной, внимательно следил за разговором.
– А местные жители никогда не встречали чужака, появившегося в городе, какое-нибудь лицо, которое никогда не видели до трагедии? – спросила Роз с красными от волнения щеками.
Начальник УВД понимающе улыбнулся ей.
– Помимо того, что это событие произошло сорок лет назад, это один из самых посещаемых и густонаселенных портов Сибири. Здесь постоянно меняются и появляются новые лица, рыбаки, моряки. Задерживать каждого из них просто невозможно, если бы даже у кого-то и появилось такое желание.
– Вот именно, рыбаки, неужели они ничего не видели? – вмешался Микаэль.
Роз собиралась было перевести, но Ахундов остановил ее – он уже понял вопрос. Он поднялся, приблизился к одному из шкафов и вынул из него большую картонную папку. Положил ее на стол и стал листать содержимое. В воздухе запахло заплесневевшей бумагой.
– Это старое дело из нашего архива. Тут собраны показания рыбаков, которые находились на борту нескольких рыболовецких судов в вечер трагедии. Они в вашем распоряжении, господа. – И он пододвинул папку Роз. – Будьте любезны, прочтите вслух.
Роз напряглась, тон этого человека раздражал ее, и Микаэль успокаивающе посмотрел на нее.
«Это было ужасно, – начала она читать. – Я думал, что наступил конец света или что сбросили еще одну атомную бомбу. Все накрылось дымом и пламенем, а оглушительные взрывы следовали один за другим. Слышны были отчаянные крики, и видно было, как в огне бегали люди и бросались в море. Потом корабль развалился на несколько частей, как игрушка, и затонул еще до того, как мы поняли, что происходит».
Роз остановилась и сглотнула несколько раз, чтобы избавиться от комка в горле.
– Продолжайте, переходите к следующим показаниям, – пригласил ее Ахундов, – это важно для понимания ситуации.
Роз просверлила его ледяным взглядом, хотя и улыбалась при этом.
– Конечно.
«Наше судно, – продолжала она, – было ближе остальных к “Линке”. Мы, моряки, даже поприветствовали друг друга за несколько минут до того, помахав бескозырками с палубы. Когда мы услышали взрыв, то все бросились лицом вниз. Мы были так близко, что обломки корабля долетали до нас. От второго взрыва в море вылилась солярка и растеклась огромным пятном вокруг. “Линка” превратилась в огромный факел, мы слышали отчаянные крики: “Ради бога, помогите!” Третий взрыв разнес корабль надвое, носовая часть практически сразу ушла под воду, а кормовая еще была на плаву, на боку. Но скоро пропала и она. И хотя это звучит невероятно, но она еще горела, даже когда уже была под водой. Мы не знали, что делать, мы были ошарашены. Потом приблизились к месту крушения. Кричали в дымовой туман, звали кого-нибудь, кто мог спастись. Но никто нам не ответил, и мы не видели никого живого. Только вода, покрытая соляркой и кровью, и обгоревшие останки».
Роз не могла больше продолжать. Силилась сдерживать боль, растущую по мере того, как она читала эти показания. По сути, она читала некролог о своем брате, рассказ о его жуткой трагической смерти.
Она закрыла лицо руками и заплакала.
Микаэлю не понадобился перевод, он видел, как эмоции сменяли одна другую на лице сестры, он слышал ее прерывистое дыхание.
– Не плачь, – прошептал он, – еще не все потеряно.
Затем обернулся в поисках Евгения, чтобы попросить у него принести стакан воды.
Но его стул был пуст…
30
– Куда он делся?
В холле гостиницы Роз и Микаэль искали Евгения. Их предупредили, что он уже прибыл и ждет их внизу.
– Добрый день, извините, я отлучился в туалет, – сказал Евгений, выходя из-за угла.
Он не приветствовал их своей обычной добродушной улыбкой, и Микаэль заметил, что тот хмурится.
– Все хорошо? – спросил он скорее из вежливости, чем с искренним участием.
– Не совсем. Я зол. Кое-кто меня здорово подвел, – ответил Евгений.
Они вышли из гостиницы и направились к старому знакомому фургону болотно-зеленого цвета.
– Разве вы не должны были приехать в арендованной машине? – спросила Роз.
– Прошу вас, придется довольствоваться этим. Агентство оставило меня ни с чем.
Роз и Микаэль обменялись взглядами.
– Если хотите, я могу достать вам машину! – бросила Роз презрительным тоном.
Евгений опустил голову, как ребенок, на которого прикрикнули.
– Госпожа, сейчас самый разгар туристического сезона, и здесь не так много свободных машин.
– Нужно было заказать заранее, – парировала она сухо.
– Уверяю вас, я заказал!
– Сейчас бесполезно спорить, – вмешался Микаэль. – Что будем делать?
– Зато я вымыл ее, и внутри тоже чисто, – оправдывался Евгений, поглаживая дверцу машины.
И они опять устроились все трое в старом фургоне.
– Куда поедем сегодня? – спросил Микаэль, нарушая тишину в салоне.
– Я думал отвезти вас на север, в сторону «Ясной Авачи».
– Что это за место? – спросила Роз.
– Дом престарелых, госпожа, не помните?
– Ах, да. И зови меня Роз, пожалуйста.
Евгений кивнул, впервые за день улыбнувшись.
– Там живет один старик, которого я знаю, он рыбачил в ту ночь, когда… – И, смутившись, он не решился закончить фразу.
Они выехали на ту же дорогу, что вела в аэропорт, но поехали в другую сторону.
Евгений помахал рукой Пушке и его заместителю, двум гаишникам, которые по-прежнему стояли под тем же деревом в надежде поймать какого-нибудь незадачливого водителя.
– Ты их знаешь?
– Здесь все друг друга знают, – ответил Евгений.
Свежий воздух, врывавшийся через окно, предвещал настоящий летний день, большая редкость для сибирского полуострова. Фургон мчался на довольно большой скорости, и серое пятно города становилось все меньше у них за спиной.
На развилке Евгений свернул направо.
– Теперь будем взбираться в гору, – сказал он.
После нескольких крутых поворотов они попали на дорогу, бегущую вдоль обрыва. Под ними на фоне густой голубизны моря четко прорисовывался берег. Похожая на тонкие белые кружева утренняя дымка приближалась к земле, но не покрывала ее. Вдоль обрыва росли редкие деревья. Некоторые цеплялись за крутые склоны, и их стволы удлинялись горизонтально, а спутанные ветки гнулись под напором безжалостного ветра.
– Как красиво! – пробормотала Роз. Очарование пейзажа смягчило ее настроение.
– Посмотрите, вон то дерево похоже на ребенка с поднятыми руками! – воскликнул Евгений.
– Действительно. – Микаэль подался вперед, чтобы лучше его рассмотреть.
– У вас есть дети? – спросил Евгений.
– У меня один взрослый сын, – ответил Микаэль.
– А у меня двое еще маленьких, – сказала Роз. – А у тебя?
Евгений покачал головой.
– Как зовут твоего сына, Микаэль?
– Томмазо.
– Толковый?
– Умница.
– А чем он занимается?
– Он синхронист.
– Синхронист?
– Переводчик, – перевела Роз.
– С какого языка?
– Он знает семь. Но специализируется на переводе с русского на итальянский и обратно.
– Почему русский? – Козлов неожиданно засмеялся, и в глазу его блеснули радостные огоньки.
– Ему всегда нравилась Россия, ее история, литература. А теперь его знания пригодились.
– Можешь оставить адрес? Я бы хотел фразы для итальянские туристы, я говорю по-русски, он переводит итальянский.
– Тебе нужно перевести на итальянский некоторые фразы с русского? Для твоих туристов?
– Да, но я заплачу, не надо бесплатно, – уточнил он тут же.
– Хорошо, я потом дам тебе его.
– Ты счастливый отец, ты много жертвы, но сейчас есть хороший сын.
Микаэль был поражен таким наивным выводом Евгения.
– Да, – сказал он тихо и задумчиво.
Глядя на Кроноцкий вулкан, который своей громадой заполнял все просматриваемое пространство лобового стекла, Микаэль мысленно вернулся в прошлое. Он вспомнил гигантскую гору, посвященную Кроносу, титану, пожиравшему собственных детей, и один эпизод, который, как он думал, уже окончательно забылся, вдруг всплыл в его памяти так живо, будто это было только вчера.
– Я вернусь в колледж, пойду собирать чемоданы, – сказал Азнавур и убежал, бросив его на мосту Риальто.
До Рождества оставались считаные дни, и многие студенты готовились к отъезду домой. Это был последний год в колледже, и монахи предоставляли им больше свободы – все-таки они были уже совсем взрослые. Азнавур вечером уезжал в Марсель, а он оставался в Венеции: в Афинах его никто не ждал.
Он засунул руки в карманы, стараясь согреться. Борей, северный ветер, совсем разбушевался, раскачивая развешанные повсюду рождественские гирлянды. Несмотря на сильный холод, толпы туристов, улыбаясь, прогуливались и делали покупки. Из магазинчиков на мосту то и дело доносились праздничные звуки карильона, а в воздухе витали ароматы сладкой выпечки с пылу с жару.
Микаэль бродил без цели. После смерти мамы Вероник тоска одолела его и терзала уже несколько месяцев. Он спускался по последним ступенькам моста в сторону Пескарии, когда его взгляд упал на мальчика лет двух-трех в зеленом пальто. Малыш тянул мать за юбку, чтобы привлечь ее внимание. В одной ручке он сжимал ниточку от красного воздушного шарика с надписью «С Рождеством», который рвался ввысь с каждым порывом ветра. Мать обернулась, и в этот момент он узнал ее – это была Франческа.
Он замер, затем инстинктивно спрятался в толпе и стал наблюдать за ней издалека. Франческа прогуливалась в компании какой-то дамы, вероятно, родственницы. Может быть, она приехала в Венецию, чтобы провести здесь рождественские праздники. Она стала еще красивее. Ее тело приняло мягкие округлые очертания, которые теперь просматривались даже через толстое пальто. Ее лицо светилось радостью. Когда она наклонялась к ребенку, оно излучало тепло и такую нежность, которые раньше он за ней не замечал. Микаэль спросил себя, не в материнстве ли причина такой перемены, в этом Божественном даре, который делает любую женщину прекрасной.
Он снова посмотрел на малыша, и, как по волшебству, среди многочисленных ног толпы их взгляды встретились. Они некоторое время смотрели друг на друга, как бы изучая. И когда Франческа потащила ребенка в другую сторону, уверенность, что это его сын, овладела Микаэлем, и его пробрала сильная дрожь.
У него перехватило дыхание, он почувствовал, что силы оставляют его. Он замер, окаменел, не способный ни к каким действиям.
Когда он пришел в себя, от рождественского видения не осталось и следа. Ему казалось, что он, как молодой Скрудж из повести Диккенса, которому был дан знак, должен был бы последовать за ним, уцепиться за него… А он… Счастье прошло мимо, слегка коснувшись его, а он остался неподвижно стоять, равнодушный.
– Нет! – закричал он.
Роз вздрогнула, и Евгений, испугавшись от неожиданности, опасно крутанул руль на повороте.
– Нет! – повторил Микаэль, но в этот раз подавив рыдание.
– Что с тобой? – спросила Роз, удивленная и обеспокоенная.
– Ты права, я страус.
– Можешь остановиться, пожалуйста? – обратилась Роз к Евгению.
И тот остановился на обочине дороги.
– Голову в песок, я трус… проклятый трус. – Микаэль стал бледен как полотно.
– Ну-ка, давай выйдем на минутку, – сказала сестра и потянула его за рукав.
Они вышли из фургона на свежий воздух, и Роз повела Микаэля, едва передвигавшего ноги, обессиленного, к огромному камню, на который и усадила его.
– Как ты себя чувствуешь?
Он покачал головой.
– Когда Козлов сказал… о жертвах, которые отец приносит ради сына… я не смог остаться равнодушным.
– Он просто так сказал, лишь бы сказать что-то, ты же знаешь, какой он, – пробормотала она, слегка махнув рукой в сторону Евгения, который в это время закуривал сигарету.
– Я ничего не сделал для Томмазо, я его не достоин.
– Ну-ну, Микаэль, ты же знаешь, что это неправда.
– Вся жизнь впустую, я прожег ее, – сказал он с горечью в голосе. – Я изучал множество предметов, писал книги, создавал прекрасные теории, но… так и не научился жить.
– Да что ты такое говоришь?
– Ты была права, я трус. Я и тебя хотел бросить. Я бы не поехал сюда, если бы ты не потащила меня за собой и если бы Томмазо не настоял на этом.
– Я тоже боялась. Это нормально.
Микаэль был подавлен и снова заплакал от нервного срыва. Какой-то узел внутри него развязался и высвободил мучительное смятение и беспокойство.
Евгений подошел к ним чуть ли не на цыпочках. Молча стал подавать знаки, приглашая следовать за ним. Было ясно, что он хотел что-то им показать, и прямо сейчас.
– Что такое, Евгений? – спросила Роз.
– Идите за мной, но не шумите, – прошептал он, коснувшись пальцем губ.
Роз и Микаэль посмотрели друг на друга с сомнением.
– Идем?
Микаэль поднялся и последовал за сестрой и Евгением. Они перешли дорогу и подошли к краю огромного луга, усеянного миллиардом беленьких точек, словно снежинок.
– Что это? – тихо спросила Роз.
Евгений лукаво улыбался. Затем осторожно ступил на луг и трижды громко хлопнул в ладоши.
Сотни, тысячи пушинок поднялись над землей. Облако из белых бабочек взлетело одновременно в воздух и рассыпалось, как снегопад, но не падающий, а восходящий, словно мир перевернулся вниз головой.
– Невероятно!
Микаэль улыбался, а Роз хлопала в ладоши – они были очарованы великолепным зрелищем, которое уготовила им природа.
– Белые бабочки – это добрые души, – объяснил им Евгений, подняв руку к небу. – Они возвращаются на Землю, чтобы напомнить нам о доброте в мире.
Завороженные, брат и сестра смотрели и молчали.
– Как далеко отсюда дом престарелых? – спросила Роз чуть позже, когда они снова пустились в путь.
– Это Мелихово, – сказал Евгений, показывая на небольшой поселок. – Еще с полчаса.
Дорога стала ровной и пересекала пышно цветущую равнину. Солнце едва грело – на таких высоких широтах лето было скорее по календарю, чем в реальности.
– Ты часто туда ездишь? – спросила Роз.
– Да, моя сестра живет там уже много лет.
– У тебя есть сестра?
– Аннушка, но она очень больна, бедняжка.
– А братья?
– Один, но мы потеряли его, когда он был еще ребенком. – Он отвернулся, будто хотел скрыть свою грусть. – А вы… Извини, вас было трое?
Микаэль и Роз кивнули.
– Ты была совсем маленькая, когда арестовали твоего второго брата, – неожиданно сказал Евгений. – Но в то же время я слышал, как ты говорила о нем, словно об ангеле.
– Это запретная тема, – предупредил его Микаэль.
– Что тут плохого? Я хотеть знать… – продолжил он на своей смеси армянского и русского.
– Габриэль носил имя ангела и был им на самом деле, – ответила Роз. – Мы с ним так договорились.
Микаэль бросил на нее удивленный взгляд.
– Ты мне об этом не говорила.
Она откинула назад волосы и заплела их в косу, перекинув ее через плечо на грудь.
– Наш мир был полон трагических событий. Террор накрыл Ереван, как туча токсичного газа. Ты дышал им повсюду. Мы дошли до того, что вздрагивали при каждом шуме, будь то даже книга, упавшая со шкафа. Однажды ночью я проснулась в слезах, и Габриэль протянул руку, ища мою под одеялом.
– Розочка, Новарт-джан, что случилось? – спросил он хриплым от сна голосом.
Я старалась поднять голову, потому что мне не хватало воздуха, и тогда Габриэль свернулся рядом со мной на кровати и в темноте пытался понять, что со мной.
– Да ты плачешь, – прошептал он и погладил мое лицо.
– Мне приснился страшный сон, Габриэль.
– Страшный-страшный?
– Да.
– Расскажи мне его, – прошептал он, поправляя мое одеяло.
– Меня увозят куда-то… на остров, в замок посреди озера.
– Такое же, как Севан?
– Да.
– Разве оно было некрасивое?
– Оно было холодное и…
– И?
– Мне не разрешали вернуться домой.
– И поэтому ты плакала?
– Да.
– Глупенькая… Ты же знаешь, что я никогда не оставил бы тебя одну? – И он крепко обнял меня. – Ты мой цветочек, посмотри на меня, – шепнул он, приподняв мой подбородок. – Как ты можешь думать, что я оставлю без присмотра такой цветочек?
– Правда? Поклянись.
– Клянусь, – пообещал он с таким торжественным видом, что я засмеялась.
– Ну, так-то лучше, теперь будем спать?
– А если мне опять приснится замок?
– Не бойся, потому что… Видишь ли, если бы ты продолжала спать, то увидела бы, что я прискакал тебя освободить.
– Откуда ты знаешь?
– Потому что это я пишу твои сны.
Я счастливо посмеивалась, а он заботливо устроил меня в постели.
– Спокойной ночи, – прошептал он, поцеловав меня в лоб.
Но я долго еще не могла заснуть, все думала: как брат пишет мои сны? Я нисколько не сомневалась, что это правда, и почувствовала себя спокойно и благодушно.
– Братец, – прошептала я, когда он уже заснул, – я тоже поеду тебя искать… хоть на край света.
Евгений резко нажал на тормоз при последних словах Роз.
– Извините, – сказал он, остановив машину, – только две минуты. – Он открыл дверцу, выскочил вон и бросился к раскидистому кусту на обочине дороги.
– Что это с ним?
Микаэль обернулся и увидел, как тот прячется за ветками.
– По-моему, он справляет нужду.
– Он что, не мог потерпеть до дома престарелых?
– Наверное, у него проблемы с простатой.
Роз нетерпеливо фыркнула.
– А, вот он возвращается, – сказал Микаэль.
– Надеюсь, он вымыл руки?
– Вымыл и вытер, – хмыкнул он, пока Евгений заводил машину и нажимал на газ.
Название «Ясная Авача» вовсе не подходило к дому престарелых.
Это было старое здание, спрятавшееся в тенистых складках сопки, и если в июне солнце не добиралось до него, то чего уж говорить про остальное время года.
Они оставили фургон у входа, несмотря на то что просторная парковка была полупуста. Свежий ветерок с запахом мха налетел на них, как только они вылезли из машины, и Роз поежилась в своей жакетке, заметив дым, поднимавшийся над крышей дома. Старики и больные нуждались в дополнительном тепле.
Когда они вошли в холл, все, кто там был, повернули к ним головы. Обитатели «Ясной Авачи» не привыкли к посещениям. Проходили месяцы, иногда годы, прежде чем кто-то приезжал навестить их. Они сидели в гостиной, окна которой выходили на долину. Многие устроились на диванах и в креслах, другие оставались в своих креслах-каталках и, сидя спиной к долине, смотрели в пустоту, в одну точку. Впрочем, кто знает, может, пейзаж, который возникал у них в мозгу, был гораздо привлекательнее.
– Евгений, ты приехал к Аннушке? – спросила женщина средних лет за стойкой. На голове у нее были бигуди, а на губах блестела оранжевая помада.
– Нет, Катюша. Я привез друзей, чтобы…
Женщина встала и подошла к ним, протянув гостям руку для приветствия.
– Им надо поговорить с дедом, это родственники, они приехали издалека, – закончил Евгений.
– Он только что поел, но… Идите, идите, даже если он отдыхает, все равно будет рад вас видеть.
Все трое поднялись по лестнице на третий этаж.
Из комнат доносилось приглушенное воркование включенных телевизоров.
– Старик должен быть в одиннадцатой, – говорил Евгений, проверяя номера на полуприкрытых дверях.
Когда он нашел нужную комнату, то постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Остальные последовали за ним. Худой, как скелет, старик дремал на кровати в полутьме, хрипя и дергая отекшими веками. Запах антисептика едва перебивал зловоние, исходившее от больного старого тела. На столике рядом лежали шприц и ампулы с коричневой жидкостью, использованная и плохо вывернутая резиновая перчатка.
– Дед, я Евгений, ты помнишь меня?
Старик открыл глаза, уставившись в белый потолок, пока губы растягивались в подобие улыбки.
– Сколько времени прошло… – прошелестел он едва слышно.
– Но… дед, мы же виделись на прошлой неделе.
Старик попытался выпрямиться в кровати.
– Подожди, я тебе помогу. – Евгений стал поправлять ему подушки за спиной. – Это друзья, они приехали из Канады и из Италии.
Во взгляде старика мелькнул огонек.
– Добро пожаловать, – приветствовал он их.
– Они потеряли брата во время пожара на «Линке», – объяснил ему Евгений, показывая на двух посетителей, которые не проронили ни слова.
Тот покачал головой.
Роз подошла к кровати:
– Прошу тебя, дедушка, расскажи нам о том вечере, ты наша единственная надежда.
– Мы искали других свидетелей, но все умерли, – пришел ей на помощь Евгений.
– Я был молод и… полон сил, – начал старик и почти задохнулся от приступа сильного кашля.
Тогда Микаэль сел на кровать и приблизился к его лицу.
– Я… его брат-близнец… Посмотри на меня, мы одинаковые, – наивно понадеялся он.
– Хоть два слова, – умоляла Роз за плечами брата.
Старик улыбнулся, показав беззубые десны.
– Ты тихонько говори мне на ухо, а я им передам, – предложил Евгений. – Так ты не устанешь и не будешь кашлять. – Он придвинул к себе стул и сел, наклонившись над стариком.
Тот вздохнул, и на лице его появилась болезненная гримаса. Потом он стал что-то бормотать, захлебываясь в кашле и тяжело дыша, так что только Евгений мог понимать его и «переводить».
– Я вышел на своем баркасе в море. Я это делал только летом, когда погода позволяла. Солнце уже садилось, когда три ужасных взрыва прогремели в бухте. Я поднял голову и увидел пожар. Это была «Линка», как я потом узнал. Она затонула за несколько минут под крики несчастных, которые находились на борту. Мне стало жутко, я так и застыл с леской в руке. Меня бросало в дрожь от одной мысли, что недалеко от меня множество людей умирало в огне или тонуло в море. Тогда я завел мотор и подплыл ближе к месту трагедии. Но вскоре я понял, что подплыть еще ближе невозможно. Облако дыма скрывало этот участок моря, и в нем едва можно было различить контуры рыболовецких судов, которые бродили в этом тумане в поисках живых. Стояла фантастическая тишина, слышны были только крики рыбаков: «Эй, кто-нибудь?.. Есть кто живой?..» Не знаю, сколько времени прошло, час, может, больше, я не двигался на моем баркасе и ждал чего-то… Волны медленно подталкивали ко мне разные предметы… Я видел алюминиевые миски, одежду, башмак… и, когда оторванная рука ударилась о киль, я ужаснулся. Я снова завел мотор и повернул назад, не оборачиваясь. Мне было так же трудно дышать, как сейчас, так я был напуган. Когда я приплыл к трем скалам у входа в бухту, то замедлил ход и обернулся, чтобы в последний раз посмотреть на место кораблекрушения. – Старик остановился, тяжело дыша.
– Дать тебе воды? – Евгений схватил пластмассовый стаканчик.
Тот отказался, замахав рукой, и продолжил свой рассказ:
– Одно тело плавало рядом с моим баркасом. Оно лежало на спине и качалось бездыханно на бурунах у скал. Мне казалось, что это видение, мираж… но это была правда. Когда я попытался затащить его на баркас, я увидел, что это был очень молодой человек, совсем еще мальчик.
– Сколько лет ему могло быть? – перебила Роз дрогнувшим голосом.
– Пятнадцать-шестнадцать, не больше.
Микаэль схватил руку сестры и сжал ее.
– Как только я затащил его на баркас, то перевернул на бок и стал стучать по спине, его легкие были полны воды. У юноши начались позывы к рвоте, чем чаще я его ударял, тем больше его рвало, и тогда… наконец он задышал.
Роз и Микаэль посмотрели друг на друга в немой надежде.
– Ты уверен, что он дышал? – настаивал Евгений, взяв его за плечи. – Наши друзья не должны обманываться.
Старик кивнул.
– Конечно, – сказал он.
– Он говорил? Он сказал что-нибудь? Свое имя? – Микаэль дышал так же тяжело, как и старик.
– Нет, он был без сознания.
– Подожди. – Микаэль вспомнил о своей фотокарточке времен колледжа. Он достал ее из кармана. – Может, он был похож на него?
Евгений взял карточку, посмотрел на нее какое-то мгновение и показал старику.
– Не знаю, – пробормотал тот, – он был в тяжелом состоянии, лицо наполовину обгорело… Сгусток кожи и крови… Я отвез его в больницу.
Роз встала на колени рядом с кроватью.
– Дедушка, милый, ты помнишь в какую? – спросила она со слезами на глазах.
– В те времена была только одна больница в городе, сейчас она называется «Новая Камчатская», – ответил ей Евгений.
– Позвоним им! – решила Роз, вскакивая на ноги.
– Да… Здесь есть телефон, которым мы могли бы воспользоваться? – Микаэль тоже был крайне возбужден.
– Я могу позвонить отсюда, – предложил Евгений, подняв трубку настенного аппарата.
– Алло? – ответила Катерина.
– Извини, Катюша, но это срочно… Нам надо позвонить в «Новую Камчатскую», можешь соединить?
– Попробую, Женя, минутку.
Когда телефон зазвонил, Роз думала, что упадет в обморок от волнения, а у Микаэля подкосились ноги, и он сел на кровать. Сердце его чуть не выскочило наружу.
– Добрый день, будьте добры, регистратуру, – сказал Евгений.
– К сожалению, товарищ, она уже закрыта. Но откроется завтра.
– Это срочно, – шептала ему Роз одними губами, – скажи, что это очень срочно.
– Это срочное дело, может быть, можно поговорить с кем-то из начальства?
– Нет, товарищ, никого уже нет. Позвоните завтра, регистратура открывается ровно в восемь.
– Но…
В тишине послышались короткие гудки. Евгений так и остался стоять с трубкой в руке.
– Черт возьми! – вырвалось у Роз. Она схватила трубку и снова попросила соединить ее с больницей.
– Алло?
– Пожалуйста, – попросила она на чистом русском, – мы звонили только что насчет регистратуры. Нам крайне важно срочно свериться с записями в вашем архиве за 1953 год. Это жизненно важный вопрос.
– Дама, если речь идет о 1953 годе, то вопрос не может быть жизненно важным сегодня. Так что позвоните завтра утром, – ответила женщина и положила трубку.
Все трое растерянно переглянулись. Старик между тем стал обнаруживать признаки усталости.
– Что будем делать? – спросил Микаэль, вставая с кровати.
Роз пожала плечами:
– Боюсь, придется ждать до завтра. – Потом она нежно посмотрела на старика, который, казалось, в этой суете совсем растерялся. – Дедушка, дай я тебя поцелую, – прошептала она, касаясь губами его осунувшейся щеки. – Спасибо тебе за все, ты нам очень помог.
Микаэль слегка сжал ему руку и погладил ее.
– Ты дал нам надежду, и мы тебе очень благодарны, – тихо сказал он.
Старик улыбался.
– Спасибо, спасибо, – благодарил он, слегка покачивая головой.
Друг за другом они вышли в коридор.
– Молодец! – воскликнул Микаэль. – Какие точные выражения, яркие описания! Это не с твоей ли помощью, Евгений?
– Нет, он одно время был учителем, – парировал Евгений. А затем, поколебавшись немного, спросил: – Извините, ничего, если я зайду проведать мою сестру на пару минут?
– Ну конечно! – ответила Роз, хотя было заметно, что она предпочла бы тут же отправиться в город, помчаться в больницу и ждать там до завтрашнего утра, пока не откроется регистратура.
– Мы подождем тебя внизу? – сказал Микаэль.
– Почему бы вам не пойти со мной? Я вас познакомлю.
Они пошли по коридору к последней комнате.
– А вот и мы! – воскликнул Евгений, открыв дверь. – Аннушка?..
Женский силуэт в кресле-каталке просматривался в центре комнаты.
– Что ты тут делаешь в темноте? – пожурил он ее нежно.
Потом подошел к окну и отодвинул тяжелые шторы. Голубоватый свет наполнил комнату и осветил женщину. Ей было лет пятьдесят, узкие плечи и впалая грудь, но живот и зад скорее округлые. Короткие светлые волосы уже подернула седина. У нее были правильные черты лица, ярко выраженные скулы и грустные зеленые глаза под густыми темными бровями.
– Это друзья, они приехали издалека, – объяснил ей Евгений, кивнув в сторону гостей, которые смущенно стояли на пороге.
Аннушка промычала что-то, вертя головой. Она показывала на какой-то разноцветный предмет, лежавший на еще не застеленной кровати. Это была тряпичная кукла.
– Хочешь, чтобы я дал тебе твою лялю? – Евгений взял куклу с кровати и сунул ей в руки. – Она ее обожает. Это очень старая кукла, но она не хочет другую. – Он присел на корточки перед каталкой. – Правда? – спросил он у Аннушки, поправляя ей волосы нежными жестами. – Смотри, что я тебе принес! – сказал он, вынимая из кармана шоколадный батончик.
Аннушка радостно схватила его и стала с интересом рассматривать цветную обертку. Потом сделала вид, что кормит свою куклу, тыкая батончик ей в рот, как настоящая мамаша.
– У нее была длинная коса, аж до середины спины, ее отрезали несколько месяцев назад… Правда, Аннушка? – сказал Евгений, слегка касаясь ее лица.
Роз взволновала эта сцена. Было что-то такое в том, как он ласкал лицо женщины своими огромными руками с неухоженными ногтями, что трогало ее до глубины души. Это могло показаться невероятным, но эти жесты напоминали ей Габриэля.
Неожиданно Аннушка занервничала и начала метаться, все сильнее и сильнее, пока не сорвала повязку с головы брата, оголив обезображенный глаз и шрам, хорошо видные теперь в ярком солнечном свете, наполнившем комнату.
Роз и Микаэль вздрогнули и отвернулись в смущении.
– Это невежливо, – пожурил ее Евгений, подобрал повязку и аккуратно надел ее.
Аннушка посмеивалась, глядя на двух незнакомцев, неподвижно застывших на пороге.
– Женя, когда ты привезешь нам еще лососевые головы? – крикнула Катерина, когда они выходили.
– Скоро, Катюша, – пообещал он, открыв дверцу для Роз. – Вы не хотите есть? – спросил он.
– Пожалуй, я перекусила бы, – ответила Роз.
– Тут есть одна закусочная по дороге, там подают отличный суп.
– Если только без капусты, – подчеркнул Микаэль.
Снаружи дул сильный ветер, доносивший откуда-то издалека запахи и шумы. Роз показалось, что она слышит, как безутешно плачет ребенок, и она остановилась, оглядываясь по сторонам, но Микаэль взял ее под руку.
– Все хорошо?
– Как только я поем, мне станет лучше, – пробормотала она, поеживаясь, и распахнула дверцу фургона. Теперь она села между двумя мужчинами.
Они поехали по другой дороге. Евгений сказал, что сделает маленький крюк: в любом случае эта дорога, в отличие от утренней, была лучше.
– Здесь есть отопление? – Роз дрожала, в салоне всюду сквозило.
– Конечно! – воскликнул Евгений и стал крутить ручки на приборной панели. – Пять минут, двигатель еще холодный.
– Твоя сестра давно болеет? – спросил его Микаэль.
– С тех пор как умер наш младший брат, почти сразу, – ответил он, глядя перед собой.
Роз фыркнула:
– Ты не мог бы не курить?
Евгений закурил сигарету, когда они вышли из дома престарелых, и продолжал курить в машине.
– Извини, пожалуйста, привычка, – сказал он и раздавил сигарету в пепельнице.
– Это был инсульт? – спросил Микаэль, опустив стекло, чтобы впустить свежий воздух.
– Да, она не выдержала. Аннушка заботилась о нем, как мать, и, когда он умер, совсем сникла, а через год у нее случился удар. Есть люди, которые не переносят боли. Другие, напротив, лишь закаляются. Я тоже был разбит, но только вначале. Потом привык.
– От чего умер ваш брат? – тихо спросила Роз.
– Миша? – Евгений нервно заерзал на сиденье. – Сгорел заживо при пожаре. Печка загорелась, мы не смогли спасти его… Я сам чуть не сгорел. – И он показал на глазную повязку. – Я бросился в огонь, чтобы вытащить его, но было уже поздно.
Брат и сестра смотрели на него с изумлением и одновременно с восхищением. Они оценили его благородный и смелый поступок.
Постепенно они узнавали его все лучше, стали больше ценить.
– Приехали! – заявил он после поворота.
И закашлялся своим обычным скоблящим легкие кашлем.
Они устроились за розовой ширмой.
Заказали суп, предупредив официанта, чтобы в блюдах не было капусты, и с аппетитом поели, запивая отличным китайским пивом. Говорили о жизни, о том, как часто случай, судьба может неожиданно изменить наше существование, сменяя радость и горе, неизменно сопутствующие человеческой жизни. Сослались на историю старика, с которым только что познакомились: случайно наткнулся на выжившего в кораблекрушении человека, и согласились, что никогда не надо терять надежду.
– Я боюсь, – пробормотала Роз после всех сказанных прекрасных слов и положила столовую ложку в глубокую тарелку.
– Завтра утром пойдем туда и, если… – Микаэль старался спрятать тревогу за оптимистической фразой, но так и не смог ее закончить.
– Мы можем ехать, если хотите, – предложил Евгений после наступившего долгого молчания.
– Где здесь туалет? – поднялась Роз.
– Этажом ниже.
– Я с тобой, – сказал Микаэль и тоже поднялся из-за стола.
Как только брат и сестра удалились, Евгений закурил сигарету. Втянул дым и задержал его в легких, но тут же закашлялся, вынул фляжку с водкой и сделал большой глоток, чтобы подавить приступ.
Они вышли из закусочной, когда небо уже пылало краснотой и все вокруг казалось покрытым пурпурной пылью. Роз смотрела на руки, не веря своим глазам: ее кожа приняла странный оттенок в лучах заката. Микаэль искал фотоаппарат в недрах рюкзака.
– Давайте сфотографируемся, – предложил он.
По дороге домой они молчали. Смотрели перед собой, каждый погрузившись в собственные мысли. Они ехали по унылому песчаному плоскогорью, заметно проигрывавшему на фоне остальных цветущих пейзажей полуострова.
Роз уже почти дремала, когда Евгений резко затормозил.
«Надеюсь, он не собирается опять справлять нужду», – подумала она.
– Идите за мной! – позвал он, удивив ее. – Это стоит посмотреть, – объяснил он, вылезая из фургона.
Он довел их до выступа скалы над обрывом. Внизу простиралась долина, пересекаемая медлительной речушкой. Повсюду виднелись десятки гейзеров, подземных источников, периодически выбрасывавших на поверхность фонтаны горячей воды и пара. Они взрывались один за другим, по очереди, с громким пыхтением, как инструменты в оркестре гениального дирижера.
– Дыхание Земли… – сказал Евгений, разведя руками.
Косые лучи солнца заставляли сверкать каждую каплю воды, каждую молекулу пара. Скромная радуга возникла над долиной.
– О боже, это великолепно! – повторял Микаэль с влажными от волнения глазами, потрясенный увиденным зрелищем.
– Даже не знаю, как нам тебя благодарить, – шептала Роз, дыша в унисон с Землей.
31
Петропавловск-Камчатский, 21 июня 1992 года
Роз и Микаэль приехали в больницу задолго до восьми утра.
Они ждали в холле гостиницы, возбужденные, нетерпеливые, отказались от завтрака и бросились к фургону Евгения, как только он появился. Опасались, что наткнутся на очередь в регистратуре. Но, когда они приехали на место, выяснилось, что в то воскресное утро там никого не было. Они сели, куда им указали, и стали ждать. На двери висела табличка с надписью «Регистратура». Роз вспотела, белая водолазка была слишком плотной для неожиданно жаркого дня.
– Ты выспалась? – спросил Микаэль.
– Да, спасибо, а ты?
– Я тоже, – ответил он, пожав плечами.
Они оба соврали, в ту ночь ни тот ни другая не сомкнули глаз.
Роз мучил один из ее обычных приступов паники. Напрасно она старалась подавить его, съев две шоколадные конфеты, которые горничная каждый вечер оставляла на подушке. В конце концов, поддавшись панике, она позвонила Артуру. Подождала три гудка и повесила трубку, так и не поговорив. Затем уставилась в темноту и так просидела неизвестно сколько времени, пока наконец не набрала домашний номер, решив, что именно туда ей нужно позвонить.
– Привет, Акоп, это я, – сказала она мужу.
– Любимая, я уже начал беспокоиться и хотел сам тебе позвонить.
– Беспокоиться? Почему?
– Ты не звонила с четверга.
– Если бы ты действительно беспокоился обо мне, если бы тебя волновало, что со мной происходит, ты бы сейчас был со мной рядом, дорогой Акоп, – заявила она сухо.
Он молча слушал ее.
– Скажу больше, у меня нет ни желания, ни сил описывать тебе страх и смятение, которые я чувствую сейчас.
– Ты слишком сурова со мной, мне кажется, я этого не заслужил.
Роз собралась с силами и выпалила:
– Я ищу своего брата на другом конце света, я совершенно обессилела. Завтра, может быть, мне скажут, что я иду по следам призрака, который умер сорок лет назад и… – Она прервалась, не хотела, чтобы муж услышал, что она плачет.
– Роз?
– Да. Я тут в компании брата, которого совершенно не знаю. Который всего несколько месяцев назад был для меня чужим человеком, и еще… того пуще, – она запнулась, а потом саркастически и нервно рассмеялась, – водителя, продавца рыбы, который летом подрабатывает гидом. И ты считаешь, что я слишком сурова? – бросила она на взводе.
– Если бы ты меня попросила, я бы поехал с тобой.
– Я не хотела просить! Я наивно полагала, что ты сам догадаешься.
– Но кто-то же должен был остаться с детьми.
– Не говори ерунды, – отрезала Роз, – будем хотя бы честны друг с другом.
Микаэль блуждал взглядом по холлу, пока не задержался на дверях лифта, которые открылись с режущим слух скрипом. Пара санитаров толкала каталку с лежащим на ней мужчиной.
– Вчера вечером я говорил с Томмазо.
– Ты его нашел?
– Да, когда я рассказал ему, что сегодня, вероятно, мы узнаем что-нибудь конкретное о Габриэле, он сказал мне одну вещь, которая меня утешила.
Каталку быстро провезли мимо них, пациент с желтоватым цветом лица лежал бездыханный, с закрытыми глазами.
– Среди прочих добрых слов он сказал мне, что, как бы все ни обернулось, для меня это все равно положительный опыт.
Роз пытливо смотрела на него.
– «Ты смог победить твою инертность, твои страхи. И даже только ради этого, думаю, стоило ехать», – вот что он мне сказал. Знаешь, Роз… иногда мне кажется, что я везучий.
Она удивилась.
– Заполучить такого сына, как Томмазо… – добавил Микаэль, слегка улыбнувшись.
Тем временем женщина средних лет с ярко выраженными азиатскими чертами лица открывала дверь кабинета. Ни брат, ни сестра не сдвинулись с места, несмотря на то что они ждали этого момента с таким нетерпением.
Наконец Микаэль встал и глубоко вздохнул.
– Я думаю, нам пора.
Роз кивнула, оперлась рукой на спинку стула, чтобы встать, но не смогла из-за дрожи в ногах. Тогда Микаэль помог ей, взял под руку и провел в комнату.
– Говори ты, – взмолилась Роз, забыв, что он плохо говорил по-русски.
– Меня зовут Микаэль Газарян, – начал он по-английски, назвав фамилию, которую еще недавно не знал.
Услышав, как он произнес ее, Роз чудесным образом воспрянула духом. Ей больше не казалось, что она одна должна выносить всю тяжесть ситуации. Теперь она была с братом, и что за дело, если судьба свела их вместе только сейчас.
– Молодой человек был госпитализирован сюда 25 мая 1953 года, – вмешалась она своим обычным твердым и решительным тоном. – Мы бы хотели знать, не звали ли его Габриэль Газарян.
– Двадцать пятого мая… Какого года?.. – спросила женщина с недоверчивой улыбкой.
– Тысяча девятьсот пятьдесят третьего.
– А вы кто будете?
– Его брат и сестра.
Женщина взяла со стола бумаги.
– Заполните вот это, имена и фамилии, ваши и пациента. А я пока буду искать, – сказала она и скрылась в другой комнате, в которой виднелись стеллажи, набитые папками и карточками с историями болезней.
Через какое-то время, которое показалось им бесконечным, женщина появилась с папкой в руке. Роз и Микаэль ждали ее стоя, блуждая потерянным взглядом по окружавшим их предметам: принтер, телефон, который звонил не переставая, факс, выплевывавший рулоны сообщений.
Теперь Роз дрожала от холода и ежилась в кофте, бледная как полотно. Рядом с ней Микаэль дышал так, словно гигантская рука схватила его за горло и душила. Он поискал свою коробочку с лекарством и проглотил пару таблеток.
– Да, – подтвердила служащая регистратуры, – в тот вечер сюда срочно был госпитализирован юноша.
– Выживший в кораблекрушении «Линки»? С обгорелым лицом?
– Совершенно верно. Насколько можно понять из карточки, он прибыл сюда в тяжелом состоянии.
– Юноша шестнадцати лет?
– Его возраст не указан.
Микаэль приблизился к сестре и сжал ее руку.
– Дайте мне ваш запрос, – сказала женщина.
– Пожалуйста.
Она взяла заполненный бланк, внимательно его прочитала и попросила предъявить документы.
– Но вы не брат ему, – заметила она, взглянув на Микаэля испытующе.
– Не делайте поспешных и ошибочных выводов из фамилии, – парировала Роз. – А теперь, прошу вас, скажите нам что-нибудь еще.
Женщина приняла сокрушенный вид.
– Если имя человека, которого вы ищете, вот это, – и она ткнула пальцем в бланк, – мне очень жаль.
– Не Габриэль Газарян? – спросил Микаэль с тревогой.
Женщина отрицательно покачала головой.
– Но в тот вечер сюда привезли юношу! – воскликнула Роз. – Со сгоревшего корабля, оставшегося в живых, – подчеркнула она с пылавшими щеками.
– Совершенно верно.
– И это не Габриэль Газарян?
– Нет.
– Тогда как его звали?
– Мне жаль, но я не могу сказать вам.
Служащая регистратуры смотрела на них с непроницаемым видом, без тени сострадания. Может быть, она думала, что за давностью лет они уже не так сильно чувствовали горе, но она ошибалась.
– Пожалуйста, прошу вас, посмотрите еще, – взмолился Микаэль, когда Роз отворачивалась, сотрясаясь от рыданий.
Женщина напряглась и выпятила подбородок, как бы подчеркивая, что ее эффективность в работе не подлежит сомнению. Она не поддалась на уговоры и не показала им документ, в котором фигурировало имя спасшегося человека.
– Могу я сделать что-нибудь еще для вас? – спросила она, наконец поднимая трубку телефона, чтобы ответить на очередной звонок.
– Нет, спасибо… – Микаэль взял Роз за руку и вывел ее из кабинета.
Евгений ждал их перед больницей, рядом с фургоном, припаркованным во втором ряду. Как только он их увидел, то понял по лицам, что у них ничего не вышло, и помрачнел.
– Мы зря размечтались, – начал Микаэль. – Мальчик, которого старый рыбак выловил в море, не наш брат.
Евгений опустил глаза и уставился в землю.
– Наивно было с моей стороны думать, что после стольких лет я смогу найти моего Габриэля. Это моя беда, я все время цепляюсь за ложную надежду самой себе во вред. – И Роз снова заплакала. – Мне надо смириться, мой брат умер… Умер… Ты был прав, – прошептала она, обратившись к Евгению, – рано или поздно наступает момент, когда надо подчиниться судьбе.
Евгений резко поднял голову и встретился взглядом с Роз. Он и хотел бы сказать ей что-то в утешение, сделать что-то, чтобы показать свое сочувствие, но не посмел и ограничился тем, что смотрел на нее с сожалением и пониманием.
– Я тоже поверил, – сказал Микаэль. – Этот ответ подвигнул бы нас на дальнейшие поиски, – и он горько улыбнулся. – Я уже представлял себе, как обниму моего близнеца.
– Сегодня самый продолжительный день в году, – неожиданно сказал Евгений, глядя в небо.
Его слова частично покрыла сирена «скорой помощи», которая подъезжала ко входу в больницу. Несколько медбратьев бежали, чтобы открыть заднюю дверь кареты.
– Хватит, пойдемте отсюда, – вздохнула Роз.
Все трое сели в фургон, не зная, как быть дальше. Полуденное солнце нагрело крышу машины, и в салоне снова ощущался запах рыбы.
– Что будем делать? – спросил Микаэль.
Роз пожала плечами.
– Я хочу уехать, хочу вернуться домой, – сказала она. Неожиданно она поняла, насколько абсурдной была вся эта затея. – Я скучаю по детям, по дому… – пробормотала она, пока задавалась вопросом, не было ли желание найти Габриэля следствием ее эгоизма, упрямой самонадеянности, с которой она шла против здравого смысла и самой судьбы. Она, как избалованная девчонка, вбила себе в голову, что может переписать историю так, как ей было нужно.
– Есть тут турагентство? – спросил Микаэль. – Нам надо будет забронировать рейс.
– Не волнуйтесь, я все сделаю в гостинице. – Евгений завел двигатель и медленно влился в поток машин. – Чем хотите заняться позже? – спросил он, когда они подъезжали к гостинице.
– Чемоданами.
– Не хотите перекусить?
– У меня пропал аппетит, – сказала Роз.
– Я с удовольствием посмотрел бы на бухту! – воскликнул Микаэль.
– Да, мы можем поехать туда чуть позже. Я думал… – Евгений был смущен и покраснел от стеснения. – Я думал, если у вас нет других планов, приготовить что-нибудь для вас у меня дома.
– У тебя дома? – удивленно спросила Роз.
– Да, было бы уютнее, чем в ресторане, и потом, у меня открывается прекрасный вид.
Брат и сестра посмотрели друг на друга и согласно кивнули, поблагодарив его.
– Но сначала нам надо организовать возвращение и собрать чемоданы, – уточнил Микаэль, пока они парковались у гостиницы.
– Конечно. Я подожду вас столько, сколько понадобится.
– Извини, мы задержались.
– Ничего, я сам только что пришел, – сказал Евгений. В руках у него были сумки, полные покупок, которые он поставил сзади. – Надеюсь, вам нравится рыба?
– Ну зачем ты суетился? – сказала Роз. – Мы не хотим затруднять тебя.
– Да что вы, мне будет приятно. Я хочу, чтобы вы попробовали моего запеченного лосося.
– Где ты его взял в воскресенье?
– У меня есть знакомства, – ответил он с улыбкой.
Они сели в фургон и опустили стекла. Температура воздуха резко поднялась до двадцати четырех градусов – настоящий рекорд для этих мест.
– Вы нашли рейс? – спросил Евгений, держа сигарету снаружи.
– Да, вылетаем в Москву завтра в одиннадцать.
Они свернули на дорогу, идущую в гору, и скоро оставили позади шум городской суеты.
– Мы почти приехали, – объявил Евгений перед очередным поворотом.
Роз посмотрела в окно и залюбовалась великолепной панорамой бухты, словно на открытке. Этот город постоянно менялся. Конечно, многое зависело от места, с которого на него смотрели, но не последнюю роль играло и душевное состояние того, кто его созерцал.
Деревянный дом показался меж раскидистых деревьев. Свежевыкрашенные ярко-голубые наличники выделялись на темном фоне, а вверху, под крышей, бежал резной карниз.
– Вот моя изба! – сказал Евгений с чувством гордости.
Он остановил фургон и вынул сумки с покупками.
– Видите, где мы были вчера? – Он показал гостям вулкан.
– Тебе помочь? – предложил Микаэль.
– Ты давно здесь живешь? – Роз смотрела по сторонам в восхищении. Палисад голубой, как и наличники. Ухоженный газон с кустами роз.
– Два года. Городская жизнь не для меня. – Евгений открыл дверь, толкнув ее ногой, и уже на входе гостей ослепил яркий свет, наполнявший комнату. Он подошел к окну, из которого открывался вид на бухту. – Смотрите, какая красота, – сказал он, распахнув балконную дверь. – Вы пока любуйтесь, а я пойду готовить.
Роз и Микаэль вышли на маленькую терраску и восхитились открывшейся панорамой. Под ними простиралась, как круглое озеро, Авачинская бухта, того же голубого цвета, что и наличники на доме. Узкий пролив на юге соединял ее с необъятным серым океаном. Петропавловск, казалось, лежал очень далеко, хотя на самом деле всего лишь в нескольких километрах.
– Я открыл армянское вино, надеюсь, вам понравится, – сказал Евгений у них за спиной, поставив три бокала на столик.
– «Арени»? – воскликнула Роз. – Я уже несколько лет его не пила.
– А это грузинские орехи, – добавил он, поставив рядом с бутылкой тарелку.
– Давайте выпьем, – сказала Роз. – Я слишком долго страдала по Габриэлю, но теперь мне надо смириться. Сегодня я сделала все, что могла, чтобы найти его. Зато со мной навсегда останутся нежные воспоминания, которые связывают меня с ним.
Все трое выпили за здоровье и за дружбу, зародившуюся между ними. Роз поднесла бокал к губам и вдохнула аромат вина, напоминавший о мучительном прошлом.
Евгений вернулся на кухню, а брат и сестра стали с любопытством осматривать дом, попадавшиеся на глаза безделушки и обстановку. Диван с наброшенным на спинку килимом, таксидермированную голову северного оленя над печкой, стол из сосны с крашеными ножками. Внимание Микаэля привлекла старинная деревянная статуэтка на серванте.
– Что это?
Евгений обернулся с противнем в руках.
– Что-то вроде реликвии местной народности, которая жила на полуострове еще до того, как пришли русские. Это примитивное божество, Мать-Земля.
– Ну-ка, покажи, – попросила Роз, заинтересовавшись.
Она подошла к серванту, чтобы лучше рассмотреть статуэтку, но рядом, на стеклянном блюдце, другой предмет привлек ее внимание – обручальное кольцо, странным и необъяснимым образом напоминавшее кольцо, которое Сатен всегда носила на пальце… прежде чем вернуть мужу в запечатанном конверте.
Роз охватило желание взять его и посмотреть, нет ли внутри гравировки, которую она хорошо помнила, но ее прервал голос Евгения.
– Готово! – объявил он из кухни.
«Какие глупости, – подумала она, обернувшись, – все обручальные кольца похожи между собой».
Они ели на терраске за складным столиком, порядком попорченным дождями и ветром.
Евгений приготовил крабовые клешни, слегка обваренные, с топленым маслом, и запеченного лосося, от которого шел свежий аромат северных морей.
– Прекрасно. Как ты это делаешь? – спросил Микаэль, которому нравилось готовить.
– О, я научился у своей матери.
– Кто были твои родители? – спросила Роз, положив нож и вилку на тарелку.
– Обычные люди. Отец работал почтальоном, а мама на фабрике, типичная советская семья.
– Но мы не увидели здесь ни одной фотографии, – заметил Микаэль, который любил семейные реликвии.
Евгений наклонил голову:
– Я же говорил… все сгорело, мы не успели ничего взять.
Брат и сестра потупились, уставившись на пустые скорлупы и кости на тарелках.
– А ваши? – спросил в свою очередь Евгений, чтобы восстановить непринужденную беседу и рассеять смущение.
– Если ты спрашиваешь о моих родителях, то уточни о каких, – ответил Микаэль с улыбкой. – Видишь ли, я был усыновлен.
– Ах, вот почему разные фамилии…
– Вот именно, – кивнула Роз.
– Так ты и Габриэль были близнецами?..
– Идентичные.
– Моя мать говорила, что даже отец не мог их различить, – уточнила Роз. – У нее были тяжелые роды. Можешь себе представить, в то время никаких средств-то не было в таком городке, как Патры. Кажется, первый ребенок чуть не задушил второго пуповиной. В последнее время я заинтересовалась и выяснила, что это частое явление среди монозиготных близнецов.
– Вы верите в то, что рассказывают о близнецах? Что они испытывают те же ощущения, даже если живут отдельно друг от друга? – спросил Евгений, переводя взгляд с Роз на Микаэля.
– Если подумать, мы говорим о двух генетически идентичных организмах, – ответила первой Роз, – следовательно, между ними должно быть сильное притяжение, связь.
Микаэль был очарован великолепным зрелищем бухты, которая стала окрашиваться в золотистый цвет.
– Да, я верю тому, о чем ты говоришь, – тихо сказал он, глядя, как солнечные лучи, словно зубчики расчески, прорывались сквозь плывшие по небу облака.
– Сегодня вечером будет прекрасный закат. – Евгений проследил за его взглядом и добавил: – Чудесный и долгий.
– Я знаю, как хочу провести последний вечер здесь. – Роз вскочила и оперлась на деревянную балюстраду. – Ты знаешь, где затонул корабль?
Евгений удивленно поднял брови.
– «Линка»? Вон там, – он протянул руку, – рядом с теми скалами.
– Отвезешь нас на берег? Как можно ближе к месту трагедии? Мне бы хотелось побывать там и почтить память моего брата, – заявила она с чувством. – Что ты на это скажешь, Микаэль?
Она повернулась и увидела, как двое мужчин смотрят на нее влажными глазами.
И Роз удивилась, потому что ей показалось, что они очень похожи друг на друга. Но она тут же решила, что это волшебное «Арени» сыграло с ней злую шутку.
Когда они вышли из дома, склонявшееся к горизонту солнце играло на березовых листочках. И газон, и розовые кусты, и щебенчатая дорога рябили от игры светлых и темных пятен.
– Возьмите вот это, чуть позже будет прохладно, – сказал Евгений и протянул им пару свитеров.
Улицы были пусты в этот воскресный вечер, и они приехали к морю в считаные минуты. Проехали порт и рыбный рынок, мимо рыболовецких судов у причалов и рыбацких сетей, аккуратно сложенных на молу, проехали мимо Управления МВД с красивым голубым фасадом и свернули на дорогу, идущую на подъем, вдоль северной гряды бухты и зеленого луга, похожего на поле для гольфа.
– Это место очень нравится туристам. Говорят, что оно похоже на шотландские плоскогорья, – сказал Евгений.
– Да, действительно.
– Ты давно подрабатываешь гидом? – спросила его Роз.
– С восемьдесят пятого. Как закрыли лагерь, где я работал… Я переехал сюда и стал искать работу. Зимой занимаюсь рыбой, а летом, когда случается, туристами.
Он повернул направо и поехал по крутой узкой дороге, которая спускалась к берегу. Внизу море искрилось, как гигантская рептилия с золотой чешуей.
– Ты уверен, что туда можно проехать? – спросил Микаэль, обеспокоившись.
Фургон подбрасывало на неровной дороге, и за ним, как шлейф невесты, тянулось длинное пыльное облако.
– Кажется, это была не самая лучшая мысль, – сказала Роз, вцепившись в дверцу.
Евгений улыбнулся.
– Не бойтесь, мы уже приехали. – Он остановил фургон рядом с крупным кустом. – Придется пройтись минут пять пешком, – сказал он, поставив машину на ручной тормоз.
Они пошли по узкой тропинке друг за другом. Легкий бриз нес дыхание океана. Оно было наполнено густым запахом водорослей и солоноватым вкусом.
– У этого моря запах не такой, как у Средиземного, – сказал Микаэль, почесав нос.
Евгений рассмеялся:
– То море по сравнению с этим озерцо.
Он поправил рюкзак за плечами, внутри были канистра с водой, немного грузинских орехов и плед, на тот случай, если бы они захотели сесть.
На последних метрах они спустились по нескольким ступенькам, вырубленным в скале, и вышли наконец на ровную ярко-зеленую площадку, словно забрызганную множеством малиновых цветов.
– Какие красивые! – восторженно произнесла Роз, наклоняясь, чтобы рассмотреть их поближе. Они казались цветными светодиодами, разбросанными по всему лугу.
– Это флоксы, огоньки. – Евгений встал на колени рядом с ней. – Когда дует сильный ветер, они качаются, как волны, и переливаются разными цветами, – сказал он и сделал волнообразное движение рукой.
Они пошли к морю. Через некоторое время перед их взором открылась прибрежная коса. Сначала они увидели три огромных утеса, выступающих из моря. Прямые, они, как циклопы, охраняли вход в бухту. Стаи чаек летали вокруг, истерично крича, а над ними высоко в небе парил орел, высматривая свою жертву.
– Это и есть те самые скалы, о которых говорил старик? – Микаэль смотрел на них с восхищением.
– Да.
– А «Линка» затонула там? – показала Роз дрожащей рукой.
Евгений вздохнул. Казалось, что на минуту он потерял свою обычную сдержанность. Он сделал шаг вперед и стал вглядываться в океан, бурлящий вдалеке.
– Видите, – сказал он, подозвав к себе брата и сестру, – вон то пятно белой пены?
Те подошли к нему, представляя себе охваченный огнем корабль.
Роз прищурилась.
– Да, – сказала она неуверенно, – около того выступающего из воды утеса?
– Пожар начался…
Болезненный, режущий слух крик чайки рассек воздух, перебив рассказ Евгения.
И Роз в испуге прижалась к стоящему рядом мужчине, думая, что это ее брат.
– Что такое любовь?
Габриэль улыбался.
– Ну пожалуйста, скажи, что такое любовь? – просила его Новарт.
– Ну, например, мама тебя любит, и папа тоже.
– А ты меня любишь?
– Конечно.
– Как я могу это узнать?
Габриэль поцеловал ее в черные кудряшки.
– Любовь измеряется действиями, понимаешь?
Новарт отрицательно покачала головой.
– Нельзя полюбить, если ты не готов жертвовать собой.
Малышка расширила глаза, стараясь понять смысл сказанного.
– Папа работает каждый день. Встает, даже когда холодно, и идет на фабрику. Почему он это делает? – спросил ее Габриэль.
– Чтобы приносить нам еду.
– Правильно, и это доказательство его любви.
– А, конечно, потому что он хочет нам добра.
– Молодец!
– И ты отдаешь мне свой хлеб, даже когда сам хочешь есть.
– Потому что я тоже люблю тебя, сестричка.
Новарт сморщила носик, стараясь удержать в голове только что преподанный урок, и думала о том, что сказал брат.
– И любовь никогда не кончается?
– Вот именно, никогда не кончается.
– И когда мама улетит на небо, она все еще будет любить меня?
– Всегда.
– А я? Смогу ее любить?
– Да.
– Как можно любить того, кого нет?
Габриэль посмотрел ей в глаза.
– Ты несешь его вот здесь, в секретном уголке… Он только твой.
И брат слегка дотронулся кулаком до ее сердечка.
Два легких удара… как взмах крыльев бабочки.
– Я здесь уже был, – пробормотал Микаэль.
Роз и Евгений посмотрели на него удивленно.
– Да, был, я помню. Не знаю когда, потому что я здесь в первый раз… Но этот берег, эти скалы и эти цветы… – Он говорил, словно был в другом измерении. – Даже запахи, которые доносил ветер, пока мы спускались… – Микаэль прервался, боясь высвободить ту часть своей души, которая его всегда тревожила и пугала, и вновь очутиться в подвешенном состоянии между реальностью и вымыслом. Он сел на траву, выбивавшуюся меж красноватых камешков вплоть до самой кромки воды.
– Когда я узнал, что у меня есть близнец, – продолжал он, не сводя глаз с моря, с белого пятна, как ему казалось, – то смог объяснить себе видения, мучившие меня в юности. Я читал исследования о необычной, почти трансцендентной связи, существующей между близнецами, но… – он посмотрел на Роз и Евгения, – мой опыт отличался от всего прочитанного. У меня было такое чувство, что я жил жизнью и ощущениями другого мальчика, идентичного мне. Я знал то, что он думал, и, более того, чувствовал то же, что чувствовал он… вплоть до уверенности, что если умрет он, то умру и я… Словно жертва жестокого колдовства.
Евгений резко повернулся к ним спиной и пошел к скалам, уходившим в глубь берега.
«Должно быть, ему опять нужно?..» – подумала Роз. Она слышала, как он кашлял, пока шел. Но это не был его обычный скоблящий кашель, скорее он откашливался в попытке избавиться от комка в горле.
Небо над бухтой походило на картину эпохи Возрождения. На светлом фоне тут и там были разбросаны мазки небесной голубизны, золотистой охры, зелено-голубого ультрамарина… в необыкновенной хроматической смеси.
– Я бы хотела подарить цветы Габриэлю, – сказала Роз как будто о подарке ко дню рождения, словно он был еще жив. – Давайте соберем букет и бросим в море. Ты идешь?
Микаэль встал, отряхнул брюки, и она взяла его под руку, своего единственного брата.
Они бродили по лугу, не зная, какие цветы – самые красивые, самые яркие – выбрать.
– Вот эти. – Роз наклонилась, чтобы сорвать их, но Евгений остановил ее.
– Прошу вас, не срывайте их.
Она послушалась, не спросив почему.
Потом все вместе они подошли к берегу, оставалось еще несколько минут дневного света.
– Знаете, как они называются? – спросил Евгений, показывая на три утеса, которые чернели на глазах.
Микаэль и Роз покачали головой.
– Три брата. – Евгений с ударением произнес эти слова, словно хотел открыть какой-то секрет, но Роз начала жаловаться на холод, и он замолчал.
Она взяла свитер, накинутый на плечи, и быстро надела его.
– Что ж, поедем обратно? – предложил Евгений.
– Еще две минуты, – попросил его Микаэль и пошел к морю, пока вода не стала лизать ему ноги. Он наклонился и поднял камешек, повертел его в руках, очищая от травинок, и бросил в море как только смог далеко. Голыш отскочил от водной глади один, два, три раза и потом, скользнув в последний раз, утонул.
Роз наблюдала за братом, ощущая что-то вроде детской зависти, и вдруг присоединилась к нему, подняв с земли камешек и бросив его в воду с разбегу.
Они оба думали о Габриэле и, может быть, этим жестом хотели разбудить его душу в ледяной пучине океана.
– Мы пришли к тебе, – прошептали они в унисон.
Они не плакали, только их сердца бились сильнее, прощаясь с Габриэлем.
Евгений стоял, понурив голову, его бил озноб.
И пока на океан спускалась тьма, одна волна вдали настойчиво поблескивала в последних лучах солнца.
32
Петропавловск-Камчатский, 21 декабря 1992 года
Дорогой Томмазо!
Сегодня умерла Аннушка, которую я очень любил, ее нашли бездыханной в кресле-каталке.
Прости, что я начинаю свое письмо с грустного события, в сущности, ты ведь даже не знаешь, кто я, и, наверное, мне следовало бы сначала представиться. Все меня знают как Евгения Козлова, и я, как ты уже понял из обратного адреса на конверте, живу в городе Петропавловске, в далекой Сибири. Не знаю, слышал ли ты уже мое имя, упоминал ли его твой отец в рассказах о поисках Габриэля, своего близнеца. Я тот гид, который прошлым летом сопровождал его и твою тетю Роз по разным кабинетам, больницам и местам, где они надеялись получить информацию о судьбе своего брата. Я привязался к ним больше, чем позволительно, и уж наверняка больше, чем обычно. Я нарушил правила, которые сам себе установил при общении с туристами, наводнившими наш полуостров в последнее время, с тех пор как получить визу стало проще. Как только мне стало известно, что ты знаешь русский язык, я придумал глупый повод, чтобы получить твой адрес, хотя не был уверен, что воспользуюсь им даже тогда, когда твой отец дал мне его.
Ты наверняка спрашиваешь себя сейчас, с какой стати незнакомый человек, живущий на краю света, шлет тебе письмо. Но прошу тебя, дорогой Томмазо, простить меня и набраться терпения. Скоро ты все поймешь, но сначала я обязательно должен поведать тебе одну историю.
Я живу в Петропавловске с 1953 года.
Ты, конечно же, знаешь историю Советского Союза, так что я буду краток в описании политической ситуации в то время. Сталин умер за несколько месяцев до того, и многие люди понадеялись, что тиски террора ослабнут, что вскоре более демократический режим будет установлен в нашей стране. Но они ошиблись, ничего не изменилось, ничего не произошло такого, что могло бы изменить к лучшему условия жизни миллионов людей. К счастью, этот город всегда был раем по сравнению с другими местами в Сибири, где были лагеря. Ты, конечно же, слышал о печально известном ГУЛАГе. Петропавловск благодаря своему стратегическому положению избежал этого позора. Вблизи него была создана база подводных лодок. Пишу тебе об этом, чтобы разъяснить, как обстояло дело в тот год, когда я попал сюда.
И чтобы сказать, что это была судьба.
Судьба вообще была решающим элементом в событиях, о которых я хочу тебе рассказать. Она перевернула вверх дном все мое существование, и не только мое. Когда я думаю о своей жизни, то она представляется мне состоящей из двух частей – «до» и «после». Так бывает, когда исключительное событие вмешивается в размеренную жизнь и задает новые координаты.
Жизнь «после» началась именно в Петропавловске однажды ночью в начале лета. Я проснулся от страшного сна на больничной койке, крича и содрогаясь от рыданий. Хорошо помню ощущение, будто я горю, словно ненасытные языки пламени лижут мое лицо. Голова моя была забинтована, лицо опухло, и видел я только на один правый глаз. Я бился и метался, срывая трубки капельниц, и разбудил других пациентов в отделении. Два медбрата бросились в палату, чтобы помочь мне. «Где я, кто вы?» – мычал я, находясь в каком-то тумане, вздрагивая от острой боли в челюсти. Напрасно медбратья старались успокоить меня, самый сильный прижал меня к кровати, пока второй привязывал меня за запястья и щиколотки. «Евгений, успокойся, иначе я сделаю тебе больно», – предупреждал он. Он звал меня Евгений, но это имя мне ничего не говорило, оно мне не принадлежало. «Где я, кто вы такие?» – повторял я, словно литанию. Неожиданно появился врач в белом халате с медкартой в руке, которую он быстро просматривал. «Товарищ Евгений, добро пожаловать», – приветствовал он меня, глядя в глаза, будто я был воскресшим Лазарем. – Ты находишься в больнице уже больше двух недель. Все это время был без сознания, в коме, но, к счастью, выкарабкался, потому что мы уже опасались худшего». От этой новости у меня перехватило дыхание. Я пытался вспомнить, что со мной случилось, но память моя была как чистый лист бумаги, в ней не было ничего, что могло напомнить мне о прошлом. Я чуть было не закричал в паническом страхе перед неизвестностью, когда почувствовал укол в руку. Я расслабился, и глаза сами закрылись. Очнулся на следующий день и увидел прямо перед собой офицера в форме. Козырек его фуражки, невероятно длинный из-за оптического обмана, почти касался моего лица. «Добрый день, товарищ, – сказал он, – а ты счастливчик».
Я смотрел на него через полуприкрытые веки, стараясь сфокусировать внимание на чертах его лица, которые никак не мог различить, потому что он сидел против света.
– Что вам нужно? – промычал я, не имея возможности двигаться, так как был все еще привязан к кровати.
– Это товарищ Бергович, – продолжил он, представляя мне другого мужчину, который молча сидел рядом и которого я не заметил. Он был очень худой, на голове морская фуражка.
– Немедленно развяжите меня! – закричал я, чувствуя дикую боль в горле и в челюсти.
– После, а сейчас ты должен меня внимательно выслушать, – жестко сказал офицер. – Хорошая новость, разумеется, то, что ты жив. Ты единственный, кто остался в живых после пожара на «Линке». Она перевозила заключенных на северные рудники. Никто из экипажа и никто из заключенных не спасся, только ты, Евгений. Товарищ Игорь – твой спаситель, – сказал он и дружески хлопнул моряка по плечу. – Правда, товарищ? А теперь, – добавил он с притворной улыбкой, – плохая новость. Ты вышел не совсем целым из этой истории. У тебя сотрясение мозга, которое спровоцировало временную амнезию, и у тебя сильно обгорело лицо. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти левый глаз, но им это не удалось.
Он подал знак, в палату вошел врач и стал объяснять:
– На левой стороне лица имелись ожоги второй и третьей степени, поэтому пациенту была сделана немедленная операция по удалению обуглившихся тканей. Пока мы не можем сказать, как долго будет сохраняться уродство, но в любом случае первоначального красивого лица уже не будет.
Он говорил без остановки равнодушным тоном, словно читал метеорологическую сводку, и старался поскорее закончить, не обращая внимания на мое затрудненное дыхание и ужас, который сковал меня, пока я его слушал. Только Игорь проявил немного сострадания. Он сидел с опущенной головой и даже не решался смотреть в мой единственный глаз. Чтобы тебе стало понятно мое отчаяние, скажу, что я чувствовал себя как новорожденный, но обладающий сознанием и пониманием, который вступает в этот мир, а ему вместе с приветствием объявляют, что он урод и слепой и таким останется до конца своих дней.
– Спасибо, спасибо, – сказал офицер, отпустив врача. – Теперь расскажи, товарищ Игорь, как ты его нашел.
– Я был на баркасе с леской в руке, когда услышал взрывы… – начал Игорь дрожащим голосом.
Тем временем, с трудом повернув голову на подушке, я заметил второго, который стоял за спиной Игоря и все записывал, каждое сказанное слово.
– Когда корабль взорвался, дым накрыл все вокруг, потому что дул восточный ветер и он погнал дымовое облако в бухту. Вскоре «Линка» затонула, и рыболовецкие суда, находившиеся поблизости, направились к тому месту в надежде подобрать спасшихся.
– Это все мы уже знаем, товарищ, ты расскажи, как нашел Евгения.
Моряк кивнул.
– Я уже собрался вернуться в бухту, я был очень напуган, жутко было думать об этой трагедии, когда рядом с Тремя Бра…
– С тремя утесами?
– Да. Я увидел тело, едва видневшееся на поверхности воды. Оно качалось на волнах у скал.
В этом месте офицер бросил вопросительный взгляд на своего напарника, и тот кивнул.
– Я с трудом вытащил его и попытался привести в чувство. Он окоченел, кожа была уже синюшного цвета из-за ледяной воды. Я повернул его на бок и несколько раз ударил в спину, пока его не вырвало, он закашлялся и начал дышать.
– Что было потом?
– Я попытался заговорить с ним, хотел понять, в каком он состоянии, рана на лице была ужасной. – Лицо Игоря исказила гримаса, но он не стал вдаваться в подробности. Это был чувствительный и добрый человек. – Видно было, что он молод, шестнадцать, максимум восемнадцать лет. «Ты меня слышишь?» – спрашивал я его, но он молчал и лежал неподвижно, только слабое дыхание указывало на то, что он еще жив.
Пока Игорь говорил, я слышал, как дрожал его голос, как пережитые эмоции еще волновали его.
– Как был одет этот юноша? – спросил офицер.
– На нем были только длинные кальсоны и майка, ничего другого, если не считать кольца на пальце. Обручальное кольцо червонного золота и еще металлический медальон на шее с именем и номером учета личного состава, какие носят работники лагерей.
– Вот эти? – Офицер вытащил из конверта два предмета и протянул Игорю, который внимательно стал их рассматривать.
– Да, – подтвердил он, – вот это кольцо с гравировкой «С. С. 1935» и медальон с именем Евгений Козлов, № 9211145, я запомнил три единицы посередине.
– Товарищ Козлов, ты помнишь что-нибудь из того, что наш товарищ Игорь только что рассказал? – спросил меня офицер.
Я отрицательно покачал головой. Я совсем ничего не помнил.
– Лучше будет, если ты поскорее все вспомнишь, – сквозь зубы сказал офицер. – Это обручальное кольцо, которое носят приверженцы христианской веры… Очень странно, правда, Евгений? Потому что из документов следует, что твоя семья из мусульман. Так что или ты не Евгений, или ты украл кольцо, в обоих случаях тебе придется давать убедительные объяснения.
Он поднялся с красным от злости лицом, тут же встали сержант с Игорем и вышли следом за ним из палаты.
В последующие дни меня постоянно усмиряли, кололи успокоительное и анксиолитики, но потом развязали, ведь я все равно был беспомощный. Я все время спал или пребывал в состоянии полудремы. Никакие плохие новости уже не трогали меня, но и хорошие тоже не радовали. Я был в состоянии полной апатии. Мне сняли бинты, и я стал готовиться к тому, чтобы увидеть в зеркале свое новое лицо.
Я долго рассматривал шрам от ожога, который обезобразил мое лицо, потрогал его пальцами, ощутил шершавую кожу и вялость поврежденных тканей. «Евгений Козлов, ты просто жаба», – сказал я наконец с саркастической улыбкой.
Офицер часто приходил допрашивать меня, сомневаясь и подозревая, все более уверенный, что я намеренно что-то скрываю. Однажды мне сделали серию рентгеновских снимков. Когда делали рентгенографию черепа и шеи, меня впервые внезапно озарило. Я лежал голый на холодном столе, и в тот момент, когда загудел рентгеновский аппарат, в голове как молния пронеслось видение: два тела, сцепившиеся в жестокой схватке без правил. Тотчас же возникло чувство отвращения, ненависти, сердце забилось так быстро, что врач попросил меня успокоиться и не шевелиться, иначе пришлось бы делать снимки заново.
Сцена борьбы стала ниточкой, за которую я ухватился, чтобы выбраться из темного колодца амнезии. В короткие и редкие моменты прояснения я пытался понять, кто я на самом деле. Пытался отличить реальные события от снов или, точнее, от ночных кошмаров. Я заставлял себя часами перебирать в памяти фрагменты образов, иногда возникавших, как вспышка, и старался собрать общую картину событий из тех немногих деталей, которые были в моем распоряжении: имя, кольцо и идентификационный медальон. Часто я забивался в какой-нибудь угол, как бродячий пес, и плакал под смущенными взглядами других больных.
Однажды утром все тот же офицер принес мне папку, в которой лежала краткая биография Евгения и его фотокарточка для документов.
– Прочти, как знать, вдруг это поможет тебе вспомнить, кто ты.
Так я узнал следующее.
Евгений Козлов родился в Туле, в России, в 1933 году. Его мать умерла, когда ему было девять лет. Отец в скором времени снова женился и привел в дом мачеху, которую мальчик возненавидел. Их совместное проживание было драматичным, особенно после рождения единокровного брата, потому что женщина плохо обращалась с пасынком и часто его унижала. Однажды, когда отца не было дома, Евгений напал и жестоко избил мачеху, а затем сдался в милицию. Во время допроса шестнадцатилетний Евгений утверждал, что драка возникла, потому что мачеха язвительно критиковала партию, а он, будучи комсомольцем и активистом, счел своим долгом преподать урок этой наглой клеветнице. Разумеется, никто ему не поверил, но вместо того, чтобы отправить в тюрьму, ему предложили работу в «Дальстрое», строительной организации на Дальнем Востоке, в ведении которой находился флот для перевозки заключенных. Таким образом, он стал смотрителем в этих плавающих тюрьмах. Евгений был крепким малым, отличался раздражительностью и склонностью к насилию, за что ему дали прозвище Лев.
Последняя, но немаловажная деталь: Лев в 1953 году собирался жениться на девушке по имени Сильвия, и день свадьбы был назначен на второе воскресенье июля.
Я вертел в руках черно-белую фотокарточку и спрашивал себя, что общего могло быть у меня с этим человеком, с которым по воле судьбы мне приходилось себя отождествлять. Я истязал себя, прилагая усилия, чтобы вспомнить хотя бы что-то из жизни, которая должна была бы мне принадлежать. Но память упорно молчала, словно мозг мой взбунтовался и отказывал мне в доступе к любому воспоминанию.
Больше четырех месяцев я провел в больнице Петропавловска.
Я вышел оттуда в день первого осеннего снегопада. У выхода из больницы ждал автомобиль, который должен был отвезти меня в мой новый дом – казарму. Меня втолкнули в машину, как раз когда я только сделал первый вдох свежего воздуха после стольких месяцев, проведенных взаперти, и залюбовался снежинками, тихо кружившимися в воздухе.
Так меня перевели на военную базу на южном берегу бухты, поместив в камеру в режиме полусвободы. Меня не отпустили бы, пока велось следствие. Было сделано много фотографий моего лица во всевозможных ракурсах, затем записан мой голос на пленку, пока я читал любовное письмо, адресованное Сильвии, которое меня заставили ей написать. Впрочем, все это мне льстило, я вдруг почувствовал себя важным лицом, которому так или иначе вдруг уделялось столько внимания.
Фотокарточки и катушки с записью были опломбированы и отправлены в Москву для анализа черт лица, тембра голоса, почерка, даже выбора слов при написании письма. Фотографии показали Сильвии, и потом уже я узнал, что девушка пришла в смятение, расплакалась при виде изуродованного до неузнаваемости лица. Ей дали прочитать письмо, указав на почерк и подчеркнув слабый синтаксис.
– Ну, так что? Это Евгений Козлов? – спросили ее.
– Прошу вас, не мучьте меня, откуда мне знать? – ответила девушка. – Он никогда не писал мне любовных писем.
Но, услышав мой голос, она приободрилась, хотя и находила его слегка изменившимся, возможно, из-за повреждения голосовых связок. Она утверждала, что нежность голоса, которую она помнила, осталась прежней.
В конце Сильвия уже не сомневалась: записанный голос принадлежал ее любимому Евгению.
Петр Богданов, которому поручили вести следствие, решил провести со мной один необычный эксперимент. Речь шла о попытке пробудить мою память – провести испытание, которое горячо поддержали некоторые психиатры и неврологи. Суть его заключалась в том, что мне надевали на голову шапочку с присоединенными электродами и закрывали в комнате с большим экраном, на который проецировали монтаж противоположных по содержанию сцен. Это была быстрая смена кадров, полных любви и нежности, и других, изображавших ненависть и насилие. Я по полдня сидел в полутьме комнаты и смотрел на людей, которых зверски убивали, а потом на матерей, которые нежно прижимали к себе и целовали своих младенцев. Я плакал и смеялся одновременно, а команда медиков снимала показания электрической активности моего мозга, стимулированного этими сценами.
– Кто ты? Ты что-нибудь вспомнил? – спрашивал меня Богданов, когда загорался свет, но я смотрел на него пустыми глазами.
Но однажды среди прочих возникла ужасная сцена изнасилования: группа мужчин издевалась над нежным созданием. Ее привязали к кровати и насиловали по очереди. К тому же кинокамера несколько раз снимала крупным планом лицо девушки, ангельское лицо, пока она, беззащитная, металась под тяжестью тел этих подонков.
– Остановитесь! Остановитесь! – закричал я, вскочив со стула, и бросился на экран. Я разодрал бы его в клочья, если бы не слишком короткие провода электродов, к которым был привязан.
– Отлично, кажется, мы что-то нащупали, – обрадовался Богданов, войдя в комнату с копией энцефалограммы в руке. Он ткнул пальцем в высоко подскочившую линию на графике в момент моей реакции.
Я же продолжал молчать с сильно бьющимся сердцем, словно это был барабан, от которого пульсировал даже глаз под черной повязкой…
Дорогой Томмазо, даже теперь затрудняюсь описать тебе то, что я испытал, когда увидел на экране сцену изнасилования. Мне казалось, что меня порубили на тысячи кусков. Ярость, боль и подавленность обрушились на меня, как поток лавы.
– Теперь ты должен заговорить, – наседал на меня Богданов, размахивая энцефалограммой, – наука не лжет, у тебя было просветление памяти.
И это была чистая правда.
«Первая» часть моей жизни четко и властно вступила в свои права, ко мне вернулась память, когда я увидел лицо бедной изнасилованной девушки и услышал ее рыдания. И застенки, в которых томилась моя память, рухнули под этим натиском.
В одно мгновение я оказался заключенным на борту горящего корабля. Повсюду слышались взрывы, отчаянные крики о помощи. Во всеобщей панике я, однако, не старался спастись, а дрался с другим мужчиной на палубе. Мною двигали ненависть и неудержимая жажда мести. Я чувствовал, что не будет мне покоя до тех пор, пока я не напьюсь его крови. Я вонзил зубы ему в горло, как хищник, чтобы лишить его жизни, не оставив в нем ни капли крови. Когда я оторвался от него, он смотрел на меня, совершенно ошарашенный: видимо, не ожидал от меня такой силы. Он еще шевелил губами, но не издавал ни звука и даже, клянусь тебе, попытался презрительно улыбнуться. В это мгновение я совсем потерял голову: я набросился на него, снова впившись в него зубами с безумной свирепостью.
– Сдохни, сволочь! – зарычал я, оторвав кусок мяса и выплюнув его в огонь, который уже подобрался к нам вплотную.
Потом я схватил его за волосы и несколько раз ударил головой о палубу, пока не увидел, как его глаза подернулись смертной пеленой. Тогда я упал рядом, обессиленный, скованный чувством вины и подкатившей тошноты. Горячность убийцы внезапно сменилась невыносимыми муками совести. Я хотел умереть рядом с человеком, которого убил. Дорогой Томмазо, я был еще мальчик, мне едва исполнилось шестнадцать, и я чувствовал себя как Каин, раздавленный тяжестью своего греха. «Изгнанником и скитальцем будешь на земле», – говорил я себе, прося прощения у Бога, и безутешно плакал. Но что-то вдруг сдвинулось во мне: какая-то Божественная сила спешила мне на помощь, или это был всего лишь инстинкт самосохранения, который понуждал меня действовать, и притом спешно.
«Вставай, теперь вставай!» – заставляло это нечто меня.
Я снял обручальное кольцо с мизинца мертвеца, кольцо моей матери, которое я подарил моей единственной возлюбленной, юной заключенной, такой же, как я, жестоко изнасилованной и убитой этим подонком вместе с другими четырьмя выродками. Я сорвал кольцо так резко, что услышал, как хрустнула сломанная фаланга. Потом надел его на свой палец и перегнулся через фальшборт палубы, готовый броситься в море. Но задержался и вернулся обратно. Моя жертва носила на шее железный медальон со своим именем, фамилией и личным номером. Я сорвал его, вытер кровь и надел на себя, завязав на шее. Но именно в этот момент ужасный взрыв всколыхнул корабль, пламя ударило в лицо, и мне показалось, что я горю, как свечной фитиль.
Мне удалось выпрыгнуть за борт за мгновение до того, как «Линка» развалилась пополам, и я полетел вниз, в облако черного дыма.
Теперь наконец-то я знал, кто я такой, но это знание всколыхнуло во мне одно из самых разрушительных чувств – ненависть. Ненависть подобно гигантской волне, которая накрывает и топит все вокруг, захлестнула меня, пропитала каждую жилку, каждый нерв моего тела.
Разрушать и разрушаться – вот единственная цель, в которую я верил…
– Ты не Евгений Козлов, – доставал меня Богданов, – мы получили результаты экспертизы. Есть несоответствия, особенно в зубных дугах. У тебя на два коренных зуба больше, чем у настоящего Евгения. – Он хватал меня за плечи и долго проницательно смотрел в глаза. – Ну же! Признавайся, говори, кто ты! Кто ты? – орал он и бил меня по лицу.
– Не знаю, клянусь, я не знаю! – отвечал я с самой убедительной миной, на какую только был способен.
Богданов грозил мне пальцем. Это был маленький худой человечек. Он часто вставал на носки, когда говорил со мной, надеясь выглядеть более внушительно.
– Ты человек без имени, ты – ничто и никто. Нет тебя, нет! – говорил он, поджимая губы с видимым презрением.
Меня снова посадили в камеру, лишив режима поднадзорной свободы, в котором я находился до сих пор, и выдавали лишь миску супа с куском хлеба в день. Иногда меня выпускали, но только для того, чтобы снова допросить, задавая один и тот же вопрос о моей настоящей личности.
Но свое настоящее имя я сказал бы только тому, кому захотел, и тогда, когда счел бы это нужным.
В долгие часы, проведенные в одиночной камере, я безуспешно старался подавить в себе ненависть, переполнявшую меня. Увы! Это было единственное чувство, которое придавало мне силы, благодаря которому еще билось мое сердце и кровь бежала по жилам, другими словами, оно поддерживало во мне жизнь. И так, день за днем, я лелеял мысль о мести против всех и вся.
Шли месяцы, но никому не удавалось вырвать у меня признание о моем прошлом. Я научился прекрасно изображать роль человека без памяти, в сущности, достаточно было продолжать вести себя так же, как раньше. Уставиться пустым взором в пространство, ходить медленно и неуверенно, говорить, мусоля слова во рту. Не знаю, поверил ли мне Богданов и его люди, но однажды во время одного из обычных допросов Богданов объявил: «Ты больше не можешь здесь оставаться. Это аморально, когда здоровый молодой человек живет, как паразит, за счет своей Родины. Нам нужны активные люди, способные работать на укрепление мощи нашего государства, делать его самым лучшим в мире».
Он встал и приблизился ко мне. Я сидел, и слюна тонкой струйкой вытекала из уголка рта – последняя из моих находок, когда мне хотелось играть роль бедного идиота.
– Сам выбирай, господин Никто, – сказал он, – или примешь наши условия, или ты конченый человек… Мы отвезем тебя туда, где тебя выловили, верно, ребята? – И он посмотрел на своих людей. – Мы бросим тебя в море. Сколько там сейчас градусов вода-то? Ноль градусов? Никто и не заметит твоего исчезновения. Нет человека, который скучал бы по тебе! А знаешь почему? Тебя нет, ты никто!
Я округлил глаза перед таким поворотом дел.
– Какие условия? – пробормотал я.
Все засмеялись, находя забавным мой прагматизм.
– А мальчик-то не дурак, – с сарказмом сказал Богданов, повернувшись к своим приспешникам.
Меня отвели в камеру, но уже не оставили просто под присмотром. Мои дни теперь были насыщенными. Прежде всего физическими упражнениями. Утро я проводил в спортзале в распоряжении опытного тренера. Бегал, поднимал тяжести и плавал в бассейне, иногда даже до семидесяти дистанций. Мое питание стало сбалансированным и разнообразным. Я ел в столовой, где подавали куриное мясо, говядину, фрукты, овощи и десерт. Положительные перемены не преминули дать результаты. У меня увеличилась мышечная масса, я окреп и набрался сил, цвет лица стал нормальным. Глядя на себя в зеркало, я поздравлял сам себя с этим превращением. Менее всего я хотел походить на того, кем был в прошлом. И у меня получалось.
Остаток дня был посвящен учебе и тренировке мыслительных способностей. Я ходил на курсы новобранцев, тщательно отобранных. Я должен был садиться на заднюю парту и никому не мешать, а если у меня возникали какие-то вопросы, то я мог обратиться к преподавателю только в конце урока. Но руководство курсов отметило мои необыкновенные способности к учебе, и в табеле за первое полугодие у меня был положительный отзыв. Мои отметки были на уровне других, весьма неплохой результат для такого престижного заведения, как военная академия. Я прилежно занимался, мне всегда нравилось учиться, познавать мир через книги. Я был первым на курсах английского и немецкого и даже взялся за изучение некоторых языков союзных республик, азербайджанского и грузинского. У меня были способности к истории, философии и литературе, но в то же время я с интересом слушал лекции по математике и естествознанию. Часами сидел над домашними заданиями, которые приносил с собой в камеру, и занимался, пока не приходил охранник и не выключал свет.
Я наверстывал упущенное время.
Мои успехи в учебе вызывали злобу и зависть у товарищей по классу, которые с презрением звали меня «найденышем». Часто они насмехались надо мной, и не только потому, что у меня не было семьи, а просто из-за моего обезображенного лица. Моя раздражительность росла, находя выход в жестоких драках, в стычках, возникавших неожиданно и на пустом месте. Хватало косого взгляда, брошенного замечания или улыбки с намеком.
– Эй, найденыш, смотри, куда ставишь ноги! – однажды бросил мне сын крупного начальника, Федор, которого я случайно задел в коридоре академии.
– Не столько найденыш, сколько кривой, – издевательски поправил Антон, его друг. На нем была форма с иголочки, и он с пренебрежением озирал мою фланелевую серую тужурку, которую я унес из больницы.
Кровь ударила мне в голову, я бросился на него, повалил наземь и бил со всей злостью, накопившейся во мне к тому моменту.
– Повтори еще раз, и это будут последние слова, которые произнесет твой рот! – кричал я. – Потому как, запомни, я – лев, а ты – антилопа!
Такой была моя жизнь три последующих года. Я никогда не ходил в увольнительную, впрочем, эта военная база была сама по себе целым миром, в котором хватало всего, что молодой человек мог пожелать. Постепенно ко мне вернулся вкус к жизни. В конце недели казарма оживлялась, водка текла рекой, но были и пиво, и вино, и постоянный приток проституток, на которых офицеры закрывали глаза.
Скоро я получил свой первый сексуальный опыт…
К концу обучения я был вторым в классе, и только из-за своего социального статуса, в противном случае был бы первым. Я подготовил диплом о пропагандистском значении кинематографа на примере лент великих режиссеров: Эйзенштейна, Пудовкина и Вертова. Это была тема, которую Богданов, большой любитель кино, особенно высоко оценил. Потом он признался мне, что некоторые детали, которые я упомянул в своей дипломной работе, были ему неизвестны. Например, что вместо настоящего броненосца «Потемкин» в одноименном фильме Сергея Эйзенштейна снимался броненосец «Двенадцать апостолов», которому придали необходимое сходство.
– Твой диплом написан блестяще, – сказал он, искренне пожав мне руку. Он считал меня своим творением и, что бы там ни говорили в его адрес, оставался объективным человеком, умеющим признавать чужие заслуги.
Несколько дней спустя меня пригласили на собрание, в котором участвовали многие офицеры высокого ранга.
– Товарищи, перед вами гадкий утенок, который превратился в лебедя, наш Евгений Козлов, – начал свою речь Богданов, представляя меня удостоенным множества наград военным под именем, которое, как он прекрасно знал, не было моим.
По такому случаю я тщательно вымылся, аккуратно причесался и надел форму защитного цвета, которую мне одолжили. Слишком узкая фуражка сжала мне виски, вызвав мучительную головную боль.
На последовавшем приеме меня представили адмиралу Тучевскому.
Мы много говорили о великом Советском Союзе, о его славном будущем, ну и о моей амнезии тоже.
– Это отсутствие воспоминаний освобождает тебя от ненужных связей, – вмешался в какой-то момент Богданов, который стоял в сторонке, слушая нас.
– Отправим его в Магадан, КГБ наверняка нуждается в таких головах, как его, – предложил адмирал, улыбнувшись мне.
Я ответил ему тем же, наклонив голову, и этот жест они наверняка интерпретировали как согласие, потому что несколько месяцев спустя меня перевели в казарму столицы Колымского края.
На этот раз не как заключенного, а как свободного человека, с именем и паспортом.
В Магадане я приобщился к тонкому и скрытному искусству шпионажа.
Шпионаж: незаконная деятельность, направленная на получение информации политического, военного и экономического характера – вот определение понятия в любом смысле.
В местном органе КГБ, располагавшемся в бетонном здании напротив огромной статуи Ленина, я провел взаперти целый год, изучая различные виды боевых искусств, тренируясь в стрельбе и даже изучая актерское мастерство и искусство переодевания. Немного по примеру ниндзя, японских разведчиков эпохи Средневековья.
В реальности, как я узнал немного погодя, из меня собирались делать не шпиона, но эксперта по выявлению разного рода шпионов, которые внедрялись в Советский Союз, выдавая себя за туристов, деловых людей или верных последователей коммунизма. В наших досье на них можно было найти необыкновенные истории, которые превосходили самую невероятную выдумку.
К концу моей подготовки я стал прекрасным стрелком. Я мог попасть в любую мишень, даже в движении, будь то заяц или медведь, и прекрасно владел рукопашным боем голыми руками или с холодным оружием, кинжалами, мечами и саблями.
Это был настоящий спектакль, когда я был в действии, тем более, дорогой Томмазо, что я был практически слеп на левый глаз. Я все время скрывал его под черной повязкой, которую носил без особого желания, но мне пришлось смириться, потому что это был единственный способ спрятать ужасный шрам от ожога, который обезобразил мое лицо.
По прошествии года я вернулся в Петропавловск.
Если не считать рыболовства и деятельности на территории военной базы подводных лодок, Петропавловск был довольно скучным местом. Но у меня было много дел, потому что шпионы из западных стран так и лезли по морю или по воздуху, поскольку дорог, соединяющих полуостров с материком, нет. Мне сразу же дали квартиру и работу, обе весьма скромные, поскольку ничто не должно было привлекать внимания или вызывать подозрение в отношении нового жителя города, тем более возникшего из ниоткуда, – Евгения Козлова, тайного агента под прикрытием.
Я начал работать в порту – идеальное место для наблюдения за чужестранцами, которые причаливали там на своих яхтах и кораблях. Я развозил по городу и по округе ящики с рыбой, снабжал государственные столовые, больницы, аэропорт, ту же военную базу. Куда бы я ни попадал, вынюхивал, как ищейка, и пропускал как бы через решето всех, кто по той или иной причине попадал под подозрение. Я часто летал в Магадан к начальству, получал следующее задание и инструкции к нему. Я появлялся в аэропорту в одежде продавца рыбы, а садился в самолет одетый в элегантный костюм с шелковым галстуком, словно богатый бизнесмен.
Безжалостность – первое правило, которое я выучил. «Все для Родины и советского народа» – это слова из клятвы, которую я дал в день получения диплома. Во имя этого принципа я совершал преступления. Перечислю лишь некоторые из них:
• 1956 год: французская пара, Жан-Леон и Беатрис, прибыли в Советский Союз под видом польских зоологов по имени Ян и Мария с целью исследования жизни моржей в северных морях. На самом деле они должны были сделать фотографии в закрытой военной зоне. Их обуглившиеся тела были найдены в перевернутой машине недалеко от крутого поворота прибрежной дороги.
• 1958 год: американец Крис Метсикос прибыл в Москву под видом кипрского бизнесмена по имени Кристос Метсовопулос с целью заключения договора с предприятием «Технодрев» по поставке сосны и сибирской лиственницы. Вместо этого он попытался выкрасть на предприятии важные документы касательно формулы топлива, получаемого на базе древесной стружки. Когда его настоящая личность была раскрыта, он был убит в одном из заведений Магадана.
• 1961 год: английская семья Макаббей, отец, мать и их дети, четырех и семи лет, утонули во время экскурсии в Авачинской бухте. Макаббей, правый экстремист, готовил терракт в Петропавловске и собирался использовать членов своей семьи как прикрытие.
Я совершал каждое преступление с невозмутимостью робота. Я воспринимал это просто как работу, которую надо было выполнять. Несчастье, которое я ощущал при этом, казалось, облегчало мою боль, как бальзам, нанесенный на раны, которые я носил в себе.
Я превратился в чудовище и убежден, что так бы им и остался, если бы не встретил Аннушку на своем пути…
Евгений остановился, засомневавшись, как продолжить письмо, – история дошла до момента, который он боялся раскрывать. Он поднял глаза и увидел на столе тряпичную куклу с длинной соломенной косой, прислоненную к стене. Рядом стояла фотография. Он взял ее в руки и стал внимательно рассматривать. На снимке на фоне пурпурного заката стояли он, Микаэль и слегка улыбающаяся Роз между ними. Снимок был сделан в тот день, когда он отвез брата и сестру в «Ясную Авачу». Они только что вышли из закусочной, и Микаэль попросил прохожего сфотографировать их, протянув свой «Кодак инстаматик».
Прижав фотографию к груди, Евгений посмотрел в окно, из которого за деревянной терраской виднелась бухта.
Все было покрыто снегом, словно белым покрывалом, приглушая шум города, зажатого в ледяных тисках.
Когда Евгений снова взялся за ручку, он знал, как продолжать.
Его рука быстро скользила по бумаге, не слишком заботясь о почерке. Он должен был спешить и закончить письмо прежде, чем передумает.
Аннушка, которую я упомянул в самом начале, вошла в мою жизнь в далеком 1962-м.
Утром я доставлял, как обычно, рыбу по адресам, которые были указаны в записной книжке. Это было в мае, я помню, и хотя было еще довольно холодно, дни стали длиннее и неясное еще обещание весны уже ощущалось в воздухе. Я чувствовал, как жизнь струится в березовых стволах, в луковицах сидящих в земле лилий, в весело журчащей речной воде.
Природа походила на цыпленка, который вот-вот вылупится из яйца.
Я ходил по коридорам приюта, куда только что доставил товар, когда заметил тень, человеческую фигуру в кресле-каталке. Приблизившись, я увидел, что это молодая женщина. Она подняла голову, словно очнулась от сна, к которому ее приговорили. Не спрашивай меня, почему я приблизился к ней, она притягивала меня, как магнит.
Она была очень худа, с тонкими ножками, выглядывавшими из-под юбки, опиравшимися на подставку. У нее были блестящие светлые волосы, заплетенные в длинную косу, а на бледном осунувшемся лице выделялись глаза, зеленые, как изумруд в старинных персидских тиарах. Когда она посмотрела на меня, я чуть не споткнулся, точно собака, которую хозяин потянул за поводок. Я обратился к ней, но сразу же понял, что она не могла говорить. Аннушка пребывала в своем немом окаменелом мире. Она только мычала, размахивала руками, чтобы объясняться, а ее тело и ноги оставались неподвижными, словно заключенные в мраморный панцирь.
Она улыбнулась мне, подозвала к себе, вероятно, полагая, что сможет наконец произнести слова, которые томились, как в клетке, в ее головке. Завороженный, я встал на колени перед этой принцессой на троне и посмотрел на нее вблизи, так близко, что мог сосчитать сверкающие лучики в ее ясных больших глазах. Она погладила мою повязку, единственный человек, который сделал это, и единственная, кому я позволил это сделать. Мы так и застыли. Даже не знаю, сколько времени это продолжалось, пока не случилось нечто прекрасное. Ее обезоруживающая невинность пронзила меня. Я был поражен ее душевной чистотой, которую уже не чаял встретить, думая, что она давно исчезла в мире. Я горько заплакал. Рядом с ней я вдруг понял, какое омерзительное уродство со временем закралось в меня, как коварная ядовитая змея, превратив меня в то отталкивающее существо, которым я стал. Она между тем продолжала улыбаться странной и в то же время ободряющей улыбкой, словно была рада тому, как наша встреча повлияла на меня.
– Прости меня, кто бы ты ни была, – пробормотал я, пока медсестра бежала к нам, невольно сообщив мне, несмотря на грубые манеры, имя принцессы.
– Аннушка, что ты делаешь? – выговаривала она ей.
Я отступил, как трус, не в состоянии разговаривать с медсестрой, которая бросала на меня суровые взгляды. Но, ускоряя шаг, я уже пообещал сам себе, что непременно вернусь, и как можно раньше. Я очень хотел снова увидеть ее, эту Пречистую Деву, которая явилась мне во мраке темного приюта и моего бесполезного существования.
С того дня я почти ежедневно заходил в коридор, который вел к ее комнате. Это было несложно, за долгие годы тренировок я научился быть невидимым. Я знал распорядок дня Аннушки и время, когда она оставалась одна, и спешил к ней, где бы я ни находился, часто делая крюк по дороге, чтобы провести с ней хоть немного времени. Я радовался, когда она радовалась, мне было этого достаточно, дорогой Томмазо. Я приходил всегда с каким-нибудь простеньким подарком: конфетой, пирожком, иногда с браслетом или другим каким-нибудь дешевым украшением. Аннушка округляла глаза, и грусть, которой они всегда были подернуты, уступала место счастью. Я сам был словно на седьмом небе, я загорался радостным огнем, который излучал вокруг свет и тепло.
Эти встречи, признаюсь, благотворно влияли в большей мере на меня, чем на нее. Наконец-то появился человек, который занял место в моем пустом очерствевшем сердце. Забавно, но я не знал, кем именно была для меня Аннушка. Иногда я думал о ней как о сестре, в другие моменты как о невесте, и чем больше я размышлял, тем больше понимал, как глупо пытаться любой ценой вешать ярлык на чувства. Я любил Аннушку, и какая разница, какой любовью.
Однажды я забрался в приемный покой приюта, чтобы посмотреть карточку Аннушки. Так я многое узнал о ней.
Аннушка родилась в 1943 году. Когда ей едва исполнилось четыре года, родители узнали, что она больна тяжелой формой мышечной дистрофии. Позже отец, офицер военно-морского флота, бросил семью и уехал, позаботившись, однако, о ее содержании. После смерти матери Аннушка, которой было двенадцать, осталась одна. Она была не в состоянии обслуживать себя сама. Так она оказалась в городском приюте.
Спустя какое-то время я придумал план, как перевезти ее в «Ясную Авачу», где уже находился старый Игорь Бергович, мой спаситель. Они были единственными людьми, которые что-то значили для меня: Игорь спас мое тело, Аннушка – мою душу.
И я желал проводить с ними немного свободного времени, которое у меня было…
Я уверен, ты согласишься со мной, что настоящая любовь между двумя людьми не зависит ни от социальных условий, ни от условностей: что можно, а что нельзя. Она зарождается без какой-либо цели, во всяком случае объяснимой. Законы любви написаны на языке, непонятном разуму. Я подчеркиваю это, чтобы сказать тебе: несмотря на то что наши миры были так далеки друг от друга, в краткие мгновения, проведенные с Аннушкой, я чувствовал себя окруженным заботой и лаской, словно наконец-то вернулся домой.
Ее комнатка стала моей исповедальней. Я рассказывал ей вещи, которые не рассказал бы даже под пыткой. Я снимал невыносимую тяжесть с моей совести перед Аннушкой, на коленях, как сделал бы перед иконой Пресвятой Девы. Она вытирала мои слезы своими ручками и теребила потом свою тряпичную куклу, с которой не расставалась. Улыбаясь мне, она говорила по-своему, чтобы я не переживал, что теперь она позаботится о том, чтобы облегчить мои страдания.
Со временем я стал менее безжалостным в работе. Любовь растопила лед, под которым годами пряталась моя настоящая натура. Ненависть исчезала, уступая место состраданию и прощению. Я больше не хотел ни убивать, ни делать ничего плохого. Я ощущал свою истинную чувственность, которую добровольно подавил под тяжелыми ударами судьбы.
– Аннушка, ты меня вылечила, – сказал я ей однажды, – я снова становлюсь таким, каким был когда-то.
Она объяла меня своим взглядом, словно поняла, что наступил момент истины.
Я приблизился к ней и, положив голову ей на колени, рассказал всю историю моей жизни.
Дорогой Томмазо, я родился в городе Патры, в Греции, в армянской семье беженцев от геноцида, развязанного турками начиная с 1915 года. Со мной на свет появился второй ребенок, мой близнец. Я не догадывался об этом, пока мой отец не раскрыл мне тайну за день до самоубийства.
Детство я провел в этом городе, который до сих пор очень люблю. Мы жили в бараке, в лагере армянских беженцев, где, несмотря на нищету, днем всегда чувствовался запах тимьяна, я еще помню его, а ночью – аромат жасмина. Зимой не было холодно, а летом с моря всегда дул легкий бриз.
Я был непоседливым ребенком. Всегда играл на улице с другими детьми, и часто случалось, что возвращался домой весь в грязи после драк, в которые постоянно ввязывался. У меня был взрывной характер, я загорался на пустом месте и был очень гордый. Но я чувствовал себя одиноко, и каждую ночь мне снилось, что у меня есть братик, с которым мы связаны, казалось, навсегда.
Мои родители были слишком заняты, чтобы заметить мои затруднения, мою потребность в любви. Когда я думаю о своей семье, то вспоминаю тишину, которая царила в доме, даже в праздники. Словно отцу и матери нечего было сказать друг другу, а даже если когда-то и было что сказать, то очень давно. Я спал с мамой в одной кровати, а папа клал на землю тюфяк, который потом каждое утро складывал и засовывал под стол. Пока я был маленький, то не замечал, какая тяжелая атмосфера царила в доме. Только когда я стал старше, заметил грусть в глазах моей матери. Помню, как я спрашивал много раз, почему она так грустна, но она так и не дала мне убедительного ответа. Что до отца, то он вообще был молчалив и из него трудно было что-либо вытянуть. У него всегда был такой вид, словно он нес на плечах всю тяжесть этого мира. Он очень много работал, часто ходил по соседним селам, пытаясь продать тапочки, которые шил вместе с мамой.
В 1941 году, во время Второй мировой войны, Греция была оккупирована итальянцами, и Патры из-за своего стратегического положения оказались среди первых. В порту высадились фашистские войска Италии, а вскоре к ним присоединились и войска фюрера, пришедшие с севера на танках. Папа был членом греческой коммунистической партии, и он ушел с партизанами в ближайшие горы Панахаики, оставив нас одних. Вместе с войной пришел голод, повсюду дети и взрослые умирали как мухи, и Патры были завалены трупами с невероятно раздувшимися животами. Но мама была сильной, упрямой и умной женщиной, ее не так просто было сломить. Она стала портнихой, шила пиджаки и куртки для греческой армии на машинке «Зингер», на которой сшивала даже кожу. Она обменивала свою работу на хлеб, вожделенный более, чем любой другой продукт питания. Иногда ей удавалось собрать несколько пакетиков муки, из которой она готовила для меня чудесные оладьи с тимьяновым медом, от воспоминания о которых у меня даже сейчас слюнки текут. Со своей стороны, папа тайно и с большим риском для жизни спускался с гор и всегда приносил нам что-нибудь, что удавалось выручить у крестьян: курицу, пузырек с оливковым маслом, кусок сыра.
Однажды вечером я увидел, как мои родители пили мосхуди, белое вино, обычное в Патрах, и произносили тосты. Казалось, что их отношения улучшились. Они праздновали долгожданное событие – конец войны.
Папа попросился провести ночь дома, и мама, как всегда, постелила ему на полу тюфяк. «Здесь лягу я», – заявил я в искреннем порыве нежности, надев пижаму. Мне было почти семь лет, я был здоров, и мне казалось несправедливым и невежливым заставлять бедного отца спать практически на земле. Впервые с тех пор, как я себя помнил, мои родители легли в одну постель.
С возрастом я открыл для себя прелесть чтения. Я ходил в школу диаспоры, в которой преподавали армянский, греческий и английский. Учителя говорили маме, что я очень способный и если буду продолжать в том же духе, то можно надеяться, что меня отправят учиться в престижное учебное заведение, такое как колледж мхитаристов в Венеции или колледж Мелконяна на Кипре. Моей любимой учительницей была Люси, англичанка, к которой моя мама была очень привязана. Она научила меня латинскому алфавиту и подарила маленький англо-греческий словарик. За несколько месяцев я научился читать и переводить целые абзацы из книги рассказов «Отважный молодой человек на летающей трапеции» Уильяма Сарояна, американского писателя армянского происхождения, которого ты, конечно, знаешь. Но Люси немного погодя вышла замуж и вернулась в Лондон, откуда слала нам длинные письма, которые мама читала вслух. Это были редкие моменты, когда она улыбалась и была счастлива.
Однажды папа торжественно объявил нам, что мы репатриируемся, то есть возвращаемся в нашу любимую Армению. Это был 1947 год, война уже два года как закончилась, и, казалось, воздух и тот был напоен неудержимым оптимизмом. Пережившие войну люди строили планы на будущее, смотрели с надеждой вперед. Гигантская пропагандистская кампания была развернута во всех армянских диаспорах Европы, и особенно в Греции. Ею руководил лично Сталин с благословения Церкви и Всеармянского благотворительного союза – организации, основанной могущественной американской диаспорой и призванной сохранять армянскую идентичность и культуру в мире. Многолетняя мечта отца могла наконец осуществиться. «Жизнь дает нам последнюю возможность», – сказал он маме. Мы только что закончили обедать, и чудесный запах оладий наполнял наш крошечный дом. Мама с сомнением качала головой, пока мыла тарелки, размышляя о том, стоит ли бросать то немногое, что у нас уже есть, что мы смогли построить, ради того, чтобы вернуться в Армению.
В ту ночь я проснулся и слышал, как отец, лежа в кровати, шептал маме: «Оставим все в прошлом, эту дыру, отчаяние и грусть, которые преследуют нас всю жизнь. Я уверен, что на родине все будет по-другому. Я хочу, чтобы у тебя было счастье, которого я не смог дать тебе в этой стране. Сатен, любовь моя, прости меня», – говорил он и плакал, пока моя мать наконец-то обнимала его.
Двадцать второго июля из нашего городка Патры отправился караван в афинский порт Пирей, где его должен был ждать советский корабль, чтобы перевезти репатриантов на родину. Отец продал швейную машинку и даже свое обручальное кольцо, чтобы собрать деньги на билеты. Он вернулся домой совершенно разбитый, сказав, что зашел на кладбище, чтобы попрощаться со своим отцом Торосом-ага и Люссией-дуду, повитухой, которая помогла маме разродиться. Уезжать из лагеря было мучительно больно, намного больнее, чем мы думали. Я не знал, что взять с собой, а что оставить, и наконец решил взять только книгу Сарояна, чтобы скоротать время в пути. Мама, напротив, собрала все, что могла, удивившись, как все домашние пожитки уместились в двух фибровых чемоданах. Потом она посмотрела вокруг, не забыла ли чего, и вдруг разрыдалась, увидев в углу четыре доски, которые когда-то были моей люлькой.
– Мама, почему ты плачешь? – шепнул я ей на ухо.
А она била себя в грудь рукой, царапая ногтями кожу.
Утром в день отъезда я попрощался с друзьями, семьи которых решили остаться. Я всех их обнял, даже тех, кто не был мне симпатичен, осознав в тот момент, что на самом деле они были мне как братья и что все эти годы я напрасно чувствовал себя одиноко.
– Напиши, как только приедешь, – закричали они, когда поезд, лязгнув, тронулся и локомотив издал жалобный гудок.
В Пирее нам пришлось ждать корабль больше двадцати дней, устроившись в палатке, как цыгане, на портовых причалах. Нас было больше тысячи, прибывших со всех концов Греции. И вот одним туманным утром мы заметили очертания корабля с надписью «Чукотка» в носовой части и на борту. Мы взошли на борт корабля, приободрившись и повеселев. Многие плясали на палубе, уверенные, что жизнь теперь пойдет как надо.
«Айастан, ануш айреник… Армения, моя милая родина!» – ликовали они.
После недели плавания мы прибыли в Батуми, в Грузию. Нам пришлось стоять в длинных очередях на таможне, где тщательно проверяли весь багаж и документы. Некоторые вещи были запрещены к ввозу в Советский Союз. Многим пришлось выбросить в море книги, моя мать была вынуждена избавиться от писем тети Мириам, американской кузины отца, и своей английской подруги Люси, моей бывшей учительницы. Кто-то разорвал даже фотографии из страха, что их могут счесть компрометирующими, и какая-то женщина заплакала, когда затоптали ее маленькую Библию.
– Как тебя зовут? – спросил меня переводчик, стоявший рядом с офицером в форме на контроле.
– Габриэль.
– Фамилия?
– Газарян.
– Что ты везешь с собой со старой родины?
– Только это, – ответил я и достал из кармана красный бильярдный шар.
– И ничего другого?
– Нет, – ответил я, глядя прямо в глаза офицеру.
Потом мы сели в поезда, которые привезли нас в Армению. В Ереване многие вставали на колени в сильном волнении и целовали землю своих предков.
Отец посмотрел на Арарат, который возвышался над городом. Эта гора считалась символом Армении. «Вот наш ангел-хранитель, теперь он будет нас охранять!» – воскликнул он торжественно.
Сегодня я с горечью думаю о том, как он ошибался в своей наивности.
Более трех месяцев мы жили в палаточном городке, разбитом в парке, пока наконец нам не дали двухкомнатную квартиру в квартале Новая Себастия. Квартира была рядом с центральной улицей, которая вся сотрясалась, когда по рельсам катился трамвай. Скоро жизнь на родине оказалась совсем другой, чем мы себе представляли. Если мы бежали из Греции от бедности и несчастий, которые нас окружали в Патрах, то я не понимал, почему тогда мы выбрали именно Ереван. Город был сложен из кучи бетонных зданий, практически идентичных. Погода часто была хмурой, и зимой температура опускалась до десяти градусов ниже нуля. Наши соотечественники считали нас, репатриантов, гражданами второго сорта, агбер, брат, звали они нас с издевкой. Они нам не доверяли, потому что считали, что мы, приехав на родину, отнимаем у них хлеб. Никто не смотрел тебе в глаза, когда разговаривал с тобой, и часто случалось, что они отказывались от всего того, что говорили тебе минуту назад.
В школе учили русский и армянский, а богословие, которое меня очень интересовало, разумеется, было запрещено. В классе царила жесткая дисциплина. Союз имел приоритет во всем. Индивидуальность исчезала, каждый человек был простым кирпичиком, из них строился великий народ.
По ночам мне часто снился мой город, Патры, по которому я очень скучал.
Отец стал работать на обувной фабрике. Смены были долгими, условия работы тяжелыми: работали в три смены шесть дней в неделю. Мама же благодаря своему опыту швеи была принята на работу на маленькую швейную фабрику, правда, всего на несколько месяцев, потому что, как только мы прибыли в Ереван, она забеременела.
Полагаю, что радость от нового дома и надежды на будущее изменили ее жизнь во всех смыслах. И пока ее живот день ото дня увеличивался, она менялась. Из худой и бледной она постепенно превратилась в пухленькую женщину с розовыми щеками.
«У тебя будет братец, – объявила она мне однажды, – можешь послушать его вот здесь». Мама сделала мне знак приблизиться и приложить ухо к ее животу. Я услышал странные звуки, словно кто-то смеялся, опустив голову в воду. Это был мой первый контакт с существом, которое мама ошибочно назвала братом.
Прекрасным июньским днем родилась Новарт, моя сестричка. Новарт была целым маленьким миром. Когда я смотрел на нее в колыбели, то удивлялся тому, что она была создана прямо как взрослые, но в миниатюре. У нее были глаза медового цвета, которые ярко сверкали на солнце, а в темноте искрились, как у кошки. Уже девочкой она проявляла редкие для ее возраста умственные способности и строптивость.
В гостиной отец отделил перегородкой угол, превратив его в маленькую комнату, в которой едва помещались две кровати. Но именно там у меня и моей сестры возникло чувство единения, привязанность, которую никто и ничто не могло разорвать. По крайней мере, мы так думали.
Евгений остановился. Он почувствовал, что устал, он писал слишком долго, и голова его отяжелела, а во рту появился неприятный привкус. Он решил вскипятить самовар и заварить чай: две щепотки черных листьев и одну гвоздику, чтобы придать особый вкус. Затем, потягивая душистый напиток, он вернулся к письму, решив закончить его поскорее. Он вкратце описал последующие события, задержавшись немного на аресте и приговоре к исправительным работам себя и отца за хранение книги, о депортации в лагерь номер одиннадцать на Алтае, затем о своем переводе на урановые рудники и плавании на «Линке», которая так никогда и не достигла пункта назначения.
В немногих строчках, исполненных любви и боли, он рассказал о печальной судьбе Нины. «Мое солнце, светившее ночью», – как он написал.
И добавил, что жизнь, даже простого муравья, есть самый великий дар, какой только существует.
Возвращаясь к Серопу, он постарался вспомнить как можно точнее слова, которые были им тогда сказаны.
…Мы только что вышли из администрации лагеря. Отец держал в руке письмо, в котором Сатен писала, что не считает себя больше его женой, и смял его с болью и досадой одновременно.
– Возьми это, – пробормотал он и протянул мне обручальное кольцо, которое мама ему вернула.
– Что ты говоришь?! – воскликнул я. – Оно принадлежит тебе, оно твое! – И я надел кольцо ему на палец.
– Я никчемный человек, – бранил он сам себя, – твоя мать правильно сделала, что отказалась от меня. Она дала мне еще одну возможность, более того, она подарила мне дочь, и теперь девочка будет расти без отца. И все-таки… – он не сдержался и заплакал, – я думал, что сделал все что мог.
Он замолчал, нетвердо держась на ногах. Я попытался поддержать его, испугавшись, что его сердце не выдержит этого жестокого удара. Я подвел отца к скамейке, деревянной доске, лежащей на двух заржавевших канистрах, посадил и прижал к себе, стараясь укрыть своей курткой.
Он дрожал как осиновый лист, был слаб и подавлен.
– Габриэль-джан, Бог наказывает меня, а вместе со мной и тебя… за то, что я сделал много лет назад… – прошептал он, взял мою руку и прижал к своему сердцу. Казалось, что он хочет произнести клятву или что-то вроде того. Луч желтого света от прожектора нещадно бил ему прямо в лицо, мокрое от слез. – Когда ты родился, с тобой появился на свет еще один ребенок… Вас было двое… У тебя был брат-близнец, которого я продал… Я не мог поступить иначе, мы были очень бедны, у нас ничего не было, даже корки хлеба, чтобы утолить голод.
Я слушал его, пораженный, и смотрел ему в глаза. Я никогда не видел человека, который бы так страдал, и испытывал к нему бесконечную жалость.
– Я сделал это, ничего не сказав твоей матери… Она была больна, я боялся, что она умрет… Ей было нужно лекарство. И тогда я взял из люльки одного из вас и унес, я продал его… за пригоршню монет. – Он прервался, всхлипнув, пораженный ужасным воспоминанием. – Ты стыдишься меня? – спросил он чуть погодя с видом человека, который ожидает смертного приговора.
Я знал, что мой отец – слабохарактерный человек, может быть, даже бездарный, но не злой. За месяцы жизни в лагере я понял, что люди способны на преступления гораздо более тяжкие, чем это.
– Клянусь тебе, если бы у меня был выбор, – ответил я, обняв его еще крепче, – я бы не хотел никакого другого отца, кроме тебя.
Он посмотрел на меня с благодарностью.
– Ты ангел, ты не сын, – прошептал он.
Неожиданно я поцеловал его в щеку, чего раньше никогда не делал.
– А ты мой герой, – сказал я. И он задрожал в моих объятиях. – Герои не всегда самые сильные, и тем более непобедимые, – настаивал я. – Тот, кто продолжает бороться и, несмотря ни на что, смело признает свои ошибки, тоже герой.
Эти слова вызвали у него слабую улыбку. Мы сидели так еще какое-то время, пока он не перестал дрожать. Потом я помог ему подняться и проводил до его барака. Я открыл дверь, но он задержался на пороге.
– Я не могу смириться, я проклят навсегда, – сказал он, прежде чем затеряться среди теней заключенных, сказал тоном человека, которого уже ничто не трогало.
Долгие годы, пока я был еще молод и полон сил, я думал, как мне найти моих родных. Мне до смерти хотелось знать, что сталось с моей маленькой Новарт, как чувствовала себя мама. Я простил их за то, что они никогда не искали меня, и оправдывал их молчание страхом перед террором, царившим повсюду в этой стране. Я уверил себя, что это был мой долг – искать свою семью, и все риски я должен был взять на себя. Но всякий раз, когда я делал попытки, мне приходилось отказываться от затеи, потому что тогда бы пришлось открыть мое настоящее имя.
Когда прошлым летом в Магадане мне поручили новое дело – в тот самый момент, как мой начальник произнес имена людей, за которыми я должен был следить, выдавая себя за гида, – я понял, что речь идет о моих сестре и брате.
Почти сорок лет спустя после моего ареста наконец-то они стали меня разыскивать.
Не буду скрывать, дорогой Томмазо, что вначале я плохо отреагировал на это. Мне казалось, что приставили пистолет к моему виску, и я надеялся на какое-нибудь неожиданное событие, которое расстроит все планы. Ночью я не мог заснуть и все придумывал всякие способы, как избежать того, что мне представлялось как очередная мука.
За день до их прибытия я взял лодку и вышел в море. Я хотел утонуть, довести до конца то, что судьбе не удалось, но выяснилось, что с годами я растерял всю свою дерзость и смелость. Словом, я не смог…
На следующее утро в аэропорту все показалось мне другим. Я увидел, как мой коллега говорит с двумя незнакомцами в зале ожидания. Мне верилось с трудом, что эта красивая женщина могла быть моей сестрой, а этот элегантный господин с седыми волосами – мой брат.
«Расслабься, – сказал я себе, – это просто путешественники, которые ищут своего родственника, и скоро они вернутся домой, когда не найдут его».
Они были со мной всего несколько дней. Мы ездили туда-сюда втроем в тесноте моего фургона. Я специально не стал арендовать машину, потому что хотел прижаться к ним поближе, чтобы пробудить свои чувства, чтобы понять, до какого предела мог вытерпеть. Я спрашивал себя, взбунтуется ли хоть какая-нибудь капля моей крови, достаточно ли громким будет этот зов. «Посмотрите на меня, я Габриэль, ваш брат!»
Но надеясь на чудо, я в то же время задавался вопросом, что в действительности осталось от того Габриэля, которого цитировала Новарт. Ее ангела, нежного мальчика, ее защитника, который верил и надеялся холодными ночами в Ереване.
Это были всего лишь фантазии девочки, смутные воспоминания далекого детства сорокалетней давности.
Время – это что-то непостижимое. У него нет ни запаха, ни вкуса, ни тела, ни сути. Оно движется во Вселенной, диктуя любые изменения, преображая до неузнаваемости людей и предметы. Оно замышляет козни без нашего ведома и тиранит нас всю жизнь. Оно проявляется сейчас и здесь, показывая тебе, что было, но никогда не раскроет свой следующий шаг. И пока мы опасаемся недругов, которых можем видеть и осязать, оно – самое худшее из них и невидимое – крадет у нас жизнь.
Время – это птицелов, который заманивает нас в ловушку, когда нам кажется, что мы вот-вот улетим.
Я почти закончил свое письмо, дорогой Томмазо.
Хочу лишь сказать тебе, что твой отец – прекрасный человек. Он напоминает мне Серопа, отца, которого он никогда не знал. У него та же походка, тот же мечтательный взгляд юноши, который не захотел сдаться времени. Я завидую ему, потому что тоже хотел бы, чтобы судьба избавила меня от ужасных страданий и позволила сохранить в себе чистоту души, которая была у меня в юности. Наверное, – подчеркиваю, наверное, я нашел бы в себе смелость открыться Новарт и Микаэлю, признаться, что это я их брат, которого они потеряли. Но я промолчал, наблюдая за своими собственными похоронами. Я даже не мог проронить слезу, как любой человек, потерявший кого-то близкого. Зато я ревностно храню в душе память о мягком сибирском закате, который мы наблюдали все вместе, я и мои брат и сестра. В моем шкафу висят свитера, которые я одолжил им в тот вечер. Я их больше не стирал, потому что они пропитаны запахом жизни, которой не было.
Сегодня умерла Аннушка, а с ней умерла и часть меня. Я ощущаю огромную пустоту и оставляю на твое усмотрение, сын мой, сын моего близнеца, как распорядиться этим письмом.
Обнимаю тебя с любовью,
твой дядя Габриэль.Надежда
– Папа? – сказал Томмазо, как только услышал, что на том конце провода подняли трубку.
– Эй, привет, как дела?
– Хорошо, а у тебя? – Он говорил тоном человека, которому не терпится что-то рассказать.
– Тоже неплохо, – ответил Микаэль. – Ну, рассказывай, есть новости?
– Есть, папа, одна потрясающая новость. Слушай…
Благодарности
Хотелось бы поблагодарить:
Антонию Арслан за признание этого романа и за помощь в распространении книги.
Хэглоп Джелалиан за истории из студенческой жизни в колледже «Мурат-Рафаэль».
Уильяма Сарояна, благодаря которому я всегда гордился своими армянскими корнями,
а также всех друзей и коллег, поддержавших меня в этом нелегком деле.
Сноски
1
Младотурки – политическое движение в Османской империи, членом которого был Мустафа Кемаль Ататюрк. В сентябре 1922 года турецкие войска под командованием Ататюрка вошли в Смирну (современный Измир), после чего началась резня греческого и армянского населения города. Тринадцатого сентября в Смирне начался пожар, продолжавшийся несколько дней и разрушивший христианскую часть города. В ходе резни и последующих событий погибло около 200 тыс. человек. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Ая-Варвара – город в Аттике, юго-восточной области Средней Греции.
(обратно)3
Memleket (тур.) – страна, государство.
(обратно)4
Понт – северо-восточная область Малой Азии.
(обратно)5
Джара (ит. giara) – глиняный кувшин с двумя ручками.
(обратно)6
Ориорд (арм.) – старая дева.
(обратно)7
Бурма (тур.) – крученые ювелирные изделия.
(обратно)8
Майрик (арм.) – мама.
(обратно)9
Наргиле – у восточных народов курительный прибор, сходный с кальяном.
(обратно)10
Пирей – город в Греции, на Эгейском море, административный центр Атики.
(обратно)11
Эрзерум, или Эрзурум – город на северо-востоке Турции, на территории западной части исторической Армении.
(обратно)12
Отборные шоколадные конфеты от Барни (англ.).
(обратно)13
«Отважный молодой человек на летающей трапеции», Уильям Сароян (англ.).
(обратно)14
Манчук (арм.) – племянник.
(обратно)15
Тзенунд (арм.) – Рождество.
(обратно)16
Один из шести исторических районов Венеции. Расположен между центром города и лагуной.
(обратно)17
Квестура – в Италии территориальное управление полиции.
(обратно)18
ABGU: Armenian General Benevolent Union (англ.) – армянская некоммерческая организация, основанная в апреле 1906 года в Каире, Египет. С началом Второй мировой войны штаб-квартира организации располагается в Нью-Йорке.
(обратно)19
Энкер (арм.) – товарищ.
(обратно)20
Тикин (арм.) – госпожа.
(обратно)21
Сумах, или сумак – специя из сушеных молотых ягод одного из видов сумаха красновато-бордового цвета с кислым вкусом. Применяется в турецкой кухне для заправки салатов.
(обратно)22
Мхитаристы – армянский католический монашеский орден.
(обратно)23
Крунер (англ.) – эстрадный певец, исполнитель сентиментальных песен, придерживающийся принципов свинговой фразировки. Первоначально крунеры выступали в сопровождении биг-бэндов.
(обратно)24
Бузуки – струнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лютни.
(обратно)25
Мусака – традиционное блюдо из баклажанов на Балканах и Ближнем Востоке.
(обратно)26
Раки – виноградный самогон.
(обратно)27
Булгур (тур.) – крупа из обработанной кипятком, высушенной и пропаренной твердой пшеницы, распространенная в странах Ближнего Востока, а также на Балканах и в Средиземноморье.
(обратно)28
Апулия, Кампания и Калабрия – южные области Италии.
(обратно)29
Дорида – область античной Греции.
(обратно)30
На самом деле увидеть полярное (северное) сияние на широте Барнаула (53° с.ш.), тем более южнее на 200 км, невозможно, поскольку это природное явление наблюдается исключительно на широтах с 67° по 70°.
(обратно)31
Парелуис (арм.) – добрый день.
(обратно)32
Страны «оси», Potenze dell'Asse (ит.) – термин «ось Рим – Берлин» обозначает военный союз Германии, Италии, Японии и других государств, которому противостояла во время Второй мировой войны антигитлеровская коалиция.
(обратно)33
Манитоба – канадская провинция.
(обратно)34
Этолия – древняя область в Средней Греции.
(обратно)35
Варужан Даниел (1884–1915) – крупнейший лирик в западно-армянской литературе XX в.
(обратно)36
«Песнь хлеба» – последний сборник стихов поэта, трагически погибшего во время армянского геноцида.
(обратно)37
Риальто (ит. Rialto) – исторический квартал Венеции, расположенный в районах Сан-Паоло и Сан-Марко. Известен своими достопримечательностями, в частности мостом Риальто.
(обратно)38
Наранцария (ит. Naranzaria) – буквально «хранилище апельсинов», старинный склад рынка в районе Риальто, в котором хранились цитрусовые.
(обратно)39
Народная поговорка на венецианском диалекте: все, что новое, – это хорошо.
(обратно)40
На самом деле Сталин никогда не был в Италии. В 1907 году он был делегатом V съезда РСДРП в Лондоне, после окончания которого сразу же вернулся в Тифлис.
(обратно)41
Камиль Нимр Шамун (1900–1987) – президент Ливана с 1952 по 1958 год, родился в армяно-маронитской семье. Считается одним из важнейших христианских лидеров во время гражданской войны в Ливане. За свои радикальные антиисламские взгляды на Ближнем Востоке получил прозвище Ливанский крестоносец. Камиль Шамун был первым президентом Ливана, который выделил армянам десять депутатских мандатов.
(обратно)42
Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать (фр.).
(обратно)43
Фибрилляция – быстрое хаотическое сокращение многих мышечных волокон сердца, в результате которого сердце теряет способность к эффективным и синхронным сокращениям.
(обратно)44
Пахидермы – толстокожие животные.
(обратно)45
«Иван» в переводе с древнееврейского означает «милость Божья».
(обратно)46
Парон (венец. Paròn) – «хозяин»: так венецианцы называют колокольную башню на площади Святого Марка.
(обратно)47
Матерь Божья (греч.). (Примеч. авт.)
(обратно)48
Литания – в христианстве: молитва, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний.
(обратно)49
Венецианский диалект: «Ну, скорее уже! Говори, сукин сын».
(обратно)50
Калле – характерная узкая венецианская улица, с обеих сторон которой идет непрерывная цепь жилых домов с небольшими магазинчиками на первых этажах.
(обратно)51
Добрый день, господин президент. Это честь для нас – принимать вас в нашем колледже (фр.).
(обратно)52
Пьета (ит.) – «жалость», иконография сцены Оплакивание Христа девой Марией.
(обратно)53
Автор ошибается, максимальный срок исправительно-трудовых работ в сталинское время был двадцать пять лет.
(обратно)54
Вапоретто (ит. Vaporetto) – маршрутный теплоход, единственный вид общественного транспорта в островной Венеции, своего рода аналог речного трамвая.
(обратно)55
Лепрозорий – специализированное учреждение или место для изоляции и лечения больных проказой.
(обратно)56
Светлейшая – сокращенное название Светлейшей Республики Венеция (ит. Serenissima Repubblica Venezia).
(обратно)57
Апсида – выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом (конхой) или сомкнутым полусводом. Впервые апсиды появились в древнеримских базиликах.
(обратно)58
«Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (лат.) – из книги «Откровения Иоанна Богослова» (19:20).
(обратно)59
Святой Петр писал: «Ваш враг дьявол, как ревущий лев или лающая собака, ищет тех, кого он может мучить». (1 Св. Петра 5:8)
(обратно)60
Киворий – навес над алтарем, поддерживаемый колоннами.
(обратно)61
Малая Азия, срединная часть территории современной Турции.
(обратно)62
«До свидания, Рим» (ит.) – популярная песня, впервые прозвучавшая в фильме «Семь холмов Рима» в 1958 году в исполнении Марио Ланца.
(обратно)63
Содружество (англ. Commonwealth) – добровольное межгосударственное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.
(обратно)64
Борго – район Рима, расположенный от Ватиканского дворца до замка Святого Ангела.
(обратно)65
Университетская библиотека в Торонто.
(обратно)66
Привет, Дом, все хорошо?
(обратно)67
WASP (White Anglo-Saxon Protestant) – в буквальном переводе с английского «представитель европеоидной расы, протестант англосаксонского происхождения», термин обозначает «привилегированное происхождение».
(обратно)68
Джетлаг – явление несовпадения ритма человека с дневным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете.
(обратно)69
Бэкстейдж (англ. Backstage) – за кулисами.
(обратно)70
Неофициально, не для публикации (англ.).
(обратно)71
Перье (фр. Perrier) – элитная торговая марка среди газированных минеральных вод.
(обратно)72
Умная одежда (англ.).
(обратно)73
Биг Лучано (англ. Big Luciano) – Большой Лучано, прозвище Лучано Паваротти.
(обратно)74
Эмильянцы – жители итальянской области Эмилья-Романья.
(обратно)75
Монумент в Ереване носит название «Мать-Армения», а не «Родина-Мать». Кроме того, он был установлен в 1967 году. До этого на постаменте стоял памятник Сталину, который был демонтирован в 1962 году.
(обратно)76
Я одержу победу (ит.) – последняя строфа из известной арии Калафа из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».
(обратно)77
Увы, встает солнце из-за горы Арарат (арм.). (Примеч. авт.).
(обратно)78
Комболои – особые четки, распространенные в Греции.
(обратно)79
Розарий – традиционные католические четки.
(обратно)80
Пинчо (ит. Pincio) – холм севернее Квиринала, но, в отличие от последнего, он не относится к семи классическим холмам Рима.
(обратно)81
РАИ (ит. RAI) – итальянская государственная телерадиокомпания.
(обратно)82
У нас есть кое-какая информация о ваших родственниках (англ.).
(обратно)83
Жизненные невзгоды (фр.).
(обратно)




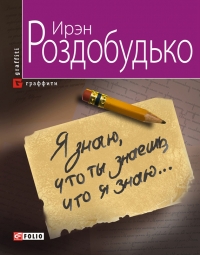
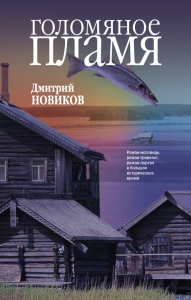




Комментарии к книге «Дети разлуки», Васкен Берберян
Всего 0 комментариев