Андрей Лебедев КАЗАЧКА Роман (журнальный вариант)
Книга первая Маринкин сад
1
Красив был их сад в апреле. Маринка сама апрельская — на День космонавтики родилась. Может оттого ей и казались эти первые жаркие деньки — тою нескончаемой чередой ожидания радости и счастья. И ежегодный выезд семейных чаепитий из зимней веранды в сад — который всегда так чудно совпадал с цветеньем яблонь, когда белые банты в ее девчоночьих косичках сливались с белым убранством сада…
И когда тоже в апреле, два года назад умерла мама, Маринка не перестала любить это цветенье, эти чарующие запахи ожидания счастливого лета.
После того, как похоронили маму, отец сильно изменился. Он перестал приходить с работы выпивши, как это частенько случалось в прежние дни… Понял вдруг, что ли, как его гулянка не нравилась маме, и как безжалостно укоротила она ее деньки. Он стал помногу работать в доме и в саду. И спал он здесь же — под большой вишней. Уже где то в самые первые дни апреля вытаскивал их с мамой двуспальную никелированную с блестящими шариками кровать — и ложился задать храпака — после каждого обеда, только рацию свою милицейскую вешал в изголовье, включенную «на прием». Но подчиненная ему районная автоинспекция, зная о священной сиесте патрона, редко в эти часы беспокоила майора Кравченко по пустякам.
— Маринка, почему Серега не в школе?
— А что вы его, батя, сами не спросите? — возмутилось было то мягкое и стройное существо, которое так незаметно за семнадцать последних лет вдруг выросло в этом саду. Да, со смертью мамы, Маринка вдруг стала для младших вторым по рангу, после отца, домашним командиром… И папка, спрашивал теперь за мелкоту не с мамы, а с нее.
— День здоровья у них.
— А сама?
— Так и у всей школы день здоровья — тараканов в столовой морят.
— А-а-а, ну тогда ладно, — успокоился было Виктор Васильевич, снимая подпотевшую подмышками милицейскую рубаху и обнажая могучие плечи — предмет восхищения многочисленных по молодости подруг,
— А Юлька где?
— У Коростелевых — играет.
— Ты мне рубашку с коротким рукавом погладь, уже жарко в кителе — лето на дворе.
Маринка и сама бы побежала теперь к Коростелевым, потому как уже второй год и дня не могла прожить, чтобы не увидеть Мишу и не поговорить с ним, не подержать его за руку.
— А Мишка вчера на дискотеку на «семерке» приезжал, — вдруг сама себя не контролируя и замлев от удовольствия, похвасталась Маринка.
— Споймаю я его… Специально против вашей дискотэки пост поставлю, и споймаю… Прав нимае, неча за руль сидать — молоко еще на губах не обсохло, а уже тоже — машину ему, девок только портить!
Маринка не удержалась, прыснула, и вся улыбчивая и мягкая, по кошачьи вдруг потерлась плечиком о батькину спину.
А Мишка Коростелев тем временем поливал из шланга стоявшую перед домом на дворе машину своего отца — Константина Петровича. Самого Константина Петровича на работу увозила и привозила оттуда — черная служебная «волга» с шофером Колей — прапорщиком кэ-ге-бе за рулем.
— Намывай, намывай, все равно ключей тебе папка не даст, — ехидничала с веранды сеструха Верка.
— А я и без ключей любую машину и открою и заведу.
— Ну и надает тебе папка опять как тогда.
— Как когда, дуреха ты?
— Сам знаешь, дурак!
Струя из стиснутого пальцем сопла превращалась у Мишки в облако водяной пыли, в котором щедрое апрельское солнце устраивало свой радужный калейдоскоп. Мишка щурился и поводя шлангом, все целил струей в давно несуществующие уже на полированном блеске любимого металла пылинки, так расточительно изводя на мнимый прирост чистоты — литры той влаги, что где-то там — в пустыне Сахара, могли бы может спасти жизнь ста умирающим от жажды путникам…
— Опять на дискотеку с Маринкой на машине поедешь?
— Не твое дело.
— А вы потом с ней в машине целуетесь?
— Заткнись, дура!
— Дура-не дура, а учусь не как некоторые — без четверок!
— А я и так поступлю. В Ростове на юрфак.
— Дурак! Получится из тебя адвокат Плевака.
— Дура ты, адвокат Пле-ва-ко.
— Он може и Пле-ва-ко, а ты — Плевака!
Мишка подпер пальцем сопло, чтобы струя стала крепкой и жесткой, и резко повернул шланг в сторону крыльца.
— Ой, дурак! Книгу чужую намочил! Все папке скажу…
— А папка когда говорил вернется?
— Вернется, чтоб тебе машины не видать!
— Дура, ты, я все равно на машине поеду, как бы ты не злилась.
Мишка закрутил кран, свернул шланг кольцами, и сперва смахнув щеткой крупные капли с крыши и капота, принялся фланелькой натирать лобовое стекло.
— А мы в видео — салоне вчера «Греческую смоковницу» смотрели…
— Тебе — сикалке еще рано такие фильмы смотреть…
— А тебе… Не скажу кому — рано в чужих машинах с Маринками целоваться…
— А че сегодня в салоне кажут?
— Американское кино — «Команда», где мужик такой, здоровенный, и с таким лицом, как каменным…
— Дура ты, не «команда», а «Командос», — это так отряд спец-назначения в Америке называется, а мужик этот — Арнольд Шварцнеггер, видала? — и Мишка напряг свой торс, согнув руки таким образом, чтобы бицепсы надулись и приобрели подобие товарного вида.
— Геракл сушеный, — презрительно фыркнула Верка.
— А почем билеты в салон?
— Пять рублей.
— Дерет Димочка!
— Папка говорит, Дима как из райкома комсомола ушел — в большие люди выйдет и весь город потом на работу возьмет.
— Може и так, только я на юриста выучусь и Димона в тюрьму посажу за спекуляцию.
— А сам, небось бегал к нему смотрел титьки голые по видику!
— Дура ты, Верка, мне теперь любая девчонка сама чего хочешь покажет!
Верка не ответила. Только демонстративно встала с крыльца и поджав губки гордо удалилась в дом. Обиделась за всех тех негордых девушек, что были по словам ее противного братца — готовы за сомнительное удовольствие общения с ним — обнажить самые сокровенные части своих юных организмов.
А Дискотека «Млечный путь» выла и гудела ритмично ухая и разметывая по окрестностям сполохи где-то сворованных проворным диск-жокеем проблесковых маячков, что положены только государственным автомобилям скорой помощи и милиции.
И покуда дети пляшут под истошную «Бама-ламу» этих бельгийских девчонок из «Бель Эпок», на веранде у Маховецких взрослые собрались погутарить за перестройку. —
— Кончится все это перестрелкой, вот увидите! — тоном пророка, знающего скрытое от других, буркнул Петр Тимофеевич.
— Да, не напряХГай, Питро, усе будит увэри-вел, — с мягким южным «г» пробасил в ответ Владимир Петрович Корнелюк, старинный корешок Петра Маховецкого еще по учебе в Ростовском юридическом.
Владимир Петрович, или просто Володька, не стал тогда заканчивать учебы вместе со всеми, а с четвертого курса по какому то немыслимому блату вдруг перевелся в Плехановский — в Москву, и в их края вернулся уже только через три года и сразу замом Новочеркесского райторга. Красавец — блондин, которому прекрасно шел их плакатно-щедрый загар, по слухам, делал карьеру на женских слабостях. Его любили аппаратные дамы и двигали по торговому ведомству, прощая мелкие, а порой и крупные, нарушения. И к исходу восьмидесятых — додвигали Володьку Корнелюка до кресла зама облторга.
— Нет, ты посмотри шо этот Димка Заманский вытворяет! — с пшиком открыв пару бутылок чешского «Пльзеня» продолжал Петр Тимофеевич, — этот наш комсючек, помнишь его? Так вот, сперва, понимаешь, когда Горбатый комсомолистам коммэрцию разрешил, открыл Димка при нашем горкоме комсомола хозрасчетный молодежный центр досуга… Ну взял в арэнду там — здесь — повсюду где подвал, где угол, где целую залу. Понаставил там этих видиков, теликов, стульев — посадил бывших своих комсомольцев на входе, и давай откровенную порнуху крутить! И все это по пять «РЭ» за вход. Дэти наши — равно как очумэлые — в школу не ходют, идут в видео-салон! Мы было сунулись с Бэ-Ха-Эс-Эс. Проверить, понимаешь ли эту дрянь. А он нам в нос с усмешкой ворох бумаг из областного комитэта партии — ПЕ-РЕ-СТРОЙ-КА, понимаешь ли! Неформальная деятельность молодежи — и все с одобрения на самом высоком партийном уровне.
— Ну так и успокойся, Петро, чего тебе до этого Димки. Дался он тебе! Есть же партийная линия…
— Да в том то и дело, что никакой тут партийной линии нет — этот Димка уже через год из горкома ушел, а свой молодежный центр досуга сделал кооперативом, где сам стал директором. Теперь у нас в городе три дискотэки и пять видео-салонов ему принадлежат… А у меня руки так и чешутся!
— Ну и дался он тебе? Тебе завидно?
— А то, что наркотики там в дискотэке появились — вот чем он мне дался. Не было у нас в Новочеркесске этой печали никогда, а тут — эта дрянь!
— Ну и че? Думаешь — этот Димон их к нам завез?
— Думай — не думай, а ловить надо, у меня вон Галка растет…
А Галка Маховецкая тем временем сидела в своей комнатке и плакала. Из открытого окна, из свежести ранней ночи доносились отголоски неугомонной дискотеки, и слезки капали из глаз некрасивой десятиклассницы на разворот лежащей на ее коленях книжки стихов…
— Може по водочке, мужики? — спросил Петр Тимофеевич, искоса поглядывая на Виктора Васильевича Кравченко.
— Та, не, я пивко…
— Вот молодец, Виктор, уважаю, как Людмилу схоронил, Царствие ей Небесное, совсем завязал! Уважаю… Только жениться тебе надо теперь. Не век же по Людмиле горевать.
Владимир Петрович почти до пупа картинно расстегнул белоснежную рубаху, обнажив облагороженную ранним черноморским загаром — всю в рыжеватой поросли сильную грудь, и задумчиво произнес, -
— Зря ты так Петя, зря. Большие дела намечаются, очень и очень большие. И Димка этот — просто молодец. Он не нашей главврача сын?
— Точно, ее…
— Ну и молодец… А нам теперь тоже надо думать, как дальше жить. Вот партия решила, что общественное питание — ну кафе, рестораны, все это будет лучше, если отдать в частные руки… И вон смотри — в Ростове, Ставрополе, Краснодаре — уже как в Париже!
— Не знаю, не был.
Если бы Петр Тимофеевич умел честно признаваться самому себе в мотивах так часто вспыхивающей в нем неприязни к самым даже близким своим товарищам, то ему следовало бы сказать, что он всегда ревновал Корнелюка — этого незаслуженного по его мнению баловня судьбы. Ревновал и к его деньгам, и к многочисленным его красивым женщинам, которых внутренне робел, интуитивно полагая себя слишком грубым для таких «тонких столичных штучек», что все так и вертелись вокруг его приятеля — Вовки — торгаша.
— Ну так какие твои года? Будешь еще, Петро! — утешил Петра Тимофеевича Корнелюк, тонко почувствовав, что наступил на больное.
— Ну?
— А то, что теперь очередь дошла и до крупных предприятий торговли…
— Ну?
— Че, ну? Баранки гну! Думать надо! Чеченцы вон уже — ушки на макушке — вокруг облторга крутятся, чемоданы денег приносят — продай универмаг в Новочеркесске!
— Наш универмаг?
— А чей еще?
— А ты?
— А я что по-твоему, дурак им продавать? Я сам куплю!
— И где твой чемодан?
— А на хрена мне чемодан, я и так куплю…
— Как?
Владимир Петрович отхлебнул пенной чешской влаги, и трезвым покровительственным взглядом посмотрел на приятеля.
— Хороший ты мужик, Петро, хороший ты мент, но нет в тебе коммерческой жилки…
А Петр Тимофеевич взбрыкнул и взвился в гордом неприятии высокомерного тона приятеля своего.
— А на хрэна мне коммерция, колы у мэнэ власть!
— Йи-эх, ты! Теперь, брат, такие времена, что люди миллионами легально владеть будут. Прошло то время, когда деньги прятать приходилось, да жрать икру под одеялом. Теперь все можно. И если не перестроишься, Петро, то окажешься…
— Игде это я окажуся?
— На верхней полке!
— Ну-ну, посмотрим еще, чья возьмет!
— Дурак, ты, Петро, тебе нужно не «против» меня переть, а за меня держаться. В этом и твоя теперь сила. Раньше ты за партию держался — ей служил, а теперь новая буде сила. Моя коммерция — да твоя власть, в этом и сила наша будет. Тогда и ты и я хорошо заживем, как в Америке, и даже лучше.
Петр Тимофеевич неприязненно засопел, и ему как всегда в подобных случаях, захотелось встать в позу — мол я стране служу, я подполковник, а ты кто? Маховецкий, когда ревность особо сильным приступом накатывала на него, всегда прибегал к такой уравновешивающей душевный его баланс схеме, мол ты торгаш, то есть жулик по простонародному, а мы — милиция тебя родненького всегда поймаем, так что уважай нас и знай сверчок место свое. И когда Петр Тимофеевич часто попадал в компанию Корнелюка, где были красивые женщины, он надевал спасительную для себя маску этакого мента-грубияна, наивно полагая, что на женщин, падких до Вовкиных богатств и талантов, это может произвести впечатление.
— А я и так неплохо живу — дом у меня, сад пятнадцать соток, машина…
— Дурак ты, Петя, не обижайся только, ну просто дурак. Масштаб мышления у тебя мелкий… Дома у людей теперь не такие будут, не такие, как у тебя, а с бассейнами, зимними садами, да с прислугой, да с вертолетной площадкой…
— Ну этим ты меня не проймешь, я человек простой, мне хватит и того, что имею.
— А Галке твоей? Ты ей что, в наследство свою должность ментовскую хлебную оставишь? Так нет! Не остается должность по наследству… Внукам твоим можно будет оставить только капитал…
На веранде воцарилась тишина, нарушаемая разве что доносящимся из раскрытой двери дальним буханьем дискотеки «Млечный путь».
— Ну, а как ты будешь покупать наш универмаг? Гроши у тебя е?
— Это уже мое дело, Петро, твое дело будет для тебя привычное — охранять и беречь нашу коммерцию. Так-то, товарищ полковник Маховецкий.
А в комнатке своей Галя Маховецкая поплакала — поплакала, да так и уснула, свернувшись калачиком на диване, уткнувшись некрасивым своим личиком в разворот книжки стихов Анны Ахматовой.
А предмет ее девичьей грусти — Миша Коростелев в это время сидел за столиком в кафе-баре дискотеки «Млечный путь».
И из двух Наташек — Байховской и Гринько — этих вечных подружек Маринки, без которых она настолько «никуда», что порой казалось — выйди Маринка замуж, она и Наташек с собой в постель к мужу потащит, Миша в этот момент больше недолюбливал Байховскую. Уж больно на язычок не выдержана — так и шпарит — то что думает.
— А видали, Дима Заманский новую «девятку» вишневого цвета купил? — манерно и нараспев, явно воображая себя Мадонной Чикконе, прочирикала Байховская.
— А «девятка» — это такая крутая тачка, я просто умираю, — в тон подпела ей вторая Наташа.
Мишка молчал, в важной задумчивости пуская ноздрями мальборный дымок.
— А что то его не видно, он сегодня тут? — спросила вдруг Маринка.
Она сидела как всегда, на одном с Мишкой стуле, чуть ли не на его коленях, положив ладошку на его плечо и прислонив к нему свою милую светло-русую головку.
— Тут, тут он, вон с диск-жокеем разговаривает…
И точно, длинная, чуть сутулая фигура в модной «вареной» джинсуре и схваченный конским хвостом пук, так рано начавших седеть черных волос, выхватывались сполохами дискотечного света. Этот свет безошибочно отделял чужеродное в этой колышащейся под «Ласковый май» толпе. Ведь любой, кому старше двадцати пяти — считался здесь уже почти глубоким стариком!
А диск-жокей включил магнитофон — и мог теперь болтать со своим шефом аж до конца песни. Вот оно преимущество дискотеки перед ансамблем! А там снова скажет что-нибудь забавное, вроде. — «па-а-ад этт-у песенку Ласкового Мая так и хочется ласково пойти на первомайскую демонстрацию»… и снова включит магнитофон, а девчонки танцуют… Танцуют… Колышется море девчоночьих головок, поблескивающих на диск-жокея лукавыми и игривыми глазками.
— «Бел-ллые рр-ро-ззы, бе-ллые рр-ро-ззы, безз-защитны шипы… Что с вами сс-сдел-лал снег и моро-ззы»… вслед за Юрочкой Шатуновым повторяли обе Наташки — Гринько и Байховская.
И Байховская еще при этом так смешно глазки прикрывала, будто от страсти, будто обмирая от чувств.
— Мишка, а смешная рифма — розы и морозы? — Маринка нежно ткнула его кулачком в бок.
— Ну! Ясно — лажа. Я всегда говорил, что этот сирота Шатунов — лажа-лажей.
— А ты мне и таких, между прочим, стихов не написал…
— Да ладно тебе…
Мишка засек, что Дима Заманский смотрит в их сторону. Вернее не просто в их сторону, а именно на Марину.
Ах, дискотека! В чем твой секрет? В одной ли только музыке? И в одном ли только естественном желании совсем еще молодых людей знакомиться друг с дружкой и танцевать в том месте, где звучат именно их модные, а не стариковские ритмы?
И когда корреспондентки областной молодежной газеты спрашивали об этом Диму Заманского, он бывший второй секретарь райкома комсомола и лицо, ответственное за молодежный досуг, искренне отвечал, что успех дискотек в том, что ими занимаются люди увлеченные и влюбленные в музыку.
И это были не просто эмоции. Дима Заманский в силу особенностей своего характера был человеком более чем просто практическим. У него, как говорят в народе, была деловая хватка. Но склонность к практическому подходу в делах, не противоречила у него с высокой оценкой моральной, как он часто выражался, — «составляющей». Ведь и комсомол, при всей своей практичности, даже комсомол, воспитывающий из начинающих карьеристов будущих партийных прагматиков, не упускал этой моральной компоненты… Влюбленные в дело люди… Люди, работающие не за деньги, а из любви к искусству…
Именно из таких молодых пацанов, из любви к музыке и любви к быстрому и безотказному успеху у девчонок, готовых работать день и ночь практически бесплатно Дима и делал свои дискотеки. И эти дискотеки держались не только на популярности Оттована и Модерн Токинг… Они держались тем, что пацаны — диск жокеи всю душу свою вкладывали в подачу этого музона, в каждый остроумный комментарий, в каждый любовно подобранный к песенке цветной слайд, переснятый с полу-запрещенного журнала, в каждую новинку, за деньги переписанную у ростовского или столичного музыкального спекулянта, в каждый чистый киловатт мощности усилителя, ночью спаянного из своих — личных радиодеталей.
Его — Димки Заманского дискотеки потому и плодились по всему району, словно грибы после дождя, потому как в организацию этих предприятий практически ничего не надо было вкладывать. Платить диск-жокеям было не надо. Они и задарма, от одного желания славы и девичьей любви были готовы на все. И аппаратуру — все эти колонки, усилители — тоже покупали сами диск-жокеи, зачастую выставляя на сцены захудалых сельских клубов продукты собственных ночных бдений с паяльником по схемам из популярного советского журнала «Радио».
Именно на этой «халяве» юного энтузиазма и расцвела комсомольская карьера второго секретаря райкома Димы Заманского. Именно эксплуатируя стремление юных диск-жокеев самим и скорее делать эти дискотеки, Дима и совершил то чудо, в один год превратившее захудалую сеть поселковых клубов в почти современные центры досуга.
Он, как уполномоченная партией и комсомолом власть — сделал только одно. Он дал энтузиастам свободу действий. А далее…
А далее Диме вдруг стало ясно, что на этом можно делать большие деньги. В десятки раз превосходящие его райкомовскую зарплату. И как только Горбачев разрешил кооперативы, его Молодежный центр досуга при райкоме комсомола одним мановением руки превратился в кооператив.
Пульсирующий ритм вдруг резко оборвался, будто этим «Белым розам» кто-то наступил на самую жизненную жилку.
И явно пользуясь инспирированной ею замешательством, эта длинная сутуловатая фигура с конским хвостиком, двинулась от насеста диск-жокея прямо к столику, где сидела Марина.
— Я вас приглашаю, — сказал Дима, галантно согнувшись в полу-поклоне.
— Ах, какой кавалер! — прям зашлась эта дура Байховская.
И тут диск-жокей включил Стиви Вандера — самую его классную вещь, «Ай джаст кол ту сэй хау ай лав ю»…
А Маринка, лукаво закусив нижнюю губку и сверкнув глазками на своего повелителя только прощебетала, — я пойду, ладно? И пошла. С этим хмырем. А Мишка остался с этими двумя — Байховской и Гринько.
………………………………………………………………………………………..
— Ну и потанцевала, ну и что? Ну и что ты дуешься?
Их машина уткнулась носом в густую лесополосу километрах в десяти от Новочеркесска по Ростовскому шоссе, а где то буквально в пяти шагах в ветках отчаянно тенькал невидимый соловей. Они сидели на заднем сиденье и трогали друг друга, словно знакомясь, словно привыкая к новому, радостному обретению.
— Взяла бы, да отказалась, ты же понимаешь, что мне неприятно…
— Ну прости, ну прости, милый, я только тебя, только тебя люблю…
И она доказала правоту своих слов, потому как именно сегодня у них все получилось. Потому что сегодня, она не прервала того правильного природного пути, где надо преодолеть и перейти и через страх и через боль… Она только единыжды вскрикнула, но так тихо, что и соловей не прервал своей торжественной трели…
………………………………………………………………………………………….
Июнь, как всегда выдался удушливо — жарким, и у батьки болело сердце. Тут, конечно и Мишкины выпускные экзамены, да предстоящий его отъезд в Ростов — на учебу… Но важнее всего для Константина Григорьевича были не семейные дела, а партийные — в горкоме. А дела там шли, по видимому, далеко не так, как хотелось бы второму секретарю городского комитета — товарищу Коростелеву.
Мать все шикала на Верку с Мишкой, чтоб те по дому на цыпочках — батька спит, сердце у батьки… И Софья Семеновна Заманская — главврач их огромной, самой большой на все районы — больницы, сама приезжала к ним домой, лично снимала кардиограмму и о чем то шушукалась с батькой. Но в больницу Константин Григорьевич ложиться не стал — «дела не позволяют, время не такое, чтобы болеть», сказал он, обещая Софье Семеновне хотя бы регулярно принимать лекарства.
Вот мать и шикает теперь на Мишку с Веркой — «тихо, батька болеет», будто не дом теперь, а реанимационное отделение.
И как тут подступиться к батьке? Вот незадача! А и тянуть нельзя… Маринка беременна. Надо свадьбу играть.
Сочинение было первым, потом была математика письменная, потом устная, потом химия… Перед английским они с Маринкой поехали в рыбсовхоз — на пруды. Мишка совсем обнаглел, гонял без прав уже в открытую и днем и ночью. Гаишники на выезде из городка только честь отдавали — знали по номеру машину второго секретаря.
А на прудах была благодать. От воды веяло спасительной прохладой, и Маринка, стянув через голову платье, с робкой грациозностью спускалась по наклонной бетонной плите, уходящей потом вглубь искусственного водоема, трогала ножкой воду и садилась на шершавый бетон, обхватив руками ладные коленки.
— Как водичка?
— Холодная.
— Да ты чего!
Мишка, едва выпрыгнув из джинсов, на ходу поправляя плавки, разбегался и йи-у-ух!
И проплыв под водою метров двадцать, выныривал уже на середине пруда.
— Маринка, айда сюда!
— Не! Не могу.
— Ты чего? Не будешь купаться?
— Не!
Мишка лежал прильнув животом к теплому бетону, а она сидела рядом и склонив головку набок, длинной травиной щекотала у него за ухом.
— Я завтра утром батьке все про нас скажу.
Мишка говорил глядя в бок, говорил горячо, со страстью, как бы убеждая себя самого, что все будет именно так.
— И свадьбу сыграем сразу, как вступительные сдадим.
— Ага…
— А жить в Ростове будем, там квартиру снимем…
— Ага…
— Я на юридическом, а ты на своем — по хореографии…
— Ага… А ребеночек?
— Ну-у-у…
— Ну вот. И первые наши с тобой семейные трудности.
— Мать поможет. Мы двухкомнатную снимем, пусть мать с нами поживет, а батька здесь с Веркой.
— Не знаю… Может мне остаться с ребеночком? Поступлю на заочный, а ты будешь на выходные к нам приезжать.
— Да? И спать там всю неделю без тебя? Зачем это надо?
— Ну не всю же жизнь, потом мы с маленьким подрастем и к тебе переедем…
— Да?
— Мой папка тоже поможет, у него деньги есть, я знаю…
— Ну так, может наши нам вместе и квартирку однокомнатную в Ростове купят?
— Ты сперва со сватами к нам приходи, потом уже родительскими деньгами распоряжаться будем.
— Завтра своему батьке скажу, а в субботу и сватов к тебе зашлем… Слыш! Слыш, Марин! Айда в машину… Ну? Ну охота, Марин…
…………………………………………………………………………………………..
— Дмитрий Александрович Заманский… Превышаем?
— Не журись, командир. Возьми на пиво.
Дима ехал на важную встречу… Колесико на спидометре еще чуточку подкрутилось и выскочили нули.
— Ого, два месяца, как машину купил, а уже двадцать тысяч! Надо в Грозном на автосервис заехать — масло поменять…
Дмитрий прижал педаль газа… Султан не любит, когда опаздывают. Вспомнился конец их последнего разговора. Тогда они делили наличные, и Дмитрий, поймав вдруг на себе змеиный взгляд Султана, впервые допустил мысль, что его — Диму, ведь так легко убить. Убить и закопать где-нибудь в степи, так что никто и никогда… Ни сном, ни духом. И как бы по-звериному почуяв этот его адреналин страха, Султан спросил,
— Слушай, Дмитрий, я все тебя спросить хочу, зачем тебе столько денег?
— А тебе?
— Я себе не принадлежу… Те деньги, что я заработал идут на борьбу за свободу моего народа.
— А мои — на личную свободу одного представителя другого народа. Мою личную.
— Ты, Дима не бойся меня.
— А я и не боюсь, потому что без меня ты наших денег не заработаешь…
— Верно говоришь. Вы евреи — умный народ. И тоже от русских много страдали.
— Не надо, Султан… Я в вашу политику не лезу. Воюйте себе хоть с русскими, хоть с американцами, мне до этого дела нет. А потом, у меня отец — русский. Казак терской.
— Мать! У вас у евреев главное — мать.
— Да, ладно тебе, Султан, наше с тобой дело — наш бизнес, а национальное здесь совсем ни при чем.
— Ладно, только попомни меня, как-нибудь, и очень скоро, и ты на национальный мотив запоешь… Как там у вас? В семь-сорок он приехал, в семь-сорок он приехал…
— Это ты о чем?
— О том, что на свадьбу, наверное копишь… Так ведь?
Странно… Странно, — подумал про себя Дмитрий. Он что-то действительно, по-звериному насквозь видит. Странно… И вспомнил вдруг Маринку Кравченко.
Ах, какая она милая, да ладная! В Тель-Авиве он бы сделал ее королевой красоты. Но зачем в Тель-Авиве, когда есть Нью-Йорк?
И как бы он ее любил, если бы, если бы только она могла его полюбить!
Дмитрий прижал газ до полика и снова вспомнил, как они танцевали тогда в его дискотеке.
О, Боже! Какая у нее спина! Гибкая и податливая. И запах ее волос. Светло-русых, цвета подвыгоревшей от южного солнца травы.
Зачем тебе столько денег, Дима? Зачем тебе столько денег, Дима? Мне затем столько денег, чтобы Марина стала моей…
Вот показался впереди железнодорожный путепровод, перекинувшийся через шоссе. По нему полз длиннющий состав весь из черных цистерн с грозненской нефтью…
Успею проскочить под мостом, покуда по нему поезд идет — будет Марина моя, не успею — ничего не будет…
Дима нажал на газ. Ревет мотор… Ревет… Сто пятьдесят на спидометре…
А по мосту уже катит почти что хвост состава — цистерн десять осталось…
Успею?
Успею?
Нет?
Успел…
По-моему — успел, под последней цистерной проскочил!
Дима сбросил газ. Впереди опять замаячил гаишник с палкой.
— Дмитрий Александрович Заманский… Превышаем?
— Не журись, командир. Возьми на пиво.
……………………………………………………………………………………….
Разговор с отцом Миша откладывал до последнего.
Но вот уж и выпускной в школе…
Маринка хотела было сшить платье у портнихи, у той, у которой всегда обшивались городские невесты и выпускницы… И уже ходила пару раз примерять, но тут неожиданно удивил папка. За три дня до выпускного заехал за ней на служебной волге с мигалкой и посадив в машину сказал: «Едем за подарками»…
До Ставрополя домчались в какие-нибудь полтора часа, а там папка привел ее в главное управление торговли, где уже ждал их Владимир Петрович Корнелюк…
— Ка-а-акая кра-а-аля! Ну-ка, ну-ка!
Владимир Петрович аж слюньку пустил от удовольствия…
Маринка зарделась, потупив взор.
В универмаг, а вернее в его секретный, потайной отдел (для работников обкома, как пояснил Владимир Петрович), пошли уже втроем.
И тут Маринка поняла, что такое коммунизм.
Холеные бабы в рангах не ниже зав секцией — бегали вокруг нее, словно очумелые. Маринка чувствовала себя императрицей Екатериной в лучшие годы ее владычества.
Приносились, примерялись и уносились всевозможные платья — одно красивей другого, откуда то доставалось немеренное количество пар туфель — итальянских, английских, австрийских… Девушки в форменных синих платьицах приносили белье, какого ей не доводилось еще видеть… разве только в американском кино.
Папка с Владимиром Петровичем сидели тут же и пили поданное им пиво. А Маринка, словно модель на параде мод, то и дело выходила к ним из-за занавески в новом наряде…
В конце — концов, Маринке больше понравились два платья. Белое бальное с открытой спиной и неглубоким вырезом на груди. И розовое, короткое…
— Это… Я это платье возьму. Наверное…
Но Владимир Петрович жестом раскрытой ладони ее остановил, и велел главной из девушек «завернуть» и то и другое — оба платья, и туфли — белые, и розовые, как и сумочки к ним и все что к тому положено — белье, колготки, набор косметики…
— Не скупись, не скупись, Витек, один раз дочка школу кончает, — и словно фокусник, достав откуда — то перевязанный лентой пакет, сказал торжественно, — И еще, это лично от меня…
То были французские духи и часики. Золотые.
— А колечко тебе жених подарит… Есть жених то? — и взглянул на нее плотоядным раздевающим взглядом, как смотрят на неприличный журнал с голыми красотками.
— Папка, а нехорошо, наверное… Часики то — золотые, дорогие…
Папка гнал «волжанку» по осевой, на обгонах включая сирену с мигалкой, а иногда и поднося к усам микрофончик, -
— Водитель машины 47–93, прижмитесь к обочине, пропустите спецтранспорт!
Маринка высунула голую гладенькую руку в струю набегающего воздуха.
— Нехорошо, пап?
— Все хорошо, доча… Друг он мне, а своих диток у него — нимае…
……………………………………………………………………………………………
А катастрофа произошла на выпускном…
— Мишка то на выпускной не пойдет, слыхала?
Это были обе Наташки — Байховская и Гринько. Их за какие-то тайные грехи директриса припахала сидеть и заполнять красивым почерком аттестаты зрелости выпускников.
— Как не пойдет?
— А так, сидим мы в канцелярии, и является тут Офелия наша — Александра Семеновна и говорит, — «вы девочки, заполнили уже аттестат Миши Коростелева»? И, представь, вынимает при нас печать школьную, штампует его аттестат и выходит… А у родного школьного крыльца — «волга» папаши Мишкиного. Мы глядим, а они как раз с директрисой из школы выходят с Кистинтин Грыгорычем, она его до машинки провожает, ручонкой ему вслед машет — как же! Начальство… А нам потом и говорит, — «все, мол, уехал наш Миша Коростелев в Ростов — поступать в институт»… Мы ей говорим, как же? А как же выпускной? А она нам — «ничего не знаю, они аттестат забрали, говорят — надо как то срочно поступать на какие то там предварительные курсы подготовительные, что ли… В общем — ерунда какая то»…. Ой! Ой! Да ты не реви! Чего ты ревешь то. Маришка!..
А Маринка ревела… Нет, она не ревела… Это жизнь и надежда вытекали из нее…
……………………………………………………………………………………
А тогда, Мишка дооткладывался с важным разговором до самого последнего экзамена… Межевался-межевался, все не знал как подойти, да как начать.
— Бать, а бать!
— Что?
— Ну, тема есть…
Был выходной день. Отец только позавтракав, развернув свою «Правду» уткнулся в передовицу, с вечным своим непроницаемы выражением лица, словно он не дома на веранде, а в своем райкоме, и будто за ним пристально наблюдают товарищи… Так что настроения его угадать было совершенно невозможно.
— Что за слово дурацкое выдумали? «Тема»! Ну, говори!
— Ну, серьезная… Ну…. тема.
— Тогда и говори серьезно.
Если честно, то Мишка не шибко надеялся на успех… Он начал этот разговор, потому что рано или поздно его «надо» было начать.
— Ну…
— Не мямли, умей говорить прямо и начистоту.
— Жениться я решил, батя…
Ком застрял у Мишки в горле, и он даже сам испугался того, что только что сказал…
— Жениться? Это здорово, это в самый теперь раз!
Константин Григорьевич аккуратно сложил газету, давая понять, мол беседа ожидается долгой и серьезной.
Мишка уже хорошо изучил эти отцовские манеры, и уловив его настроение, еще более занервничал.
— Ну так получилось…
— Что получилось? Переспать у вас получилось? Ах, какие, понимаешь, мастера!
— Ну, бать, ну получилось так…
Мишка понял, что разговор потек по совершенно неблагоприятному руслу. Но ничего изменить уже не мог. И от бессилия своего не то что страдал, а просто издыхал, ощущая себя полным никчемным ничтожеством перед всесильным отцом — истуканом
— Что? Ребенок уже получился?
— Ну, да…
— И кто эта счастливая избранница? Кого ты осчастливил?
Мишка почувствовал, что надежды у него — ну просто никакой. И дальше разговор пойдет просто по схеме полного унижения и подчинения батькиной воле. Он налился красным цветом, словно июльский помидор, и вымолвил все же,
— Марина.
— Какая Марина?
И чего он унижает? Будто не знает, какая Марина! Да весь город знает, что они два года ходят вместе.
— И что ты теперь ждешь от меня?
И Мишка сглотнув застрявший в горле комок, стал вдруг сам себе ненавистен. Он принялся канючить, чего делать было нельзя.
— Ну… Свадьбу надо. Как у людей.
— Как у людей?
Батька прям как специально ждал такого ответа. Он аж подпрыгнул на стуле.
— Как у людей — сперва человек на ноги встает, институт кончает, своим хозяйством обрастает… Вот как у людей. А ты — хочешь, чтобы я тебя женил, да учил тебя в институте, да детей твоих нянчил, да и жонку твою молодую тоже в институт определил? Так?
Все понял Мишка. Дальше одно только мучение будет. Ломает его отец. Ломает.
— Бать…
— Все! Хорош! Ты парень взрослый — и можешь сам решить. Или гуляй свадьбу «на свои», и живи потом как хочешь — пойдешь на завод, потом в армию, потом вернешься, потом на заочное поступишь… Если она тебя из армии дождется… А знаешь, как нынче солдатом то в армии?
И Мишка поймал себя на том, что армия — самое больное его место. Не хочет он в армию. Не хочет он и идти на их городской авторемонтный заводик. Не хочет он и той рутины, которая вдруг так ясно представилась ему за батькиными словами…
— Бать…
— В общем — мое слово последнее. Позовешь на свадьбу — мы с мамой придем… Но это будет твоя свадьба — в твоем доме и на твои деньги. Если у тебя сейчас такой дом и такие деньги есть — мы готовы принять приглашение и прямо сейчас… Есть у тебя дом, кроме моего дома? Отвечай, есть у тебя дом кроме моего дома? Отвечай!
Ах как не хотел Мишка того, чтобы жизнь его, такая яркая и блестящая в перспективах учебы в юридическом, вдруг превратилась в черно-белое скучное кино, как у самых заурядных работяг… Армия, завод, работа, жена с детьми, разговоры о деньгах, унылое пьянство… Не о такой жизни он мечтал… И не хочет он. Не может он ради… Даже ради Маринки — пожертвовать своей мечтой о красивой жизни.
— Нет…
И отец прекрасно понимал, что его сынуля — это баловень и раб собственных представлений о стереотипах записного счастья, где счастье — это прежде всего легкий жизненный успех. И Константин Григорьевич прекрасно видел… Насквозь видел сына своего. И жалея его… Презирал.
— Чтоб завтра уже был в Ростове! Жених засраный…
И плыла над Новочеркесском луна. И выли на эту луну собаки. И выл вместе с собаками Мишка Коростелев, и с воем и слезами выливалась из него жизнь вместе с несбывшимися его надеждами.
А каждый ребенок чист только до первого предательства, совершенного им в этой жизни. И стал Мишка в эту ночь — нечистым.
………………………………………………………………………………………………
Уговаривать ее идти на выпускной пришли обе Наташки. И Гринько и Байховская.
Гринько в ярко-красном бархатном платье, была похожа на новогоднюю игрушку, и щеки, разрумяненные польской косметикой, с любовно нанесенными на них блестками, словно мелкими осколочками елочных шаров — только усиливали маскарадное впечатление. Байховская тоже была хороша. В узком зеленом, таком узком, что казалось и вздохнуть свободно не могла, платье, она с копной своих черных волос и глазами, заглубленными обилием нанесенных теней, более походила на страстную роковую женщину из Нью-Йоркского бара, чем на невинную девчонку из провинциального русского городка.
Обе Наташки говорили наперебой:
— Ты че, не идешь на бал?
— Да ты че! Дима Заманский дискотеку из «Млечного пути» в школьный спортзал перевез.
— Говорят — это его школе подарок на десятилетие того, как он сам нашу школу закончил.
— И ты че, не пойдешь?
— Да ты че! Там родительский комитет такой стол забацал — шампанское!
— Представляешь, нам теперь можно!
— Маринк! Ну ты че! Из — за Мишки? Да?
— Так он, может, и приедет на выпускной!
— Конечно приедет, только не к началу, а к середине.
— Приедет? — оживилась Марина.
— Ну, конечно, приедет! Об чем разговор.
И Маринка все же выбрала белое. С открытой спинкой и вырезом на груди. Гулять, так гулять!
А дискотека «Млечный путь», со всеми своими мигающими, чвякающими и брякающими причиндалами перевезенная в спортзал уже погромыхивала… Пробуя свою силу. И возле школы стояла вишневая девятка Димы Заманского. Только не было рядом с ней беленькой «семерки» в которой… В которой кончилось детство.
— И особенно мы гордимся успехом нашей Мариночки Кравченко, окончившей школу с золотой медалью, поаплодируем Мариночке, поаплодируем…
— Ура! Маринка, молодец!
Ура — кричал Дима Заманский. Его было трудно узнать. В прекрасном костюме, при галстуке, он вдруг показался грустным и бесконечно одиноким. Он отпустил бородку, которая придала его лицу нечто корсарское… И точно! В левом ухе Димы отчетливо блеснула сережка.
— Ух ты какая красавица! Обещаешь мне танец сегодня, как тогда, под Стиви Вандера? — он поймал ее за руку выше локтя и не отпускал, заглядывая в глаза.
— Как тогда? — и она задумалась, живо припоминая, что было после того танца, — посмотрим, может быть!
Но самое главное. Но самое главное — она напилась. Еще перед началом банкета Цыбин, Перелетов, Налейкин и Бородин зазвали их с Наташками в кабинет химии, где из горла все по очереди распили бутылку коньяка.
А потом был банкет, не котором всем было официально дозволено выпить шампанского…
А потом, обе Наташки и Цыбин, Перелетов, Налейкин и Бородин опять водили ее в кабинет химии, где теперь пили портвейн и венгерский вермут, такой вонючий, словно вчерашнее ведро из под умывальника.
И когда началась дискотека, Маринка уже была совсем хороша.
— Ай джаст колл ту сэй хау мач ай лав ю, — напевал ей в ухо Дима Заманский…
А она только переставляла ноги, повиснув на его плечах, думая, что сейчас вот-вот ее стошнит.
И потом ее и правда тошнило. В палисаднике за школьной библиотекой. А Дима Заманский участливо поддерживал ее за плечи и все приговаривал, — «ну-ну, ну ничего, ну ничего, все хорошо, все хорошо»…
— Хочешь, поедем теперь искупаемся? Я место знаю! Теперь ночью вода — парное молоко.
Они сели в его вишневую девятку… И ехали, и ехали… И приехали на пруды рыбного совхоза.
— А у меня купальника нет.
— А зачем тебе, русалка? Ты и без купальника — прекрасней всех на свете…
Она сняла платье, аккуратно положила его на заднее сиденье… И не отворачиваясь, расстегнула лифчик. Огромная красная луна светила ей на грудь. Дима стоял, словно оглушенный и не находил никаких слов, а Марина вдруг сделала два шага и неожиданно прильнула к нему.
— Марина! — только и мог выдохнуть Дима, губами ища ее губ.
— Нет, — нет, — прошептала она.
— Нет? Почему?
— Нет.
Она оттолкнула его и закрыв лицо руками упала на заднее сиденье лицом в свое бальное платье…
— Мишка! Мишка, гад! Мишка, гад! Ну почему? Почему-у-у-у? Почему ты меня бро-о-о-осил?
Дима неуверенно протянул было руку, в естественном желании как то успокоить ее, но Марина вдруг зашлась. Как будто перед смертью.
— Ми-и-и-ишка!
Дима испуганно отпрянул, насколько лицо Марины было искажено, буквально изуродовано перекосившей его болью. Это было истинное и самое настоящее горе.
Оно отразилось в этом мокром, скорченном судорогой лице, с ничего не различающими, полными отчаяния глазами.
— Боже, кто виноват, в том, что такая прекрасная девочка, в самый лучший вечер ее юности, вместо того, чтобы радоваться, купаться в счастье — этой естественной среде обитания чистой души — плачет. Нет, не плачет, буквально умирает, раздираемая рыданиями. Боже, где же справедливость? Кто ломает естественный порядок вещей? Кто нарушает правила природы, заключенные в простой формуле, что любовь двух молодых сердец должна быть счастлива?
Так думал Дима, глядя на содрогавшуюся в рыданиях Марину. И был несчастен не от того, что не в силах помочь ей, но от того, что природа была несправедлива и к нему. Он ее любил — эту чистую, самую чистую девочку, но ее любовь досталась не ему.
— Время. Нужно время. Только время. И все пройдет. И все устроится так, как мы того хотим. Даже если мы того сейчас не знаем, как точно мы хотим, чтобы все в нашей жизни устроилось. Но есть ли у нас это время? И такими же как теперь будем мы тогда, когда время вылечит нас?
Он не помнил, сколько прошло минут или часов, пока она лежала на заднем сиденье его машины. Не помнил, сколько выкурил сигарет.
— Ты мне друг? — спросила она.
— Друг.
— Тогда помоги мне.
— Я все готов для тебя.
— Помоги сделать аборт, чтоб никто и никогда не узнал. Никто и никогда.
Лицо ее было совершенно сухим. Только щеки были черны от потеков дешевой болгарской туши, да губы, со смытой с них помадой стали вдруг тонкими и бледными.
— Марина, я сделаю все как надо, не беспокойся. Я сделаю для тебя все. Абсолютно все. Положись на меня. Положись на меня, дорогая моя.
Уже тихо светало, когда он остановил машину возле ее ворот.
— До свиданья, Марина
Ласково улыбнувшись, Дима открыл ей дверцу, и гибкая и ловкая, она исполненная гордой грации вышла…
— Оглянется? — загадал Дима.
Марина щелкнула задвижкой калитки… И уже исчезая, блеснула взглядом…
2.
Марина так и не смогла взять в толк, почему Москву называют «большой деревней». До приезда в столицу, ей доводилось бывать и в Ставрополе, и в Ростове, и в Минводах… Но все эти города были не такими. Не такими «шикарными», как сказала бы Наташка Гринько. Она, кстати говоря, тоже сперва приехала было в Москву, но срезалась на первом же экзамене, а на заочное, рисковать не стала — поехала поступать в родные края — в Ростов. Теперь письма пишет регулярно. Мишку Коростелева видит часто…
В институт культуры по отделению хореографии Маринка со своею золотой медалью поступила легко. Накарябала сочинение, не мудрствуя особо, про образ русской женщины в романах Толстого, да показала себя по спецпредмету. До испанского танца с кастаньетами, блестяще отточенного еще в девятом классе — дело даже и не дошло. Старый препод… то ли доцент, то ли профессор, неряшливого вида, весь седой, аж даже с желтизной в волосах, узнав, что она с юга, из казачек, попросил пройтись на пуантах лезгиночку… Маринка потом, уже сверх спрошенного, показала еще и фуэте, и батман… Двое в комиссии даже поаплодировали.
Но по порядку:
Москву сперва увидала из окна самолета. «Ту» накренился, вынырнув из облаков, и сердечко ее девичье аж зашлось — заколотилось. Вон он — университет на Ленинских горах! Кто ж его с первого взгляда не узнает?
И вот автобус катит ее из Внукова по мокрому Киевскому шоссе. В дождь прилетела. К добру?
Здравствуй. Москва!
Как дурочка, прям с чемоданом поехала в институт. За версту видать что приезжая. И обидно. Что мы, хуже москвичек, что ли? В метро — во все глаза глядела на пассажиров. Кто? Как? В чем?
И решила, что кабы не ее чемодан, то и сошла бы за столичную, да блистала бы здесь не хуже самых красивых местных девчонок. А что? Джинсики у нее — самые что ни на есть фирменные. В Ростове папка достал у приятеля своего — у Корнелюка. И кроссовочки «адидас», и курточка тонкой лайки — все на ней как надо. И сама она — высший сорт. И парни в метро на нее смотрят. Смотрят и улыбаются — кто посмелей, а кто робкий — глаза отводят.
Прав был папка, когда говорил, что лучше и красивее их казачьей породы — во всем свете не найти.
Народу в приемной комиссии — как перед входом в водочный магазин, когда Горбачев трезвость в стране объявил. А она еще и с чемоданом… Ну дура-дурой!
В полной взбудораженности, она и не помнила, что и как писала. Только боялась какой то ерунды, дескать — ошибусь в заявлении, а ректор заметит ошибку, и скажет — «не надо нам таких неграмотных студентов в институте культуры»! Поэтому, заявление выводила строго по образцу, вывешенному здесь же на стенке в приемной комиссии. Потом и еще три раза перечитывала. И все отдала двум приветливым таким девчонкам — секретарям. Те документики ее в отдельный большой конверт — и аттестат с круглыми пятерками, и характеристику, и справку медицинскую… И все равно — тут же дали направление в свою институтскую поликлинику. Вот как они — москвичи боятся, что мы им заразу какую-нибудь принесем. Сами бы лучше за собой смотрели. Тоже мне!
Потом в Лоси — в общежитие. Забросила чемодан… Тут же познакомилась с двумя девчонками — абитуриентками. Ирка — боевая такая — из Кургана, и Оля — рыженькая тихоня из Белгорода. Тихая. В тихом омуте…
—. Все девчонки на медкомиссию, — орет комендантша в коридоре, — без справки никто постельного белья не получит.
— Ну не дискриминация ли? Почему парням во всем такая лафа?
— Ну, мы зато в армию не попадем
— Это ты зря, в «кульке» для девок военная кафедра — на медсестер всех готовят, военнообязанными будем
У гинеколога испытала три минутки стыда. Во-первых… Во-первых — мужик. Нестарый лет сорока. Толстый, мясистый такой с усами. На двери табличка: Лившиц Игорь Моисеевич.
— Аборт недавно делали?
Маринка и так вся напряглась, а тут…
— Я спрашиваю, — давно аборт делали?
— Неделю тому назад, — выдавила из себя Маринка.
— Ну, ну… Смотрите… Вам теперь поберечься надо… Такая маленькая еще.
И писал потом что то в карточке, посапывая в усищи. Прям, как у Сталина.
Господи! Неужели это как-то может повлиять на поступление? Ну кому какое дело? А все равно — страшно. И почему «маленькая»? Что он имел ввиду?
До первого экзамена еще две недели. Ирка с Олей решительно побежали записываться на платные подготовительные, хотя занятия на курсах уже и начались. Маринке денег не жалко — шестьдесят рублей. Папка дал ей двести пятьдесят и обещал еще прислать, если чего. Но просто ей вроде как бы и не надо. Как медалистке — ей только сочинение и специальность сдавать, а историю, русский устный и иностранный — Родина уже простила. За золотую медальку школьную. Не даром Мариночка старалась!
Так что, оборвала лепесточек от объявления «готовлю в ВУЗ по литературе письменной (сочинение) Матвей Аркадьевич» и успокоилась.
А в комнате их пока трое, хотя койка еще одна стоит. Ирка, Оля и Маринка.
У Ирки специальность — баян. Она его с собой из Кургана притащила. Но клятвенно обещала, что играть станет только тогда, когда девчонок в комнате не будет. А Оля, как и Маринка — танцует. И в общежитии класс есть — с палкой и зеркалами. Решили, что будут ходить каждый день по вечерам. А пока… А пока — решили Москву смотреть.
Воскресенье жаркое выдалось. Плюс тридцать два в тени.
Подумали-подумали. И решили на пляж.
В Химки. Так Ирка решила. Она то знает.
Ирка девчонка тертая. Она третий год приезжает поступать. Первый год на медицинский пыталась — мимо! Потом в педагогический на английский язык — тоже мимо денег… Теперь, решила уже чтобы наверняка. И главное, главное, девки, это замуж за москвича и прописаться. Как бы циничным это ни показалось! Ведь можно же и по любви? Неужто нельзя москвича полюбить? Так и поедем на пляж — москвичей ловить!
Да! Ирка опытная. И Москву знает. И вообще — у нее здесь родственники какие то есть. Тетка. Правда, она теперь с мужем в Болгарии. Но ключ от квартиры у Ирки имеется.
Однако, вместо москвичей, девчонки поймали ленинградцев.
Ленинградцев в Москве.
Отец Вани Введенского был из тех недоучившихся консерваторских пианистов, что по причине тяготения к спиртному, пиком своей карьеры почитают сытое место тапера в ресторане. И Ваней то он сына своего назвал в честь американского блюзмена Джона Ли Хукера… Просто Джоном не позволила записать его Ванина мама — Людмила Александровна.
Мама Вани жила с его отцом в так называемом «гражданском браке». Они не были расписаны. И у Вани поэтому была не та фамилия, что у мамы. Она — Людмила Александровна Ковач, а он — Ваня Введенский, по отцу.
А когда Ване было три года, отца сбило машиной. Бабушка частенько приговаривала, что был бы трезвый — так не полез бы под колеса… И Ваня отца своего вообще не помнил. Смотрел на его фотокарточки, что остались у мамы, как на изображения какого то чужого человека… Так, мужчина лет двадцати пяти с тонкими подбритыми усиками. Модный, манерный. И какой то неродной.
Замуж мама так и не вышла. Был у нее постоянный мужчина, но связь свою с ним, она не афишировала. Когда Ваня уже подрос и учился классе в восьмом или девятом, от бабушки он узнал, что мужчина этот — мамин начальник, женатый человек, и что встречаются они у того на даче, и что каждый год одну неделю своего отпуска проводят вместе с мамой на юге. Ваня их за это презирал. Обоих. Но маму в общем любил и жалел. В конце — концов, поступить в институт помог именно мамин кавалер. К концу десятого класса, когда Ваня стал совсем большой, мама уже перестала прятаться, и наконец познакомила сына с Юрием Борисовичем.
Мамин хахаль оказался человеком не без связей, похлопотал, и Ваню с двумя тройками приняли — таки в институт. Не в самый престижный, но все же в вуз и на дневное очное отделение. До третьего курса, Ваня учился просто так — потому что «так было надо, чтобы не попасть в армию». Он даже с трудом представлял себе эту работу инженера — строителя, и толком не знал, толи будет сидеть потом в проектном институте — чертить планы и фасады, толи будет бегать по стройплощадке прорабом в пластмассовой каске на голове и в резиновых сапогах, погоняя полу-пьяных каменщиков и штукатуров.
А после третьего курса Ваня поехал на общестроительную практику В Москву..
Их — студентов из Ленинграда, поселили в метростроевском общежитии в Лосях. А через дорогу напротив — было женское общежитие института культуры..
Лето на Москве выдалось жаркое.
Свой первый выходной в Москве Ваня со товарищи решили посвятить пиву. Вообще, начальство в этот день организовало автобусную экскурсию на Бородинское поле и по местам обороны в Великую Отечественную, но Ваня с Витей и Серегой прикинулись шлангами и насочиняли трогательных историй про очень важные и срочные звонки домой мамам и бабусям, которые можно было почему то сделать только в это воскресенье и непременно с центрального телеграфа на улице Горького.
— Попробуйте только выпимши придти — сразу с практики и из института выгоним! — пригрозил факультетский босс по кличке «Гестапо» и для верности показал кулак, — и еще, в город поедете — вести себя культурно… Сухой закон! Москвичи должны знать, что мы — ленинградские студенты строим здесь гостиницу в олимпийской деревне…
— И на селе… сострил Иван.
Пить пиво поехали на Речной Вокзал. Так Сереге один местный пацан посоветовал. Сам, правда, не шибко то и местный, тоже из общаги, но второй год на Москве.
— Там и искупаетесь, — сказал пацан уже вдогонку.
Ехали сперва на автобусе до метро, потом до кольцевой, потом две пересадки, и уже от Белорусской до Речного.
— В Москве, говорят, полтора часа в один конец — это как бы и недалеко.
— И девчонки, смотри, здесь ничего!
— И джинсуры до фига
— А вы бы хотели, чтоб в Москве — в лаптях ходили? Это ж столица!
Пиво на Речном вокзале было. Сперва выпили по паре разливного. Под полотняными навесами-грибочками в баре-стояке. А потом, как их научил один алкашного вида мужичонка, пошли в буфет вокзала и взяли там по три свежего бутылочного.
— А теперь — купаться, — почти хором пропели Ваня, Витя и Серега.
Было жарко и весело.
— Девушки, а можно мы вашим мячиком поиграем?
— Можно, только не украдите…
— Мы мячики не воруем, мы только девушек…
— Ах, как романтично, быть украденной.
— А в волейбольчик с нами не хотите?
— На деньги?
— В картошку, знаете?
— Не-е-е, вы лупить сильно станете, мы боимся…
— Ну, давайте просто в кружок.
— А как вас зовут?
— Сергей, его Виктор, а его — Джон.
— Серьезно, Джон?
— Вообще — Иван.
— Ну, так даже лучше…
— А вас?
— Оля, Ира, Марина…
Всегда нахальный, когда дело касалось девчонок, Серега сразу всем своим видом дал понять, что в своем внимании, сконцентрированном на темно-синем купальнике черноглазой Ирочки, конкурентов не потерпит. Из трех подружек Ира и вправду была самой заметной. Восточные, словно из сказки о Тысячи и одной ночи, формы танцовщицы на пирах падишаха. Красивая грудь, рельефный, без лишней жиринки живот, ладные ножки, смуглая и гладкая кожа, все в ней заявляло на высший балл. Темные глаза блестели игривостью, но полные губки слегка кривились капризом и знанием собственной цены. Однако и Серега был самым высоким и самым нахальным.
Витя, хоть тоже сперва кидал взгляды на манящую канавку между Ирочкиными грудками, но без лишних слов принял Серегины условия и стал ухаживать исключительно за Олей. К этой слегка рыжеватой, веснушчатой девушке подходили слова: мягкая и приятная. Она не была полной, у нее была красиво очерченная линия бедер и гибкая талия, и при прыжках за мячом ее тело не сотрясалось, как это бывает с иными женщинами, но под закрытым купальником чувствовалось… что она мягкая и приятная. В отличие от иронично-капризной Ирочки, Оля была самой непосредственной и открытой. Она смеялась, когда нужно было смеяться, она была в меру игрива и искренна, про нее можно было сразу сказать, что она не из тех, что обманет, убежав после угощения в ресторане. Про нее можно было подумать, что она скорее туда — в этот ресторан не пойдет.
Ване же, как бы и само так это получилось — досталась Марина.
Марина… Легкая, гибкая. Русые прямые волосы, струящиеся по тонким, еще незагорелым плечам. Трогательно выступающие ключицы, грудь, как шедевр ювелира Фаберже… А глаза… Ваня как то сразу вздрогнул, когда Марина первый раз секунду в упор посмотрела не него, оценивая… И Ваня отвел… Он был смущен. Ему почудился какой то еще неведомый большой ум, который изумленно смотрел на него из глубины чистых ясно-серых глаз, смотрел и спрашивал: «что это за чудо-юдо такое тут по пляжу ходит»?
Девчонок угостили пивом. Девчонки угостили бутербродами. Дело клеилось.
— Ну что, девчонки, может есть смысл продолжить удачно начавшийся уикенд и переместиться в кулуары? — сформулировал — таки наконец Серега ту идею, что буквально носилась в воздухе.
— В кулуары? — недоуменно переспросила Оля.
— Под своды мраморных прохлад…под сени струй, — капризно и нараспев подыграла Сергею Ирочка, — вы нас приглашаете в ресторан Националь? Тогда нам нужно съездить домой переодеться, сами понимаете, этикет требует — вечерних туалетов, кринолин, декольте, бриллианты…
— Может придумаем что-нибудь попроще? — инициатива продолжала исходить от Сергея, что все два последних часа не спускал глаз со своего предмета, сближая дистанцию порой всего до нескольких сантиметров от прелестных загорелых поверхностей, — нам за смокингами далеко ехать, неплохо бы найти место подемократичней, куда в линялом «левисе» пускают.
— Попроще, это кафе «Аист» на Ленинградском, рядом с Динамо — прямой радиус отсюда, — подсказала Иринка. — туда можно и так как есть.
Покидая пляж, мальчики, отпустив девушек на десять шагов вперед, стали совещаться.
Вопросов на повестке было два: сколько денег потребуется на продолжение программы, и что делать после похода в кафе?
У Вани денежный вопрос стоял особенно остро. Отправляясь на практику, в общем, на все готовое с проездом и питанием, он получил от мамы всего сто рублей. семьдесят из них, были как то неразумно потрачены еще в первые два дня по приезде в Москву, а двадцать только что пропиты… Оставалась последняя десятка, а до обещанного «Гестапой» аванса надо было еще дожить. Да еще и неизвестно, а какие в этом «Аисте» цены, и какие у девчонок запросы?
Первую проблему разрешил Сергей. Резко и в стиле Александра Македонского. Он попросту достал из нагрудного кармана курточки «левис» четыре аккуратно сложенные стошки, и разделив сумму надвое, раздал приятелям.
— До первой получки…
— Железно
Вторую проблему почти не обсуждали.
— «Гестапо» когда велел в общагу? К отбою?
— К одиннадцати…
— А пошел он!
— Главное, чтобы от нас не пахло, и еще, чтобы завтра на работу к восьми, без опоздания…
До «Аиста» доехали за пол-часа. Стойка, высокие табуреты, столики в полумраке. Дым сигарет — пластами, словно облака в горах.
Девушкам взяли по коктейлю «Шампань-коблэр» с вишенками, вкусно плавающими в слабом алкоголе среди мини-айсбергов колотого льда. Себе ребята заказали что то более крепкое, но так же как и девчачьи напитки — расточительно — дорогое.
— Надо было с собой из магазина фуфырь портвейна взять.
— Да перед девчонками, ты чего!
— И девчонки бы не отказались!
Говорили все больше о разной ерунде, о джинсах, какие лучше, толще и голубее — «врангель», «ли» или «ливайс»… О машинах, что круче — «ломбаргини», «мазератти» или «феррари»
По теме джинсов и машин — во взглядах расхождений не было. Но что касалось музыкальных вкусов, то здесь девчонок с их «Ласковым Маем» — подняли на смех.
— А где вы в Ленинграде все это достаете?
— А где вы в Москве?
— Нам папы из командировок привозят…
— Папы в министерствах работают?
— У кого как…
— Ясно…
— А я в Ленинграде была когда в восьмом классе училась, на зимние каникулы, помню мороз под тридцать, а мы на Исаакиевский собор на смотровую площадку, да без лифта, замерзли!
Ваня все больше помалкивал. Он поехал на практику, чтобы на музыкальный центр скопить. И с мамой об этом они уже договорились.
А у Сергея с Ирочкой все явно шло на лад. Выпив пару коктейлей, та уже вовсю хохотала над довольно смелыми Серегиными анекдотами, от которых у Вани краснели смущением щеки и глаза испуганно бежали Маринкиных глаз.
Витя тоже, не терялся, подыгрывал Сергею, острил и периодически то брал Олю за руку, то обнимал ее за плечи, словно делал этими прикосновениями некую ритуальную метку, дескать, «это моя», мол — «я — ее парень»…
Только Ваня все больше молчал, и только изредка искал того пронзительно — обжигающего взгляда ясно-серых глаз, что днем поймал на пляже.
Раздухарившись, Ирочка подбила подружек вконец разорить своих кавалеров.
— Тоска здесь — музыки нет! Поедем на Новый Арбат в «Ангару» или в «Метелицу»…
Серега завелся и у него отказали тормоза. Словно бык на арене, он уже ничего не видел, кроме ярко-красной мулеты… И в ее глубоком вырезе — ослепительную канавку Ирочкиных грудок.
Ванечка испытывал легкий ужас — за один вечер в пропасть незапланированных потрат летела треть вожделенного магнитофона!
Новый Арбат был похож на заграницу, как ее показывали в воскресном обозрении «Международная панорама». Перехватывая оценивающие взгляды прожигателей жизни, что лениво толпились на широких тротуарах, все, как в униформе — в джинсах и в коже «а-ля Вождь Апачей», Ваня неловко поеживался… И если бы не Маринка, — убежал бы, ей — Богу, — убежал бы, и да черт с ними — с Серегой и Витькой.
Чтобы пройти в «Ангару», Сергей дал швейцару стоху… Ваня уже не считал, сколько ему придется потом отдавать, он молчаливо покорился судьбе.
В огромном зале не-то ресторана, не — то кафе, вовсю гремела рок-группа.
Коробочка была полным — полнехонька. Сели тесно — вшестером за столик, рассчитанный на четверых. Из-за музыки ничего не было слышно… Ни Серегиных смелых анекдотов, ни Ирочкиного смеха. Взяли две бутылки белого сухого вина, вроде как грузинского, какие то салаты… И вдруг Ваня почувствовал, что Маринка касается его плеча. Нежные подушечки ее пальцев может даже и не коснулись грубой плащевки, но тогда он почувствовал то, чего не было, но чего он очень хотел. Он поднял глаза и увидел ясно-серые источники добрых лучей.
Потом все пошли танцевать медленный танец.
Потом еще что-то пили.
Потом был еще медленный танец…
А потом Серега ловил такси и усаживался на заднее сиденье со своей Ирочкой… Куда? Неужели в Лоси? Неужели в общагу?
Куда то пропали Витя с Олей.
А пойдем пешком, — неожиданно предложила Маринка.
— А далеко?
— А на Ленинские горы. Я там не была ни разу….
— Так ты не москвичка?…
Шли долго. Наверное, всю ночь. Уже и машин совсем мало стало. Уже и метро закрылось. Но Ваня почему то вдруг обрел совершеннейший покой. Ему только очень хотелось набросить на плечи Маринке свою курточку из грубой плащевки.
— Тебе не холодно?
— Так, ничего.
— Надень вот…
Он не снял руки с ее плеча, а она ее не сбросила. И наоборот, прижалась, и склонила голову.
……………………………………………………………………………………..
Начальником практики был Игорь Максимович Сутягин — аспирант с кафедры экономики и организации строительства. Пока был комсомол — Игорь пять раз ездил в стройотряды. В Карелию, в Казахстан, в Ленинградскую область. И два раза — командиром. С ним можно было бы договориться, если бы не его зам по кличке «Гестапо».
Вообще, «Гестапо» звали Володей. Только он любил, чтобы его по имени-отчеству, Владимиром Александровичем. Он даже девушкам так представлялся: Вла-ди-мир Алек-сан-дро-вич. Хотя был всего на три года старше Вани, потому как прошлый год окончил институт и поступил в аспирантуру. И теперь — выслуживался.
Из трех друзей — Ваня был единственным, кто опоздал на развод и на работу.
Витька, оказывается, едва проводив Олечку до общаги, всю ночь продрых в собственной теплой койке.
Хранивший загадочное молчание Серега — тот на такси приехал в общежитие за час до подъема. Откуда приехал? Не известно.
А вот Ваня…
А Ваня пришел на стройку, когда ребята уже час как кидали в опалубку бетон. Он было сразу схватился за самое тяжелое, за что никто и никогда не любил хвататься — за электровибратор, но его остановил жесткий окрик:
— Введенский! Иди сюда!
На дощатой эстакаде, по которой бетоновозы заезжали на опалубку, стояли Игорь с Владим Санычем.
— Введенский, ты почему не был на разводе?
— Я опоздал.
— Ты знаешь правила?
— Знаю.
— Я и командир — мы отстраняем тебя от работы, и сегодня в девятнадцать часов будет собрание студентов.
Чего Ваня в своей жизни не умел, так это упрашивать начальство о прощении. Ему это казалось настолько унизительным, что он предпочитал получить «на полную катушку», чем канючить, «ну простите, ну извините, я больше не буду»…
До обеда он просто загорал на траве неподалеку от стройплощадки. Потом, когда из столовой привезли термоса с борщом и кашей, сел обедать со всеми.
— Не бзди, Джон! Выговор объявят и все будет о-кей, — принялся успокаивать всегда все знающий наперед Серега, — ты хоть спал с ней, надеюсь?
Ваня почувствовал, что краснеет и промычал в ответ что то нечленораздельное, не сумев даже отшутиться или просто послать Серегу к черту.
— Владим Саныч! Может допустим Введенского после обеда? У нас в бригаде некому на вибраторе! — подал голос Витька…
— Ну, да в самом деле, Владим Саныч! — разом загалдели ребята
— Чего там, ну намылим ему на собрании башку, а чего от работы то отстранять?
— Так и работать некому будет — всех разгоните
А вот этой реплики, источника которой Ваня не уловил, подавать бы и не следовало… И точно!
— Что значит «некому работать будет»? Вы соображайте, что говорите у меня! — «Гестапо» аж борщом поперхнулся, так его заело, — мы потому и выносим проступок студента Введенского на собрание, чтобы на его примере показать всю серьезность этого дела.
— Ага, тебя, Джон для острастки засудят! — буркнул в алюминиевую миску Серега.
— Да давайте Ваньку на поруки возьмем! — крикнула некрасивая, но бойкая и от того удачливая в любви Верка Мамулова.
— На по-ру-ки, на по-ру-ки, на по-ру-ки! — принялись все стучать ложками.
— Владимир, в бригаде и правда ребята зашиваются, у многих мозоли от лопат с непривычки. А бетон идет — четыре бетоновоза в час — только успевай! Давай допустим его! — очнулся наконец командир — Игорь Сутягин.
— Ну, ладно. В виде первого и последнего исключения допустим условно до работы, а вечером на собрании будем решать вопрос…
Ух! Отлегло на сердце!
После обеда — перекур пятнадцать минут.
— Ну как? Было дело? — снова наехал Серега, как только закурили по первой послеобеденной.
— Да иди ты к черту, — наконец нашелся — таки, что ответить совсем уже заикающийся от пережитого и раскрасневшийся Ваня.
— Ну, значит — было, вижу… А у нас с Ирочкой, скажу я тебе!
— Серега…
— Да ты че, Джон! Влюбился? Она у тебя первая телка?
— Серега, перестань, я прошу!
— Ну-ну-ну-ну… Все! Но все равно, у нас с Ирунчиком — все тип-топ. В лучшем виде. Она — коренная москвичка! Предки в Болгарии на курорте, квартира, все такое… Мы первый раз с ней прямо в ванной…
— Сергей!
— Все! Молчу!
Всю неделю Ваня работал в каком то отчаянном порыве, словно галерный гребец, предупрежденный, о том что скоро будет выброшен за борт, словно чернокожий раб на хлопковом поле штата Миссисипи, которому за лень или иной проступок были обещаны субботние плети, словно плененный египтянами эфиоп, строящий пирамиду Хеопса, которого за нерадивость грозили отдать в жертву богу Осирису. В ушах все время звучало: «Ты, Введенский — первый кандидат на вылет с практики, а автоматом из института. Ты, Введенский — теперь на особом счету и всегда под самым пристальным вниманием руководства»… Да, с таким послужным списком, с такой отметиной — далеко не убежишь, — думал Ваня, кидая тяжелый цементный раствор самой захватистой лопатой, что нашлась в арсенале у бригадира.
Даже Серега с Витькой, и те порой ворчали, — да брось ты Джон упираться рогом! Не бзди, и никто тебя не выгонит…Только грыжу заработаешь.
А сами уже обсуждали между собой, как в воскресенье поедут на рандеву с Ирой и Олей.
— На меня не рассчитывайте, меня «Гестапо» теперь вообще никуда не пустит, разве что возле общаги на площадке в волейбольчик попрыгать — на виду у всех.
— А как же Маринка твоя?
— Не знаю, — отвечал Ваня мрачнея лицом.
Однако, есть все же Бог на небе! В пятницу «Гестапо» отвезли в больницу с приступом аппендицита.
— Так ему! — сказал Серега, узнав эту сногсшибательную новость.
— Лежал бы он теперь там до конца практики! — добавил Виктор.
Душа у Вани ликовала. И не смотря на то, что от изнурительной работы в конце смены он едва не валился с ног, в пять вечера забежал к Марине.
— Пойдем сейчас в кино?
— Пойдем. А куда?
— А куда у вас ходят?
— Давай в Россию. На Пушкинской. Я хочу свидание с тобой — у памятника. У фонтана. Там… Через полтора часа.
У Вани долго не поворачивался язык, но преодолев стыд и неловкость, он все же попросил у Виктора джинсов — «на один только вечер, и один только раз». Витька только улыбнулся.
— Смотри, не обтрухай, — сказал Серега, и в другой раз, может Ваня бы и обиделся, но теперь не стал.
— Куртку будешь брать? — спросил Виктор, и не дожидаясь ответа, протянул Ване свой почти не линялый Blue Dollar.
— Спасибо, Витя.
— Да ничего…
Цветов Ваня нарвал с клумбы возле общаги. Раньше он себе такого и представить бы не смог, а тут… Во как забрало!
Маринка уже стояла возле фонтана, в коротком платье, в котором она ну никак не походила на студентку… На вид сейчас ей можно было дать едва шестнадцать.
— Привет
— Привет
Краснея, Ваня неловко протянул букет садовых ромашек и с еще меньшей ловкостью ткнулся носом в ее щеку.
— Куда пойдем?
— А все равно.
Пошли пешком по Бульвару. Сперва до Никитских ворот, потом еще дальше. Посидели на скамейке напротив литературного института. И все время жутко хотелось целоваться.
В кино попали только на сеанс «двадцать один-тридцать». В «Ударник». Показывали какую то итальянскую комедию с Челентано. Но Ваня на экран почти не смотрел. Его все тянуло целоваться. И ей тоже. И они себе в этом не отказывали.
— А мы с Ирочкой, наверное, поженимся…
Серега лежал поверх одеяла. Голый, в одних плавках. Жара на улице, если доверять не телевизору, а своим ощущениям, была под тридцать. Оба окна их комнаты были открыты настеж, а там, за едва колыхавшимися занавесками было что то нехорошее. Вдали погромыхивало, и темно-серое небо, цвета совсем как у Невской воды в хмурый день, давило и парило духотой.
— Гроза будет, — сказал Витя, тоже голый, и тоже в одних плавках лежащий поверх одеяла.
— Поженимся мы с Ирочкой…
— Что, так приспичило? — хмыкнул Виктор, пуская в потолок струйку сигаретного дыма.
— Дурило ты. У меня, ты знаешь, с этим делом — никаких проблем. Я онанизмом уже в десятом классе бросил заниматься и полностью перешел на конкретных телок.
— Ну так и что?
— А то, что браки надо заключать тогда, когда это выгодно…
— Ну?
— Вот и ну! Ирка — баба что надо, ты ж видел.
— Ну.
— Но меня не это берет. У меня, ты ж знаешь, телок в Ленинграде — миллион и еще больше. Ирка как жена — перспективная.
— Ну.
— А и то — папаша у нее, сам понимаешь — в министерстве не последний человек, квартира у них, ты бы видел! И потом — это ж Москва…
— А че, Ленинград наш хуже, что ли?
— Дурак ты Витек, конечно хуже.
— А мне наоборот, Москва не нравится.
— Просто ты ее не знаешь. Судишь о ней с точки зрения проезжего транзитного пассажира, которому надо с Белорусского вокзала на Казанский. В руках у него чемодан тяжелый, да надо до поезда еще подарок жене в ГУМе купить. Вот он ее — Москву и не любит — его тут все толкают, как куда пройти — не говорят, он устал, ему полежать хочется и вообще — город этот для него чужой. Вот он по приезде в свои Большие Говнищи и рассказывает родне — какой плохой и неуютный это город — Москва. А ты поживи в ней, как в родном городе!
— Нет, Серега, ты не патриот.
— Да, я не патриот. Я хочу в Москву.
— И поэтому на Ирочке женишься?
— И поэтому тоже.
— Ну и что, она согласна?
— Я думаю, будет согласна.
— А-а-а! Так ты еще ей не предлагал?
— Дурак, она в меня втрескалась, я тебе говорю!
— То что ты с ней спал? Так у нее тут до тебя, и одновременно с тобой может сто таких как ты, да еще и покруче.
— Нет. Нет, Витек, я в бабах понимаю. Я вижу, когда они контроль теряют.
— А сам?
— Ну, она мне в кайф. Классная телка, ты ж видел!
— Ну видел.
— И грамотная в этом деле — я тебе доложу!
— Это для женитьбы опасно.
— Почему?
— Жена должна иметь пониженную сексуальность, чтобы любовников не было.
— И чтобы муж страдал от ее фригидности и бегал за другими бабами! Я думаю, если уж жениться, то чтобы в постели с женой — было лучше чем со всеми остальными телками!
— А если у тебя стоять перестанет?.. Ну хоть временно? Ну заболеешь?
— Знаешь, в одном французском анекдоте Жан говорит Пьеру: «лучше есть торт с друзьями, чем дерьмо в одиночку»
— Ну, ты даешь! А я б никогда не смог простить своей жене, если б она мне изменила.
— А как у тебя с Олечкой?
— Спали мы или нет?
— Да.
— Нет, не спали. Она девочка еще.
— Ты уверен?
— На все сто. Она мне сказала.
— Ха-ха! И ты поверил.
— Ей — поверил. А твоей Ирочке, кабы она мне такое заявила — не поверил бы…
— Ну и дурак!
— Ну-ну…
За окном грозно сверкнуло и через несколько мгновений как будто кто то со страшным треском разорвал это Московское небо, словно женщина с треском рвет на тряпки старую простыню. Колыхнулись занавеси, и в комнату дыхнуло первым предгрозовым дуновеньем.
— Someone told me long ago
There s a calm before a storm
I know!
It being coming for sometimes
Витя тоже изобразил, будто держит в руках гитару, и подтянул за Сергеем во всю глотку:
— I wanna know
Have you ever seen the rain!
I wanna know
Have you ever seen the rain?
Comin here someday…
Одновременно с первыми каплями дождя, тяжело ударившими по жести за окном, в комнату ввалился Ваня.
— Ну там, ребя, и погода!
— Джон! Ты как всегда так кстати…
— А что, вы пьете?
— Нет, Серега про женитьбу рассказывает.
— Про чью?
— Про твою. Ты же на Маринке женишься, как честный человек?
— А что, я обязан это с вами обсуждать?
— А с кем еще ты вообще можешь это обсуждать кроме нас?
— А это надо обсуждать?
— Во все времена у друзей было принято делиться.
— Ну не всем же!
— Когда она тебе станет женой, поверь, никого не будет интересовать, как там у вас, но пока ты наш друг, нам интересно.
— Пока у нас все хорошо.
— Как это, нам не понятно! Вот у Сереги с Ирочкой — по его словам все на мази. И он уже даже решил почти что жениться. А как у тебя с Маринкой?
— Она очень хорошая.
— Ну ты даешь! Кто ж сомневается?
— Я влюбился, ребята. Не знаю че и делать.
— Женись, дурак!
За окном не на шутку блеснуло с почти одновременным раздирающим душу грохотом
— I wanna know
Have you ever seen the rain!
I wanna know
Have you ever seen the rain?
Comin here someday…
Грянули ребята в три глотки разом.
………………………………………………………………………….
Знаете, что такое настоящая любовь? Это когда в отношениях нет эксплуатации.
Не понимаете? Это когда никто не использует другого для какой то цели, пусть даже вполне благородной и социально оправданной. Например, для воспитания детей. Семья, построенная на обязанностях может существовать. Таких семей — миллионы. Их поддерживает государство системой законов и прочей системой социальных институтов. Но такая семья, если в ней нет любви — это плод эксплуатации. И не даром, обществоведы называют ее ячейкой общества и первоосновой государства. В такой семье есть все элементы государственной эксплуатации. Там есть и свои суды, и своя полиция, и своя тюрьма. Вспомним, разве теща на кухне — это не суд? А тесть с зятем — это ли не полиция? Впрочем, и сама жена может порою выполнять все силовые функции принуждения. И цели, преследуемые ею всегда найдут самое большое сочувствие у окружающих — как же! Ведь она хочет сохранить семью. Она хочет, чтобы у детей был отец.
Но настоящая любовь — может быть только свободной. Свободной от всякой эксплуатации. Любовь, это такие взаимоотношения, когда радость только дарят, не требуя взамен ничего. Любовь не предполагает бартерных отношений, вроде некого товарообмена: я делаю хорошо тебе, чтобы ты делал хорошо мне. Такие отношения называются сговором, но не любовью. Любовь — это дарение себя и своих богатств другому безо всяких обязательств с противоположной стороны. И когда любовь взаимна — это истинное счастье. Такая любовь — это Дар Божий.
Впрочем, что я говорю! Умение любить — дарить себя не получая ничего взамен, это счастье, даже тогда, когда чувства не разделены… Это может трудно так сразу понять, не испытав. Но главное, я хочу, чтобы вы поняли: любовь не терпит никакой эксплуатации. Как только кто — то начинает говорить об обязанностях — это уже не любовь. Впрочем, эксплуатация может носить и скрытый характер. Вот он, например, пользуется ее любовью, понуждая ее рисковать ее общественным статусом, или она, удовлетворяет свои сексуальные прихоти, не считаясь с его нравственными или религиозными убеждениями… Это — эксплуатация. Вы понимаете?
Я несчастный человек. Я несчастен от того, что любим самым чистым и бескорыстным существом на всем этом свете. Но я эксплуатирую ее чувство. Я потребительски пользуюсь им. Так, как моя жена потребительски пользуется мною. И что интересно, моя жена совершенно уверена, что любит меня. Искренне заблуждаясь, и принимая выполнение социальных функций за любовь… Вы не понимаете? Ну ладно.
Моя жена ходит ко мне в институт к руководству и говорит: верните моим детям отца, а мне мужа. Детям нужен отец, а государству нужен работник, у которого хорошая и крепкая полноценная семья… И местком, поддерживаемый всею общественностью, ищет рычаги… И находит их. Например, задерживают публикацию моей книги, пропуская вперед какого то другого автора. Или, не пускают меня на Конгресс в Италию… Как же меня можно пускать за границу, если я морально не устойчив? Я поди, и Родину так смогу предать!
А жена моя, добросовестно заблуждаясь, относительно истинности любви, полагает, будто насилуя меня, она меня любит.
Но ведь и я тот еще фрукт! То существо, что любит меня совершенно бескорыстно — я не имею силы сделать счастливым. Я не могу найти в себе сил уйти от жены, потому что тогда на моей научной карьере сейчас можно будет поставить крест… Но и бросить это высшее небесное существо — бросить его, прекратить наши встречи, я тоже не в силах. И это эксплуатация. Я упрекаю мою жену в том, что она эксплуатирует меня, а сам… А сам, позорно урываю минуты счастья для себя, не в силах сделать то существо счастливым…
Иван с Марикой уже три часа ехали в поезде Москва-Ленинград и слушали этого пожилого пьяненького мужчину, разоткровенничавшегося с ними толи от выпитого коньяку, толи от того, что в Ленинграде ему с вокзала придется идти совсем не в тот дом, в который ему бы хотелось.
— Смешной он, правда?
— Смешной… и жалкий какой то…
А за окном справа налево бежала августовская ночь.
Благословенна летняя тишина старых московских квартир.
Как удивителен этот контраст — контраст удушливой асфальтовой жары с недвижимой прохладой больших высоких потолков. Контраст — неистовой суеты городского полдня с величественным покоем просторной прихожей и мудрым мраком длинного и темного коридора. Этот контраст шума тысяч моторов и тысяч шин по Садовому кольцу с такой завораживающей тишиной и покоем спальни. Этот контраст запаха горячей резины, перегретых тел, болгарского табака с той тонкой смесью запаха старых книг и картин в гостиной и кабинете, контраст бензинового духа с полувековым амбре добротной московской еды, что въелся в стены просторной и старомодной кухни. Этот контраст рациональности линий разноцветных, несущихся по улице авто с вечной иррациональностью фарфоровых безделушек.
Однако, ленинградские квартиры совсем непохожи на московские.
Эти вечные перевязанные бечевой пыльные стопки старых книжек. Они приговорены к сожжению… Или к переработке в утиль…Но исполнение приговора пока отложено… И никто уже никогда не будет их читать. Придут пионеры. Позвонят в квартиру, — макулатура есть? И засуетившаяся бабуля возьмет, да и отдаст эти книжки — берите ребята, все равно от них только пыль одна…
А эти застывшие в неестественной выгнутости рассохшиеся лыжи — свидетельство насилия над детками, которых так же гнут и выгибают в школе и дома, делая из них людей… как из прямых и ровных досочек выгнули эти снегокаты, да бросили потом на антресоль…
Было субботнее утро, и мама была дома. Она уже встала, но еще не причесывалась и вообще не выходила из комнаты в общую кухню или в коридор. В стареньком фланелевом халате, надетом поверх ночной сорочки, она смотрела по телевизору какую то ерунду и думала о сыне…
— Привет, ма! Это вот Марина, она в Институт культуры поступает. Мы на выходные из Москвы Ленинград посмотреть, а завтра вечером назад, у нас и билеты уже есть.
— Как же… Как же так? А тебя не выгнали с практики то? Что же вы приехали, не предупредили?
— Да мы сами решили только вчера. Я аванс получил — пошли, купили билеты и приехали. Петродворец посмотреть, Эрмитаж, и обратно.
Мать чувствовала себя совершенно растерянной. Эта девочка… А в комнатах совсем не убрано, и сама она…
— Ах, Ванька, Ванька, предупреждать надо, что же я? Как я вас принимаю?
— Вы извините нас, Людмила Александровна…
— Да что там! Я ведь рада.
— Ваня, а кто эта девочка? — полу — шепотом спросила мать, буквально вытащив сына из комнаты в коридор.
— Ма! Ну это девочка, хорошая знакомая из Москвы.
— Ваня!
— Ма!
…………………………………………………………………
Петергоф пленил.
День выдался солнечный, но ветреный.
В электричке, которые с Балтийского вокзала уходили на Петродворец почти каждые пол-часа, мест для сидения не менее не оказалось. Они стояли в тамбуре. Ваня курил. А когда сигарета сгорала, он пытался лезть к ней целоваться.
А ей так хотелось увидеть это чудо!
И чудо превзошло все ее ожидания.
Ну что фотографии? У учительницы по литературе был цветной альбом Пригороды Ленинграда. И они смотрели этот альбом всем классом тогда, в седьмом или даже в восьмом, когда Алевтина Андреевна приехала из отпуска. И они даже сочинение писали на тему, «Почему я хочу поехать в Ленинград».
Но фотографии, пускай даже и цветные — ничего не передают.
Разве можно передать этот морской простор, который открывается с лестницы Большого каскада? А балтийский ветер и брызги на губах? А такое неповторимое единение цвета золота куполов и синего ветреного неба?
Она ходила по аллеям нижнего парка, как во сне, улыбаясь и пытаясь схватить глазами и запомнить как можно больше этой красоты.
И только Ванечка… Мешал ей, подлезая со своими поцелуями.
— Ну, Маринка… Ну, Маринка…
Он тянул ее назад — домой в Ленинград, зная, что мать на весь вечер ушла к подруге на юбилей. В нем пульсировало нетерпение. Он рассчитывал именно на этот вечер.
— Маринк, ну поехали, а?
А она так хотела напиться допьяна этим ветреным днем, этим свежим балтийским порывом, бросающим в лицо мелочь искристой влаги из Самсоновой струи. Ну куда? Куда и зачем уезжать, покуда на это можно смотреть и смотреть!
За три недели знакомства она уже привыкла к тому, что Ваня туговато расстается с деньгами. Но это совсем не раздражало ее.
— Давай, пообедаем в ресторане!
Ваня явно испугался…
— Зачем в ресторане? Давай поедем домой, шампанского возьмем, музыку послушаем…
Но ей хотелось устроить праздник. Ну нельзя, нельзя уехать от этой красоты просто так!
— Ванька, да я тебя угощаю… Не стесняйся…
И в его глазах она вдруг разглядела блеснувший там страх. И она все поняла. Она поняла, что и он понял. Не пара они.
Не пара он ей.
В уютном подвальчике, стилизованном под крепостной каземат Петровских времен, они сели. И принялись молча смотреть друг на друга. Она улыбалась, не скрывая своего счастья — она видела Петергоф, и она восторженно переживает эту сбывшуюся мечту.
А Ваня грустил. Он грустил по тем потерянным минутам, что они могли бы провести дома, у него в комнате, когда мама ушла к подруге на весь вечер…
Официант принес шампанское.
Какую то нехитрую ресторанную закуску.
Они выпили.
Шампанское было очень сухим и сильно щипало губы и язык.
— За нас, — сказал Ваня, вложив в слова и во взгляд всю свою тоску.
— За встречу с Петродворцом, — ответила Марина и улыбнулась.
В электричке он снова лез целоваться.
А дома.
Она давно все поняла, и готовилась к объяснению,
— Не надо, Ваня. Я не люблю тебя. А без любви я не могу и никогда не смогу. У меня был любимый. Я и сейчас его люблю. Он в Ростове. Поступает на Юридический. А тебя я не люблю. И не надо, Ваня. Не надо так страдать.
Лицо его в искусственном полумраке плотно зашторенной комнатки выглядело по — рембрантовски трагичным.
— Маринка, я так…
Ваня сглотнул, преодолевая спазм в горле.
— Ваня, я тебе сказала всю правду. Я, может виновата перед тобой, что ходила с тобой почти месяц, дружила… и целовалась даже… Но это не любовь. Ты должен понимать.
Глаза у Вани были как у собаки Вильяма Шекспира, когда тот увлеченно писал своего Короля Лир… Если только у Шекспира была тогда собака… Но если была — то у нее были именно такие глаза, как были теперь у Вани — такие же полные грусти, и даже отчаяния… Хозяин меня приручил, а что бы приласкать — так нет!
— Марина! Я так тебя…
И он сделал — таки неверное движение, протянув руку, попытавшись дотронуться до нее.
— Нет. Нет, Ваня, нет! Я люблю другого.
— А он тебя?
— А он… А он не любит.
Ваня как бы ухватился за соломинку,
— Ну, так почему ты не хочешь полюбить меня?
— А потому что моя любовь это часть меня. Это даже не он сам, а я сама. И моя любовь от него теперь даже не зависит. Понимаешь?
Она видела, что он не просто НЕ понимает, но и не хочет ничего понимать. Он просто в недоумении и сильно разочарован, страдая от несбывшихся надежд на счастье.
— Я его люблю. Но он здесь даже и не при чем… Тебе это странным покажется. Но я так ощущаю, что любовь эта — мое сокровенное. Она как раскрывшийся во мне цветок. И этот цветок — он мой. И даже не его, не Мишкин…
Ваня вздрогнул.
— Его Миша зовут?
— Да. Но это не важно.
А потом они ехали обратно в Москву.
Всю почти дорогу молчали.
Маринка хотела сказать Ване, что он глупо себя ведет, но по-взрослому вдруг поняла, что он просто не в состоянии ее понять, что просто он еще маленький, глупый и очень эгоистичный.
Да, он жалел себя. И жалел тех денег, что потратил на нее за весь этот месяц… И что теперь ему не хватит на музыкальный центр.
И к своему несчастью он никогда и не смог уже понять, что СЧАСТЬЕМ — был уже только сам тот факт, что Марина целый месяц была рядом…
А потом наступил сентябрь. И Марина осталась в Москве…
А Ваня уехал в Ленинград.
…………………………………………………………………………………………..
3.
Но учиться на хореографа она не стала… В конце сентября, в общежитии ее нашел Дима Заманский. У него дела были какие то в Москве.
Пригласил в ресторан. В очень красивый и вкусный. Дима как узнал, на какое отделение она поступила, так и зашелся от возмущения — чуть не подавился.
— Только на экономический факультет! На бухучет… И не будь дурочкой!
Поверила. Убедил.
И на следующий день Дима сам бегал с ее документами из деканата в ректорат и обратно, в деканат, но другого уже факультета.
Сперва тоска брала — девчонки в класс идут, танцами заниматься, а у нее лекции по теории математической статистики или практика по программированию. Думала, дура — послушалась Димку, всю жизнь себе загубила… Но дела на дворе, действительно, такие начались, что на бухгалтеров спрос стал, как на хлеб в голодный год. У них даже некоторые старшекурсницы, и те без отрыва от учебы — принялись вести бухгалтерию каким-то кооперативам и мелким фирмочкам.
Димка приезжал в Москву где то раз в два месяца, и всегда водил ее в ресторан. Каждый раз — в новый. Потом отвозил на такси, но подняться к ней не просился. А она не предлагала.
Жила она теперь в Химках, в квартире, снятой пополам с другой девочкой из Калинина.
В институтском общежитии, где она сперва, по неопытности своей попыталась было устроиться, жить было просто опасно. Ночами в комнаты вламывались какие то азербайджанцы и грузины, ругались, оскорбляли, угрожали. Проституция и наркотики — здесь откровенно цвели, как маков цвет, и приживались в общежитии только те девчонки, кому не дороги были — ни честь, ни здоровье.
Товаркой по квартире оказалась очень тихонькая девочка — Юля. Училась она в медицинском на стоматолога. Была она некрасивой и немодной, мальчики ей не звонили, и каждые две недели она уезжала на уикенд. К папе с мамой в Великие Луки.
Зато Маринке парни звонили с утра и до ночи.
А иногда звонил Аркадий Борисович. Доцент Савицкий.
Вообще, кафедра философии, где работал Аркадий Борисович, относилась не к их экономическому факультету, и пути- дорожки их с Мариной совпали лишь на непродолжительной дистанции краткого курса логики во время весеннего семестра. Курс был действительно кратким — по два часа лекций через неделю, и по два часа семинаров в две недели раз. И то и другое в их группе вел Савицкий. И непрофильность предмета казалось бы определяла его чисто формальную необходимость — с вытекающей из нее неизбежностью легкого зачета… Однако, если для всей группы зачет и вправду носил характер соблюдения лишь внешних приличий: пришел с зачеткой — ушел с зачетом, но для Маринки кажущаяся формальность приобрела характер некой непреодолимой и досадной загвоздки.
Савицкий четыре раза заставлял Марину приходить к нему на кафедру, вынудил переписать у подруг полный конспект его лекций, и уже навис было над ней общий недопуск к экзаменам, но вдруг препод сжалился, но поставил при этом тайное условие, что она согласится съездить с ним на машине в Клин — в дом — музей композитора Чайковского.
Машина у Савицкого оказалась такой же необычной, как и он сам. Это была «Победа» бежевого цвета, выпукло — неуклюжее автомобильное творение в стиле глубокого ретро. Машина, оказывается, некогда принадлежала еще дедушке самого Аркадия Борисовича — крупному ученому и чуть ли не академику каких то наук. Получалось, что три поколения Савицких охмуряли барышень, катая их на этом много повидавшем автомобиле.
Машина была забавная. Маринка сперва испытала некоторое замешательство, когда на кольце автобуса позади метро «Сокол», где они условились встретиться, Аркадий предложил ей сесть именно в такое…
Но потом, когда переборов сомнения, она уселась рядом с водителем, чувство разочарования и неуверенности сменилось ощущением некого озорства. Некой веселой забавы.
Вообще, сидеть на диване… Именно на диване, а не на сиденье — было необычайно удобно и приятно. Несколько непривычным был плохой, по сравнению с «жигулями» обзор, но машина ехала хоть и медленно, но очень и очень мягко.
— Представляете, Марина, этой машине сорок лет, и она еще сорок лет прослужит, и моим внукам перейдет…
— У вас есть внуки?
— Мари-и-и-на! Вы обижаете.
— А что?
— Я о том, что машины раньше делали гораздо добротнее, впрочем как и все остальное, включая и человеческий материал…
— Но что касается женщин, вы, я вижу, предпочитаете новоделы, а не старину.
— Мариночка, а вы язвочка!
— Характер папин — он у меня гаишник.
— Ах, вон оно что! А знаете, я на такой машине — гаишников не боюсь. Они ретро не останавливают.
— Потому что она больше шестидесяти не разгоняется.
— Напрасно вы так, мотор у нее, хоть и свой еще тот родной, но «сто двадцать» она по шоссе вполне идет.
— А какой у нее «прием»?
— А?
— Ну, за сколько минут, или часов она у вас до этих ста двадцати разгоняться будет?
— А-а-а! Чувствуется кровь гаишника в дочке! Все про машины и про моторы…
— Наслушалась за семнадцать то лет.
— А знаете, раньше, когда машин не было, как столько, и когда во всем Дегтярном переулке, где мы с дедушкой жили, было лишь две машины — вот эта «Победа», да «Победа» какого то генерала из Генштаба, нас — деток и внучков первых автовладельцев так и дразнили: «папина победа»… И, представьте, в фельетонах про стиляг, что регулярно печатались в «Крокодиле», нас именно так и называли.
— Стиляги — это вроде панков что-ли?
— Ну, что вы! Это были первые неформалы, но в отличие от всей этой шпаны из области, что толпится нынче в подземных переходах, стиляги были в основном из очень интеллигентных семей.
— Вы были стилягой?
— Я? Что вы! Неужели вы думаете, что я такой старый?
— А какой вы?
— Марина, с вами трудно.
— И мне с вами тоже, особенно на зачете.
— Ну, кто плохое попомнит, тому глаз вон.
— Так вы не были стилягой?
— Я возрастом не вышел. Но видел их и помню очень хорошо. Дядя мой — младший папин брат — был стилягой. Ходили они по улице Горького в узких черных брючках и толстенных твидовых пиджаках с плечиками, а на голове носили этакий «кок».
— Как у панков — ирокез?
— Нет, что вы! Этакий милый хохолок зачесанный назад, как у Элвиса Пресли и Билла Хейли… Не знаете таких?
— Почему же? У нас на дискотеке Элвиса Пресли рок-н-роллы крутят.
— Вот видите! А вообще, быть стилягой было опасно. И вы представить себе не можете, до какой степени это было опасно, и в какой несвободной мы все жили стране.
— Ну, панков и теперь в милицию загребают, у меня папа — мент.
— Нет. Вы не понимаете, теперь их заберут и отпустят…
— Да! Только, бывает так в отделении надают, что мало не покажется.
— А раньше, милая моя, са-жа-ли. И давали сроки по политическим статьям.
— За что?
— А формально — могли припаять все что угодно. Вот я помню как раз процесс был по делу высокопоставленных стиляг — и вы обратите внимание, из простой молодежи, как бы сказал Ницше — из черни, из любимых Лениным рабочих — стиляг не выходило. Это теперь панки из рабочих… Да и партия тогда чернь держала в кулаке. Стоит появиться у парня красному длинному шарфу, какие бывают у стиляг — паренька сразу на комсомольское собрание, да из института, да в армию! Так что — все стиляги были из генеральских, да це-кашных сынков. «Папина победа»… И вот, было дело стиляг — сынков одного известного композитора, потом какого то сынка зам-министра культуры, да еще пары — тройки иже с ними… И появилась тогда в газете «Комсомольская правда» статья под заголовком «Плесень».
— Забавно!
— Да, только после этой статьи им всем сроки припаяли.
— За что? За брюки узкие и за прически как у Элвиса?
— Им наркотики и спекуляцию валютой приписали.
— А-а-а!
— А в мои времена мы хипповали.
— Это я знаю, теперь тоже хиппи есть.
— Да… Волосы, тяжелый рок, марихуана. Мэйк лав — нот вор!
— Что?
— Делай любовь, но не делай войну.
— И вы делали любовь?
— Ну не войну же я делал!
В конце — концов приехали в Клин — маленький зеленый городок. Сходили в дом-музей. Поглядели на знаменитый рояль, на котором теперь дают поиграть только лауреатам конкурса имени Чайковского.
В ресторан Аркадий не пригласил. Вынул из багажника какой-то пакет с домашней снедью и большой китайский термос, которому похоже было столько же лет, сколько и привезшему их автомобилю. Сидели на скамейке в саду, ели бутерброды, пили чай из пластмассовых стаканчиков.
Марине почему то подумалось, что задний диван в «Победе» гораздо шире и удобней заднего сиденья «жигулей».
Но неизвестно, какие мысли бродили при этом в доцентской голове Савицкого. По дороге назад, за руки он ее не хватал, и предложений двусмысленных не делал. Высадил ее там же, где и подобрал, у метро «Сокол», и пообещал звонить.
— Совсем заколебал своими стилягами старикашка… Эх! Мишка, где же ты, засранец, Мишка… Мишка, Мишка, где твоя улыбка? — повторяла про себя Маринка, засыпая, и почему ты меня, засранец, бросил?
…………………………………………………………………………..
А Мишка… А Мишка проводил это воскресенье куда как веселей!
У одной из девчонок из их группы был День рожденья. У Люды Зарецкой.
Восемнадцать — дата не круглая, но по-юности, вроде как первый в жизни юбилей — совершеннолетие. Люда у папы — одна дочка, а папа у Люды — прокурор города, и поэтому денег на гулянку — родитель не пожалел.
День рожденья отмечали в ресторане «Ростов». И хотя банкет на тридцать человек в зале, рассчитанном на все сто пятьдесят — был для ресторана явно невыгоден, да еще и в ударный для плана субботний день, отказать городскому начальству, директор заведения посчитал — «себе дороже». И пойдя навстречу важному клиенту, ресторан по такому случаю целиком закрыли «на спецобслуживание».
Заведующая производством тоже расстаралась, как для себя, и выкатила на стол чуть ли не полу-годовой запас деликатесов, выписав при этом Людиному папе смехотворный счет, в треть, а то и в четверть от реальной стоимости.
Водки, и вина — было столько, что можно было упоить половину Ростова. И гости — напились. А это были совсем юные гости, пить совершенно не умевшие. И больше всех напился Мишка.
Музыканты, проклиная этот чертов субботник, на котором никакого «карася» не заработаешь, играли, все же исправно, как и если бы за длинный грузинский рубль. Играли, потому что у самоуверенных и высокомерных сосунков из подгулявшей золотой молодежи уже хватило наглости три или даже четыре раза напомнить солисту джаз-банды, что «если те не будут стараться, то завтра на этой эстраде будут играть уже другие»…
И ансамбль играл. «Ай джаст кол ту сэй ай лав ю»… И пьяный Мишка вис на грудастенькой Таньке — не с их юридического, а из Ростовского медицинского. Танька — подруга Зарецкой и Мишка впервые увидал ее здесь — на Дне рожденья. То да се, классная девчонка! Потанцуем — выпьем, выпьем — потанцуем.
— Поедем ко мне!
— К тебе?
— У меня видик, порнушку посмотрим…
— Да я сама порнушка — на меня смотреть надо!
— Да-а-а?
— Да. Только сейчас, я хочу купаться. Ночью купаться. Вези меня на пляж. Есть у тебя машина?
— Найдем
— Тогда поедем на лебердон
— Куда?
— На левый берег Дона. Там классные зоны отдыха!
— Поедем
Мишка хоть и пьяный, а мастерства, как говорят — не пропьешь!
Машину, чью то «копейку», Мишка открыл без особого труда — пилочку для чистки ногтей, взятую у своей такой же нетрезвой подруги, поджидавшей его тут же под детским грибком, просунул под резиновый уплотнитель бокового стекла — прямо над пистолетиком дверного замка. Щелчок, и дверь открылась. Потом под рулевой колонкой нащупал провода, идущие к замку зажигания, и выдернул весь пучок. Ткнул одну клемму, другую… Стартер вдруг с писком закрутился, и мотор схватил…
— Садись, Татьяна, — приоткрыл Мишка правую пассажирскую дверь…
Ехали быстро. Очень быстро. Только мотор ревел на бесконечных перегазовках, так как Мишка боялся заглохнуть без ключа, да Танька восторженно визжала и улюлюкала в свое боковое опущенное окошко, делая «нос» и строя рожи обгоняемым «волгам», «жигулятам» и «москвичам».
Приемника не было, но Мишка был сам вместо приемника — тоже орал в упоении свободой «Ай джаст колл ту сэй ай лов ю… Ту зэ боттом оф май харт…»
Мишка знал классный пляж, куда из-за удаленности от автобусной остановки не ходят простые ростовчане, но куда любят приезжать на машинах так называемые «крутые». Загонят в посадки свою колымагу, и накупавшись, милуются потом со своими кралями на задних сиденьях… И никакой милиции.
— А у меня купальника нет…
— Ну и законно! Я тоже буду без трусов.
— Фу, дурак!
— А че?
Выруливая на шоссе, Мишка прижал педаль до полика…
— Ай джаст колл ту сэй ай лов ю…
— Ой, что это было?
Глухой удар по тонкой жести жигулевского кузова, руль дернулся в Мишкиных руках…
— А-а-ат — черт! Зацепил что то…
— Может остановиться надо?
— Нет, ты че? На чужой машине?
— А что это было?
— Да не переживай, пенек какой-то зацепили…
— Пенек на дороге?
— Забудь… Ща купаться будем
В прибрежных кустах, куда лихо буксуя по песку, зарулил Мишка, помимо их угнанной «копейки», стояло еще две машины. Туфли скинули едва выйдя на пляж, и хрусткая солома прибрежного камыша приятно заколола непривычные изнеженные городом ступни…
У воды Танька стянула через голову платье, и ничем не прикрытые белые груди ее пружинно и дразняще заколыхались — бесстыдным маяком привлекая и возбуждая все мужское начало до поры скрывавшееся в уже густом сумраке, охватившем полуночный пляж.
— Эй — эй — эй, красотка! — донеслись из камыша, где стояли машины, чьи то пьяные крики.
Мишка увидал трех парней, что теперь определенно направлялись к ним с Танькой, размахивая руками и выкрикивая что — то бодрое и оскорбительное…
— С такими титьками только к нам, девушка, только к нам…
— Ка-а-ак люблю я ва-а-ас, ка-а-ак боюсь я ва-а-ас…
— Давай, греби к нам, милая, мы не обидим…
Мишка встал было в позу ширмы, расставив руки, загородил свою нагую даму от надвигающейся компании, но бескомпромиссный удар в челюсть, теперь уже можно было расценивать совершенно однозначно, как прелюдию неких определенных намерений, которые ОНИ имели относительно Мишки и Таньки. Вернее одной только Таньки…
— Катись отсюда, сопляк…
— Ка-а-а-акие сиськи! А ты не прячься. Не прячься, кра-а-са-а-авица!
Сглатывая соленую кровь, Мишка только отчетливо вспомнил вдруг, что когда открывал еще ту угнанную им «копейку» под ногами — под сиденьем водительским, видел широкую и длинную монтажку…
Он бегом, бегом, спотыкаясь и падая, путаясь в так некстати сползавших костюмных брюках, добежал до машины… Хвать! Вот она — монтажка… Меч Нибилунгов в руке Зигфрида…. И вот, он бежит назад, бежит туда, где на песке уже затеялась какая то возня в партере.
Хрясь одному по горбатой голой спине, хрясь по подставленной блоком руке…
И вдруг, такое пронизывающе — жаркое в боку… И ноги… И ноги мгновенно подкосились…
— Валим, валим, ребя!
— Порезал я его, валим теперь…
Мишка уже не слышал, как ЭТИ заводили свои «тачки», и как буксуя по песку на форсаже непрогретых моторов удирали с пляжа. Он слышал только шепот звезд, склонившихся над ним — прощальным кортежем выстраивавших его душе небесный коридор.
…………………………………………………………………………………………..
— Хорошо, что эта — девчушка его не бросила, а то бы никакая реанимация не спасла.
— Да, это она на дороге автобус остановила, а там уже потом «скорую» вызвали.
— А что с угоном этим?
Сколько деликатных и неделикатных персональных дел доводилось разбирать Константину Григорьевичу за годы работы в горкоме. И скольких солидных мужиков повидал он в своем кабинете, которых прошибала самая натуральная бабская слеза, когда дело касалось детей, угодивших, в ту или иную житейскую хреновину. И разве мог он предположить, что вот так предательски будет дрожать у него губа, когда он будет спрашивать про своего — «а что с его уголовным делом»… Большие детки — большие бедки — так баба Клава — покойница говорила.
— Так что же с делом?
— Понимаешь, если бы там был простой угон — не было бы никаких лишних вопросов…
Вот! А ведь было время, когда Петя Маховецкий и не смел его — Константина Григорьевича так запросто — «на ты». Как все меняется! Сик транзит глория мунди… Партия теперь не в моде — все эти, было заискивавшие перед ним городские начальники — в один момент партбилеты посдавали. А некоторые еще и выкобенивались при этом- мол верните партвзносы за два последних года! И сам Константин Григорьевич — девальвировал во власти, но и Петя… Петр Тимофеевич — гляди как вырос — из замов городского ОБХСС — в начальники городского управления… Растут люди.
— Не простой там угон оказался. Гаишники утверждают, что дэ-тэ-пэ на этой машине в этот день было совершено. Наезд на пешехода… С телесными средней тяжести и потерей здоровья. А это все сильно усложняет.
— А что девчонка эта?
— Свидетельница? Сама путается, показания меняет все время. На нее нажми — она чего хош подпишет. Дело такое — скользкое, она по идее то — соучастница.
— Короче, можешь помочь?
Петр Тимофеевич взглянул Константину Григорьевичу прямо в глаза и сказал, -
— Трудно это будет, Константин, было бы это у нас в городе — сам понимаешь, в момент бы все уладили…
— Но есть же у тебя связи в конце — концов. Все — таки начальник городского управления — не хрен собачий!
— Так то оно так, да Ростов — это область, хоть и соседская, да не наша…
— Ты не крути, можешь помочь, или нет? Если деньги понадобятся…
— Пока без денег обойдемся. Будем пробовать то, что можем.
— И главное — чтоб парня с факультета не отчислили, ты же сам юрист — понимаешь, как важно ему биографию чистую иметь.
— Все понимаю, Константин Григорьевич, все понимаю. Женить тебе твоего Мишку надо, чтоб остепенился… Тогда и не попал бы в такую историю — гулянка, пьянка, угон, драка…
— Да не время сейчас об этом, Петро!
— Да как не время? Об этом — всегда время… Вон у меня — Галка — чем не невеста? Може породнимся, а, Константин Григорьевич?
— Ты серьезно?
— А что? Али мы вам не хороши теперь?
Кровь было бросилась Константину Григорьевичу в лицо.
— Ты и правда, вижу — серьезно…
— А что, Мишке твоему самая верная и заботливая жинка будет. Я ж знаю, как она по нему сохнет! А что не красавица — так и ему спокойней будет. Красивая, как у нас старики говорят — это для чужого дядьки жена, а для себя — важно, чтоб любила.
— Думаешь, он меня послушает?
Константин Григорьевич еще надеялся как то уклониться от навязываемой ему унизительной сделки. Но судьба — такая штука — как вцепится мертвой хваткой — уже не отпустит.
— Послушает… Обязательно послушает. Он же с Маринкой Кравченко тебя послушал, а тут и подавно послушает…
— И все то ты знаешь, Петро!
— Работа такая, кум ты мой, дорогой! Работа такая… И все знать — и выручать, когда надо.
Эх, и хороши же эти южные свадьбы! Может там — где то на Севере России, они тоже хороши, но здесь — на Ставрополье, для молодоженов просто рай.
Столы накрыты в саду. А на столах — само природное изобилие. Какие краски! Разве так красны какие-нибудь там северные, выращенные в парниках помидоры, видавшие солнышко разве что только через мутный полиэтилен? Или разве так зелены северные огурцы, лук, петрушка и укроп? Всеми красками даров щедрой природы юга расцвечены столы…равно как и богатством ярлыков коммерческой гастрономии, потому как южане, все же — повеселее будут суровых северян, как это и заложено самой природой.
Как хороша эта свадьба! И, кажется, радуется сам вишневый сад, тому, что та девочка, что последние девятнадцать своих лет росла под этими деревьями — выходит нынче замуж. Ее выносили сюда — под эти вишни, еще запеленатой и с сосочкой-пустышкой в беззубом ротике. И она глядела голубыми круглыми глазками своими в это огромное синее небо, и вишни шелестели в ее изголовье, заботливо загораживая любимое дитя от палящих лучей. И под этими вишнями она прыгала с подружками через прыгалку-скакалку. И под этой вишней, она впервые всплакнула от того, что испугалась, вдруг осознав, что растет некрасивой…
Невесту наряжали, как встарь — загодя, при многочисленных любопытствующих свидетелях — родне из женской ее половины, подружек детства, соседок…
— Эх, Галю, Галю молодую отдава-а-а-а-ли,
Затянула столетняя бабка Люда, которую тоже привели подивиться на редкое явление
— Да за удалого казака-а-а-а -
На голоса подхватили соседки…
— Монисту то, монисту надень…
— Баба, какую еще монисту? Придумаете еще! Теперь их никто и не носит.
Готовое платье на Галкину фигуру было трудно подобрать. Ни Ростовские, ни Ставропольские вояжи по магазинам ничего не дали — Галка уж было в рев, но всемогущий папка — милиционер, все же и здесь оказался настоящим казаком — достал — таки дочке то, что требовалось. Из Минвод, чуть ли не в автозаке, привезли какого то московского кутюрье, у которого на курорте кстати или некстати случилась серьезная неприятность с наркотиками. И в три дня и в три ночи, словно в сказке какой — Галка расцвела, стараниями столичного портного — превратившись из царевны-лягушки в Марью-царевну.
После городского Дворца бракосочетаний, молодых повезли в церковь.
Мишка с утра все-таки хватил граммов сто-пятьдесят, да на вчерашние дрожжи.
И в церкви, когда стали водить молодых вокруг аналоя, начал вдруг громко-громко икать…Ик! Ик!
Батюшка — отец Борис поет — старается «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа…», а Мишка — Ик! Ик!
И Леха Быстряков, что был шафером, так от этого Мишкиного икания расхихикался, что чуть было венец не уронил, да Иринка Машная, что держала второй венец над головкой невесты, тихо двинула локотком Лехе под ребро…
Гуляли широко.
Как и полагается. Петр Тимофеевич на эту свадьбу денег не пожалел.
Молодым — подарок. Новенькая «волга», да не простая, а с английским мотором фирмы «ровер» — что в два раза мощнее обычного…
— А жить, а жить то где будут?
— Петро не дурак! Разве он оставит Мишку без присмотра? Ясное дело — при себе держать молодых будет. Пол-дома им отвел, с отдельным входом, но при себе.
— Да ведь, все равно — учатся пока, Мишка в Ростове, а Галка в Ставрополе.
— Галка теперь, наверное, родить сразу будет.
— Почему?
— А чтоб казака при себе удержать.
— Да с таким батей — удержит.
— А ведь как он за Маринкой Кравченко бегал!
— Не позвали ее то на свадьбу?
— А и не приехала бы, коли бы и позвали!
Да, Марина бы не приехала.
О неожиданной женитьбе Мишки она узнала из письма своей подруги — Наташи Гринько.
Прочитала.
Вспыхнула щеками, словно роза и оцепенела, прижав к груди крепко сжатые кулачки.
— Мишка. Мишка, гад! Предатель. Как же та-а-ак? Как же та-а-ак? А как же я?
И боль, похожая на ту, что давила и мучила ее в тот выпускной вечер, также завалила и сковала ее нежное девичье сердечко.
Бросилась набирать междугородку. Было все время занято. Гудки, гудки, гудки…
Разревелась.
И час пролежала ничком на своей постели. Постели полной грез о счастье. О счастье с Мишкой.
— Кто? Кто ломает правильный ход природы? Тот правильный ход природы, по которому любящие детские сердца должны быть обязательно вместе?
Таким вопросом задавался Дима Заманский, когда узнал о Мишкиной свадьбе.
— Взрослые дяди ломают судьбы своих детей… А взрослых — ломают жизненные обстоятельства.
А сама Марина тот субботний день провела с Аркадием Борисовичем Савицким.
Аркадий Борисович был холост. Жил он вместе с совсем уже старенькой мамой в трехкомнатной «сталинке» на Комсомольском проспекте — рядом с метро «Парк культуры». Там же во дворе был у него и гараж, где стояла знаменитая дедушкина «Победа». А еще была у Аркадия Борисовича дача. Километрах в сорока от Москвы по Минскому шоссе. На самом берегу чарующе — прозрачной речки Десны.
Там то и сомлела Маринкина душа.
У них на юге нет таких красивых речек… Леса такого нет. Так, разве что — лесополоса. Но ведь это — совсем не то. А тут, с одной стороны березовая роща почти вплотную приступила к крутому бережку. И Десна, еще в трехстах шагах выше по течению — такая веселая в просматриваемом до песчаного дна быстром беге ласковой воды, за плавным изгибом, вдруг углублялась в задумчивости, окаймленная березами, украшенная белыми лилиями и пронзительно желтыми кувшинками по темной таинственной глади.
Маринка купалась, а Аркадий Борисович в классической для дачников соломенной шляпе прям из довоенного черно-белого кино, майке и холщовых штанах с сандалиями на босу ногу — ревниво наблюдал за ней. За такой пронзительно гибкой в своем торжестве природы прекрасной юности. Наблюдал и думал про то, что может еще и не все в его жизни кончилось, и отвесит ему судьба еще счастливых дней…
А Маринка купалась — отводила душу.
Она вытаскивала покорного Аркадия Борисовича на моцион вела его вдоль реки, и гордо входила в теплую прозрачную воду там, где расположился большой пляж, где купалась местная дачная молодежь и заезжие — на машинах — москвичи. Она шла в воду, провожаемая оценивающими взглядами мужчин, с их присвистываниями и прицокиваниями — «вот эт-то да, ай да хороша, девица»… Она выходила из воды, и подхватив с травы свое платьице, шла по бережку — к березовой рощице. И там… И там, молча посидев на траве, снова входила в воду, плавала между листьями кувшинок, испытывая какой то таинственный восторг от неожиданных прикосновений невидимых водорослей или таинственных рыб к ее бедрам и животу.
А вечером они шли гулять по поселку.
И такими странным и неестественными показались ей вдруг их с Савицким отношения. Вот у чьей то калитки собралась кучка местной молодежи. У одного транзисторный магнитофончик. У другого парня — гитара. Девчоночий смех… И мальчишки оценивающими взглядами провожают ее — Маринку. А она идет с этим пожилым пятидесятилетним дачником… И он говорит что то интересное. Про звездный свет. Про Эммануила Канта. Про генезис интереса интеллигенции к научной фантастике…
Мальчишки возле калитки, что с гитарой, на такие умные речи, конечно не способны. Им бы все хихоньки да хахоньки. Но Маринке вдруг отчаянно захотелось вернуться к тем ребятам, которых они с Савицким оставили только что позади… Вернуться и влившись в их компанию, пойти на всю ночь куда-нибудь на бережок. Попеть у костра. Пострелять глазками на юного гитариста. А может и целоваться потом с этим гитаристом семнадцати годов.
А Савицкий? Ведь он не просто так обхаживает ее вот уже почти целый год. Он же хочет с нею спать. Только не говорит в открытую. Ждет, когда она сама на него с поцелуями накинется? А она? Сама она? Чего ж она принимает его ухаживания? Чего ж она не прервет эту дружбу?
Сколько раз уже говорила себе, не поеду больше к нему. Неудобно. Он деньги тратит. Он надежды какие то питает. И от этого растет ее моральный долг.
Что же ты, — скажет он потом, сразу не ушла, а каталась на дачу, пользовалась, отдыхала, пила, ела?
А она — девочка такая наивная — глазками — хлоп-хлоп, — не думала я ничего такого плохого. Думала, вам со мною тоже интересно…
Интересно ему!
Ему интересно не разговаривать со мной, а разглядывать меня, да мечтать.
Так что, мы вроде как и в расчете.
По честному бартеру.
И потом, Маринка все же ловила себя на подленькой такой мыслишке, что… А может и выйти за него?
Дача под Москвой в красивом и престижном месте. Машина старая? Так у него деньги есть — купит и новую. Квартира в центре.
Доцент?
Говорит, что докторская почти готова.
И прописка московская.
И место в аспирантуре потом…
А надо ей это?
А надо ли ей это точно?
И все же так хочется побежать к тем ребятам. Которые с гитарой и магнитофончиком.
Это как в раннем детстве, когда с папой и мамой еще — ходила она в гости к их друзьям где были одни взрослые… А тянуло ее на улицу, где соседские ребята — ее сверстники в казаки-разбойники играли.
Так и с Савицким.
Вот выйду за него… Вдруг выйду за него… Буду ли я ему верной женой?
А сам то он что об этом думает?
Они шли и шли. Савицкий с осторожной робкой деликатностью держал ее под локоток. И все говорил-говорил… Про пьесы Сартра, про романы Камю… И теребил ее локоть.
А Мишка, тот всегда к груди лез напролом…. Мишка.
И этот ведь, поди мечтает тоже.
У мостика через ручей. У узкого такого мостика, опершись на перила стояли пять или шесть пацанов. Не москвичей. Не дачников. Местные — их сразу видно.
Курили.
Савицкий напрягся весь. Она по электричеству его пальцев на ее локотке это почувствовала.
Один из пацанов длинно и витиевато выразился. Матом. Причем с намеком. На их с Савицким отношения.
И ничего…
Савицкий на минуту только замолчал.
А потом, когда они прошли шагов сорок, как ни в чем ни бывало, продолжил про Сартра и Камю.
Нет!
Нет! — подумала Маринка.
Никогда!
Никогда она с ним не будет.
Никогда.
Думала она в тот жаркий субботний день. В тот самый субботний день, когда в полутора тысячах километров южнее — ее любимый готовился к первой брачной ночи. И не с ней. А с нелюбимой девочкой Галей.
………………………………………………………………………………..
— Ах, Москва! Сколько нежных девичьих сердец очерствело здесь — ради тебя, Москва! Ради того, чтобы породниться с тобой — Москва, сколько девочек, нарушая природный порядок — пало в объятия скучных, пропахших валидолом стариков!
Так думал Дима Заманский, накручивая километры на спидометр своего новенького Бэ-Эм-Вэ, гоня машину от Москвы на юг — туда, где у него были дела, где ждал его Султан Довгаев.
— Но, может, это правильный природный путь? Может, девочки и должны принадлежать не сверстникам, едва научившимся курить и пить спиртное, а доставаться тем мужчинам, которые могут составить настоящую партию? Может в этом — правильность природного пути? Но как тогда быть с природой первой любви?
Так думал Дима Заманский, тонкой итальянской подошвой нажимая на легкую педаль газа. И послушный рулю Бэ-Эм-Ве несся по Киевскому шоссе, играючи обгоняя «жигули» всех марок и мастей.
4.
Похороны отца — вся эта страшная неделя — стали для Марины каким то бредом наяву. Она даже не помнила, ложилась ли спать все эти пять последних суток, или нет. Все происходящее оставляло в мозгу только какой то касательный след, словно она смотрела кино на пороге засыпания, словно сквозь дрему слыша все эти бесконечные слова сочувствий и ободрения.
Ах, если бы не поддержка и не помощь соседей и друзей отца, она не знала бы, как и быть! Особенно хлопотали Петр Тимофеевич Маховецкий и Владимир Петрович Корнелюк. Если бы не они…
И Маринка даже как то удивительно спокойно для себя самой принимала участие Петра Тимофеевича, несмотря на то, что тот стал вдруг Мишке тестем… Ее Мишки тесть.
Телеграмма из Новочеркесска уже сутки дожидалась под ее дверью в Химках, когда Маринка в очередной раз вернулась с дачи Аркадия… Аркадия Борисовича. И телефон уже сутки, как трезвонил учащенным междугородним звонком.
Умер папа!
Она не помня себя, бросилась в аэропорт. А там… Боже! Сентябрь — разгар сезона. А ей до Минвод… И телеграмму похоронную впопыхах дома забыла.
И какой-то остряк в очереди крикнул — «чего вы ее пускаете без очереди — врет она, что на похороны, посмотрите, хахель, небось ейный позвонил, приезжай ко мне на курорт»…
……………………………………………………………………………………
«Нет худа без добра, а добра без худа», любил говорить отец. И действительно, пока Маринка боролась за место в самолете, она даже немного отвлеклась от мрачных мыслей. И почувствовала некое подобие радости, когда, наконец, угнездилась в кресле у окна. На самолете Маринка до сегодняшнего дня летала только один раз и у окошка сидела впервые. Не успела она подумать, что ей повезло, как жизнь поставила все на свои места: в кресло рядом с ней приземлился краснолицый мужик лет сорока со взглядом, острым как рыболовный крючок. Перехватывать такие взгляды нельзя, Маринка знала, зацепится. «Этого нам только не хватало…» вздохнула она. В этот момент на табло появился значок с перечеркнутой сигаретой и надпись «Пристегните ремни». Маринка почувствовала, что волнуется, как перед экзаменом. Левый ремень нашла без проблем, а правый никак не вытаскивался из-под грузного соседа. «Разрешите..», — сказала она и не поднимая глаз вырвала, наконец, второй край ремня. Стюардесса задержалась около их ряда и со строгим лицом ждала, пока Маринка справится с непослушным замком. И от этого опять не получалось. «Да вот так, девушка!» — к ней потянулись руки соседа, и замок щелкнул. Маринка сказала «Спасибо» как можно нейтральнее. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. «Я вам, кстати, и расстегнуть могу… если захотите» — многозначительно добавил сосед. Чего-то в этом роде она и ожидала. Поэтому пока решила не отвечать. И закрыла глаза… «Экипаж самолета Ту-144, следующего рейсом 785 по маршруту Москва- Симферополь рад приветствовать вас на своем борту….» Ту 144 вырулил на взлетную полосу, разогнался и, подрагивая от напряжения, стал набирать высоту. И тогда она открыла глаза и увидела, как московские земли стремительно уходят от нее вниз…
«Домой! Как я давно не была дома!» — подумала Маринка и вдруг с ужасом осознала, что такого дома, каким он был раньше, она уже никогда не увидит. И кровать с никелированными шариками, которую отец ставил в саду, теперь будет для нее символом сиротства. А как должно быть одиноко и потеряно чувствуют себя сейчас Серега и Юлька. Ведь ей, Марине, из всех троих детей повезло больше всего. Она уже, считай, взрослая. А младшие остались и без матери, и без отца слишком рано. И есть у них только она, Марина.
Когда умерла мама, отец как будто внезапно проснулся. Почувствовал себя на переднем крае. Взял у матери эстафету. А теперь Маринка думала, что то же самое произошло и со ней. Пить, как отцу, ей бросать не надо. Но жизнь обязательно потребует и от нее жертвоприношений. И она почувствовала, что ее ждут большие перемены и даже неизвестно вернется ли она теперь в Москву. Но ей не было жаль. И сердце ее, и душа ни в какую Москву не переезжали. Они всегда жили в родном доме и в том, что по соседству…
Отец был для нее китом, на котором зиждилась жизнь. Стеной, по которой она могла виться, как дикий виноград. Но про свои дела с Мишкой она так никогда и не решилась ему рассказать. Маме бы рассказала. И может быть даже, так она думала сейчас, если бы мама была жива, все вообще было бы иначе…. Теперь, после года проведенного в Москве, Маринка смотрела на себя вчерашнюю с довольно ощутимой высоты и понимала, увы, понимала что во многом была еще таким ребенком. Как не видела? Почему не предугадала? Она помнила, как однажды она остро почувствовала, что материнской мудрости ей в ее девичьих делах не достает. Мама ее одноклассницы Катьки Немченко, тетя Тамара, Маринку очень любила и всегда выходила к ним на кухню, посидеть втроем. По ее репликам было понятно, что Катька матери все рассказывает. Да Тамара и сама многое видела своим матерым бабьим взглядом. «Все хлопцы будут наши!» — уверенно заверяла тетя Тома, когда Маринка только переступала порог. «Видела я, Мариночка, как Заманский на тебя смотрит. По-особенному. Помянешь мое слово. А то все эти ваши пацаны, сопляки. Да шоб им пусто было…» Кого она имела ввиду? Может и Мишку. Но говорила она это легковесно, с милой украинской беззлобностью. А Маринка все равно как-то стеснялась обсуждать с чужими людьми кто и как на нее посмотрел. Когда она была еще в классе шестом, себе пообещала, что болтать почем зря о таких вещах никогда не будет. Просто, услышала однажды в девчоночьем туалете, где все толпятся и отталкивают друг друга от зеркала, как одна старшеклассница, держа в зубах шпильки и закалывая волосы, ажиатированно сообщала своим подружкам «Он на меня таак смотрел!». Маринке стало за нее ужасно стыдно. Даже мурашки по коже побежали, как от фальшивой ноты. И уши, кажется, покраснели. Была у нее такая редкая способность краснеть за других…
… Самолет подрагивал. И Маринка вдруг головокружительно осознала все то жуткое количество километров, которое отделяло ее от Земли. На мгновение стало по-настоящему страшно. И она подумала, что ни в автобусах, ни в метро, ни в поездах никогда не сообщают пассажирам, как зовут того, кто их везет. А в самолете всегда. Что бы молились за него, что ли? Сосед ее заметил, что она уже не смотрит в окно и тут же оживился. «Что, девушка, одна отдыхать едете?» Маринка подумала: «Ты меня еще спроси, тоже ли я лечу в этом самолете…» Но вслух произнесла сухо: «Нет. Не одна». И отвернулась к окну. Это было самое лучшее. Все остальное породило бы лишние вопросы…
Если бы мама была жива…. Она бы обязательно рассказала ей о том, что ждет ребенка. И если бы нашелся хоть один человек на свете, который сказал бы ей — мы справимся, не губи его, не бери грех на душу, возможно, все было бы иначе. Маринка корила себя за это постоянно. И не было дня когда бы она не думала о том, что убить дитя любви страшнее вдвойне. И смерть отца мгновенно связалась у нее с собственной виной.
Отец любил ее и гордился ею. И ему нравилось, когда ею восхищались другие. Кто как умел — кто словами, кто взглядами. Но только восхищались, как в музее. Отдавать ее он никому, похоже, и не собирался. И Маринка своим женским чутьем угадывала грань, за которую откровенность с отцом могла бы испортить жизнь обоим. Стоило ей лишь заговорить по простоте душевной о предмете всех своих дум, она тут же чувствовала, как у отца все равно, что забрало падает. И Маринка старалась его не огорчать. Она для себя объясняла это довольно просто — ей казалось, что это отцовская ревность. И будь на месте Мишки кто угодно другой, реакция осталась бы той же. Сейчас же Марине казалось, что зря она отцу ничего не говорила. И теперь уже никогда не скажет. А значит, никогда и не узнает, что же он думал на самом деле. И от этой безисходности ей стало горше горького. Ведь смерть страшна не сама по себе, а потому только, что «больше никогда»…
И она опять подумала о Мишке. Потому что слишком часто думала о нем именно так: «Больше никогда». А ведь он жив. И значит, никто не может пока подводить итоги. И значит, еще все возможно. Просто теоретически. Ведь он-то жив…И она вдруг совершенно непозволительно стала представлять себе, что это Мишки нет на свете. Потому что для нее-то как раз он должен был умереть. И когда она это представила, то отчетливо поняла, что к этой потери она не готова, потому что очень многое еще хочет понять. Удивилась как-то отстраненно отсутствию в себе подобающей гордости и презрения к нему. И поняла, что не верит, что он от нее отказался. Просто НЕ ВЕРИТ. Она никогда не признавалась себе даже в мыслях, что он ее предал. Она готова была допустить, что он ее не любит. Но на нелюбовь право имеет каждый. А на предательство — нет. И сердце ее опять отозвалось болью. Ей вдруг стало мучительно стыдно оттого, что к Мишкиной смерти она, значит, не готова, а к отцовской, получается, была готова?
Она попыталась сосредоточиться. И отогнать ненужные сейчас, некчемные мыслишки. Но мысли об отчем доме почему-то не желали просееваться сквозь сито и делиться на достойные и недостойные. Любовь, которой она дышала почти два последних года в родном городе насквозь пропитала все ее воспоминания.
……Стюардесса протягивала ей коробочку с обедом. Она отказалась одним кивком головы. «Отдайте лучше мне, девушка! А то ведь пропадет добро. А мне еще неизвестно когда есть придется» — занудил сосед. «Да берите, ради Бога» — сказала Маринка. «А я Вам булочку отдам, хотите? Вам не повредит. А то ремнем пристегивать почти некого…» «Считайте, что здесь никто и не сидит» — ответила Маринка веско и поставила точку в разговоре убедительным взглядом. Мужик хмыкнул и принялся за свою двойную порцию….
К концу года, проведенного в Москве, она уже научилась думать обо всем, что произошло в ее жизни, спокойно. Она даже сделала кое-какие выводы, но они были еще достаточно наивны. Нечто вроде «больше никого никогда не полюблю». Но главное достижение заключалось в том, что она запретила себе думать о своем несчатье.
А сейчас все шлюзы воспоминаний были открыты. И вместе с мыслями об отце оттуда понесся Мишка. Она вспоминала, как отец привинтил на раму своего велосипеда маленькое седлышко и катал ее, усадив перед собой. Как они попали передним колесом в какую-то рытвину и она чуть не перелетела через руль. А он ее поймал. А было это возле того места на дороге, где они любили потом останавливаться на машине с Мишкой. И каждая такая остановка была для нее, как ступенька, по которой она восходила к зениту их отношений. К зениту, которого так и не случилось.
Она настраивалась на то, что они будут вместе всю жизнь. И поэтому не спешила. Не спешила урвать у этой любви все, что бы завтра уже ни о чем не жалеть. Маринка была человеком, способным не сойти и с длинной дистанции. Стайеру всегда тяжелее, чем спринтеру. И сорвала она свою финишную ленточку еще только разгоняясь. Да сама того не заметила.
Она любила на Мишку просто смотреть. Смотреть и любить. Это неправда, что женщины любят ушами. Ничего такого Мишка ей и не рассказывал. Да, конечно, лилась из его магнитофона обещающая золотые горы музыка. Был Мишка с музыкальным сопровождением. Но слов он ей особых не говорил. Стихов не писал. Ей казалось, что у него на лице все написано. В глазах. И все его будущие подвиги после юридического она сочиняла себе сама. И видела в нем героя. А отцовская «семерка» была ему к лицу, как голубенькое платье было к лицу Маринке. А что может быть проще, чем уставиться на парня пока он ведет автомобиль. Он-то ведь смотрит на дорогу. Правда, иногда он пугал ее тем, что тоже смотрел ей в глаза, а мимо пролетали встречные машины. И Маринка лупасила его по плечу шутя, и говорила «На дорогу смотри, чертяка! Убьемся же! Ну, Мишка!». А он закрывался от нее рукой и хохотал. Ему не страшно было.
….. Облака под крылом самолета рассеялись. И видны были разноцветные, как мозайка поля, тоненькие ленточки рек. Россия. Громадные пространства. Маринка попыталась представить себе, где же она сейчас пролетает. И какое все таки немалое расстояние отделяет Москву от ее родного города. А люди всюду одинаковые, все пытаются достучаться друг до друга, как через стекло. Сытый сосед похрапывал рядом с ней. Вот так-то лучше, подумала она. Посмотрела на его красные большие руки, сложенные на животе и опять вспомнила Мишку….
А еще ей ужасно нравились его руки. На нее просто какие-то первобытные чувства накатывали, когда она на них смотрела. С сильной широкой ладонью, и пальцами, чуть расширяющимися в суставах, с мощным перплетением вен. Ей казалось, что это и есть рука ее мужчины. Такую руку и предлагают в придачу к сердцу. А приметила она это еще до того, как загляделась в его глаза.
Жарким школьным летом в колхозе имени Первой Пятилетки они вовсю насладились тем, что жили вдалеке от дома. Утром всех гнали на прополку, а потом начиналась жизнь. И как-то Маринка стала замечать, что на соседней грядке всегда оказывался Мишка. А потом он поранил руку об осколок стекла, неведомо как попавшего в жирный чернозем. И Маринка сама бросилась его спасать — заворачивать косынкой, которую сорвала со своей русой головы. Она заматывала, а у нее не очень-то получалось, потому что косынки для такой пустяковой царапины было явно многовато. И она начинала опять по-хитрее. А потом посмотрела ему прямо в глаза, что бы спросить не очень ли ему больно. И наткнулась на его смеющиеся глаза. И как-то мир слегка накренился и скорость вращения Земли вокруг собственной оси изменилась. Это она поняла, потому что почувствовала себя в этот момент, как на громадных качелях.
И Маринка тогда еще подумала, как странно — не видела человека, и вдруг увидела. Как дар открылся.
А на Мишку все девчонки глядели. Он просто старше им казался. Все мальчишки ровесники еще никакие, а он уже похож. Разбираться в деталях не было желания. Он и сам был нагловат и самоуверенн. Да и на машинах, пусть и отцовских никто из его ровесников не разъезжал. Но Маринка на это внимания не обращала. Ведь она его просто вдруг увидела.
Немудрено было увидеть, потому что он все время был рядом. Вылезаешь на поле из грузовика — вот Мишка ей руки протягивает. Пойдешь воды напиться из колонки, закроешь глаза и обязательно столкнешься лбом с Мишкой. А вечером, танцуя под ритмы Запада, она точно знала, что на медленный она пойдет с ним. И даже не было в этом ни грамма неизвестности — меня пригласит или нет. Упадешь с девчонками в стог — и тут же в еще не подсохшей траве пальцы ее встретятся с Мишкиными… И жизнь ее от этого наполнилась таким смыслом. А сердце так громко стучало в горле, когда день сменялся днем, а это навождение не проходило. И только размытые очертания этой истории вырисовывались все отчетливей. Сначала она думала, что заметно это только ей. Но оказалось, что к концу колхозной смены все их уже привыкли воспринимать вместе. «Твой идет»- говорили ей подружки. И она переполнялась гордости за то, что он «ее», а она «его». И не замечала, что она для него тоже нечто дополняющее удачный ряд машина, магнитофон, джинсы и сигареты. Все только самое лучшее. Да он и сам этого не замечал.
И тогда случилась одна история, после которой Маринка уже смотрела на Мишку только с восхищением. Вечером учителя всегда делали попытку загнать их всех спать. Никто не хотел нажить себе проблем с рано повзрослевшими девятиклассниками. Иногда они с Мишкой договаривались, и он тихонько скребся в окошко, рядом с которым стояла Маринкина кровать. И она тихонечко, на цыпочках выскальзывала в темноту. Ночи были теплые, звездные. Чуть отойди от бараков и поле. А там свежескошенные стога благоухают разогретые за день солнцем. Там они в первый раз и поцеловались. И первый Маринкин поцелуй пах сеном и сверкал звездой. Еще и поэтому промышленно-индустриальные поцелуи, которые пытались навязать ей в Москве не шли ни в какое сравнение с теми.
Надолго уходить из бараков было нельзя. Тридцатилетний физрук Сергей Алексеевич, как заводной ходил всю ночь, и каждые два часа его темнеющая фигура появлялась в дверном проеме. И каждый раз кто-то из девчонок ужасно его пугался. Но он прекрасно знал чего ищет. Маринка уже давно заметила, что он на нее все поглядывает. И мрачнеет. И только на утренней пробежке вокруг бараков ставит ее всем в пример. А Мишка его раздражал. И она за это физрука недолюбливала. К концу смены мальчишки совсем осмелели и пробирались посидеть поболтать прямо к девчонкам на кровати. А когда Сергей Алексеевич приближался, тот кто на шухере всех предупреждал. И мальчишки падали девчонкам под кровати. Зайдет этот страшный ночной гость, а в комнате тишина. Постоит-постоит и выйдет в темноту.
Но только однажды было так, что Мишка один пробрался к Маринкиной койке и присел на краешек. А предупредить его было некому. И нырнул он под кровать только тогда, когда Сергей Алексеевич уже стоял в дверях. Потом, он как сомнамбула медленно подошел к Маринкиной кровати, встал вплотную. Маринка изо всех сил делала вид, что спит. И тут Сергей размахнулся ногой и со всей силы двинул ею под кровать. И вышел. И тишину ничто не нарушило. И только на следующий день Мишка все время держался за бок и морщился. А Маринка любила его за то, что он ради нее перенес. И готова была отдать ему взамен все, что угодно. И он взял.
Она и сейчас, вспоминая о нем, ни о чем не жалела. Не жалела ни о чем, что подарила ему. А жалела лишь о том, что не судьба была подарить. Она вспомнила, как он подвез ее до дома и уехал. А она и хотела остаться скорее одна. Ей нужно было обо всем подумать. И засыпала она в сладчайшей дреме. И улабалась в темноте. И в голове звучала только одна фраза — Случилось. Это правда. Это все со мной случилось. Мир может и не перевернулся вверх ногами, как ей думалось раньше, но некоторые краски в нем явно прибавились. Я — женщина! Она не хотела заснуть и изо всех сил пыталась задержаться на краю сознания. Пыталась еще раз прокрутить в памяти все, что с ней произошло, как он посмотрел, как он прикоснулся и даже страх свой она проживала еще и еще. И сладко замирало сердце. И еще в этом воспоминании было нечто из области прямого попадания в десятку ее девичьих фантазий. Он этого и не заметил. Так можно перебирать в уме все трехзначные числа и понятия не иметь, что только что произнесенное явяляется паролем к кодовому замку с несметными сокровищами. Мама, ах мамочка, родная моя. На секунду накатило горе, так что Маринка зажмурила глаза до боли, судорожно вздохнула. Ты ведь рада за меня, мам… Но все-таки откуда он так меня знает? Нет, он просто такой уродился. Просто часть меня, поэтому и совпадает со мной, как осколок с рабитой чашкой… И почему, кстати, разбитую чашку не склеишь? Посуда-то бьется на счастье… И Маринка почувствовала, что секрет мироздания вот-вот приоткроется, но уже не смогла поймать за хвост свою мысль и мысль плавно перетекла в сон, тут же обрастая множеством нелепых соцветий. Она даже мысли свои и сны в тот день запомнила.
….. Опять загорелась на табло зачеркнутая сигарета и стюардесса объявила о том, что самолет начинает снижаться. Температура воздуха в Симферополе плюс 27 градусов. Пассажиры одобрительно зашумели. Все они летели на юг в отпуск и за счастьем. И только у Маринки все было наоборот….
А потом… Потом она помнила Мишкино лицо, когда он обещал поговорить с отцом. Ей-то все еще казалось, что счастье никуда не делось. И только как-то странно Мишка посматривал в сторону. Как-то болезненно. Но понимала она это только сейчас. И ведь с тех пор она с Мишкой не разговаривала. Он-то ей ничего не сказал. И ей почему-то казалось, что ему обязательно будет что ей сказать. Ведь, может быть, они и увидятся. Даже наверняка. Он просто приедет на похороны. Все таки отец ее был ему не чужим человеком. А приехал бы он, если бы умерла я? И она представила себе, как витала бы ее душа над всеми собравшимися, и заглядывала бы в глаза Мишке… И он бы страдал. Она отогнала эти безумные мысли и подумала о том, что душа ее отца, может быть, смотрит сейчас на нее саму. И на глазах ее выступили слезы. Она обхватила себя своими тонкими руками и откинулась на спинку кресла. И Мишка ушел из ее жизни не попращавшись, и отца она на прощание не успела обнять.
….Самолет снижался рывками и каждый раз у нее захватывало дух от этих коротких падений. И только на земле она полностью вернулась в реальность. Сосед ничего расстегивать на прощание уже не предложил. Правда, когда она встала из кресла, оценивающе обшарил ее взглядом. Летом Маринке никогда не удавалось остаться незамеченной. Поэтому зиму она стала любить больше…
…………………………………………………………………………………..
А из Минвод — папины гаишники уже довезли.
До дома.
Сережка и Юлька уткнулись ей — Сережка в грудь, Юлька носом в живот… Обхватила Маринка брата и сестру, и разрыдалась.
В черное ее сразу переодели. Владимир Петрович платье как специально приготовил. И платочек черный — газовый. И туфли.
Гроб поставленный в распластанный кузов задрапированного в красное с черным «газончика» — медленно ехал впереди. Она так же медленно шла, не глядя куда ступает, поддерживаемая тетей Людой и ее мужем — Вадимом. И только оркестр — из Дома культуры, вернее медные тарелки этого шагавшего сзади оркестра, не давали ей уснуть, каждым ударом, заставляя вздрагивать и возвращаться из страшного небытия в страшную реальность. Реальность, в которой уже нет и папы.
Круглая сирота.
Папа. Папа умер… Это за мои грехи. Это за мои грехи… Это за мои грехи… Мишка, аборт, потом Аркадий Борисович… Это мне за грехи мои…
Потом поминки. Потом эти бесконечные разговоры…
— Сережку с Юлькой я возьму, ты не беспокойся, — сказала тетя Люда — папина старшая сестра, которая теперь жила в Кисловодске, была замужем и работала администратором в гостинице.
— Нет, теть Люда… Я из дому теперь не уеду.
— А учеба?
— На заочный переведусь, работать пойду.
И разговоры, и разговоры, а жить надо… И Сережка с Юлькой, как вцепились в ее подол, так и не отступают ни на шаг.
— Как он умер?
— Нашли в кабинете с огнестрельным ранением. Рядом его пистолет…
— Он не мог!
— И все так думают… У него вас — трое.
— Его кто то убил.
— Никаких следов. Следственная бригада из Ставрополя приезжала, да Фэ-Эс-Бэ — кагебешники бывшие — тоже… Все-таки майор милиции… Но никаких следов. И записки никакой.
— О, Боже!
Приехал и Димка Заманский. На кладбище он не приходил, а на поминки заехал.
— Марина, полагайся на меня, как на себя.
— Спасибо, Дима.
— Ты очень красивая.
— Не надо.
— Я буду ждать. А через год приду свататься.
И жизнь продолжалась.
Справили сорок дней.
Димка… Верный Димка Заманский.
Маринке даже не потребовалось ездить в Москву. Он сам сходил в ректорат, и ее перевели на заочное отделение. И вещи ее из квартиры в Химках забрал — и привез.
И с работой помог.
Она было в дом культуры попыталась — преподавателем в детскую хореографическую секцию, а Димка так прямо и зашелся, -
— Ты что? В нищете жить хочешь? У тебя брат и сестренка на иждивении! А сама — два курса экономического уже кончила — на третьем, слава Богу.
Долго уговаривал, но убедил — таки. Привез ее к какому-то своему знакомому чеченцу, они пол-часа в кабинете разговаривали, потом ее пригласили. У чеченца этого — пять официальных придорожных кафе и двадцать пять — неофициальных… И магазинов — тот сам не знает сколько. Бухгалтерия путаная — перепутанная. Опытный бухгалтер нужен…
Чеченец прямо сказал, — главным если ко мне пойдешь, полторы тысячи зеленых в месяц платить стану.
Но Димка ее не отдал.
Сговорились, что пойдет Маринка помощницей бухгалтера, и заниматься будет только официально разрешенными делами, далекими от какого-либо криминала.
И денег Димка ей выторговал при этом немало — триста долларов.
— Я буду ждать.
— Не поняла.
— Год, покуда ты траур снимешь…
И Маринка улыбнулась — в первый раз за эти сорок дней.
— Дима, человек ты серьезный. Очень серьезный, судя по тому, как у тебя дела идут… Но что до сватов, здесь ты треплешься.
— Почему ты так решила?
— Да потому, что сватов ты мог еще и год и два назад засылать.
— Нет, не мог, Мариночка.
— Почему?
— Потому что год и два года назад, ты бы мне отказала.
— А-а-а! Вот ты о чем.
— Да, Мариночка.
— А теперь, ты думаешь…
— Я ничего не думаю, я просто делаю и сделаю все, чтобы ты меня полюбила.
— Ты хороший, — сказала Марина, и встав на цыпочки, поцеловала сутулого и долговязого. Чмокнула в уголок усатого рта, и рассмеявшись, мягкой своей ладошкой растерла по его щеке пахучий помадный след.
Денег, что зарабатывала Марина, вполне хватало. Юлька, хоть и училась прилежно и занималась помногу, все делала по дому, и оказалась самой образцовой хозяйкой. Только сад стал зарастать. Без папы некому стало выкашивать траву, обрабатывать приствольные круги, опрыскивать деревья химикатами, борясь с пожиравшей листву тлей и гусеницами шелкопряда… Но мамину с папой кровать — ту никелированную с шишечками — Маринка с Серегой все-же по весне снова вытащили под большую вишню… Теперь, по субботам на ней валялась старшая в семье — читая детективы и мечтая о своем, потаенном. И так засыпала частенько, покуда Юлька не кликала ее к ужину или к очередной серии мексиканской мелодрамы.
Серега только начал беспокоить.
Дважды приходил домой с сильно разбитым лицом. На вопросы «кто и с кем» — отвечать наотрез отказывался. Попахивало от него сигаретками, а порою и вином. И еще звонила из школы Офелия — их директриса. «Тревожные симптомчики, Мариночка, с твоим братцем… Ты уж присмотри… А то, может и папиных товарищей попросить — присмотреть?»
Но просить бывших папиных товарищей ни о чем больше не хотелось. Потому как однажды, а случилось это в понедельник утром, Маринка еще не успела позавтракать, как в дом вломились человек пять или шесть. В штатском. На двух машинах приехали со ставропольскими номерами. Представились — следственная бригада Эф-Эс-Бэ и областной прокуратуры. Один помахал перед носом красными корочками, другой потряс бумажкой, которую ласково назвал постановлением. Хорошо, Юлька и Серега уже в школу успели уйти…
— Где отец деньги прятал?
— Что?
— Ты дурочку то не валяй, такими делами вертел — заворачивал, а деньги где?
— Не знаю я ни про какие деньги…
Впятером… Или вшестером, назвавшиеся Эф-Эс-Бэшниками в два часа перевернули весь дом. В гараже даже пол взломали.
— Значит, не знаешь, где отец деньги прятал?
— Нет, не знаю.
Ну, тогда распишись вот здесь, и вот тут…
Маринка расписалась, не читая, и только когда они уехали, уже не сдерживая себя, разрыдалась. Повалившись лицом на папину никелированную кровать, что стояла в их саду под папиной вишней.
И Димка вдруг куда- то пропал. Всю зиму и весну его не было видно. Даже мать свою — главврача их городской больницы — Софью Семеновну, и ту проведать не заезжал.
Маринка даже как то набралась храбрости, спросила своего чеченца, который, кстати говоря, тоже в последнее время не очень баловал свою бухгалтерию личным вниманием, — «а не слышал ли Руслан Ахмедович чего о Диме Заманском»…
Руслан взял очень многозначительную паузу, а потом вдруг сказал, — «ты, Марина зря мне сразу не рассказала, про обыск. Я ведь — начальник твой». А потом махнул рукой, характерным для горцев жестом кистью «от себя»… «Иди, мол»… И про Диму, так и не ответил.
Зато прочно обосновался в городке Владимир Петрович Корнелюк. Он, вроде как даже почти переехал сюда из Ростова. Дело в том, что их Новочеркесский центральный универмаг — этот трехэтажный кирпичный ЦУМ — теперь стал как бы его — Владимира Петровича. И двухэтажная стекляшка напротив универмага, где раньше были гастроном и кафе «Юность», тоже по слухам, перешла в собственность Корнелюка.
И стекляшку, и кирпичный короб универмага по этому поводу закрыли на ремонт. И Владимир Петрович теперь почти каждый день прикатывал на своем огромном бутылочно-зеленом джипе на центральную площадь, проведать — как идет работа. А потом укатывал, то в городскую управу, то в Ставрополь, то обратно в Ростов… Но каждый раз, проезжая мимо их дома, притормаживал и гудел, высунувшись из окошка…
— Маринка! Юлечка! Как бы водички у вас напиться?
Маринка давно свыклась с оценивающе — раздевающими взглядами Владимира Петровича. Еще и когда был жив папа… Но тогда, она смущалась, стыдясь признаться себе, что откровенно нравится этому мужику — ровеснику и другу ее отца. А потом. Потом, когда перед выпускным, он подарил ей золотые часики, она вдруг задумалась… «А ведь, клин ко мне бьет — хочет… Хочет чего-то, а не говорит. Думает, я — догадливая, догадаюсь».
— Вы знаете, что у нас обыск был?
— Знаю. Слыхал.
— И что слыхали?
— Не хочу сплетни повторять, Маринка.
— Владимир Петрович, не томите, это же отец мой. И это меня касается.
— Там дело темное, убили Витю или сам он. Но вроде, перед этим были у него неприятности.
— Какие?
— Точно не знаю. Но говорят, машины он какие то с каким то грузом задержал, а этого делать как бы было не надо… Впрочем, не буду тебе говорить, потому как сам знаю очень неточно. Только слухи.
— А про какие деньги они меня спрашивали?
— Я не знаю. И я не думаю, чтоб у Вити какие то деньги были.
— Но они ж весь дом перерыли, и в саду с этим — миноискателем ходили.
— И не нашли?
— Нет.
Владимир Петрович отдавал стакан, садился в свой джип и ехал на площадь, смотреть, как идет в его универмаге ремонт.
С Мишкой пару раз столкнулась прямо нос к носу. Он на выходные что-ли из Ростова приезжал. К своей молодой. Галка его после родов стала еще толще. В заду и в грудях — словно рубенсовское плодородие, что в Ленинградском Эрмитаже. А сам как то с лица спал. Обострился в скулах, и шея с выпирающим кадыком под твердым его подбородком, чего Марина раньше как то не замечала — стала длиннее и тоньше, делая Мишку таким каким то обиженно-беззащитным при этой шарообразной его Гале Маховецкой.
— Привет.
— Привет.
— Сын?
— Сын.
— Можно посмотреть?
— Смотри…
— На папу похож.
— А то на кого ж?
— Как живешь, Миша?
— Учеба… Летом в прокуратуру — на практику. А ты как?
— Да ничего… Работаю. Учусь на заочном. Вот летом сессию поеду сдавать, правда не в Москву — а в Ставрополь, преподаватели из Москвы сами сюда приезжают…
— Ну ладно, заходи, как нибудь.
— Ладно…
Пришла домой, и вдруг разревелась…
Сын то — должен был у нее — у Маринки родиться, а не у Галки. Не родись красивой, а родись — счастливой. Только Мишка… А счастлив он? Счастлив? Неужели с этой коровой — с этой Галкой Маховецкой, которая и на физкультуру то с классом никогда не ходила по причине стыдливости своей за салы да за телеса — неужели ему — ее Мишке — с ней хорошо?
И лежала на папиной никелированной кровати до самой темноты. И Юлька кликала ее — ужинать. А Маринка не шла — глядела на звезды, как когда то глядела на них, прижавшись к Мишкиному плечу.
5
Была пятница. Серегу в шесть вечера уже ждали пацаны. Возле дискотеки «Млечный путь» как всегда — стояли, плевали семечки, дерзко поглядывали на прохожих. Разговаривали нарочито громко, с показной веселостью хлопая друг дружку по плечам, бессознательно по-обезьянски жестами и позами подражая крутым киногероям из самого плохого американского кино…
— Ну, че, Серега! В буришку будешь? Может отыграешься, должок то растет. Гляди, мы тебе счетчик включим.
Долг не давал Сереге покоя уже две недели. Сто пятьдесят долларов, которые он с такой легкостью проиграл буквально за полтора часа, теперь, как ему казалось, превратились в начало какого то кошмара.
— Смотри, — говорил Гуня — долговязый пацан, который уже успел год отсидеть в колонии для малолеток, — смотри, не отдашь должок, вынудишь нас прибегать к нежелательным мерам. Потому как — такой закон жизни, сам понимаешь. Узнают, что мы тебе долг простили, так нас не поймут. И нас не простят. Старшие наши товарищи.
Серега понимал. Но заикнуться Маринке о том, что должен сто пятьдесят баксов, у него бы просто язык не повернулся.
— Слыш, Серега, а со следующей недели придется тебе счетчик включать. Каждый день просрочки плюс сто пятьдесят.
— Да ты не грусти, тыж нормальный пацан, тыж отдашь. Если фарт будет! Так? — хлопнул его по плечу Леха-лимонад, прозванный так за то, что не только водку, но даже портвейн — всегда запивал пепси-колой или лимонадом.
— Угу, — только и мог буркнуть Серега.
— Ну вот, что я говорил? Он же нормальный пацан, в натуре. Нам бы только дело, а при фартовых рамсах, он с нами враз рассчитается…
Впрочем, ждать нормального дела долго не пришлось. И Сереге в нем определили самую нетрудную работенку. Он не помнил, кому первому это пришло в голову, но план, изложенный Гунькой и Лехой-лимонадом, Сереге понравился, подкупив и своей легкостью, и элементом некого ухарства, присущего парням из кино про крутых.
На Ростовском шоссе, сразу за сверткой на рыбсовхоз, там где лесополоса вплотную приступала к дороге, двое пацанов должны были поставить на асфальт самодельного «ежа» — доску с набитыми в нее гвоздями. Но не под любую машину, а под ту легковуху, в которой поедут «не наши», не с местными номерами, а отдыхающие — из Москвы или из Ленинграда. Потому что у них деньги с собой всегда есть — на весь долгий отпуск. Выбирать жертву выпало Лехе-лимонаду, потому как у него был мотоцикл. Он должен был найти подходящую машину, в которой едет парочка пожилых, таких, что не очень будут рыпаться, и обогнав их, дать пацанам сигнал.
По плану, пацаны — Серега с Гунькой, сразу, как проедет Лимонад, выставляли на дорогу «ежа», и прятались в кювете. Дальше, когда лохи московские проколются, да вылезут колеса менять, да раскроют двери и багажник, Леха — лимонад вернется, и подъехав к терпилам, прыснет им в харю нервного газа из немецкого баллончика. Серега с Гунькой, тем временем похватают из открытого багажника и из бардачка — все маленькие сумки, в которых наверняка будут и деньги и прочие ценности, и отвалят на полных газах — Серега с Лехой-лимонадом на его «иже», а Гунька — на своем, спрятанном в лесополосе мопеде, но не по шоссе, где его любой догонит, а по тропинке на рыбсовхоз…
Сереге идея понравилась. Во-первых, с первого же «дела» он имел шанс рассчитаться по карточному долгу.
А во-вторых, этих отдыхающих из Москвы — ему ни капельки не было жалко. Так им и надо, козлам!
Ставить «ежа» имело смысл только когда стемнеет. Издалека увидев доску на дороге, любой водитель, если не пьяный — обязательно объедет, хоть и по обочине или по встречной полосе. А днем и движение на Ростовской трассе сильное. Поэтому, ждали до десяти вечера.
«Ежа» Леха с Гуней привезли в лесополосу еще накануне. В длинную — метра четыре — дюймовую обрезную доску вбили не менее ста гвоздей…
— Проколется лох московский, — плотоядно хохотал Гунька…
— Как пить дать, проколется… — подтвердил Лимонад.
В десять вечера подъехали к месту. Гунька спрятал свой мопед в лесополосе, а Леха, ссаживая Серегу, нервно перегазовывал.
— Не курите только. Понятно?
— Ладно, езжай!
Сидели в кустах минут сорок. Мимо то дальнобой-трейлер прокатит, то местные «новые русские» на джипах просвистят под сотню, только «бум-бум-бум» изнутри, как из бочки — музыка громче мотора да свиста шин.
— Комары зажрали совсем, че лохи московские не едут?
— Они боятся по вечерам ездить. Они как темно — так в отстой.
— Может, покурим, в рукав?
И только Гуня достал сигареты, как со стороны Новочеркесска послышался характерный треск мотоцикла.
— Гляди, Лимонад фарой мигает!
— Ну, не ссы, Серега, сейчас будет дело!
Пронесся на большой скорости Леха. И вдали, из-за перелома дороги уже показались отблески фар…
— Давай!
Серега, не помня себя, схватил свой конец доски, и по-партизански пригибаясь, выбежал на асфальт.
— Клади!
— Готово!
Когда из-за перелома дороги блеснули лучи, оба они — и Серега, и Гунька, ни живы — ни мертвы, уже лежали в кювете. И во все глаза — глядели на дорогу.
— «Семерка-жигули», — прошептал Серега.
Машина шла на большой скорости, и заметив препятствие, попыталась было отвильнуть в сторону — по встречной полосе, но водитель поздно начал маневр, и правыми колесами зацепил — таки «ежа»… Послышался хлопок, визг тормозов, а потом… А потом как в кино — машина колбасой закувыркалась по дороге с крыши на колеса, словно обвалом пионерского металлолома, громыхая об асфальт. Жигули докатились до противоположного кювета, и все стихло.
— Серый, ты че?
— Не знаю!
Серега и Гунька лежали, словно их парализовало. И даже когда стрекоча подъехал Леха-лимонад, пацаны не изменили своего положения.
— Ну е-мае! Мы так не договаривались, — Леха выругался, — Гунька, Серый, — выходь!
В свете мотоциклетной фары было видно, что водитель, и пассажир «жигулей» не производят впечатление живых.
Через окошко передней дверцы Лимонад сунул руку за пазуху поникшему разбитой головой водителю, вынул из бумажника деньги, потом сунул портмоне обратно тому под пиджак…
— Атас, машины подъезжают, Гунька, Серый, доску тащите, и спрячьте километрах в трех отсюда- не ближе! Все! Через час на дискотеке!
Лимонад поддал оборотов, и с треском растворился в ночи.
— Машины…
— Доску хватай!
Гунька завел свой мопед, и на больших газах сразу стал отрываться по тропинке в сторону рыбсовхоза.
— Гунька! А я? А как же я?
Серега бежал по тропинке, волоча за собой доску, бежал и плакал… Потому что вдруг враз понял, что кончилось его — Сережкино детство.
Взять именно этого адвоката посоветовал Марине сам Петр Тимофеевич Маховецкий.
— Марина Викторовна, — «на вы» говорил ей бывший папин товарищ, — я вам советую обратиться к хорошему адвокату. И могу дать вам телефон. Но более ничем помочь вам не могу.
Бывшие папины коллеги ни сами не позвонили, ни тем более, не дали позвонить Сережке. И она только на следующий день — от соседей узнала, что брат арестован и этапирован в Симферополь.
Бросилась туда, как угорелая. Свидания не дали, ничего не сказали.
Вернулась автобусом в Новочеркесск, пошла к Маховецкому. Пустили к нему не сразу. Час сидела в приемной, плакала. Петр Тимофеевич вышел из кабинета, к себе не пригласил, а стал говорить прямо в приемной при секретарше.
— Брат ваш, Сергей Викторович Кравченко подозревается в совершении тяжкого преступления — убийства с целью грабежа. Расследование передано в областную прокуратуру… Вот так.
А далее — посоветовал взять адвоката. И убежал по делам, даже не пообещав звонить… Вот как оно получается.
На следующее утро, Марина снова отправилась в Симферополь. Адвокат оказался неожиданно неприятным типом. На вид лет тридцать пять — сорок. Худой, чернявый. На носу очки с круглыми стеклами в тонкой оправе. Засаленный костюмчик, ботинок с развязавшимся шнупком.
— Клейнман Илья Хаимович, — протянул он ей узкую и холодную ладошку.
Марина стала рассказывать, задыхалась от слез, сбивалась…
— Приезжайте завтра, я ознакомлюсь с делом и назову вам мои условия, — сказал Клейнман.
Преодолев стыд, Марина позвонила матери Димы Заманского.
— Что, вы, деточка! — запричитала Софья Давыдовна, я сама два уже месяца не знаю где Дима. Он звонил мне из Солоников, это в Греции, но это было два месяца назад. Деточка, я никак не могу вам помочь, но если Дима позвонит мне, то я ему обязательно передам.
И Корнелюк, совершенно некстати три дня как улетел в Америку — на шесть недель, он еще хвастался перед отлетом, что это какая то сумасшедше — интересная программа — учеба менеджменту вместе с посещением злачных мест в Лас-Вегасе и Майами. Три с половиной тысячи долларов заплатил, и что в группе вся знать Краснодарского края и Ставрополья.
В общем, оказалась Маринка в этом мире одна — одинешенька.
Илья Клейнман не то чтобы расстроил — он просто ее убил.
— Брат ваш все взял на себя. Всю организацию нападения. Мне кажется, в камере и на допросах с ним интенсивно поработали. В итоге, парню светит пятнадцать лет…
Марина буквально ослепла и оглохла от накатившего горя.
… Три тысячи долларов Клейнман берет только за то, чтобы Сереженьку отсадили от матерых уголовников, чтобы ему можно было передавать нормальную домашнюю еду, и чтобы он — Клейнман мог повлиять на изменение интенсивности следствия… Простым языком, чтобы Сережу не били на допросах.
— А все с моим гонораром, будет вам стоить двенадцать тысяч… и Клейнман любовно-иронически выделил это слово, — долларов. Гарантировать оправдательный приговор я не могу, но позиция защиты будет ориентирована на исключительно мягкий приговор — два года условно — не более. Так что, выйдет из под стражи — в зале суда… И поймите, мне достанется только ничтожная часть от этих денег, я как ваш адвокат — представляю собой всего лишь передаточное звено, которому доверяют должностные чины. Вы придете им давать, но они от вас не примут. Они примут только от того, кому доверяют…
Двенадцать тысяч. Двенадцать тысяч. Марина ехала автобусом в Новочеркесск и повторяла, — «двенадцать тысяч, двенадцать тысяч».
И еще она припомнила, как Клейнман сказал, — мне передавали, что вы располагаете средствами…
Кто передавал? Маховецкий?
Это они снова намекают на папины деньги… Но нет у нее никаких средств!
Чеченец ее внимательно выслушал. Сидел, четки перебирал, на нее не глядел. Потом, когда она закончила, минуту молчал, будто переваривал ее просьбу в своей коротко стриженной голове.
— Я тебя… (он сказал грубое слово), не буду. Ты таких денег и не стоишь.
Марина покраснела. И не от грубого слова, означающего интим, но от того изощренно-тонкого оскорбления, которому он ее подверг. Она не стоит двенадцати тысяч…
— Что дашь в залог? Я таких денег просто так не даю. Разве родственнику! Но ты мне не родня.
— У меня нет ничего, — неуверенно сказала Марина.
— Дом. Пиши на дом дарственную. Прямо сейчас к нотариусу поедем, там тебе и деньги дам…
Наш дом и наш сад. Наш дом, в котором мы выросли. Где умерла мама. Где под вишней любил отдыхать отец…
Неужели, это так просто?
— Юлька! Я должна тебе сказать…
Юлька, такая умненькая, такая красавица… Своим остреньким нежным личиком приблизилась к ней. Щека к щеке, как в самом раннем детстве, когда бывало, засыпали в одной кровати.
— Юлька, Сережку нашего надо выручать. А это огромных денег стоит.
— Я все понимаю, Маринка.
— Придется дом наш в залог под деньги отдать.
— Маринка, лишь бы Сереженька был с нами!
— Спасибо, милая.
— Ну что ты!
— Но ведь это наш дом.
— Сереженька важнее. Ему там очень плохо, да?
— Ой, не могу!
И сестры плакали, не стесняясь своих зареванных лиц.
— А где жить будем, если денег потом не найдем отдать?
— А жить без Сережки мы тоже не сможем, ведь правда?
— Правда.
………………………………………………………………………………………….
Марина не хотела и не могла позволить себе поверить, что Клейнман ее обманул. Она не могла поверить в это, просто чтобы не сойти с ума от горя.
Когда в адвокатской конторе на улице Ленина, где у Клейнмана был кабинет, ей сказали, что он уехал и больше здесь не работает, она вдруг почувствовала, что не может стоять на ногах.
— Как не работает?
— А вы разве не знали? Он в Америку уехал — на пэ-эм-же… на постоянное место жительства, у него и брат давно там.
— А как же Сережа? А как же деньги? Ведь он взял!
— Ничем не можем помочь, он все свои дела передал адвокату Шалимовой.
В кабинете Клейнмана и правда сидела теперь болезненно-худая женщина Галима Халиловна Шалимова. Дело Сережи она видела, но ни о каких деньгах, разумеется, и знать не знала.
— А вы не знаете, он перед отъездом кому-нибудь там передавал?
— Что?
— Деньги.
— Кому?
— Ну там…
— Где?
— Ну там..
— Так дела, девушка не делаются… Мне вас очень по человечески жаль, но ничем я вам помочь не могу…
И Марина вспомнила. Вспомнила, как преодолевая страх, на подкашивающихся ногах, шла за своим чеченцем к нотариусу, как подписывала бумаги, почти не различая, где ставит подписи.
— Вот здесь, вот здесь, и еще раз вот здесь, — подсказывал нотариус, друг или родственник Руслан Ахметовича.
И вспомнила, с каким страхом, что ее обворуют, везла она эти двенадцать тысяч Клейнману в Ставрополь.
— Ну что? Скоро теперь Сережу освободят? — искательно заглядовала она в глаза адвокату.
— Ну, сперва следствие закончится, потом суд… Вы не волнуйтесь.
Но сердце у нее болело. Она и спать стала с Юлькой вместе. Как в раннем детстве. Обнявшись крепко-крепко.
Боже, как же она теперь Юльке скажет про Клейнмана и про деньги? Как же там Сережа в этой тюрьме? И как же они теперь будут жить?
Это за грехи мои. За аборт. Это за грехи.
Но почему же и Юлька за это расплачиваться должна?
Марина металась по городку — снова заходила к Маховецкому. Петр Тимофеевич два часа промурыжил ее в приемной, а потом, впустив-таки в кабинет, и выслушав ее сбивчивый рассказ, жестко сказал,
— Дура ты. Дура ты набитая. Я тебе этого адвоката посоветовал, но что из этого вытекает? Разве я знал, что он в Америку собрался? Я его знал как хорошего специалиста по уголовным делам. Но то, что он штучка, — это надо было самой глаза иметь. Такие деньги! Так что, ничем я тебе помочь не могу.
Димки Заманского нигде не было. Она опять сходила к его матери, но Софья Давидовна снова назвав ее «деточкой», как и в тот раз запричитала, что Димочка ее совсем пропал, и что неизвестно, где его искать.
Корнелюк все еще раскатывал где то на Диком Западе, а чечен вдруг как то резко к ней переменился.
Стал придираться по работе. Два раза бросил ей платежные ведомости в лицо, с бранью и угрозами уволить к такой то матери. А потом, через неделю вдруг сказал,
— Я знаю, неприятности у тебя. Но у меня тоже неприятности. И мне теперь деньги нужны. Я твою закладную продал — родственнику моему дальнему. Так что он хочет в свой дом теперь переехать. Месяц сроку тебе. С дома — съезжай.
Вечером сели Маринка с Юлькой на папину никелированную кровать, и тихонько завыли.
— Если Сереженьку далеко пошлют, в Сибирь или еще куда, я за ним поеду.
— И я с тобой, куда же я теперь без тебя?
— Устроимся работать. Поселимся где-нибудь поблизости — ему легче будет…
— А когда его освободят, втроем заживем.
— Будем работать, и деньги эти заработаем — накопим. И дом наш вернем.
— А как ты думаешь, за что нам так досталось?
— Как?
— Сперва мама, потом папа, потом Сережа, а теперь дом…
— Главное, что мы с тобой вместе. И главное, что Сережа жив.
— Но за что?
— Не думай об этом. Главное, что я тебя люблю. И Сережу люблю.
— И я тебя.
— И никогда вас не брошу.
Родственники Руслан Ахметовича приезжали в четверг. Приехали на белых «жигулях» шестой модели с чеченскими номерами. Вошли в дом без стука. Как в свой собственный. Ходили — смотрели везде, заглядывали и в кладовки, и в погреб и в гараж. Чеченцы буквально источали надменное превосходство. Марину с Юлей, они как бы даже и не замечали, словно девочки были не живыми существами, а старой ненужной мебелью, которую въехав сюда, новые хозяева непременно выкинут.
— К следующей субботе — съезжайте, — сказал старший, выходя со двора. И не потрудившись даже закрыть за собой калитку.
6.
Вылетая из Нью-Йорка, в зоне аэропортовского такс-фри, в ювелирном бутике Владимир Петрович решил вдруг купить золотой браслет. Не себе. Марине. Браслет двуцветного золота с маленькими бриллиантами. Две тысячи долларов…
— Ты че, Петрович, умом рехнулся? В Египте и в Турции таких цацек по шестьсот баксов максимум — одним местом ешь! — возмутился было его товарищ по турне Федулов — зав отделом торговли из Ростова.
— Ты, Федул, помолчи. Ты ее не видел.
— Кого?
— Дочку мою.
— У тебя разве есть дочка?
— Да не совсем чтоб моя… Понимаешь, друг у меня погиб. А у него трое остались. Да еще и без матери.
— А-а-а…
— Вот тебе и а-а-а… А старшая, ей теперь двадцать, красавица, ну просто не могу!
— Так женись, старый ты козел! Тебе скоро пятьдесят, не век же холостяком бегать? Сколько у тебя баб было? Миллион?
— А ты завидуешь?
— Женись, дурило!
— Ну ты даешь… Она мне почти как дочь.
— Не родная, значит и не дочь.
— У нас двадцать пять лет разница.
— Ну и что? Феоктистов вон, бывший первый секретарь Первомайского райкома, который теперь птицефабрику в Первомайском приватизировал, он постарше тебя, а развелся и на молодой женился. А тебе и разводиться не надо.
— Слыхал я эту историю…
— Ну!
Когда в пятницу Марина вдруг увидела возле калитки знакомый бутылочно-зеленый джип, она сразу поняла, что все теперь образуется. Что все теперь образуется, но она при этом должна будет заплатить по счетам. А может и своим счастьем. Счастьем, которого нет. Или надеждой на так и не найденное счастье.
А в тот же вечер позвонила Владимиру Петровичу его старая подруга. Старая боевая подруга, как называл ее Корнелюк, или старый боевой конь, как сама себя шутя называла Наташа, имея ввиду и ту легкость, с какою она при первом его свисте — всегда прибегала и была готова нестись с ним куда угодно- хоть в дождь, хоть в снег, хоть на войну, хоть на край света. Однако, в большинстве случаев их совместной биографии, что длилась уж лет десять с небольшим, Владимир Петрович по преимуществу вывозил Наташу не в снег и не в холод и не на войну, а совсем наоборот, в Сочи, в Анапу, в Турцию, на Кипр и даже в Испанию и Италию…
— Ну как съездил? И что ты мне привез? Себя?
— Не знаю, Наташа…
— Как это? Ты там что — женился в Америке?
— Нет, в Америке я не женился.
— Да что с тобой? Какой то ты не такой. Может мне приехать?
— Не надо, Наташа.
— Что, не надо?
— Я тебе потом позвоню как нибудь.
Ну как это женщины чувствуют? По интонации голоса что ли? Ну ничем себя не выдал. Неужели действительно, как в статье, что читал в самолете, про этих бабочек, что на расстоянии в тысячу километров чувствуют то, что чувствует другая? Как женщины догадываются, что ты уже принадлежишь не этой, а другой? А что, я разве принадлежал Наташке? У нас с ней было что то вроде бартера. Тебе хорошо и мне хорошо. Красивая баба и успевший в делах мужик. И оба в принципе свободны. Так что, ни я ей, ни она мне — никто друг другу не принадлежал. Хотя, предполагаю, она и хотела, может быть, чего то большего. Конечно, хотела. Как пить дать. Все бабы хотят замуж и детей хотят. Только не все умеют свою жизнь устроить. Недаром говорят, не родись красивой, а родись счастливой. А Наташка — красивой уродилась. И слишком гордой. От меня ждала, когда я созрею. И что? Созрел? Неужели созрел? Только не для нее… И неужто Маринка? И ведь в Нью Йорке — в аэропорту, подарок… Я не купил подарка Наташке, как всегда покупал. Сколько я денег на нее извел в свои времена! Нет, не жалко. Бартер. Бартер. Тебе хорошо и мне хорошо. А мне с ней было хорошо. Но теперь, теперь, вряд ли будет. Что такое? В девчонку. В пацанку. А как влюбился!
Сперва все смешки — смешочки, Витька, да какая краля у тебя растет! Были, конечно, в голове мысли шальные. Но ведь, у кого их не бывает? А потом как увидал ее на похоронах Витькиных — в черном платье… И сердце как поплыло — чужое совсем!
И на все есть Судьба! Это Судьба. И то, что Маринка в такую историю угодила — Судьба. Это его и ее Судьба. Не отцом… Не отцом — мужем для нее надо стать. Отцом — Юльке и Сережке. А Маринке — никак нельзя отцом… Ревность потом задушит. А счастье я ей дам. Дам ей столько счастья, сколько мне по силам еще.
Всю и без того запущенную за месяц своего отсутствия работу, он снова отодвинул на задний план, занявшись исключительно Маринкиными делами. И заместитель его — Николай Михалыч просто взвыл. Ремонт в универмаге почти окончен! Надо договора с арендаторами заключать, оборудование завозить, вопросы с СЭС и с пожарниками решать…Но Владимир Петрович решительно занялся личным… Да еще и юриста своего оторвал от дел фирмы, полностью перенацелив на хлопоты с освобождением Сережи.
Выкупить у чеченцев дом получилось не сразу. Но удалось. Хоть и большой ценой. И не за двенадцать тысяч, а за такую сумму, которой у Владимира Петровича сразу и не нашлось.
— Ты универмаг свой отдай, — сказал Руслан Ахметович, неторопливо перебирая четки.
— Универмаг мой сорок таких домов стоит.
— Я знаю, но я и еще знаю, что тебе именно этот дом нужен, а мой товар — моя и цена.
Сторговались на почти отремонтированной двухэтажной стекляшке напротив универмага, на той, в которой до этого было кафе «Юность».
— Торговая точка эта будет двести тысяч стоить.
— Когда ремонт закончишь, да когда оборудование завезешь…
— А теперь она не меньше ста тысяч потянет, я в один ремонт сорок тысяч вбил.
— Твои проблемы. Дом покойного друга — это не совсем чужой дом. Так ведь? Но ты ведь не последнее отдаешь. Ты на одном универмаге будешь полтора лимона баксов в год делать. Да и женщина в этом доме такая молодая и красивая. Невеста!
— Это тебя уже не касается.
Жалко было расставаться со стекляшкой.
Но это было еще не все.
С Петром Тимофеевичем вышел у Корнелюка жесткий разговор, после которого Маховецкий впервые за свои сорок восемь лет — пил валерьянку.
А через неделю Сережу выпустили. Пока только под подписку о невыезде.
И привез домой его сам Корнелюк.
Визгу было, крику.
— Сережка!
— Юлька!
— Сереженька, родненький!
А в машине, покуда они ехали из Ставрополя был промеж них мужской разговор.
— Мы с отцом твоим друзьями были. И ты мне как сын теперь. А Марина… Ну это не важно… И вот запомни, если что-то в твоем поведении будет от того прежнего, ты меня понимаешь? Так вот, я тебя вытащил из тюрьмы?
— Да.
— Тебе там понравилось?
— Нет
— Так вот, я не стану тебя обратно туда, зачем Марину и Юлю мучить? Я тебя просто убью и милиция… Ты меня понял, где у меня эта милиция?
— Да.
— И милиция оформит несчастный случай. Лучше тебе на кладбище лежать, чем Марину с Юлей изводить. Ты им столько горя принес. Понял меня?
— Да.
— Хорошо… А будешь нормальным парнем — будем дружить. А я дружить умею. Но мучить Маринку я тебе больше не позволю.
Такой роскошной свадьбы Новочеркесск еще не видал.
Гостей было около двухсот человек. Только с Маринкиной стороны был почти весь их класс — и обе Наташки, разумеется — Байховская и Гринько, и все Мишкины друзья — и Цыбин, и Перелетов, и Налейкин, и Бородин.
— А помнишь, как мы на выпускном, в кабинете химии портвейн пили?
— А помнишь, как Мишка с Налейкиным из-за тебя в девятом классе подрались?
— И как ты с Настей Мироновой из-за Мишки подралась? Помнишь?
Было все Новочеркесское начальство. И Петр Трофимыч Маховецкий с супругой, и Константин Григорьевич Коростелев.
Из Ростова и Ставрополя приехало машин столько, что Маховецкому пришлось распорядиться выставить милицейские посты, и их Вторую Садовую улицу — перекрыть для сквозного движения посторонних, настолько их Вторая Садовая была теперь забита «мерседесами» и джипами всех мастей.
Паритет семейной власти в новом альянсе Маринки и Владимира Петровича заключался в том, что во всем, не относящемся к бизнесу мужа, распоряжалась теперь она — молодая жена и хозяйка. И Марина категорически настояла на том, чтобы гулянье состоялось именно в их доме — в их саду.
Официантов, наряженных в белые пиджаки, согнали со всех трех городских ресторанов. Оттуда же подвозили и закуски. Только шашлыки, которые Владимир Петрович упорно называл барбекю, четверо армян готовили здесь же под старыми вишнями.
Владимир Петрович хотел было нанять и цыганский ансамбль и духовой оркестр, но Маринка запротестовала, настояв на обычных для таких случаев — баянисте и диск-жокее с дискотекой из «Млечного пути», как было на их выпускном.
А подарки дарили самые фантастические. Маринкины одноклассники оказались молодцами. Скинувшись, они преподнесли видеокамеру, — «деток снимать на память», — хором пропищали обе Наташки — Байховская и Гринько. Но друзья и родственники Владимира Петровича, те просто шокировали своею щедростью. И компьютер, и помповое американское ружье, и огромный телевизор под названием «домашний кинотеатр», и гостиный гарнитур мягкой мебели, и целых три фарфоровых сервиза, и настоящий персидский ковер… и еще набросали целый мешок российских и американских купюр. Но больше всех удивил чечен — Руслан Ахметович. Тот подогнал к калитке новенькую вишневую «восьмерку» и сказал, — «когда муж надолго куда то уедет, это молодой жене, что бы было на чем поехать — мужа искать».
Платье Марине привезли самолетом из самого дорогого московского бутика. Французское — от Кардена. Оно было просто роскошным. Марина сама не могла час оторваться от зеркала, примеряя фату, и новый атрибут своей новой жизни — настоящие драгоценности.
— Дайамондс — ар зэ бест герлз фрэндз, — сказал Владимир Петрович, застегивая на шейке невесты замочек бриллиантового колье.
Марина сперва чувствовала себя неловко.
Все эти друзья Владимира Петровича со своими такими старыми женами… Мужики явно на нее пялились, завидуя товарищу, отхватившему жинку вдвое моложе себя, а их толстые супружницы — те змеино улыбались, желая счастья так неискренне, что и сами, наверное удивлялись, мол что это на нас такое нашло? Какого ей еще счастья?
Разговаривать с этими старушками Марине было ровным счетом не о чем, и ее все больше тянуло к друзьям — одноклассникам, дружно оккупировавшим отдельный большой стол рядом с местом для танцев.
Но ощущение новых семейных обязанностей заставляло поддерживать разговор, и улыбаться под явно неодобрительными и многозначительными взглядами этих пожилых мужниных друзей, которые теперь нарушая естество природы, должны стать ее новыми друзьями.
Теперь это моя новая жизнь, — решила она для себя.
Пришли и Мишка с толстой Галей.
Мишка смутился, сунул букет и неловко поцеловал в щеку. А Галя, принялась долго и пространно желать семейного счастья и много детей. Подарили они деньгами. Марина не стала считать-пересчитывать, а отдала дружке-свидетельнице Наташке Гринько. Но, как ей показалось, денег в Мишкином подарке было немало.
Отпустили молодых далеко заполночь. И здесь она мужу уступила. В первую брачную, оставила дом и сад на разграбление подгулявших гостей и отправилась с… Владимиром Петровичем… с Владимиром на его квартиру.
— Владимир Петрович, не думайте, что я вас не люблю.
— Молчи
— Или что пока не люблю.
— Помолчи
— Я обещаю, что буду хорошей женой. Во всех отношениях. И вам не придется жалеть.
— Говори мне ты, я прошу тебя
— Я обещаю вам… тебе, что буду очень хорошей женой. Во всем.
— Молчи.
— Вы меня спасли… Ты спас меня и Сережу с Юлькой. Вы заслужили. Я буду любить вас…. Тебя. Буду любить крепко-крепко. Все у нас будет очень хорошо. Ты заслужил. Милый. Ты мой муж.
Проснувшись в полвторого по полудни, молодые отправились на Вторую Садовую, проведать Юльку с Сережей.
Столы уже увезли. И сад прибрали от мусора… И кровать. Папина с мамой никелированная кровать уже стояла вынесенной под вишню.
И пока Маринка ходила по дому, объясняя Сереже и Юльке, что и куда ставить, через открытое окно она вдруг увидела, что на папиной кровати лежит и уже спит он. Ее муж. Владимир Петрович.
Софья Давыдовна умела готовить. Когда Софа была еще девочкой, бабушка Фрида научила ее всем секретам. И фаршировать щуку, и делать их знаменитое кисло-сладкое жаркое. Но с тех пор, как умер ее муж — Николай, а сын Дима, оперившись, начал жить совершенно самостоятельно, она готовить перестала. Так, разогревала что-то себе на завтрак, а обедала и ужинала преимущественно в больнице. Собственно и на пенсию Софья Давыдовна Заманская не уходила не только потому, что ее должность — главврача лучшей в области больницы давала деньги и общественное положение, но и потому, что Софья Давыдовна панически боялась одиночества.
Когда Дима бросив работу в райкоме комсомола вдруг занялся бизнесом, она сперва испугалась. Как же! Опять устроят маленький НЭП, а потом всех кооператоров сошлют в Сибирь. Но потом, когда у сына появились деньги, она поверила. Поверила его чутью и тайным способностям, в наличии которых никогда ни на минуту не сомневалась.
— Мама, потом я тебя к себе в Нью-Йорк заберу. И клинику тебе там открою, если захочешь.
— Болтун, — смеялась Софья Давыдовна, но видя какими деньгами стал вдруг распоряжаться ее Димочка, поверила, и в то что может забрать ее в Нью-Йорк, и в то, что сможет там купить ей если не клинику, то рентгеновский кабинет.
Готовить Софья Давыдовна умела. Но заниматься этим для себя одной — полагала совершенно излишним.
Однако, когда вдруг приехал Дима, Софья Давыдовна решилась испечь пирог с вишнями.
Ее Димочка приехал черный от загара, совсем худой, и еще более поседевший.
— Ну? Ты о матери будешь когда-нибудь думать?
— Мама, я все время о тебе думаю.
— Нет, ты мне скажи, я тебя за тем рожала, чтобы на старости лет сидеть здесь в Новочеркесске совершенно одной?
— Мама, давай я тебя перевезу к дяде Леве. Куплю тебе в Тель-Авиве большую квартиру специально неподалеку от него, будешь видеться с братом и племянницами каждый вечер.
— И зачем я поеду в этот Израиль? Там стреляют — там убивают!
— Мама. Стреляют и здесь.
— А моя больница?
— Ну сколько еще лет ты проработаешь? Тебе моих денег мало?
— Не в деньгах дело, сынок. Я здесь начинала простым врачом — рентгенологом тридцать лет назад. Здесь моя жизнь прошла. Меня в этом городе знает каждая собака! Я их всех лечила! И теперь, я работаю, и в этом смысл моей жизни. И в этом ты виноват.
— Мама?
— Ты виноват. Потому что у меня нет другого смысла жизни — ты мне не дал.
— Мама!
— Не спорь, ты почему не женишься? Почему у меня нет внуков? Если бы у меня были внуки, к чертовой бабушке я бы послала всю эту работу!
— Женюсь, мама. Вот я и приехал, может для того, чтоб жениться.
— И на ком, интересно узнать?
— На Маринке Кравченко.
— На Марине? Долго ты, сынок, по заграницам разъезжал. Опоздал ты. Как раз на прошлой неделе свадьбу у них играли. Меня звали, да не пошла — дела в больнице были.
— Как свадьбу? С кем? За кого?
— За Корнелюка, за бывшего директора облторга. Универмаг наш на площади знаешь? Теперь его.
— Так ему ж — все пятьдесят!
— Эх, сынок! Тут такие страсти-мордасти были. Мальчика этого, братика Марины в тюрьму посадили. Дело было громкое — весь город шумел. Хулиганы убили кого то на шоссе или ограбили. Ну, а Корнелюк — то со связями. Вытащил пацаненка из каталажки. И вообще, тяжело жить сироткам одним без сильного мужчины в доме. Они как без матери остались, да как потом отца лишились — их любой обидеть мог. Время теперь — то какое? Это не то что десять лет раньше — райком — местком…
— Мама, как же я то не знал?
— А где ты там шлялся по этим заграницам?
— Мама, у меня дела были.
— Дела! Если хотел жениться, звонил бы хоть ей! Ты знаешь, что она два раза ко мне приходила — тебя искала?
— Приходила?
— Да. Тебя искала — твоей помощи. А ты — где то шатался.
— Ну так получилось, не мог я.
— А и она ждать не могла. А Корнелюк — за ним она теперь, как за каменной стеной. Он мужик крепкий. Знаешь, как в народе говорят, где хохол прошел, нашей сестре делать нечего.
— Мама!
— Что мама? Девочка она хорошая. И мама ее у меня в больнице умерла. Как я тогда переживала, как за свою! И тогда… Помнишь? Аборт ей делали… Ну? Что молчишь?
— А что говорить? Помню.
— От тебя ведь?
— Нет, мама.
— Нет? А я думала от тебя, как ты хлопотал. А чего хлопотал?
— Люблю ее, мама. Плохо мне.
— А любишь, так нечего было оставлять сироту круглую! Теперь время такое — не может женщина быть одной.
Дима вспомнил последний разговор с Султаном Довгаевым. Тогда Султан отвалил ему столько наличными, что даже былая уверенность в том, что его — Диму не убьют покуда он им нужен, вдруг поколебалась под давлением очевидности того соблазна — убить и не отдавать, которая просто физически исходила от вида кучи пачек с зеленой валютой.
— Зачем тебе столько денег, Дима? — снова, как и три года назад, спросил Султан.
— Ты меня спрашиваешь. Зачем мне деньги? Я же не спрашиваю, зачем тебе все эти цацки, что я достал для тебя…
— То что ты называешь цацками-мацками, ты сам понимаешь зачем… А вот деньги… Ты прошлый раз говорил, что жениться хочешь. И что? Женился?
— Нет.
— Что? Невеста убежала?
— Еще не подросла.
— А-а-а! Тогда все понятно. Тогда копи деньги. На свадьбу копи. Нам еще наши дела не раз придется проворачивать.
Это обещание Султана как раз и вселяло какую то уверенность, что ПОКА они его не убьют. Пока только он — Дима Заманский имеет ходы к начальству тыла и снабжения военного округа. Уж три года, как через организованное им частное предприятие, он закупал списываемое в войсках, а попросту говоря, откровенно воруемое тыловиками военное имущество. Здесь в дело шло все — от списываемой автомобильной техники, до просроченных медикаментов. За стыдливыми строками «оборудование» и «металлолом» зачастую проходили и боеприпасы с самым настоящим годным к употреблению оружием. И вот, после очередной операции купли-продажи, когда целая колонна «шестьдесят шестых газиков» до верху загруженных боеприпасами, под видом «списанной автотехники и металлолома» прошла через фирму Димы и скрылась в непонятной структуре Султана Довгаева, Дима решил, что годик надо отсидеться.
Страшно стало даже не за Султана. Основная опасность, как подсказывал чуткий Димин нос, исходила от ворюг с погонами. Они настолько наглели в своей алчности, что теряли всякий контроль. И иногда ему казалось, что предложи он им за триста тысяч зелеными — продать атомную бомбу — продали бы не моргнув глазом. Вопрос о такой сделке не ставился пока только потому, что у этих тыловиков — бомбы не было, да и Султан такого боеприпаса — пока не заказывал.
Отсиживаться Дима решил в Греции. Тем более, что именно на Кипр он и перевел все средства, вырученные за три года опасной коммерции.
Были ли у него женщины?
Конечно, были! На Кипре он довольно долго дружил с одной немкой — Урсулой. Она приехала на пару месяцев порисовать акварелью какую то греческую старину и понырять с аквалангом за осколками древних амфор, а осталась с ним и еще на пару месяцев. Ей понравился этот русский… тем, что Дима наполовину еврей — она совершенно пренебрегала в пользу преобладающих компонент русской культуры, воплощенным носителем которой он для нее — бакалавра искусствоведения и являлся. Был бы ты еврей — ты бы носил витые пейсы и ходил бы в синагогу. А так, какой ты еврей? Ты — классический новый русский. Рок-н-ролл, джипы, казино, опыт работы в комсомоле и все такое прочее… Дима нравился ей и тем, что не был жмотом, и тем что любил оттянуться не так, как привыкли осторожные и скуповатые европейцы, а с неожиданно веселой ломкой традиций и правил. На грани дозволенного, с риском, придающим жизни необходимую остроту. Ухлопав уйму денег, он нанял большую яхту, на которой они с Урсулой совершили морской вояж до Лазурного Берега, с остановкой в Монте-Карло, где за ночь, им вдвоем удалось продуть в казино столько денег, что узнай об этом ее папа — профессор университета старинного городка Галле, он бы снял с нее джинсы и выдрал бы по заднице своей незаконченной рукописью о неоднозначности Гегелевской диалектики.
Но потом как то они расстались. Предложения стать его женой — Дима ей не сделал, а и без того запущенная учеба, всеж требовала ее присутствия в фатерлянде.
Он часто вспоминал Марину. И не то чтобы вспоминал, он думал о ней. И вообще, размышления эти, можно было бы даже назвать мечтами. Он мечтал о Марине. Мечтал, как они поженятся, как он построит ей дом в Новочеркесске — дом со всеми электронными и компьютерными новшествами западной цивилизации, и как построит ей еще два дома — один в Греции, на высоком скалистом берегу, а другой — в Подмосковье… И они так и станут жить по пол года — то там, то там, то там…
И вот, пересидев свои страхи, Дима вернулся.
— Опоздал ты, Дима. Замуж я вышла, — сказала Марина, грациозно вылезая из своей новенькой вишневой «восьмерки».
— Что, муж такую машинку подарил?
— Нет, начальник мой бывший — Руслан Ахметович, к которому ты меня тогда определил, помнишь?
— Я все помню.
— Так он на свадьбу мне подарил.
— Хороший начальник
— Нет. Не такой уж и хороший. Когда я в беду попала, он на мне только нажился.
— Я слыхал.
— Да, было тут много чего, пока тебя не было.
— Мне рассказывали.
— Я тебя искала, так мне плохо было.
— Мама говорила.
— Где ж ты был, Дима?
— А что, если бы я тогда нашелся, пошла бы за меня?
— Не знаю. Получилось то все не так. Получилось то все так, как получилось!
— Но я же тебе говорил, что вернусь через год, когда траур снимешь.
— Беда приходит — не спрашивает. Сереженька братик мой в беду попал, а тут и все несчастья начались. Деньги, дом мамин с папой… А Володя тут рядом оказался — спас и нас с Юлькой и Сережу. Теперь вот — муж он мой.
— Жаль… Очень жаль.
И Дима вдруг почувствовал, что нижняя губа его предательски дрожит, совсем как в первом классе, когда его обидели и не пустили к праздничному столу… И еще ему показалось, что когда Маринка садилась в свою вишневую «восьмерку», ее губки тоже дрожали и тоже шепнули — «жаль».
………………………………………………………………………………………..
Дом родительский Марина согласилась перестроить. А вернее — сломать и на его месте построить новый — трехэтажный, чтобы всем в нем места хватило. Но при условии, что в саду не то что дерева — ни единой веточки не сломают. А на время строительства все переехали к нему. Володя отселил соседей по лестничной площадке, выкупив у них квартиру напротив. Прямо дверь — в дверь. Теперь они жили в двух двухкомнатных, в одной Маринка с Володей, в другой Серега с Юлькой.
— Ну это пока — теснимся, а дом то построим — там три гостиных, четыре спальни, две кухни, прачечная в цоколе с сауной, гараж на три машины… Участок маленький. А сад Маринка не велела трогать. Для большого гаража — придется у соседей часть их сада откупить, — делился со своими товарищами Корнелюк, надуваясь и заходясь от гордости за умную красавицу жену, что вдвое моложе всех этих толстых клушек — и того же Маховецкого, и того Коростелева — старшего.
Дом строили те же молдаване, что ремонтировали его универмаг.
— Как дела? — ежедневно подъезжал на бутылочно зеленом «Черроке» Владимир Петрович.
— Ломать — не строить, хозяин, — улыбались себе в усы молдаване.
Ломать родительский дом семейства Кравченко, было и правда нехитрым делом. Завели в окно трос, вывели в другое окно, конец троса подцепили к бульдозеру. Дернул он пару раз рыкнув дизелем, и завалилась стена. Развернулся на одной гусенице бульдозер, рыкнул еще своим дизелем, пустив в небо облачко черной копоти, ударил ножом отвала в угол хаты, и завалилась хата, подняв белую тучу цементной пыли.
Только — разгребай теперь.
Но однажды, когда из Маринкиного сада вывезли уже почти весь строительный мусор — которым стал их бывший дом, случилось что-то странное. Молдаване вдруг исчезли. Сбежали совсем.
И может не стал бы беспокоиться Владимир Петрович, бывало всякое с этими строителями, и уходили они в загул, и отпуска брали на неделю, проведать семьи в Кишиневе. Но здесь одно обстоятельство насторожило Корнелюка.
Убежали молдаване вместе со всем своим нехитрым скарбом, прихватив вещички из общежития, которых не забирали, даже во время поездок в Кишинев. И тем более странным был их внезапный отъезд, что исчезли они даже не получив от Корнелюка недельной зарплаты.
— Очень странно это, — повторял Владимир Петрович, подумывая уже, где бы найти этой бригаде замену.
Но еще более странным вышло вдруг такое обстоятельство, про которое он побоялся рассказывать Маринке.
Петр Трофимович Маховецкий, а для Корнелюка — просто Петро, поведал, что пятерых этих молдаван задержали в Ставрополе по обвинению в убийстве шестого — их бригадира. И обнаружили при них значительную сумму денег в валюте. На первых же допросах строители сказали, что деньги эти они нашли, ломая Маринкин дом. Из за денег и бригадира своего зарезали. Тот хотел половину суммы себе присвоить, а им на всех лишь остальную половину. А денег при них оказалось — двести тысяч зелеными.
А Маринка против общих ожиданий, что мол теперь при таком муже будет сидеть дома, пошла таки работать. И учебу в институте не бросила. Правда работа теперь у нее была семейная — в бухгалтерии универмага.
— Наберись опыта, — говорил ей Владимир Петрович, ставя Маринку помощницей главного бухгалтера, — и самое главное — опыт во всех тонкостях нашего дела.
Маринка сильно не перенапрягалась, и едва соблюдая приличия — не вскакивать же в семь утра, чтобы к девяти вместе с остальными девочками приходить в контору, приезжала на работу к половине одиннадцатого. Главный бухгалтер — пожилая уже дама, проработавшая в райторге тридцать лет, делать Маринке замечаний не решалась, как же — жена самого хозяина! И уходила Маринка на час раньше, потому как Владимир Петрович ей разрешил, как студентке — заочнице. И даже день ей выделил — библиотечный для занятий. А чтобы другим девочкам в бухгалтерии не обидно было, зарплату своей жене положил смехотворную. В половину от самой маленькой.
И тем не менее, с девочками Марина дружила. Во всех посиделках — будь то дни рождения, или какие иные праздники — всегда участвовала, не скупясь ни на шоколадные конфеты, ни на шампанское.
В пятницу на работу к ней — благо прямо на центральной площади, зашла Наташка Гринько. Вся такая модная — отдыхала в Сочи с каким то армяном.
— Пойдем посидим где-нибудь?
Сели в Маринкину вишевую «восьмерку» и рванули по Ростовскому шоссе. Там на выезде из города у Руслан Ахметовича ресторанчик. Там все свои — Маринку знают.
Заказали по шашлыку и бутылку шампанского. Сидели под тентом на воздухе. Через столик — шапочно знакомые бандиты из местных, из тех что под Русланом ходят. Они с Маринкой кивками почтительно поздоровались и сразу как бы потеряли к девчонкам всякий интерес. Не их поля они ягодки.
— Ну как замужем подруга?
— Что как?
— Ну, счастлива?
Марина задумалась.
— Что значит, счастлива?
— Ну, понятно, значит не счастлива.
Марина снова задумалась.
— Почему ты так сразу?
— А потому что вот мне например с моим Гамлетиком уже к вечеру — просто невтерпеж. Я уже после обеда — сама не своя, только и думаю, как поскорей бы вечер, да поужинаем, да и в кровать. А ты думаешь… Значит — нет счастья.
— А у тебя с Гамлетом твоим, значит счастье есть?
— Ты не путай, подруга. Был бы он моим мужем — тогда бы и о счастье можно было говорить, а так кто он? Лю-бо-о-о-вник! А у тебя — муж, объелся груш.
— Ну в таком-то смысле, у нас все нормально.
— И всего то? Нормально — это значит — никак! Вот у меня был до Гамлета Вован — ну наш со школы, на год старше — потом его в армию забрали… Ну так у нас тоже было, как ты говоришь, «все нормально». Он парень спортсмен — качок, мышца — во! Дыхалка — не курит — не пьет. Пахал меня бывало по часу кряду. А Гамлетик — и ростом невелик, и курит, и за сердечко бывает по утру хватается, а в постели — ну нет никого его слаще!
— Ну-у-у-у…
— Что ну? Ты мне скажи, подруга, по Мишке Коростелеву сохнешь еще?
— Не знаю. Видала его на свадьбе, какой то он зачуханный стал при этой Гале Маховецкой.
— Это точно, подруга, Галя его припахала видать, весь сок из Мишеньки, как прессом. Интересно, как она с ним при ее габаритах?
— А мне не интересно.
— А-а-а! Значит, сохнешь еще. А детей? Как твой то насчет детей? Хочет?
— Странный он. Он знаешь, Юльку — дочкой называет, а Сережку — сыном.
— А тебе заделать не предлагал?
— Мы и не говорили об этом.
— Врешь. Никогда не поверю.
— Что то ты очень опытная в семейных делах, Наташа.
— Да так, книжек про это начиталась. А с Мишкой, мне так кажется, ты бы счастлива не была.
— Почему?
— Ну что он по сравнению с твоим Володей? Папаша его денег лопатой не гребет, ездит на старой своей «семерке», на которой Мишка еще в десятом классе разъезжал…
— Думаешь, счастье в этом? Им вон с Галей «волгу» Петр Трофимыч подарил, а счастлив Мишка?
— Ну, Галька то по моему, до самой задницы счастлива… Ты че на меня так смотришь? Не хочешь, я и не буду — сама разговор начала.
Надувшись друг на дружку, девочки замолчали.
— И все таки ты счастливая, Маринка.
— Почему?
— Да сколько классных парней вокруг тебя всегда вьется! И Мишка, и Димка вот Заманский. Другая бы и четверти твоего успеха позавидовала. И в Москве у тебя академик был.
— Доцент. Простой доцент.
— Ха! В Москве за прописку и за шофера, и за грузчика пойдешь! А она целым столичным доцентом брезгает. А что ж Димка Заманский?
— А что? В каком смысле?
— Он же тебя так опекал, и к Руслану на работу определил? Как же он тебя так уступил?
— Не знаю, Наташа. Уж мой — деловой — весь в делах, но Димочка… Но Димочка, по моему хорошо не кончит.
— А чем он занимается?
— Не спрашивай, не знаю. Но кажется мне — не все у него легально.
— Ха, насмешила. А у кого легально? У Руслана?
— Руслану, по моему, до Димкиного уровня — как пешком до Луны.
— Так он — миллионер?
— Не знаю что ты под этим словом себе представляешь.
— Так слушай, познакомь меня с ним! У тебя теперь Володя, зачем тебе Димочка?
— А как же твой Гамлет?
— Ай, да ну его, надоел!
— А как же после обеда я сама не своя?
И девчонки расхохотались так, что бандиты за дальним столиком изумленно стали пялиться на них — Во, девки угорают, наверное про длинного и толстого вспомнили!
……………………………………………………………………………………….
Смотреть европы они отправились всей семьей. Володя еще перед свадьбой говорил, что осенью они с Маринкой непременно отправятся в любой вояж, куда она только захочет. И Марина захотела в Италию, так чтобы и достопримечательности Вечного города осмотреть, и недельку на пляжах потом поваляться. Но Володе поставила условие — или едем все — с Юлькой и Сережей, или вообще не едем.
Владимир Петрович капризничать не стал — купил четыре путевки в ставропольском филиале какого то московского агентства, и семья начала восторженные сборы. Как же! Ни Маринка, ни тем более Юлька с Сережкой — за границей еще не были.
В Москву прилетели рано утром, и тут выяснилось, что их римский чартер вылетает почти через сутки. Юлька с Сережкой даже обрадовались — в Рим летим, а своей столицы еще не видали! На такси сперва доехали до гостиницы «Космос», Володя взял большой двухкомнатный номер «люкс», они бросили вещи, спустились в ресторан, позавтракали. Потом через девушку в «рисепшн» заказали такси на весь день, чтобы не дергаться.
Маринка была за гида. Она села впереди — рядом с водителем и все время оживленно тараторила — вот Новый Арбат — вот сюда в кафе мы с девчонками на первом курсе ходили экзамены отмечать, а вот Большой каменный мост — отсюда, глядите — высотный дом на Котельнической видно — там все знаменитости живут кто в кино снимается, а вот улица Горького — Тверская, вот памятник Юрию Долгорукому, а вот Пушкинская площадь, вот редакция Известий, а это гостиница Минск, сюда мы с девчонками тоже как то ходили в бар, а это памятник Маяковскому, здесь раньше Евтушенко и Вознесенский стихи по вечерам запросто так читали народу…
Заехали и на Ленинские — Воробьевы горы, постояли возле трамплина — полюбовались видом на Лужники. Съездили на ВДНХ. Там в полу-пустынном огромном ресторане в стиле сталинского рококо вкусно и обильно пообедали.
— Володь, а давай в институт заедем? Я может, кого из девчонок повидаю?
— Нет проблем!
В институт поспели только к четвертой паре. Девчонок никого уж не было и в помине. Маринка провела своих семейных по коридорам, — здесь у нас лекции обычно были, вон там — наш деканат, там малые аудитории, где семинары и занятия по группам…
И специально, коридор за коридором, поворот за поворотом — притащила всех своих к кафедре философии.
И не удержалась — открыла дверь.
— Аркадий Борисович!
— Мариночка!
— Здрасьте, Аркадий Борисович, это вот мой муж Владимир Петрович, а это брат и сестренка мои — Сергей и Юля.
— Оч-чень приятно.
— Взаимно
— А куда же вы пропали, Мариночка?
— Замуж вот вышла. Теперь в Италию сегодня ночью летим.
— Молодцом, молодцом…
— А вы как, Аркадий Борисович? Не женились еще? «Победа» ваша как? Еще ездит?
— Нет, не женился.
— Что ж вы теряетесь? Кругом столько студенток провинциальных.
— Да уж…
— Ну, спасибо, всего вам доброго, нам еще надо Красную Площадь Сереже с Юлей показать.
Когда на Красной Площади Юлька с Серегой отбежали поближе к Мавзолею, Владимир Петрович не удержался и спросил,
— Этот в институте — твой бывший ухажер?
— Да, ухажер, — спокойно и не без гордости ответила Маринка
— И ты поехала специально на него поглядеть?
— Нет, поехала ему тебя показать, а это большая разница, ты понял?
В самолете Юлька и Сережка спали, трогательно головами привалившись друг к дружке.
— Я понял разницу, — улыбнувшись шепнул Владимир Петрович
— Какую? — переспросила Марина, не поняв сперва
— Ту, что не на доцента своего поехала смотреть, а ему мной похвастать…
— Ну и молодец, — и ловко обняв мужа мягкою рукой, легко поцеловала его в щеку.
……………………………………………………………………………………….
И ах как она разволновалась, когда стал снижаться их самолет!
Заграница…
Раньше видела ее только по телевизору. И Сережка проснулся. Достал их видеокамеру, что девочки на свадьбу подарили, и снимал прямо через иллюминатор.
— Это там Рим?
— Где?
— Ну вон там!
Внизу пока были видны только крыши — все аккуратненькие такие, красно-коричневые или ярко-зеленые. И дороги.
Дороги, дороги. А по ним ползут сотни и тысячи автомашин.
Ух! Дыханье перехватывает. И Серега хохоча, снимает то ее — Маринку, то Юльку, которая тоже прилипла к иллюминатору.
Только Володя сидел, самодовольно улыбаясь. Ему то чего! В первый раз что ли?
Вот мягко тряхнуло — они коснулись бетонки, и иностранцы, что сидели в салоне, по ихней традиции зааплодировали — «браво, капитан»…
И уже не терпится, не терпится — скорее выйти в этот загадочный мир… Это словно как выйти вдруг в застеколье телевизионной программы «Мир путешествий» с Юрием Сенкевичем.
Раз, и там!
Володя и Сережка похватали их сумки, и вот они уже движутся вдоль кресел салона, мимо стоящей в проеме бортпроводницы… И вот — аэровокзал. Не наш. Не русский. Заграничный.
Еще в самолете заполнили какие то дурацкие иммиграционные анкеты со смешными графами, вроде «занятие», «цель приезда в страну», «где собираетесь жить», «каким транспортом будете добираться от аэропорта», «сумма денег, которой вы располагаете»…
Вот и очередь паспортного контроля.
Граждане стран Европейского Союза — проходят отдельно.
Дискриминация!
— Бон джорно, сеньера! Спик инглиш? Йо паспорт, плиз…
Блямпс! В паспорте, рядом с зеленовато-серебристой «шенгенской» визой, пропечатали фиолетовый штампик.
Мы за границей.
Вся семья.
Эх, мамочка не дожила. А как она любила смотреть программы «Клуб кинопутешествий»!
Не выходя из аэропорта, на паркинге, расположенном в подвальном этаже погрузились в автобус «Неоплан». И Италию стали разглядывать уже из-за тонированных стекол.
Ах, какое шоссе! Широченное, пять полос в одном направлении. И развязки… Машины просто нигде не могут попасть на линию встречного движения. Вот бы папка восхитился, кабы дожил!
И реклама, реклама, реклама… Кока-кола, Чинзано, одежда Бенетон…
То, что на улице плюс тридцать пять — почувствовать так и не удалось. В аэропорту — кондишен. В автобусе — тоже кондишен. И в рисепшен — рум отеля «Рояль-палас» — тоже кондишен на полный ход. Маринке даже зябко стало в ти-шортке с коротким рукавом. И не даром эти белобрысые финки или шведки, что тоже одновременно с их автобусом подрулили к гостинице и теперь второй очередью стояли к администратору за ключами — все запаслись свитерками, обернутыми вокруг тонких европейских талий — этих следствий изнурительных диет и ежедневных бдений в фитнесс-салунах…
У них два двухместных номера. Триста третий и триста четвертый.
Володя с Серегой похватали сумки…
Здоровски! Все здоровски!
Огромнейший, совмещенный с ванной туалет — содержит еще и би-де. Она его первый раз увидала, но догадалась что и зачем. А в стерильно — голубой кафельной этой красоте висят два огромных ослепительно белых махровых халата и две пары таких же снежно-белых полотенец. И кабы не сознание того, что в пяти шагах от гостиницы — Адриатическое море, так и хотелось бы прыгнуть в ванночку!
Две огромных кровати. Телик, холодилдьник, бар… Окно-дверь в лоджию.
А там под окном — даже не верится! Пляж и пальмы.
Любопытные Серега с Юлькой прибежали из своего номера, -
— Ой, а у вас тоже в баре бутылочки с виски и вином?
— Серега! Чтоб не смел!
Володю ничем не удивишь…
— Сережка, ты пепси или кока-колу из мини-бара не бери, она вдвое дороже получится, мы будем колу и пиво в магазине покупать — получится вдвое дешевле.
Все Володя знает! Умный.
Так забавно, море рядом, но в самом море проживающие в Рояль-паласе не купаются. К услугам дам и господ — огромный бассейн, воду для которого закачивают той трубой, что по морскому дну уходит от берега метров на триста. Им с их третьего этажа из лоджии эту трубу очень хорошо видно. Утром до завтрака — в бассейн!
В лифте белобрысые шведки и финки скалят Володе свои безукоризненные дентальные достоинства, капризно выговаривая, — «мо-оо-рнинг».
На Маринку они не глядят — завидуют ее свежести и красоте. А на Вову явно пялятся. Начитались, видать, в журналах про богатство «новых русских».
Интересно, что они про Маринку думают? Вове под пятьдесят — ей и двадцати не дашь… А плевать что они думают.
В вотер-баре, так называется их гостиничный бассейн, мальчик разносит деревянные лежаки, на которые надо стелить те белоснежные полотенца из ванной… За эту услугу полагается дать тысячу лир. А другой бой — из бара приносит либо пиво, либо колу со льдом, либо вино с фруктами и тоже со льдом — этакий хмельной компотик… Подносит — и ему тоже тысячу лир, сверх счета за напиток.
А вокруг финок со шведками в открытую крутятся «мальчики» иной профессии. Накаченные в спорт-залах красавчики, сперва производят впечатление попрыгав с вышки и красиво — сильным кролем пару раз пересеча гладь бассейна, а потом они подсаживаются к лежакам, где нежатся северные блондиночки… Вова говорит, что эти джиголо — или просто — проституты — сказочно богаты. Все как один — на «феррари» последних моделей. Бр-рр! Гримасы капитализма!
Обедали в открытом кафе на самом берегу. И естественно — макаронами! С красным вином «кьянти». Володя уговорил Маринку, что Сереге и Юльке — можно.
— Вон, смотри за соседним столиком — американцы своей дочке, а ей меньше чем Юльке — тоже наливают!
Макароны с сыром, томатом и морепродуктами… Ух! Маме бы понравилось. А папка бы наверняка все опошлил, сказал бы что стаканчик «кубанской» под огурец и жареную картошечку с салом — в сто раз лучше любого «кьянти»…
Потом оставили Юльку с Серегой в номере — щелкать программами по телевизору. Как бы не передрались! Юльке все диснеевские мультики подавай — их круглосуточный канал крутит, а Сереге — спорт и эротику. Володя говорит — это кабельное тэ-вэ у них в гостинице.
— Серега, дай Юльке смотреть то, что она хочет!
— А тогда вы меня с собой в дискотеку берите!
В дискотеку пошли все же без него. Вдвоем.
Спросили у рисепшен где «найт клаб», потом взяли такси и проехали где-то километра три по побережью. Весь Римини — сплошная череда гостиниц, ресторанов и дискотек.
Вова вообще танцором оказался нестойким. От стробоскопа и гремящей кислотной музыки у него сразу разболелась голова. Тогда решили поужинать и идти в казино. «Поиграть по маленькой».
Маринка захотела попробовать всей роскоши морского дна. И лангуста, и омаров, и устриц…
Вова на ломаном английском заказал дюжину «ойстер». С ними хлопот не было. Берешь перламутровую раковинку и вилочкой с нее снимаешь кусочек белого сырого мяса, предварительно капнув туда соусом — на выбор… Их подали несколько сортов в серебряных соусницах, все розовые вроде майонеза. Она сходу съела шесть штук… И смогла бы еще.
— Оставь в животе место, устрицы — штука опасная, они очень сытные — вот увидишь…
А с этим чудовищем — морским раком, пришлось повозиться. Специальную к нему еще пилу дали… И Вова глядел на нее и посмеивался, потягивая французское белое под свои пол-дюжины «королевских креветок». И все-таки, как она ни осторожничала — забрызгала — таки свое белое платьице… Куда теперь в таком виде! В какое еще казино?
Впрочем, его можно и отложить до завтра. У них впереди еще шесть таких вечеров!
И по морской набережной пошли назад пешком в свой Рояль-палас. Володя обнял ее за плечи, а она совершенно счастливо прислонила к нему свою светло-русую головку…
А на утро Вова взял на прокат машину. Белый «Фиат». Прокат машин прямо в гостинице. Плати двести тысяч лир — и машина на сутки твоя.
Цель была наша — исконно советская. Поход за шмотками!
Вова все выспросил у портье в рисепшен и поехал дальше никого не спрашивая. Пол-часа вглубь материка от моря, и они оказались возле универмага, расположенного в буквальном смысле среди самой настоящей пустыни, если не брать в расчет огромную парковку, полностью забитую тысячей машин и широченную автомагистраль, проходящую мимо этого оазиса торгового обслуживания.
— Вот, Мариночка, надо у них поучиться как торговать…
И учиться было чему.
— Гляди, у них все товары висят по одному экземпляру. Мы же вешаем одного костюма или одного пиджака — шесть раз одного артикула кряду. Затовариваем торговый зал — ленимся гонять девок до склада и обратно. А у них даже по размерам и артикулам — один образец. Понравилось покупателю — он девку попросит притаранить со склада его размерчик, зато какое разнообразие! Вот так надо в нашем универмаге делать. Вот вернусь — все переиначу.
Сереге накупили всего чего он хотел — высокие мотоциклетные ботинки на толстой рифленой подошве, камуфляжные брюки — просто писк! И кожаную куртку-косуху на ста молниях и с миллионом заклепок по спине.
Юльке — кожаное макси — пальто до самого пола.
— Это тебе на вырост, дура, — съехидничал Серега
Потом купили Юлечке две пары джинсов — каких в Ростове ни у кого нет. Зеленые и бордовые. С цветными кармашками. Потом всяких ти-шорток, шляпу смешную, зонтиков штуки три, туфли…
А Маринка выбрала себе шерстяной строгий костюм английского стиля. Бизнес-вумэн. К нему туфли и сумочку. А потом туда же — плащ-парку и шляпу. Потом не удержалась и тоже купила себе веселенькие джинсики. И покуда мерила, Вова все порывался в кабинку подглядеть. А она ругалась на него из-за занавески. А девушка-итальянка, одиноко наблюдавшая этих русских — понятливо улыбалась.
Вова дико ругался, потому что ни его пластиковая «виза», ни «мастер-кард», оформленные ростовским отделением Бета-банка в универсаме не проканали.
— Я им там всем башни вернусь — поотшибаю! Они мне мамой клялись, что все в порядке будет…
Хорошо — запасливый Вова наличных долларов с собой захватил вдоволь.
— Милый, милый, милый, милый, милый, -
Нараспев говорила ему Маринка, когда после обеда они ползали по огромной Маринкиной кровати. Она пальчиком чертила по его рыжей веснушчатой груди и твердила,
— Милый, милый, милый, милый, милый,
……………………………………………………………………………………
Пока за окном самолета угасал вселенский закат кисти Рафаэля, они еще отталкивали друг друга, чтобы увидеть всю панораму целиком. Юлька прижалась к стеклу носом и не отлипала ни разу, до тех пор, пока смотреть уже было не на что. Восхищалась молча и глубоко. Серега выдавал свои «Ух ты, классно!», «Клево» и «Вааще». Смотрели и пытались запомнить на всю жизнь. Во всяком случае, Маринка запоминала сознательно, а не просто глядела. Запоминала, потому что рядом с ней сидел Володя. И даже мощь заката вместе с яркостью мироздания казались ей продолжением его лучших качеств.
В чем-то она была права. Ведь не было бы его, не увидела бы она этого заката. А если бы и увидела, то совершенно другими глазами.
От ребят Маринку отделял проход. На заходящее солнце она смотрела в их окно, сидя боком в кресле. Когда закат отболел, и умер, облака внизу стали похожи на темно-серую пыль в неряшливом доме. А сверху и сбоку в космически темном небе появились звезды. Серега важно скрестил на груди руки и глубокомысленно закрыл глаза. В полумраке салона сон сморил всех. Маринка передала свой свитерок Юльке, что бы та устроилась поуютнее. А когда обернулась, наконец, к Володе, он тоже уже засыпал. Улыбнулся, не открывая глаз, нашел ее руку, да так и оставил в своей ладони. Это уже стало для него привычным жестом. Привычным и необходимым…
Отсутствие желаний — состояние достойное буддийского монаха. О том, что она близка к тибетскому идеалу, Маринка узнала внезапно. Просто увидела, как чиркнула по темному небу падающая звезда. В эту долю секунды душа ее заметалась, выискивая в своих закромах хоть какое-нибудь стоящее желание. «Ой, не успею…», — промелькнуло в голове, — «ну, гасни ты, что ли скорее!». Но самое смешное, что живучая звезда, будто издеваясь, все кроила и кроила свой шов по небу, и Маринке стало совершенно ясно, что в запасе у нее не осталось ни одного животрепещущего желания. И вот когда она заученно, как «иже еси на небеси» начала шептать «что бы все были живы и здоровы…», звезда не дождалась и погасла. Долго ждала она от Маринки чего-то очень важного, да так и не услышала. А выполнением таких банальностей, как всеобщее здравие, звезды обычно не занимаются. Вот если бы чуть-чуть поконкретней…..
В Италии она впервые почувствовала радость от своей красоты. Ее принимали восторженно — апплодировали, посылали воздушные поцелуи просто проходя мимо по улице и обязательно экспансивно кричали «Белла», как старой знакомой. При этом Маринка совершенно отчетливо понимала, что все эти возгласы происходят от природной итальянской любви к прекрасному. К ней, как к личности они никакого отношения не имеют. И это было чрезвычайно приятно. К тому же, она несколько раз видела, как точно также поступают при виде других симпатичных девушек. А ими итальянская земля была богата. Маринка сначала смущалась и даже украдкой поглядывала на мужа, может ему это неприятно? Но Володе, кажется, это доставляло вполне ощутимое тщеславное удовольствие. Ведь любому мужчине приятно, когда его женщину считают красивой. Особенно, когда при этом на нее не претендуют. Для Маринки это был просто праздник. Женщина в ней цвела и доверчиво распускала лепестки.
В Москве она уже успела привыкнуть к другому. К тому что взгляды она ловила наглые, липкие и голодные. К тому, что в транспорте смотреть лучше в книгу или под ноги. И что темными вечерами топать к себе через пустырь лучше всего широкими шагами, ссутулив спину и надвинув на глаза шапочку. Она делала это инстиктивно, когда слышала, что сзади кто-то идет. Не то, что бы она боялась. Просто, очень не любила уличных знакомств. А они сыпались на нее, как назло. Большинство удавалось пресечь в корне. Однажды приятный молодой человек взял ее под руку и просто предложил: «Девушка, пойдемте прожигать жизнь!». А она задумчиво ответила: «Я, кажется, уже прожгла…» И молодого человека, как-то вдруг рядом не стало. Испугала она его.
… Маринка не могла заснуть. Ей хотелось любовно перебрать все свои свежие воспоминания. А одной ей в последнее время оставаться практически не удавалось. Самолет как-то подозрительно бесшумно летел. Это что бы никого не разбудить, потому что ночь… — подумала Маринка и сама засмеялась. Тихо было просто потому что никто не разговаривал. Маринка задержала взгляд на своих новых черных брючках и пожалела, что помнутся. Вся она была новенькая. И загорелые до черна руки свои с золотым браслетом и с обручальным кольцом не узнавала. И то, что происходило в душе тоже было новеньким….И ей эти перемены были по душе….
«Чао БэБэ» — повадился ей говорить лучезарный итальянец на ресепшене. Она улыбалась ему, но не очень уверенно, потому, что не понимала, почему он ее так называет. И однажды, когда ей нужно было забежать в отель за забытым купальником, она преодолела некоторую неловкость, (все таки с иностранцем говорила впервые), и попыталась на слабеньком своем английском узнать, почему он ее так называет. Итальянец понял, довольно разулыбался, посмотрел на нее загадочно, помолчал для полновесности и сказал только «БэБэ — Брижит Бардо. Белиссима!». А когда вечером она рассказала Володе, про БэБэ, он рассмеялся. «Я правда похожа?», спросила она с какой-то детской надеждой во взгляде. «Только со спины», сказал он, улыбаясь. «А лицом?» — спросила Марина, которая Брижит Бардо себе представляла плохо. «Боже сохрани!» — ужаснулся он. «Ты же не болонка! Ты красавица! И вообще, Мариша, девочка ты непростая… Знаешь, только не обижайся…ты как обложка плэйбоя с ликом Божьей матери. Гибельная девочка. Хорошо, что теперь моя. Мир, можно сказать, спас».
Когда забрали Сережку, и она тут же стала терять все к чему притрагивалась только потому, что пыталась что-то делать, а не сидеть сложа руки, она с ужасом поняла, что сделай она еще хоть шаг — и потеря не заставит себя ждать. Выбирать-то особенно не приходилось. Из ценностей оставались только она сама и сестра. Ясность эта пришла к ней, как во сне, когда нелепейшие вещи кажутся сами собой разумеющимися. И она, не робкого десятка девочка, вдруг стала бояться не чего-то конкретного, а вообще всего.
А он спас. Пришел, как анальгин во время жуткой головной боли. И снял ее. И ей не надо было больше ничего делать. Она просто доверилась. Он только сказал ей — Делай так, как я говорю и не делай так, как я не говорю. Это было волшебство. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете…»
Он не ставил ей условий. И это приятно удивило. После того, как все ее самостоятельные попытки изменить ход вещей напарывались на постоянные условия: или — или. А самое ужасное — условия эти вероломно не соблюдались. Она просто потеряла ориентацию. Как играть в эту игру, когда правил не существует.
Он не сказал ничего, что было бы похоже на торг — я вытащу твоего брата, но ты должна вытий за меня замуж. Он просто молниеносно начал решать ее проблемы. Вошел в ее жизнь без предварительных договоренностей. Как гроза и солнце, ливень и первый снег. Случилось так.
И когда, наконец, все закончилось, она сказала ему: «Не знаю, Владимир Петрович, как Вас и благодарить. Всей жизни для этого не хватит». Он стоял спиной. Именно поэтому она и затронула эту сложную для себя тему. Что бы не смотерть ему в глаза. Он тоже решил не поворачиваться. Но ответил твердо и в каком-то наступательном режиме: «Всей жизни не надо, Марина. Мне хватит и половины, если ты проведешь ее рядом со мной». Он смотрел в окно. А может и не смотрел. Скорее всего глаза его в эту минуту были слепы. И только широкая спина, как локатор, ловила вибрации ее души всей своей обширной поверхностью.
Она не сразу поняла. Как-то слишком быстро у нее в голове изменился орнамент ситуации, как в калейдоскопе, который резко встряхнули. У нее было полное ощущение, что она пришла к человеку в белом халате сверлить зуб, а он предлагает ей стрижку «сэссун». Это нужно было осмыслить. Но думать времени не было. И потому она решила срезать угол, и довериться интуиции. А интуиция, как лакмусовая бумажка мгновенно окрасилась всеми цветами переливающегося «Да». Потому что иначе — опять одной в этом страшном мире, где за каждым кустом серый волк. Если тебя хоть раз напугали, набросившись в темноте из-за угла, ты никогда не будешь чувствовать себя уверенно. А Маринка прекрасно помнила, все те ночи, проведенные в бреду безисходности и несчастий. Когда она не могла заснуть. И ей сжимала горло и скручивала гигантская судорога собственного бессилия. Обратно туда ей не хотелось.
И когда Владимир Петрович, наконец, обернулся, ответ он легко прочел в ее глазах. Обошлось без лишних слов.
Она, конечно, была готова к тому, что ей придется как-то расплачиваться. Не слепая же… Видела и предчувствовала то, что может их с Корнейчуком свести. Давно знала. Но по наивности думала, что ей просто нужно будет один раз сжать зубы и закрыть глаза. Что бы ничем не выдать своих чувств и не оскорбить хорошего человека И это было для нее вопросом решенным. Но теперь она лишний раз убедилась в том, что абстрактное женское тело в наше время особо не котируется. Предложения явно превышали спрос. Зато поняла, что на самом деле речь идет о том, что бы отдать душу. А тело: так…впридачу. Не выкидывать же его…
….Маринка осторожно высвободила руку из под тяжелой ладони своего мужа. Заворочилась в своем кресле Юлька. Пихнула ногами брата. Тот непонимающе открыл глаза. Маринка дотянулась до него рукой и тихо прошептала «Спи, спи, еще долго». И он устроился поудобнее и тут же заснул опять. Маринка с любопытством взглянула на Володю. Ей все никак было не привыкнуть до конца, что судьба сыграла с ней такую шутку. Это мой муж? Спрашивала она себя, и сама же отвечала довольная — Да. Это мой муж. И тут же улыбнулась. Вспомнила, как однажды попробовала называть его Вовой. А он ей рассказал, как мама впервые оставила его в детском саду. А когда забирала, ей воспитательница сказала: «Хороший мальчик, только что ж вы не предупредили, что он плохо слышит». Просто воспитательница целый день звала его Вова, а он понятия не имел, что так его тоже можно звать. Мама всегда звала Володькой…
Он ей все время рассказывал что-то смешное. И ей никогда не нужно было искать тему для разговора. А ведь она боялась, что придется. Ведь они из разных поколений. Но иногда ей казалось, что он в душе моложе, чем она.
После разрыва с Мишкой, она смеялась очень редко. Целый год, который она провела в Москве, ей казалось, что душа ее ушла в монастырь. И смеяться этот внутренний статус ей не позволял. Она улыбалась. Без этого было сложно. Но все ее глубинные страдания притягивали к ней мужчин, как магнитом. Потому что во взгляде ее ясно читалось, что она «девушка с прошлым». Она бы сама никогда не догадалась. Ведь со стороны себя не видела. Но ей об этом поведала, соседка по квартире и временная подружка, в которой мучительной смертью умирал психоаналитик, потому как профессию она выбрала вопреки призванию. Как бы там ни было, а весело улыбалась Маринка только тогда, когда приезжал Дима, доценту же Савицкому полагалась лишь легкая усмешка. А потом, после смерти отца, естественно, тоже было не до смеха.
И вот так получилось, что смеяться до слез ее снова научил только Владимир Петрович Корнейчук. Его юморок был простоватым, но действенным. Все дело было, конечно, в личном обаянии. Не зря женщины всегда любили Корнейчука. Если бы кто-то из московских студентиков так пошутил, она бы, наверно, пожала плечами. Но когда Володя на итальянском пляже, чуть не споткнулся о загорающий экземпляр топ-лесс, то выдал при этом на полную громкость:
«Девушка красивая в кустах лежит нагой
Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой».
И Маринке стало так смешно, что она шла за ним, еле разгибаясь от смеха. Публика на пляже, как Маринке показалось, была какая-то наивно доброжелательная, и ей тоже все поддерживающе улыбались. У нас так не сделали бы, сквозь смех успела удивиться она. Неободрительно покосились бы, наверно.
С Володей ей было весело всегда. А когда он говорил на громком русском языке с итальянцами, его каким-то удивительным образом понимали легко, а главное охотно. В магазине он из этого устаивал целое представление. Юлька с Серегой просто лопались от смеха. А Маринке было неудобно смеяться, жалко было продавщицу. Володя же ей говорил «А принеси-ка нам милая вот такую вот блузочку только поменьше. Есть у тебя такая?» И девушка понимала и приносила. А он ей говорил «Ну ты умница, видишь, все и понимаешь, а делаешь вид, что не говоришь». И при всей этой нелепой ситуации, ощущение создавалось, что право говорить на родном языке у Корнейчука есть и точка. Органично это у него получалось, красиво, уверенно и с любовью. Никто и не протестовал. Но в банке, выясняя вопросы, касающиеся карты, Маринка-то знала, говорил он на вполне приличном английском. Так что в свободное от дел время, просто для нее старался.
Она вообще с удивлением стала замечать, что ее уважение и благодарность к этому человеку стали перерастать во что-то личное и большее. Она поняла, что ей хорошо с этим человеком. Спокойно и радостно. Она вспомнила, как пыталась что-то объяснить про него Наташке. «Что ты мучаешься? Как за каменной стеной что ли?» А Маринка ответила — «Нет, Наташка. За каменной стеной темно, сыро и пахнет плесенью. А с ним солнца много и нестрашно». Потом она вспоминала об этом разговоре, и спрашивала себя в который раз: А если бы он выкупил Сережку и дом на последние деньги? Остался бы нищим? Было бы ей с ним также радостно и нестрашно? Но ответ она знала. Если бы он стал нищим, сохранив ее дом и выручив Серегу, она бы поступила так же, как поступила. Потому что замуж она вышла не за деньги, а за того, кто спас ее семью. Да и нищим надолго он бы не остался, с его-то характером и хваткой.
Иногда, правда, она с ужасом понимала, что всеми-то своими деньгами он бы жертвовать ради нее не стал. Но выйти за него замуж возможно и предложил бы. Вот только она бы вряд ли согласилась. Да и он, скорее всего, побоялся бы предложить… Вот и получается, что деньги сыграли главную и единственную роль. Когда она так думала, ей становилось на душе скверно, как будто бы она продалась. Но потом она ожесточенно и безжалостно себя поправляла: «А собственно почему „как будто“? Так оно и есть». Но жертвой себя Маринка, как ни старалась, почувствовать не могла. К тому же она вдруг поняла, что за все время своей замужней жизни не вспоминала про Мишку почти ни разу.
А если разок и помянула про себя, то только потому, что был у него некий статус в ее жизни. Но вспомнила об этом она скорее с досадой.
Вот ведь сплошные проблемы. Девственность — проблема, отсутствие ее — тоже. Во всяком случае, Маринка не знала, как с этим быть. Она хотела, что бы все было по честному, что бы ее семейная жизнь не пострадала бы сразу от ее мучительных тайн. «Ты ничего не хочешь у меня спросить?». «А что спрашивать? Вот если бы у тебя никого не было, тогда можно было бы спрашивать. А так… Ревновать-то не к кому, я же вижу, ты ничего не умеешь. Чиста, как ангел». «А ты научишь меня?» И он счастливо рассмеялся, прижал ее к себе и пробормотал. «Глупая какая, сил нет…»
А теперь уже полгода спустя ей все время приходила в голову странная аналогия. Когда кофе завезли в Россию, его никто не умел варить. А зерна нежареные просто жевали, и в кашу добавляли. Вот и ей сейчас смешно было вспоминать свой школьный любовный опыт и торопливого Мишку. Она точно, как зерна незрелые жевала. А думала: «Едали мы ваш кофей». И даже не знала, что на самом деле — это божественный напиток, от которого вполне можно впасть в зависимость.
Ей, конечно, нравилась его щедрость. И то, что он, не поморщившись, купил подарки обеим ее подружкам. И именно те, которые она хотела. И все эти платья, сапоги и туфли, которые он заставил ее купить в последний день, тоже нравились. Но золото, которое он бережно застегивал на ее высокой шее, внушало ей какой-то непонятный страх. Она носила украшения, которые он подарил, что бы доставить ему удовольствие. На ее загоревшей коже золото и вправду смотрелось, как продолжение ее самой, вышедшей из морской пены. Но после всего, что она пережила, она остро чувствовала цену вещам. И ей казалось, что это лишнее. Что это ее ошейник. Нельзя к этому прикипать душой. Она это чувствовала. Нельзя привыкать. Нельзя расслабляться, иначе жизнь обязательно одернет.
По правде говоря, финансовые возможности Корнейчука Маринку немного пугали. Она с некоторым ужасом смотрела на то, как он покупает ребятам все, что им хочется. До добра баловство не доведет. Ей и так было боязно за Серегу. И теперь ей оставалось лишь уповать на то, что Володя не будет равнодушен к его судьбе и дальше. И что Сережка поймет, что над ним есть властная рука, которая возьмет и заставит делать то, что надо. Она с тайной радостью замечала уже, что Сережка на Володю оглядывается, прежде чем что-то сделать. Спрашивает. И Володя вроде бы вполне к нему расположен. Времени бы только хватило. Приедут. Закрутятся дела. А там и не уследишь, если что не так. О Юльке она особо не беспокоилась. Уж сестренка то ее всегда понимала с полуслова. И потом маленькая еще — всегда рядом.
Два дня назад, когда ребята уже отправились спать, Володя вдруг предложил ей, «А пойдем искупнемся в море» И она радостно согласилась. Все цивилизованные люди купались в красиво подсвеченном бассейне. А русскому человеку захотелось к природе-матери. Стали выбираться к побережью, и неожиданно наткнулись на решетку с замком. Пляж оказался закрыт. Такой вот абсурд. Володя вспомнил, они же закрывают пляж сразу, как только заканчивают работу спасатели. И они пошли искать другой выход к морю. Но куда ни спускались, каждый раз натыкались на решетки с надписью «частное владение». Оказалось, что к морю пробраться вообще невозможно. Вернулись обратно. И Маринка решила, что надо лезть через ограду. Перелезли легко. Ограда от такой наглости защищена не была. Пока ходили, и купаться уже расхотели. Просто сели у берега на песок. Просто поговорили.
«Володь, расскажи мне о себе…» «Спрашивай, что хочешь. У меня от тебя тайн нет». И она, конечно, спросила то, что с некоторых пор стало ее интересовать. Хорошо, темно было. И можно было говорить обо всем и не краснеть. Она хотела знать о нем все. Ведь 45 лет его жизни были ей изветсны не очень хорошо. О чем они частенько беседовали с ее отцом, она не знала. Тогда ей это не было интересно. Но теперь она старалась вспомнить все, что видела сама. Ведь она на самом деле она помнила его с детства. Значит, видела его, когда ему было еще лет тридцать. Пыталась представить его таким, как тогда. Но сейчас ей казалось, что он всегда был таким же, громким и заметным. Она, конечно, спросила его про его женщин. И он ей рассказал. Все что он говорил, было для нее важно. Но только он-то ведь был уже мужик мудрый, и конечно, не стал ей говорить того, что ей было бы неприятно услышать: кого любил без памяти, а перед кем был виноват. Впрочем, и ее ответная откровенность плавно обогнула все острые углы ее еще совсем короткой, но сложной жизни.
Маринка спросила его, почему же он до сих пор не был женат. И он, конечно же, ответил так, как ответил бы на его месте любой любящий муж. «Тебя ждал». А потом он рассказал ей целую историю. Может быть для того, что бы перевести разговор в другое русло. А может, его эта история и вправду так занимала. Она помнила ее слово в слово, как он рассказал, потому что ее поразило, что он способен нагромоздить такую романтическую чушь. «В одной древней стране мужчины выбирали себе будущих жен из девчонок лет десяти. Мужчины были старше своих жен как минимум лет на пятнадцать. Забирали их себе в дом, заботились о них, как о своих дочерях. Няньки воспитывали их и учили, пока мужчины были на войне. А когда мужчины возвращались из военных походов, то привозили в подарок будущим женам игрушки. И даже наказывать девочку за провинность мог только ее будущий муж. Тебе уже страшно, да? А когда девочке исполнялось 16, играли свадьбу. И мужа своего она, конечно, уже прекрасно знала. В соседней стране возмущались этому дикому обычаю. А здесь мужчины просто недоумевали, как можно жениться на чужих взрослых тетях? Мало ли что эта тетя выкинет? А как она будет воспитывать наследников? Хоть кто-нибудь может это предсказать? Так вот, я наверно, должен был родиться тыщу лет назад в той стране. Я тоже так и не понял, как можно жениться на чужой взрослой тете. А ты — я вырвал тебя у судьбы. И, конечно, ты последняя женщина в моей жизни».
Маринка улыбалась, вспоминая эти слова. Действительно. Не осталось у нее ни одной отчетливой мечты, которая бы за последнюю неделю не сбылась.
…В Москву прилетели еще затемно. Володя помрачнел, а может, просто не выспался. Ребята нахохлились, как воробьи. И только Маринка почувствовала, что соскучилась по дому. Родина же встретила, отчетливо повернувшись спиной. Маринка не знала тогда, что все сограждане, приезжающие из-за границы, всегда получают одинаково хлесткую пощечину от прикосновения к Отечеству….
7.
На пятый курс у Мишки терпения не хватило. И как только ввели в институте эти неслыханные досель европейские новшества с бакалавриатом и магистратом, получил он диплом юриста-бакалавра и вместе с тестем — полковником милиции Петром Тимофеевичем Маховецким, поехал в Москву, в министерство, устраивать свою карьеру. Были у тестя в министерстве кое-какие кумы и кумовья, потому как после череды утомительных смотрин, превратившихся в самые обычные попойки на чьих то дачах и в чьих то охотничьих домиках, Мишка возвратился в родной Новочеркесск лейтенантом милиции, оперуполномоченным вновь созданного отдела по борьбе с организованной преступностью. А преступность в городе была. И касалась она самых близких, самых родных людей.
Утром в пятницу убили Корнелюка. Он только из Италии с молодой женой вернулся! Убийцы были в двух «жигулях» — в двух белых «шестерках». Первая стала тормозить перед капотом его бутылочно-зеленого «черроки», вынудив Владимира Петровича остановиться, а из второй «шестерки», поравнявшейся с джипом Корнелюка, ударили очередью из автомата. Почти в упор — рассадив все боковое стекло и в решето издырявив водительскую дверцу.
Милиция приехала даже не по звонку соседей, а на шум выстрелов, почти через минуту, но киллеров уже и след простыл. Городок — то маленький, чай не Москва! И план «перехват» тут делать легче всего — два выезда из города по Ростовскому шоссе, да по Симферопольскому, и две дороги — одна на Рыбсовхоз, а другая на Военный городок… Обе «шестерки», без седоков нашли уже через пол-часа — в кустах за городским стадионом, а в них и автомат АКСУ с пустым рожком, но убийц, которых по словам двух случайно видевших стрельбу — было трое, не только не обнаружили, но даже не смогли теперь установить — в какой машине или машинах, они разъехались.
Мишка… Михаил Константинович Коростелев сразу подключился к расследованию.
— Идем с женой убитого поговорим, — приглашающим жестом руки махнул ему начальник отдела майор Цыбин, — ты ее знаешь?
— Я учился с ней в одном классе.
— Понятно…
— Марина!
— Мишенька!
Марина бросилась к нему на шею и забилась в беззвучных рыданиях…
Второй траур за полтора года… И платье это — черное, Володя ей подарил к похоронам отца.
И снова, как в уже сто раз виденном кино — тетя Люда и дядя Вадим из Кисловодска, хлопочущий Петр Трофимович, занавешенные зеркала и остановленные часы на стене…
— Господи, да за что ж горе то такое? Мы ж только пол-года, как на свадьбе вашей гуляли!
Руслан… Руслан Ахметович сам лично приезжал со сворой своих боевиков. Они явно насмотрелись дешевого гангстерского кино — все по сезону в светлых костюмах, и черных рубашках… без галстуков. Что им галстуки Аллах что ли запрещает?.
— Марина, я тебе соболезную. Володя был не слишком молод, но он был тебе муж. А у нас это много значит для женщины. А вернее — все! Муж — это и повелитель, и кормилец, но и защитник. Как ты теперь будешь жить, Марина? Раньше у тебя ничего не было, и то, трудно тебе было одной. Теперь у тебя большие владения и деньги. И еще труднее тебе будет. Поэтому, продай мне универмаг. Тебе же спокойней будет.
Марина выслушала Руслана молча, он поклонился и вышел, эффектно отъехав от дома всеми своими автомобилями своей сверкающей свиты.
— И ты не послала его к чертям? — спросил Мишка
— Нет
— Это же они, это же он убил!
— Я знаю
— Так почему ты так с ним разговариваешь?
— Послушай, Миша, я ведь женщина… Я ведь не могу выхватить пистолет, как это у вас там и бах-бах… — Марина вдруг зарыдала
— Марина. Я припру его, я его выведу на чистую воду…
— Э-э-эх, Мишка, мне не на чистую воду его выводить надо, мне надо семью спасать — Сережку, да Юльку. А они, пока универмаг на меня записан, от нас живых не отстанут… Мне мужчина нужен. Кабы ты вот… Кабы ты тогда меня не бросил!
— Марина, я же не могу Галку так вот просто… И тесть — да он меня за нее застрелит. Он мне так и говорил, между прочим.
— И-э-э-эх ты! Размазня, ты, а не мужик, Мишка. И за что мне все это? За мои грехи… Но Юльке то за что? За что Сережке?
Схоронили Владимира Петровича в Ростове. На кладбище, казалось, пол-города собралось. Одних «мерседесов» — было не меньше полусотни. Оставлять в Новочеркесске Юльку и Сережу одних — Марина не решилась. Взяла с собой. Пожили они в Володиной, а теперь в ее ростовской квартире недельку — другую, а домой то возвращаться надо. А дом? Вместо дома — один только фундамент. И разве можно считать домом те две двухкомнатные квартиры на улице Ворошилова? Так что, надо ехать в Новочеркесск — строить дом. Их дом. И она должна его построить.
В универмаге все было как то нервозно и неспокойно. Исполнительный директор Геннадий Александрович Степанов и главбух — Зинаида Львовна Капентер, пожаловались Марине, что люди Руслана Ахметовича бывают здесь каждый день, и буквально терроризируют персонал. В открытую говорят, что универмаг скоро их будет. Что делать, Марина Викторовна?
Что делать, Марина Викторовна? — спрашивала она сама у себя, когда гасила ночью свет. И подумав, отвечала сама себе — жить будем. Дом будем строить в нашем саду. Будем Юльку с Сережкой в люди выводить. И ни за что не отдадим универмага. Потому что Володя заслужил того, чтобы его дело не пошло прахом и не легло в карман Руслана. Володя тогда за освобождение Сережки — Руслану стекляшку двухэтажную отдал. А она по нынешним ценам — двести тысяч с хвостиком потянет.
Не отдам им универмага! Сама из пистолета научусь, но универмаг им не отдам. Фигушки — выкусите!
Мишке позвонила сама. Прискакал к ней на ее квартиру на улице Ворошилова аж через десять минут.
— Тебе теперь хорошо — повод есть со мной встречаться, допрос потерпевшей… Или я свидетель?
— Перестань, Марина. Мне тоже неловко.
— Нет, мне то не неловко. Мне как раз ловко. Я ведь от тебя хочу одного — отбей мне мою собственность! Защити. Не как муж или любовник, а как мент, которому мой муж сотнями тысяч налогов платил в госбюджет. Так что — мне очень ловко тебя просить.
— Ладно, не трави душу.
— Так, можешь? Могу на тебя рассчитывать? Замуж меня ты не берешь — Маховецкий тебя за это застрелит, а тебе страшно, а если Руслан тебя стращать начнет… А он начнет! Тебе тоже будет страшно меня защищать?
— Марина, прекрати!
— Нет, не прекращу. Ты меня в состоянии защитить? Честно говори, я тебе не чужая.
— Марина, как юрист, я тебе вот что скажу, ты единственная наследница. Но процесс вступления в наследование имущества мужа еще не завершен. И пока ты не вступишь в официальное владение, Руслан с тебя пылинки будет сдувать. Он тебя пока на понт берет. Он оказывает на тебя психологическое давление. А пока все формальности не завершены, ты и продать то ему ничего не сможешь.
— А если он меня сейчас?
— Убъет?
— Ну…
— Тогда он ничего не получит.
— Почему?
— Да потому, что еще пол-года ждать придется покуда новые наследники обнаружатся.
— А мне мой юрист говорил, что Руслан хочет универмаг снова на торги выставить, за спорностью приватизации. А здесь ему меня это самое — как раз на руку.
— Не бойся. Я тебе обещаю, сам тебя стеречь буду, а в универмаге — пост милицейский вам поставлю — круглосуточный.
— Сам то ты меня насторожишь… Насторожишь так, что Петр Трофимович тебя прихлопнет за Галю.
— Маринка…
— Что?
— Я ведь тебя люблю.
— Подлец ты, Мишка! Настоящий ты подлец, — сказала Марина совершенно без злобы и положила ему на плечи свои мягкие и легкие ладони.
— Да, подлец, — согласился Мишка, нервно сглатывая слюну.
— Полный подлец, — потому как бросил меня тогда… А бросать никогда нельзя. Никогда нельзя после слов, после слов, что любишь.
Дима Заманский предварительно позвонил. Позвонил, что хочет заехать. Выразить, так сказать, соболезнование.
— Я про наезды Руслана знаю. Из первых рук.
— И что предлагаешь? Защиту?
— Я тебя замуж теперь зову. Только не из-за денег, что на тебя свалились. У меня у самого деньги есть.
— И опять ты опоздал, Димочка!
— И кто же мой счастливый соперник?
— На этот раз — мое одиночество.
— Неужели в монастырь?
— А может быть. Не исключаю. Дом только брату с сестрой дострою, да универмаг им передам в хорошем состоянии.
— Значит Мишка Коростелев… Понятно!
— Есть вещи, которые не надо говорить вслух.
— Ты права. Ты очень умная женщина. Я восхищаюсь тобой. И всю жизнь буду тебя добиваться. Но ему то за что такая благодать? Ему — он же бросил тебя!
— Есть такая вещь внутри у женщины… И называется она — душой. И вот первая и последняя любовь этой души — досталась не тебе. Что ж теперь делать?
— Я тобой еще больше восхищаюсь.
— А я себя все больше ненавижу.
И завертелась любовь!
Ах, этот адюльтер! Ах, эти обманутые жены, эти вечно что- то подозревающие тести и тещи!
Ах, эти вечные враки нелюбимой жене про вечерние дежурства и ночные преферансы с друзьями!
А Галочка… Мишка совершенно зря боялся ее. Она вдруг неожиданно стала покрывать его вранье, когда тесть или теща с осторожностью чекистского слона в посудной лавке, начинали ставить детям силки вопросов — «где, кто, когда и с кем».
— Представляешь, Петро вчера звонил домой, спросил Галку, где я, а она ему возьми да скажи — мол дома, в ванной сейчас.
Марина лежала, искренностью своей наготы прильнув к любимому и молча смотрела, как он курит.
— И мне сама это выложила, когда я притащился. Я ей, так мол и так, я с дежурства, а она мне, не надо. Я маме с папой никогда не скажу, так что, гуляй, Мишенька…
Марина лежала и думала. Жалеть? Кого здесь надо жалеть?
Галку? Обманутую Галку? Но она не обманутая, она все знает и ведет себя самым достойным образом. И даже заслуживает определенного восхищения.
Жалеть себя? А зачем? Мишка… Любимый Мишка с ней. Пусть не до конца с ней, но гораздо более с ней, чем с женой.
Жалеть Мишку? Можно его и пожалеть. Но у него есть и жена и любовница. И обе его любят. Кого же здесь жалеть?
Никого не надо жалеть.
Здесь каждый живет и проживает ту отмеренную ему часть природной энергии, что называется жизнью. И любовь, как главное наполнение этой жизни, в равной степени отмерена всем сторонам в этой троице любовного треугольника.
Мне досталась его страсть.
Ей досталась его супружеская формальность, а ему — мы обе. И каждый здесь — сказочно богат.
А что до щедрости… Ведь в любви так хочется одаривать…
Что до щедрости…
То Галка одарила Мишку гораздо более щедрыми подарками. Она подарила ему любовь тем, что разрешила ему видеться с любовницей. Она так его любит, что своему дорогому существу не может отказать ни в чем. Даже в этом. Даже через свою боль.
А Маринка? Чем она одаривает его — своего любимого? Своими искренними ласками?
Но ведь это доставляет ей радости не меньше чем ему! Так где же жертвенность любви?
Галка то любит его больше чем она!
Галка жертвует ради него.
А сама?
А сама как куркуль — прибрала к себе такого сладкого…
И Маринка стала нежно целовать его безволосую грудь. Целовать и легко касаться его самыми подушечками своих нежных пальцев.
— Как до дому то добираться будешь?
— Пешком. Как еще?
— Давай я тебя отвезу.
— Да не надо, дойду. Полезно даже.
— Хулиганы то не обидят? Два часа ночи уже, а до твоего проспекта Щорса пол-часа быстрым шагом.
— Дойду.
— Да не ломайся. Мне даже приятно
Вишневая «восьмерочка» завелась с пол-оборота.
— Прогрей мотор, не торопись
— Да ну его! Людей надо жалеть а не моторы, Галочка твоя небось не спит — ждет не дождется
Поехали. Город как вымер. И фонарей городская управа не жжет — электричество экономит. На углу Ленина и Революции возле церкви, в отблеске фар — фигура…
— Отец Борис!
Марина притормозила.
— Садитесь, батюшка.
— Благодарствуем премного
От батюшки сильно пахло винцом
— А-а-а, Марина да Михаил…Ну что, прелюбодеи, венчаться — это вы по моде венчаетесь, а исповедаться да причаститься — тут вас уже нету. Да и просто в праздничный день придти в церковь — свечку поставить — времени нет.
— Это точно. Отец Борис, времени — просто полный провал.
— А прелюбодеить — времени у вас на это хватает.
— Да не журитесь, отец Борис, — кто не без греха!
— А ты Мишка — помолчи! Она вот вдовица — на ей греха меньше твоего, а молчит
— Вы, батюшка, тоже вон, позволяете…
— Радость у нас большая, паникадило сегодня в храме восстановили и повесили, и подключили. Так что по такому случаю, мы всем клиром с отцом Сергием, да отцом Игорем, да с псаломщиками, да с регентом хора, да и староста наш церковный был — в общем выпили по случаю радости великой.
— А паникадило это что?
— Это по вашему — люстра значит… Большевики то в храме сорок лет свеклу да картошку гноили, а как перестройка, храм вернули, нате! Ни утвари, ни икон, ни алтаря… Мамай прошел! А потом упрекают еще, мол Владыко Кирилл коммэрцией занимаются… Водкой торгуют… Да хоть чем! Большевики семьдесят лет грабили-грабили церковь, а храмы теперь епархии возвращают, а на что восстанавливать? На какие денежки то? В стяжательстве церковь обвиняют…А то, что в годы войны тот же Сталин ваш не постеснялся от церкви деньги принимать… От той церкви, что разгромил — хуже татар, так это не стяжательство… Вот здесь меня Марина высади. Приехали… А покаяться — оба приходите. В субботу вечером к семи часам, я исповедываю. Попоститесь пару деньков перед этим… И приходите. Кто Святых даров не причащается — тот не спасется, истину вам говорю, прелюбодеи…
Отъехали, оставив батюшку возле его калитки.
— Смешной он…
— Да нет… Это мы неправильные… Вот и твой дом. Я не буду под окна подъезжать. Зачем Галку нервировать. Здесь выходи.
Кого Дима боялся больше — военных или чеченов — сказать было сложно. Иногда ему казалось, что либо полковники с окружных складов, либо Султан, обязательно его — Димочку Заманского, как теперь говорят, — «завалят». Одни — за то что слишком многих военных он теперь знает в лицо, и точно пишет в своей тайной бухгалтерии, сколько товара они ему отпустили… Да не тушонки и не сгущенки, за которые максимум — года два условно да амнистия! А тысячи цинков с патронами, сотни ящиков с гранатами… И за это — алчным тыловикам выходят уже совсем иные статьи. А посему и свидетель им такой ни к чему.
Да и Султану — когда за товар тот отваливал пачками «зеленых», от которых так и пахло непримиримыми Эр-Риядом и Могадишо, видно страсть как хотелось взять бы да полоснуть по горлу этого «неверного», да отнять его деньги!
Ни те, ни другие покуда его не трогали, пока нуждались в нем, как в посреднике. И Дима понимал — стоит им найти другого, или что то вообще изменится вдруг в обстановке на Северном Кавказе — тут же «почикают» его, и лишнего часа он не проживет.
И понимая все это, на «свиданки» к Султану ездил без телохранителей. Разве они помогут, когда у полевого командира Султана Довгаева — заместителя самого Джохара, свита — минимум пол-роты отборных головорезов. Все на «Нивах» — по трое в каждой. И в каждой машине гранатометчик и пулеметчик. Что-то среднее между Махновскими тачанками и немецкими мотоциклами начала Великой Отечественной…
— Здесь четыреста тысяч.
— Хорошо, Султан
— Ты никогда не считаешь, а если я обману?
— Ты воин, Султан, и скорее меня просто убьешь, чем станешь опускаться до какой то там «куклы».
— Верно говоришь
— И потом, нужны мы еще друг другу, так зачем перспективный бизнес портить?
— Перспективный?
— На войне много снарядов, мин и патронов нужно.
— Опять верно говоришь… Это у вас так говорят, кому война, а кому родная мать?
— Примерно так. Но так в любой стране и на любой войне. Сколько американцев делало бизнес на Вьетнаме?
— Ладно, не время теперь теориями заниматься. Ты, Дима, через месяц того же и столько же приготовь.
— А у меня к тебе, Султан, просьба будет личная.
— Да?
— Руслан из Новочеркесска — тебе ведь родственник?
— Сын дяди Ахмета — двоюродный брат.
— Сделай так, чтоб он отстал от вдовы Корнелюка, отказался от видов на универмаг.
— Мне нет дела до его дел
— Султан, я тебя никогда о личном не просил
— Это твое личное касается денег моего родственника
— Не знаю ваших обычаев, но когда у вас война, все ведь чем то жертвовать должны, считай, что это мой интерес
— Тогда надо вычесть деньгами из твоей доли за товар
— Тоже не совсем так, потому что Руслан этого универмага не имеет — он не его
— Но это его добыча. Не может один волк отговорить другого не резать барана
— Султан, а ты, случаем не зоологию в школе преподавал?
— Нет, я учителем физкультуры был.
— Понятно. Ну, так что? Договоримся с Русланом? Или мне придется заниматься делами вдовы Корнелюка вместо того, чтобы подготовить для тебя товар к следующему сроку?
— Давишь, Дима?
— Нет, не давлю. Это мой семейный интерес, ты же сам меня все спрашивал, когда я жениться буду.
— На вдове этого Корнелюка?
— На ней.
— Ладно, поговорю с Русланом., в виде подарка к свадьбе, можно и отпустить барашка
— Не физкультуру ты преподавал, Султан, а зоологию — точно тебе говорю
И разъехались…
В одну сторону — к югу — попылила целая колонна джипов, набитых до зубов вооруженными людьми.
А в другую — на север — одна — одинешенька, мчалась серая бэ-эм-вэ. И в ней одинокий влюбленный лев по имени Дима.
Петр Тимофеевич стоял над душой. Он возвышался и подавлял. И его худосочная жена — Людмила Васильевна, просто ненавидела, когда Петро так всею массою своей давит на душу. Давит и давит — стоит вроде не касаясь ее, но хуже пресса какого, и каждое слово, как молотком вколачивает в нее.
— Ты этой дуре нашей скажи! Если она сама с Мишкой не хочет поговорить, если она его покрывает в его похождениях, я ее вдовой сделаю. Так ей и передай.
— Петя, Петя, разве я ей не говорила?
— Эта клуша толстая, если хочет разводкой быть, так я ей такой радости не сделаю. Пусть лучше вдовой, чем разводкой.
— Петя, Петя, ну разве Михаил говорил, что ее бросит?
— А на хрена эта его Марина такой домище строит? Скажи мне! Откупила у Грицаев пол-участка — своего им мало было, и домину выводит уж на третий этаж! Это при семье — она, да плюс полтора — брат — недомерок, жаль мы его не посадили тогда, да сестрица — пигалица… И где это у нас видано, что б такие домы себе одной строить? Ясно — как Божий день — для Мишки она эти хоромы строит, для себя и для Мишки.
— Петя!
— Что, Петя? Эта дура наша что? Хочет внука моего безотцовщиной оставить? Или она думает, что с ее красой ненаглядной она как эта Маринка — другого мужа себе найдет? Не найдет! Она и этого бы не видала никогда, если б не отец! Мне пришлось счастьем доченьки родной заниматься.
— Ну так и не склеивается у них, потому как насильно мил не будешь.
— Молчи, дура! Такая же дура, как и дочь. Одна дура толстая, другая худая.
— Не ругайся, Петя, я не люблю
— Не любишь? А с брошенной разводкой возиться любишь?
— Петя, я ей скажу. Я ей говорила уже
— Ты и Мишке передай
— А ты сам. Тыж его начальник. Рази я могу слова такие ему сказать, что ты его убьешь?
— Ладно. С Мишкой сам поговорю. Но ты этой дуре в башку ее тупую вбей! Вбей, что второго мужа ей отец искать не намерен. Пусть с этим научится жить.
……………………………………………………………………………………………
Есть женщины, которые готовы смириться с тем, что им достается не весь их любимый мужчина — полностью с его свободным временем, со всеми его деньгами и естественным желанием иметь детей, но достается им только его часть. Причем части, на которые его приходится делить с другой женщиной — неравноценные.
Одной достается его фамилия, штамп в паспорте, общие с ним дети… А другая получает его страсть.
В каждой части есть свои привлекательные стороны. И некоторые женщины вполне довольствуются тем, что им от их любимого досталось. Одна радуется хотя бы тому, что имеет она при нем общественный статус мужниной жены и дети ее — не растут безотцовщиной. А другая рада — радешенька, что он заезжает к ней два раза на неделе и после ужина с рюмочкой — валит ее на кровать, нетерпеливо — словно в первый раз.
Но ни та — ни другая не получает всей его любви.
И первая, та что со штампом, тоскует по его страсти, и вторая — плачет от того, что в пол — одиннадцатого вечера он уже суетливо собирается и с виноватым лицом уходит к той, что со штампом.
Но тем не менее. Но тем не менее, они его делят. До поры. До поры до времени.
Маринку сильно обижало то обстоятельство, что Мишка не проводил с нею выходных. Поэтому она и не любила выходные.
Он позвонит на неделе, — я зайду? А на нее бывает, словно найдет злость какая то, — ну что все только у меня, да у меня на квартире? А он так наивно, — а где еще?
Где еще?
А разве нельзя поехать в воскресенье на речку на шашлыки с друзьями?
Нет. Нельзя.
Потому что у него Галя, а у Гали папа — начальник милиции.
И все их нечастые прогулки совершались только по будним дням.
И то, к какой неслыханной конспирации приходилось при этом прибегать!
Вот решили они поехать на пикник. Без друзей, разумеется. Вдвоем, чтобы только дома не сидеть.
Маринка заранее все приготовила. Полную эмалированную кастрюльку парной баранины с базара настрогала в вине с луком и перчиком. Бутылочку красного прикупила. Все это в багажник.
А Мишка — налегке. Отъехал только от города по Ростовскому шоссе до Рыбхоза на автобусе, сошел на безлюдной остановке и ждал ее там, покуривая.
Недолго ждал — Маринка девушка пунктуальная.
Недолго думая, поехали на рыбхозовские пруды. Машину мордой в посадку, дверцы нараспашку — пускай проветривается, музыку погромче, чтобы было сердцу веселей.
Мишка костерок сообразил, а она аккуратно на белой клеенке праздничную трапезу сервировала. Салатик «оливье» в пластмассовых коробочках, помидорчики, огурчики, хлебушек…
— Купаться будем?
— Я нет.
— А я искупнусь.
Он стянул через голову джинсовую рубаху, спустил черные джинсы, тяжелые от лежащего в кармане табельного «макарова», медлительными движениями поправил плавки на плоском животе.
И — и — и бух! С бетонной плиты в воду.
— Раз, два, три, четыре…. пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, — про себя считала Марина.
Вынырнул аж на середине. Громко стал отплевываться, фыркал, будто барбос… Потом стал саженками махать к берегу.
У Маринки от солнечной ряби на воде заслепило глаза.
Он вылез, и принялся дурашливо стряхивать на нее капли обильно стекавшей с него влаги.
— Ну что, дурачок что ли, в самом деле? Не приятно!
— Ха-ха-ха!
Потом он зажмурив глаза лежал кверху пузом на теплой бетонной плите, а она наклонив голову на бочек, длинной травинкой щекотала ему за ухом. Мишка корчил гримаски, дергал плечом, но руки ее не отводил, а она любовалась его лицом, грудью, плечами… Всем таким любимым…
Нет! Не хочет она его делить с Галей. Не хочет.
Не такая она — Маринка, чтобы довольствоваться малым.
И ребенка она хочет. Очень.
Не открывая глаз, он протянул руку, и его сухая шершавая ладонь уверенно легла туда, куда она всегда ложилась в их сокровенные минутки.
— Мишка!
— Угу!
— Мишка!
И не контролируя своих чувств, она как безумная орала в его объятиях, на заднем сиденье подаренной Русланом вишневой «восьмерки».
— Что уставились? А ну, брысь отсюда!
Двое совсем мелких пацанов застыв, как в столбняке, смотрели на голых дяденьку и тетеньку в машине.
В руках у пацанов были удочки… Рыбку пришли на пруд половить, а тут…
— А ну, брысь!
И Мишка для убедительности, достал вдруг своего «макара».
— Ты че, дурак? — испугалась Маринка, машинально прикрывая руками голую грудь.
Пацаны прыснули в посадку, только ветки затрещали.
— Ты ей богу — дурак! Они теперь побегут в рыбсовхоз и там скажут, что в посадке машина с вооруженным бандитом. Ума у тебя — ну никакого нет!
— Зато ты умная, орала, громче магнитофона…
Маринка молча натянула платье, поправила бретельки, и вдруг разревелась.
— Ты чего?
— А вот ничего!
— Маринк!
— Все… Поедем, собирайся.
— Да ты чего, а шашлык? Еще шашлык не жарили…
— Жри сам свой шашлык, с Галей со своей!
Марина высадила его на автобусной остановке. Откуда взяла…
— Что? Обиделась? В самом деле что ли?
Она, не отвечая, наклонилась из-за руля, протянула руку и прихлопнула дверь. Включила передачу и поехала. А он остался на остановке, глядя ей вслед.
Срывая злость, дала по газам, разогналась по пустынному шоссе до ста тридцати, так, что аж самой страшно стало. Вот разобьюсь теперь — всем назло! Пусть он обо мне поплачет.
И как Галочка, наверное, обрадуется, и тесть его — дядя Петя, тоже…
А Юлька? А Сережка?
И ножка ее медленно сбросила газ. И стрелка спидометра побежала по кругу налево.
Она развернула машину и поехала назад.
На остановке кроме Мишки стояла еще баба какая то в цветастом платке с двумя большими пятилитровыми бидонами.
А вдали на переломе шоссе уже показался автобус.
Она лихо развернулась. Протянула руку к дверце.
— Ну что встал? Садись, дурачок…
А Галя нянькалась с маленьким Петенькой. Петром Михалычем. И вечером, купая его в ванночке, плакала, что вместе с ней не купает маленького его отец — Мишка Коростелев.
А Мишка Коростелев, как минутка высвободится — так сразу к заветному дому на улице Ворошилова.
А Марина…
Мужнин бутылочно — зеленый «черроке» все еще стоял на милицейском дворе, как вещдок. Менты все ходили мимо — облизывались — «продай, хозяйка». А хозяйка продала вишневую «восьмерку» — подарок Руслана и купила в Ростове «мерседес». Почти что новый — годовалый, если верить документам. А заодно, посетила в Ростове и дорогую поликлинику.
Беременна!
Вот как!
Сказали, через месяц приеду, они и пол ребенка точно скажут…
Вот так!
Только не решилась пока говорить об этом Мишке. Что б не наделал делов. Но зато с удвоенным напором занялась стройкой. Гоняла эту новую бригаду молдаван как сидоровых коз. Денег не жалела, и побивая все нормы, каменщики выдавали ей на гора по десять кубометров кирпичной кладки в смену — только материалы подвози!
Уж и мебель в Ростове приглядела. И финский гарнитур для большой гостиной, и итальянскую спальню.
По дороге же из Ростова и встретила как то Димку Заманского. Подрулила к заправке на своем беленьком «мерседесе», встала к единственной колонке с девяносто седьмым бензином, а сзади к ней в хвост уже чья то темно-серая бэ-эм-вэ пристроилась.
Димка! Такой картинный красавец из гангстерского кино. Черная с проседью бородка, длинные волосы схвачены на затылке в конский хвост, золотая сережка в ухе, и темно-серый костюм на всю тысячу долларов — не ниже как от Армани…
— Что тут за драндулеты — ведра с гайками, загораживают проезд, мешают заправиться?
Стоит, улыбается.
— Не улыбайся, я не скажу тебе, что рада видеть
— Ну в чашечке кофе со мной за компанию не откажешь?
Отогнали свои авто на площадку, сели под тентом маленького кафе, кстати, тоже принадлежавшего Руслану.
— Ну, как живешь, Мариночка?
— Живу.
— Видел твой дом. Хороший дом получается. Красивый. Я таких три собираюсь построить — в Греции, под Москвой и здесь, только не в Новочеркесске, а у воды, может на Тереке, может на Кубани, может на Дону, а может и в Сочи.
— Зачем тебе три?
— Чтоб каждые четыре месяца мы с тобой меняли среду обитания.
— Мы с тобой?
— Мы с тобой.
— Это интересно.
— А! Интересно, значит?
— Не в том смысле, в каком ты думаешь.
— С универмагом больше не наезжают?
— Отстали
— А почему?
— Не знаю, Мишка говорит, потому что Руслан теперь другими делами занят.
— Мишка говорит?
— Да, представь себе. Мой любовник Миша Коростелев.
— А почему Руслан другими делами занят, твой любовник тебе не говорил?
— Потому что война, поэтому, наверное.
— Ах, наверное! Так вот, что я тебе скажу, ни твой лейтенантик, или кто он там в ментовской, ни его тесть, никогда бы тебя от Руслана, от его бульдожей хватки — не отбили, кабы не один несчастный человек.
— И кто этот несчастный?
— Сидит перед тобой.
— Так это, значит, тебя я должна благодарить?
— Ну не благодарить…
— А сделать несчастного — счастливым?
— Марина!
— Я не для того обрела свободу, чтобы делать себя зависимой. Я свободна и счастлива. Хочу — люблю! Хочу — рожу!
— Значит, нет?
— Значит, нет…
8.
Личные грехи бьют по самым близким. Переходят на самых невинных. Виноватых только лишь в том, что они близкие грешника…
Юльку похитили! Юльку то за что?
Марина начала волноваться часа в три — в четыре. Обычно, Юлька приходила из школы сама и занималась обедом. У них так со смерти папы повелось, что кормила всех — и Марину и Сережку — она, их хозяюшка маленькая. А тут уже было и три часа, и четыре, и пять. Марина сама на скорую руку сварганила Сережке яичницу с помидорами, сварила себе кофе.
Где Юлька задержалась? С подругами?
Набрала номер, позвонила в школу — прямо Офелии в ее канцелярию. Нет, не видала Юлечки. С утра не видала.
Как так? В школе ее не было?
В шесть вечера Маринка не выдержала, вскочила в свой «мерседес» и поехала по Юлькиным подружкам. К Люсе Мухиной — та в полном недоумении, не видала сегодня Юлю, сама хотела зайти поинтересоваться, не заболела ли?
Тут у Марины просто ноги подкосились.
Юлька!
Где?
Не помня себя, рванула в городское управление милиции. Мимо дежурного — прямо по лестнице на второй этаж, туда где Мишка сидит. Столкнулась нос к носу с Маховецким, едва его с ног не сшибла.
Петр Трофимович как то насупился, и выпалил со злобой, — совсем ты стыд потеряла, куда бежишь?
Мишка был в кабинете оперов один.
— Юлька пропала!
— Как?
— Нет ее нигде.
Едва — едва успокоив, все время опасливо при этом поглядывая на дверь кабинета, как бы Маховецкий не зашел, да не увидел, как он поглаживает Марину по спине, Миша уговорил ее поехать домой.
— Сиди на телефоне, искать — это наша работа. Езжай до дому, и не реви — найдем.
Поехала, не различая дороги.
Дома Юльки нет. Только Серега сидит, словно змеей ужаленный.
— Ты чего?
— Тут звонят все время и трубку бросают.
Маринка пошла на кухню, достала из шкафчика валерьянки. Накапала.
Зазвонил телефон.
Голос в трубке мужской. И чувствуется — нерусский.
— Сестру свою живой получить хочешь? Готовь два лимона зелеными. Поняла? Два миллиона долларов. Срок тебе — три дня. Ментам не говори. А то, получишь свою сестру по кускам.
И гудки…
— Боже! Я же Мишке уже сказала!
Снова в машину, и полетела в милицию. На пол-пути резко по тормозам, да так резко, что ехавший сзади жигуль, чуть не впилился ей в багажник.
— Куда же я еду? Они же следят — они же увидят, что я в милицию, и Юлечку… Юлечку…
Развернулась, наехав на зеленый газон, так что видевшие это мужики только головами покачали.
Вбежала домой, чуть живая.
— Сережка, позвони от соседей… Нет, нельзя от соседей! Сбегай к приятелю, оттуда позвони Мише Коростелеву, только ему лично. Пусть он приедет…
Все и так знают, что мы — любовники, так что это не нарушит их требований… Наверное не нарушит.
Упала лицом в подушки и зашлась ревом.
— За что? Господи! Ей то за что? Юльке? Мне то понятно, за аборт, за Мишку… А Юленьке за что?
Снова звонок. Снова голос нерусский.
— Ты деньги начала собирать? Ты собирай. И не вздумай шутки шутить. Мы два дня тебе звонить не будем — ты деньги собирай. Мы знаем — у тебя есть с чего собрать. А будешь шутки шутить — сестру живой уже не увидишь.
И опять гудки.
Мишка приехал с двумя операми.
Маринку как током прошибло сразу.
— Негодяй! Ты что — для Петра свидетелей привел, что б они тебя перед тестем отмазали, что ты не на свиданку ко мне ходил? Негодяй, ты Юльку погубишь! Сволочь, гад!
И била, и била его в грудь кулачками.
— Истерика у нее, уходите, работайте по плану, как говорили, я останусь с ней.
— Что? Что — работайте? Вы ее сгубите! Эти гады предупредили, что убьют ее, если вам скажу!
— Сережка, помоги Маринку уложить, ребята, брысь отсюда.
Ее бьющуюся словно перед нежданным смертным часом, едва — едва удерживали вдвоем.
— Не верю тебе! Не верю! Никому не верю! Сережка, Юльку, Юльку спасти!
Мишка догадался влить в Марину рюмку коньяка. Благо водился в доме наряду с другими благородными напитками. Зубы ей разжал, и влил, прямо из горла. Минут через десять, она несколько размякла, и успокоилась. Полу-лежала на ИХ грешной кровати, облокотившись на подушки, и безумными глазами смотрела на любовника.
За окном, низко, так что стекла задрожали, пролетел вертолет…
Пролетел, и шумы турбин и месящих воздух лопастей стали утихать вдали, но уже совсем почти растаяв, сменились вдруг другими… Отличными от прежних. Новый шум был как то страшнее. Словно весь горизонт земли наворачивался издалека, как край сворачиваемого в рулон ковра, с которого с лязгом и грохотом начинает сыпаться неубранная мебель и посуда.
Лязг и рокот нарастали. Уже отчетливо стали различимы порыкивания дизелей на перегазовках, и вот уже не только стекла, весь дом задрожал мелкой дрожью.
Мишка отдернул занавески. По улице Ворошилова шла колонна танков. Шла и шла, и не было ей ни конца — ни края.
9.
На марше генерал Батов выбрал себе место в голове колонны.
И более того, на броне головной машины.
— У меня, дружок, с Чапаевым в том разница, что я в отличие от него академию все ж таки кончил, и поэтому, решать, ихде быть командиру, впереди ли на лихом коне, или в койке с Анкой-пулеметчицей, решаю однозначно правильно.
«Дружком» Батов называл командира первого батальона майора Лешу Трофимова.
— Я тебе, дружок, вот еще чего скажу, в сорок третьем, когда немцы второй раз Харьков брали, погиб командир танковой дивизии СС «Мертвая голова» Теодор Эйке. Про между прочим — создатель этой знаменитой дивизии. А как погиб? Связь с соседями потерял. Сел на связной «шторх» — самолетик вроде наших кукурузников, и полетел на разведку. Тут его и сбили. А почему сам командир полетел? От неопытности что ли? Не было у него майора или подполковника какого завалящего — послать, что целый группенфюрер и генерал — лейтенант ваффен СС на разведку полетел? Думаю, что были… Только у каждого свое понимание ответственности. Кумекаешь?
— Я что думаю, тыщ герал, что неделя на сбивку рот и экипажей, это не то что мало — просто смешно. Сброд, а не батальон. Придется везде самому.
— Условия приближенные к реальной войне, дружок. Перед наступлением под Сталинградом, в сорок третьем, дивизии формировались за неделю. И в бой. Пригоняли на пункты сбора новобранцев, сбивались роты и батальоны, выдавались оружие — техника, и айда — пошел. За Родину, за Сталина.
— Тыщ герал, а потери какие были!
— Или вот в шестьдесят седьмом, осенью перед Чехословакией, батальоны тоже за неделю новыми экипажами набивались. И вошли, спасли там демократию, понимаешь! Длинный какой этот Новочеркесск, полчаса едем, все не пройдем.
— Ща скоро Чечня покажется, тыщ герал.
— В нее родную и движемся, дружок. В нее и едем.
Диме срочно был нужен Султан. Но телефоны в Грозном не отвечали. Да оно и понятно, где теперь увидишь Султана? Разве что по телевизору, в репортажах НТВ, про то, как танкисты генерала Батова отбивают у полевого командира Султана Довгаева село Самашки?
Был у Димы номер спутникового телефона друга Султана — министра Шамиля Исмаилова. Но номер этот можно было использовать только в крайнем случае. И Дима позвонил.
Шамиль взял трубку сразу. Спрашивать лишнего не стал. Сказал только, Султан сейчас занят, с русскими воюет, но как освободится, позвонит.
И позвонил.
Буквально через два часа позвонил ему на мамину квартиру в Новочеркесске.
— Как у вас там, дивизия Батова через город еще тянется?
— Я не знаю, о чем ты…
— Тебе надо — ты ведь позвонил.
— Встретиться надо
— Занят я, воюю
— Вопрос срочный решить надо
— Говори
— Девочку ваши похитили в Новочеркесске
— Мои детей не воруют
— Султан, я бы по пустякам к тебе обращаться не стал, мне надо найти, кто похитил, и вернуть ее домой. Условия — ваши. Мне надо.
— Я тебе позвоню, отбой
А Юлинька. А Юлинька Кравченко уже третий день и третью ночь сидела в темном подвале совсем чужого дома, вдыхала запахи старого тряпья смешанные с прелостью прошлогодней картошки. Сидела, обняв коленки, уткнув в них свое остренькое личико. И сама себе шепотом рассказывала сказку.
Жили — были две маленькие мышки — две сестрички, которых звали просто — Мышка Серенькая и Мышка Беленькая. Серенькая была старшая, а Беленькая — младшая. Но обе они были такие маленькие, что каждый мог их обидеть — и толстый кот Жирдяй, и дворовая собака Рекс, и даже ворона, которая жила на дереве рядом с мусорной помойкой.
Мышкам все время приходилось быть начеку, каждый раз, когда они выходили по делам из своей норки — а дел у них было много — и еды какой-то найти, и тряпочек для ремонта норки — целый день приходилось им вертеться, — и все время при этом надо было поглядывать — не хочет ли кто их маленьких схватить за хвостик и проглотить…
Самый страшный, кто жил в подвале этого дома — был Коба. Его мало кто видел, но все его очень боялись. И Мышки его тоже очень-очень боялись. Они вообще всех боялись, но Кобу — больше всех.
А однажды, Мышка Беленькая заболела. Мышка Серенькая побежала на двор — поискать что-нибудь покушать, а когда вернулась домой в норку — не нашла там своей сестрички. Стала Мышка Серенькая бегать вокруг, пищать — звать Мышку Беленькую — все напрасно! Повстречалась ей старая Крыса и сказала, что злой Коба утащил Мышку Беленькую к себе в подвал, что бы там сделать из нее себе подушечку для вкалывания иголок и булавок.
Заплакала Мышка Серенькая. Собрала она все самое ценное, что у нее было — серебряное колечко, зеркальце, что от мамы осталось, и пошла в подвал… Страшно ей маленькой было, сердечко крохотное так и билось-так и билось! Но надо сестричку выручать.
Пришла Мышка Серенькая, на злого Коба и смотреть боится, а он ей говорит страшным голосом, — что пришла? Вот из твоей сестренки подушечку для иголок сделаю. А тебя просто съем!
Отпусти мою сестричку, — взмолилась Мышка Серенькая — она ведь такая маленькая. Съешь меня вместо ее. И возьми еще колечко с зеркальцем. Больше у меня ничего нет.
Подумал Коба и сказал.
Принеси мне шесть зубиков маленькой девочки — и отпущу я твою сестричку. Болею я. А мне старая колдунья сказала, что надо истолочь шесть детских зубиков и сделать из них лечебный порошок, тогда я поправлюсь. Но за эти зубики надо маленькой девочке обязательно денежки отдать — иначе волшебной силы в порошке не будет.
И пошла Мышка Серенькая на базар. Продала мамино колечко и зеркальце — все что у нее было, и получила за них шесть монеток. А потом стала Мышка ходить в квартиру, где жила маленькая девочка Юлинька. И когда у Юлиньки стали выпадать молочные зубки, она их собирала и за каждый зубик оставляла девочке по одной монетке. Пять зубиков набрала — одного еще не хватало.
И тут Юлиньку увезли в санаторий. Негде стало взять еще одного недостающего зубика. Заплакала Мышка Серенькая. Зарыдала. Пришла к ней старая Крыса и сказала — Коба очень сердится, требует шестой зубик — а иначе грозит Мыщку Беленькую заколоть иголками и съесть!
Что же мне делать? — спросила Мышка Серенькая.
Ладно. Выручу тебя, — сказала Крыса. Отдай мне твою норку. А я тебе тогда дам детский зубок, что я припрятала себе на старость еще с тех времен, когда Юлинькина мама сама маленькой девочкой была.
А где же я жить буду? — спросила Мышка Серенькая.
А это твое дело — хочешь — бери зубок — хочешь — не бери!
И отдала Мышка Серенькая свою норку старой Крысе. Та дала ей взамен зубок… Отнесла Мышка зубок злому Коба.
А Коба был очень злой и коварный. Не захотел он выполнять обещанного. Зубок взял, а Мышку Беленькую не отпускает. Очень мне нужна подушечка для вкалывания иголок! — сказал он.
Заплакала Мышка Серенькая и сказала, — отпусти мою сестренку, а подушку для булавок сделай из меня… Коба подумал немного… И умер от старости. Он очень старый был.
И обе сестрички пошли из подвала наверх.
Норки у них больше не было. И колечка маминого с зеркальцем тоже не было. Но они остались живы — а это уже само по себе очень неплохо!
Наверху послышалась какая то возня.
— Эй, ты там не подохла еще?
Из открывшегося над ней квадрата, вниз один за другим поспрыгивали трое, все в матерчатых масках вместо лиц.
— Кино будем снимать, — сказал один из нерусских, тот что был с большим ножом в руке.
Второй держал японскую любительскую видеокамеру. Совсем, как та, что Маринке подарили на свадьбу. Третий высоко под потолок поднял большую лампу. И свет совсем ослепил отвыкшие от солнышка глаза.
— Смотри туда, — сказал тот, что с большим ножом, — смотри и говори туда.
Он встал сзади, одной рукой взял ее за волосы, а другой приставил нож к ее горлу.
— Говори, что жить хочешь! — гортанно заклекотал тот что с камерой.
— Говори, ну!
— Не молчи, сука!
Юлинька тихо заплакала.
— Говори, хо-чу жить, говори!
— Жи…жить…
— Ну!
— Жить…
— Ты там смотри, и деньги собирай, а то мы ножичком… Вжить! И не будет твоя сестра жить!
Нерусские заржали.
— Все, сняли кино. Теперь ты звезда, как Шерон Стоун! Завтра твоя сестра кино смотреть будет… А ты молись своему Богу — Исе — пророку.
— Аллах Акбар.
Перед церковью было не заасфальтировано. Притормозила, прошуршала колесами по щебенке не щедро насыпанной дорожными службами в том месте где кончался асфальт и осторожно въехала на вытоптанную площадь перед папертью. Богомольные бабули, картинно-убогие нищенки, цыганки в пыльных юбках с бесконечно немытыми детьми… Господи! Эти нищенки, наверное, утром перед зеркалом выверяют убедительность убогости своей, равно как иная девица — свою красоту, принаряжаясь на работу…
Хлопая дверцей «мерседеса», поймала на себе однозначно осуждающие взгляды. Бабки наклонялись друг к дружке — перешептывались, кивая в сторону Марины.
Достала из сумочки платок. Черный, шелковый. Повязала. Ступая на паперть, перекрестилась.
У свешницы купила пять самых дорогих свечей.
— А где отец Борис?
— Вон в том приделе исповедует…
Подошла к небольшой кучке сгрудившихся подле отца Бориса прихожан. Встала, уткнувшись в чью то спину-.
— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… — и других молитв то не знаю, подумала она вдруг.
Исповедальницы — в большинстве своем древние старушки, подходили к батюшке, наклонялись доверительно, и шептали что-то, шептали — нашептывали, а отец Борис все кивал, все кивал. Потом накидывал на склоненную голову очередной бабули епатрохиль, и усердно крестя, шептал ей разрешительную молитву…
Марина впала в какое то небытие, только повторяя про себя, «Господи, помилуй, Господи, помилуй»… Бабуля, стоящая перед нею, вдруг повернулась и с поклоном сказала, обращаясь к ней, к Маринке, — Простите, люди добрые, — и не дождавшись ответа, подошла к отцу Борису. И Марина обнаружила, что теперь настал ее черед.
— Ну что, дочка, горе у тебя, я знаю, — сам начал отец Борис, едва она подошла, — исповедь, родная моя, это очищение от грехов. А все наши беды и несчастья, все наши болезни и напасти — это наказание нам за грехи наши. И таинство покаяния это таинство, необходимое перед тем, как причаститься Святых Таин Господних. Ты только, Мариночка, пойми, ты не мне исповедуешься, а Господу. А священник, он только как свидетель этого покаяния. И еще, Мариночка, родная, только искреннее покаяние очищает от греха. С сердечными слезами надо Богу принести раскаяние в грехах. Только тогда по великой милости своей, Господь простит.
Марина вдруг почувствовала, как дрожит. Как всем телом дрожит, и как горло ее перехватил какой то непреодолимый спазм.
— Н-н-н… не м-м-м… могу г-г-г…говорить…
— Ничего, ничего, ты поплачь… Я подожду. А Бог, он самый терпеливый. А Господь, всегда тебя подождет.
И отец Борис принялся шептать какие то молитвы, слов она не слышала, но вдруг показалось ей, что он как мама, как мама-покойница, нашептывает над нею, над больной, когда она лежала с воспалением легких. И Маринка вдруг громко-громко разрыдалась, содрогаясь всем телом, словно в эпилептическом припадке, но не из жалости к себе, а в страхе и изумлении, что была рядом с нею терпеливая доброта, а она, проходила мимо… Как неблагодарное дитя, в запале юного веселья своего, бегает и резвится, забывая придти и навестить скучающую без него недвижную, но терпеливую мать.
— Простите меня, отец Борис!
— Да не мне, Господу расскажи, Господь — он милостив, он все простит…
— Господи, согрешила я… Много согрешила…
— Кайся, кайся, доченька…
— Аборт я сделала…
— Кайся, кайся…
— Потом с женатым жила… вот…с Мишкой…
— Кайся, доченька, кайся…
— Батюшка, так у меня же Юлинику, сестренку похитили…
— Знаю, Марина, знаю… Помолюсь за вас обеих, а ты завтра на литургию приходи, не ешь ничего с утра, причастишься… Бог поможет. Вернется сестрица к тебе…
— Да ведь беременна я, батюшка!
— На все Божья воля, только знай, дочка, ежели хочешь убить дитя — не пущу к причастию. Если хочешь быть с Богом — дитя сохрани.
Выходила из храма сама не своя. Два чудовищно немытых босых цыганенка подбежали к ней, — дай на хлеб, дай на хлеб!
Открыла машинально сумочку… Только крупные, да эти… доллары. Сунула — одному пятерку, другому десятку… Те сперва с недоверием, а потом радостно глазками засверкав, побежали хвастаться к мамке своей, что сидела тут же в пыли.
— А моя то мама? Где ж мама моя?
Марина села в машину и рефлекторно погляделась в зеркальце. И совсем другая, незнакомая ей женщина глянула оттуда ей в глаза.
А Мишку вызвал к себе Петр Трофимович. Это редко вообще случалось у них в управлении. Но вот вызвал — таки.
Вошел, доложился по уставному.
— Разрешите? Товарищ подполковник, лейтенант Коростелев по вашему приказанию…
— Садись.
Помолчали для какого то общепринятого приличия. Не сразу же подполковнику до лейтенанта с разговорами ниспускаться!
— Нам разнарядка пришла. Двух офицеров и шесть сержантского состава отправить в Ставрополь. Оттуда в Чечню поедут. Понял?
— Чего ж не понять?
— А там — война. Слыхал?
— Что я — тупой?
— Ты не умничай. И не забывайся.
— Виноват.
— А я не могу в двойственное положение себя ставить. Не послать тебя, люди скажут, зятька покрывает, а других под пули шлет.
— Угу.
— Что, угу?
— Скажут
— Тебе после ранения. Ну, после операции, когда тебя порезали, у тебя диагноз был — травматический цирроз, так?
— Ну, так у меня прошло.
— Нет, не прошло!
— Петр Трофимович…
— Нет, не дам меня подставлять! Ты и так кругом виноватый! Понял?
— Чего?
— Сам знаешь — чего! А теперь и не думай мне рассуждать! Вот направление в госпиталь МВД в Ростов. Пока эта заваруха не кончится, полежишь на обследовании.
— Товарищ подполковник!
— Это тебе мой приказ. А попрешь против, я тебя закопаю, пусть лучше она вдовой…
— Так и пошлите меня в Чечню, вот и весь сказ тогда! Там меня и закопают.
— Скотина! Скотина неблагодарная. Да если б не я! Если б не я — где бы ты тогда был? Угонщик, насильник, убийца!
— Я никого не насиловал и не убивал.
— Ты машину угнал, ты человека задавил, ты… И та девка, она все как надо рассказала… А дело? Ты сам знаешь, его и снова можно возбудить. На изнасилование да на убийство — сроков давности нет. А дело это лежит пока… Понял?
— Понял
— А в камеру попадешь, к уголовникам… Мент, да еще и насильник…
— Понял я
— Поедешь завтра в госпиталь. Получи в строевой документы. И смотри у меня. Я не шучу.
Мишка вышел подавленным и сломленным.
И заплакал он во второй в жизни раз.
Как в тот, когда выл он на луну в ночь перед выпускным, когда в первый раз предал Маринку.
За пять дней Диме удалось собрать наличными только восемьсот тысяч. И то, триста тысяч из этой суммы — были фальшивые, правда очень хорошего арабского качества. Такие доллары у них шли один к трем. Так что было у Димы всего шестьсот.
А Султан поставил перед ним сверхзадачу. Купить и доставить всего по списку — пятнадцать позиций. От зенитных комплексов «Игла», до снарядов для ракетной установки залпового огня «Град».
А цены с началом войны подскочили втрое. И «черные подполковники» из управления тылом округа, теперь стали жутко нервными. Не ровен час — убьют.
Но иного пути как вызволить Юлечку — Димка не видел.
Украл то ее не Султан. Султан — настоящий воин! Султан просто воспользовался ситуацией — на Димку надавить, да оружия по дешевке достать. И родной стране Ичкерии послужить, и арабских долларов себе сэкономленных на черный денек отложить. Димка к Султану претензий не имел. Тот и так много сделал — Юльку нашел, и дал гарантию, что ее не убьют, а выдадут в обмен на товар. А слово Султан всегда держал.
Беспокоили его только военные.
Однако, как подсказывали ему интуиция и опыт, этих негодяев можно было подвигнуть на действия только их же алчностью, введя в соблазн близостью наличных.
Всю ночь они пили с подполковниками в их баньке на спортивной базе военного городка. Дима рискнул. И выдал каждому аванс, по пятьдесят тысяч наличными, чего раньше никогда не делал.
Убьют?
А и могут прямо вот тут в баньке и убить. Потом пол отдерут, под пол его засунут, цементом сухим засыплют чтоб не вонял. И никто его пять лет не найдет.
Но в одно верил Дима, когда с видимым спокойствием потягивал пивко под шведский «Абсолют». Верил в их — подполковников неистребимое желание получить еще по сто тысяч через два дня…
И это сработало.
Груз, под видом обычной колонны тылового снабжения дивизии генерала Батова, должен был выйти завтра вечером. В условленном месте колонну должна была ждать засада. Солдат — водителей убьют, немногочисленную охрану — перестреляют. Издержки бизнеса. Без этого — никак.
И Дима понял. Теперь… Теперь — это дело — последнее. И для него, и для этих черных подполковников. И дай ему Бог — живым послезавтра остаться.
По спутниковому звонил Султану.
Тот обещал, что девочка «сто процентов» уже завтра будет не у похитителей, а у него — полевого командира Довгаева.
— Султан, что бы со мной не случилось, как товар получишь, сам девочку перешли в Новочеркесск!
— Будет…
Черные подполковники не меньше его нервничали.
Даже если контрразведка ничего не раскопает, им все равно почти трибунал — как колонну без охраны да без согласований посылали?
Но, видать, у них там тоже все смазано-подмазано. С прокуратурой.
— Деньги когда?
— Когда по телефону подтверждение получу.
— Сам передашь.
— А я вам лично что, очень нравлюсь? Я перешлю.
— Тогда сам в залоге будешь.
— Тоже не пойдет.
— А что в залог?
И тут Дима окончательно понял, что они не оставляют ему будущего. Всегда в любой сделке у них был элемент доверия в расчете на следующее сотрудничество. А тут — они как с незнакомым. Значит — кончать меня решили.
— Вы, я вижу, ребята умные…
— Да уж, не дураки.
— Но и мне надо как то свободу маневра иметь. А иначе, какой бизнес?
— Ты о чем?
— О том, о чем вы думаете. О дефиците доверия.
— Такой расклад, братка.
— Надо сделать так, чтоб всем было…
— Короче, кто в залоге?
— Я голый…
— Мать у тебя есть.
— Вы серьезно?
— При таких рамсах, братка, все серьезно.
— Понял
— Вот и хорошо, где мама твоя, мы знаем. И не забирай ее никуда. Если что, не обессудь.
Дима понял, что в этом жестоком мире, это теперь единственно возможное тонкое зыбкое соединение, куда включились жизни дорогих ему людей… Маринки, ее сестры, его мамы. И никак иначе, вынув кого либо из этой более чем странной электроцепи, включить систему было теперь нельзя.
Впрочем… Мама об этом никогда не узнает.
А если узнает, то всем уже будет все равно.
Мама теперь была залогом его Димы честности по отношению к черным подполковникам. Все понимали условия игры, но никто не объявлял их в слух. Такая петрушка.
Самому Диме оставаться у них нельзя. Отдаст деньги — убьют и оружия Султану посылать не станут. Но их надо мотивировать второй частью денег. А здесь — они не верят Диме. Колонна уйдет, а он смоется, и денег не отдаст.
Поэтому по компьютерному умолчанию в игру вводился залог в виде мамы. Сорвется платеж — за пять тыщенок киллера — всегда наймут. И дело это здесь не хитрое.
Так что, Димка должен был как только получит по телефону подтверждение от Султана, послать своего курьера — попку, с пакетом денег. И тогда все разойдутся… Только б не сорвалось!
10.
Рядовой Пеночкин служил трудно. Наверное, оттого, что характер у него был смирный. Никого не хотел обижать. А вот его обижали все кому не лень.
Выражаясь армейским языком — «чмурили». И как своего — ждал рядовой Пеночкин приказа на увольнение нынешней банды дедов-дембелей, ждал, когда они обопьются своей водки, как от пуза напились на недавнюю еще стодневку, и как напоследок вдоволь покуражившись, разъедутся наконец по домам и станет ему — рядовому Пеночкину тогда полегче… А там, через годик и сам уже начнет считать деньки, по сантиметру отрезая каждый вечер от ритуального портновского метра.
А пока. А пока — очень трудно дается ему эта служба.
Вот ставят машины на «тэ-о». На техническое обслуживание, значит. Ну, помыть, естественно, поменять масло в двигателе, если надо, то и в трансмиссии масло поменять. Зажигание, клапана отрегулировать. То, да се… И ладно свою машину — это, как говорится — святое. Но ему — Пеночкину приходится каждому деду-дембелю машины обслуживать. Причем самую трудную и грязную работу выполнять. Колесо зиловское перемонтировать — наломаешься, кувалдой так намашешься, что и девушки уже не снятся.
Как вечер, в казарме едва покажешься, а дедушка — Панкрат — этот ефрейтор Панкратов сразу на него, на Пеночкина, — ты че, дух, совсем припух что ли? В парке работы нет? Дедушкину машинку давай иди помой. И в кабинке, чтоб дедушке было уютно сидеть — прибери.
И ладно только бы мыть. Мыть — дело не трудное — прыскай себе из шланга, да думай о своем. О маме, о девчонках-одноклассницах. А то ведь, заставят тяжести таскать. Те же аккумуляторы. И что самое обидное — его же аккумулятор новый с его же Пеночкина машины — дед-Панкрат заставил на свою переставить, а ему старый свой отдал. Теперь у Пеночкина машина заводится только с буксира. Мучение по утрам. И глушить нельзя. А горючку — те же старики у него же молодого и сливают. Так что и глушить нельзя, а и гонять мотор тоже — соляры всегда в самый обрез. А прапорщики Крышкин и Бильтюков — что по снабжению и по ремонту, те все видят, а только посмеиваются. И ротному — капитану Репке… Фамилия у него такая — капитан Репка, так чтоб ему пожаловаться — ни-ни! Себе же хуже будет. А капитан ругается! Опять Пеночкин заглох на марше. Сниму с машины — пойдешь в караульную роту — через день — на ремень. А там — с ума сойдешь, да и деды там еще сильней лютуют.
Иногда думалось, — вот стану я дедом. И что? Неужели тоже буду молодого чмурить-гонять? Ну, до этого надо еще служить и служить.
Маме Пеночкин не жаловался. И девчонкам… Пеночкин переписывался с двумя одноклассницами. Но не были они его девчонками в том понимании, как это принято в армии, мол девчонка, которая ждет. Ни с Танюшкой Огородниковой, ни с Ленкой Ивановой ничего у него не было. Просто переписывался, и это грело. Очень даже грело.
Маме вообще по жизни досталось. Отец их бросил, Пеночкину еще пол-годика тогда только было. А у ней еще баба Люба парализованная. Так и металась мама между фабрикой да приусадебным огородом. И Пеночкин рос мальчиком болезненным. Сколько мама с ним насиделась в этих бесконечных очередях к докторам!
Так и зачем маму теперь мучить и расстраивать рассказами про деда — Панкрата?
Все у меня нормально. Здоров. Служу как все…
И когда перед стодневкой деды наехали на него, мол пиши мамане, чтоб денежный перевод прислала, он — Пеночкин, не поддался. Так и сказал, — нет у нас денег, нищие мы с мамой. С меня, хотите — кожу сдирайте, а матери писать не стану.
И отстали от него. Врезали пару зуботычин, и отстали.
Пеночкин подцепил своего ЗИЛа к дежурному тягачу, завел с толчка.
Покурил сидя в кабине. Покурил, хоть молодым в парке это и запрещалось по всем писанным и неписанным уставам. Так, дернул три затяжки, да захабарил. Денег на сигареты — то нету. Каждый свой хабарик примы, словно драгоценность какую в пилотке носишь.
Дед-Панкрат дверцу открыл, — ты че, дух поганый, припух? Ща под погрузку на склады окружные поедем. Я в колонне за тобой. Заглохнешь — убью, понял?
В колонне они без старших машины поедут. Это и хорошо, но это же и плохо.
Хорошо, потому что можно ехать и думать о своем. А Пеночкин не умел ехать и думать о своем, если в кабине старший. Пусть даже и не говорит, пусть даже молчит, а уже Пеночкин напряжется весь и не может думать-мечтать. Так что, в колонне ехать хорошо. Будет он думать про хорошее. Про маму. Про девчонок. Вот вернется он — Пеночкин домой, отдохнет месячишко, вскопает маме огород, пойдет на их фабрику в транспортный цех — шофером. Или вообще, устроится дальнобоем, если повезет. Женится. Только вот не решил еще, на ком. Так что, хорошо одному ехать без старшего машины.
Но это же и плохо. Потому как если случиться чего — заглохнешь, или поломаешься, только с него и спрос потом, и некому хоть бы даже присутствием своим защитить от деда-Панкрата.
На складах загрузились быстро. Там вообще как в американском кино — погрузчики шмыгают — вжик-вжик! Задом машину подал, борт задний опустил, два раза тебе по четыре ящика кинули — и отъезжай! Правда, целый час потом Репка колонну строил — выстраивал. Пеночкину пришлось мотор заглушить — а нето соляру пожгешь, потом в дороге встанешь, дед-Панкрат по шее надает. А ведь это он же у него и слил пятьдесят литров. И задвинул куда то гражданским. И уже, небось, и водки купил.
Ехали быстро. Вместо положенных сорока, Репка гнал где то под пятьдесят. Торопился, наверное к своей вернуться. Красивая у него жинка. Солдаты треплются, будто изменяет ему, но врут. Они всегда, как красивую увидят, так врут про такую всякие гадости. Вот и дед-Панкрат брехал, будто она с прошлогодними дедами гуляла.
Жрать в армии всю дорогу охота. А когда они обедать будут, ротный не сказал. Правда, Леха Золотицкий молодой боец Пеночкиного призыва заметил вроде, что на кого то там грузили термоса со жратвой. Может, когда разгрузимся, так и дадут?
Вспомнились мамины праздничные обеды. Раз в месяц, с получки, мама покупала в фабричном магазине мяса и делала борщ. Такой вкусный, такой аппетитный! Жарила котлеты. И еще пекла пирог. С капустой.
Ах, как бы он сейчас рубанул бы маминых котлет с гречневой кашей!
Вот женится, будет денег приносить домой много. Шофера — дальнобои, прилично зарабатывают. И его жинка будет ему борщ и котлеты делать на каждый день. Ленка Иванова? А хоть бы и Ленка Иванова. Она хорошая. Она добрая.
К исходу третьего часа движения, настал какой то критический момент и Пеночкина стало клонить в сон… И он ничего не успел понять, когда что то грохнуло, когда Леха Золотицкий, что ехал впереди, врезал вдруг по тормозам, когда слева из лесополосы стали выбегать какие то люди, не понял, не успел понять когда распахнув его дверцу, в него в упор разрядили пол рожка.
Бородатый, тот что стрелял, брезгливо морщась, стащил неживого, поникшего на руле Пеночкина, вывалил его из кабины, и бросив на сиденье еще неостывший свой АКСУ, по-хозяйски сел на водительское место.
— Алла Акбар!
— Алла Акбар, поехали!
И Султан Довгаев, сидя в передней машине, на том месте, где еще минуту назад сидел капитан Репка, включил рацию на передачу, -
— Движемся. Готовь принимать. Груз в порядке. Алла Акбар.
А рядовой Пеночкин, который так и не стал дембелем, не вернулся к маме на ее котлеты с гречневой кашей, и не женился на Леночке Ивановой, остался лежать в кювете. И с ним остались и дед-Панкрат, и Леха Золотицкий, и капитан Репка. И еще шестнадцать пацанов.
— Юлинька, Юлинька моя родная! Родненькая моя, Юлинька!
Маринка затискала, залила сестру слезами, не выпуская ее из объятий. Она рухнула перед младшенькой своей на колени, обхватила ее, прижалась к ней щекой, и принялась выть, раскачиваясь…
— Родная, родная моя… Никуда теперь. Никуда. Только вместе.
Марина не разжимала рук, боясь отпустить. Вдруг исчезнет, вдруг пропадет, вдруг потеряется ее Юлинька!
— Все. Все. Уедем. Ни дня теперь здесь! Ни дня здесь! За границу. В Грецию, на Кипр. В Чехию, в Германию, куда угодно, но ни дня здесь. Ни дня!
И Маринка продолжала держаться за Юлькину руку даже в самолете, несшем их до Москвы. И на Сережку тоже все время глаз косила, не украли ли? И только уже когда их «Ил» оторвался от полосы «второго» Шереметьево, и взял курс на Афины, Марина почувствовала накатившую усталость. Она попросила стюарда принести коньяка, и не заметила, что слезы ручьем текут у нее из глаз. Как у того клоуна, что в цирке.
Дима успел послать к полковникам своего попку-курьера. Как только Султан отзвонил, что девочку отпустили, так сразу и послал.
— Можно было их кинуть? Кабы даже и не мама под прицелом, все равно бы не кинул. Этих даже не «черных»… Этих грязных полковников. Не стал бы их кидать. И даже, будь у него стопроцентная уверенность, что не пересекутся потом их дорожки никогда — не кинул бы. Отдал бы им деньги. Просто такой веры был он Дима. Веры и правил, что договоры необходимо выполнять, что слово данное — надо держать, что по счетам необходимо платить.
А деньги? А деньги потом разве в радость будут?
Но ему теперь, вообще вряд ли что в радость будет. Дело это — последнее опустило его еще ниже. Еще на несколько этажей ниже и ближе к канцелярии хозяина адской сковороды. Той сковороды, которой ему теперь не миновать. И где наверняка он теперь встретится с черными полканами. Кровь теперь на них. Впервые. Впервые на нем кровь. Хоть и сам не убивал. Скольких же там постреляли на дороге? Двадцать? Тридцать?
Но Юлька. Но Юлька вернулась домой. А за это разве не скостят ему — Димке Заманскому перед тем как ложиться на сковороду?
Он позвонил.
Маринке.
— Это я. Юлька дома?
Может и скостят чуточку.
Юлька то дома!
А Султан?
А вот Султан на сковороду то и не попадет! Потому как если выбирать из всех трех сторон, замешанных в этом деле, Султан как раз, самым честным оказывается. Изо всех трех сторон.
Черные полканы — с ними все ясно! За деньги все готовы продать.
Он — Димка… Запутался. Хотя, нет. Он никогда не запутывается. У него всегда трезвая и ясная голова. Он на все сознательно пошел. Ради Маринки. И даже девочка Юлька — и та только как определенное обстоятельство. Если бы упростить схему, исключить из нее Юльку, военных, чехов, снаряды с патронами… А упростив, спросить его — Димку, — отдашь два десятка русских парней за Маринку? Так и отдал бы! Потому как голова то и без участия сознания уже заранее все просчитала и высчитала. И все то так и получилось. И не само собой. Потому как само собой ничто никогда в жизни не бывает. На все есть скрытая мотивация тайного вызова.
На всякий «его величество случай» — идет тайный неконтролируемый сознанием вызов из глубины души. Вот и у него с Маринкой так.
Но теперь, пора. Пора подумать и о себе.
Загранпаспорт, деньги, номера счетов на Кипре.
Теперь в Москву.
А там дорога одна — за границу. На дно, и лежать — отлеживаться.
— Открывайте, Заманский, ФСБ… Лицом к стене. Оружие? Наркотики?
Ну, вот и приехали! Откладывается наша загранпоездка. Откладывается.
Но все же скостят ему перед сковородкой. Юлька то у Маринки. А Маринка, дай ей Бог ума и здравого смысла, может и дождется его.
11.
Маленький английский городок Кроули. Такой маленький, что порою его и не замечаешь, а есть ли он вообще, или это просто местечко такое — холмы с вечнозеленой травкой, словно игрушечные в своей ухоженности футбольные поля, асфальтированные дорожки, чистоте которых может позавидовать паркет иных квартир… И редко разбросанные то тут, то там домики коренных кроульчан. Такие уютно-красивые, увитые плющом и диким виноградом, с непременными розами у входа, словно это не жилища людей, а дома сказочных героев милого мультика про гномов и зайчиков.
Кроули ровно на пол-пути от Лондона до Канала… До Па де Кале, отделяющего Остров от Материка. Час на электричке с вокзала Виктория. Или столько же на машине. Хотя, на машине из-за вечных пробок перед въездом в Большой Лондон случается и дольше.
Марина снимает здесь пол-дома. На Парк-Элли драйв. Три комнатки на втором этаже у миссис Сэмюэль. Двести пятьдесят фунтов в месяц. В Лондоне такая же квартирка стоила бы втрое дороже. Но здесь даже и лучше. Простор, воля…
Словно в маленьком их Новочеркесске. Если его хорошенько отмыть. С мылом и мочалкой. И мыть года два не переставая.
Три комнаты им бывают нужны только раз в неделю, да и то не всегда. Юля учится в интернате Святой Маргарэт, и ее отпускают только на субботу и воскресенье. А Сережка каждое утро ездит в Лондон, где пытается учиться в Принц Альберт Текнолоджик хай скул.
Миссис Самюэль относится к ним как к каким то сильно пострадавшим беженцам. Ее муж умер два года назад от рака легких. А единственный взрослый сын уже пять лет как работает в Канаде. Миссис Самюэль все показывает его фотографии, вот он в футбольной форме, вот он в школьном блэйзере и полосатом скул-тай.
— Хороший мальчик! Никак не хочет жениться. Не хочет порадовать меня внуком. Джон так и умер не дождавшись… Вот приедет в сентябре, вы с ним познакомитесь, и он вас непременно очарует. В школе, все девчонки были влюблены в Генри. Может он на вас женится, а?
И миссис Самюэль хохочет, довольная своей шуткой. А может, и не шуткой.
— Я вот все гляжу на вашу девочку, на Аню, и мечтаю… Будто это моя внучка…
И здесь миссис Самюэль уже не хохочет, а вытирает платочком слезку, скатывающуюся из лучащихся морщинками глаз.
Аня… Она родилась здесь в Англии. На седьмой месяц по их отъезду из России.
Перебраться на Остров помогли Димкины греки. Вернее — киприоты. Все эти визы, паспорта и формальности — только для людей без денег и связей. Волшебное слово «Дима Заманский» открывало в Греции любые двери. И вот, они уже греческие подданные. Гречанка Марина Кравченко. Грек Сережа и такая же гречанка Юля. А в их греческих паспортах — бессрочные британские визы…
И Анечка… Теперь и Анечка не то гречанка, не то англичанка…
Энн Кравченкоу… Так ее их детский доктор мистер Сашди называет. Индус, между прочим.
А в Англии — вообще много врачей негров и индусов. Маринка когда рожала — в Лондоне, в клинике Святой Барбары, роды у нее принимал самый натуральный негр. И когда, общаясь с другими роженицами, Маринка выразила свое провинциально — русское изумление, индифферентные британки многозначительно поглядывая на потолок, где верно должно было быть их небо, цедили сквозь зубы, — что бы мы без них только делали?
Анечке скоро уже годик. Она еще не ходит сама, но Маринка любит водить дочуру по комнатам, держа ее за кончики крохотных пальчиков. Ди-ди-ди, — говорит Анечка, и пускает пузыри. А потом говорит, — Пф-фффф! И снова — Ди-ди-ди… И ходит, и старается… И пыхтит. А отпустишь пальчики, и хлоп! Сразу на попу…
Маринка не хочет покупать всех этих повсюду рекламируемых самодвигающихся вольер. Пусть так учится! Девочка здоровенькая родилась. Шесть фунтов две унции. Доношенная. И родилась легко. Правильно родилась.
— Вы ее учите русскому? — изумлялась миссис Самюэль, — учите ее сразу английскому! Неужели вы собираетесь возвращаться в этот кошмар?
Миссис Самюэль смотрит телевизор, а там когда показывают Россию, показывают все один и тот же сюжет: старухи заскорузлыми руками стирают старые кальсоны в холодной речке, по которой плывет лед. А из труб комбината валит ядовитый фиолетово-зеленый дым. Потом показывают еще каких то расхристанных солдат, что в Москве просят у иностранцев сигареты и деньги. Потом Чечню… Один раз показали их Новочеркесск. Маринка аж подпрыгнула в кресле, — миссис Самюэль, миссис Самюэль, лук, итс май хоумлэнд! Показывали интервью с генералом Батовым. Он стоял на их главной площади, там где их универмаг… Их универмаг.
При тех расходах, что Марина теперь делает здесь, тех денег что она выручила от продажи их универмага должно хватить еще года на четыре. Главное, чтобы Сережка выучился и Юлька адаптировалась. А там и она — Маринка работать пойдет. Теперь все не кажется таким страшным.
— И учите ее сразу английскому! Зачем вам этот русский? Слышишь меня, гуд голли мисс Энни!
А и то, может правда? Но что то сидящее глубоко внутри, заставляло ее разговаривать с Анечкой только по-русски.
Наверное, в память о так и не увидавшей внучку маме. И о папе. И об отце Борисе. И о Мишке. Непутевом Аничкином отце.
Инглиш черч ей не понравилась. Все как то не так. Не по-русски, не по душе как то.
И иконок милых нет. И служба совсем иная. И даже не в том дело, что по-английски. На церковно-славянском в их родном храме Рождества Пресвятой Богородицы, тоже не все понятно было. Но там как то все было по душе. А здесь — даже свечки, и те не как у русских людей. Толстые и короткие.
Ближайший православный храм был только в Лондоне. Она нашла в справочнике номер. Позвонила. Ответили по-английски. И она трубку повесила.
А выручила миссис Сэмюэль.
— Как? Ты не можешь найти ортодокс рашен черч? Такая церковь есть в Саутгэмптоне. Мы поедем туда к моей кузине Салли. В этот же уикенд.
За год жизни в Англии, Маринка так и не привыкла к левосторонней езде. Миссис Сэмюэль сама за рулем своей красной «двести шестой» пежо выглядела лет на десять моложе своих шестидесяти. И помаду губную под цвет машины специально подобрала.
Она ловко крутила руль, ловко вертела своей забавной — в кудряшках — головкой, поглядывая назад при перестроениях из ряда в ряд и при опасных здесь правых поворотах, ловко щелкая ручкой передач и болтая без умолку.
— Вы русские очень умные и талантливые. Но вы совершенно не умеете поддерживать традиции. А только традиции дают стабильность и хорошую жизнь. Вот взять моего Джона. Он работал инженером в электрокомпании. Он любил крикет и футбол, каждую пятницу он ходил в свой паб. Но каждый сентябрь мы ездили с ним на Майорку. И наш Генри — тоже любит крикет и футбол. И тоже каждую пятницу он ходит в свой паб. И когда у меня будет внук… (и здесь миссис Сэмюэль почему то выразительно посмотрела на Маринку), он тоже полюбит футбол и крикет. Это в нас запрограммировано. И в этом залог нашей стабильности. У нас всегда будет королева или король. У нас всегда будет Парламент. Мы всегда будем островом. Наши мужчины всегда будут смотреть футбол со своими друзьями в своих любимых пабах… И поэтому у нас никогда не будет социальной революции и гражданской войны.
Вы, русские, вы очень умные и талантливые, но вы не стремитесь строить свою жизнь на накопленном. Я не имею ввиду только материальное. Хотя и это очень важно. Важно иметь свой дом. А у вас — у русских, у многих ли есть свой дом?
— У меня — есть свой дом, — твердо ответила Маринка
— Но там же война?
— Война кончится
— У вас? Ты думаешь, что у вас это когда то кончится?
Миссис Сэмюэль замолчала, сбитая с толку упрямой Маринкиной уверенностью.
Миссис Сэмюэль не понравилось, что Маринка осмелилась ей возражать.
Как эти русские, эти русские, которые живут столь вопиюще бедно. Как они еще осмеливаются не соглашаться, когда им говорят разумные вещи о традициях и корнях стабильности? Их учат уму-разуму, а они словно неблагодарные готтентоты или неразумные зулусы, проявляют какое то необъяснимое упрямство. Это бесило миссис Сэмюэль. Как так можно? Эти русские — они напирают против очевидного, они иррациональны, вся красивая и благополучная жизнь Европы служит доказательством их неправоты. Но они с дурацким упрямством не желают ничему учиться, предпочитая свой опыт. Свой опыт, который не принес им ничего хорошего.
— Вот ты посмотришь, как живет моя кузина Салли. Ее дом был построен еще в тысяча семьсот сороковом году. И он всегда принадлежал их семье. Это традиция. Ты понимаешь меня? Когда твой папа дает тебе свой дом, дом в котором ты родилась — в этом очень важная основа жизни. Это залог уверенности в том, что жизнь будет предсказуемой на много лет вперед. А это очень важно. И я не понимаю, как вы можете жить в России, когда никто у вас не уверен в том, будет ли он жив через пять лет и где будет его дом? Мы хорошо живем потому, потому что мы можем планировать нашу жизнь на всю ее длину. Когда я выходила за Джона, я знала, что через десять лет у нас будет определенный доход, деньги, собственность. И что через двадцать лет у нас будет денег больше, чем было через десять лет после свадьбы. И поэтому мы заводим детей и растим их….
— Мы тоже заводим детей и растим.
— Но вы растите их в Англии…
— Мы вернемся в Россию…
— Ты сумасшедшая. Вы все — все русские, вы все крэйзи.
И далее до самого Саутгэмптона миссис Сэмюэль не проронила ни слова.
Салли. Или миссис дю Совиньи (по бельгийцу мужу, что несколько подпортил чистоту островитянского высокомерия) сама повела Маринку в рашен черч.
Малюсенький, словно пасхальное яичко храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи одним боком прибился к бензоколонке «Шелл», а с другой был подпираем громадным рекламным щитом, с которого каждые три минуты подмигивал битл Пол Маккартни, предлагая соплеменникам выпить «тайни галп оф Оулд Скотч», на том якобы основании, что он сам тоже в некотором роде — Оулд Скотч…
Маринка повязала припасенный черный платочек, трижды поклонилась и трижды перекрестилась… Вошла.
Купила свечей на пять фунтов.
Отыскала глазами икону святого Николы — Угодника. Подошла, поклонилась. Прошептала «Отче наш»
Свешница не говорила по-русски.
— Фазер Михаэль будет служить утреннюю службу завтра в девять утра. Исповедоваться? Исповедоваться можно завтра перед службой в восемь утра.
— А фазер Михаэль говорит по-русски?
— Да, конечно… И служба тоже по-русски, вы приходите!
………………………………………………………………………………
А в понедельник вместе с русскими журналами, что она навыписывала для себя, пришло письмо.
От Димы.
Она ждала этого письма.
Мариночка!
Представляешь, десять раз начинал писать и все черкал, бросал в мусор. Столько бумаги дефицитной извел. Все не знал, как начать. Здравствуй, Марина? Или, привет, любовь моя?
Я теперь ведь кроме Уголовного кодекса, да протоколов, которые подписываю, и не читаю ничего. А это портит стиль. А мне так хочется донести до тебя не скупой и сухой факт, мол так то и так то, гражданин Заманский утверждает, что ощущает душевную привязанность…
Вот, черт, опять не то пишу!
Марина! Маринка, возлюбленная моя!
Все бы отдал, за пять минут общения с тобой. Только бы на тебя на живую поглядеть.
Друзья мне передали, что у тебя все хорошо. И я уже наполовину счастлив этим. И особенно меня переполняет радость того, что я чем то смог тебе помочь. И сразу хочу оговориться. Пресечь любые мысли у тебя в голове, даже искорку каких то мыслей о том, что теперь жду от тебя какой то ответной благодарности. Поверь, я уже счастлив только тем, что у тебя все хорошо. И не могу даже подумать, что ты истолкуешь мои слова, как некий намек на ожидание расчета. Гони от себя такие мысли. Гони!
Я прочитал, мне передали, что у тебя родилась дочка.
Знаешь, я плакал. И это не от малодушия, не от слабости, а от счастья. Я люблю твою Аннушку как часть тебя. Как лучшую твою часть. И в моей любви к тебе теперь нет целостности без любви к Анечке. Я мечтаю увидеть вас обеих, и прижать к самому сердцу. И если бы мне представился выбор, я бы не раздумывая, отдал бы все за ваше здоровье, свободу и счастье.
Думаю о тебе каждый день. И знаешь, только эти думы и дают мне силы устоять и выжить. Не заболеть, не сломаться.
Думаю, мечтаю. Мечтаю о том, что когда-нибудь, ты сможешь полюбить меня. Хоть бы в десятую часть от той силы, с какою я тебя люблю.
Дела мои пока плохи.
Уже полтора года сижу в тюрьме, а суда все нет. Условия трудные, да что рассказывать, всем известно, как у нас в тюрьме. Не курорт, одним словом. Уж хочу, скорее бы суд, и пусть бы даже и в колонию. Там хоть чуть полегче будет.
Но перспективы вообще есть. Адвокаты крутятся помаленьку. У обвинения все очень зыбко. Так что, я полон надежд на лучшее. И ты — ты моя главная надежда.
Знаешь, у меня никого нет, кроме мамы и вас с Аннушкой и Юлей с Сергеем. Никого.
А мама уже очень старенькая.
И я даже запрещаю ей сюда ко мне приезжать в Ростов.
А вот тебя.
Все бы отдал. За три минуты — на тебя на живую поглядеть.
Любимая. Береги Аннушку. И себя береги.
Твой друг, Дима.
Письмо сильно взволновало ее.
Марина села на скамеечку против взлелеянного миссис Самюэль розового куста, и прижав письмо к груди, как то вся оцепенела. И долго так просидела, пока чуткое ее ухо не угадало легкого попискивания Анечки там — на втором этаже в кроватке возле раскрытого окна.
Поднялась.
Аннушка лежала на спине. Сна — ни в одном глазу. И улыбалась во весь рот с единственными в нем двумя нижними зубками.
— Ди-ди-ди! Пф-ффф!
Сережка просто обозвал ее дурой. Не по-русски, а по-английски. Он в последнее время вообще как то преобразился, завел в Лондоне модных друзей и все только требовал от Маринки денег и денег. Денег побольше. И дома говорил преимущественно на английском.
— Говори по-русски, я терпеть не могу, как ты из себя этакого коренного островитянина теперь строишь!
— Островитянина — не островитянина, а назад в эту вонючую задницу, как ты — не стремлюсь, и меня туда ничем не заманишь.
— Сережа, там же мама с папой похоронены, там дом наш.
— Мой дом теперь здесь, и если хочешь знать, мне часто стыдно, что я оттуда.
— Тебе стыдно, что ты русский? Как тебе не совестно так говорить, ведь и я русская, и Юлька, и мама с папой…
— Мне плевать. Разуй глаза. Ты что не видишь, как мы жили там и как люди здесь живут? Там… Тоже мне — дискотека «Млечный путь»! Да я за один здешний самый задрипанный паб отдам сто таких «Млечных путей» со всем Новочеркесском впридачу.
— Стыдись. Там вся наша родня.
— Так пускай деньги копят, да сюда переезжают. Ты вот их перевези сюда. И тетю Любу с дядей Вадимом. И Мишеньку своего Коростелева…
— Молчи, идиот!
— Я то не идиот. Я туда не собираюсь. Мне и здесь хорошо. А тебе, видать, очень к любовнику захотелось.
— Какая же ты скотина, Сережка. Димка Заманский Юлиньку нашу выручил, и теперь там совсем один. Какая же ты скотина неблагодарная!
— Так ты выбери, Мариночка, ты все же выбери — к кому ты едешь. К Мишеньке своему или к Димочке? Ты за них еще за обоих замуж выйди!
— Я тебе по морде нахлещу сейчас.
— Твое дело — поезжай. Только Мишка твой от Гали своей никогда не уйдет, а Дима Заманский — как ты ему поможешь? Что, побег ему организуешь?
— Да как ты понять не можешь, урод бесчувственный, что человека поддержать надо. Ты в тюрьме вот сидел?
— Ну, было.
— Хорошо тебе там было?
— Ну?
— И кабы не мы, кабы не Володя, муж мой, да не я… Как бы тебе там было?
— Так это другое.
— Нет, не другое! Надо иметь сердце и совесть… И сострадание. Ему поддержка нужна. И мы… Все мы — и ты, и Юлька, и я — все мы ему обязаны. И не забывай, как ты греческий паспорт получил. Кто помог.
— Ну и отдавай свои долги, а я туда не поеду. Все, разговор окончен, поезжай куда хочешь. Денег только мне оставь. И уматывай.
И Маринка вдруг разревелась. Совсем как в детстве разревелась-расплакалась. Поднялась в детскую, тыльной стороной ладони размазывая слезы по щекам. А там Юлька, остреньким личиком своим, прижавшись к Аннушке, сидит и поет, раскачиваясь в такт,
— Ай, лЮли, ай люлИ, ай лЮли, ай люлИ, как мы с Аннушкой пошли, как мы с Аннушкой пошли, да грибочек как нашли, да грибочек как нашли, ай лЮли, ай люлИ… Ну вот наша мамочка пришла. Ай-ай. Плачет наша мамочка. Мамочка, не плачь! Что? Поедешь?
— Поеду. Надо. Ты Сереге распускаться только не давай.
— А как я ему не дам распускаться?
— Не знаю… Отца ему надо.
— Ремня ему надо.
— Отца. Такого, как папка наш был. Или…
— Как Димка? Или как Мишка? Димка же бандит!
— Стыдись, он тебя из плена вытащил.
— Вытащил, но ты с ним не связывайся. И с Мишкой — тоже нечего связываться.
— Правильно! — встрял появившийся в дверях Серега, — что она здесь нормального мэна найти не может? Хоть бы даже негра?
— Как не стыдно!
— А че? Или вон сын к миссис Самюэль приедет! Она давно подкатывает со сватовством.
— Молчал бы, дурак, — пискнула в сердцах Юлька, — хотя…
— Что?
— Место здесь хорошее.
— Лучше нашего сада?
— Не знаю.
— Определенно лучше! — пробасил Серега.
— Лучше нашего сада ничего нет. И попомните еще…
…………………………………………………………………………………………………………
Первые полгода, как выехала, были моменты, что Маринка тосковала. Особенно, когда Юлька стала учиться в интернате, и Сережка неделями в Лондоне пропадал. Нарушился у нее информационный баланс, в смысле соотношения вход на выход. Входить в нее стало много — новые места, новые люди, новые обычаи и впечатления… а вот выходить из нее этому — в смысле с кем поделиться… Разве что с Аннушкой маленькой!
Ну, конечно, болтала каждый вечер по телефону с Москвой и с Новочеркесском — счета потом приходили на сотни фунтов. Но по телефону — разве наговоришься?
И конечно, стали к ней напрашиваться в гости все те подруги, что полагали себя достаточно для этого близкими. И Наташка Гринько, и наташка Байховская… И даже… И даже Савицкий — доцент, когда Маринка скуки ради позвонила ему, что уж год как живет в Англии — на полном серьезе попросил сделать вызов.
С Савицким все конечно шуточки — не серьезно! А Байховскую с Гринько — Маринка решила принять. Пускай поживут — места много, деньги есть. Не жалко!
Только, дабы не оказалось их слишком много для нее в один момент сразу, пригласить их решила с перерывом — сперва Наташку Гринько, как лучшую подругу, недельки на две — на три, а потом и Байховскую. Пускай Европу посмотрят, кто их еще вывезет? От Маринки то не убудет, а и ей не так скучно, да и они потом в Новочеркесске расскажут… Как она там в Англии.
Ну была… Ну была в Маринке частичка самодовольства и самолюбования. Вот. Вот. Глядите, люди добрые… Особенно вы — Мишка, Галочка и папаша ваш — дядя Петя Маховецкий! Пускай Наташки расскажут. А они уж точно расскажут, как Мариночка в Англии устроилась.
Наташку поехала встречать сама — а то не найдет! Язык в школе то был — немецкий, да и то через пень — колода. И кабы самолет еще в Гатвик прилетал — из него до Кроули пол-часа прямым автобусом, а то ведь в Хитроу!
Поэтому, одолжила у миссис Сэмюэль ее двести шестую «пежо», и так же как хозяйка, для смеха накрасила губы красной помадой с машиной в тон… Но миссис Сэмюэль юмора не оценила. Не доперло до нее. Она вообще все всерьез воспринимает с прямолинейностью противопожарного датчика. И где же их хваленый «инглиш сенс оф хьюмор»?
Ехать в Хитроу минуя Лондон — совершенно невозможно.
И покуда Марина крутилась по развязкам пригородных хайвэев — это идиотское левостороннее движение ее донимало в допустимых пределах — везде разделительный газон и встречных видишь только через живую изгородь, но вот по Лондону накрутилась так, что не спас и патентованный дезодорант. Платье — хоть выжимай. Машина маленькая — без кондишн, Марина намучалась и устала. И когда бросила, наконец помадно-красную «пежу» на открытом паркинге, что сразу возле памятника франко-английскому «Конкорду», подумала — как бы теперь не простудиться! В здании то аэропорта — сквознячок по мокрой спинке.
Самолет родного «Аэрофлота» подали без опозданий. И еще — слава Богу, никаких забастовок чемоданной службы! Пол-часа, и Наташка уже как зарезанная визжит в ее Маринки обьятиях.
Ой! Ой! Ой. Какая ты стала крутая! Ну я помру!
Посовали сумки в микроскопический хачбэк помадно-красного «пежа»… Поехали…
— Твоя такая машинка?
— Да ты чего, я тебя умоляю, я в Новочеркесске то на «Мерседесе» ездила, а тут!
— Так у тебя этот… как его… Роллс Ройс?
И расхохотались обе.
Подружки школьные — не разлей вода!
Гринько, конечно, как и положено, на все ярко-красное, чего в Лондоне предостаточно — от даблдеккеров и до Ее Величества телефонных будок — голову вертит — крутит вправо-влево.
— Шею не сверни, Наташка, завтра с утра в Лондон на экскурсию я тебя повезу, ты про наших пока расскажи!
Ну, Наташка то не дура, понимает, про кого самый Маринке интерес.
Рассказала потихоньку.
Как будто подсознательно выбирая самый верный для такого повествования темпоритм.
Про Мишку сперва.
Про Галочку потом.
Затем и про Петра Трофимовича Маховецкого.
Мишка то из милиции ушел. Сразу после нападения Довгаева на больницу — ушел.
У него хороший повод для этого был — «нервенный» мол стресс…
Уж его дядя Петя и так и этак уговаривал остаться, но Мишка — ни в какую.
А и всем понятно, что ни стресс это никакой, а просто достал его тесть со своею опекой.
С Галкой он вроде как живет, формально. Но никуда с ней не ездит и не выходит. Везде один с приятелями — без супруги.
А дядя Петя… После захвата милиции Довгаевым — вылетел с поста своего, как пробка от шампанского. И еще повезло, что просто на пенсию, а не под следствие!
Из Москвы то понаехало следователей — как и почему чехов в город пропустили, да почему РУВД без боя захватили?
Петя отвертелся только благодаря блату в министерстве. Теперь на пенсии — огород копает. Да с внуком нянькается.
Мишка его теперь и послал к черту подальше.
Скоро и Галочку свою пошлет, надо думать.
А Маринка вела машину и глядела на дорогу, не проронив ни слова весь знаковый для нее рассказ.
А работает Мишка теперь в пожарной инспекции. Неплохо устроился. Там же взятки!
А взятки — они гладки!
Они — гадки!
И опять подружки расхохотались.
— А замуж за местного не вышла?
— А их тут нет нормальных… Одни голубые
— А я то надеялась…
Приехали, наконец….
Миссис Сэмюэль с Аннушкой посидела — ей за это сэнькью вэри мач! И бутылку рашен водка с бутылем Советского шампанского. Зэ бест сувенир фром Раша.
— Наташа? Хау ду ю ду, Наташа, ам вери глэд то мит ю…
И миссис Сэмюэль оказалась настолько прямолинейной дурой… Или ее Маринка не дооценила еще — выдала:
— У нас вашими женскими именами — русскими — все телефонные будки обклеены — «секси Наташа из вэйтинг фор йо колл»…
Так бы и треснула ей!
А когда Анечку вечерком уложили спать, уселись с Гринько возле камина… Гринько как камин увидала — аж завизжала от восторга — затопи и затопи!
Откупорили сперва одну, потом вторую, а потом и третью бутылку Советского полусладкого… В мильен раз лучше всех этих Дон Периньенов, между прочим!
И потекла беседа.
До трех ночи.
И уже когда обе легли…
Все равно, глаза слипаются, а не наговориться…
— Ну ты чего ради живешь?
— А ты?
…………………………………………………………………………………………………
Для чего Марина живет?
Такой вопрос может быть задан только самой по-детски наивной подругой. А ведь надо бы задавать такой вопрос самой себе каждую неделю и каждый день. И задавать его не потому, что главные жизненные ориентиры могут как то так часто меняться, но для того, чтобы выверять каждый свой день и каждый свой поступок, сверяя их с главной целью существования. Это как молитва «Верую» у тех, кто в церковь ходит.
— Для чего я живу? Для детей… Для семьи своей. Для Юльки, Сережки, Аннушки… Это так естественно!
— А для себя пожить, это что? Не естественно?
Не знаю, не знаю, не знаю… Почему то слезы вдруг к горлу подступили. А жила для себя?
— Вот именно, а ты жила ли для себя? Такая сильная, такая красивая.
И почему у тебя — такой красивой и сильной мужа нет? А у некрасивой Гали — есть!
……………………………………………………………………………………………
По утру миссис Сэмюэль решила реабилитироваться за неудачную давешнюю остроту с «наташками в телефонных будках» и приготовила подругам истинный инглиш брэкфаст.
Мюсли с молоком, жареный бекон, яйца…
И предложила снова свои услуги с Анютой посидеть, мол она мне как внучка, не лишайте меня удовольствия, но Марина уже загодя договорилась с бэби-ситтершей, которую нашла по объявлению в местной Кроули-ньюс. Нянька — охочая до экстра мани студенточка из местных, пришла ровно в десять… Миссис Сэмюэль слегка надулась, обиженная недоверием, и даже не предложив девчонкам «подбросить их до железнодорожной станции», накрасила губы под цвет «пежо» и была такова.
— Маринк! У нас там по радио все песню новую крутят этой Лаймы… «я вышла на Пикадилли»… Мы посмотрим?
— Все посмотрим! Не переживай, подруга.
Серебристый вагон гофрированного металла Бритиш Рэйлз почти бесшумно нес их в Большой Лондон. Громко, с гортанным клекотом болтали о чем то арабы. Пара чернокожих дремала друг у дружки на плече. Наташка прилипла к окну… Англия!
На Виктории спустились в метро.
Наташка всему удивляется — и лифту вместо привычных московских эскалаторов, и маршруту поездов, указанному на световых табло… Тут в Лондоне — не зевай! Поезда переходят с линии на линию и могут завезти совсем не туда…
— Пикадилли серкус лучше смотреть ночью — очень тут красиво от рекламы и огней.
— Да и так красотищща. Разве с нашей площадью Ленина сравнишь?
— Вон там — это американский магазин пластинок и компакт-дисков. Все четыре этажа — только одной музыкой торгуют. Но очень дорогой! А там через площадь — видишь? Рок-музей восковых фигур…
— Мадам Тюссо?
— Нет, музей Тюссо на Бэйкер Стрит, а это рок-музей. Видишь в раскрытых окнах третьего этажа фигуры? Узнаешь? Майкл Джэксон, Шэр, Элтон Джон…
После рок-музея Наташка не удержалась все же и потащила Маринку по магазинам.
— Знаешь, подруга, здесь в центре и дорого и ничего приличного. Если уж хочешь тратить деньги, то либо надо ехать на Кингс Роуд — там бутики самые модные, по крайней мере вещь стоящую можно найти, или на Портабелло Роуд — на барахолку. Там в принципе, тоже что и в Марксе и в Литлвуде, но вдвое дешевле.
— Как скажешь, подруга.
Взяли кэб и поехали все же на Кингс-роуд.
Маринка видела, как у Наташки глазки разгорелись. Но и цены в тихих магазинчиках юга столицы — мама не горюй! Наташка померила кожаную шляпку — восемьдесят фунтов… Беспомощно поглядела на подругу.
— Не валяй дурака, в Новочеркесске ты такой шляпкой никого не удивишь — наши дураки ничего не поймут, а на фли-маркет на Портабелло Роуд ты за восемьдесят фунтов себе пальто кожаное купишь!
Потом поехали глядеть Темзу. Сошли возле Тауэр. По Тауэр Бридж пешком перешли на правый берег…и сразу за мостом завернули в уютный паб.
Взяли по большой тарелке единственного дежурного блюда — жареной трески с картошкой, и по пинте черного Гиннеса.
Гиннес сладковатый от жженого сахара. Девчонкам нравится.
— Как хорошо тут! Я бы осталась, ей Богу! Выдай меня за кого — нибудь. Ведь говорят же, что западные все помешаны на русских женщинах.
А почему эти иностранцы так русских женщин любят? Знаешь?
— Ну?
И Маринка все сказала. Все, что думала на этот счет.
И про то, что половина лондонских мужиков откровенно голубые. И что половина баб — тоже лесбиянки.
Но не в этом дело.
Хоть эта миссис Сэмюэль и твердит что то насчет традиций, но браки никто здесь уже давно заключать не стремится. Особенно с женской стороны.
Суфражизм и эмансипация сделали свое черное дело.
Женщины здешние добились всех нужных и ненужных прав. Сперва — голосовать и ходить в общественных местах в штанах. Курить на улице и пить пиво в пабе наравне с мужиками. Ну, добились.
А мужику то женщина нужна в юбке и совсем не умнее его, и никак не богаче.
Мужик мечтает о ласковой и послушной.
А ласка и послушание — они в первую голову происходят от экономической зависимости.
Вот и не хотят теперь здешние мужики жениться на такой, которая не только сама в случае чего в глаз врежет — даром что ли повсюду женские какрате — клубы! Но и на такой, что зарабатывает столько же, а то и больше, а потому никаких мужицких вольностей дома не терпит. И даже наоборот — сама теперь в этом смысле обгоняет мужика и стремится к независимости в браке.
Теперь муж дома зачастую с бэби сидит, а жонка в ночном клубе — с подругами.
Поэтому, тот мистер, что еще не огомосексуалился, жениться хочет на послушной девочке с Дальнего Востока — из Тайланда или Новой Гвинеи — Папуа.
Такую можно держать взаперти — никуда не выпускать и она будет счастлива от того, что видит своего повелителя и кормильца — хоть пару раз в неделю…
Но такие жены вызывают общественное раздражение. С ними тоже не без проблем. И потом, не все мужики обладают расовой терпимостью.
И поэтому, здесь русские невесты — являются просто идеальным товаром.
По расе они белые и даже, зачастую, более белые чем рафинированные европейки. Потом, они — выпускницы московских вузов — умны и сообразительны. С ними не стыдно показаться в обществе.
И если найти честную девчонку, которая отблагодарит, и за вывоз в Европу ответит любовью и преданностью, то рядом с такими — местные развращенные этой идеей фикс — равенства мужчины и женщины — рядом с такими русскими девочками, местные уже не котируются.
Такие дела, хотя и местная пропаганда не перестает пугать престарелых обывателей ужасами коварства русских экспансионисток… Мол, охмурят и потом — разорят…
Но тем не менее.
А на третью неделю Наташкиного гощевания, Марина не без некоторого раздражения стала вдруг осознавать, что однажды запустив Гринько в английский огород, выгнать, отвадить ее отсюда теперь очень трудно..
Денег, тратимых на Наташку было не жалко. Она, конечно, по-детски канючила, встанет у Маркса в отделе с платьями или с трикотажем. Выберет что-нибудь не шибко дорогое и не шибко чтобы дешевое, и глядит во все глаза на Маринку, как на маму родную.
Ну, когда в Лондон в клуб Марки ездили, или в Принц Альберт Холл на трех итальянских теноров — билеты, естественно, Марина покупала. Но узнав, что она платила за эти вечера бэби-ситтерше по сорок фунтов, Наташка пришла в изумленно — восторженное состояние.
— А плати мне! Ты, вот про работу в Лондоне говорила, что хочешь себе что-то приискать, так найми меня с Анечкой сидеть. Я с ней по-русски разговаривать буду.
Да! Не пропадет… Наша — казачья порода.
Но все же спихнула подругу свою на Серегу.
Сперва за отсутствием времени, все же заботы по содержанию семьи — на ней, на Маринке, отказалась сопровождать Наташку в модную дискотеку — где то там — на правом берегу.
Серега этим сразу воспользовался, мол — гони отступного на содержание землячки.
— Сто фунтов? — аж зашлась Маринка.
— А ты думала!
Потом, когда ни Серега, ни Наташка два дня ни звонили, ни появлялись — стала было волноваться.
Серега то ладно! Он, бывало, и по две недели гулял. Но Наташка?
Потом приехала.
Утром в понедельник.
С дикого похмелья — рожа вся опухшая, глаз не видно.
— Где шлялась, подруга?
— А везде! С такими парнями познакомилась — полный отлет!
— Ну!
— Маринк, ну ты меня не грузи…
— А я и не гружу…
— Здесь же цивилизация…
— Дура ты! Здесь наших русских бандитов, и поляков, и хохлов — тьма! Враз тебя в разработку возьмут. На иглу посадят, опроститутят, паспорт отберут. И никакая полиция не поможет — у них все куплено.
— Да-а-а?
— Не валяй дурочку наивную… Наших тут без виз — десятки тысяч. Полицейский поймает, ему пол-сотни фунтов в зубы и все вэри-велл.
— А я завтра на континент с ребятами уезжаю. С испанцами — классные такие ребята!
— У тебя ж визы шенгенской нет.
— А это фигня. Мне один пацан — его Мигель зовут, паспорт своей сестренки дает, она здесь в ресторане работает — так я съезжу на континент, вернусь, и ей отдам…
— Ужас! Просто ужас… Тебя посадят.
— Ай, да брось, не бери в голову.
А потом Наташка и взаправду уехала. За ней на белом «Сеате» с континентальным рулем и голубым ореолом звездочек евросоюза на испанском номере — заскочили какие то ребята — Мигель и Эдуардо.
Пока Наташка собирала сумку, Марина перекинулась с ними парой слов.
Так, вроде обычные нормальные ребята — не сутенеры. Сами из Барселоны. Сказали, что учатся на юристов. А Маринка им в полу-шутливом тоне сказала, что мол срисовала и их фэйсы, и номер машины, так что, если с подругой случится что-то нехорошее…
Впрочем, Мигель с Эдуардом только посмеялись.
Наташка спустилась вниз с тяжелой от британских сувениров сумкой.
Расцеловались…
— Гляди, не будь простофилей!
— И ты сама, тоже!
Только Серега потом очень расстроил.
Не держится у него язык. И ведь тюрьмы хлебнул, а все равно — не держится!
Через неделю, как Наташка уехала на континент, сказал. что Мигель этот наркотики возит в Лондон. С континента.
12.
В характере Димы соединились две черты, во многом определившие его жизнь. Индивидуализм одинокого волка — все и всегда только сам… Надеяться только на себя…
И второе — что сам Дима называл авантюризмом не лишенным доли расчета. Если есть восемьдесят процентов успеха — бросайся головой вниз.
Так и с побегом. Дима почему то был теперь уверен, что следователя он «разведет». Уж больно с нескрываемым интересом расспрашивал тот про жизнь заграницей. Как там в Греции, да как во Франции? И расспрашивал не про достопримечательности да красоты морей, а про ночную жизнь преимущественно.
Так вот, когда по ходу следствия стали они говорить про Кипр и про греческие его связи, проявил любопытный следователь особое внимание не к офшорным банкам и счетам, а к подробностям… как вызывают проститутку в гостиничный номер, да сколько эта проститутка стоит? И что с ней можно делать…
Дима эту слабину у своего следователя заметил, и стал его потихоньку готовить… Развращать и готовить к предложению вместе, вместе с Димой уехать туда — в тот прозрачно-голубой мир, где яхты, солнце и загорелые фотомодели.
Следователь мог часами слушать про то, как в Афинах можно взять на прокат машину и укатить на ней по бережку моря через три страны аж до самого Монте-Карло. И там, если машина больше не нужна — сдать ее в ближайшую контору фирмы АВИС. Он мог часами заворожено слушать про то, как студентки со всей Европы съезжаются на каникулы на побережье, и как ищут «богатеньких Буратино», чтобы весело провести полтора месяца, катаясь на яхте и ныряя с аквалангом, а по вечерам, предаваясь разврату казино, дискотек и ночных клубов. Рассказал Дима и про Урсулу, как они с ней плыли на яхте от Кипра до Монако… Рассказал и про то, сколько денег это стоило. И блеск был в глазах у следователя.
Все! Все, решил Дима.
Он клюнет.
Только вербовать его надо на природе. С полной уверенностью, что никто не подслушивает.
Бежать можно будет через Чечню и там далее — через Грузию. А там — Турция и прямо на Кипр. А на Кипре у него все, как говорится, — схвачено.
В понедельник Дима попросился к следователю.
— Хочу заявление сделать.
— Делай, — скучая и зевая ответил следователь. Ему и самому уже надоели эти полтора года нескончаемой говорильни и писанины.
— Готов добровольно помочь следствию и выдать тайник, где хранится оружие, валюта и наркотики.
— Рисуй, — оживился следователь, пододвигая к Диме бумажный лист.
— Нет, вы не найдете, только сам могу показать. На месте.
На все согласования, да на организацию транспорта с конвоем, у следователя как раз неделя ушла. Выехали из Ростова в десять утра. В обычном милицейском УАЗике. Дима позади — в зарешеченной отгородке — обезьяннике. Следователь рядом с водителем, а между ними — на заднем сиденье — два ростовских мента в форме.
Ехали быстро. Водитель — милицейский сержантик гнал, под сотню. Лихо обгонял, и Диме порою казалось, особенно на закрытых для дальнего обзора переломах трассы, что во время очередного обгона они непременно врежутся во встречного.
Особенно, когда уже почти перед самым Новочеркесском обгоняли колонну «Икарус ов»…
— Пионеров что ли в лагерь везут? — лениво поинтересовался сержант-водитель.
— Пенсионеров! — хмыкнул следователь, в Новочеркесске к ихнему РУВД подъезжай, я зайду отмечусь.
Как въехали в городок, Дима с нескрываемым интересом стал крутить головой. Все такое с детства знакомое. И нету во всем городке человечка, с которым бы тысячу раз не встречался. Это не Москва… И даже не Ростов. Вон учительница их, Семенова, та что по химии, с полиэтиленовыми мешками куда то чапает. Наверное, в магазин, что напротив милиции. А вон Антоныч — алкаш записной — сидит по-зэковски на корточках, греется на солнце, ждет чего то — может что подойдет к нему волшебник и подарит сто рублей на опохмелку.
Приехали. Следователь пошел в отдел, менты вылезли на солнышко — покурить, встали неподалеку.
— Эй, дайте сигаретку, то! — постучал Дима в зарешеченное оконце.
Дали. Нормальные пацаны, а что менты, так служба такая!
Долго там следователь что то зацепился.
Дима уж свою сигарету выкурил, а его конвойные и по второй начали дымить. Водитель их сидел, что то ковырял пассатижами под рулевой колонкой. Провода какие то. Дверцы только пооткрывал, чтобы продувало. Жара!
Диму тоже начало смаривать. И водила — чудак, машину на солнцепеке поставил, нет бы подальше — в тени. Ума не хватило у него.
А вот и колонна тех самых «Икарусов» показалась. Тех самых, что они на шоссе за Рыбсовхозом обошли. Четыре больших автобуса, такие что ходят на междугородных линиях или ездят по обслуживанию Интуриста… Окна занавешены. Видать, от солнца.
А чего они остановились то здесь? Напротив милиции?
Е-мае! Мама родная!
Из дверей Икарусов один за другим стали выскакивать бородачи в камуфляже.
— Алла акбар!
— Алла акбар!
— Алла акбар!
И первой же автоматной очередью, подрезали его конвойных, что так и не успели докурить по второй…
Сержант — водитель было дернулся заводить, да где там! Бородач с коротким АКСУ сквозь раскрытую дверцу УАЗика выпустил в того пол-рожка.
— Алла акбар!
— Алла акбар!
Бородатые уже влетали в здание, и группками обегали его со всех сторон, бросая в раскрытые по весенней жаре окна свои смертоносные гостинцы.
Из окон второго этажа вдруг ударили парой стволов. Но бородачи быстро справились, задавив сопротивлявшихся из подствольников. Из разбитых взрывом гранаты дверей за шиворот уже вытаскивали на площадь оставшихся в живых обитателей райуправления. Вон следователя потащили… А вон, вроде, Мишку Коростелева. И точно — его!
А к УАЗику подошел сам… Не узнать его — было просто невозможно. Во всем камуфляжном великолепии. Полевой командир Султан Довгаев — собственной персоной.
Терпеливо дождался, покуда его бородачи расковыряют замок клетки.
— Ну, вот и свиделись, Дима! Ты, наверное, и не ожидал.
Десятки раз потом просматривая записанные на кассету телевизионные репортажи об этих потрясших всю страну и весь мир апрельских событиях, Марина делалась серьезной и задумчивой. И когда Сережа, тормозя кадр, тыкал пальцем в экран и кричал кому — либо из своих гостей, — лук, хиар из май скул, анд май хаус оувер зэа…
она сердилась на него, — чего кричишь, как тебе не… И сбивалась, не зная как выразиться точнее, «как тебе не страшно», «как тебе не больно», или «как тебе не стыдно».
Ей самой было и страшно, и больно, и стыдно.
Страшно было смотреть на окна того женского отделения больницы, где в том далеком теперь восемьдесят восьмом она лежала три дня, и где ей сделали аборт, теперь, из этих выбитых взрывами и выстрелами окон, роженицы во фланелевых халатах махали белыми наволочками, чтобы танкисты генерала Батова не стреляли по засевшим там бородачам Султана.
Больно было смотреть, как рычащие дизелями бронетранспортеры Батова ломают вишневые деревья, в их родительском саду.
Стыдно было смотреть, как бородатые боевики с улыбками победителей, запихивают заложников в Икарусы и спокойно удаляются из разоренного войною городка…
И среди заложников — Мишка Коростелев.
— И это твой город? Твой дом? — недоумевая спрашивал Генри Самюэль, наконец то приехавший погостить из своей далекой Канады.
— Да… Это мой город и это мой дом, — отвечала Марина.
— И ты все еще хочешь туда?
— Очень… Там мой сад остался. Надо вишни подлечить… Подправить… Что то еще можно ведь сделать…
13.
Батов во многом копировал своего кумира — генерал-лейтенанта Неведя. Батов — тогда еще командир развед-роты, и по званию — капитан, служил в ограниченном контингенте в ДРА или попросту в Афгане..
А комдив Невядь слыл тогда в войсках великим стебком. Приняв дивизию еще полковником, лазал по батальонам в каком-то старом затрапезном бушлате без погон, и не зная еще своего «нового» в лицо, многие попадали впросак, принимая его то за какого то гражданского спеца из Кабула, то за приблудившегося прапора из вещевой службы или с дивизионного склада ГСМ. Только маленькая квадратная бирочка на противогазной сумке с надписью химическим карандашом на ней «Невядь», выдавала новое дивизионное начальство. Говорили, что в этом своеобразном брезентовом портфеле, помимо запасных обойм к своему «стечкину» комдив постоянно таскал еще и фляжку из нержавейки с трехзвездочным армянским… Но про него вообще много чего говорили. И уже по весне, когда расцвел мак, и Невядь получил генерал-майора, принялся он лазать по батальонам в прапорщицких погонах с одною на них маленькой звездочкой… Будто этакий младший прапор, а не генерал…
Батов всегда любил в людях настоящее…
А Невядь и был настоящим. Именно они, настоящие, вообще — то стебками всегда и прикидываются. Неживой или поддельный, или если вообще — чужой, те всегда как раз норовят все по-правилам, да как следует. А Невядь — мужик без комплексов. Триста прыжков с парашютом, на костяшках — мозоли в медный пятак — от бесконечных отжиманий «на кулачках», да от ежедневных молочений в сосновую макивару… Да если бы его доблести писались не фиолетовыми чернилами, да не штабным писарем, да не в карточке учета взысканий и поощрений по форме, установленной в МО СССР, а гекзаметром боянно пелись бы у походных костров, то там бы были такие строки, как «голос его, был подобен раскату грома в самую страшную бурю, а глаза его извергали искры, как те, что сыплются из под колес боевой колесницы, когда та катится на бой по мощеной дороге…» Такой вот он был. И баб он любил. И вообще, был он из тех, кто своего не пропустит.
В общем, задумал как то Невядь караван один целиком на себя записать. Весь. Со всем товаром.
Граница то с Пакистаном полу-прозрачная. Оружие — стингеры-мудингеры, это само — собой, но везли караванщики и барахло: «сони», «грундиги», «шарпы» всякие разные. Генералы бортами военно-транспортной не только «груз-двести» в Союз слали, но порой настоящих «золотых тюльпанов» оформляли… Разведка наводку даст, четыре вертухи в горы… Туда с боекомплектом — обратно с «хабаром»… Потом только ящиками да тюками прям из «восьмерок» да в распахнутые рампы «анов»… А куда там потом в Союзе — никто и не знал.
Дивизионный разведчик ему эту идею то и подал. А то откуда бы Невядю знать, что кроме стингеров караванщик повезет бригадному генералу Камалю еще и бакшиш за прошлогодний урожай. А мак в том году — богатый уродился.
У Невядя для срочных серьезных дел, была отобрана команда. Из одних только офицеров и прапорщиков. Причем из тех, кто служил с ним еще во Пскове и в ГСВГ. Третьим номером был в этой команде и капитан Батов…
Шли двумя вертушками. «Восьмой» пару раз прижался — высадил две пятерки — в одной САМ, в другой старшим майор Кондратьев — разведчик дивизионный… А крокодил — тут же — все висел неподалеку — в пределах работы радиосвязи.
Невядь вообще слыл в войсках большим стебком.
И еще шла о нем молва, что справедливый. Будто бы вел Невядь свой одному ему ведомый учет потерь, где по его справедливому понятию должно было соблюдаться обязательное соотношение «один к восьми». Потеряли наши при выходе на тропу двоих десантников — комбат тут же должен отчитаться ему шестнадцатью головами дохлых духов. Потеряли четверых — покажи ему тридцать два холодных моджахеда — и ни на одного меньше!
Невядь с Кондратьевым тогда вернулись одни. Потери при выходе на караван составили восемь десантников и двое вертолетчиков — экипаж сгоревшего «восьмого». Комдива с разведчиком подбирал прикрывавший вылазку «крокодил»…
По принципу справедливости, Невядь поклялся перед знаменем дивизии, что за десять товарищей, духи не досчитаются восьмидесяти голов.
Такой вот был Невядь… Потом, стал он губернатором одного края. И погиб. По-дурацки. В вертолете расшибся и не на войне, а так — на лыжах на горных собрался, а вертолет за провода зацепился и…
А Батов его любил. И во всем копировал. Хоть и не догадывался, что не окажись он тогда… Не окажись он — капитан Батов — тогда, когда летали на ТОТ караван — в госпитале со сломанной ключицей… То все равно Невядь пришел бы домой вдвоем с майором Кондратьевым. А потери десантуры составили бы не восемь человек, а девять… Потому как «стебку» Невядю — лишние свидетели были не к чему.
Батов прибыл в Новочеркесск двумя вертушками.
«Двадцать четвертый» или попросту «крокодил», постоянно отстреливая тепловые ловушки и ощетинясь пушками и кассетами НУРСов, прикрывал посадку «восьмого», из которого шустро, по-десантному, выпрыгивали офицеры в камуфляже — и начальник штаба полковник Синицын, и начальник разведки майор Грабарь, и командир штабной роты капитан Клещук…
И едва коснувшись ботинками асфальта площади Ленина, где кроме памятника Ильичу, несмотря на середину жаркого майского дня — не было ни души, Батов затребовал связь с дивизией, и только махнул пилоту «восьмого», — мол, улетай, а нето еще подцепят тебя «Иглой» или «стингером».
Танкисты первого батальона дивизии уже были где-то в полу-часе хода от Новочеркесска. Они видели их сверху еще десять минут назад. Теперь надо было установить связь с оставшимися в городе милиционерами, уяснить где противник и обложить Султана так, чтобы ни один бородатый не смог бы выскочить.
— Товарищ генерал-майор, здание под штаб подходящее нашли.
— Чей это дом?
— На почтовом ящике написано — Кравченко, но, видимо, никто не живет. Обзор удобный сразу на две улицы, в саду окопчики отрыть можно, и стены надежные — кладка в два кирпича — из гранатомета не возьмешь.
— Добро.
— Товарищ генерал-майор, разведка докладывает из района больницы. Прибыли туда силами взвода на двух БРДМах. Чехи бьют из ДШК и «мухами» кидаются.
— Кто? Селиванов? Дай его мне. Береза? Это Туча здесь. Ты броню побереги. Отойди за дома.
Батов поморщился. На его частоту настроился мусульманин.
— Это ты, Батов? Что позывной такой мрачный придумал себе? Ты начальника штаба накажи, пусть он тебе другой позывной — праздничный придумает, «могила» или «гроб». Скоро тебе и то и другое понадобится.
Дом, выбранный под штаб, оказался недостроенным трехэтажным коттеджем какого то «нового русского». Батов легко вбежал на второй этаж, куда из просторнейшего холла вела широкая некрутая лестница. Выглянул в не застекленное окно. «Нет, повыше бы подняться»! Огляделся, вот и еще одна лестница наверх — винтовая. Загремел подковками ботинок по стальным ступенькам. А можно и еще выше подняться, оказывается. Архитектор для хозяина смотровую башенку тут придумал. «Ага, и совсем другой коленкор! В бинокль все окраины городка видать».
Вслед за генералом поднялись Синицын с винтовкой СВД в руках и Клещук с рацией.
— Товарищ генерал-майор, тут Довгаев на связи, он с вами говорить хочет.
Батов взял рацию и встал к тому оконцу, что глядело в сторону больницы.
— Батов, ты скажи своим танкистам, что в больнице много женщин. Не надо им стрелять.
— А ты выходи из больницы без оружия с поднятыми руками и белым флагом, тогда стрелять не будем.
— Батов, тут женщина, главный врач, она с тобой говорить хочет.
Батов поморщился, что то в трубке затрещало.
— Александр Филиппович, вы меня помните, я Заманская Софья Давыдовна — главный врач. Вы меня помните, мы еще сыну вашему здесь гланды удаляли. Александр Филиппович, здесь триста пятьдесят семь больных. В родильном отделении больницы двадцать семь грудных детей, роженицы, персонал, преимущественно девочки совсем молоденькие. Стрелять нельзя. Нельзя стрелять, Александр Филиппович.
Батов щелкнул переключателем.
— Не надо пока меня с ним соединять, Султан женщин убивать не станет. Вот когда мы его обложим, тогда он за ними, как за щитом, на прорыв пойдет. Влипли, мы, Саня. То есть, не мы влипли, а менты да ФСБ, что проморгали Султана, как он в город пролез. Они влипли, а разгребать — все одно — нам.
Саня — полковник Синицын, наблюдал больницу через оптику своей СВД.
— Первый батальон подошел. Танки вижу.
— Дай мне Трофимова… Леша? Пошли за мной коробочку на пеленг. Я тут возле площади Ленина. Машины побереги. Стрелков окопай. И никакой большой стрельбы! Один гражданский в больнице погибнет — я с тебя голову сниму.
Коробочка — танк т-восемьдесят, прибыла через пять минут. Подвывая турбиной, стала разворачиваться неуклюже, левой гусеницей завалила забор, и бесцеремонно влезла нещадно дымящей выхлопом кормой в самый сад, что с трех сторон доселе окаймлял кирпичную трехэтажку.
— Вишни то можно было и не ломать, пробурчал Батов, пожимая руку спрыгнувшему с брони Трофимову. Поднимайся сюда, наверх. Дело долгим будет. Так мне кажется.
— Товарищ генерал-майор, вас Черномордин на связь.
— Какой к херам Черномордин?
— Премьер-министр правительства Российской Федерации, товарищ генерал-майор…
Этот сюжет обошел все выпуски мировых новостей. Премьер Степан Иваныч Черномордин говорит по телефону с генералом Батовым, а потом с полевым командиром Султаном Довгаевым.
Ну, Батов немножко поволновался… Нельзя сказать что струхнул. Нет! Просто понервничал. Ему сразу все ясно стало — Черномордин светится перед избирателями и перед мировым сообществом — очки перед президентскими выборами набирает. И дураку понятно, что из Кремля за две тысячи километров — много не наруководишь. А эти «цэ-у» типа «освободить», «не допустить», «проявить» и «защитить»
— за них Батов и гроша ломаного не даст.
А вот Султану такое высочайшее внимание — явно по душе пришлось. Он того и добивался, когда больницу брал.
По телевизору то это не показали, а зря!
Султан прямо и без обиняков Черномордину сказал условия — выпускаете семьдесят чеченов, что с разными сроками в лагерях — список прилагается, и десять миллионов долларов наличными.
А Черномордин то тут весь и вышел! Ничего он оказывается решить не может! Орал в трубку как дурачок, воображая себя начальником Султана…
— Довгаев, я приказываю вам добровольно сдаться федеральным войскам, я приказываю вам сдаться, и тогда я обещаю вам и вашим сообщникам честное судебное разбирательство…
Либо дурак — либо наивный! А премьер наивный — может быть? Ну и послал его Султан на три буквы… А всех собак из Москвы спустили на Батова.
Мол, мы все необходимое и все от нас зависящее — сделали, так что, давай генерал Батов — проводи антитеррористическую операцию! И если что — мы с тебя погоны…
Это — последнее — в новостях не показали. Как не показали и сюжет с батюшкой — отцом Борисом.
После того, как Султановы боевики отбили единственную попытку разведчиков спецназа ГРУ ворваться в больницу, Батов решил особенно не рыпаться. А и то! Женщины из окошек простынями машут — куда там стрелять? Пальнешь, а потом всю жизнь будешь этот выстрел вспоминать как конец своей генеральской карьеры.
Собственно и переподчиненный — приданный ему спецназ, Батов послал под окна — только ради блезиру… Чтобы не обвинили потом, де ничего не предпринимал, занял пассивную позицию и все такое… Разбирать полеты и махать кулаками после драки — это у нас умеют. Вот попробовали бы здесь — на месте поруководить!
Одним словом, когда спецназ вернулся ни с чем, Батов окопал своих по периметру, понаставил «коробочек» за укрытиями и стрелять разрешил только снайперам из ГРУ — где каждый снайпер не ниже старлея…
Теперь вокруг больницы воцарилась почти мертвая тишина, иногда только нарушаемая пулеметной очередью с той — с ихней стороны.
И вдруг…Синицын, что ни на минуту не расставался со своей СВД, кричит,
— Товарищ генерал-майор, глядите-ка, поп бежит.
— Какой еще поп?
— Такой… Натурально — провославный поп… Батюшка.
А отец Борис, как только узнал, что чечены захватили больницу, помолился Иверской, да и пошел туда, где как полагал — была нужда в нем.
Только еще перед тем как идти, приколол на рясу свой орден Красной звезды и памятную медаль за «интернациональный долг» в ДРА…
А Султан отца Бориса сразу не узнал — с длинными волосами да с бородой, да в рясе. Ему его привели на КП, что Султан оборудовал в ординаторской хирургического отделения.
— Вот, поп русский с белым флагом к нам пришел, — оскалился опоясанный лентами к РПК весельчак Махмуд.
— Поп? Зачем поп? Я просил у них телевизионщиков с ОРТ и НТВ — я заявление делать хочу, а попа я у них не просил. И че ты так смотришь?
Отец Борис же, напротив, Султана сфотографировал в одну секунду,
— Не узнаешь, Султан? в/ч 88 840…
— Сержант Майданов? Замкомвзвода?
— Вижу, признал ты меня, наконец.
Посидели с минуту молча. Султан даже как то занервничал, что вообще для него было несвойственно. Достал сигареты, машинально предложил отцу Борису. Тот только покачал головой ни слова не говоря.
— Ты в восемьдесят четвертом по весне на дембель пошел?
— А тебе тогда еще пол-года оставалось, — ответил батюшка, и Кольке Демьяненко — корешку моему…
— Кольку в Союз «тюльпаном» послали. Нас в июне в дело запустили. Начальству тогда под Кандагаром активное развитие успеха понадобилось. Из взвода нашего еще и Гошу Маргеналашвили тогда и Леху Сайкина…
— Я знаю. Я в областной совет ветеранов теперь вхожу. Почетным заместителем председателя…
— Понятно.
— А ты теперь с женщинами воюешь, десантник?
Султан насупился. Бросил сигарету и принялся длинными пальцами ощупывать жесткие рыжие волосы моджахедовской своей бороденки.
— Нет, Борис, я не воюю с женщинами. Да и не десантник я теперь… В моей Ичкерии нет вэ-де-ве… Это у вас — у русских есть и самолеты и вертолеты.
— А там, в Афгане, ты был десантником?
— Там?
Султан замолчал. Махнул раздраженно весельчаку Махмуду — «выйди, оставь нас»…
— Это было там. — Он сделал ударение на последнем слове, — Было и прошло. А теперь у нас наша нынешняя реальность. Нету больше ни СССР, ни Афгана, ни десантуры…
— Нет, неправда твоя, есть десантура, — спокойным алтарным своим басом пророкотал отец Борис, — и десантура с женщинами не воюет.
— Ты меня, замкомвзвод, на жалость не разводи! Да и не замкомвзвод ты мне теперь. На тебе вон — и одежда поповская. Где твой камуфляж да кроссовки? Нет больше десантуры, и страны той нет. И я теперь воюю за свою собственную страну — против вас. Против русских. И мой тебе совет — уходи по добру — по здорову, пока мои ребята тебя сгоряча как барана не прирезали…
Отец Борис ясными голубыми глазами своими посмотрел из под светлых бровей,
— А я и пришел себя предложить в залог… Вместо женщин. По крайней мере — вместо беременных и тех что с грудными. Отпусти их Султан, если в тебе осталась хоть капля чести. А со мной — что хотите.
Султан от нервов весь зачесался, запуская пальцы то в рыжую бородку, то за воротник камуфляжа,
— Ты меня на жалость не разводи! Что было — то прошло. У меня теперь другая честь. Была раньше десантная, а теперь ичкерская честь у меня… И с десантурой вашего Батова я теперь воюю.
— Женщин то все равно — отпусти. Меня возьми, а женщин с детьми — отпусти.
Султан вдруг длинно выругался по — матерному. Забористо, смачно.
— Ну что ты пришел, Борис? Пришел бы ты в другой раз…
— И что? Ты бы выпил со мной? Тебе ж ислам не велит!
Султан достал из одного из многочисленных своих нагрудных карманчиков бронежилета черные светозащитные очки. Кликнул Махмуда.
— Позови главврача. Заманскую эту. Софью Давыдовну. Пусть собирает этих…
Он запнулся на слове «женщин», мягко с характерным акцентом выговаривая начальный слог…
— Женщин из родильного отделения пускай выводит. Свяжись с Батовым, чтобы не стрелял. Мы здесь еще долго сидеть будем. Пока Ельцин телевидения обещанного из Москвы не пришлет… И ты, Борис с ними уходи.
— Нет, останусь я у тебя. Потому как много у тебя еще больных здесь. А покуда люди русские православные здесь в плену у тебя, и я с ними останусь. Но за беременных и тех что с грудными — спасибо.
Телевидение потом показало, как двадцать женщин из родильного отделения выходили с грудными из больницы. Под белым флагом из простыни. И дикторы сказали, что это премьер Черномордин с бандитами договорился.
Маринка смотрела это по НТВ. По спутниковой антенне. И гостивший в ту неделю у матери — у миссис Самюэль ее сын Генри, сочувственно цокал языком, -
— Это ужасно! Это ужасно! Как вы должно быть счастливы, что уехали оттуда!
А Маринка наоборот. В последнее время стала выписывать всю английскую литературу по практическому садоводству. И принялась прикупать садовый инструмент — ножницы, секаторы, маленькие ручные опрыскиватели. В Кроули в филиале универмага Маркс есть большой отдел товаров для садоводов-любителей.
Потому как папа незадолго перед смертью все жаловался, что вредители — тля, шелкопряд… совсем замучили бедные вишенки.
И Маринка решила, что скоро поедет туда. В Новочеркесск. В Россию.
Приводить свой сад в порядок.
Конец первой книги.
Казачка
Cossack — woman
Казачка
Cossack — woman
Книга вторая Маринкины сны
1.
Марина часто видела сны. В детстве так бывало, что даже боялась ложиться спать, вдруг увидит там… Кобу…
Откуда она его взяла, в каком кино подсмотрела — никто из родных так и не сподобился узнать. Но с трех еще годочков, бочком, бочком обходя некоторые в их саду места, она все приговаривала, — Коба… Здесь Коба живет. И когда родители спрашивали ее недоуменно, — кто такой Коба, — она округляла глазки, растопыривала пальчики и пытаясь придать своему ангельскому голоску страшные басовые нотки, гудела, — У-у-у! Это такой страшный Коба…
Она часто видела сны. Почти каждую ночь. Может и каждую, но виденное не всегда запоминалось. И в сны верила, как в продолжение дневной жизни, полагая в них либо зашифрованные послания от так рано ушедшей мамы, либо неразгаданные попытки собственной Маринкиной совести, которая пользуясь ночной слабостью разума, пытается сказать ей… Что сказать?
Что?
А и хорошие сны ей снились в ее саду. Под большой папиной вишней. Бывало, снился необычайный простор. Вот она подходит к краю обрыва, с которого видно на сотни верст вперед, подходит, разводит руки, словно это крылья, и грудью ложась на упругий теплый ветер — летит. В дальние края, туда, где ждет ее счастье.
А в Англии в последнее время что-то часто снился ей один и тот же сон, повторяясь с незначительными отличиями. Снился ей страх академической задолженности. Будто ходит она по аудиториям института, где все ее подруги, с зачетками наперевес штурмуют задерганных преподавателей… А у нее — ни одной курсовой, ни одной контрольной! И вот девчонки ей машут, Маринка, айда с нами зачет сдавать, а она непослушными ногами не знает и в какую сторону идти — то ли на кафедру экономики и планирования, то ли на бухучет, то ли на матстатистику — все одно — ничего у нее не готово, и ждет ее полный провал и отчисление из института. И мучило ее во сне не то что так страшно ей было вылететь из ВУЗа, а мучило сознание ускользавшего времени, мучила потеря той точки, за которой уже не ты контролируешь цепь событий, а они — события несут тебя по горной реке, где тебя бьет и бьет о камни… и неизвестно, когда перестанет бить и вынесет вдруг на чистую воду.
Два года всего в России не была, а Москвы и не узнать!
В Шереметьево таксисты приобрели какое то подобие европейского благообразия. Некоторые даже при галстуках. И машины поприличней стали, на смену ободранным ржавым «волгам» пришли «мерседесы»… Но врожденное хамство шоферское никуда не делось. Оно только слегка прикрылось фиговым листочком показного лоска.
— Мадам? Вам до центра? Всего двести долларов, мадам.
Маринка качает головой, улыбается. Из Хитроу за такую цену она бы пол-Англии в кэбе проехала, аж до Ливерпуля. С одной сумкой она теперь и на маршрутке до метро доедет. Зачем мафию поощрять?
А таксисты, с улыбочками, намеренно громко, чтобы ей слышно было, чешут все что думают про нее, и что она мол из бывших валютных проституток, и что таких как она — они бравые шофера…
Плохо женщине одной. Плохо, когда ее некому защитить. И от хамов — шоферов, от их злобной завистливой брани… Был бы жив ее Володя… Он бы в один миг заставил эту гнусную банду униженно извиняться.
Или Димка Заманский.
Плохо женщине одной. Без мужчины. Особенно красивой женщине.
Стоя в очереди на маршрутку, позвонила по мобильному домой в Кроули. Спросила Юльку, как там Аннушка. Уже соскучилась по ней. Вот только наладит в Новочеркесске быт, сразу Анечку заберет. И чтобы там ни говорили, мол дура, умные люди из России бегут, а она наоборот…
В Москве у нее была еще пара дел.
Въезжала Марина по российскому паспорту, как россиянка, но тем не менее, в греческом посольстве решила все же отметиться, на всякий случай. Вдруг, с выездом какие сложности возникнут? А ей еще за Анечкой ехать!
Ну и еще хотела кое-кого повидать. Наташку Байховскую, та уже год как в столице — замужем, не замужем, не поймешь! В общем, с чеченом каким то живет, у него тут магазин, или целый рынок на юго-западе.
Сперва в посольство. Неприятно резанул вид огромной очереди в визовый отдел. Стоят, в основном — девчонки. Модные такие. С умными интеллигентными личиками… На нее глядят как на врага, не скрывая жгучей зависти, что она без очереди с греческим паспортом наперевес проходит мимо милиционера, и нажав кнопочку звонка, спокойно входит в ту дверь, ради которой они занимали очередь аж с шести утра…
Отметилась в консульском отделе. Чиновник — милый загорелый мальчик — этакий классический танцор сиртаки, начал было с ней по-гречески. А она улыбается… Все понятно! Но ничего — он сразу по русски так вежливо объяснил, пускай госпожа Кравченко не волнуется, визы никакой на выезд не надо, на границе в аэропорту только посмотрят отметку в паспорте, и все…
Позвонила Наташке. Та изобразила страшную обиду, чего, мол, не предупредила, она бы с Ахметом в аэропорту встретила на машине!
Тут же возле посольства поймала частника на «жигулях» и за двести рублей сговорилась до Коньково.
Шофер — пенсионного возраста в потертой джинсовой курточке, ей было переднюю дверь открыл. И хмыкнув, удивился, что она на заднем предпочла устроиться.
Прилипла к окну. Сильно изменилась Москва. Оевропеилась.
Реклама, реклама, мерседесы…
Наташка с бланшем под глазом. Открыла дверь и улыбается как то боязливо. А из кухни крики гортанные на чеченском.
— Это тебя твой так отделал?
Наташка ухмыляется через силу,
— А! Свои у нас с ним разборки, не обращай внимания.
Марина в нерешительности встала посреди прихожей. Через маленький коридорчик, ведущий на кухню были видны спины двух или даже трех чернявых молодых мужчин, одетых в спортивное.
— Может в другое место пойдем? В ресторан, что ли?
Наташка замежевалась,
— Да нет, проходи, это к Ахмету тут родственники приехали, пусть они на кухне, а мы с тобой в комнате посидим.
Обнялись.
— Два года не виделись…
— Два?
— Как время летит!
В квартире неуютно. В коридоре обои старые отклеились и загибаются по углам. И в комнате как то пустовато. Диван без ножек, ковер, да телевизор в углу. И то не на тумбочке или подставке, а так — на коробке картонной.
Наташка как бы извиняясь, опережает расспросы,
— Ахмет снимает тут. Ему до рынка удобно — пять минут пешком.
— А тебе?
— А мне?
Наташка вздыхает.
— А! Все ерунда!
— Зачем ты с ними связалась, Наташка? Они же зверье! Они Юльку мою чуть не убили, и Володю моего Руслан убил, я точно знаю. Зачем ты с ними?
Наташка скривилась, готовая расплакаться.
— Тебе хорошо рассуждать, ты богатая, тебе Володя твой оставил, да ты и уехала, брезгуешь здесь жить А теперь то ты зачем приехала? Меня учить? Были бы у меня деньги, как у тебя, мне б не пришлось у тебя ума занимать. Думаешь, я по любви с ним?
Марина почувствовала, что в Наташке говорит ревность и детская обида, что не ей повезло, а Маринке.
— Я сюда жить приехала, подруга. И Анночку мою привезу, как только дом в порядок приведу.
— Наташка!
Словно гортанный клекот хищных птиц послышался из кухни,
— Наташка, твою мать! — и дальше по чеченски…
Подруга в мгновение ока очнулась и покорно засеменила на хозяйский зов. Оттуда сперва донесся возбужденный хохот чернявых спортсменов, потом грязная матерная брань, по всей видимости, это был Ахмет, потом хлесткие удары, как пощечина, когда мокрой рукой по мокрому лицу…
Марина поднялась с дивана в решимости уходить.
Но проем дверей уже загораживал один из чернявых. В костюме «адидас».
Лыбился, обнажив в оскале пару золотых зубов.
— Тебя как зовут, подруга!
Маринка достала из сумочки телефончик, набрала многозначный номер, и отчетливо проговорила в трубку,
— Я тут на Южном шоссе дом двести сорок корпус три, квартира пятьдесят шесть…
Потом достала из сумочки свой паспорт, не раскрывая его, на вытянутой руке сунув обложкой в небритую харю, сказала с расстановкой.
— Я, морда твоя черножопая, гражданка Греции. И тебя, ублюдка недоделанного, если я только свистну сейчас, не то что милиция, интерпол мочить будет. Понял, козлина чеченская?
По тому, как сальный оскал на морде чернявого спортсмена сменился выражением смутной озабоченности, Марина увидела, что он что-то понял. По крайней мере, понял, что с Мариной у него ничего не получится.
Оттолкнув спортсмена, она решительно отмерила десяток шагов до выходной двери, и взявшись уже за ручку, крикнула в строну кухни.
— Наташка, не будь дурой. Не будь дурой, уходи, пока не поздно. Я тебя в Новочеркесске ждать буду…
Вот говорят, мол где прошел хохол там еврею делать нечего… А где чечен прошел? Султан дал Диме денег в долг под тысячу процентов.
Чтобы Диме до Тбилиси добраться, где у него был верный кредитор, надо было как минимум тысячу долларов. И Султан дал.
— А отдашь десять.
И куда деваться?
Сперва сомневался, а вывезет ли его Султан из Новочеркесска? Вдруг просто шлепнет его прямо на площади — к чему ему свидетель старых дел? Однако, когда Дима оценил весь масштаб войны, разыгравшейся вокруг их больницы, до него дошло, что Султану уже бояться нечего. И после того, что он устроил расстреляв райотдел милиции и захватив больницу с тремя сотнями заложников, никакие старые дела Султану были уже не страшны.
Только убедившись, что мама жива и здорова, Дима решил покинуть город вместе с боевиками Султана.
А иначе было и нельзя! Останься он — его бы в момент арестовали, фээсбэшники и бежать во второй раз ему бы вряд ли уже удалось.
Султан уходил из города четырьмя автобусами, взяв заложниками нескольких милиционеров и женщин. Среди пленных ментов был и Мишка Коростелев… Они узнали друг друга, и несколько раз обменялись многозначительными взглядами. Как бы там ни было, но Димка теперь был уже окончательно скомпрометирован перед всем их Новочеркесском. Султан на показ держался с Димой наравне, и даже велел ему держать в руках автомат… Правда незаряженный. Но кто об этом кроме них еще знал? Поди потом — докажи, что не бандит!
Так до самой границы и ехали — сверху вертолеты федералов, сзади бронетранспортеры генерала Батова, впереди — неизвестность…
То, что было потом, всю неделю затем показывали по всем телеканалам. Как ни надувался премьер Черномордин, мол не дадим бандитам уйти, и все такое — все люди Султана благополучно растворились в зеленой полосе. И Дима вместе с ними.
Для верности, Султан велел выдать Диме рожок с патронами, и приказал своему оператору запечатлеть на видео-пленку, как Дима строчит по кустам из своего АКСУ.
Димке уже было все равно.
Потом через всю Чечню — где на машине, где пешком — до самой Грузинской границы. Вот там то, взятая у Султана тысяча и пригодилась. Триста проводнику, и пятьсот — грузинским погранцам. На оставшиеся двести долларов автобусами добрался кое-как до Тбилиси.
А там уже отъелся — отоспался. На квартире у старого друга- подельника Арама Гурамовича Потаринишвили.
Арам и денег дал на дорогу, и паспорт грузинский с греческой визой сделал. За свой процент. Но уже не за такой, как у Султана. И надо же такое сказать про хохла, что где он пройдет — еврею делать нечего!
Но потом, уже на пароходе, когда впереди показался Босфор, до Димы дошло…
А ведь и правда!
Корнелюк то — хохол его, Димку с Мариной опередил!
Хохлу досталась любимая!
Где она теперь?
Увидит ли он ее?
2.
Мишка в форме… Смешной такой!
В милицейской она его раньше и не видала никогда, в их уголовном розыске все по-гражданке, в штатском расхаживали тогда. А тут — бац! Мишка и в форме и при фураге и при погонах.
Ему идет. Как и всем парням в их краях. А он смеется, мол — «подлецу — все к лицу».
И это верно…
Похудел, осунулся, отчего худая длинная шея с выпирающим кадыком стала казаться еще длинней. И эта рыжеватая жесткая двухдневная щетина, которой Маринка никогда раньше не замечала, вдруг резанула глаз и сердце.
Постарел. Потерял свою былую небрежную лихость.
Парни на Ставрополье да на Дону, казаки — одним словом, матереют быстро. Как армию отслужат, как перевалят за двадцать пять — враз набирают мужицкий сок. Только одни вширь, да в пузо, как ее батька покойный или дядя Петро, а другие, вроде Мишки — в худобу да в рыжую щетину.
Форма на нем военного покроя — зеленая. Погоны с тремя маленькими звездочками на каждом. Старший лейтенант. Инспектор пожарной инспекции.
Машину вот купил, Мишка с нескрываемой гордостью похлопывает фиолетовую крышу «опеля»…
Такие и в Англии выпускают на заводе «Воксхолл». А Мишкиной «вектре» лет восемь — не меньше… И странно как то Маринке стало от того, что Мишка разгорделся вдруг такою ерундой.
— Прокатить?
Маринка усмехнулась краешком губ.
— Нет. Сама дойду. Городок — то маленький. Да и пешком полезно.
Впрочем, своего «мерседеса», преодолевая некоторую при этом неловкость, она всеж у тети Люды забрала. Муж тети Людин ездил, видать, аккуратно, и никаких неприятных изменений или огрехов, как снаружи, так и изнутри, Маринка в машине своей не нашла. А впрочем и не искала. Только запах какой то чужой сперва в салоне ощущался, и Марина, хоть и не курила никогда, но ездила теперь с открытым люком. Благо погода и природа — позволяли.
Неделю просидела с юристом и главным бухгалтером.
По отъезде в Англию, в универмаге у нее оставалась небольшая доля. Да и в Ростове Володя имел кое — что помимо трехкомнатной квартиры. Еще уезжая, она дала юристу все необходимые доверенности на ведение дел по наследству, и теперь ей предстояло подвести некоторый итог.
Нужны были деньги. И на учебу Юльки с Сережкой, и на восстановление дома.
А дом… А дом представлял собою жалкое зрелище. Трехэтажная кирпичная коробка, превращенная местным хулиганьем в отхожее место.
Все придется переделывать.
Но не так она теперь хочет.
Не так.
В Англии она поняла, каким должен быть дом.
Свит хоум…
Совсем не такой, какой был у папки с мамой, не такой, какие строят нынче цыганские бароны и новые русские, но и не такой как у миссис Сэмюэль.
Она хотела совсем другой. И ей не терпелось начать.
Быстренько обжила одну из двух квартирок на проспекте Революции, где они когда то жили с Володей. А во вторую никого не пустила, хоть и просились друзья да родственники — оставила ее чем то вроде гостевой. Вдруг кто приедет… Хотя, кроме тети Люды из Кисловодска никто к ней особо и не приезжал.
А Мишка как то явно поглупел что ли?
Принялся было звонить ей вечерами, да по ночам. Но она быстренько его отвадила. А чтобы не баловался, как маленький, типа наберет номер — и трубку положит, подсоединила свой телефон к привезенному из Англии компьютеру-ноутбуку. Тот теперь сперва определял, откуда звонят и только потом давал хозяйке сигнал. А оба Мишкиных номера — домашний и рабочий, она занесла в «черный список», и посему глупых звонков стало меньше.
Но было дело — все же поговорили они.
Мишка начал с каких то банальных сальностей, мол «не забыла ли золотых деньков», да «как теперь тут ночами долгими да одна»… Но почувствовав в интонациях ее голоса неподдельные удивление и иронию, догадался все же, что взял с нею неверный тон.
Во второй раз — принялся было бить на сентиментальность. И звонил явно под хмельком. «Как мне без тебя тяжело», да «ты моя первая любовь». И снова не понравился ему холод в ее «чужом», как он выразился, голосе.
— Чужом, в смысле?
— Ну, не родном…
— А почему он должен быть тебе родным, на каком основании?
— Ну…
Хотя, она в глубине сердца лгала себе. Было у него основание рассчитывать на родственную свойскость. Все же он отец ее Анечке. Но он об этом не знал. И пусть не знает как можно дольше. Да и не должна какая то кровная свойскость быть залогом вечного родства!
Прошло.
Проехало!
Был родным не тогда, когда ребенка от него в Англии родила, а тогда был родным, когда она любила его. В десятом классе.
И вообще, поглупел он как то. Явно поглупел.
В школе он ей самым умным казался. А теперь? Пожарник, да и только! Причем, провинциальный.
«Как тебе длинными ночами одной, не холодно ли?»
Да в Англии и в самом грязном пабе такой пошлятины не услышишь!
Он тут книжки то какие — нибудь хоть читает?
И он выдал — таки на последок:
Ты меня, мол — пожалей!
Но что есть женская жалость? И верен ли тот расчет, что подсказывает дорогу под женское одеяло через эту жалость?
Любовь — это, как понимала Маринка, от скуки прохаживая в Лондоне на семинар по психологии, — это подсознательное одобрение и принятие качеств кандидата в мужья и в отцы будущих детей… Неосознанное восхищение его доблестями и талантами. Причем, в самых разнообразных и неожиданных проявлениях — так подсознание может одобрить и принять не только юного мускулистого красавца, но и немощного, но умного старика, потому как тот вполне может оказаться надежным и верным мужем и отцом, способным обеспечить счастливую жизнь своих детей…
Но или ум и богатство, или молодость и красота… Но не жалость к отсутствию того и другого!
Там, на социологических курсах при Лондон Скул оф Экономикс, она многое поняла и переосмыслила. И ее интерес к доценту Савицкому. И потерю этого интереса. И ее счастливый брак с Володей.
А пожалеть Мишку?
Женщина должна по природе жалеть.
Ребенка. И своего и чужого. Это в программе хромосом. Потому как жалость к ребенку — это составляющая материнства.
Раненого или больного — потому как раненого или больного мужа надо скорее вернуть к продуктивной деятельности — вернуть его к войне и охоте, вернуть дому добытчика и защитника… И это тоже компонента — женского естества.
Но можно ли построить любовь на одной только жалости?
Или еще точнее — вернуть любовь, если нынче жалок некогда любимый тобою человек?
Нет, не может нормальная, молодая, здоровая, красивая и социальная женщина полюбить из жалости!
Призреть…
Потому как любовь — это восхищение любимым.
А чем восхищаться, если он сир и убог?
Одна студентка тогда на семинаре спросила, а как у Шекспира — «она его страданья полюбила, а он ее — за состраданье к ним?»
И Маринка тогда тоже напряглась, как ответит профессор Гинсбург — этот щеголеватый и молодцеватый шестидесятилетний еврей из Венгрии.
И он вывернулся тогда, что мол в Дездемоне сверх меры развито мазохистическое начало. Дездемона — это тот архетип страдалицы, что олицетворяет униженность женщины во время полового акта. Недаром, ее избранник — негр.
И Шекспир подчеркивает, что она такая белая и нежная, а он — этот мавр, такой грубый и черный. И в этом контрасте автор добивается особенного повышения индекса сексуальности в скрытой эротичности смысла драмы. В ее латентном эротическом подтексте. Отдавая грубому и старому негру, этому африканскому солдафону, юную, нежную и белую свою героиню, Шекспир преследовал целью обострить у читателя сексуальное восприятие ситуации. Он делал много заимствований. И это чисто Апулеевский прием, создать высокое напряжение эротизма противопоставлением нежного — отвратительно-животному. Ведь, в представлении древних римлян — негр это та же горилла — тот же зверь! И если, у Апулея, нежная матрона отдается ослу, то и способный ученик Апулея — Шекспир прибегает к подобному приему. Но у Апулея — это сказка, в традиции античных мифов, а у Шекспира, драма из жизни средневековой Италии. Поэтому, Шекспиру потребовалось как то оправдать несколько необычные наклонности Дездемоны. И ему это удалось, ведь если «каждому хочется убить своего отца», как говорил на суде Иван Карамазов Федора Достоевского, то и каждая белая женщина хочет быть унижена черным рабом… Только надо раскопать на дне своего подсознания этот скрытый и подавленный комплекс.
Профессор Гинсбург даже спросил тогда юных студенток своих, а что мол, когда, под кайфом вина или наркотиков, неужели никому из вас не хотелось быть изнасилованной, грубо взятой грязным черным самцом? Профессор потом еще сделал тысячу оговорок на тему расовой терпимости демократических обществ, какими кстати не были ни времена Апулея, ни времена Шекспира. И вконец развеселив студенческую публику, Гинсбург вдруг приплел еще и увлечение современных порнографов темой «блэкс он блондиз»… Его тогда еще переспросили, что мол, профессор, порнушкой не брезгуете?
И Марина, покраснев в справедливом, как ей показалось тогда гневе, потом призадумалась. А есть ли резон в словах профессора? И так и не смогла себе ответить ни утвердительно — ни отрицательно.
Но что касается жалости? И любви из жалости…
Нет, не мазохистка она, а нормальная русская женщина!
«Пожалей меня», — канючил тогда в трубку пьяненький Мишка.
А она сказала, «стыдно тебе потом будет», и трубку повесила.
Но жалость к нему вдруг появилась. И очень сильная жалость.
Когда умерла его Галка.
О том, что Мишкина жена больна, Марина узнала от Софьи Давыдовны Заманской. Городок небольшой, и с каждым его жителем хоть в неделю раз — да обязательно где-нибудь пересечешься.
Софья Давыдовна проживала в единственной в Новочеркесске кирпичной девятиэтажке, которую построили еще к тридцатилетию Победы. А Софья Давыдовна — участник войны, и ее портрет на девятое мая всегда вывешивался на площади Ленина, вместе с портретами других ветеранов. На портрете — чернявенькая кучерявенькая востроглазенькая лейтенант — военврач с орденом Красной звезды на гимнастерке. И не узнаешь в ней нынешнюю Софью Давыдовну — поседевшую и сгорбившуюся худенькую старушку.
Марина увидала ее, когда Заманская возвращалась с рынка. И как то неловко ей стало, притормозила.
— Софья Давыдовна, давайте подвезу!
— Ой, Мариночка, да я тебе вишней все сиденья попачкаю…
Ехать три минуты. Вот и девятиэтажка.
— Софья Давыдовна, дайте я вам помогу сумки донести.
Ну, уговорила ее Заманская зайти, и отказаться было просто неудобно.
— Сейчас я тебя чайком вкусным угощу с конфетами. У меня шоколадные есть и мармелад.
Марина оглядывалась пока.
Вот Димина фотография за стеклом в книжном шкафу. Школьная. В пионерском галстуке. Серьезный такой мальчик, умненький. А вот еще — Дима за роялем. А Маринка и не знала, что он играет. А вот он, наверное, с отцом…
— Это он с папой, с Александром Аркадьевичем, — заметив Маринкин интерес, комментирует Софья Давыдовна, — Александр Аркадьевич был директором нашего авторемонтного завода.
— Я знаю.
— Рано умер Александр Аркадьевич.
Софья Давыдовна накрыла на кухне.
Помолчали. Но как то не тягостно помолчали, а как это водится, чисто по-женски, как бы помянув с грустью тех, кого с ними теперь нет.
— Ты же, Мариночка, тоже у нас круглая сиротка, — и Софья Давыдовна ласково погладила ее по голове сухонькой своей дрожащей рукой.
— Ты, Мариночка, Диму моего там не встречала?
Софья Давыдовна жестко выделила это слово — «там».
— Нет, не встречала.
Снова замолчали. И краем глаза, Маринка заметила, как по морщинистой, в красных прожилках щеке Софьи Давыдовны катится слеза. Скатилась, а за ней уж и вторая бежит.
— Совсем я одна, Мариночка, совсем одна. И Дима не знаю и жив ли?
Теперь Маринкин черед настал, и уже она своею легкою рукой коснулась седого затылка.
— Деточка моя, Мариночка, а то как бы было хорошо, как бы вы с Димой поженились. И как бы я ваших деточек нянчила!
Маринка с молчаливой покорностью сидела и слушала, как эта совсем старая и несчастная в своем одиночестве женщина, рассказывает ей о любви своего сына. К ней, к Маринке любви.
Дима. Этот загадочный Дима, ее — Маринки ангел-хранитель, он делился с матерью. Она ничего не ведала — не знала о его бизнесе и деньгах, но она знала все о его неразделенных Маринкой чувствах.
И вот, они сидят вдвоем на этой пропахшей лекарствами кухне, и думают о нем. Как там ему сейчас? И увидят ли они его?
— А знаешь, что Галочка то Коростелева — Миши Коростелева жена, дочка нашего начальника милиции бывшего — при смерти лежит?
— Как?
Маринка инстинктивно обе руки прижала к груди и испуганно поглядела на Заманскую.
— Представляешь, такая молодая — тридцати еще нет, а мы — медицина, совершенно ничем помочь не можем. Маховецкий Петр Тимофеевич уж и из Москвы специалистов хотел звать, и в Ростов ее перевозить, мы еле отговорили. Она в коме, куда ее везти?
Беспомощно ища глазами икону, и не находя ее, Марина перекрестилась, -
— Господи, помилуй. Спаси и сохрани.
— И мальчику — Алешке три годика… А Миша то, говорят, пьет.
— Пьет? — Маринка, как бы даже не поняла смысла этого простого русского слова. «Пьет»… — Может, лекарства какие надо, я в Англии могу заказать?
— Да что ты! Такую болезнь, что у нее — никакими лекарствами еще лечить не научились.
Уходя, Маринка расцеловалась с Софьей Давыдовной.
— Ты, Мариночка, если Дима тебе позвонит, или напишет… — и разрыдалась, не договорив.
— Ну, конечно, Софья Давыдовна, я вам сразу позвоню.
— И заходи, не забывай, как к себе домой заходи…
На похороны Гали Маринка идти робела. С одной стороны — одноклассница, почти родной человек, и все девчонки со школы, кто в городе остался — все проститься придут, а ей боязно.
Петра Тимофеевича.
Хоть и бывший он папин друг, а робела его Маринка, уж больно тот был уверен, что дочка его от тоски померла, от тоски, в которой в первую голову повинна она — Маринка.
То, еще Володей подаренное черное платье — как в самый раз. Даже слегка свободно, будто похудела она за эти четыре года. Черный шелковый платок. Бесцветная помада и то чуть-чуть.
Машину оставила возле кафе «Буратино», метров сто не доезжая до церкви.
Купила четыре чайных розы.
Отец Борис заметил ее, кивнул, опустив глаза…
— Ныне отпущаещи, Господи, рабу твою, Галину, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа…
К гробу не протиснуться — родни, бабок, теток — тьма! Все плачут, черными кружевами слезы вытирают.
И Мишка, как истукан, стоит, невидящими глазами смотрит поверх толпы. Шея длинная, кадык только ходит вверх — вниз, когда слюну или слезы сглатывает. И на какую он теперь птицу так похож? На цаплю что ли?
Пристроившись в хвост медленно двигавшейся очереди, приблизилась — таки к гробу. Галки там почти и не видно — вся в цветах, что и крышку потом не закроют! Подошла…
Взглянула робко исподлобья — Галка лежала с каким то очень обиженным и недовольным видом. Поджав бледные губки. Мол, обижали вы меня…
— Прости, — прошептала Марина, губами дотронувшись до холодного бледного лба.
И отходя, как будто услыхала, кто то шепнул — таки, — «вот мол, гадюка»… Подняла глаза и увидала — Петр Тимофеевич смотрит на нее не мигая, как на заклятого врага глядит.
На кладбище не поехала.
Их таких, кто на поминки в дом Маховецких не пошел, набралось пять человек — Вовка Цыбин, Маша Бирюлова, Ленка Задорожная, Валечка Хохлова из «б» класса.
Уселись к ней в «мерседес», да поехали к ней на проспект Революции.
В «чеченском», как теперь называли стекляшку напротив универмага, взяли вина и водки, ветчины, колбаски да сырку…
Выяснилось, что Галку то особенно никто и не помнил. Стали восстанавливать в памяти все наиболее значимые события — выезды на природу, на шашлыки. Первые школьные балы да вечеринки — и никто не мог припомнить там Галку Маховецкую.
Болезненная она была и на физкультуру даже не ходила. Освобождена была на все десять классов. Порок у нее что ли был или ожирение сердца?
— И ни на одной дискотеке она не была!
— Нет, была!
— На выпускном, помните?
— Маринка то не помнит — напилась тогда!
— Ты ее, Цыбин, и напоил тогда в кабинете химии!
— Ребята, ребята, нехорошо… Давайте Галку помянем.
Девчонки недолго сидели. У Маши Бирюловой — дочке три годика, Валечке Хохловой тоже бежать — девочку кормить, да мужа встречать. Вовка Цыбин холостой… Армию отслужил, работает теперь в автосервисе. Водочки вот выпил и принялся Ленку Задорожную откровенно за коленки хватать. Так и ушли, хихикая…
Что ж… Галка на кладбище — но жизнь то продолжается!
Маринка набрала длинный четырнадцатизначный номер.
Юлька почти сразу взяла.
— Как Аннушка?
— Хорошо. Скучает по тебе.
— А я то как скучаю!
— Приезжай.
— Дела поделаю и приеду.
— Как Сережка?
— Как всегда — неделями его не вижу…
— Ну, позвоню завтра…
Убираться на кухне, где только сидели ее одноклассники, не стала. Налила себе коньяку и пошла со стаканом в спальню.
Где же Галка теперь?
В раю?
Безгрешная ведь!
А я куда попаду?
В рай?
Не попаду я в рай…
И длинно звонил телефон.
Но она не брала трубку. Потому что наверняка знала, что это Мишка.
3.
А звонил не Мишка.
Звонил Генри Сэмюэль.
Но об этом она узнала наутро, когда заглянула в компьютер, поинтересоваться отчетом о звонках. А вечером Генри снова позвонил. Уже не из Лондона, а из Москвы.
— Марина, представь себе, я в России, и более того, еду к вам на Кавказ. Я в делегации лорда Джадда — это комиссия ОБСЕ по правам человека. Завтра мы будем во Владикавказе. Ты должна приехать туда и меня найти. Есть потрясающие перспективы. Я тебя представлю лорду Джадду, это очень перспективно — можно подключиться к большим гуманитарным деньгам, которые Евросоюз готов тратить на русском Кавказе. Я именно этим здесь и занимаюсь. До встречи, Пока!
Вот так! Судьба играет человеком. Все может измениться в один момент. Воистину, неисповедимы пути Господни!
На всякий случай посмотрела по карте. До Владикавказа где то триста пятьдесят километров. Это часов пять, если не очень гнать. Позвонила тете Люде, у нее повсюду связи, пусть ей номер забронирует, на всякий случай.
Бросила в чемодан пару — другую подходящих тряпочек, открыла сейф… Подумала сколько взять с собой в дорогу, и отсчитав, наконец, двадцать сотенных, закрыла бронированную дверцу.
Выпила кофе на дорожку, выходя поклонилась дому — какой ни на есть — дом все же! И перекрестившись на Николу Угодника, захлопнула дверь.
Генри Сэмюэль попал в свиту лорда Джадда не случайно. Вообще, никакого особого престижа в поездках на дикий недоразвитый Восток для благополучного англо-сакса не было. Сам лорд Джадд ехал в эту слабо-цивилизованную страну из соображений высшего своего долга британца — цивилизатора, который должен показать этим кремлевским гамадрилам, как следует соблюдать права человека, если ты со своим русским суконным рылом, пытаешься пролезть в калашный ряд евросоюза. Но при амбициозном в своем честолюбии лорде были деньги всевозможных гуманитарных фондов, деньги, которые непременно надо было истратить. И наперед зная, что русским ни под каким соусом нельзя доверять распоряжаться деньгами еврофондов, лорд прихватил с собою нескольких экспертов.
Опять же по причине дикости места следования, особого ажиотажа среди чиновников ОБСЕ за эту командировку — не было. Поэтому, Генри Сэмюэлю не составило особого труда быть принятым в свиту. А Генри в отличие от своих коллег — имел в этой поездке свои привлекающие его резоны. И одним из резонов была Марина.
Штаб лорда Джадда расположился в гостинице «Турист», все входы и выходы из которой охранялись по такому случаю, как если бы это была ближняя дача Сталина в те самые сороковые годы.
Маринку сперва даже в холл не пускали, и не помогли даже хитрости с показыванием греческого паспорта и протестами на беглом английском.
Выручил вдруг один какой то чиновник, видать из самых здесь важных.
— Марина Викторовна? А вас здесь дожидаются… — и повелительно кивнул двум мордастым — в штатском, что железобетонно перегораживали всем проход в холл гостиницы.
— А я вас знаю? — спросила Марина наморщив нос.
Мужик этот — в темно сером костюме, немодном неброском галстуке был из таких классически неприметных, которых обожают кадровые отделы наружных служб всех разведок мира. На такого сто раз по жизни наткнешься и никогда, хоть убей — не запомнишь, как его зовут.
— Так я вас знаю?
— Это неважно — я вас знаю, и сейчас проведу к господину Сэмюэлю, он нас о вашем прибытии предупредил.
Гостиница «Турист» была далеко не пятизвездным отелем, и Генри один занимал двухместный номер, в котором срочно по такому случаю поставили еще и холодильник с цветным телевизором.
— Марина! Как ты кстати! Сейчас как раз будет большая пресс-конференция, где соберутся все важные персоны. Я тебя всем представлю. Пива? Водки? Колы с коньяком? — Генри как всегда скалил рот своей фирменной инглиш смайл.
Неприметный в галстуке, тот что привел ее сюда, исчез столь же беззвучно, как и знаменитая улыбка Чеширского кота. И тут она вспомнила, где видела его. Точно! Это же он приезжал тогда их дом обыскивать, сразу после смерти папы. Марина даже по лбу себя шлепнула.
— Да ты меня не слушаешь? Ты рада мне или нет?
— Да рада я! Конечно, рада.
— Я тебя введу в большой бизнес, вот увидишь…
Выпили по глотку неплохого армянского бренди. Марина из вежливости спросила, как там миссис Сэмюэль, как тетка дю Совиньи из Саутгэмптона, но циничный Генри ее оборвал, мол все эти политесы типа «как здоровье королевы Елизаветы» — оставь для лорда Джадда.
Спустились в холл. Там уже был устроен помост с президиумом, на заднике которого русскими и латинскими буквами было написано ОБСЕ и OSCE. Телевизионщики суетились, устанавливая свои осветительные приборы, и пара корреспондентских лиц даже показалась Марине знакомой. Впрочем, тут были не только ОРТ и НТВ, но и Си-Эн-Эн и Эн-Би-Си.
Ровно в пять из наглухо перекрытого мордатой охраной кафетерия вышли лорд Джадд — Марина сразу узнала этого сухонького бодренького старичка — так часто он мелькал на всех программах Евроньюс, генерал Батов — он буквально на днях был назначен полномочным представителем Президента по Северному Кавказу, и председатель комиссии по правам человека в Государственной Думе — депутат Кондратьев. С постными лицами они нацепили наушники синхронного перевода, и лорд Джадд объявил, что прессконференция начинается.
— А мы, давай, пока пойдем в кафетериум, — предложил Генри, — все равно, пока это не кончится, мне тебя лорду Джадду не представить.
Администрация «Туриста» расстаралась, в буфете даже повесили картину Айвазовского «Вечер на рейде Цемесской бухты». И кофе очень хороший… Даже по английским меркам — очень хороший.
— Ну а ты зачем сюда приехал? Какой тут у тебя интерес? — напрямую спросила Марина, — ты же в Канаде занимался компьютерными обучающими системами?
— А я и здесь буду ими заниматься, — невозмутимо ответил Генри, продолжая скалиться своим инглиш смайлом.
— Как?
— А так. Евросоюз денег дает на гуманитарную помощь, пострадавшим от войны, а это школы и профессиональное обучение. Понимаешь?
— Понимаю, чего уж тут не понять? Хочешь ваши канадские обучающие системы продать в Россию, за деньги из гуманитарных фондов…
— Ты умная, — Генри перманентно светился белозубой улыбкой.
— Да чего уж…
— И ты мне здесь очень кстати нужна.
— Зачем?
— А затем, что мы учредим местный фонд, который примется строить эти компьютерные школы, а ты будешь председателем.
— Я? — Маринка даже закашлялась, кофе попал ей не в то горло и она стала кулачком стучать себя в грудь.
— Ты! А кто еще? Ты местная, а в то же время — гражданка одной из стран Евросоюза… И по английски говоришь, и вообще — человек нашей культуры, лорду Джадду это понравится — он не доверяет местным, особенно КГБ.
Видимо лицо Марины не выражало того ожидаемого энтузиазма, потому как Генри тут же принялся уговаривать ее в пользу этого проекта. И как человек практический, он не стал напирать на патриотические аспекты, а сразу перешел к вопросу личной выгоды.
— Твоих будет пять процентов от купленных у нас компьютеров и программного обеспечения.
— А на сколько всего вы намерены нам продать?
— Ты зря так агрессивна, деньги ведь не русские — не ваши, а наши — Евросоюза. И их все равно бы так или иначе истратили. А потом, вы ведь не наркотики на эти деньги получите, а компьютеры для ваших русских и чеченских детей.
— А все же? — упорно продолжала настаивать Марина, — сколько?
— Общая сумма предполагаемой сделки — пол-миллиона долларов, так что твоих — двадцать пять тысяч.
И увидев тень недоумения мелькнувшую на ее лице, тут же уточнил, -
— Но ведь, это только премия от нашей фирмы, а ты же будешь получать зарплату от Фонда. И зарплату по европейским меркам — неплохую.
— Я подумаю, — дежурно ответила Марина, тем более, что решать все равно будешь не ты, а твое руководство — лорл Джадд…
— Лорд Джадд тут никого не знает, и он никому не доверяет — кругом одни воры и КГБ, что суть одно и тоже…
— Я только что встретила тут одного…
— Да! И поэтому, лорд Джадд сделает так, как я ему посоветую…
Судя по тому, как кафетерий стал заполняться журналистами, Генри понял, что прессконференция закончилась.
Он быстро поднялся из-за стола и со свойственной ему резкостью игрока в регби и крикет, рванулся в холл.
— Лорд Джадд, позвольте мне представить вам большую приятельницу моей мамы — миссис Кравченко, ее семья уже три года живет в Британии, но она уроженка здешних мест и очень хорошо знает местные особенности, и кроме того, лорд Джадд, миссис Кравченко имеет экономическое образование и слушала лекции в Лондон Скул оф Экономикс…
— Риали? — с явной заинтересованностью переспросил лорд Джадд, пожимая мягкую Маринкину ладошку.
Потом Генри представил Марину генералу Батову и депутату Кондратьеву.
Батов хохотнул, -
— Как же, как же! Помню — помню. Значит это в вашем доме мой Ка-Пе был?
И неприметный гэбист с кефирно-непроницаемым лицом тоже был тут — как — тут.
— А я вас вспомнила, — сказала ему Марина.
— А и очень хорошо… Вместе теперь работать, наверное, будем?
4.
Конечно, не велик город Новочеркесск, и все тут друг про друга все знают. Поэтому, нелегко было Мишке скрыть от друзей и соседей, что стал он здорово зашибать. И ладно бы просто пил да напивался. Трудно в России кого либо таким поведением удивить — эка невидаль, поддает мужик! Тем более, что и причина у него на то имеется уважительная — жонка умерла…
Правда, справедливости ради, следовало бы уточнить, что привычку ежевечерне напиваться, Мишка приобрел еще задолго до Галкиной кончины. Как из милиции уволился, да как в пожарники подался.
Но и начальство у нас терпимое, пьет подчиненный — ну и ладно — кто ж, мол, без греха? Лишь бы по утру не похмелялся, да на работу «тверезый» приходил…
Но Мишка в своем алкогольном радении перешел все дозволенные границы.
Сперва стали потихоньку роптать подведомственные ему поднадзорные субъекты, все эти конторы, организации, кафе, магазины и ларьки, что имели несчастье попасть в ведение старшего инспектора Миши Коростелева. Люди порядок знали — раз в год приходит к ним пожарный инспектор, и ему надо давать… Конвертик с деньгами, а если инспектор оказывается человеком веселым и компанейским — то кроме конвертика, надо предлагать угощенье. Особенно, если специфика проверяемой организации к этому располагает. И вот как повадился Миша Коростелев обходить кафе, рестораны и винные магазинчики по три раза в месяц, склоняя начальство выставлять дармовую выпивку, стали люди жаловаться. Мол, совсем такой инспектор позорит уважаемые органы! Примите к товарищу меры.
Мишку вызывали на ковер, песочили, грозили выгнать… И прощали. Все же тесть у него — хоть и бывший, но начальник городского управления внутренних дел… Да с большими связями не только в Ставрополе и Ростове, но и в Москве.
Да и батька у Миши — не хрен собачий, а тоже, хоть и бывший. И тоже не без связей. Так что, терпели Мишку. Зубы стискивали, но терпели. И шептались у него за спиной, мол — «пропадет мужик»…
А повод для очередной пьянки нашелся самый подходящий. Зашел Мишка в кафе «Буратино», соточку коньячка принять для поправки здоровья, а там собственною персоною Наташка Байховская сидит — только, видать, приехала из Москвы вся такая красивая, столичная, центровая.
Обнялись, расцеловались. Мишка вмиг свистнул, чтоб притаранили на стол бутылку шампусика и бутылку его любимого армянского «три звезды».
— Ну ты как? Ну ты чего?
Помянули Галку. Выпили не чокаясь. Наташка стакан шампанского, а Мишка пол-стакана коньяка.
— Так ты холостой теперь, жених что ли?
— А ты?
И оба как то глупо, но очень весело рассмеялись, Наташка звонкой трелью зашлась, а Мишка заухал, как сова, — Ух-ху-ху-ху-ху, — только кадык на худой шее заходил вверх и вниз.
— А че теперь на зазнобе своей не женишься?
Наташка вообще никогда не отличалась деликатностью. Но Мишке как то все теперь было что ли по фигу…
— На Маринке? Да очень она крутая стала. В Англиях живет, да дома трехэтажные строит. Мы ей не чета…
— Эт-то точно! Видала я ее тут в Москве,
Наташка подтолкнула Михаила под локоть, мол чего сидишь — зеваешь, наливай — давай,
— она вся такая манерная ко мне на квартиру приехала, дверную ручку чуть ли не носовым платочком обтерла, заразиться что ли боится здесь в России после заграницы своей?
И оба снова захохотали — Мишка по совиному, а Наташка мелкой пташечкой…
Выпили. Байховская стакан шампанского, а Михаил пол-стакана коньяку.
— Ну а ты все с черножопыми дружишь? Ты там у Ахмета своего на рынке что ли торговала?
— А ну их в ж…
Наташка глубоко вздохнула, и с тоской посмотрев в окно принялась выразительно двигать челюстями, как в телерекламе жевательной резинки, всем видом своим выражая презрение ко всей предыдущей нескладной жизни своей.
— А ну их всех в задницу!
— Это точно, — подтвердил Мишка, подливая в стаканы.
— А ты из-за них из ментовской то ушел?
— Было дело… Постреляли мы тут… Не дай Бог никому.
И Мишка не дожидаясь подруги, махнул еще пол-стакана армянского.
Заведующая кафе — толстуха Зина Тихорецкая начала уже проявлять некоторое беспокойство. Раньше бывало Миша выпьет стакан коньяку, поболтает с ней о том-о сем, да и идет до другого кафе, где ему еще нальют. А тут уже две бутылки армянского усидел, да и подруга его два флакона шампанского скушала… И сидят — не уходят. А кто за выпитое платить будет? Пожарная инспекция города Новочеркесска? И до чего противный… Еще всегда любит, чтобы с ним обходились почтительно, мол начальство, мол уважаемый человек! Да какой он к черту уважаемый? Пьяница никудышный! Жена вот у него умерла, да сын маленький остался. Но почему за эти его житейские неурядицы должна платить она — Зина Тихорецкая?
И когда Мишка все же рухнул лбом в полированную поверхность стола, Зина подошла к смертельно пьяной, но еще не потерявшей сознания Байховской и подложила ей счет на блюдечке.
— Вам пора на выход, молодые люди, мы скоро закрываемся
— Какие проблемы, барышня?
Байховская вытащила из сумочки пачку денег, на каком то немыслимом автопилоте отсчитала ровно причитающееся, и подхватив нечленораздельно мычащего Мишку, словно это был не человек, а тюк с туристским инвентарем, потащила его на улицу.
Спали у нее. Наташкина мама, едва заслышав пьяную возню в тесной прихожей их маленькой квартирки, понимающе засобиралась и пошла ночевать к подруге — старой одинокой пенсионерке, что жила тут же в соседнем подъезде.
— Дочка мужика привела! Авось, сладится…
— А что за мужик то? — спросила подруга, стеля Кузьминичне на сундуке.
— А Мишка — Мишка Коростелев.
— Вдовец что ли?
— Вдовец…
— Ну, дай им Бог…
И покуда в маленькой квартирке в Новочеркесске одна Наташа, оседлав самого близкого школьного друга Марины, выжимала из того последние мужские соки, в далеком Лондоне, другая ее подруга — Наташа Гринько сидя в полицейском участке сдавала ее — Маринки брата Сережу. Сдавала полиции со всеми потрохами.
Но ни тот, ни другой из этих фактов биографий близких ей людей, не были пока Маринке известны, потому как в это самое время, она летела в вертолете вместе с лордом Джаддом, генералом Батовым, депутатом Госдумы Кондратьевым и Генри Сэмюэлем — в Ингушетию, в один из лагерей чеченских беженцев. Она глядела на землю через не слишком чистое стекло иллюминатора, и подвывающий над самой ее головой вентилятор раздувал прядку ее русых волос. И как минимум — два мужчины в этом тряском салоне МИ-8 с затаенным чувством украдкой загляделись на эту вьющуюся прядь.
5.
О том, что он бросил учебу, ни Юльке, ни тем более Маринке, говорить Сережа не стал. Хотя понимал, что старшая узнает об этом не позже чем через месяц. Оплата в Принц Альберт текнолоджик хай скул была посеместровая, и Марина все поймет, как только придет время оплачивать счета. Да и ректорат уведомительное письмо пошлет всенепременно, мол доводим до вашего сведения, что в связи с непосещением занятий и не ликвидированной академической задолженностью, мистер Кравченкоу — отчислен из списков учащихся…
Как только Маринка уехала обратно в Россию, Сергей перестал наведываться в Кроули в дом миссис Сэмюэль, где теперь жили только его младшая сестра и племянница. Он перебрался на квартиру к приятелю-поляку, которую тот снимал в Пэйлстон — Валле. Это было гораздо ближе к Лондону, чем Кроули, и не слишком дорого на двоих. За комнату с отдельным входом они с Янеком платили по четыре сотни фунтов. А Маринка на все карманные и транспортные расходы перечисляла ему на счет пятьсот, с учетом, чтобы он жил бы дома с Юлькой и Аннушкой.
Янек вообще то был нелегалом. Его виза была сто лет как просрочена, но он научился платить кому надо, и местные полицейские его никогда не трогали. Промышлял Янек всем, на чем только можно было заработать. И перепродажей поддельной парфюмерии, и таблетками, и много еще чем.
Сереге нравилось работать с Янеком. Ловчее всего, буквально «на ура», проходила у них продажа подделок. За какие то буквально копейки, Янек покупал у местных пакистанцев пару коробок «шанели» или «нина риччи», сбодяженных где то — в пакгаузах Лондонского Доклэндс, из простого спирта с пахучими добавками. Но хитрый поляк в пол-минуты распродавал добрую сотню флаконов дуракам-туристам. Они выбирали место в центре, например на Мапелсквер, или Лесестер рядом с четырехзвездной гостиницей, когда там самая толпа, и Янек, бросив картонку с пахучей дрянью прямо на асфальт, начинал орать по польски и по английски, мол медам и месье, эта коробка с французской «шанелью» упала с проходящего мимо нас французского грузовика — мы ее с приятелем нашли и подобрали, так что все законно — покупайте французские духи всего за двадцать фунтов, всего за двадцать фунтов один флакон, который в бутике на Кингс-роуд стоит сто фунтов. Медам и месье! Двадцать фунтов вместо ста фунтов!
Янек еще и табличку такую рисовал — сто фунтов зачеркнуто и написано — двадцать. Туристы, особенно из бывшей ГДР или из России с Украиной — покупали, словно бешеные. Две коробки псевдо — шанели улетали в три минуты, полицейский на углу, даже рта разинуть не успевал, как Янек уже распихивал деньги по карманам и седлал свой маленький мотоцикл «Трайстар-мини», настолько маленький, что на него не требовалось никаких документов и прав вождения.
Сделав две тысячи фунтов за пять минут, можно было бы и расслабиться. В пабе с биллиардом и джукбоксом. Или в клубе на Кромвель роуд.
Но и в клубе Янек тоже не терялся. Две-три больших пачки таблеток, из конспирации приклеенных под джинсами к лодыжке, расходились за час и давали чистыми пятьсот фунтов прибыли. Потому как другие пятьсот надо было отдавать «крыше», чтобы их с Янеком не трогали и предупреждали о приходе переодетых полицейских.
Одним словом — жить было можно.
И зачем учиться?
А с теми испанцами Сережу тоже Янек познакомил.
С Мигелем и Эдуардо.
Мигель и Эдуардо были крутыми. Могли зарезать — запросто.
Вообще, за два с небольшим года, Сережа и среди англичан встречал настоящих крутых. И еще неизвестно, среди какого народа их больше. Но как сказал Янек, если исходить из того, что англичане в конце-концов испанцам наваляли, потопив и их флоты и отобрав колонии, то изначально, английский тип круче любого испанского мачо. Это теперь еще и футболом подтверждается. А Янек болел отнюдь не за Мадридский Реал, а за Лондонский Арсенал.
Но тем не менее, Серега внутренне робел этой парочки — Мигеля с Эдуардо. Раз в месяц они приезжали на своем «сеате» и делали какие то дела с вышибалами из клуба на Кромвель роуд, где Янек сбывал бодрящие таблетки. Там в кафетерии работала сестра Эдуардо — Хуанита. Серега с Янеком звали ее на свой славянский манер — Марией Хуановной. Она не понимала в чем соль шутки, но мило Сереге и Янеку улыбалась.
Потом, с тех пор, как Сережа познакомил Мигеля с Наташкой Гринько, и как они уехали втроем на континент, испанскую парочку долго не было видно. Пропали они месяца на два. Но как то идя вечером в клуб, друзья увидели на парковке знакомый «сеат» с левым континентальным расположением руля. Испанцы приехали.
Эдуардо брил голову под Бартеза и носил такую же, как вратарь Манчестера, короткую корсарскую бородку. А Мигель — наоборот, имел роскошную длинную шевелюру, как какая — нибудь звезда хэви-метал. Он и любил хэви-метал, полагая, что в его Испании играют не только фламенко, но и нормальную музыку. И если кто-то осмелился бы сказать, что Сепультура — хуже Моторхед, Мигель достал бы из за пояса свой кривой абордажный нож, и вспорол бы такому наглецу брюхо — от паха до печенки.
Мигель с Эдуардо подозвали Янека и Сережу за свой столик.
Мигель потягивал «лагер», а совершенно не переносивший пива Эдуардо — пил кофе. Через затяжку сигаретой. Глоток — затяжка, затяжка — глоток.
— Говорят, ты в России в тюрьме сидел? — спросил Эдуардо.
— Было дело, — кивнул Сергей, — а откуда информация?
Эдуардо явно пропустил мимо ушей вопрос Сергея, и продолжал, прихлебывая, -
— А за что сидел?
— За ограбление…
Мигель и Эдуардо переглянулись.
— Расскажи нам подробнее, — попросил Эдуардо и махнул бармену, — пусть принесут выпить моим друзьям.
Подошла официантка, но не Хуанита, а другая девушка, тоже испанка..
— Что будете пить, джентльмены, — спросил Мигель. Он угощал.
Серега решил что выпьет пинту «гиннеса», а хитрый Янек, пользуясь случаем, заказал виски.
— Ну так как у вас дело было поставлено? И на чем сгорели? Расскажи нам…
И Серега рассказал, ничего особо не приукрашивая, и даже не тая, как испугался, когда увидел, что оба пассажира в машине погибли. Не рассказал только про карточный долг, из за которого пошел на то дело. Сказал, что просто с самого начала был в детской уличной банде мотоциклистов, и что идея того грабежа возникла совершенно закономерно. Как у созревшей девочки спонтанно появляются грешные мечтания.
Испанцы улыбнулись такому сравнению, и Мигель заказал всем еще по выпивке.
6.
Впечатления от посещения лагеря беженцев были самые ужасные. Грязь, больные дети. И это при том, что заведомо зная о визите комиссии, федеральные власти специально подсуетились, и к приезду лорда Джадда навели хоть — какой то потемкинский марафет.
— Представляю, что здесь было за три дня до нашего визита, — сказал Генри.
— И что будет через три дня после нашего отъезда, — ответила Марина.
Лорд внимательно выслушивал жалобы женщин. Переводчица — из столичных шлюшек, типичная искательница счастья через брак с иностранцем, переводила не совсем точно. Марина заметила это, но помалкивала. Какое ей в конце-концов дело?
А у переводчицы и верно — в глазках огонек блестит — как она хочет понравиться! И поэтому, уловив настроение лорда Джадда, и переводит все так, чтоб оттенить ситуацию, придать ей такие нюансы, дабы выставить федеральные власти полными идиотами и ничтожествами.
Переводчицу звали Ирина.
Лет тридцати, поднанятая, наверняка, через какое-нибудь столичное кадровое агентство по рекомендации МИДа и родных органов.
А в глазах — чертенок блестит! Так и хочется ей показать, что я мол к ним — то есть к русским — никакой симпатии не питаю, и вся я такая европейская! Вы только обратите на меня внимание.
Ирина сперва все Генри глазки строила, но потом, поняв, что эта странная госпожа Марина Кравченко, которая тоже прекрасно чешет по-английски, пользуется открытым для ней бездонным кредитом Сэмюэлевской симпатии, переключилась на помощника лорда Джадда — Джеффри Кингсмита. Стала на него глазками стрелять, как в школе учили — в угол, на нос, на предмет.
Маринка не преминула сказать об этом Генри, и тот прошептал ей на ухо, — неужели не видит, глупая, что Джеффри — голубой?
Похихикали.
Хотя, общее впечатление было настолько удручающим, что не до смеха.
Люди уже две зимы провели в армейских палатках. Недоедают. Хлеб завозится нерегулярно. Дети болеют. В прошлую зиму было шесть смертей от пневмонии. Лекарств мало. Школа и медицинский пункт работают в ужасных условиях.
Женщины по-восточному — истерично, с криками показывают комиссии худых и грязных детей. А Ирочка — переводит, старается, наяривает, накручивая лорду Джадду и без того перенасыщенную драматизмом правду-матку.
Англичане — лорд Джадд, Джеффри Кингсмит и Генри делали ти-брэйк отдельно от остальных членов комиссии. Генри ввел Маринку в их круг, как свою, и когда за чашкой плохого, явно поддельного чая «Липтон», лорд начал осторожно говорить о своих сомнениях, можно ли при таком отношении федеральных властей, разворачивать гуманитарную помощь, Генри горячо его поддержал, и сказал, что помощь Евросоюза можно разворачивать только под контролем западных представителей, иначе все уйдет. Как вода в песок.
— Поглядите на порочные лица этих генералов, чекистов и чиновников МИДа, они все разворуют, — ухмылялся Джеффри.
— Это несомненно, но в тоже время, дети вымирают, и мы не можем не расходовать этих денег, — ответил лорд Джадд.
— Я думаю, будет разумно организовать что то вроде совместных российско-британских предприятий, которые будут финансироваться за счет гуманитарных фондов. Но административный контроль в этих предприятиях — будет полностью вестись нашими мэнеджерами, — сказал Генри.
Лорд кивнул.
— Это хорошая мысль. Только вот вопрос, где вы наберете столько мэнеджеров. Вы сами, Генри, готовы сидеть здесь два или три года?
Генри улыбнулся, совсем не хуже чем Кларк Гейбл в его лучшие времена, и мягко с выражением сказал, -
— Я готов, при условии, если миссис Кравченко тоже возьмет один из проектов.
Джеффри присвистнул, — эко вас, Сэмюэль, угораздило!
А лорд Джадд кивнул совершенно серьезно, и сказал — очень хорошо, я буду иметь это ввиду.
Когда уже прилетели назад во Владикавказ, лорд Джадд попросил Марину, как он витиевато выразился, — «уделить ему час внимания тет-а-тет».
Прошли в его скромный номер, такой же как и у Генри, обычный двухместный — наскоро переоборудованный под псевдо-люкс.
Лорд расспросил про ее жизнь, про родителей, про учебу в Москве, про отъезд в Британию…
Она не стала ничего скрывать, и рассказала даже про то, как ее обманул адвокат Клейнман, сбежавший с ее деньгами. И про Сережу рассказала, как его из тюрьмы выручала, и про Юльку.
Лорд слушал не перебивая, кивал. И лицо его было как то очень грустно.
— И вы вернулись теперь сюда для того, чтобы здесь жить?
— Здесь похоронены мои мама с папой, и я должна достроить тот дом, что не достроил мой муж, который тоже здесь похоронен.
— А вы не удивитесь, если я предложу вам работу… Работу именно здесь… Работу в одном из фондов Евросоюза?
Марина нисколько не изменилась в лице. Генри уже настолько закомпостировал ей мозги, что она не удивилась бы даже — предложи ей лорд Джадд баллотироваться в британский парламент.
— Я должна подумать, — ответила Марина, соблюдая не писанное правило делового этикета. Она даже хотела придать этой фразе вопросительную интонацию, мол, а надо ли тратить время на формальные соблюдения приличий? Предложение всех устраивает — давайте работать, хоть с завтрашнего утра! Но она выдержала необходимую паузу.
Выдержка — вот одно из отличительных качеств английского характера, говорила всегда миссис Сэмюэль, поучая ее — неразумную русскую беженку, — а вы, русские, всегда не подумав, очертя голову…
И в любви, — от себя добавила к говоренному миссис Сэмюэль, Марина. И в любви мы без английской выдержки. Сразу переходим к сладкому. Вместо того, чтобы идти к нему медленно, через все ступеньки от аперитива и «ordeuvers» к «plait principales» и только потом к заветному десерту, мы напролом ломимся через кусты райского сада, видя перед собой только сладкий плод…
Вот так.
— О — кей, — совсем по-американски сказал лорд Джадд, хлопая себя по колену, — мы возвращаемся в Лондон, две недели я буду готовить доклад комиссии, а третьего числа, мы едем в Брюссель, на межпарламентскую ассамблею Евросоюза… О своем решении известите меня не позже нынешнего четверга, позвоните мне в мой офис в Лондоне. И если ваше решение будет положительным, то было бы весьма кстати — приехать вам в Брюссель, там мы бы оформили все необходимые формальности.
Лорд Джадд снова хлопнул себя по колену, -
— Итак, до скорой встречи?
— До скорой встречи, — ответила Марина вставая, и с самой любезной улыбкой протягивая лорду Джадду свою мягкую руку.
7.
Эдуардо молча оглаживал свою макушку, и каждый раз, когда его рука в нежной задумчивости прохаживалась по бритой голове, желтым, белым и зеленым лучами на мизинце его загорался большой оправленный в платину алмаз. Или изумруд — Сережка не очень в этом разбирался.
— Значит, в машине тогда оба насмерть разбились? — в который уже раз переспросил Мигель, пожевывая свои фисташки.
— Оба, — кивнул Сергей, — дружок мой — Лимонад, когда у них бумажники вынимал, они уже мертвые были.
— А если все же живые? Может им надо было помощь оказать? Они бы и не умерли тогда? Вы же не хотели их убивать? — продолжал расспрашивать Мигель.
— Да мне об этом и следователь о том же целый месяц в тюрьме по голове долбил, — придавая интонациям максимум развязности, ответил Сергей.
— Ну и как же ты выкрутился? — прервал наконец свое молчание Эдуардо.
— Муж старшей сестры моей меня вытащил — он человек со связями, да с деньгами, а милиция в России за деньги — все что хочешь сделает.
— Да, мы тут наслышаны про ваши порядки, — усмехнулся Мигель.
Эдуардо прекратил оглаживать и без того полированную поверхность своего черепа и сказал, повернувшись к Янеку, — поди пока на бильярде поиграй пол-часика, хорошо?
И когда слегка обиженный Янек удалился, Эдуардо вдруг крепко схватил Сергея за шею, и притянув его голову вплотную к своей, почти прошептал, -
— А не струсишь такое дельце еще разок повторить? Только на более высоком уровне? Без вашей детской любительщины?
У Сергея дрожь пошла по всему телу, и мгновенно — до пота ему стало жарко.
— Ну? — Эдуардо глядел ему прямо в зрачки, прямо в мозг его.
— А когда? — совершенно, как ему показалось нелепо, переспросил Сергей.
Эдуардо ослабил хватку, и потом совсем отпустил его.
— А может и никогда. Это мы просто так, парень, на всякий случай тебя спросили, — сказал он почти миролюбиво.
Помолчали.
Мигель приказал принести еще по выпивке.
Выпили, поговорили о каких то пустяках. О машинах, о девчонках…
Робко вернулся Янек.
Потом Мигель с Эдуардо засобирались и уходя, сказали, что у них дела.
Рассказывать Янеку про окончание разговора с испанцами, Сергей не стал. Про себя он решил, что это тоже своего рода проверка. Что Янек и без того как то тесно связан с Мигелем и Эдуардо…
Испанцы проявились через пару недель. Достали Сережу по его мобильному. Он даже не удивился — а давал ли им номер?
Звонил Мигель, он спросил, может ли Сергей прилететь через три дня в Барселону.
У Сергея греческий паспорт.
Теперь понятно, почему Янеку ничего не предлагают. Янек нелегал, ему через границу — никак, а Сергей — свободный человек.
— Прилетай, есть дело. Все расходы за наш счет.
И отрываясь от бетонки Гатвика, сидя в кресле «боинга» Бритиш Эйрвэйз, Сережа думал, — а что! Испанию погляжу. А если дело покажется слишком — всегда можно смыться.
Но он понимал, что обманывает себя, отчетливо сознавая, что он уже необратимо и самым тесным образом повязал свою судьбу с испанцами.
А в аэропорту его встретила… Вот уж никогда бы не подумал — Наташка Гринько!
Сама за рулем Мигелевского чернильно-фиолетового «сеата».
— Ребята мне его почти насовсем отдали, — сказала Наташка, выруливая с подземной парковки, тормознув перед автоматическим шлагбаумом, и не вылезая из машины, через опущенное стекло, суя в щель магнитную карту, — а себе Мигель новую «альфа-ромео» купил.
— Да-а-а!
— Ага!
Сергей с любопытством оглядывал проносившиеся за окном окрестности.
Вместо привычных зеленых английских лужаек — коричневая голая земля, слегка прикрытая местами какой-то совсем не похожей на траву жухлой растительностью. И обилие цветущих деревьев. Так странно — в Англии цветы в палисадниках подле домов, а здесь — цветы из за высоких белых заборов по макушкам деревьев торчат…. Белые, розовые, фиолетовые.
Да!
И это обилие высоких белых стен вокруг особнячков, из-за которых ничего не видать — как там они у себя живут? Прям как наши «новые русские» в Новочеркесске, или чечены богатые — что отгораживаются от лишних глаз. Только у нас заборы не такие ослепительно белые.
— Я тебя сейчас на хату одну отвезу — ее Эдуардо снимает, тебе там понравится.
— А зачем звали, не знаешь? — и Сергей тут же понял, что напрасно спросил об этом.
— Они тебе сами скажут, я не в курсе.
И замолчали.
А Гринько — ничего себе. Нормально в Европу вписалась. Модное легкое платье, косыночка стильная, очки, косметика. Все тип-топ. И за рулем так классно, правит даже не без лихости.
«Хата» Сергея слегка разочаровала. Это была совсем не вилла, не гассиенда с бассейном и не Каса дель Калабуз из кино про богатого испанского бандита, которое Сергей смотрел две недели тому назад по каналу Би-Би-Си — 3…
Хатой оказалась комнатка, которую жилой можно было назвать только с очень большой натяжкой. В комнатку эту надо было проходить через какую то гаражную мастерскую, а окна каморки выходили в чей-то совершенно русско-советский огород внутри небольшого захламленного разным автомобильным барахлом двора.
— Тут тебе спокойно будет, и вон даже телевизор и холодильник, а в нем и пиво есть! — по хозяйски хлопая дверцей старой белой развалюхи, тараторила Гринько.
— А когда к Мигелю с Эдуардо поедем? — спросил Сергей
— Они сами к тебе приедут.
— Когда?
— Сегодня, так что лежи пока — отдыхай, телик смотри, пиво в холодильнике.
И ухала.
Тоже мне — развлечение — телик ихний на испанском… Вот удовольствие!
Однако, пощелкав каналами, нашел «Евроспорт», по которому шел футбол. В холодильнике и в самом деле — была упаковка баночного пива. Вроде как местного или португальского. Лег на диван. Стал смотреть, как Реал выигрывает у Порту, и задремал.
А разбудила его снова Наташка.
— Хорош ночевать, всю жизнь молодую проспишь!
Серега недоуменно тер глаза,
— А где Мигель с Эдупрдо?
— У них планы поменялись, мы с тобой на машине едем назад в Лондон, а ребята послезавтра нас там с тобой догонят.
Сергей был в полном недоумении — стоило ему тратиться на самолет, чтобы через всю Европу сутки трястись назад в автомобиле и снова вернуться к Янеку в Пэйлстон-Вале?
— Вот твои деньги за билет на самолет, и твои заработанные, — Наташка протянула ему конверт.
— Ого, три тысячи долларов, а за что?
— За беспокойство и за то что со мной прокатишься до Лондона, вроде охраны.
Гринько похвасталась новеньким паспортом и водительскими правами.
Хуана Гонзалес — е — мае!
Мигель сделал дубль того паспорта своей сестрицы, по которому Наташка выезжала с острова на континент. Взамен, якобы утерянного. Тот теперь надо еще Хуаните назад передать — он ей самой еще понадобится.
— И че, не боишься?
— Не-а! Паспорт настоящий. Мигель официально в Мадриде выправлял. И вообще он нужен только чтобы на пароме из Кале границу переехать. А испанцам — им здесь все равно.
8.
Тот гэбист, которого Марина условно про себя наградила прозвищем Кефиров, был тут как тут. Едва лорд Джадд с Генри улетели из Владикавказа в Москву, Кефиров навестил ее в Новочеркесске. Собственной персоной.
Марина как раз свою стройку века инспектировала, свой великий долгострой по улице Садовой.
Бригаду строителей, словно переходящее почетное знамя, по знакомству передал ей один из старых Володиных приятелей. Украинцы с Донбасса. Они в этих краях уже не один коттедж построили — и цыганскому барону Васе, который на наркотиках здорово поднялся — ему аж четырехэтажный дом, и даже с самым настоящим лифтом — забацали, и двоюродному брату Руслана, ему только на отделку первого этажа с Московского аж метростроя — три трейлера мрамора и черного габбро пошло…
Теперь эти украинцы ей — Маринке достались.
Хорошие ребята. Работать умеют. В бригаде четверо с дипломами инженеров.
Она им из Ростова еще и архитектора привезла, чтобы попробовал выкроить что то из уже навороченного, да с учетом ее новых английских представлений об уюте.
Они с бригадиром и архитектором Светланой Михайловной как раз на втором этаже стояли и обсуждали, где и как светильники ставить, где электропроводку протаскивать, как снизу машина какая то загудела.
— Там хозяйку спрашивают, — крикнул ей один из работяг.
Спустилась вниз. Возле ее «мерседеса» — «волга» стоит с ростовскими номерами. А рядом — Кефиров, явился — не запылился.
— А вы хороший домик себе тут задумали.
— А вы старый тот, который тогда обыскивали, не забыли?
— Не забыл…
Маринка не глупая, сразу все поняла. Вербовать приехал.
Поэтому, когда присели в саду за тем столиком, где рабочие обычно обедали и пили чай, сразу взяла правильный тон, -
— Ну, майор, или как вас там, на каком компромате или слабости моей вербовать будете?
Кефиров не выдал смущения, но задуманный темп разговора явно потерял.
— Во первых, я подполковник, но подполковник запаса… — Кефиров пожевал губы, собираясь с мыслями, а во вторых, уважаемая Марина Викторовна, вы как то напрасно так резко и агрессивно встречаете мои попытки наладить с вами взаимовыгодную дружбу.
— А-а-а, это я дура облажалась. Не поняла сразу, что вы дружить ко мне приехали. Первый раз, я помню, такие знаки дружбы выказывали, что весь сад перекопали.
— А насчет сада — огорода, это как в анекдоте про старого еврея и КГБ… Помните? — Кефиров совладал с собой — профессионал все-таки.
— Что за анекдот? — отдала инициативу Марина
— А такой анекдот, что понадобилось старому еврею дрова напилить-наколоть, так он позвонил в КГБ и нашептал — а у Рабиновича в дровишках золотишко, валюта и запрещенная литература… Ну, приехали, напилили — накололи, ничего не нашли и уехали…
— А-а-а, поняла теперь, так это вы в прошлый раз тогда мне так огород вспахали и намекаете на то, что по моему же ложному самодоносу?
— Вы с юмором, этого у вас не отнимешь, Марина Викторовна…
— Так что же? Вербовать приехали, подполковник? Мои английские связи вам понадобились?
Кефиров опять ничуть не выдал смущения.
— Марина Викторовна, вы во всем такая прямолинейная, как этот, как его — эталонный метр из парижской палаты мер и весов?
— Во всем, когда дело касается таких мастеров потаенных дел, как ваш брат… Мне батюшка наш — отец Борис про вашу епархию говорил, что вы света, ясности, прямоты и гласности боитесь, то бишь — правды… Потому как сами черту рогатому служите.
Кефиров укоризненно покачал головой.
— Так уж и с рогами! У вас какие то устаревшие данные.
— Да что вы все тяните кота за хвост, подполковник запаса! Выкладывайте вашу дружбу взаимовыгодную на стол, и посмотрим, чего она стоит.
Тут Кефиров склонив голову, положил правую руку себе на грудь и сказал,
— Отдаю дань вашим талантам и способностям, и очень пока жалею, что вы, Марина Викторовна пока видите себя как бы по другую сторону баррикады. А на самом то деле это не так. Мы ведь в одной команде.
Марина посмотрела сколько воды в электрочайнике и включила его подогреваться.
— Кофе будете?
Кефиров кивнул.
— Ну, так какие условия дружбы вы мне предложите? — еще раз повторила свой вопрос Марина
— А давайте просто ограничимся тем, что ничего друг другу не обещая, мы задекларируем дружественные отношения… Выпьем кофейку и разъедемся каждый заниматься своим делом.
Марина расплылась в улыбке.
— Ну-у-у, подполковник, вы значит решили вербовать меня по частям, как сложный интеграл? А теперь поедете к начальству посоветоваться? Так?
Кефиров улыбкой на улыбку отвечать не стал, а очень серьезно сказал,
— Марина Викторовна, мы действительно можем быть очень и очень полезными друг другу. Вербовка — это как наем на работу. С определенными обязанностями и определенной оплатой. Вам такой схемы я не предлагаю. Я хочу предложить равноправные отношения, какие бывают у двух независимых государств, но очень выгодные обеим сторонам.
— Да мне понятно, как дважды два, товарищ подполковник, что вам очень выгодно было бы через меня получать какую то информацию… Так?
Она посмотрела на Кефирова не мигая. И он не мигая глядел на нее, подхватив колено двумя сложенными в замок руками
— Но мне непонятно при этом, какая мне выгода с вас?
Кефиров помолчал минуту. Выдержал паузу. А потом выдал.
— Уж кому как не вам, Марина Викторовна не знать, что в нашей современной жизни, особенно у таких видных и широко живущих людей как вы, возникают жизненные ситуации, когда необходима помощь спецслужб…
Марина молча глядела на Кефирова.
— У вас были такие ситуации, и когда брат попал в дурную историю, и когда сестру украли бандиты…
Марина по прежнему молча глядела на Кефирова.
— Вы нашли выход из положения, вы сильная и умная, но вы бы решили эти свои вопросы куда как эффективней и самое главное — бескровней, если бы дружили с нами…
— Вы бы освободили тогда Юльку?
— Да, освободили бы, и не потребовалось бы толкать некого известного нам с вами фигуранта, который бежал из под следствия и скрывается теперь в Греции, вы знаете про кого я говорю, так вот, не понадобилось бы толкать его на преступление…
— Я вам не верю…
Марина услышав щелчок электрочайника, налила в чашки кипяток…
— Кофе нет, есть чай… Липтон в пакетиках. И я вам не верю.
— Это ваше право, Марина Викторовна. Вопрос веры — это вопрос личного права человека иметь свои убеждения.
— Ура! С каких это пор вы стали такими веротерпимыми?
Кефиров положил себе в чашку пакетик чая и слегка пригубив, ответил,
— Это не важно сейчас. Я не желаю вступать с вами в спор, который может спровоцировать у вас какие то неприятные эмоции, я просто считаю уместным заметить вам, что подобные ситуации, подобно тем, что тут и там случаются с людьми в России, могут произойти с каждым и в любой момент… И мы всегда готовы дружить и приходить на помощь хорошим людям.
— Чип и Дейл спешат на помощь. Как же! Поверила я вам…
Кефиров поднялся из за стола, и отвесив короткий поклон, сказал,
— Я сейчас пожалуй поеду, но вы, Марина Викторовна подумайте над тем, что я вам сказал, и не торопитесь отвергать протянутую вам для пожатия руку.
Когда его «волга» отъехала, Марина вдруг разревелась.
Почему?
От страха и ненависти.
От страха за близких.
И от ненависти ко всему нечистому и гадкому.
9.
Но Кефиров никуда не пропал.
Кстати, если бы Маринке было с кем поделиться, она непременно сказала бы следующее, -
— Ты будешь очень смеяться, но его фамилия на самом деле Коровин. Я как чувствовала, есть же какая то сверхтонкая проводимость в эфире! Алеша Коровин. Имя, прям как в романе у Достоевского — специально припасено для положительного героя.
Но Маринке не с кем было делиться таким сокровенным. И она очень страдала от этого.
Кефиров-Коровин пригласил Марину повесткой.
— Дело о смерти вашего отца не закрыто. И более того, как вы знаете, оно осложнилось обнаружением в тайнике денег.
Кефиров-Коровин сидел в кабинете не один. Второй — был лет на десять моложе и значительно глупее Кефирова лицом.
— А вы ж мне говорили, что вы в отставке, — сказала Марина, кладя на стол повестку, вложенную в российский паспорт.
— Не в отставке, а в запасе, Марина Викторовна, но я же вам и не говорю, что я веду это дело. Дело ведет вот — товарищ Кулагин, — и Кефиров кивнул в сторону молодого.
Представленный таким образом кавалер, тут же поднялся и откланялся, оставив Кефирова с Мариной одних.
— Ну, о чем говорить будем? О том же, о дружбе? — опережая Кефирова спросила Марина.
— Вы молодец, умеете держать фасон, будто вас этому учили… И кабы я не знал вашей биографии, Марина Викторовна, я бы и подумал, что вы прошли где то курс спецподготовки…
— Жизнь, Алексей…э-э-э
— Михайлович
— Жизнь, Алексей Михайлович — это лучшая спецподготовка…
— Это вы верно заметили…
Кефиров встал, подошел к окну, закрытому жалюзи, и продолжил, стоя к своей собеседнице спиной.
— И более того, будь в моей компетенции кадровый вопрос, я бы стал непременно добиваться того, чтобы подобную подготовку вы бы прошли, — он сделал паузу, — …у нас.
— Новый виток вербовки?
— Не-е-ет! Что вы! Уверяю вас, нет! — Кефиров повернулся к ней лицом, — это такой витиеватый комплимент…
— А-а-а, ну спасибо, а то настолько, действительно, витиеватый, что я и не догадалась сразу.
Кефиров улыбнулся в первый за все время их знакомства раз. Но такой улыбочкой, когда только лишь губы раздвигаются, но глаза при этом лучатся холодом, Марину не проймешь! Особенно после двух лет школы английского политеса.
— Может к делу? — предложила она
— Да, вы правы, тем более что вы теперь занимаетесь не только делами мужниной торговой фирмы, но и готовитесь представлять здесь интересы европейских гуманитарных фондов. А как говорят У ВАС в Англии — тайм из мани.
Кефиров показным наметом демонстрировал свою осведомленность.
— Ну так чего кота за хвост тянуть? По делу отца вызвали?
— Да нет.
Кефиров уселся таки наконец в кресло вышедшего майора Кулагина и лицо его сразу приняло то дежурное выражение, которое, надо полагать, веками вырабатывалось у государевых служивых людей на работе в комнатах дознаний.
— Вы проходите свидетелем по делу известного вам Дмитрия Заманского.
— Свидетелем чего, интересно знать?
— Не хорохорьтесь, Марина Викторовна, обвинения Заманскому предъявляются очень тяжкие. Он подозревается в организации террористических актов, организации хищения оружия и взрывчатых веществ, в организации нападения на военную колонну федеральных сил, похищении людей и торговле заложниками… Достаточно?
Еще только получив повестку, Марина поняла, что провалив первую попытку завербовать ее, Кефиров не успокоился. У их ведомства на нее, безусловно огромные виды! И посоветовавшись с начальством, и получив надо думать, от этого начальства нагоняй, Кефиров подготовился ко второму акту более тщательно.
— Марина Викторовна, обстоятельства дела, раскрывшиеся во время следствия, позволяют предполагать, что вы были осведомлены о преступных намерениях Заманского, особенно что касается эпизода с организацией нападения на колонну федеральных сил.
У Марины дрожь прошла по позвоночнику, и ножки ее, попытайся бы она теперь встать — может и не понесли бы, а подкосились.
В самое яблочко попал Кефиров. Долго видать они обсуждали с начальством, с какого боку к ней подобраться.
— Это полная чушь! Вы полагаете, что Дима со мной советовался, как напасть на колонну Батова? Или вы полагаете, что он организовал нападение на больницу, где главврачом работала его мать Софья Давыдовна?
— Не ерничайте, гражданка Кравченко!
— Ах, вы так! — Марина теперь не стала скрывать своих чувств, — раз вы так, то я вам вот что скажу, я знала, что вы горазды на любые подлянки, и поэтому к сегодняшнему нашему разговору подготовилась. В Лондоне знают, что я вызвана к вам на допрос, знают и то, что вы неловко уже пытались меня вербовать. Я звонила Генри Сэмюэлю, а этого достаточно для того, чтобы придать в западной прессе некую новую пикантность вашему ведомству. И если вы вашими ловкими маневрами типа слона в посудной лавке — развалите сотрудничество Российской федерации с ОБСЕ, то с вас лично, гражданин подполковник, погоны даже если они и формально запасные — посрывают, как с отставной сидоровой козы барабанщика!
Марина раскраснелась, дыхание ее участилось, словно она пробежала две стометровки подряд.
Но и Кефиров был неспокоен.
— Будет вам, Марина Викторовна, я же предлагал вам дружить!
— Нет, не будет у нас с вами дружбы, и подписывайте давайте пропуск, если не хотите, чтоб по радио и по телевидению ТАМ персонально вас помянули, чтоб и вашему начальству на Лубянке за вас икнулось!
Кефиров совсем загрустил. Он тоже уже плохо скрывал своего разочарования.
— Пропуск я вам подпишу, но вы Марина Викторовна неверный тон взяли. Ведомство наше призвано вас защищать, а вы сестру свою защищать побежали к преступнику. А приди вы к нам тогда…
— И Юльку мою бы мне мертвой Султан отдал. Да?
— Не последний день живем, Марина Викторовна.
— Я эту вашу угрозу еще в прошлый раз почувствовала. Но я знаю как от вашего брата защищаться — только светом. Вы света боитесь, как черт ладана. С вами — только гласностью, а это я вам обеспечу! Паблисити вам будет по всем радиоголосам.
— Ладно, — Кефиров подчеркнуто спокойно, совершенно не дрогнувшей рукой, подписал ей пропуск, — ладно, вы возбуждены, поговорим, как-нибудь в другой раз.
— Не будет у нас с вами другого раза
— Как знать, Марина Викторовна, жизнь длинная, но только вы не делайте пока необдуманных движений, особенно с прессой.
Она сбегала вниз по лестнице и шептала про себя, — «ага, боишься, боишься света, черт лысый!»
А сев в свой «мерседес», заплакала.
Заплакала оттого что некому было ее теперь пожалеть и успокоить. И не за кого спрятаться!
Не за кого!!!
Папа умер, Володя тоже умер… Юлька — маленькая совсем. Серега?
Где он?
Новая главбух АОЗТ «Южторг — Весна» — Валерия Андреевна Пелых не очень то торопилась, но к исходу недели, насчитала-таки Маринкину долю прибыли.
На строительство дома нужны были живые деньги.
Да и счет в Барклай-банке, с которого Марина перечисляла на содержание Юльке, Сережке и маленькой Анечке — неумолимо таял.
А работа в Еврофонде у лорда Джадда была пока еще только в проекте.
На полученные от Володи акции универмага за прошедший девяносто шестой год ей теперь выходило без малого — три миллиона рублей. То есть — что то около трехсот тысяч фунтов. На это можно было жить.
Потом Маринка еще неделю ждала, покуда соберется совет учредителей, дабы утвердить начисленную ей премию, а потом и еще неделю, пока оформятся все бумаги в банке.
За наличными поехала вместе с атаманом своей строительной бригады.
Сняла триста тысяч рублей наличными. Двести тысяч тут же, под расписку выдала бригадиру. Пусть выплатит работягам за три месяца, да поедет, наконец в Ростов за отделочными материалами, электрикой и прочей труднопроизносимой ерундой, без которой дом ее может так и остаться недостроенной коробкой. А десять пачек «стошек» перевязала скотчем и положив в пластиковый пакет, отвезла в церковь.
В алтарь женщинам нельзя, поэтому для душевной беседы отец Борис пригласил ее в чистенькую кладовочку.
Достал из шкафчика бутылку хорошего марочного кагора.
— Христос Воскресе, Мариночка! Нынче середина Пятидесятницы у нас. Праздник. Да и деньги твои, если честно, очень кстати. И купола теперь покрасим, и авось, с Божьей помощью, роспись восстановим. У большевиков то здесь склад долгое время был, да был пожар. От стен до сих пор жженой резиной воняет. Никаким ладаном не перешибешь… Так я уж из Ростова художников приглашал поглядеть, прикинуть, как бы нам образы святых евангелистов по сводам восстановить. Вот твои денежки то и пригодятся. А Бог то все видит.
— Да я ж не поэтому, отец Борис.
Марина пригубила вина. Кагор оказался очень хорошим. Она подняла стакан и поглядела на свет…
— Середина Пятидесятницы, Мариночка. Древний праздник, его евреи еще до Христа отмечали, плеская на жертвенник вино и сжигая на нем хлеб и рыбу. И у нас православных нынче поэтому чин Освящения воды утром на литургии, а потом и крестный ход… Жалко — ты не была.
— Да я в банк утром, а то у них с клиентами строго по часам, деньги только с десяти до двенадцати.
— Ну ничего, зато теперь вот, отметили, и хлебом и вином…
Марина сделала еще глоток
— Вы помолитесь за Сережу, отец Борис. Душа у меня за него болит.
— За всех за вас молюсь, каждое утро и каждый вечер. За всех вас Кравченков — и за упокой души раба Виктора — батьки твоего, и за рабу Людмилу — мамку твою… И за здравие и благополучие Сергия, Юлии, Анны и Марины.
— Спасибо вам, отец Борис…
Уже поднимаясь из-за стола, батюшка вдруг сказал,
— Замуж тебе надо, Марина. За хорошего сильного мужика. Такого, чтоб и Аннушке отцом стал, да и Сереге чтоб дурить не давал… Такого казака, каким твой Володя был.
— Где ж такого возьмешь?
— На все воля Божья, Мариночка. А мужика надо тебе. Хоть ты и сильная, и обходишься пока, но зачем пропадать такой красоте? А при твоей развитой ответственности, ты еще должна и Родине послужить.
Отец Борис вывел Марину через служебный выход, благословил, положив на ее лоб теплую свою шершавую ладонь. И потом долго не сходил с крыльца, глядя ей в след, как садилась она в свой «мерседес», и как уезжала в свою трудную жизнь.
10.
То, что Мигель с Эдуардо их подставили, Наташка с Сергеем поняли гораздо позднее. И не без помощи полицейских следователей. Хотя, когда им — каждому по раздельности, в первый раз намекнули, что испанцы их просто использовали, сдав полиции в виде определенной услуги или платы — этаким бартером, в обмен за какие то тайные дела, Серега сперва возмутился, подумав, что это полицейский трюк такой, чтобы рассорить партнеров и выудить таким образом побольше информации.
А сообразительная Гринько, та быстрее сориентировалась, и поверила. Да и знала она Эдуардо с Мигелем получше и поближе, нежели знал их Сергей.
Они ехали в Англию на чернильно-фиолетовом «сеате» через Сен-Готтард. В маленьком Манье де Пье незаметно и совершенно формально пересекли вторую на своем пути границу. Альпийская Франция. В городке Аннесси сделали большой привал. Пообедали в американизированной оберж с веселым названием Минессота. Все в соответствии с обозначенным стилем — и бармен в стетсоновской шляпе, и официантки в костюмчиках а-ля-родео-герлз, музычка кантри в джук-боксе и в меню бифштексы по-техасски…
После полу-килограммового куска жареного мяса, Серега стал клевать носом. Да и Наташку явно сморили восемь часов рулежки по бесконечным Альпийским серпантинам.
Взяли у портье ключ.
Комната с большой кроватью и телевизором.
Наташка вышла из душа слегка обернутая одним лишь махровым полотенцем.
— Ну что, расслабимся, Сержик, поиграем в любовь? — спросила она, прыгнув под бок своему юному ковбою.
А Сережа и не стал возражать.
С юга на север двигались гораздо быстрее, чем с запада на восток.
Денег за преимущества платной магистрали жалеть не стали — и поехали по широченному скоростному фривэю. «Сеат» честно выдавал свои сто шестьдесят, и они с легкостью обходили державшихся справа пожилых туристов в фэмили-трэвел-вэгон, и богатую немчуру в их мерседесах с прицепленными к ним трэйлер-хоум, и длинные фуры «кегель» с устрашающими надписями по заднему обрезу — бивэйр лонг викл. Но по левому ряду их с такой же легкостью этакими бесплотными эльфами обгоняли то черные «бугатти», то красные «феррари», то зеленые «лотосы» сказочно богатых прожигателей жизни, что поиграв ночь в Монте-Карло, теперь неслись в свой город Париж по своим сердечным, надо думать, неотложным делам. Однако, какими же неотложными были эти дела, что к ним надо было нестись со скоростью двести двадцать в час?
Но магистраль позволяла и больше. Жаль только, что мотор «сеата» не тянул более ста шестидесяти.
Спорить о том, следует ли объехать Париж или его стоит все же посмотреть, долго не стали. Едва миновав бесконечно длинную зону пригородных пакгаузов и блочных бетонных домов для арабской бедноты, приткнули машину на парковку возле маленькой гостиницы «Жоли Макс». Двести франков за комнату и пятьдесят за паркинг. Недорого.
В кафе при гостинице проглотили по «катлет дю сальмон» под деми-бутей дю ван руж. Поднялись в номер. Позанимались любовью. Неформально и в охотку.
А потом — на метро поехали смотреть Париж.
Оба были здесь впервые.
Станция метро «Шаттле». Вышли наверх.
Сереге Париж понравился.
Он совсем иной, нежели большой Лондон.
Они с Наташкой даже посидели на нижнем обрезе набережной Сены почти под мостом «Понт Неф». Посидели, распивая бутылку «Кот дю Рон» и целуясь, словно они американские студенты, дорвавшиеся на каникулах до Европы и исполняющие таким образом ритуал непременной романтической влюбленности «о Пари»…
Рано утром следующего дня поехали дальше на север. Вниз по течению Сены. К морю, отделяющему остров от континента.
А на границе их уже ждали.
Это потом они поняли, что их там ждали.
А сперва, когда их задержали, оба они и Наташка, и Сергей — были очень удивлены.
Как же! Триста грамм героина. Это ведь шесть лет тюрьмы!



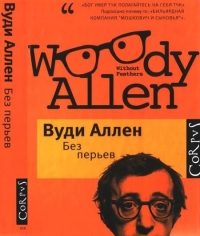


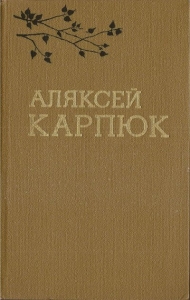
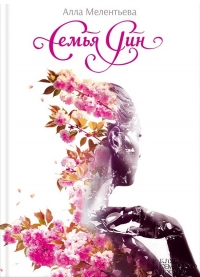
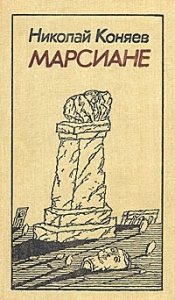
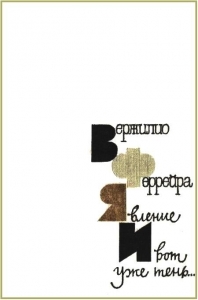
Комментарии к книге «Казачка. Т. 1 (СИ)», Андрей Лебедев
Всего 0 комментариев