Александр Морозов Московский Джокер
© Морозов А. П, 2013.
© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление, 2013.
* * *
Часть I
Нить, на которой подвешена наша судьба, истончилась.
КГ. Юнг
Мы танцуем на краю ледяного обрыва смерти, но разве от этого в нашем танце меньше радости?
Р. Бартон
Кулисы мирового театра могут еще какое-то время оставаться старыми, разыгрывающаяся пьеса уже другая.
М. Хайдеггер
1
…Итак, он должен заночевать в квартире убитого. Вернее, остаться на ночь. А часа в три после полуночи выйти из дома и пойти туда, не знаю куда. Туда, куда пошел в предыдущую ночь убитый.
Ну, так куда?
Ноги сами вынесут. И доведут?
Двенадцатый этаж двенадцатиэтажного кирпичного дома. Очень даже, как бы это сказать, кирпичного. Стиль «Уведи меня, мама, в переулки номенклатуры». В подъезде – кадки с какими-то уродливыми южными растениями. Ковровая дорожка. Столик, а за ним консьержка – угрюмая мазепа, посверкивающая глазками из-под допотопных очочков. Бараночку в чашке помешивающая. Это уж непременно-с.
И как же ее минуешь, с ее каркающим: «Вы к кому?»
И самое-то поганое, он даже не знает, надо ли не засветиться, или, наоборот, не отворачивая лица, бодро отвечать: «В квартиру шестьдесят четыре, к Мартину Марло».
Как следует действовать по обстоятельствам, когда неизвестны обстоятельства?
Марло могли убить свои, могли – чужие, могли – никакие. Случайные шлюхи, к примеру. Разумеется, эта последняя категория куда чаще оказывается в роли жертв преступления, чем его исполнителей. Но чего на свете не бывает?
Он прошел мимо консьержки, не совсем отчетливо бросив: «В шестьдесят четвертую», и в кабине лифта нажал клавишу «12». Но уже восьмая засветилась ярче других, пол лифта слегка тряхнуло, и движение прекратилось. В лифт сунулся ««хорёк»» в галстуке, безжалостно сдавливающем цыплячью шею. По-своему респектабелен. Насторожен.
– Простите, вы вниз?
– Вверх.
– Ну ничего, чем ждать, я уж с вами. А то вдруг еще мимо пройдет.
Высветился двенадцатый. Он шагнул из лифта, успел сделать два-три шага, когда за спиной раздалось:
– У вас зажигалки не будет?
Он машинально сунул руку в карман. Обернулся. В руке «хорька» была не сигарета. Ствол черным, зияющим своим «калибром» был направлен ему в живот.
А когда в живот, это значит: если уж умирать, то в муках.
«Понтярщик дешевый» – это он сказал мысленно себе. «Хорьку» говорить было нельзя. Ни хорошего, ни плохого. Неизвестно, как тот отреагирует на то или другое. На что угодно.
Поводит, поводит стволиком и…
Они вышли, наконец, из лифта. И створки за ними сошлись, чмокнули прорезиненно.
Они стояли вдвоем, но ведь в любой момент, из любой квартиры мог кто-нибудь выйти. Но «хорька», видать, это не колыхало. Он разглядывал клиента заинтересованно. Первое слово решает все. Или первая пуля.
– Тебе в какую квартиру? – спросил ««хорёк»».
О, мама миа! Неужели обычный грабитель? Завести под стволом в квартиру, затем закрыть в ванной или в туалете, ну а самому похватать-пошарить…
– В шестьдесят четвертую. Я в гости иду. Так и внизу сказал. На входе.
– Не шлепай, не шлепай. Давай дави звонок. – «Хорёк» явно раздухарился. Один готов идти в мужскую компанию неизвестного ему состава и экипировки.
– Ты, случаем, Марло не знаешь? – спросил «хорёк» из-за спины. – Он, говорят, здесь живет.
– Марло убили. Убери пушку, скажу кое-чего.
– Еще поговорим. Да не звони ты, фраер мелочной. У тебя же наверняка ключи есть.
Ну да, этого и надо было ожидать.
Не успел он распахнуть дверь, как проламывающая боль колуном расколола затылок.
И, потеряв сознание, не мог он уже слышать страшного грохота от падения собственного тела.
2
– Филипп Марло. Нет, нет, Мартин. Точно, Мартин. Я почему забыл? Ну, мы его всегда просто звали Марло. Надо же, это у него такая фамилия, а как кличка. И придумывать не надо. Он в разных компаниях стоял. И в пивной на Смоляге. Лет восемь. Нет, наверное, шесть. И на атомном подводном ходил. Ну, то, что в кругосветку, это, может, и приврал. А может, и нет, А так все чин-чинарем. И документы показывал. Инженер-капитан. И каким-то боком с МИДом был связан. С высоткой, в аккурат напротив пивной.
– Это как же понимать? Сами же говорите, атомный подводный, инженер-капитан, и прямо такие документы встречному-поперечному распахивал?
– Да у нас там это запросто. Кто в скверике напротив пивной годик-другой отстоял – это уж свой, какие секреты, душа нараспашку. Это, знаете, ну как соседи в коммуналке. Документы там, или как, а все друг о друге знают. А документы… Ну это, когда совсем уже подогреются и начинают… Да ты знаешь, кто я? – Да у меня красная книжечка. – А у меня еще краснее. Ну и пошли удостоверения тыкать друг другу.
– Так. Ну а насчет мидовских связей? Может, тоже хвастался под подогревом? Или все же факты какие?
– Факты такие. Не моего, конечно, ума дело, а только я так понимаю, что не работал он на них, конечно. Но корефанов в высотке имел. Это как раз факт. Не хватает, к примеру, нам добавить. Ну невмоготу совсем. Все карманы вывернули, у всех заняли и пропили. Ну было, несколько раз. было. Звонил Марло туда. Выходили к нему мужички в песочных костюмчиках, с кейсами, натурально. Обнимали его, по плечам хлопали. Ну и снабжали.
– И все?
– А чего же еще? Нам-то что? Хрусты в карман – и в колонну по четыре. То есть к прилавку ближайшего винного. А, да, вспомнил. Вот это… в восьмидесятых, когда южнокорейский самолет наши грабанули.
– Ну?
– Так вот, я и говорю. Он как раз тогда недели три на скверике отсутствовал. А появился – всем сразу поставил и сходу объявил: меня, де, вызывали на Дальний Восток, как эксперта, по делу о «Боинге».
– То он у вас капитан-подводник, то к МИДу сбоку припека, а теперь еще и к авиации причастен оказался.
– Ну, они же в море упали, южнокорейцы-то. Ну вот, вроде бы там что-то насчет подводных работ надо было. Не знаю. Чего не знаю, того не скажу. Он ляпнул, мы рты пораскрывали. А тут же кто-то и про баб загнул. И всех делов. Это все ж пивная, а не заседание актива, сами понимаете.
– А как вы оцениваете его самого, его личные качества?
– Личные… Да прямо сказать, зверь мужик. С таким на медведя ходить, рогатины не надо. Пил, как зверь. А оплошал, ну не знаю, за столько лет, раза два может. В смысле, на ноги слаб оказался. А так нет, все своим ходом: уход, приход, все путем. Открытый он был, щедрый, на язык заводной. Да чего, красивый, можно сказать, мужик был. И как человек, и так. Бабы на него вовсю глядели. Ну да ему дюжинка бочкового да хорошее ля-ля, а чего вокруг – летай фанера.
– Вот вы все время про Мартина Марло говорите «был». Был щедрый, был открытый. Он что, по-вашему, сейчас переменился?
– Да ладно, начальник, за фуфло не держи. Пришили Марло. Как говорится, трубец котенку. Чего смотришь? А то стал бы ты меня за так слушать.
– Как же это вы успели так быстро узнать?
– Чего быстро? Уж с неделю тебе на Смоляге любой керя скажет: трубец котенку. Отдал Марло концы насовсем.
– А вот тут вы и ошибаетесь. Тут у нас с вами самое интересное и начинается. Дело в том, что Мартина Марло действительно нет в живых. Давайте займемся вот чем. Постарайтесь как можно точнее все припомнить, и расскажите, когда именно и где вы в первый или второй раз услышали о смерти Мартина Марло.
3
Очнулся от боли. Или очнулся и почувствовал боль. Какая, к такой-то, разница? Он лежал на ковре, прямо посередине огромной гостиной, залитой кремовым светом заходящего за высотное здание солнца, еще интенсивнее подкрашенного громадными шелковыми занавесями.
Ощупал затылок. Так, кровь пошла, но немного. Уже и подсохло почти. Негромко охнув, приподнялся сначала на четвереньки, добрался в этой позиции до пузатого, красного дерева, буфета и, уже подтягиваясь за него, встал на ноги.
Помотал головой. Если и сотрясение мозга, то пустяковое. Выходит, молодец «хорёк», не изуродовал. Выходит все-таки классический метод проникновения в квартиру. Без вышибания дверей и тем более без мокрухи.
Оглушил входящего, втащил его, зашел сам, сделал, что нужно, и ушел. А вот что ему было нужно?
Мартин Марло – вон он, лежит на диване, в противоположном углу. Неестественность позы и каменная ее неподвижность ясно говорят, что лежит он мертвый. Нечего и подходить.
Может быть, «хорёк» его и пришил? Нет уж, не в склад, не в лад. Ему позвонили два часа назад – ну, может быть, плюс самое большее пятнадцать минут, которые он валялся на ковре, по солнцу видно, что не больше, – и неопознанный им, не представившийся мужской голос сказал: «Марло убили. Поезжай к нему. Если хочешь узнать, кто да что, действуй по обстоятельствам».
Он, конечно, сразу перезвонил Мартину. Никто не ответил. Да он и без этого сразу понял, что все так и есть.
Так дела не делаются. В том смысле, что просто так не звонят и такие вещи не говорят.
Марло могли убить из-за женщины. Он влезал в любую компанию, пикировал на нее и приземлялся внезапно и плотно, как Скайхок на палубу авианосца. Он лез прямо под линию декольте, и не всегда только глазами, таким дивам, которым он не мог оплатить четверть ремешка от их редикюля. И что самое смешное, делал это в присутствии тех, кто платил за них все. И что еще смешнее, бывал бит, но никому не удавалось нанести ему тяжкое увечье.
Да, в некоторые вечера из-за баб его могли пришибить десять раз в течение десяти минут. Но все-таки этого не случилось в течение двадцати лет.
И вообще, все это было всего лишь леностью мысли. Всякие подобные банальности, спокойные и необязательные, отменялись самим фактом вот этого самого звонка. Сообщения. Ибо почему позвонили именно ему?
Ведь он знал Марло не так уж и близко. А потом вообще, почему надо кому-то звонить и что-то сообщать? Это вам что, террористический акт в Бейруте или Белфасте, где непременно кто-то берет на себя ответственность?
Марло мертв, но жизнь не кончается, и следующим ходом кто-то посчитал, что необходимо подключить его к этому делу. А следующий ход бывает только в игре. Значит, это игра. И убийство здесь вовсе не обязательно кульминация или соль всего дела.
Он долго – минут двадцать – размышлял, стоит ли кому-нибудь позвонить, прежде чем отправиться к Марло.
Ввязываться ли вообще, так вопрос не стоял. Раз позвонили, надо ехать. В подобных ситуациях действовало железное правило: или стрелять, или бежать. Бежать в настоящий момент представлялось как бы преждевременным. Оставалось стрелять, что в данной ситуации означало действовать.
Он позвонил Валентине и сказал:
– Валентина, ты помнишь, как Мартин Марло рассказывал нам, что такое конспирация один?
– Да, конечно, – ответила Валентина.
– Мне сейчас позвонили и сказали, что Марло мертв. Я поеду к нему и выясню, так ли это.
– Вчера, ну, то есть сегодня, часа в три ночи, – сказала Валентина абсолютно ровным голосом, – Марло вышел из своего подъезда и пошел по направлению к проспекту. Когда вернулся, не знаю. Я поздно легла и поздно встала.
Разумеется, Валентина не лежала по ночам у дома Марло в засаде. Просто его дом был построен из номенклатурного кирпича и стоял в узком, номенклатурном переулке (такие называют еще посольскими). Валентина жила как раз в доме напротив и летними вечерами (а теперь выяснилось, что и ночами) любила сидеть в кресле-качалке на полузакрытом балконе своего пятого этажа.
«Куда это Марло поканал так поздно? – подумал он, попрощавшись с Валентиной. – И вернулся ли обратно своим ходом? Впрочем, да, разумеется. Довольно нелепо представить себе, как мимо мымры-консьержки проносят деревянный ящик и на вопрос: «Вы к кому?» – отвечают: «В шестьдесят четвертую».
Он подошел к дивану, на котором лежал труп Марло. Да, без сомнения, убит, и, по-видимому, в жестокой борьбе. Как именно и чем, вот уж это абсолютно не его дело.
Его дело – выяснить, куда выходил Марло в три часа ночи и что случилось с ним дальше.
4
А было это лет двадцать назад. В середине, то есть, семидесятых. Тем летом Алекс заканчивал пятый, выпускной курс Училища. Именно так, в одно слово с заглавной буквы, они и писали, и произносили название своего учебного заведения. Потому что не только на входе в здание не было никаких табличек, но, что самое смешное, и внутри ни на каких бланках, зачетках, пропусках не значилось никакого более подробного наименования, кроме гордого в своем одиночестве слова «Училище».
Поневоле и учащиеся – или курсанты? – вслед за преподавателями вынуждены были называть его так. Училище. Впрочем, уже в середине первого курса не только никаких вопросов по этому поводу не задавалось преподавателям, но и промеж себя курсантики перестали недоумевать. Преподаватель становился для них – Наставник, а их психика неуклонно переплавлялась, закалялась и становилась психикой монахов-воинов. При том что внешне они развивались во вполне светских, можно даже сказать, блестящих юношей. Почти все они стали разрядниками по трем-четырем видам спорта, знали фундаментальные науки, технику, языки и вообще при необходимости могли бы работать, выражаясь казенным языком, на должностях от сантехника до ведущего инженера где-нибудь на космодроме или гигантском синхрофазотроне.
И что еще важнее, легко могли войти в среду… да пожалуй, что в любую. Допустим в рабочую среду или в среду творческой интеллигенции. Кем же они являлись, выпускники этого Училища? Офицерами разведки? Очень похоже. Однако, так, да не совсем. Разведка ведь всегда чья-то. Ну, допустим, ГРУ – военная, понятно. Есть и другие. Даже и у крупных банков есть свои… подразделения. А за их Училище никакое ведомство или учреждение ответственность на себя не брало. Соответственно и прав не предъявляло. Да и вообще, никто к ним ничего не предъявлял, в том числе и Наставники. Подготовка осуществлялась потрясающая, но для чего, как бы и речи не заходило.
А курсанты и не спрашивали. Они становились не офицерами разведки, хотя по своей подготовке, по всем своим функциональным возможностям ничуть не уступали профессионалам этой «специальности». Они становились монахами-воинами. А это значит, что они не задавали праздных вопросов, вопросов общего характера Наставникам, не потому что это было им запрещено. Или, скажем, считалось в их среде непрофессиональным, смешным. На каком-то этапе своей подготовки они просто перестали испытывать в этом потребность.
На одной из первых лекций Наставник-гуманитарий задал им вопрос в форме притчи. По пустынной дороге шел юноша, достигнувший сана Совершенный. С заросшего поля у дороги он услышал отчаянные крики о помощи. Поровнявшись с местом, откуда доносились крики, он увидел, что несколько негодяев насилуют девушку. Как должен поступить Совершенный?
Разумеется, в соответствии с двумя логическими возможностями курсанты разделились на две группы. Первая, с разными вариациями, отвечала в том духе, что Совершенный не знает страха и, следовательно, невзирая на невыгодное соотношение сил, должен немедленно и максимально активно вступиться за девушку. Другие возражали, что весь строй мыслей и само предназначение Совершенного настолько выше мира обыкновенных человеческих страстей, что он может и должен невозмутимо пройти мимо.
Казалось бы, этими двумя вариантами и исчерпываются возможные ответы. Однако, подводя черту под обсуждением, Наставник сказал:
– Правильный ответ гласит: Совершенный не может оказаться в такой ситуации.
Так вот, буквально через несколько месяцев после начала занятий, курсанты уже не могли оказаться в ситуации задающих некоторые общие вопросы. И при этом даже задающих их сами себе. На третьем курсе они изучали мировые религии. Потом разделились на отделения: христианства – с отдельными потоками православия, католичества, протестантизма, буддизма, иудаизма и ислама. Алекс попал в межфакультетскую группу современных сект. Его курсовой проект, если уж придерживаться этой вполне условной для курсантов терминологии, был выполнен летом в течение трех недель. Он был выброшен с парашютом над джунглями одной южноамериканской страны. Он подобрался к их лагерю, ни во что не вмешивался, только наблюдал. Только присутствовал. При финале страшной человеческой трагедии. При массовом самоубийстве полутора тысяч людей. Мужчин, женщин, детей. При страшной смерти их обожествленного Наставника, вдруг запнувшегося на бегу, завертевшегося на пятке вокруг своей оси и рухнувшего затылком в самую середину костра.
Он много чего там повидал, Алекс, зелено-бурое пятно на тридцатиметровой высоте, в сплетении веток могучих деревьев. И мог потом со знанием дела читать отклики мировой печати на трагический конец одиозной секты. Вот этот сравнительный анализ сотен публикаций и составил тогда его курсовую работу.
Алекс понял тогда одно: тот, кто не владеет собой, не просто жалок. Через него, через миллионы таких, как он, приходит в мир зло. Они – его капилляры. И «цветы зла» Шарля Бодлера не распустились бы, если бы не эти сосуды.
Ну а диплом – он же выпускной бал и распределение – оказался у него таким.
Тем летним вечером они катались на лодке с Наставником по замечательно ухоженному подмосковному озерцу и беседовали об иллюзорности времени и иллюзорности целей.
– Цели достигаются или нет, – говорил Наставник, откидываясь после сильного гребка назад и подставляя свое слегка одутловатое, с азиатскими чертами лицо солнцу. – Но время все равно проходит. А по прошествии времени никто уже не может определить, в чем заключалась настоящая цель там, в прошлом. То ли в том, чтобы преодолеть препятствие, то ли в том, чтобы обойти его.
– Для Совершенного ни то, ни другое, – откликнулся сидящий на корме Алекс.
– Совершенный не замечает препятствия.
– Это так, – охотно согласился Наставник. – Но если мы не хотим полностью отбросить понятие цели, то должны считать, что цель для Совершенного лежит совсем в других измерениях, нежели для остальных людей.
Метрах в сорока от пристани Наставник потабанил и сложил весла вдоль бортов.
Лодочку медленно стало разворачивать бортом к пристани и носом к дальнему лесу.
– Конспирация один, – негромко, себе под нос, заговорил Наставник. И в последующие двадцать лет Алекс неоднократно воспроизводил эти слова, как бы включая в мозгу тихо шелестящую кассету. – Ты будешь использовать конспирацию один. Старт согласно модификации: без денег и документов.
Они причалили к пристани, вышли из лодки, переоделись в городские костюмы и взяли из ячеек раздевалки свои кейсы. Затем направились к темно-вишневому Ауди сто, уже развернувшемуся сверкавшим в лучах заходящего солнца радиатором по направлению к юго-западу. К мегаполису. Впереди сидели двое и один сзади.
Алекс полагал, что Наставник поедет вместе с ним и по дороге уточнит инструкции новоиспеченному выпускнику Училища. По крайней мере объявит Алексу его звание, если таковое ему присвоено, его официальный и реальный социальный статус, быть может, подкинет две-три легенды, которыми следует или просто можно пользоваться первое время.
Но, подойдя к Ауди, Наставник поставил свой кейс на траву, обнял Алекса, вернее, слегка припал к нему, а затем, отстранившись и глядя прямо ему в глаза, сказал:
– Прощай, Алекс. У каждого свой путь. Я навсегда останусь твоим Наставником, но, быть может, мы никогда больше не увидимся. Более того, ты ничего не услышишь и о самом Училище, не найдешь и следов его. К настоящему моменту, – Наставник взглянул на часы, – Училище уже поменяло штаб-квартиру, так что по старому адресу можешь не обращаться.
– Мои действия? – спросил Алекс.
– Ты все-таки задал этот вопрос. Ну, хорошо. Живи как знаешь, вот тебе и весь сказ. Больше мне тебе сказать нечего. Зачем терять время на пустые разговоры? Чему-то же ты научился за пять лет?
– Но проект… Разве его нет? Зачем же были затрачены такие средства на нашу подготовку? Ну вот хоть на меня. А если я не подхожу, то есть не считаюсь окончившим Училище по полной форме, то могу ли я быть уверен в личной безопасности?
– Отвечаю по порядку. О проекте скажу тебе только одно. Не все то существует, что финансируется. К тому же цели никогда не бывают заявлены открыто. Чаще всего, они даже нигде и не записаны, не фиксированы. Ни в каких документах, соглашениях, контрактах и тому подобное. Ну представь себе, например, что кто-то захотел проверить некоторые постулаты теории конспирации. Ну даже такой, что конспирация вообще возможна. Вообще, в принципе. А в частности, возможна ли она в нашем современном мире, перенасыщенном средствами коммуникации, слежения и контроля.
– Ну и как, по-вашему, возможна?
– А вот тут перейдем ко второму пункту. О твоей личной безопасности. Когда ты позапрошлым летом побывал в Южной Америке… Я надеюсь, ты понимаешь, что за этим делом, за этой сектой с самого начала и вплоть до финала следили десятки людей из самых могущественных разведок мира. И многие из них были куда опытнее и подготовленнее тебя. Это я к тому, что личные качества этих людей не сыграли здесь никакой роли.
– То есть?
– К настоящему времени из всех этих людей – агентов, генералов, дипломатов – в живых остался только ты. Подожди, не перебивай. Это я не к вопросу о твоей личной безопасности. А к вопросу о принципиальной возможности конспирации. То, что ты стоишь сейчас передо мной, доказывает по крайней мере одну вещь: сам факт существования Училища и его кадровый состав не попали ни в один компьютер на нашей многогрешной планете Земля.
– А мой отчет? Об откликах в прессе о массовом самоубийстве?
– О, твой отчет и вовсе сыграл самую гуманную роль. Никто из пишущей братии, точнее, из написавших на эту тему, насколько мне известно, не пострадал.
– Но ведь они описали все очень подробно. Анализировали, приводили свидетельства случайно уцелевших очевидцев. Значит ли это…
– Это значит только то, что ни сам факт доведения до самоубийства полутора тысяч людей, ни даже вся история этой секты, с самого начала изобиловавшая скандалами, судебными исками людей, вышедших из секты, но потерявших все свое имущество и накопления…
– Личность главы секты.
– Ну да. Все это представляло интерес для широкой публики, и поэтому об этом печатали в газетах и журналах, передавали в телевизионных и радиорепортажах. Но все это не представляло никакой опасности.
– Для кого?
– Для тех, кто запечатал личные дела всех этих, погибших один за другим, профессиональных очевидцев.
– Руководящие круги этих самых, наиболее могущественных разведок мира?
– Они самые. Кто же еще? Ведь это все были их люди.
– На всякий случай? Если кто-нибудь из них что-нибудь заметил?
– А ты сам, когда писал свой отчет, разве ничего не заметил?
– Разумеется, да. Но тема моего отчета была ясно очерчена: анализ откликов прессы. Я его и произвел. Другим, я полагал, занимаются другие.
– И что, все-таки, там было другого, по твоему разумению?
– Координация действий разведок государств, находящихся якобы в непримиримой конфронтации.
– Такое бывает. А если нашествие марсиан? Или попроще: допустим, в некой слаборазвитой стране вспыхнула эпидемия, грозящая охватить целые материки. И срочно надо найти ее источник. Да мало ли чего? Скажем, неопознанный источник радиоактивного излучения. Почему бы спецслужбам в таких случаях и не посотрудничать.
– Здесь другое, – спокойно сказал Алекс. – Во многих эпизодах деятельности секты: как ей помогали уйти из-под судебного преследования, противостоять давлению правительства Соединенных Штатов, отмывать деньги, переселиться в полном составе в Южную Америку, – во всем этом чувствовалась не просто опека спецслужб различных государств. Сама эта опека осуществлялась так слаженно, на таком высоком техническом и организационном уровне, который возможен только при давнем и очень тесном сотрудничестве этих спецслужб. В частности, сети агентов как в Северной, так и в Южной Америке так свободно передавались от одних к другим, как будто это была общая собственность родственников одной семьи, а не самое засекреченное оружие двух конкурирующих на мировой арене суперконцернов.
– Итак, Алекс, ты утверждаешь, что деятельность этих разведок по созданию и выращиванию этой секты производила впечатление не случайно вспыхнувшего знакомства, а очень длительной интимной связи?
– Да, это так.
– Вот видишь. И при этом ты еще жив. Итак, тебе пора в путь. Ах да, у тебя был еще третий вопрос. Отвечаю: ты нам подходишь, и ты считаешься окончившим Училище по полной форме. И я тебе сказал еще там, на озере: ты будешь использовать конспирацию один. Стартовый вариант: без денег и документов.
Они простились. Алекс сел в Ауди, и машина рванула на юго-запад. А через час с небольшим он валялся на насыпи, недалеко от рельс, гудящих от электричек Савеловского направления. Валялся в болевом шоке, перемежающемся бредом, в растерзанной, испачканной одежде, зверски избитый, с неузнаваемо заплывшим, окровавленным лицом.
Охранники-порученцы, которых вместе с Ауди предоставила в распоряжение Алекса администрация Училища, накинулись на него практически сразу. В машине его душили шарфами и галстуками, ломали руки, пинали ногами, куда попадут. Несколько раз останавливали машину и выволакивали Алекса наружу, чтобы бить на просторе, то есть с замахом, с разбега, с удобствами. И, наконец, выкинули вот здесь, почти на шпалы, увезли с собой его кейс. Так что Наставник оказался прав: его, Алекса, стартовый вариант воистину назывался «без денег и документов».
5
История о том, как Алекс в двадцать три года, без денег и документов, но зато с переломами ребер, сотрясением мозга и ободранной «будкой» начал новую жизнь, – эта история заслуживает, безусловно, отдельного повествования. Но к убийству Мартина Марло и расследованию этого убийства все это имеет лишь косвенное отношение.
В конце концов, через двадцать лет Алекс, имея за спиной университетское образование, связи – так уж получилось – с небезопасными центровыми шалавами Москвы, неудачный брак и скромную, но стабильную должность министерского чиновника с уклоном в науку, поселился в коммунальной квартире недалеко от Смоленской. И зажил он жизнью холостяка средних лет и очень среднего достатка. Стал захаживать в скверик около знаменитой пивной, где и свел шапочное знакомство с инженер-капитаном, а также генерал-мюнхгаузеном Мартином Марло.
Училище и Наставники, командировка в джунгли Южной Америки – все это представлялось ему с годами как яркие, но беспорядочные грезы юности. И никто за все эти годы не сделал ему ни одного намека, не только что предложения. Видимо, конспирация один, о которой говорил Наставник, заключалась в том, что о нем просто забыли. Махнули на него рукой.
И вот незнакомый мужской голос по телефону сказал: «Марло убили. Поезжай к нему. Если хочешь узнать, кто да что, действуй по обстоятельствам».
И он позвонил сначала Валентине, а потом поехал к Марло. Там ему дали по голове, втащили в квартиру и оставили в покое. А Марло действительно убили. О’кей. Вопросы, конечно, были. Первый и основной: кто и за что убил Марло? А из этого, основного, распускался уже и целый венчик вторых-третьих-четвертых.
Кто ему звонил? Нет, это даже не шестнадцатый. Почему ему позвонили? Начнем с примитива. Некто обнаружил труп Марло. Ага, значит, не просто некто, потому что обнаружил в его квартире. Значит, имел туда доступ. Ну, один из его приятелей, один из собутыльников со Смоляги, допустим, для простоты. Откуда он имел ключ? Здесь два варианта. Первый: это родственник или очень близкий, давнишний кореш. Ведь Марло частенько неделями, а то и месяцами отсутствовал в Москве. Квартира пустовала. Ну, по дружбе, ключ мог на это время передаваться. Вариант второй: человек мог быть вполне случайный. Позанимались у Смоляги пивком, затем Марло пригласил к себе. Задавили бутылочку. Не хватило. Напарник пошел за горючим. Нет, второй вариант не склеивается.
Зачем, посылая случайного друга на десять минут в магазин, отдавать ключ? Может быть, Марло прикидывал, что может отключиться и не услышать звонок? Но для этого такому бизону, как Мартин, надо ну очень уже принять.
Алекс оглядел гостиную. Прошел на кухню. Нет, и не похоже. Наметанным взглядом он определил, что ни о какой пьянке, тем более грандиозной, которая могла бы иметь место в этой квартире несколько часов назад, и речи не идет.
Убрали следы? Все протерли, вымыли и расставили? Может быть. В случайного пьянчугу со Смоляги верилось с трудом. Как и в то, что Валентина случайно сидела в прошлую ночь на своем балконе и заметила Марло, случайно вышедшего погулять в три часа ночи. Правда, у этого случайного пьянчуги были и некоторые преимущества. Во-первых, если он со Смоляги, то мог иметь телефон Алекса. С кем только там, в чаду и гаме, не обменивались они телефонами. Алекс пользовался в пивной репутацией солидного мужчины, умеренно пьющего и с положением. С каким именно, с этим никто там никогда и ни к кому не лез. С положением – это значит, не бомжа беспросветная, пьянь беспробудная. С положением – это значит появляется мужик в коллективе, выпьет, постоит, потолкует и побежал в город по делам. И значит, при случае может что-нибудь предпринять. А во-вторых, что более важно, посылка гонца в магазин объясняла проникновение в квартиру убийцы. Одного или нескольких. Звонок в дверь, Мартин открыл… остальное понятно. Нет, опять не очень. Если дал ключ, то зачем звонить? Допустим, хозяин квартиры мог подумать, что у гонца не получается с замком. В первый раз все-таки открывает. Но тогда естественно, подойдя к двери, небрежно этак окликнуть:
– Ты, што ль, Хмырь? Чего, открыть не можешь? – И что же ему ответили? Ничего не ответили? Или ответил другой, но тоже знакомый хозяину голос? Или даже сам Хмырь, но уже стоявший под дулом или ножом, как стоял какой-то час назад сам Алекс, под стволом Хорька? Впрочем, в этом последнем случае совершенно невероятно, чтобы самого Хмыря отпустили с миром, а не замочили вместе с Марло.
Впрочем, все это в предположении, что он, Алекс, рядовой, частный гражданин, кем он, чем дальше, тем увереннее, и считал себя в течение последних двадцати лет. Если же он все еще выпускник Училища, то ни о каких дешевых случайностях речи не идет. В этом случае кому-то необходимо, чтобы состоялось серьезное расследование и чтобы провел его именно он, Алекс. А еще это значит, что и сам Мартин Марло был личностью непростой. Зачем-то он играл столько лет роль шута горохового в знаменитой московской пивной.
6
Следователь Никонов, отпустив третьего допрашиваемого, подписал третий протокол. Самолично вытряхнул пепельницу в корзину для мусора и открыл окно. Расстегнул фирменный китель и с хрустом потянулся. Немного подумал, чему-то улыбнулся про себя – наверное, тому, что на сегодня с делами покончено, подошел к двери и запер ее на два оборота ключа изнутри. Затем подошел к сейфу, открыл его и извлек стоявшую у самой задней стенки початую бутылку молдавского коньяка. Налил себе треть стакана, а затем доплеснул до половины.
Все это дело яйца выеденного не стоит. Потому что ничего не стоит и сам клиент. Никонов еще утром, после первого допроса, осторожно, через знакомых, позвонил туда-сюда и выяснил, что ни в каких солидных учреждениях Мартин Марло в штате не значился. Разумеется, он мог быть в списках, которые не только что по телефону, а и вообще не предъявляются. Никогда и никому. Разве что новому шефу. Да и то не всегда и не в полном объеме. Списки тайных агентов, некоторых тайных агентов, хранились даже не в компьютерах, а в головах заматерелых отставников, мирно доживающих свой век на подмосковных дачах. Неприкосновенный запас на черный день икс, на все скорбные дни нашей жизни.
Марло – секретный агент? Ха-ха. Годы напролет выстаивал в скверике у пивнушки, трепался направо и налево, фанфаронил и загибал, совал всякой пьяни сомнительные документы. Конечно, в его байках чувствовались некие осколки какого-то знания. Ну да это мало ли?
Может, от дружков набрался, таких же, как он, хвастунов и керосинщиков. А может, и самого его в молодые годы несколько раз использовали. По мелочам. На подхвате.
Нет, с этим делом все. Все три протокола немедленно пойдут в бумагорезку. И далее на измельчение, под сырье, для нового картона. Кассета с записью всех трех допросов у него в кармане. Вот ее-то он и отдаст заказчику. И никаких более следов сегодняшнего расследования оставаться не должно. Потому что сегодня следователь городской прокуратуры Никонов занимался частным делом. Выполнял частный заказ. Использовал служебное положение… в бескорыстных целях.
Никакой выгоды он из этого не извлечет, потому что попросила его об этом сегодня утром его теща, Виктория Николаевна Рейнгольд. Такую тещу ослушаться – себе дороже. Когда-нибудь он скинет это иго.
Он, Петр Никонов, провинциал и тугодум, поднимется по всем должностным ступенькам, укрепится и прорастет. И вот тогда-то он и заявит этой столичной штучке, своей порченной-переперченной женушке: «Выбирай! Или я или Виктория!» Но сейчас, сейчас об этом и думать не моги.
Утром ему позвонила с дачи Рейнгольдиха и сказала:
– Петр! Есть такой выпивающий мужик, звать Мартин Марло. Вернее, был. Сегодня ночью или под утро его убили. Мне надо, чтобы ты провел неофициальное расследование. Он много лет был завсегдатаем пивной на Смоленской. Знаешь, это через Садовую от МИДа, чуть наискосок. Там еще такой скверик. Опроси его дружков-алконавтов, может, кто что слышал.
– Да зачем вам… – начал было Никонов, но Викторию, как всегда, нельзя было остановить.
– Он связан с нашей родней. Кое-кто интересуется. Все же некрасивая история. Тебе-то что? Главное, чтобы это по документации у тебя не проходило. Возьмешь на магнитофон, а запись отдашь мне.
И пока добирался в метро до работы, Петр Никонов время от времени теребил свой нос. Видно уж на роду ему написано оказываться в подобных дурацких положениях. С одной стороны, он, разумеется, был обязан доложить своему начальству о планируемых допросах. (Хотя и это дико звучит, ибо это именно начальство могло ему поручить расследовать некое убийство. А он-то тут при чем со своей инициативой?) С другой же стороны, Виктория и сама начальство. И если работу в крайнем случае можно было сменить, то ослушаться Викторию значило потерять жену, рыжую красотку Римму, а за этими двумя чертовыми бабами стояли московская квартира в центре, две громадные дачи и, что самое главное, связи, связи и связи.
Отец Виктории, Николай Рейнгольд, был генерал-лейтенантом царской армии. При этом, какого рода войск или какого рода военной или околовоенной специальности, по крайней мере при Петре, не уточнялось. И что самое удивительное, наличие такого знатного и стопроцентно идеологически чуждого предка никогда в семье не скрывалось.
То есть не только в последние, перестроечно-переверточные времена, но и многие-многие годы до этого. И фотография генерала Рейнгольда – с росписью лихими завитушками на обороте картона – светопись Ф. Наппельбаума, – с высоким, жестко накрахмаленным воротничком, с роскошными усами а ля Фридрих Ницше, – не пряталась по антресолям, а гордо красовалась на трюмо, в гостиной квартиры Виктории.
И при этом никаким уплотнениям, не говоря уж об иных преследованиях, эта весьма широко живущая семейка никогда не подвергалась. Более того, в начале тридцатых, невзирая на железный занавес, Виктория спокойно выехала в Париж, где несколько лет прожила у своих родственников, выходцев из Грузии, а в конце тридцатых так же спокойно вернулась в Москву. Более того, внучка таинственного генерала, Римма, спокойно поступила на юридический факультет МГУ и закончила его ничуть не менее уверенно, чем сын рабочего класса и трудового крестьянства Петенька Никонов. Поистине, за что боролись? Так мог бы возопить студент Никонов, впервые попавший в их роскошные подмосковные особняки. Но его осторожного провинциального ума хватило на то, чтобы задавать подобные вопросы про себя.
Мог бы он, как хоть и начинающий, хоть и не гениальный, но все же юрист задаться вопросом: как это возможно, что потомки разгромленного эксплуататорского класса не только не скрывают своего происхождения, не сидят, забившись в щель, тише воды ниже травы, но, напротив, живут более широко, чем иные партийные вожди очень и очень высокого уровня.
Студент Никонов не был красавцем, отличником и даже комсоргом. Но он был успевающим, ни с кем не конфликтовал, выпивал и покуривал весьма умеренно.
А в общем, был плотным, русоволосым парнишей, с чубчиком, вот что интересно. Его типаж мог бы называться «положительный мужик». На третьем курсе, после того как он пошел провожать Римму после какой-то вечеринки, они с ней сошлись, а на четвертом поженились. Позже Петр понял, что в то время Римма нагулялась и намоталась, изгулялась и оборвалась. Золотокудрая, со спортивной статью лошадка приняла слишком резвый жизненный старт и засветилась уже на первых кругах, завязла в нескольких компаниях, замешалась в нескольких грязных историях. Маман Виктория на том этапе мудро рассудила, что перемена участи придется ее ангелоподобной девочке как нельзя более кстати. И ее расчет, по крайней мере на несколько лет, себя оправдал.
И Петр, после звонка тещи, связался со знакомым ему капитаном милиции Петуховым и попросил его доставить ему нескольких хмырей со Смоляги.
– Без формальностей, – так закончил он свою просьбу.
– Как, то есть, без формальностей? – спросил Петухов. – А что я буду им говорить?
– А так, – ответил Никонов, – подгони рафик к этому гребаному скверику да и пригласи пару-тройку. Мол, не волнуйтесь, обычная проверка. А сам их сюда, ко мне. Я побеседую и отпущу. Ничего с ними не будет, не волнуйся.
– А если упрутся?
– Не упрутся. Они же выпивши? Выпивши. Ну и все. А ты не пугай, не дави. Мол, побеседуем, и лады.
Петухов все исполнил в лучшем виде, и состоялись три беседы с тремя хмырями. И три протокола, набросанных просто так, для отвода глаз, превратились уже в сырье для нового картона. А магнитофонная кассета лежала в кармане его пиджака. Ничего интересного он для себя в этом деле не обнаружил. Вот сразу и видно, что провинциал. Да и юрист, если правду сказать, говенный. Неплохой он мужик, Петр, но ведь это же не профессия.
Двое из троих утверждали, что Марло пришили не прошлой ночью, а еще неделю назад. То, что Никонов не придал этому большого значения, еще можно понять. Ну, в самом деле, они же там все не просыхают. Что они там помнят? День-ночь или неделя. И потом, в подобной среде часто беспричинно вспыхивают самые невероятные слухи: «Колян повесился! Я те говорю! Сеструха его вчера Зинке из продуктового говорила. А остальные задохнулись. От газа». И не успеет компания со вкусом поохать-поахать, как глядь, вон он, Колян, стоит и протягивает рабочую ладонь. А остальные, те, что якобы задохнулись, подносят Коляну кружки белошапочные.
Ясно, что насчет сроков напутали эти ребята. Могли напутать. И это вполне логично предположить.
А вот еще по двум пунктам, которые он не принял во внимание, следователя Никонова оправдать трудновато.
Если бы он был коренным москвичом, он непременно обратил бы внимание на номенклатурный адрес Марло. В таком переулке и в таком доме иметь отдельную квартиру совсем пустой человек никак не мог. Даже если бы досталось ему такое по наследству. Выжили бы, вытеснили, пропил бы или обменял, а то и вовсе пошел бы по графе пропавших без вести. Если бы он зацепился хотя бы за переулок, и не поленился бы подъехать туда, к дому, и зашел бы в подъезд, и был бы остановлен мымрой-консьержкой, с ее неизменным: «Вы к кому?» Но он ничего этого не сделал.
И наконец, как юрист, Петр Трофимович должен был бы задать себе вопрос: откуда Виктория Николаевна уже утром знала об убийстве, которое произошло где-то ночью или ближе к утру. От кого? От самого убийцы? Совсем чепуха. Какое уж тут тогда расследование. Тут уж маячит соучастие, сговор. Сиди и не высовывайся. И что расследовать? Все равно какая-то лажа. От него все бы и узнала. Уж в десять раз больше и конкретнее, чем… сплетни старые собирать. И это ей, такой-то теще, обращаться с просьбой к нему, такому-то зятю?
И вот по этому пункту тоже не шибко задумался следователь Никонов. Не проявил он тут интуиции или того, что называют звериным чутьем. Будь у него развито чувство опасности, оно подсказало бы ему, что перед ним дело, любая причастность к которому опасна для жизни.
Все, что исходило от Рейнгольдихи, он давно уже объяснял однозначно: значит, так надо. А иначе уже с первых шагов, когда он только входил в ее жизнь, пришлось бы задаться вопросом: так кто же победил в семнадцатом году?
Никонов запер коньяк в сейф и посмотрел на часы. Предвыходной день, начальство на совещании и уже не вернется. Следовательно, вполне уже можно двигать в сторону дачи.
Перед уходом он решил позвонить капитану Петухову, уточнить, все ли прошло гладко с доставкой хмырей обратно на Смолягу. Хотя что там такое могло произойти на обратном пути? Небось уже стоят в своем скверике, чувствуют себя героями и разливаются соловьями, как их аж в городской прокуратуре раскалывали за какого-то Марло. Нарушил он, конечно, нарушил. Провел частное расследование. Конечно, какое там расследование! Виктории виднее. Она же зла зятю не желает? По крайней мере такого, по служебной линии.
В кабинете капитана Петухова никто не брал трубку. В квартире капитана Петухова к телефону обычно подходила его жена, Екатерина. Но и в квартире никто не брал трубку.
Следователь Никонов пожал плечами, еще раз хлопнул себя по карману, где лежала кассета, и покинул служебный кабинет.
7
Римма знала, что однажды он крикнет ей: «Выбирай! Или я, или Виктория!» Будет это не раньше, чем он станет государственным советником юстиции третьего ранга, следователем по особо важным делам, – но это будет.
А сейчас его не надо трогать. Все, что ему нужно, это десять-пятнадцать лет простого карьерного существования.
Такие колобки катятся по своей тропинке неспешно, но неостановимо.
Ну и быть посему. И не надо здесь ничего трогать. Смешивать жанры. Сегодня она вернулась на дачу от своего последнего любовника, грузного красавца полковника Воронова.
В течение этого свидания они поочередно использовали широченную тахту, громадный толстый ковер и, под конец, даже бильярдный стол, стоявший на веранде второго этажа. Веранда выходила на глухой угол заросшего дачного участка, и все же… Мог же ведь кто-то случайный оказаться внизу, скрытый кустарником? Пикантность в духе бездомных студентов.
Римма только покусывала губки и коротко, как бы по-щенячьи, взвизгивала.
…Она лежала на зеленом сукне бильярда, разметавшись, белая, к ней не приставал загар. Полковник совсем как бы забылся. Положил ей на бедра по бильярдному шару, а третий легко опустил на живот. Затем взял с подставки мелок, не тот, которым мелят кий, а остренький грифель для записи счета, при игре в пирамиду. И затем стал, как бы пританцовывая вокруг Риммы, проводить острым концом мелка по ложбинке между полных грудей такого же, как все тело, прозрачно-белого с легким золотистым отливом цвета. Не царапая, конечно, и не пачкая кожу мелом, а так, легко касаясь. Любовь и виски предельно растормозили центр речевой активности молодого полковника, и он бормотал что-то свое, по-видимому не отдавая себе отчета, зачем ему нужно все это говорить.
– Понимаешь, иногда надо просто выяснить, существует какая-то структура или нет. Всего лишь выяснить, детка, это ведь так немного. Но иногда из-за этого льется кровь. Люди как люди, и к ним нет претензий. Но структура… сама себя не осознает и не понимает, но существует. Иногда десятки лет.
– У меня озноб. Перестань, – сказала Римма, прикрывая груди рукой.
– У нас даже есть чудаки, – продолжал Олег, – которые утверждают, что не только десятки, но и сотни лет. На них не укажешь, но по следам их… А нам если и случалось нападать на явные следы таких структур, то при расследовании некоторых нашумевших убийств.
Раздался сигнал пейджера.
– Да, Воронов слушает, – сказал Олег Юрьевич.
Выслушав, захлопнул крышку пейджера. И сразу превратился из юного, болтливого павиана в уставшего, грузного мужика. Немного раздосадованного. Даже рассерженного.
– Капитана милиции, представляешь? На его же собственной квартире. Изрезали в лохмотья. Крови ведро потерял. В реанимации.
– А почему тебе о каком-то капитане сообщают?
– Видишь ли, есть такие ведомства, и МВД в их числе, о любых нападениях на сотрудников которых должны сообщать именно мне. – Затем, сняв с ее тела три бильярдных шара и укладывая их на полку, уже совершенно спокойным и трезвым голосом добавил: – Да, капитан здоров оказался – всего лишь в реанимации. А жену его – насмерть.
8
Олег Воронов собирался было поехать к себе в управление, чтобы зафиксировать поступившее сообщение по всем правилам и спустить его далее вниз, кому-нибудь из подчиненных. Но что-то мешало ему немедленно начать действовать согласно уставу и его служебным обязанностям.
Воронов был силен и молод, красив и, некоторые бы даже сказали, распутен. Но он был профессионал. Поэтому ему и был предоставлен шанс. Он был вставлен в структуру. В обойму. В команду. Ему был предоставлен шанс, то есть он был выведен на старт. Но прохождение дистанции зависело уже от самого бегуна.
Олег не любил спивающейся золотой молодежи. Хотя по рождению и первому кругу друзей детства вполне мог принадлежать к ней. Но простое потребление жизни, без контроля и властного участия в ней, оказалось для него недостаточным. Олег прекрасно знал, что все то, что он исполнял согласно уставу и служебным обязанностям, мог бы исполнить и любой другой. Главная же его карьерная динамика держалась на нескольких его точных реакциях, на его решительном и вовсе не рутинном участии в нескольких делах, которые могли произойти только в центре Москвы и которые начинались для него вот точно так же – с сообщений, на которые можно было бы и не обратить внимания. Отфутболить. Оформить. Зацементировать. Мало ли их, таких-то сообщений. Таких или подобных происшествий. А потом оказывалось… На них можно было сложить голову, а можно было и уйти в сторону. Но второе означало уйти от жизни. А он чувствовал вкус к ней.
Сначала у него мелькнула мысль: капитан милиции… что там грабить? И как-то очень решительно исполнили. Нашли, видимо, предлог, чтобы им открыли. Как будто спешили, и именно только это и требовалось.
Он перезвонил и уточнил обстоятельства. Да, именно так, именно какая-то спешка. Учитывая время ухода капитана со службы и время на дорогу, к нему пришли буквально минут через двадцать после его возвращения домой. Может быть, потому и были пущены в ход ножи, что за огнестрельным некогда было уже заезжать. Да, видимо, никакие угрозы и никакая игра такой развязке не предшествовали. А раз так торопились, раз так грубо ворвались и кромсали (так неподготовленно, что аж в полуживых оставили), то дело возникло недавно и внезапно. И значит, связано оно с последними часами нахождения капитана Петухова на службе.
Капитан милиции… в том-то и дело. Поэтому-то полковник Воронов и размышлял. Грабить нечего – это еще самое первое. Есть и второе, еще более странное. Что уж такого мог узнать Петухов на службе, чтобы его немедленно решили пришить?
До каждого человека может дойти только та информация, которая соответствует его месту в табели о рангах. Бывают, правда, нестыковочки. Вот на них-то Олегу Воронову и удавалось иногда обращать внимание. А иначе… стал бы он размышлять.
В отделении Петухова был такой лейтенант Гринько, которому не надо было ничего объяснять насчет полномочий полковника Воронова. (Ибо он и сам имел некоторые полномочия, не вполне соответствующие званию лейтенанта милиции.)
Гринько быстро выяснил, что с утра Петухов обозначился в скверике около пивной, видимо, проводил там профилактическую работу. И вроде бы даже кого-то забирал. Но в отделение никого не доставил.
Наверное, штрафанул или так отпустил. Но спустя несколько часов опять мелькнул у пивной ненадолго. Вот пока и все, что выяснил Гринько.
А по документам в отделении и вообще ничего. Так что официально, считай, бесконфликтным было последнее дежурство капитана Петухова.
Воронов поблагодарил Гринько.
А через полчаса он уже поднимался из полуподвального помещения пивной в скверике, с растопыренными пальцами обеих рук, унизанными, как крупными желтыми перстнями, кружками жигулевского.
Прислушавшись к мужикам, кучкующимся вокруг стоящих прямо на траве бутылок, Воронов быстро выделил два ключевых слова: Марло и прокуратура. Выходило так, что Марло – кем бы он ни был – пришили неделю назад, а в прокуратуре лепили, что еще вчера он был жив. Недоверие, смешанное с уважением к рассказчикам, а их было трое, вызывал сам факт, что их доставили не в отделение, а в прокуратуру. Тут же, как водится, имелись доки-законники, которые согласны были «век свободы не видать», но клялись и божились, что так не бывает, «не лепи, понял, горбатого», что трое нигде не были, а керосинили заодно с Петуховым прямо в рафике.
Но трое рассказывали складно, приводили детали допросов и обстановки у следователя, так что почтенное общество не знало, чью сторону и принять.
Воронов одному поставил для знакомства пива, другому дал денег, чтобы он сбегал за портвейном, после чего на него перестали коситься.
А после второй выставленной «белой» перестали обращать на него особое внимание. Приняли за вполне своего, то есть за деталь окружающего пейзажа.
Крупно лажанулся капитан Петухов на том, что исполнил, казалось бы, несложную просьбу своего знакомого. Но он уже заплатил за это. Крупно фраернулся следователь Никонов, исполнив просьбу своей тещи и надеясь, что все будет шито-крыто.
Ну да он не коренной москвич. Откуда же ему было знать, что это за объект такой – пивная на Смоленской?
И уж вот так по-крупному ошаршнулась сама Виктория Рейнгольд. Нашла к кому обратиться, да уж, видно, с утра и в запарке. Иначе не нарушила бы основного правила разумных людей, к коим себя причисляла: сначала подумай, а потом сделай.
И вот теперь ее маленькое, невинное анонимное расследование обсуждалось гласно и громогласно, судилось вкривь и вкось несколькими десятками разгоряченных зеленым змием мужчин. Ее бездумное и неподготовленное обращение к зятю, разумеется, оставалось им неизвестным.
Но дискуссия только начиналась, из-за кустов подтягивались новые силы. И до чего бы они могли договориться за неделю-другую, если не случится новая сенсация.
Но у Воронова не было недели-другой, да они были ему и не нужны. Он шел по следам одного убийства, а попал на публичный диспут о другом. Убрали какого-пижона с экзотической кличкой Марло, причем не то неделю назад, не то прошедшей ночью. Дело принято к ведению городской прокуратурой. Но если, как утверждает следователь, это действительно произошло несколько часов назад, то уж больно лихо это все. Гм-гм, знаем мы наши темпы.
Олег специально выпил с одним из рассказчиков, потом со вторым и с третьим. Специально налил им из отдельной фляжечки коньячку и на закуску отломил по доброму ломтю шоколада. Специально, чтобы они заметили и отметили его. И внушал каждому мысль, что они если и не герои, то уж настоящие мужики, бывшие сегодня в настоящем деле, им есть что рассказать, а у него найдется добре выпить и закусить. И неплохо бы пообщаться в спокойной обстановке, а халявщиков этих отсечь. Да, уж на халяву всякий горазд – вполне поддерживали его мысль все трое.
Воронов договорился с ними, что подойдет минут через пятнадцать, а сам зашел в подьезд одного учреждения, через дом от скверика, и уединился в маленьком кабинетике, сразу за турникетом проходной с военизированной охраной.
На этот раз лейтенант Гринько ему помочь не мог, и он позвонил в свое управление. Ему нужны были данные по городской прокуратуре. И такие данные ему были предоставлены, причем данные отрицательного характера. Никакого дела об убийстве Варло, Марло или папы Карло к производству в прокуратуре принято сегодня не было.
Тогда он позвонил в прокуратуру, где у него тоже был свой Гринько. Правда под другой фамилией, да и не лейтенант, а так, сержантик на входе. Сержантик спросил номер телефона, с которого говорил Воронов, затем сказал, что он уже закончил смену и через пять минут ему перезвонит. С уличного телефона-автомата, как понял Олег. Через пять минут разговор состоялся. Да, к одному следователю по фамилии Никонов приводили сегодня каких-то трех лопухов. Через него же они и выходили. Кажется, их рафик милицейский во дворе ждал.
Воистину, Москва – страна чудес. Убийство, которое еще не оприходовано в прокуратуре, вовсю обсуждается в самом центре, на Смоленской площади, десятками людей. Где-то он слышал странные словечки: «конспирация один». Где и когда? Э, неважно. Так, может, это она и есть, конспирация один, когда все знают все и все неточно?
9
Алекса клонило в сон. Болела голова в том месте, по которому его шарахнул «хорёк». Зря ему позвонили, если только действительно все дело в расследовании. Навыки, какие и были, за двадцать лет утрачены, видимо, начисто.
Что он здесь делает? Зачем пришел? Если все дело в тщеславии, что вот, мол, вспомнили, позвали, чего-то от него ждут, то тем более, какой он там монах-воин? Все эти мелкие чувства и страстишки по поводу того, что столько лет никому он был не нужен, полноценного выпускника Училища не должны бы волновать вовсе. Как прошла твоя жизнь, то и славно. Ведь в любом случае время проходит. И пусть кто-нибудь попробует доказать, что, ничего не делая, он сделал меньше, чем кто-либо другой.
Навыки утрачены, но кое-что Алекс еще помнил и понимал. В частности то, что проекты вставлены один в другой, как матрешки. И всегда можно рассмеяться в лицо тому, кто скажет, что держал в руках самую большую.
А еще у разведок мира в ходу термин «спагетти». Это когда проекты не вставлены один в другой, не субординированы, а переплетаются между собой, как гибкие, тонкие макаронины. И твое дело тогда только служить вилкой, то есть наматывать на себя прямо из середины спутанной, клейкой массы. А где уж там концы и начала…
И Алекс не мог сердиться на Наставника. Пусть двадцать лет прошли ни шатко ни валко, если, прямо сказать, не бесцельно. Ведь и у других, в общем-то, так же. Но у них не было Наставника. А у него он был. И есть. И будет. И это чувство – на всю жизнь.
Они сидели тогда втроем, где-то с месяц назад, в летнем кафе около Планетария. Марло уже так нагрузился, что Валентина и Алекс, не обращая на него внимания, выясняли отношения открытым текстом. В конце концов, она сказала:
– Хорошо, я уйду к тебе. Насовсем. Мне это тоже все надоело. И я уже боюсь. Сама себя. Но ты не оставишь Марло просто так…
– Хорошо, мы не оставим его, – согласился Алекс.
– Именно ты. Потому что я, после того как уйду к тебе… мне не хотелось бы больше его видеть. Это для меня было бы слишком. Вот, – Валентина достала из своей сумочки ключ и протянула его Алексу, – возьми, это от его квартиры. Мне он больше не нужен. Но я не выбрасываю его в канаву, – и это относилось как бы и к ключу, и к самому Мартину, – а передаю тебе.
– А с чего ты взяла, что я могу быть полезен Мартину?
– А кто же?
– Не знаю. Может быть, ты и сама не знаешь. Но, скорее всего, это другой. Не я. Так у Алекса оказался ключ от квартиры Марло. Ну вот он им и воспользовался.
А начинать надо всегда с элементарного. А элементарное в том, что он находится в квартире, с хозяином которой он разве что шапочно знаком. Был. И ближе уже не познакомится. Хозяин квартиры убит. И рано или поздно факт этот будет обнаружен. И консьержка, разумеется, вспомнит, как он сказал: «В шестьдесят четвертую» – и опишет его внешность.
Так что он должен сделать сейчас, чтобы выполнить, теперь уже раз и навсегда единственное условие Валентины: «Но ты не оставишь Марло просто так».
Что? Сообщить властям и будь что будет? А мужской голос по телефону? Этому что нужно?
И наконец, третья сторона, сам Алекс. Что нужно ему самому? Пожалуй, всего лишь немного удачи и счастья с Валентиной. И пусть она никогда не узнает, почему он показался ей интересней, чем обычный сотрудник обычного аналитического центра. А мужской голос по телефону…
Ну что ж, если он действительно возжелал подключить к этой истории монаха-воина, то, наверное, должен понимать, что это такое. А это вот что такое. Алексу сказали: давай действуй по обстановке.
Вот он и будет действовать по обстановке. Уйдет он сейчас отсюда, перейдет улицу и поднимется к Валентине. И позвонит дежурному по городу и сообщит об убийстве.
Алекс снял с диванчика, на котором только что сидел, плед, и подошел к мертвому Марло. Накрыл его пледом с головой.
А может быть и вообще случайная драка? Профессионалы ведь убивают внезапно и чисто. Убирают. Марло же лежал в изодранной в клочья рубашке, с громадными кровоподтеками на груди, с лилово-коричневой, вздувшейся подушкой вместо левой части лица, с вывихнутой или даже сломанной в локте левой рукой.
Как там у них пишут? На почве внезапно вспыхнувших личных неприязненных отношений. Может быть. Все может быть. Нет, он не сыщик, он другой. Поэтому и не будет он ничего здесь искать. Или проводить иные следственные действия. Пусть этим займутся другие.
Он спустился вниз, на ходу прикидывая, сказать что-нибудь консьержке на выходе или просто кивнуть головой. Но за стеклом в холле консьержки не было. Вместо нее, привязанный к стулу и с каким-то бинтом, плотно наложенным на рот, вращая выпученными глазами, сидел «хорёк».
Алекс хотел было уже проскочить мимо, но «хорёк» еще сильнее замычал – аж через бинты доносилось – и еще яростнее завращал глазами.
Алекс остановился около него, разрезал узел на затылке и размотал бинт.
– Ну, тебе чего?
– Развяжи, корефан, я тебя стукнул не по делу, развяжи, я тебе отбатрачу.
– Где консьержка?
– Не знаю. За мусорами, наверное, побежала. Канать надо.
– Вот я и сканаю. А ты мне зачем?
– Кончай, земеля, петли путать. Я что, думаешь, за хреном с квасом к Марло прыгнул? Я у него кое-что оставил.
– Что оставил?
– Развяжи, покажу. Подымемся и возьмем. Это ж на тебя телегу катят. Шляпа с кляпом. Мне что? Мне сказали, я сделал. А на тебя телегу.
– А если не успеем? Ты сам говоришь, за мусорами старая побежала. Кстати, как это она тебя?
– Да вот так. Кликнула, я сдуру подошел. А она из-под стола ноги-то вытянула, да вокруг моих, как капканами. А потом как дернет. Я затылком и грохнулся. Хорошо вот на ковер на этот. А если б на мрамор?
– Молодец старушка. Так вас, фраеров, и учить надо. Ну, а если все-таки не успеем?
– В этом подъезде есть много ходов.
– Подземных, что ли?
– Всяких. В смысле возможностей. Второй раз я на эту овчару не вылезу. Не боись, прорвемся. А если сейчас у Марло не побываем, гляди…телегу на тебя катят.
Алекс на всякий случай похлопал «хорька» по бокам и спине. Пушки, разумеется, у того уже не было. Старушенция, видно, на это место тоже не из балета пришла. Без пушки «хорёк» был не опасен. Алекс начал развязывать его руки, прикрученные к спинке стула.
10
Олег Воронов, как и обещал трем рассказчикам, добре угостил их в ближайшей кафешке. Мужчинки закосели и поплыли, как от выпитого, так и от цен на то, чем их угощали. Воронов, разумеется, никакого даже подобия допроса не устраивал. Он знал, как это делается. Он просто пустил беседу, как бутылку по кругу. Просто дал им высказаться. Возбужденные подвыпившие мужики, да еще пережившие некое подобие приключения, разумеется, должны были все припомнить. Да не по одному разу. Его дело было только сидеть и вслушиваться, просеивая словесную шелуху, намывая, как старатель, крупицы истинной информации.
Поэтому он и сидел, как бы немного отстранясь от веселящейся троицы, больше общаясь с официанткой и вдумчиво, равномерно выпивая и закусывая.
Основная картина сегодняшнего «приключения», случившегося с тремя заслуженными алконавтами, была ему ясна. Но оставались два вопроса. Во-первых, с чего это вдруг капитан Петухов выступил явно не по делу, то есть доставил троицу не в отделение милиции, а к следователю Никонову, где с них был снят явно неформальный допрос о неком Марло? А во-вторых, почему, чуть ли не сразу, некто побежал из скверика вслед за капитаном, отправившимся домой? Что за спешка такая возникла, чтобы немедленно, явно без всякой подготовки, попытаться вывести капитана из игры? То есть какая такая игра возникла в те двадцать-тридцать минут, что капитан вез их на рафике обратно в сквер и после того как они благополучно заняли свое место там, в теплой компании?
И поэтому Воронов как бы нехотя, как бы только из вежливости участника выпивки, бросил: «Ну, следователь-то темнила. Сам не знает, чего хочет. А капитан-то на обратном пути душу не мотал? Сузил он, таким образом, несколько чрезмерно разгулявшийся разговор, как бы опять теряя к нему интерес. Стал поглядывать на дамочек за соседними столиками.
Достаточно ведь задать тему для разговора. А теперь можно и просто послушать. И наконец, среди сбивчивых восклицаний и полупьяной словесной каши мелькнуло, а потом и несколько раз было повторено ключевое слово: Григорий. Он же Гриша-маленький.
Воронов почти не сомневался, что в действительности речь идет о неком здоровенном детине, потому что он знал этот юморок, присущий дворовым и околопивным компаниям, называть малышом, карапетом, недомерком как раз самого высокого в компании. Ну что ж, если это так, то тем легче будет определить в сквере этого Гришу-маленького.
Оказалось, что капитан на обратном пути вовсе не мотал им душу, а, наоборот, они сами все время втягивали его в разговор, не в состоянии справиться с возбуждением после допросов. Апеллировали к нему, как бы к третейскому судье, почти как к своему. Все-таки капитан милиции был им понятней и ближе, чем следователь прокуратуры.
Вот они и цеплялись всю дорогу к Петухову и изгалялись уже над следователем за пережитые страхи.
– Нет, ты подумай, кэп, вот же баран упертый, следователь этот. Мы ему толкуем: Марло неделю назад заделали, а он химичит, что прошлой ночью.
– Да откуда вы-то знаете? – поинтересовался Петухов.
И мужики за столиком Воронова снова мучительно вспоминали, от кого первого они услышали об убийстве Марло. И опять выходило, что первым это шепнул тому и другому именно Гриша-маленький.
Ну а уж потом, через пару-тройку дней, эта версия, расцвеченная, как и всегда, на Смоляге самыми невероятными подробностями и объяснениями (зарезала любовница, перестарались крутые за невозврат кредита и тому подобное), стала считаться общеизвестным фактом. Тем более что Марло действительно последнюю неделю в скверике не появлялся. А уж под конец появились и те, кто «шли за гробом».
Воронов только усмехнулся, так как прекрасно знал и эту категорию халявщиков, которые «шли за гробом» Гурченко, Магомаева, Пугачевой и других знаменитостей, неизменно оказывавшихся потом в полном здравии.
Но это выяснялось потом, а на момент обсуждения очередной сплетни полет фантазии придавал халявщику некоторую значительность, а значит, и обеспечивал дармовую выпивку от слушателей.
– Ну, а когда вас высадили? – небрежно подправил разговор Воронов.
А когда их высадили, они, разумеется, тут же стали центром внимания досужих дегустаторов жигулевского. Стоял там и слушал их и Гриша-маленький.
И они и ему, как перед этим Петухову, пожаловались на барана-следователя. Такой баран, что не очень и копал насчет нестыковки в дате убийства. А вот капитану они в рафике точно изложили, что произошло оно неделю назад и что первым сообщил это им он, Григорий.
– Ну и чего? – как бы окончательно осоловев, процедил Воронов.
– Да ничего. Шебутной этот Гришка. Подвздернулся чего-то и сканал. Побежал куда-то. Даже пиво не допил. Выплеснул полкружки на землю и поканал. Мудрила, мети его.
Через десять минут Воронов уже подходил к скверику. Фонарь над входом в пивную, несмотря на то что стояли самые светлые вечера в году, уже горел молочно-розовым светом.
11
В этот вечер служащий среднего звена Представительства ФБР в Москве Чарльз Харт принимал в своей московской квартире гостя с родины.
Собственно говоря, Харт был не служащим среднего звена, а офицером высокого ранга, правда, в штате не ФБР, а ЦРУ. Но об этом факте не знал даже резидент ЦРУ в России.
Разумеется, резидентура не могла не воспользоваться таким идеальным опорным пунктом, как официальное представительство ФБР, и свои люди у нее там были. Но Харт среди них не значился. Аэродромы и ракетные шахты, уровень шума атомных подводных лодок и даже карьерная возня в российском генералитете – все это было не по его части. В течение года своего пребывания в Москве, Чарльз пытался выработать общие оценки ситуации в том специфическом, глобальном направлении, которое интересовало некоторых руководителей Хэритидж Фаундейшн – Фонда Наследия, а также не имеющего ясных конституционных полномочий, но по общему убеждению всемогущего Совета по внешней политике. Вероятно, были и другие организации и даже частные лица, «пользователи» или абоненты подобных разработок. Но, подходя формально, это уже не касалось «генерала по особым поручениям» Чарльза Харта. И тем более прибывшего к нему на замену, на время его отпуска, майора Роберта О’Брайена.
Майор, как они и договорились во время межконтинентального телефонного разговора, прибыл по его московскому домашнему адресу прямо с аэропорта Шереметьево. Встречать его Харт посчитал излишним. Не было под рукой свободного доверенного человека.
– Как доехали, майор? – спросил Харт, вскинув на собеседника выцветшие голубые глаза, почти под цвет голубой же, тщательно отглаженной рубашки.
– Ужасно, – несколько растерянно буркнул О’Брайен, садясь в мягкое кресло, стоящее около круглого низкого столика резного коричневого дерева.
– Что так?
– Триста долларов. Вы представляете? О меньшем никто из таксистов и говорить не хотел.
– Не надо было бриться перед посадкой, Роберт. Неуместен и запах одеколона. Туфли, когда вы шли по аэродрому, тоже следовало бы… хм, подзапылить. Короче, у русских есть чудесная пословица: «Будь проще, и к тебе потянутся люди». Кстати, точный ее смысл на английском – невыразим.
– И тогда?
– В лучшем случае – двести баксов. Но уж меньше – ни-ни.
– Они что? Да ведь за такие деньги в Нью-Йорке…
– Совершенно верно. В нашем благословенном Нью-Йорк Сити за три сотни вас могут покатать аж на вертолете. Да еще полную кабину мулаточек насажать, чтобы вы не очень тосковали по утраченным деньгам.
– Но почему тогда вся Москва не занимается частным извозом? Ведь это здесь, как я понимаю, не запрещено?
– А зачем? Здесь каждый дерет, оставаясь на своем месте. Взгляните. – Харт отодвинул занавес. – Видите, налево наискосок, посреди сквера летнее кафе? Надо сказать, все там неплохо; удобные столики и стулья, цыганская музыка, масса зелени. Но мне противно платить им каждый раз по пять долларов за чашечку слабого кофе. И еще доллар – за стакан хорошо разбавленной минеральной воды.
– Пять долларов? Но почему?
– Свобода, друг мой. Русские понимают это буквально. А теперь, кстати, пройдитесь по квартире. Вам же здесь жить.
Трехкомнатная квартира, которую арендовал Харт, находилась в торце пятого этажа в доме так называемого сталинского типа, в переулке рядом с площадью Маяковского, ныне Триумфальной. Это были весьма поместительные, капитальные апартаменты с высокими потолками, десятиметровым холлом и двумя балкончиками, с наполовину обвалившейся штукатуркой. Итак, квартира была просторна и основательна, но это только по российским, а отнюдь не по штатовским стандартам. О’Брайен быстро обнаружил слабый напор воды в ванне, закопченный угол потолка на кухне прямо над газовой колонкой, неподогнанность дверей между комнатами, из-за которой они не могли как следует плотно закрываться.
– Ну, что вы скажете?
– Да в общем-то для одного человека – довольно уютно.
– Э, нет, майор. Я неправильно поставил вопрос. Вы знаете, сколько я плачу за эту квартиру в месяц?
– Долларов восемьсот?
– Вы ошиблись ровно на тысячу. Здесь, кстати, любят ровные цифры. Так что привыкайте округлять. Привыкайте считать на сотни, тысячи и так далее. Мелочиться здесь не принято. Итак, я плачу за эту уютную, как вы справедливо заметили, но совершенно допотопную берлогу одну тысячу восемьсот американских долларов. Каково?
– Но… мистер Харт…
– Чарльз, Бобби, мы не в конторе.
– Я слышал, Чарльз, что в Москве можно снять квартиры с европейским уровнем комфорта.
– Разумеется, можно, Боб. И даже именно здесь, в самом центре, как нам с тобой удобно. Три тысячи долларов. Ты меня понимаешь?
– Три?
– А то и четыре. И даже пять. А от таких цен даже бухгалтерия нашего ведомства начнет потеть. И заикаться. Я уж не говорю, что на такую расточительность начнут коситься наши же «коллеги», наши скромняги из эф-би-джи.
Харт плеснул в оба бокала виски, зацепил никелированными щипцами из красного ведерка несколько кубиков льда и опустил их в желтоватую, чуть маслянистую на вид жидкость.
Оба мужчины снова опустились в кресла и одновременно взяли в руки бокалы.
– Итак, О’Брайен, – майор отметил про себя перемену в обращении и стал собраннее, – за ваш приезд.
Они отхлебнули виски, поставили бокалы на стол.
– Вам здесь жить почти два месяца, если не произойдет ничего чрезвычайного. В этом случае я, разумеется, немедленно возвращаюсь к вам.
– Почему вам противно платить пять долларов за крошечную порцию плохого кофе, Чарльз? – спросил улыбающийся, румяный толстячок О’Брайен. – В Штатах, помнится, мы встречались с вами в нескольких компаниях, и там вы не производили впечатление прижимистого человека.
– Хороший вопрос, Боб. Я скажу тебе так, что это потому же, почему ты закричал здесь, как ошпаренный, про свои триста баксов, на которые тебя нагрели, а прямо сказать, ограбили в этом их Шереметьеве. Именно потому, что эти товары и услуги не стоят таких денег. Не стоят и половины.
– Рыночная экономика, сэр. Свободные цены – фундамент свободы вообще.
– Перестань трепаться, Боб. Через час мы расстаемся, и значит, у нас мало времени. Дрянные или пусть даже среднего качества итальянские туфли, которые по всей Италии, а значит и Европе стоят тридцать-сорок долларов, здесь красуются в витринах за сто пятьдесят, двести, двести пятьдесят. Ну и так далее. Я же тебе говорил, здесь считают сразу через сто. В крайнем случае через пятьдесят. Ты знаешь, что такое валютный коридор?
– Его ввели год назад. Согласно ему, обменный курс доллара в рублях не может превышать определенную сумму. Пять тысяч двести, по-моему. Или что-то в этом роде, с какими-то мелочами.
– Точно. Теперь смотри, что происходит. Невероятно высокие цены в долларах на все: товары, услуги, недвижимость. По некоторым позициям в два, три и более раз выше, чем на Западе. Москва стала одним из самых дорогих городов мира. А за счет чего, ты мне скажи? Здесь что, все самое первоклассное? Отнюдь. Так себе. Есть похуже, есть получше. Да и в основном все импортное.
– Вот именно, Чарльз. Высокие таможенные пошлины заставляют импортеров накручивать цену.
– Не тасуй, Боб. Не обходи углов. Какие таможенные пошлины платит тот водила, который ободрал тебя в Аэропорту? Или хозяин этой квартиры? Или хозяин вон той кафешки, который растворяет для меня растворимый кофе, купленный им в соседнем магазине?
– Это мелочи. Каждый, наконец, крутится как умеет.
– Да наплевать мне на этих крутящихся. Пусть себе крутятся хоть на собственных яйцах. Но это не мелочь, Боб. В городе оборачиваются миллиарды баксов.
– В Нью-Йорке не меньше.
– Правильно. Но Нью-Йорк – это столица мира. Место, где эти баксы и печатаются. И где они стоят твердо и вертикально. Как наши небоскребы.
– Но что тебя так волнует, Чарльз? Кажется, наша сфера – безопасность. А не финансы.
– А вот что меня волнует, мой мальчик. Доллар атакован здесь, в этом Третьем Риме, как они называют свою Первопрестольную, с двух сторон. Во-первых, повторяю, это чрезмерно, неоправданно высокие цены. Но это только во-первых. А во вторых, валютный коридор. Смотри, что получается. За год инфляция рубля составила тридцать-сорок процентов. Некоторые насчитывают до пятидесяти и более, но пусть, возьмем по минимуму. Итак, за истекший год рубль на треть подешевел. А обменный курс?
– Практически остался тот же. Весь год колыхался плюс-минус двадцатъ-тридцать рублей.
– И что же это означает, майор?
– Это означает, сэр, что и доллар за год подешевел на ту же треть.
– Нет, ты представляешь, Роберт, что сотворила эта загадочная русская душа с нашим родным зеленым баксом? Во всем мире доллар как стоял, так и стоит. Колебания курса на доли процента не в счет. Во всем мире, Роберт! Но только не здесь, где мы с тобой сейчас беседуем. Только эти загадочные русские ухитрились опустить наш родной американский доллар на треть. И ты спрашиваешь, почему мне противно?
– Но что это означает, сэр?
– Это означает, парень… Нет, ты задал не тот вопрос. А тот звучит так: кому выгодно?
– По-моему, никому.
– Слабо сказано, Боб. В стране сотни, если не тысячи долларовых миллионеров. Есть уже и миллиардеры. Ты представляешь, как ощущал бы себя Рокфеллер, если бы обнаружил, что за год его состояние уменьшилось на треть?
– Представить себе это невозможно, сэр. Но ведь инфляция доллара состоялась, так сказать, только здесь, в России? А самые крупные капиталы новых хозяев России, как известно, обретаются в западных банках. С ними-то ведь ничего не случилось?
– Не совсем так. На Западе осело несколько сот миллиардов. Но и здесь их не меньше. Если не больше. И именно из-за здешней дороговизны и загадочной долларовой инфляции их ввозят в страну все больше и больше. Русские националисты поднимают в прессе великий плач и стенания. Как же, из страны уходит валюта, Запад жиреет на наших деньгах. Но кто считал, сколько их ввозят сюда? Зелененьких, новых, хрустящих? С металлической полоской. Стодолларовых. А ведь их везут, Роберт, мешками. Ящиками. Грузовыми отсеками самолетов.
– И здесь… все эти упаковки хрустящих банкнот худеют за год на одну треть?
– Если не на половину.
– Вот теперь, сэр, я вынужден повторить вслед за вами: кому выгодно?
– Тому, кто затеял недоброе, мой мальчик. Тот, кто не уважает доллар, тот не желает добра Соединенным Штатам. Да и всем нам, гражданам свободного мира.
– Новые хозяева России добровольно обесценивают свои состояния? Невероятно.
– А вывод, Роберт? Ну же, вывод?
– Это делают не они. Это делается или само собой, или теми, кто работает против них.
– Очень хорошо, майор. Пятьдесят на пятьдесят. Это уже кое-что. Первая часть ответа – в самую точку. Это делают не они. А вот вторая… не совсем так. Точнее, совсем не так. Само собой, конечно, такие вещи происходить не могут. Твой ответ: те, кто работает против новых русских богачей. Но кто бы это мог быть, а, Роберт? Националисты или, как тут говорят, патриоты, пока от принятия реальных решений отстранены.
– Тогда кто же?
– Я же тебе сказал: те, кто не желает добра Соединенным Штатам. Или, по крайней мере, абсолютно равнодушны, абсолютно не принимают во внимание интересы Соединенных Штатов. Те, кому безразлична судьба доллара, а значит, и судьба всей западной цивилизации.
– И кто же они?
– Вот чтобы найти их, мы с тобой и находимся здесь, Боб. Давай-ка набросаем портрет этих людей или организации. Одним словом, попробуем определить, чем этот субъект не является, – сказал Харт, делая ударение на частице «не». – Но сначала попробуй вот это. – Харт достал из бара бутылку водки «Кутузов» и налил граммов по пятьдесят в две тонкие рюмки с золоченым ободочком по верхней кромке. – Виски, Боб, это, конечно, для нас, англосаксов, святое, но местный климат, если не сказать география, удачнее монтируется с водкой. Оцени сам.
О’Брайен оценил, и, судя по удовлетворению на лице, оценка его оказалась весьма высокой. Затем, кинув в рот пару орешков из вазы, стоявшей в центре столика, спросил:
– И чем же этот субъект не является, сэр?
Харт уже не настаивал, чтобы его называли непременно Чарльз. Он и сам обращался к собеседнику то так, то эдак, что свидетельствовало о том, что беседа по-настоящему захватила его.
– Сначала определим, что такое субъект, – начал генерал неторопливо с некоторым лекционным оттенком интонации. Мы, например, представляем интересы субъекта, который мы же называем западной цивилизацией. Вот такие люди, как мы с тобой. И еще другие парни, там, в Штатах. И иногда, а лучше бы, конечно, регулярно, нам необходимо беседовать, кое-что обсуждать с ответственными представителями другого субъекта.
– Канал связи?
– Совершенно точно.
– Но, Чарльз, вся история двадцатого века или уж, по крайней мере, история сосуществования России с Америкой, ясно свидетельствует, что такие контакты имели место.
– Ясное дело, Боб. Но сейчас пошла мутная волна. И многие карты исчезли. А те, что остались, сильно перемешаны и изрядно затерты. Не различишь туза от шестерки.
– Но, сэр, в Библии говорится; что было, то и будет.
– Тебя интересует, что и как было? По-разному было. У Сталина, например, был один грузин. Мог регулярно бывать на Западе, так как официально числился сотрудником Внешторга. Не имел ничего общего с ведомством Берии, с нелегалами и тому подобное. Это был абсолютно законспирированный, личный человек Сталина. Это и было то, что ты называешь канал связи. Были и некоторые звезды русской эмиграции. Эстрада, балет, театр. Через них мы и чувствовали субъект. Куда и как далеко он готов идти. А иногда удавалось и кое-что скоординировать. Согласовать.
– Но если вы не ощущаете сейчас дыхания этого субъекта, Чарльз, это может свидетельствовать и не об отсутствии канала связи.
– А о чем же?
– О том, что субъект дышит через раз. Или через два. А может, и вообще при последнем издыхании. Вы же сами знаете, что сейчас в России: спад в экономике, в военном строительстве, потеря баз и союзников.
– Меня не интересует, майор, при последнем они издыхании или предпоследнем. Меня интересует безопасность Соединенных Штатов. Безопасность, а говоря вполне строго, перспективы выживаемости свободного мира. И мне не нравится, майор, что в Москву везут столько долларов, где они почему-то тут же обесцениваются. Хотя это вроде бы никому и не выгодно. Мне непонятно, как могут происходить вещи, которые никому не выгодны.
– Значит, существует…
– Вот-вот, так что не будем трепаться, Боб. Значит, существует субъект, на который мы никогда не выйдем через этих треклятых новых русских. Эти треклятые новорусы – просто религиозные фанатики. Для них доллар – абсолют. Они верят в него, как другие веруют в Иисуса и Магомета. Верят в его вечность и бесконечность. Они имеют траст, Роберт, доверие. И значит, не опасны Западу, даже если примутся строить по десятку авианосцев в год. Сук, на котором уселись, не рубят. На Бога не замахиваются.
Харт вытер тончайшим платком вспотевший лоб, поднялся из-за стола и, расстегнув пиджак, засунул руки в карманы брюк. Прошелся до окна и обратно к столику. Дернул кольцо на банке с колой и сделал несколько глотков. А затем, нацелив указательный палец правой руки в узел на галстуке О’Брайена, продолжил:
– Но есть и неверующие, Роберт. По-нашему – нечестивцы. Они лишены траста по отношению к доллару. И хотят, чтобы веры лишился и остальной мир. Здесь, в Москве, они затеяли игру в девальвацию нашей святыни. А что там у нас, в западных банках? Здесь крикуны из оппозиции заходятся воплем, что вывоз капитала обескровливает Россию и обогащает Запад. Но кому принадлежит этот капитал?
– Новорусам?
– Сколько шли к своим первым миллиардам наши Морганы и Дюпоны? Десятки и сотни лет. И вы верите, что эти новорусы в десятки и сотни раз гениальнее их?
– Ни в коем случае, сэр.
– А значит, это не владельцы. А всего лишь распорядители. И если триллион долларов в одночасье будет изъят из западных банков и если вспомнить о триллионном внутреннем и внешнем долге правительства Соединенных Штатов, то это может означать настоящий, а не предсказанный трепачом Шпенглером, закат западной цивилизации.
– Но кому это выгодно, Чарльз? Всеобщий хаос. Мир, как всеобщая Чечня или Афганистан. Колумбийская мафия, как всемирное правительство. Ха-ха. Кому это нужно?
– Разумеется, Боб, никакой мафии тут ничего не светит. До хаоса не дойдет. Произойдет просто религиозная реформация. Смена богов. И нужно это тем, у кого есть иной бог, кроме доллара, и другой субъект, кроме Запада. И этот субъект шевелит угли здесь, в Москве. И мы должны, мы обязаны с вами, Роберт, выйти на этого субъекта. Чтобы по крайней мере понять, чего он в точности хочет и как далеко зашел. И правильно ли все рассчитал. Потому что не только Америка у нас одна, Боб. Но и Земля у нас одна. На всех.
Раздался телефонный звонок.
Харт взял трубку и сказал:
– Да, благодарю. Я спущусь к машине через полчаса. Нет, подниматься не надо.
О’Брайен понял, что пора переходить к третьей части разговора, и спросил:
– Что у вас есть, Чарльз? Вы мне что-нибудь передаете?
– Есть такой человек, – ответил Харт уже вполне хладнокровным, четким тоном. – Мартин Марло. Мы знакомы с ним почти десять лет, но за это время состоялось всего несколько встреч.
– Это то самое? Человек, с которым можно говорить, а не только договариваться?
– С одной стороны, да. С ним действительно можно говорить. Собственно, именно это и происходило во время встреч. Мы что-то спрашивали, и он отвечал как находил нужным. Иногда что-то спрашивал и он. Мы тоже старались не разочаровывать его. Иногда после наших бесед внешнеполитические ведомства предпринимали некоторые неожиданные для широкой общественности ходы. Разумеется, прямой связи установить здесь невозможно. Но по времени получалось именно так. Одно происходило после другого.
– Так это и есть настоящий субъект? Ответственный представитель? На что же вы жаловались, генерал?
– Я же сказал, оно вроде бы и так. Но только похоже. Только с одной стороны. А с другой… он очень странный тип, этот Марло. Много лет он ведет беспорядочный образ жизни. Беспощадный бабник. Кумир профессионально пьющей Москвы. И все это как бы даже напоказ. Да и странно все это, учитывая масштаб личности.
– И каков этот масштаб?
– Немалый. Может, даже выдающийся. И этот Марло, прекрасно подготовленный во многих областях профессиональной деятельности, шатается со случайными людьми по центру Москвы, по пивным, кабакам… Кстати, у него интересные родственные связи. Очень разветвленные и неожиданные. Можно сказать, родовые корни. Впрочем, не будем сейчас тратить на это время. Прочтете в досье.
– У вас есть объяснения всему этому, Чарльз? Хотя бы для самого себя?
– Мне кажется, что он, безусловно, представляет какую-то группу. Скажем так, группу с серьезными субъектными потенциями. Доказательство этому в том, что после наших бесед в мире что-то происходило. Но вот то, что он столько лет шатается на виду у людей, как бы без дела… Вы уж меня извините, майор, но здесь уже что-то на грани мистики. Такое впечатление, что он и сам ищет выхода на неизвестную нам структуру.
– Как я свяжусь с ним?
– А вот мы сейчас прямо ему и позвоним.
12
Если вы потерялись, встречайтесь у фонтана в ГУМе. Если вы нашлись, встречайтесь. Лучше всего – в пивной. А самое верное – в пивной на Смоленской. У всех, встретившихся там, жизнь пройдет легко и безоблачно. Под общим наркозом трагического московского неба, по вечерам расцвечиваемого сполохами неостановимого будущего. Будущего для всей планеты.
Как написал один московский математик и поставил эпиграфом к топологическому трактату, содержание которого могли оценить во всем мире несколько десятков, максимум несколько сотен человек:
На ветках темноты Сирень твоих галактик.А в сквериках московских располагались юноши с горящими взорами, а также мужчины с пивными кружками. С ничего не дающими практически, но многочисленными и неожиданными связями, нерешаемыми проблемами и увеличенной печенью.
Один такой скверик, например, располагался перед классическим зданием бывшего МГУ, на бывшем проспекте Маркса, рядом с бывшим зданием посольства США. На нем несколько послевоенных десятилетий, в перерывах между лекциями, до и после экзаменов собирались именно юноши со взором горящим. Некоторые из них становились впоследствии послами, министрами и даже президентами. А некоторые другие – членами самой законспирированной организации в мире, как услышал однажды Воронов в хмельном, хвастливом разговоре, – ЦК ВЛКСМ.
– Потому что никто не знает, – продолжил его собеседник, оборачивая в шутку свою мысль, – чем они там занимаются. Даже они сами.
Словом, в этом скверике заваривалась каша.
А в другом скверике, на Смоленской, варился компот. Если прямо сказать, не бурда. Но кто знает, до чего дошли подлюги-химики в своих скрытых от гнева народного лабораториях? И что именно научились они выпаривать из такого многолетнего настоя, из смеси дешевого портвейна, заношенных носок и неоплатных, перекрестных долгов? «Мутанты смотрятся в кристаллы, – бормотал себе под нос Олег, – и им открыто будущее. Смерть, тоска и тлен. И разрушение городов. А значит, и государств. Ну, это мы еще посмотрим».
Он уже ходил кругами вокруг темного мужского гульбища в скверике, взяв в подвальчике для отмазки кружку пива и время от времени лениво отхлебывая из нее. Почему он не дома? Почему не послал по следу ребят из своего Управления? Может быть, ему все это снится? Этот невероятный город, его карьера с вертикальным взлетом, он сам, молодой, красивый, атлетически сложенный. Холостой. Его сегодняшняя встреча с Риммой. Ему нравилось, когда девушки из «его круга» вели себя с ним, как самозабвенные, простодушные потаскушки. И уж, войдя в раж, могли, оказывается, дать сто очков форы натуральным потаскушкам. А еще он знал, что у Риммы есть муж, по фамилии Никонов и по профессии следователь.
Олег остановился около шахматистов, расположившихся на скамейке, и кучки болельщиков, вгрызавшихся в воблу с не меньшей яростью, чем в обсуждение позиции на доске. Судя по репликам, заключались и небольшие пари, в пределах бутылки вина, на исход партии.
Олег подумал, что неплохо бы снова позвонить своим. Он предпочел взять свежий след и теперь, похоже, мог вот-вот схватить за заднюю ляжку неувертливого зверя. Но все дело, в самих истоках своих, завертелось вокруг какого-то Марло. А фамилия-то редкая, если не сказать – диковинная.
Хорошо, если имеются два-три человека таких по городу. А то и вовсе один. Марло. Действительно, колдун какой-то. Почти Мэрлин. Король пропойц и нищебродов. Но уж, по крайней мере, телефон его и адрес, если таковые существуют, определить не составило бы труда.
И тут кусты, сзади скамейки с играющими, раздвинулись, и из-за них, на высоте чуть ли не двух метров, высунулась голова местного Кинг-конга. В Олеге и самом было сто восемьдесят два сантиметра и девяносто два килограмма. Но при одном взгляде на небольшую круглую головку, с птичьей резкостью и проворством поворачивающуюся на длинной жилистой шее, на руки, перевитые лианами мышц, полковник как-то сразу ощутил, что он не при оружии. Да к тому же благодаря – и еще как благодаря! – Римме последние двадцать четыре часа он практически не спал.
И все-таки это он – хозяин Москвы, он загонщик. А иначе все теряет свой смысл. И вкус. И цвет. И он не отвел глаз, твердо встретил цепкий, предельно настороженный и жесткий взгляд этого мужика-гориллы лет тридцати и понял, что это и есть Гриша-маленький. Полковник обошел скамью и, проходя мимо гиганта в расстегнутой до пупа красной рубашке, как бы про себя проговорил:
– Да, был Марло, да весь вышел. Он бы в такой позиции долго не думал.
Гриша опустил свою ладонь-сковороду ему на плечо и слегка развернул к себе:
– Ты чего-кому? Он же только в карты. Ну? Ты откуда, пончик? Он же в дерево не играл.
– Играл не играл, а он и сейчас любому здесь фигуру вперед даст, – попробовал вывернуться, как попроще, Олег.
– Сейчас? Нет, ты откуда? Что-то я тебя здесь раньше не видел. Сейчас он, знаешь, что может дать? – начал было Гриша-маленький, но, еще раз встретившись взглядом с Олегом, что-то про себя быстро решил и резко замолк. И, так же резко отвернувшись, снова шагнул в кусты.
«Уйдет, – мелькнуло у Олега в голове. – И если останется жив, то по городскому адресу его уже не застанешь. И разговор интересный не состоится».
Воронову ничего не оставалось, как двинуться вслед за Гришей, который размашистыми шагами уже топал, не оглядываясь, вниз по переулку, круто сбегавшему к набережной Москвы-реки. Но, не выходя на набережную, он свернул в проход между домами. Олег нырнул за ним. Красная рубашка маячила метрах в двадцати впереди него.
«Объявилась красная свитка», – не к месту вдруг вспомнился Олегу вечно загадочный Гоголь. Ощущение нереальности усиливалось палевым цветом закатно-подсвеченных облаков, кирпичной пыльцой, казалось, растворенной в воздухе этого вечернего пространства. Идущий впереди как бы запнулся, как будто что-то он там искал на асфальте, за мусорными баками. Пространство было ограниченным, проход заканчивался тупиком. Олег увидел это, продолжая по инерции сближаться с остановившимся громилой. А тот уже развернулся навстречу преследователю, и в руке у него оказалась металлическая палка. Металлическая дубинка. Прут. И преследователь понял, что роли могут поменяться. А пожалуй, уже и поменялись. Гриша-маленький, стало быть, знал, куда он шел.
Воронов не успел принять никакого решения, а металлический прут, со свистом рассекая воздух, уже заплясал в руке приближающегося к нему человека.
Психологическая атака? Отступить, то есть, попросту говоря, сбежать, он всегда успеет. Путь за спиной открыт. Значит, тот именно этого и хочет. Отпугнуть. Кыш, нечисть вынюхивающая. Вали, откуда пришел.
– Ты чего? Стой, дурной, – бормотал Олег, как бы разогреваясь внутренне, уже пятясь, уже отскакивая на полшажочка.
Но Гриша работал молча, как дровосек или косарь очищая взмахами металла пространство вокруг себя. Свистящая, пляшущая палка как бы сбивала молоко воздуха в густую сметану абсурда и страха и несколько раз со скрежетом задела кирпич боковой стены и асфальт, который еще разделял двух гладиаторов.
«Ничего не говори. Не отвлекайся, – приказал себе Олег. – Этот перешарашит не задумываясь. Вот так он, наверное, кинулся и на Петухова с женой. Ничего не объясняя. Ну что ж, есть и такой стиль. Надо снова выскочить из загона в переулок. Там другие правила игры, и придется махать прутом с разбором, чтобы не задеть прохожих».
Олег уже выбирал момент, чтобы повернуться на сто восемьдесят и сразу разорвать дистанцию хотя бы на пять-десять метров, чтобы его не настигли одним прыжком. Ведь у «малыша» наверняка есть и нож.
Но в это время взбесившийся лесоруб остановился и засмотрелся на что-то поверх головы Олега. Довольная ухмылка раздвинула его губы под висячими усами. Он коротко свистнул, так, в полсилы, явно не для привлечения внимания, а только как бы подтверждая уже установленный с кем-то визуальный контакт.
Олег скосил глаза и успел заметить, как из раскрытого окна на втором этаже, чуть сзади него, метнулась вниз громадная тень. Раздался звук приземлившегося тела, не так, чтобы очень жесткий, – наверное, спрыгнувший был одет в кроссовки. Олег моментально прижался спиной к стене дома, чтобы держать в поле зрения и того, и другого. В глазах у него не двоилось, но перед ним теперь их стало двое. Почти одинаковых. Тот же рост, сложение, та же красная рубаха, расстегнутая до пупа. Только у первого на ногах были черные запыленные туфли и в руке прут, а у второго действительно кроссовки, и обе руки он вытянул вперед и вверх, растопырив пальцы, как бы нащупывая горло, нос, глазные яблоки Олега, прижавшегося к нагретой за день кирпичной стене.
– Давай, братка, придержи фраерочка, – приговаривал Гриша, снова как бы на пробу взмахнув пару раз прутом.
Братка находился от Олега чуть дальше и пока оставался на месте, изгибаясь и раскачиваясь, как кобра. Но он загораживал спасительный путь к выходу из тупика. Теперь уже речь не шла о том, чтобы отпугнуть. Братаны, эти «веселые ребята», как называют иногда в народе кровавых работничков, вышли на расправу.
Кинуться на второго и опрокинуть? Нет, даже если такого и сшибешь, что само по себе сомнительно, все равно случится заминка. А сзади Гриша настигнет в секунду.
Прямо над Олегом висела пожарная лестница, но последняя перекладина отстояла от земли метрах в двух с половиной. Олег оттолкнулся от асфальта и повис на ней, раскачиваясь, как еще не вспоротая сосиска. Он уже, подтягиваясь, выбросил вверх правую руку и ухватился за вторую перекладину, но тут же ощутил острую боль в голени левой ноги. Это Гриша, в красивом посыле, с оттягом, достал его, наконец, своим металлом. Брючина была рассечена, и на асфальт капала кровь. Олег ухватился второй рукой за вторую перекладину. Второй удар, скорее всего, решит дело. Олег висел лицом к стене, и прямо перед собой увидел мрачное, непроницаемое от грязи окно. Что за ним? Не все ли равно? Он сделал мах назад и на возвратном движении ударил в окно обеими ногами. Стекло посыпалось вниз. Братаны, защищаясь от него, вскинули руки над головой. И это позволило Олегу выиграть время для второго маха назад-вперед. В высшей точке амплитуды он разжал руки и полетел ногами вперед в темный провал. Рухнул на пол среди каких-то досок. Комната оказалась нежилой. То ли это было служебное помещение, то ли здесь продолжался безнадежно затянувшийся ремонт. Олег кинулся к двери и, не задумываясь, дал по ней плечом. Смешной крючок соскочил с петель, и дверь распахнулась. Олег побежал по изломам запущенного коридора и после третьего поворота наткнулся на окно с уже выбитыми стеклами. Окно выходило на набережную. Он выпрыгнул из него и оглянулся по сторонам. Да что же это такое? Из подворотен справа и слева снова появились двое в красных рубахах. Похоже, они вовсе не считали, что птичка выпорхнула из клетки. Прохожих было совсем немного, и они скользили мимо с какими-то незаинтересованными, отрешенными от мелких дрязг лицами. Ждать, чтобы, как в старом добром телесериале, в последний момент из-за угла появится наряд милиции, было бы просто наивным. Олег, лавируя между машинами, перебежал к набережной и, подволакивая разбитую ногу, быстро зашагал к мосту. Взбежал по каменной лестнице вверх и по узкой полоске, оставленной для пешеходов, пошел через мост по направлению к площади Киевского вокзала. Загонщики чуть поотстали, они были от него метрах в сорока сзади, но шли уверенно, не спуская глаз с него, как бы не сомневаясь в своем праве на продолжение охоты.
На мосту ждать помощи не приходилось: не докричишься, не дозовешься. Превозмогая боль в ноге, Воронов ускорил шаг. Наконец, он спустился с моста на площадь, где шел-кипел всеукраинский торг знаменитым украинским салом во всех его видах и сочетаниях. Мужики сзади подтянулись поближе, и Воронов понял, что и вся громада торгующего народа ему не подмога. В суете и гаме еще, пожалуй, легче, чем на открытом пространстве моста, можно было незаметно сблизиться с ним и нанести несколько быстрых ударов. И так же быстро раствориться в толпе. И тогда он, уже не рискуя задерживаться, чтобы углядеть милицейский или военный патруль, побежал между палатками и уличными торговками. По шуму сзади себя он определил, что преследователи ломились прямо за ним. Перепрыгивая через тюки и ящики с товаром, он выбежал на перрон и на первом же пути увидел электричку, которая, судя по электрической дрожи, сотрясавшей ее, уже готова была сорваться с места. Олег сумел взять себя в руки и, приняв независимый вид, пошел вдоль вагонов. Вагонные двери должны были вот-вот захлопнуться, но он изготовился вскочить в них именно в последний момент, чтобы те, двое, за спиной, не успели среагировать и сделать то же самое.
13
Виктория Николаевна Рейнгольд была недовольна собой. Все зашло слишком далеко, это она поняла еще ночью, вернее под утро, когда узнала о смерти Мартина. Но еще дальше зашла она сама. Точнее, дошла. Дожила. Потеряла контроль над собой. Называется, нашла к кому обратиться. Нечего было вмешивать сюда никакого Петю Никонова. Что она могла от него узнать? И даже более того, что она хотела узнать? Разве не был предуказан ему такой позорный конец еще в самом начале? А если так, то что она узнала нового под утро от литератора Герба, многолетнего собутыльника Марло? Она предчувствовала такой конец, так как знала, что никто не позволит Мартину занять то место в семье, на которое он мог бы претендовать по своему рождению.
Мало ли кто и на что может претендовать в нашем мире. На красивых женщин, например. Или на контроль над страной и миром. На бессмертие, в конце концов. Но все это упирается в одно и сводится к одному и тому же. К возврату старинных прав. К их предъявлению в некий подходящий для этого момент. Марло убили, и это означает только то, что подходящий момент приблизился. Или вообще уже наступил.
После того как зять, с непонятной своей, неизвестно к чему относящейся ухмылкой, передал ей кассету с записью сегодняшних допросов и удалился на «семейную» половину дачи, Виктория вставила пленку в магнитофон и прилегла на широкую, низкую тахту, как будто собираясь слушать классическую музыку. А после окончания прослушивания она пригорюнилась еще больше. Поспешность и непродуманность ее действий представились ей теперь в еще более резком свете. То, что хотя бы с натяжкой можно было отнести к информации, сводилось к путанице с датой убийства и к странноватому факту, что ни для одного из трех допрошенных сам предмет разговора не явился неожиданностью.
Разумеется, лапоть Никонов ничему этому не придал значения. Ну, да уж это – за что маменька с доченькой в свое время ухватились, то и получили. А Шерлоков Холмсов нам, как принято думать, не надо. И что же теперь? Уж не обратиться ли к этому…как бишь его, сочинителю Гербу? Нет уж. Может, он в своей области и большего стоит, чем Петр в своей. Но тем более она не могла задать, возможно, и сообразительному, но ничем не связанному с семейством человеку те вопросы, которые ее действительно интересовали: кто и за что убил, и чем это угрожает Рейнгольдам, Марло, Бестужевым-Рюминым и некоторым другим фамилиям. Может быть, даже тем, которые основательно забыты здесь, но неожиданно весомо звучат теперь там. За океаном.
Внизу, сначала в саду, а потом на веранде, послышался голос вернувшейся дочери. Известно, от кого вернувшейся. Отсюда и стремительность походки, и спокойное дружелюбие к ньюфаундленду Рексу. И мысли Виктории приняли новое направление: может быть, красавец полковник и есть тот человек, который ей нужен?
Признать, что он уже как-то связан с ними? А как воспримет это он сам?
Часа через полтора должны начать собираться «старшие». Обсудить предстоящие похороны. Смысл их общей потери. И общего им вызова. Мартин хотел сыграть в одиночку. Независимо от «старших». Они не правы, конечно, что так хладнокровно наблюдали все эти годы за его фантастической попыткой. За попыткой реализации его фантастической идеи спонтанного поиска следов Училища.
Он еще подростком впервые высказал родне, то есть «старшим», на первый взгляд, совершенно дикую мысль, что свободный поиск, то есть обмен судьбы на негарантированный результат, есть единственная возможность снова выйти на Наставников, связь с которыми была утрачена Семейством десятилетия назад, аккурат с началом Великой американской депрессии.
А пока можно и действительно послушать классическую музыку. Что-нибудь вроде реквиема по грандиозной неудаче столь многообещающей когда-то жизни Мартина Марло.
Впрочем, его смерть, возможно, указывала на то, что он находился вблизи какой-то сверхчувствительной точки. Быть может, рядом с удачей? Неужели Мартин мог вот-вот установить утерянную связь?
Бокал крымского портвейна и несколько арий из Стабат Матер Перголези – вот ее программа на ближайший час. И никаких пока Римм, Петь, красавцев полковников и безобразных видений насильственной смерти. А впрочем, чем лучше естественная?
Когда несколько лет назад они обсуждали с дочерью, оправдается ли ставка на молодого Никонова, Римма удивила мать хладнокровным вопросом: «А что, другой избавит от смерти? Или хотя бы от старости?»
Вечная жизнь. Это ли не вершина и единственная оправданная цель могущества? Власти и денег? Демос никогда не мог понять, к чему столько усилий? Почему элиты снова и снова затевают смертельную борьбу за, казалось бы, бессмысленное наращивание того и другого? Для чего ввергают себя и народы, страны, империи в неисчислимые беды и испытания, никогда не в состоянии остановиться, удовлетвориться тем, что уже имеют?
Испокон веков все это неистовство объяснялось только одним: алчностью. Бессмысленная в своей неутолимости жадность, бесконечная в буквальном, то есть физиологическом, смысле слова жажда богатства, ну и, разумеется, всего того, что к нему прилагалось. Вот это все лежало на поверхности, все это действительно имело место быть. И поэтому-то всем этим легко и просто, а главное, вполне логично объяснялись безумные потрясения и страшная борьба в мировой истории.
Но была всегда и еще одна цель: бессмертие. Жизнь вечная и бесконечная. И не та, что обещал сын плотника. Вернее, не так, как он заповедовал, а реально достижимая. Не постом и молитвой, верой неугасимой да подвигами отцов-отшельников. А на путях магии и личного сверхчеловеческого могущества, чем владели в свое время не только жрецы, но и цари.
Как все это далеко. И недостижимо. А может, никогда и не было. И тем не менее поискам контактов с Наставниками, верить в существование которых в определенных кругах считалось хорошим тоном, посвящались большие усилия и значительные материальные ресурсы.
Правда, в глубине души Виктория считала все это чем-то наподобие клубного устава. Она знала, что, как и сегодняшние, многие поколения мужчин из «этих семейств» ставили себе некие сверхзначимые цели, грезили наяву, что, впрочем, нисколько не мешало им в решении сегодняшних, вполне рациональных и осязаемых проблем. А коли так, туманные намеки на былое могущество родов и династий и на возможность однажды вернуть утраченное, играли в реальности даже некоторую положительную, системообразующую роль. Эти разговоры и «озабоченности» старших, сплачивали и давали особую марку средним и младшим. У Рейнгольдов и Марло, Багратов и Хрущевых, Белоозеровых и Голенищевых, кроме их реальных активов, кроме недвижимости и сокровищ и даже кроме их связей и влияния в среде современной мировой финансовой олигархии, оставалось и кое-что про себя. Кое-что про запас. Как бы только для внутреннего употребления.
Но в каждом поколении случался и перебор, свой анфан терибль, «ужасное дитя», слишком всерьез уверовавший в реальную достижимость высшей цели. Воспринимавший ее не как идеальную точку схождения в бесконечной исторической перспективе, а как задачу собственной жизни.
Именно таким был и Мартин Марло. И если его угробили не за просто так, по пьянке или по недоразумению, – а предположить это было для Виктории трудно, так как она прекрасно знала не только ледяное самообладание этого «гуляки праздного», но и его выдающиеся психо-физические данные, – так вот, если не это, то что же?
Конечно, она «доложит» все своим мужчинам. Им и решать, следует ли открывать расследование и кого к нему привлекать. Ее собственный поспешный ход в этом направлении следует, пожалуй, считать и последним.
Еще один бокал Пино-Гри из Коктебеля. Старый друг лучше новых двух. А вот Стабат Матер Долороза уже слишком истончает нервы. Нет, Мартин ушел не просто так. Уж скорее бы по-явился на свет внук.
Пусть хоть от этого полковника, что ли. Если уж с безотказным Петенькой что-то не заладилось. И почему-то мысли пустились в ту область, относительно которой она всегда считала себя спокойной. А что она оставит внуку? Не считая, разумеется, самой фамилии. Что конкретно?
Вот эту дачу – точнее, комплекс дачных и хозяйственных строений – на громадном участке, подлинники импрессионистов и передвижников, камешки… Вроде бы неплохо. Все это может служить куда дольше, чем портреты бесчисленных президентов на быстро ветшающих банкнотах. Если… Если только не меняются правила игры. А эти правила меняются не чаще, чем раз в тысячелетие. Но что, если ее внук, а он ведь будет ангелоподобным, не иначе, что если он подгадает появиться на свет Божий именно в тот момент, когда Бог решит поставить на этой планете новую пластинку.
Когда Римма полчаса назад заявилась к мужу, то застала его в меланхолии и нелюбви к жизни и самому себе. Он начал было жаловаться на нелепое и не совсем ведь законное поручение, которое дала ему сегодня утром Виктория, но не был выслушан. Вернее, выслушан он как раз был, но не только без участия, но, как казалось, даже и без понимания. Жена и не подумала присесть рядом с ним и вникнуть в его проблемы. Вместо этого она непрерывно расхаживала по комнате, что-то снимала с себя и тут же примеривала что-то другое, взятое наугад из шкафа. Кажется, она даже освежила подмышки и виски духами, он не очень-то приглядывался к ее манипуляциям. Наконец она подошла ближе к мужу и взглянула ему прямо в лицо. «Ты нужен мне», – сказала она ему, и все было решено, по крайней мере в данном случае, потому что она тоже была нужна ему.
Но слышал он от нее подобное совсем нечасто.
Он смутно, или даже не очень смутно, ощущал связь между состоянием, в котором она иногда возвращалась домой, и словами, которые она тогда произносила.
Да, Римма и на этот раз осталась верной себе. Ведь она никогда не выражала своего приступа как-то иначе, но только так, коротко и ясно: ты нужен мне, и было в этом что-то даже не физиологическое, а прямо медицинское.
Сорвав с него всю одежду, она толкнула его на разобранное ложе и обрушилась вслед за ним, с невероятной скоростью достигнув пика возбуждения. И если бы ее сейчас мог видеть ее недавний партнер, он был бы удивлен и, может быть, даже озадачен ее страстью.
Затем она села рядом с мужем, закурила сигарету и спокойно сказала:
– Да, ты, кажется, вляпался в гребаную историю.
Петр промолчал.
– Ты хоть знаешь, кто такой Мартин?
– Кто?
– Двоюродный племянник Виктории.
– Алконавт. О чем здесь говорить?
– Нет, ты употребляешь не те слова. Но это долго, пожалуй, объяснять. А что тебя беспокоит в этой истории?
– Почти ничего. Петухову не могу дозвонится. Кэпу, который привозил и отвозил эту троицу.
– И не звони.
– О чем ты? Разве ты его знаешь?
– Нет. Зарезали твоего кэпа. До смерти или нет, не представляю. Но… в реанимации.
– Ты… откуда взяла?
– Я от знакомых сейчас. Им и сообщили. По телефону.
– Что же теперь будет, Римуля? Ведь начнется расследование.
«Ага, – подумала про себя жена, – вот я уже и Римуля. Здорово же ты струхнул, парень». Подумала, впрочем, без всякого злорадства. А муж уже вскочил на ноги, подошел к столику у окна и налил в стакан коньяку.
– Легко ведь установят, – продолжал он, – что у последнего он был у меня. А может, Римма, может… это… связано? Вдруг эти трое… Они же его и… Да ведь тогда дисциплинарное взыскание – это мелочь.
– Ах, как же ты прав, Петр Степанович Никонов. Как же ты в данном случае прав. Но не точен. Может оказаться так, что в данном конкретном деле дисциплинарное взыскание – это меньше чем мелочь. Это ничто.
– Что же будет, Римма?
– Что будет в точности, того мне знать не дано, как ты понимаешь. А предположить я могу и такое: после Мартина мы все можем быть уничтожены. Все сразу или по очереди, этого я, опять-таки, сказать тебе не могу. Ну что, не жалеешь, что женился на мне?
– …И с этого момента, – говорила Виктория по телефону Валентине, – Никонову поздно раздумывать, правильно ли он поступил, женившись на Римме. Я сама, своим идиотским поручением, сделала его настоящим, можно сказать, неотъемлемым членом семьи. Как ты не вовремя закрутила с этим… как его…
– Алексом, Виктория Николаевна.
– А, ну да. Куда же это все идет, Валечка? И когда уже мужики угомонятся? Что наши, что другие.
– Алекс как-то связан с этим делом. Он скоро должен быть у меня. Если хотите, то пусть Петр Степанович подъедет ко мне. Здесь он может поговорить с Алексом и что-то для себя выяснить. Может быть, все еще поправимо.
– Нет уж, Валентина. Хватит с нас Петров Степановичей. И все, конечно, поправимо. Кроме глупости и смерти. С этим всем пусть уж другие разбираются. А нам свое бы сохранить. А ты вот что, Валя, ты от нас-то не отбивайся.
– Этого нет, Виктория Николаевна. И быть не может.
– Ты ведь для нас как член семьи. А если что в прошлом с моей стороны неправильно было…
– Перестань, Вика. Я не слушаю.
– …то это лишь по любви. Ты не думай, что я только от испуга к тебе кинулась. Я ведь давно хотела восстановить… Чтобы все, как прежде. А ведь ты знаешь, что ты для Риммы… И почему вы так отдалились друг от дружки? Ну, Бог милостив, еще все будем живы-здоровы, пронесется-развеется, Валечка, верь старухе. А кто старое помянет… А ты бы переезжала на лето к нам. А может, и прямо сейчас? Повидайся со всеми – и к нам.
– Тьма и мрак сгустились над Эльсинором, – нараспев, внезапно повеселевшим голосом, продекламировала Валентина. – Приеду, передай Римме, чтобы ждала. Сегодня в ночь или завтра утром.
14
– Ты знаешь, что такое Дирекция по Эксплуатации Высотных Зданий? – так начал свою речь «хорёк», когда они с Алексом снова оказались в квартире Марло. – Причем, заметь, все слова с заглавной буквы.
– Давай знакомиться, что ли. А то мы с тобой никак не расстанемся, – сказал Алекс, усаживаясь в кресло около столика, на котором стоял простенький, то есть одного из первых выпусков, персональный компьютер. – Зовут меня Алекс. А по профессии я научный работник. Что-то в этом роде.
– А по батюшке? Батькович?
– Можно хоть и так. Я круглый сирота с детства.
– Ну, Батькович, резину не надо тянуть. Она у меня и так вся перетянута. Знакомиться, значит, говоришь? Ну, добре. Виталий Емельянович Карнаухов.
– Виталий, вот ты и скажи, что ты тут делал, когда меня оглушил и затащил?
– Не прыгай, Алекс, куда Макар телят не имел. Рассупонься. Я ведь, когда ты меня развязал, мог сканать. Там, в холле-то. По суслам, и будь здрав.
– Чего ж не сканал?
– А пустое это для меня теперь – бегать. Я, как поручение получил, так уж это понял. Только я думал, они деликатность хоть какую проявят. Ну там, сколько-то ден теребить не будут. А я бы за это время кого-чего надумал бы. А они вишь, как взялись. Вынь да положь Карнауха на брюхо.
– А что я?
– А это мы еще поглядим, как оно и зачем. Я, к примеру, человек обреченный.
– Так уж ложись и помирай?
– Не, зачем же? Я в нелегалку ухожу, понял?
– Никак нет, не понял. Это как же, в леса, что ли?
– Ты знаешь, кто самый сильный?
– Слон, – с готовностью ответил Алекс.
– А в Москве?
– Мэр, а потом слон.
– Вот и слушай сюда. Управление по Эксплуатации Высотных Зданий. Причем заметь, как я тебе уже сказал, все, вплоть до точки, с прописных. А то все разбухались, кого не спроси, гэбэ да гэбэ.
– Да оно сейчас вроде на три шайки разделилось.
– Так вот я тебе и толкую, кто над Москвой, тот и Рассею-матушку вразумляет. А кто над центром Москвы, тому танки на окружной – по шестям и в трефах.
– А кто над центром Москвы?
– Я же тебе в третий раз разъясняю: Управление. Точка. И я в нем работаю. По сей день, чтоб ему пусто.
– Что тебе поручили? И о какой телеге, которую якобы на меня катят, ты там внизу бурзорил?
– Ана! Пляжу-жу-жу. Не вынес, Батькович, в ментовщину попер? Что поручили? Пойдем до Марло, покажу, если не нервный. Оно же и телега.
Двое странно говорящих мужчин, стараясь почему-то ступать аккуратнее, снова подошли к трупу. Карнаухов выпростал изгвазданную рубаху Марло из брюк и слегка завалил тело на левый бок. Обернулся на Алекса и кивнул ему: «Давай, чего стоишь? Не для тебя, что ли?»
Алекс подошел, наклонился и на правом боку, чуть повыше печени, заметил на теле Мартина мелкую, размером с двухкопеечную монету, но удивительно четкую метку. Как бы паучок-иероглиф, нанесенный лучиками-шрамами.
– Что это? – спросил он Виталия.
– Тебе лучше знать. Еще и меня научишь, – ответил тот и с нескрываемым отчуждением посмотрел вдруг на Алекса.
– Где-то я это видел, – поежился тот, чувствуя неприязнь Карнауха, – но где и когда…
– Во-во! Не помню, не бывал, не участвовал. Думай, тебе говорят, а не то нам обоим амба.
– Это и было твоим заданием?
– Оно же и телега. Они же знали, что именно ты подойдешь к квартире. Тебя и ждать наказали. Глушани, говорят. Ну и вот эту херовину нанести ему на тело велели. Формочку вот дали.
– Какую формочку?
– По размерам такая же вот как след этот. С одной стороны выпуклость…
– Где она, формочка?
– Я ее должен был внизу швабре этой отдать. Так договаривались. Я и отдал. А она меня сразу после этого и подсекла. Тут я и понял, что нам с тобой в друганах надо ходить. А иначе кранты. Причем заметь, репа немытая, кранты обоим.
– А при чем тут она?
– Так она же служит где? Отвечаю: у нас же в Управлении.
– Здесь всего двенадцать этажей. Какая же это тебе высотка?
– Объясняю для дефективных: финансирование для Управления записывается в бюджете отдельной строкой. И выполнялось всегда, от усатого до меченого. Выполняется и сегодня. Все безотказно, понял? А где у нас безотказно? Наверху. Наверху хорошо? Не то слово. Всем хочется? Всем. А удается? Кто умеет. Вот жильцы этого дома и сумели. А знаешь, где такой вопрос решается, о включении в список зданий, состоящих на обслуживании в Управлении? Раньше, к примеру, такое могли решить только на политбюре, не ниже, заметь. Так что и сам Гришин со своим горкомом и Промысловым, решить такой вопрос сами для себя не могли. Тут надо было голосование всей шайки. А у них ведь как? Одни хочут, а другие в аккурат не желают. Так что для некоторых домов и в политбюро-то вся шайка по третьему кругу повымирала, а вопрос все не решался.
– А как с этим домом? – спросил Алекс, подойдя к окну и, раздвинув занавеску, поглядывая на дом Валентины, как бы ожидая оттуда некоего чудесного сигнала. То, что рассказывал Карнаухов, было ему интересно и, вероятно, имело какую-то связь с персональной ситуацией Алекса.
– А вот с этим домом все как по хрустам по хрустящим. Для такого дела, где только предварительных инстанций, начиная с Моссовета, три, да ты пойди их каждую пройди, не говоря уже о четвертой, об этих гребаных директивных органах, и на все это про все – всего полгода. Причем заметь, что никакие войны и революции и никакие вихри враждебные ничего здесь не отклоняют. Даже когда меченый дела волейбольщику сдавал, ты думаешь что, они все о кнопке этой барабонили, которая в чемоданчике этом? Вот все о списках таких, как по нашему Управлению, это они и утрясали.
– А ты как будто сидел там с ними, – не выдержал Алекс.
– А мне и не надо. Я и без того внутрях, можно сказать, не мене четвертака оттянул. Инспектор по этажам и оборудованию – слышал такое? Какие возможности, Алекс! Какая житуха! Если бы ты только представлял! Если бы хоть кто-нибудь представлял!
– Значит, и этот дом входит в сферу твоей деятельности?
– Я же тебе говорю, Алекс, ты пойми, ты только вдумайся, и тебе все станет ясно. Да ты хоть понимаешь, что сейчас неважно, к примеру, кто ты и что. Но если ты живешь в доме, включенном в наш список, то все, с тобой все ясно. Ты человек. Да квадратный метр при купле-продаже в этих домах знаешь сколько стоит? Да что я тебе говорю, парч непонятный, когда адмиралы, ты понял, когда аспада енаралы и адмиралы строят себе замечательные дома, это да, это они могут. А вот включить эти охренительные домины в наш список – кишка тонка. Во всяком случае лет семь-восемь поборитесь. А то и поболе. А эти… хо-хо мохер. Полгода – и в дамах.
– Виталий, ты мужик хоть куда, согласен. И ты рассказал мне замечательную историю о некотором царстве-государстве под названием Управление, которое держит центр Москвы, держит космос и Землю, а уж гэбэ по сравнению с ним…
– А что ты думаешь, Алекс? И для них есть квоты на включение их домов. И попробуй превысь. А они знаешь как хотят? И все равно – свой срок отдай, не греши. Да и не каждый объект благополучно втирают. А некоторые дома лет по двадцать по кругу финтярют, да так и затирают. И ведь жильцы там, посмотришь по списку, академики да резиденты в отставке. Не абы кто.
– Я же тебе и говорю, что я не спорю. Ты – инспектор, а значит, величина немалая. А кто же тебе дал такое поручение? Кто припер самого Карнаухова, инспектора?
– Инспектор по этажам и оборудованию. А есть еще по кадрам. По складам и подземке. Ты знаешь, какая там подземка, Алекс? Какие там склады? И при этом в самом центре города. Ты представляешь, какие это возможности?
– Ты не отвечаешь на мои вопросы. Может быть, ты кого-то ждешь?
– Дай мне выпить, земеля, дай мне выпить. И Карнаух тебе расскажет еще не то.
– Посмотри сам на кухне. Покойник этим не пренебрегал, отдадим ему должное.
– Карнаух уйдет в подполье, уйдет в нелегалку. У Карнауха есть куда уйти. А куда уйдешь ты?
– А куда все-таки уйдет Карнаух?
– Ты что, паря, ты чего рюмишь? Ты знаешь, сколько в этих высотках комнат, в которые никто не может попасть, если не знает? Сколько лифтов, которые соединяют только два кабинета, вверху и внизу? Сколько лесенок, упакованных наглухо в бетонных выступах, проходящих через все этажи. Да я тебе хотя бы про гостиницу «Пекин» могу рассказать, я там начинал, еще при Лёне незабвенном, когда он в самом соку был. Уж сколько лет прошло, а я тебе и сейчас скажу: не нашего это ума дело, и не наши люди это все соединяли и обманкой попутали. А может, и вовсе не люди, а марсиане какие, прости грешного и помилуй.
– Ты вот что, Тимофеич, ты и вправду хлебни чего. Может, и полегче тебе станет, чтобы ты сказал мне, чего тебе надо.
Тимофеич удалился на кухню, и вскоре вернулся, отпивая прямо из бутылки «Гратиешти» и крякая как бы от всего огорченного непонятной судьбиною сердца.
– Примешь? – протянул он бутылку Алексу.
– Чуток погожу. Так что там насчет «Пекина»?
– Пригласил я однажды под вечер корешка туда одного. Витьком звали, и там же он, на Маяковской, проживал. Это я тебе к тому, чтобы ты не подумал, что он лопухом был, Витек мой, мир праху его. Ну, насчет «Пекина», да еще при Лёне, ты и сам все понимаешь. Гостиница для иностранцев и знатных гостей столицы, это перво-наперво. Ну, проституточки недурные за столики к ним подсаживаются, швайцы из отставников-скуловоротов, ребята с Лубянки за всем этим благолепием отечески наблюдают, это уж непременно. Словом, все как положено и все при деле.
Ясно, что нашему брату, гулящему племени, особо прыгать было нечего. Но был там один чудесный бар. Это сейчас их, как кур в Аргентине, прости Господи. А тогда и само слово «бар» уже звучало чуть ли не подрывным лаяньем. А тут не слово, а реальный и уютный, и музычка, и стойка, и разноцветные бутылки в зеркалах. И самое главное, как раз он работал допоздна. И пригласил я туда однажды Витька. И что мы там принимали, точно я тебе уже не скажу, но только покрепче, понятное дело, чем вот это «Гратиешти».
– Не теряем ли мы время? – спросил Алекс, который, конечно, знал толк в «недеянии», согласно философии даосов, но не был уверен в ее полной применимости в некоторых специфических обстоятельствах.
– Ты что, баба? – неожиданно взъярился на него Виталик. – Попал – значит, не жужжи. Без нас разберутся. А пока мы в этом доме, кстати говоря, валить нас здесь не будут.
– Тогда, может быть, имеет смысл здесь и остаться?
– Во-во. Я же тебе сказал, у Карнаухова есть куда пойти. И где остаться. Ладно, даю схему. Короче говоря, Витек там чуть крышей не двинулся. («Нас тут не завалят, если верить этому орлу-оглоеду, – подумалось Алексу, – однако вот Марло почему-то завалили».) Принял он тогда, да нет, не скажу чтобы лишок. Принял обычно. И отошел отлить. Там это культурно, за бархатной портьерой, и все такое. Пошел он по коридорчику кафельному, да не туда свернул, не направо, допустим, а налево. Идет, а там не писсуары, а комнатки. Одна за другой, нет, ты понял, в натуре, в одной танцуют, в другой блефуют…
– А в третьей смеются и поют. Так, что ли? – жестко спросил Алекс. – Давай, инспектор, про суперпространства своих высоток потом расскажешь. А сейчас колись: ты чего ждешь? Чего лапшу греешь?
– Ты мне друг? – спросил Виталик.
– Товарищ, – усмехнулся Алекс, – по несчастью.
– Ладно, – как-то сразу перешел на сумрачный, сухой тон Карнаухов. – Все, что я тебе здесь плел, все, между прочим, по делу. В каждой высотке пять-шесть неучтенных помещений, это все только я знаю: коды, схемы подхода, это все, говорю тебе, только в этой башке. Ты что думал, в девяносто третьем, когда Руцкой с Русланом в Белом доме закрылись, ты этим журналюгам жлобиным поверил?
– В чем я им должен был поверить?
– Ну как же, это ж они расписали, какие, мол, идиоты в Генштабе засели. Совсем, мол, плохие ребята в лампасах. Не могут, мол, карту подземных коммуникаций Белого дома найти.
– А ты что скажешь?
– Да было у них всё, вот что скажу. И карты, и схемы, и хренемы. Да не всё на тех картах значится. А пропусти одну дверку в туннеле, под бетон заляпанную, – и пиши письма. Так и будешь всю жизнь ходить кругами под Москвой-рекой. И ребята в лампасах это знали. Знали, что без Инспектора по подземке все их карты – бутафорка дешевая. Разве что над шпионом, дурачком натовским, посмеяться, загнать ему по дешевке, баксов за сто, да пропить заодно с ребятами из контрразведки.
– Говори, кто тебе заказал метку на Марло поставить, и гуляй, Вася.
– Карнауховы мы. А гулять мне если сколько и осталось, то надо по-умному.
– Это как же?
– Это если ты меня в долю возьмешь… Чобы на живодерню не загреметь.
– Ну хорошо, ты предлагаешь мне нелегалку в роскошных, неучтенных и еще каких-то там чуть ли не заколдованных апартаментах. А, кстати, как там у тебя с питанием, продумано?
– Эка ты шебутной, Алекс. Слыхал такую поговорку: у моряка в каждом порту по жене? Ну, а у Тимофеича в каждой высотке по профессорше. Вдовой, конечно, али разведенной, на другой конец. На питанку поставят, не мни конверты, еще на такую питанку, что слезать не захочешь, что ты. А в долю ты меня возьми, это так. У тебя связи, грамотешка, ты к Марло близко подошел, тебе и кончать это дело. Не век же нам на нелегалке сидеть?
– Ладно, Карнаухов, насчет вдов профессорских, оставим пока в резерве, может, и придется еще исчезнуть в переходах твоих параллельных. А теперь давай-ка, первое и последнее: кто заказал?
– Скажу и укажу. Прямо подведу, если хочешь. Но это тебе мало радости: алкомор натуральный, передатчик фуфловый. Вот увидишь, к чему сведется: бутылку поставили и попросили, подойди, мол, к Тимофеечу и закажи, чего ему делать.
– За такие передачи можно ведь и зубов лишиться.
– Это так, Алекс, в таком деле всяко бывает. Но этот Гарик, это передатчика так Гариком кличут, знает он меня по пивнухе этой лет, чтобы не соврать, десять. Ну, то есть, много раз успел понять, что я до смерти не работаю. А только так, ну вот, как тебя по затылку погладил. А что касаемо зубов лишиться, да у Гарика там и лишаться особо нечего, так это за бутылку и рискнуть можно. За нее, родимую, на Смоляге еще не то вытворяли. А хочешь, прямо сейчас и пойдем. Он там, на скверу.
– Поздно уже.
– Чего поздно? Для Гарика скамейка в кустах – дом родной.
– Он что же, и дома не ночует?
– А чего там делать? – искренне удивился Виталик. – Ты же умный человек, Алекс, ты же можешь рассудить и сам. Ему дома нальют? Нет. А ночью, когда самое оно и подходит? Тем более. И не нальют, и на свободу не выпустят. Мол, подыхаешь, так хоть как человек, это они так считают, – как человек в своей постели и как отец семейства. А ночью-то, да на скверу – все угодья с ним. Кто-то из таксо вывалится без чувств, кто-то своим ходом доползет, время попутает, у третьего с бабой не лады, он и коньяк на груди принес. А Гарик спит чутко, ему без чуткости никуда. Горе-то размыкать и помогает людишкам. Ну, пошли?
– А он… выведет? На другого?
– А это уж как мы с тобой оперативку нашу засмолим.
– Так. И еще одно. Почему ты согласился?
– Кончай ментить, Алекс, я тебе добром говорю. Ты с трупом рядом сидишь, и полдома об этом уже знает. И на нем метка. Поставил я, но этого никто не видел. И формочки этой уже при мне нет. Отобрали заблаговременно. Ну, меня-то просто убрать решили, потому как я здесь, в этой истории, человек простой. Зашел, ему здрасьте, спасибо за визит – и по голове. А ты не то. На тебя это дело и выводят. А ты тут, понимаешь, просвечиваешь меня. Ну сделали, сделали мне предложение. Знали, за что хоботом зацепить. По дороге расскажу, если уж так тебе… А теперь пойдем, говорю. В ногах правды нет.
Надо было дойти до сквера, поговорить с Гариком. Причем сделать это как-то понезаметней, чтобы для Гарика, а может, и для всех троих, этот разговор не оказался последним в жизни.
Неплохо было бы и напиться. Впрочем, в присутствии покойника – это же кощунство.
В этом доме валить их не будут, как изволил выразиться Тимофеич. Но это не их дом. Чужой, за исключением того факта, что в нем проживал отличный мужик, Мартин Марло, погибший неизвестно за что. Что же погубило его? Пивная на Смоленской, к которой вроде тянутся некоторые нити, или тот факт, что он жил в доме, включенном в список до смешного всемогущей организации, Управления по эксплуатации? Алекс что-то читал про нее, кажется, только называлась она в статье не Управлением, а Дирекцией.
И тут раздался телефонный звонок.
– Ну, начинается, – тоскливо забормотал Виталик, – я же говорил, канать надо.
Как будто не он занимал эфир последние четверть часа.
Алекс снял трубку:
– Вас слушают.
– Мне нужен мистер Марло.
– А кто говорит?
– Я хорошо знаком с мистером Марло. Меня зовут Чарльз Харт.
– Добрый день, мистер Харт. Меня зовут Алекс, и я тоже хорошо знаком с Мартином Марло. Мне очень жаль, мистер Харт, но обстоятельства таковы, что я вынужден кое-что уточнить. Вы, насколько я понимаю, иностранец?
– Да, Алекс. Я гражданин Соединенных Штатов Америки. И я нахожусь в Москве по служебным обязанностям. Или, если это лучше выразить, нахожусь на службе у правительства Соединенных Штатов. Постоянное представительство ФБР в Москве – может, вы слышали про такое учреждение? Я – его сотрудник. Так могу я поговорить с мистером Марло?
– Я полагаю, мистер Харт, что это невозможно. Наш общий друг… его больше нет в живых.
– Как это произошло?
– Мне очень жаль, мистер Харт, но сейчас говорить об этом преждевременно. Сейчас обстоятельства его гибели выясняются.
– Вы сказали «гибели»? Так это убийство?
– Похоже, что так.
– Могу я чем-нибудь помочь?
– Весьма вероятно. Но сказать что-то конкретнее я пока не могу.
– Алекс, я потрясен смертью нашего друга. Мы должны сделать все, чтобы найти тех, кто пошел на это. Вы согласны со мной?
– Согласен полностью.
– Сейчас я должен поговорить со своими людьми. Мы свяжемся с вами через двадцать минут.
В квартире на Маяковской Харт опустил телефонную трубку.
– Роберт, я отменяю свой отпуск. Марло убили.
– С кем вы говорили?
– Пока ничего не знаю про него, кроме того, что он сказал сам. Мужчина. Назвал себя Алексом, приятелем Марло. И мне показалось, какие-то звучки там слышались, что он находился в комнате не один.
– Что вы собираетесь предпринять, сэр?
– Вы, разумеется, остаетесь в моем распоряжении, О’Брайен. Нам нужно выяснить некоторые вещи, причем делать это придется быстро. Первое: направлено ли устранение Марло против нас?
– А против кого же еще, Чарльз?
– Да хотя бы против той группы, которую он представлял на встречах со мной. Или против самого Мартина Марло персонально.
– Или против третьего лица или организации.
– Совершенно верно. То есть против кого угодно.
– Или чего угодно.
– Что ты имеешь в виду?
– Такие дела иногда совершаются, чтобы предотвратить какие-то события. Скажем, этот наш связной узнал или хотя бы мог узнать что-то важное. Допустим, встретиться с кем-то, кто мог ему это сообщить. И чтобы такая встреча не произошла…
– Это ясно. Теперь второе. Надо немедленно встретиться с этим Алексом.
– А если это ловушка?
– Мы не занимались никакой противозаконной деятельностью. Другое дело, что само наше присутствие здесь кое-кому не нравится. Но, как здесь остроумно говорят, Боб, я не девушка и всем нравиться не обязан.
– Мне кажется это опасным, сэр. Я имею в виду не опасность официального преследования. Но, как меня предупреждали в Штатах, сейчас в России многие предпочитают решать свои проблемы, не обращаясь к властям. И мы совершенно не знаем, кто такой этот Алекс и что он делает сейчас в квартире Марло.
– И мы не знаем даже, что в точности произошло с Мартином. Если уж говорить честно, Роберт, то ничего мы не знаем в связи с этим делом. Не знаем главного: что все это означает? Может быть, и ничего, кроме потери ключевого для нас связного. А может быть, это начало крупной и чрезвычайно опасной для нас операции. А поэтому у нас с тобой нет выбора.
– Ты вот что, Виталий, – сказал Алекс, закончив телефонный разговор, – ты устраивайся пока сам. Давай времени не будем тратить. Мне нужно пока побыть здесь. Позвони через час. Тогда и к Гарику, может, подскочим.
– А если тебе сканать придется? Сам видишь, какая раскрутка пошла.
– На этот случай запиши еще один телефон. Спросишь Валентину. Можешь ей сказать все, что тебе надо будет сообщить мне.
– Свою берлогу бабе расшифровать?
– Если тебе покажется, что она под контролем или вообще не она, или просто нюхом почуешь, что дело не чисто, говори на дурака, лишь бы мне передали.
– Это как понимать?
– Это чтоб никто не понял, а только тебе было понятно.
– Так ведь надо, чтобы именно для тебя.
– А я тоже постараюсь понять. Вникнуть, так сказать, в твою душу. Что ты имел в виду, когда всех имел в виду. Усек?
– Ладно. Я обозначусь. А ты не прыгай, пока старт не дали, А то затеяли эстафету, понимаешь, по прыжкам в ширину.
– Ты смотри там, инспектор, на выходе аккуратней.
– Эх, голубиная ты душа, Алекс. Да я через пять минут, ни в каком твоем холле не появляясь, уже из служебного подьезда МИДа буду выходить. Ну, прощевай покедова.
Алекс ждал звонка Харта, но первой позвонила Валентина.
– Мне звонили знакомые из-за города. Зовут к себе. Это, кстати, дальняя родня Мартина. Я у них и познакомилась с ним. Поедем вместе?
– Мне позвонил тут один иностранец. Говорит, что он из Штатов. И говорит, что дружил с Марло. Как ты думаешь, стоит с ним встретиться?
– Кто такой? Не Харт, случайно?
– Он самый.
– Однажды я присутствовала при их встрече в ресторане. Вроде мужик нормальный, без комплексов. Я, разумеется, выпивала и танцевала. Причем с обоими. Руки у Харта ничего, крепкие. Ну а в танце ему до Мартина, сам понимаешь, куда ж американу?
– Слушай, не могу вспомнить, где я мог видеть паучок такой на теле, с грошик величиной, из мелких таких шрамиков. Увидел на теле Мартина сейчас, на спине…
– У Мартина при жизни этой метки не было. Уж это я, как ты понимаешь, могу засвидетельствовать перед Богом и людьми.
– Это я знаю. Но где-то я ее уже видел.
– Встань к зеркалу спиной и подними рубаху. А теперь посмотри в зеркало через правое плечо.
Да, конечно. Это был точно такой же паучок. Впрочем, точно ли? Узор из шрамиков был слишком мелок и сложен, чтобы невооруженным взглядом можно было установить полную идентичность двух меток. Но вроде бы очень похоже.
Перед его взором как будто снова возникли та вишневая ауди и Наставник, почти шепотом говорящий: «Стартовый вариант: без денег и документов».
Разумеется, после того как его избили, на теле оставалось множество ссадин и даже рассеченных мест. Все это, впрочем, заживало своим чередом, и он не очень-то вглядывался тогда в разные там шрамики, тем более на таком не слишком удобном для осмотра месте. И все, конечно, зажило, да вот метка осталась.
Да, но что там продолжает говорить Валентина?
– Да, я что тебе звоню… Ты знаешь, что там у вас внизу произошло?
«Все, Карнаух спекся», – мелькнуло в голове у Алекса.
– Ты представляешь, вдруг милиция, скорая, я, конечно, спустилась вниз и разузнала. Убили консьержку. Прямо в холле. Но не стреляли, нет. Старухи говорят, каким-то зверским способом.
– Валентина… что же это? Так не бывает.
– Оставь на автоответчике для Харта мой телефон. А сам иди немедленно ко мне.
В холле никого уже не было. Никого не было и на улице, ни милицейских, ни медицинских машин, ни праздных зевак, обычно охочих до обсуждения подобных городских драм. Ему оставалось перейти улицу и войти в парадное дома напротив. Между прочим, вчера, вот так же, часом позже, стоял на этом же месте Мартин.
К Валентине он не мог зайти, потому что она только недавно объявила ему о разрыве и, конечно, обида еще не улеглась.
Марло пошел к проспекту, как сказала Валентина. А это значит, он перешел мостовую и двинулся налево. Метрах в десяти от парадного Валентины стоял киоск, работающий в ночное время. Там продавались табачные изделия и кое-что из спиртного.
Кстати, в пачке Алекса оставалось всего две сигаретины, и ему тоже не помешало бы обновить запас. Он подошел к окошку и протянул купюру:
– Две пачки «Космоса» с ментолом.
Сзади остановилась машина. Алекс, не оборачиваясь, услышал, как опускается боковое стекло, а затем раздался мягкий мужской голос:
– У вас зажигалки не будет?
Точно так же обратился к нему пару часов назад и «хорёк», то есть господин инспектор Карнаухов. Теперь, стало быть, следовало ожидать удара чем-нибудь твердым по голове.
«Не слишком ли однообразно», – подумал Алекс и медленно обернулся.
В иномарочном затрапезье, сильно смахивающем на фольксваген времен Третьего рейха, сидел румяный толстячок, неприветливо улыбаясь, помахивал пухлой кистью руки с незажженной сигаретой. Голубой, что ли? Не нашел ничего оригинальнее, чтобы заговорить? Вон же у него зажигалка, на панели управления.
– Чего надо? – грубо спросил Алекс, медленно подходя к автомобильчику и сидящему в нем толстячку.
Молодой здоровый киоскер, нарочито широко зевнув, уставился философски отрешенным взглядом в пространство перед собой так, как будто до самого горизонта не наблюдалось ни одного движущегося объекта.
– Вечер. Можно сказать, полночь. Видно, у вас кончились запасы? – еще более вкрадчиво почти прошептал ночной автолюбитель. – А у меня литровочка «Бифитера». Джин хорош уже тем, что его можно без закуски. Хлебнем по стакашку?
– Вы иностранец?
– Да. А как вы распознали? У меня же нет акцента.
– В России уже три пятилетки, товарищ шпион, говорят «махнем», а не «хлебнем».
– Вы быстро перешли от недоверия к юмору. Значит, вы уверенный в себе человек. И скорее всего, отправитесь сейчас на свидание к любимой девушке. Значит, говорите, махнем? Да, это звучит энергичнее. Садитесь в машину, в ногах правды нет.
«Ни Пионерки нет, ни Комсомолки», – продолжил мысленно Алекс и сел рядом с водителем.
Интересно, а далеко ли от ларька удалось вчера уйти Мартину? Они выпили из пластмассовых стаканчиков «Бифитер», и можжевеловый дух джина действительно вроде бы не требовал закуски. Алекс понимал, что толстяку что-то от него надо, но решил не облегчать ему задачу, а посмотреть, как тот подойдет к делу.
– Моя машина стояла вон там, – показал водитель рукой за спину.
– Что, у вас тоже свидание с любимой девушкой?
– Давайте, кстати, вернемся туда, а то продавец в ларьке уже, наверное, думает, что мы сговариваемся, как ловчее его ограбить.
Авто дало задний ход и метров через тридцать резко затормозило. Алекс отметил про себя совершенный автоматизм и быстроту, с которой водитель проделал необходимые манипуляции, и подумал, что его предположения о голубизне ночного пижона – слишком поверхностны и что, может, тот вовсе и не пижон.
– Я видел, как вы выходили из подъезда. А пять минут раньше здесь была милиция и врачи. Кого-то вынесли из подъезда и увезли.
– Да, я знаю об этом. Произошло убийство.
– Он тоже… местный жилец? Вы его знали?
– А с чего вы взяли, что это был он? И прежде, чем спросить, что значат все ваши вопросы, я все-таки разочарую вас. Это была женщина. И она не жилец этого дома. Впрочем, теперь уж и вообще не жилец.
– А вы? Жилец?
– Ну вам и не везет! Представьте себе, что и я не жилец этого дома. Но, как ни странно, пока еще жив.
– Хотите еще выпить?
– Это что, плата за то, чтобы я ни о чем вас не спрашивал, и продолжал отвечать на ваши вопросы? Но мне нужно другое. Ваш автомобиль и вы за рулем – на всю сегодняшнюю ночь. Ну и, разумеется, наличность, какая у вас есть с собой. Это, впрочем, только если потребуется.
– Круто берешь, ковбой.
– Я же вижу, что вам без меня тут не разобраться. А мне тоже предстоит этой ночью кое-что. И ваша помощь будет совсем не лишней.
– Итак, ты тоже не жилец этого дома?
– Так по рукам?
– Это само собой. Ты же выпил со мной джина, а я тебе его предложил. Что же нам теперь делить? Кстати, зови меня Боб, а я тебя буду звать Алекс. Так правильно?
– Если ты, Боб, догадался, как меня зовут, то ты наверняка знаешь, как зовут Харта.
– Конечно знаю, Алекс. Харта зовут так, как его называют его друзья и проверенные люди.
– Ладно, Боб, я вижу, что ты хоть и называешь меня ковбоем, но не уверен, крепко ли я держусь в седле. А ведь так дружба у нас не задастся. Ладно, Боб, хочешь я через минуту сообщу тебе не только имя Харта, но и твое звание?
– Хочу, Алекс, очень хочу. А вдруг меня уже произвели в пятизвездного? А я тут все с тобой сижу, суп варю.
– Есть у тебя в машине телефон?
– Обижаешь, ковбой. – Боб открыл панельку на приборной доске и достал оттуда трубку. Алекс набрал номер.
– Алле, Герб, я только что выпил «Бифитера» с одним парнем из Штатов.
– Если это близко от моего дома, – ответил литератор Герб, – то я могу к вам присоединиться. Надеюсь, ты для этого мне и звонишь?
– Попозже, Герб. Оно от нас не уйдет. А сейчас я близко от дома Мартина Марло. Звоню из машины этого штатника. Слушай, ты говорил, что на той неделе участвовал в какой-то клевой пресс-конференции. Что это за хретотень там была, ты мне не напомнишь?
– Да фэбээровцы из Постоянного представительства и наши соловьями заливались, какие они теперь друганы.
– То, что нужно. Там был такой Харт?
– А то. Чарльз Харт. Я к нему и после официальной части подошел. У него, как мне показалось, кругозор для ищейки как бы избыточный. Он мне, по итогам нашего разговора, дал свой телефон и заходить даже приглашал. Он квартиру на Маяковской снимает.
– Ну и как? Ты у него был?
– Да ты понимаешь, просто на пьянку как-то вроде неудобно напрашиваться. Правда, у меня тут один сюжетец наклевывается. Я ему позвонил, имею-де разговор и нуждаюсь в консультации. Но, к сожалению, дело не выгорает пока. Он сегодня в отпуск летит, а вместо него пока новенький, некто майор Роберт О’Брайен. Конечно, Харт разрешил мне, если что срочное, обращаться и к этому майору, но это ведь, ты же понимаешь, как говорят французы, фасон дю парле, не более. Что мне в этом майоре? Ты же понимаешь, мне с хорошим человеком хочется поговорить… А Харт, насчет виски, очень неслабый кадр.
– Все, Герб, пока. Остальное при встрече.
Алекс отдал трубку О’Брайену, закурил «Космос» с ментолом и сказал:
– Прости, Боб, за фокусы, но ты сам этого хотел.
– И что же я такого хотел?
– Ты же хотел узнать, как там твои дела? Докладываю. Пятизвездного ты еще не получил. Ты пока еще только майор, Роберт О’Брайен. А Харта зовут Чарльз. Ты удовлетворен?
– Но как ты это сделал, Алекс? У нас в Штатах, чтобы получить информацию об офицерах такого ранга…
– У вас в Штатах демократия развитая, а у нас – древняя.
– Все равно непонятно.
– У вас в Штатах «Вашингтон Пост», чтобы раскрутить Уотергейт, а у нас – пивная на Смоленской.
– Так бы сразу и говорил. А теперь, Алекс, самую чуточку поконкретней.
– Мой приятель, которому я сейчас звонил, пишет детективы. А так как демократия у нас очень древняя, то по старинному обычаю писателей у нас любят и уважают. На свой, конечно, на исконный лад. И поэтому время от времени приглашают их на разные встречи, задушевные, понимаешь ли, беседы с господами генералами, сыщиками и шпионами. Что же касается Марло, то он был бывшим любовником моей будущей жены.
– Как ты сказал? Бывший любовник будущей жены? Да если бы «Вашингтон Пост» не то что о Никсоне, а даже о майоре О’Брайене напечатал подобное, то все решили бы, что редактор сошел с ума или наборщик был пьян.
– И всех нас объединяет любовь к пиву. А его поглощение на открытом воздухе, в хорошей мужской компании является у нас процедурой инициации, то есть посвящения в разряд путевых мужиков.
– Как интересно, Алекс. Харт наверняка этого не знает. Я только что прибыл в Россию и уже смогу сообщить своему шефу кое-что новенькое. Путевые – это такое объединение людей, которые ходят по путям? Или сторожат вдоль дорог?
– В каком-то смысле, Боб. Впрочем, это слишком сложная категория для западного мышления. Чтобы понять это глубже, тебе просто надо познакомиться с некоторым количеством путевых.
– Как ты, например?
– Есть куда более путевые. С одним из них, кстати, нам неплохо было бы сейчас переговорить.
– Это далеко?
– Рядом. На скверике у пивной. Ты поедешь со мной?
– Мы же договорились.
– Но ты меня немного проверил, так ведь, Боб? По тебе я сразу увидел, что у себя в Штатах ты тоже считаешься путевым мужиком. Но один вопрос тебя не утомит, не так ли?
– Как можно, Алекс? Спрашивай, о чем только ты пожелаешь.
– За что твой шеф, Чарльз Харт, получает деньги в фэбээровской конторе? Объясняю вопрос, Боб, чтобы Бог дал столько здоровья твоему шефу, сколько нам с тобой еще распить «Бифитера». После звонка Харта я говорил с будущей женой, и оказалось, что она танцевала с ним однажды в ресторане. Затем я говорил с Гербом, и случайно снова оказалось, что он знаком с Хартом и даже удостоился приглашения к тому на квартиру.
– Хороший человек идет к хорошим людям. Мой шеф – очень хороший человек.
– Не сомневаюсь. Кстати, ты иногда выражаешься, как мафиози в наших телесериалах. Я думаю, что ты здесь ни при чем. Тебя, наверное, просто перекормили нашей киночернухой, когда готовили к командировке сюда. Но это к слову. А получается такая петрушка. Герб, Марло и я – все мы люди совсем другого плана, нежели тот, который должен занимать фэбээровца в Москве. Мы не связаны с организованной преступностью, не занимаемся сбытом или приобретением наркотиков или оружия, не отмываем грязные деньги. Что же вас интересует, тебя и твоего шефа? Разумеется, ты можешь ответить мне так, как сам сочтешь нужным. Но от этого зависит, будем ли мы сегодня ночью работать с тобою в паре. Или вообще разбежимся. Ты – чтобы писать отчет о проделанной работе. А я…
– Ага. Тебе нужны гарантии. Наши полномочия.
– Нет, Боб. Я повторяю, мы сидим с тобой в машине, и ты просто человек, который угощает меня выпивкой. И этого достаточно. Но через час мы можем лежать с тобой в кустах. Или лететь с двадцатого этажа. Или прыгать с парашютом. И я должен знать, чего ожидать от тебя. А знать я это могу только в том случае, если буду понимать, во имя чего вы действуете. Ты, Харт и те, кто вас послал сюда.
– Ты не боишься, что услышишь больше, чем… полезно для здоровья?
– Ты скажешь мне ровно столько, сколько необходимо, чтобы мы действовали заодно.
– Ровно иногда не получается. Ты начинаешь игру, Алекс, но ты ведь можешь и отказаться?
– Давай, майор, начнем с констатации простого факта: мы с тобой – граждане разных государств, и что хорошо для «Дженерал Моторс», то, конечно, хорошо и для Соединенных Штатов. Но запросто может быть неправильно понято в московской пивной.
– Ты знаешь, какой тормозной путь у крупного судна?
– У сухогруза «Петр Васев», говорят, был порядка полутора километров.
– Значит, чтобы избежать столкновения, необходимо вовремя установить связь.
– У Васева все время была связь с теплоходом, в который он врезался.
– Значит, капитаны не верили, что их суда могут столкнуться. Не верили информации, которую они получали.
– Таким образом, майор, встает философский вопрос: что есть информация?
– А никакой тут философии. Информация есть сведения, которым мы можем доверять. А доверять мы можем только тому, что приходит к нам от надежного источника. И по надежным каналам связи. А теперь представь себе, каков тормозной путь, какова инерция у государств, империй, цивилизаций? И в результате неправильной интерпретации событий они иногда ложатся на опасный курс, который может привести к катастрофе.
– Почему же им не объясниться напрямую, чтобы, так сказать, снять неправильность интерпретации?
– У правящих элит, Алекс, имеются сложные системы защиты, выработанные иногда целыми столетиями специальных усилий в этом направлении. Такие защитные пояса создаются именно для проверки всего, что приближается, в каком-то смысле, к ядру элиты. Прежде всего, конечно, для проверки информации и новых людей, которые несут в себе эту информацию. И наконец, давай поговорим о времени. Процедуры проверки, как ты понимаешь, весьма длительны и сложны. Значит, если нас что-то серьезно беспокоит, надо прежде всего выяснить следующее: от кого это исходит, и можно ли с ними договориться. Ну, или по крайней мере предупредить их, что все известно, и, следовательно, не пора ли угомониться.
– А что же у нас со временем?
– А со временем бывает нехватка. Допустим, нет надежного канала связи. А запускать новый нет времени. Проблему надо решать быстро, а чтобы пройти защиту других элит, нужно время, которого у нас нет.
– И вы надеялись пройти эту защиту с помощью Мартина?
– Йес, сэр.
– Значит, его убрали или из-за него самого, или чтобы лишить вас этой возможности?
– Похоже, что именно так, мистер.
– Ты сказал, Боб, что проблему надо решать быстро. Но забыл сказать, какую именно.
– Боюсь, что с устранением Марло в нашей колоде не осталось играющих карт. Придется идти вместе с вами по следу. Другого ничего нет.
– Ну так поехали?
– Он сказал: поехали? И чем-то взмахнул?
– Он сказал, а мы слышали. Трогай, Боб. А любящие нас девушки немного подождут.
– Как его зовут, этого, к которому мы едем?
– Гарик. Хотя что это означает и так ли это на самом деле, сказать тебе не могу.
15
Хороши летние ночи на запасных путях Курского вокзала. А чем именно они хороши, о том следуют пункты, о которых хорошо был осведомлен Саня Рашпиль, в миру, покинутом им лет пять назад, Александр Миронов.
Начинал он здесь с мелкого и нелегального поклева, с попыток подноса багажа. За что не раз бывал бит свирепым и решительным племенем официальных носильщиков. Саня рассудил тогда логично: ежели подносить багаж ему не разрешают, то стоит заняться просто его похищением.
Но не задалось и на новом трудовом поприще. Если его не хватали, не избивали и не вырывали все из рук прямо на месте преступления, то чаще всего где-то на темных путях, в глухом тупичке, как из-под земли возникали менты, и кончалось все тем же: его хватали, давали по ушам или ниже пояса и, конечно же, вырывали все из рук.
Но это было давно. А с того времени Саня Рашпиль сделал, можно сказать, солидную карьеру в Товариществе с ограниченной ответственностью «Курский вокзал и его окрестности». Теперь его больше не интересовали заманчивые – чаще всего только на вид, а не по своему содержанию – чемоданы граждан и гражданок, отбывающих на юга. А интересовали его вагоны, и при этом вовсе не пассажирские, прибывающие с югов, и частенько не идущие сразу под разгрузку, а загоняемые до лучших времен на запасные пути.
Лучшие времена наступали иногда прямо в первую же ночь стоянки. Правда не для вагонов, а для Рашпиля и его подручных. Вагоны вскрывались грубо или ювелирно, потрошились тотально или выборочно, стремительно или в течение нескольких часов, а то и нескольких ночей.
Ну и, разумеется, в зависимости от контакта или отсутствия оного с теми, кому по роду службы положено было бы пресекать подобные поползновения.
Сияла луна, и рельсы нежились в ее вызывающем сиянии. Так же сиял, а лучше сказать, сверкал вагон. И это происходило уже третьи сутки подряд. То есть вагон, весь из себя суперсовременный и сверхзащищенный, не то что опломбированный, это уж само собой, а еще и перекрытый внахлест рельсами капитального, во всяком случае недешевого, металла, третьи сутки стоял как бы бесхозный. Сутки Саню не очень и интересовали. Разумеется, для него значимым событием было то, что шикарный, посверкивающий в пепельных лучах ночного светила, загадочный, как марсианский аппарат, вагон оставался без присмотра вот уже третью ночь.
Это обстоятельство представляло как бы вызов или уж, во всяком случае, приглашение к размышлению. С одной стороны, то, что не обихоженное охраной вагонное чудо надо было брать, не подлежало сомнению. Но с другой стороны, Саня хотел еще пожить. Что греха таить, быть расстрелянным внезапными вспышками из ночной черноты никак пока не стояло в его жизненной программе. Как говорится, не о том кума хлопотала.
То есть вызов вызовом, но многое и настораживало. Ну допустим, вагонов таких он никогда раньше не видел. Стало быть, откуда такой появился? То, что с югов, это понятно, но откуда именно, и кто провел?
Лежал Саня в засаде и думал думу. Вызывать ли подручных? Что там внутри? Уже только вскрыть такой вагон – задача не из самых элементарных. Вскрыть. Проникнуть. Уже одно это – работа. Точнее, ее начало. А ведь если ты работник, а не гусар, то начинаешь только ту работу, которая исследована на предмет ее рентабельности.
А рентабельность почище той науки, имеет о-хо-хо сколько гитик. Бывает товар бросовый, но «обширный», из серии «таскать тебе, не перетаскать». Такой перетаскаешь и доставишь куда надо, а барыга отслюнит столько, что в аккурат на оплату грузовика да пацанам, которые на подхвате всю ночь крутились, еле хватит раздать, чтобы шпикачки под пиво зарубали. На таком товаре, стало быть, ни славы среди своих, ни монеты в карман не добудешь.
Есть товар, который легко брать, да трудно прятать. А прятать приходится. Потому что его берет не каждый. А тот, кто берет, говорит: подожди. Налички, мол, нет. Может, у него и есть, но он говорит: подожди – и будешь ждать.
Есть товар «острый». Самые тертые ребята предпочитают такой как бы даже и не замечать. Вскрыл тару, взглянул молча, да и пошел дальше по проходу шарить. Потому что если и брать остряк, то делать это надо быстро и скрытно, ничем не выдав себя напарникам. А далее ховать: тихо, далеко и надолго. И спокойно, через многие как бы незаинтересованные разговорчики, искать нужного тебе человека, выходить на приемщика. А такой образ действий не каждому по нутру, не каждому по возможностям.
И в конце, даже если сделал все правильно, то на встрече с приемщиком можешь получить не серебро в карман, а чуть тусклее – свинец под ухо.
Это только тебе кажется, что с остряком ты все сделал правильно. А на деле правы, как и во многих других случаях, оказывались именно самые тертые. И самым полезным для здоровья в конечном счете было бы вовсе не замечать такого товара. То есть в высокоэффективном хозяйстве, в недрах которого вот уже несколько лет подвизался Саня Рашпиль, действовали немногочисленные, но четкие правила техники безопасности, одно из которых гласило: работай только своего клиента, и встретишь спокойную старость. Ибо чаще не жадность фраера губит, а работа не по своему профилю.
Да впрочем, это ведь почти одно и то же. Жадность, неумение отказаться от случайно подвернувшегося, которое кажется ничьим, и надо быть дураком, чтобы пройти мимо.
И казалось Сане, что даже не зависимо от своей начинки, как бы уже сам по себе, всей своей мощной, литой статью, этот вагон относится к категории остряка.
Минут через десять за спиной Сани раздался голос:
– Ну, ты чего на него зыришь? Брать не хочешь?
Рашпиль вызвал для консультации Старшого. И уже первые его фразы напомнили Рашпилю, что бюрократия просцветает не только в министерских кабинетах. Старшой, похоже, тоже не рвался брать решение на себя.
– А надо? – спросил Саня по-глупому, то есть так, как и следовало говорить в данной нервной и покуда неясной еще обстановке.
– Хочешь, щупай, – придурковато ответил Старшой. – По моей линии атаса не звонили.
– Приглядишь? Неохота пацанов для начала звать. Мало ли чего там внутри.
– И правильно. Ты давай ныряй, а если что интересное, вылезай и все сначала обсудим. Нас здесь двое, Рашпиль, ты меня понял?
– Секу помаленьку.
– Ну и все. Значит, все будет правильно. Нас пока двое, значит, как мы здесь решим, так потом все и будет.
Старшой, как было заметно по неуверенным указаниям, тоже отчего-то нервничал. Воистину в таких случаях говорят: бес попутал. Казалось бы, тихо-мирно люди живут, хлеб жуют, никого не трогают. Кто же тогда, как не бес, подогнал сюда и прямо перед ними поставил это лунное металлическое чудо?
Саня на полусогнутых подошел к высоченному вагону и для начала достал из кармана вакуум-трубку.
Дико и непонятно, казалось бы, с первого взгляда, загонять такого красавца на запасный, бросать без охраны, а одновременно мониторить с помощью дорогостоящей аппаратуры. Но мало ли чего происходило в этом мире дикого и непонятного для таких мелкашей-старателей, как Саня, Старшой или даже Старшой над этим Старшим?
Но уже он клюнул, прыгнул, повязался. И руки уже производили привычные манипуляции с вакуум-трубкой. Под ее воздействием краска на подозрительном, а точнее говоря, перспективном для Рашпиля участке стальной стенки вспучилась, и под ней обозначился участочек замка. Проявился.
Краску-то можно потихоньку с участочка отверткой убрать, но если далее вскрывать замок, то неизбежно сработает охранная сигнализация. Скорее всего, конечно, не ревун, как у авто потревоженного, а просто, опять-таки, в какой-нибудь сторожке, у дедугана, над столом с бутербродами на газете, загорится лампочка.
Но пока дедуня поднимет трубку, чтобы доложить обстановку, и пока на том конце провода будут пристегивать пушки и натягивать сапоги, и пока прибегут-проломятся, а Старшой-то на стреме и далеко окрест все чует. А ночь хотя и лунная, но местами очень даже темная. Словом, шансы утечь вовсе даже неплохие. Просто надо работать очень быстро, а утекать по засветке еще быстрее.
И что толковать, когда переправа началась.
Острыми вспышками, как сигналом бомбардировщику, посверкивали в руках инструменты. А руки у Рашпиля чуткие. Какую аппаратуру он налаживал, когда работал в НИИ… Только вспомнить. Да уже и не вспоминается. Только руки помнят. Как через рукоять инструмента чувствовать дрожь и потаенные извивы металлического лабиринта, куда введен хоть какой-нибудь щуп, пусть и не толще самой тонкой иголки.
Снял Рашпиль оклад замка, размонтировал подковки металлические, все еще преграждающие доступ к сокровенным внутренностям целомудренно защищенного устройства, и мягко, кончиком указательного пальца, проверил, что там внутри и как.
Этот хитрый импортный замок расколдовывать по всем правилам научного тыка не было сейчас ни времени, ни необходимости. Его следовало просто разобрать.
Сделано как задумано, и рука ушла по локоть и, разумеется, с внутренней стороны нащупала массивную щеколду, засов, который по первому усилию вовсе не собирался никуда двигаться. Рашпиль понимал, что там, изнутри, должна еще быть блокировочная клавиша.
Он нащупал блокировку и нажал на нее, оставив панельку в утопленном состоянии. Теперь, чтобы снова заблокировать щеколду, достаточно было всего лишь вернуть утопленную клавишу в первоначальное положение.
Затем он отодвинул изнутри засов, осторожно вытянул руку наружу и надавил снаружи плечом. Металлическая дверь подалась, и на серебрящемся боку вагона нарисовался темный проход метра в полтора высотой.
«Как раз для Лехи Губана», – подумал почему-то Рашпиль и, даже не оглядываясь на Старшого, шагнул внутрь.
Лампочка над столом у дедуни загорелась, конечно же, как только Рашпиль приставил к стенке вагона вакуум-трубку. Заслуженный птеродактиль охраны, считавший вохру самой романтической профессией в мире, довольно усмехнувшись, тут же поднял трубку видавшего виды телефона.
Рашпиль достал из заплечного рюкзачка стробоскопический сигнализатор, извлеченный им некогда из аппаратурного чемодана-комплекта английской фирмы «Бизек».
Отключил сирену. Теперь у него в руках был обыкновенный фонарь, правда, со сверхмощным лучом, по идее разработчиков предназначенным для подачи сигнала о помощи теми, кто заблудился в горах, – туристами, альпинистами, пастухами… да мало ли кем еще? Может быть, даже и злоумышленниками. Любая власть сурова, но справедлива. И при всех неприятностях, которые она может причинить гуляющему не там, где положено, все-таки есть много шансов, что на месте тебя не растерзают.
Рашпиль включил стробоскопический луч «Бизека» и направил его вдоль вагона. Все стены вагона до самого потолка были заставлены некими деревянными секциями. Узкими такими стеллажами. Как в хранилище библиотеки. Но здесь из всех стеллажей высовывались не корешки книг, а абсолютно одинаковые торцы обтянутых кожей кейсов. Ну очень много кейсов.
По некоторому прошедшему по затаившейся темноте движению Старшой понял, что очень скоро придется делать ноги. И при этом совсем не от тех, с кем можно перемолвиться в понятку и решить проблемы к взаимному удовлетворению.
«Зря ввязались», – подумал Старшой.
Стар стал, на подвиги потянуло. И Рашпиля не оставишь. Его, если на месте не завалят, вытаскивать из-под допросов лишних придется. Вот Саня на Большом Сельсовете сразу и доложит, что, де, сомневался, идти ли на подвиг, а Старшой ему на то добро дал.
Рашпиль немного продвинулся вперед, дошел почти до середины вагона и снова, уже более тщательно, стал освещать и рассматривать чрево, в котором он оказался. И он еще раз убедился, что весь вагон, что называется, под завязку был заставлен стеллажами с абсолютно одинаковыми кейсами. Их количество, впрочем, легко было прикинуть, что Саня и не замедлил сделать.
Всего в вагоне было установлено пять секций стеллажей: две вдоль стенок и три по центру, с весьма узкими проходами между ними. Высота каждой секции составляла десять стеллажей, а длина – десять отсеков, по двадцать торцов кейсов в каждом – итого две сотни. Перемножаем двести на десять, а затем еще на пять, вот и получаем аккурат десять тысяч штук. Десять тысяч стеллажей, а в них десять тысяч кейсов, а в них… Да хоть бы они и пустые все были, как бумажник пенсионера, выходящего от молодой проститутки, так ведь десять тысяч таких шикарных кейсов сами по себе стоят веселых бабок.
Что-то Рашпилю подсказывало, что уж лучше бы они и впрямь оказались пустыми. Тогда бы у него еще оставались какие-то шансы вернуться к прежней жизни, которую покинул он так неосмотрительно, всего несколько минут назад, когда шагнул в черный прямоугольник, возникший в стене вагона.
Сигнал тревоги, который передал бдительный дед в железнодорожную охрану, был воспринят не только там. У дежурного оператора, старлея Симонова, сидящего в подвальном помещении шестиэтажного дома за трехметровым железобетонным забором, в одном из новых районов Москвы, включилось записывающее устройство. Заметив игривое перемигивание сигнализации, Симонов прибавил уровень звука и, таким образом, не только записал, но и прослушал сообщение дедугана.
Сообщение-то… тьфу, и растереть. Якобы кто-то, где-то, на каких-то запасных путях, пытается проникнуть в какой-то вагон. Да разве может такое трижды банальное сообщение иметь хоть какое-то отношение к бессмертной душе старлея?
Оказывается, может, и даже не «какое-то», а самое прямое. Убийственно прямое. Через два часа Симонова должны были сменить, и он намеревался провести остаток ночи вместе с Лорой, своей новой, а впрочем, и всего-то второй за не столь и буйные молодые годы, любовницей.
Лора сказала, что на этот раз они поедут веселиться к ее подруге, кажется, к Валентине. Старлею это было все равно. Он знал, что если Лора приглашает, значит, все будет шикарно. А сама Лора и то, чем она с ним занималась, нравились ему настолько, что он готов был жениться по первому требованию. Требования пока не поступало. Пока что дело обстояло так: она его вызывала, и он прилетал. От него, собственно, и требовалось всего лишь иметь наличняк на ночные таксо. Ну да слава Богу, в учреждении, где подвизался старлей, зарплату еще не задерживали. Пока не дошла, стало быть, до них эта мода. Так что на мотор, после закрытия метро, или на западные презервативы экзотической конфигурации и расцветки, на «Метаксу», «Абсолют» или «Шеррибренди» пока еще, хоп-хоп, чтоб не сглазить, в кармане шуршало.
Симонов набрал номер Лориной квартиры и доложил о прошедшей информации подполковнику Кублицкому.
Иван Григорьевич Кублицкий был отцом Лоры, но в данной конкретной ситуации это, разумеется, не имело никакого значения.
Имело значение совсем другое обстоятельство. Кублицкий спросил, почему Симонов не перегнал записанную информацию по модему, а предпочел устное сообщение. Старлея такая постановка вопроса, конечно, задела, но только слегка. Он не чувствовал себя ни вполне правым, ни слишком виноватым.
Конечно, можно было не включать звук, а просто перегнать записанную информацию по модемной связи на персональный компьютор Кублицкого. Собственно, именно о такой последовательности действий и была договоренность с подполковником перед сегодняшним дежурством.
Старлея не очень интересовало, не нарушает ли эта их договоренность каких-то там пунктов служебной инструкции. В конце концов Кублицкий был большим начальником, и если у кого-то когда-нибудь возникли бы по этому поводу вопросы, то, разумеется, они были бы заданы именно начальнику, а не стрелочнику-старлею.
Но Симонов взял да и поступил по-другому. И вовсе не из какой-то там особой бдительности, и уж тем более не из служебного рвения. В своей работе старлей не видел решительно ничего романтического или загадочного. Более того, как принципиальный, можно сказать упертый, технарь весьма невысокого полета, он и вообще ни в чем, окружающем его, не видел ничего загадочного или даже просто отклоняющегося от рутинного хода вещей.
За исключением его встречи с Лорой. Симонов, понятное дело, видел, что дочь Ивана Кублицкого не по его калибру, что бы уж там под этим не подразумевалось. Но их пути все-таки пересеклись, и она загорелась и продолжала крутить с ним, и вот это и было свободным отклонением атомов Демокрита от предначертанных для них от века траекторий.
Вот Симонов, не ведая, конечно, ни о каких вольных прыжках вроде бы слепых атомов, а просто будучи в состоянии душевного подъема по поводу продолжающегося романа с Лорой, решил прослушать сообщение и сообщить его лично подполковнику. Тем более что к телефону могла ведь подойти и сама Лора, и он, стало быть, еще до свидания мог сообщить ей, что все бортовые системы его здорового корабля работают нормально, а сам он с нетерпением ожидает очередного совместного выхода в открытый космос.
Но благими намерениями, как известно, выстлана дорога к серьезным неприятностям со здоровьем. Или, как иногда элегантно выражаются в известных кругах, клиент может внезапно промочить ноги.
Словом, не придал старлей значения недоумению, прозвучавшему в голосе начальника, и, включив электробритву, погрузился в полировку подбородка в ожидании приближающегося любовного свидания.
А Иван Кублицкий был этой ночью не столь внимателен к своей внешности, как его подчиненный. Он потер проросший жесткой колючкой подбородок и даже не ощутил раздражения кожи ладони. Он знал, что этой ночью, еще до рассвета, все правила игры могут поменять свои знаки. Все правила игры могут быть вообще отменены. Они могут быть взорваны, расплавлены и в подобном изуродованном, может быть даже следует сказать, извращенном виде поутру будут представлены городу и миру.
Однако же, могло произойти, а могло и… кончиться пшиком. Не то чтобы Кублицкий не доверял друзьям, которые подключили его к своему, звучащему поначалу фантастически, проекту. Он и доверял им как людям, и сочувствовал их целям. Просто как человек военный он был убежден в некоторых постулатах, которые выполняются даже независимо от качества человеческого материала. И один из таких постулатов гласил: как бы хорошо ни была спланирована акция, наиболее вероятный ее исход – провал. Неудача.
И будь ты хоть трижды генерал, как Крючков, или дважды катапультируйся, как Руцкой, но если с самого начала не знал и не готовился к тому, что, скорее всего, все лопнет и ничего не получится, то мыслишь ты не как «военная косточка», а как салага. По крайней мере, по отношению к данному, усвоенному военными людьми постулату.
Вот исходя из этого и ему подобных постулатов воинской службы Кублицкий собирался действовать и на этот раз. Он согласился выслушать, когда его кой во что посвятили, и обещал что-то предпринять, когда придет время. Но он не разделял ни телячьих восторгов от якобы грандиозных перспектив планируемых действий, ни мгновенных скачков от паники к полной уверенности в успехе.
Он просто согласился принять участие, но только на своем месте. Так что, точнее было бы сказать, не принять участие, а просто помочь при необходимости кое-кому.
Но «просто помочь» – и это он тоже предчувствовал, а в глубине сердца знал точно – с самого первого шага оборачивалось прямым действием на самом опасном, самом грязном направлении. В вагон полезли на час раньше, чем планировал Четвертый, а значит, полезли не те.
И «маленькая изящная провокация», как весело выражался Четвертый, которая «пребольно ударит по носу этих зарвавшихся янки», с первого же такта обещает перерасти в нечто с топотом, потом и кровью.
Иван Григорьевич доложил Четвертому обстановку и, разумеется, в ответ услышал то, что и ожидал: накрыть, блокировать, обезвредить… А какие действия придется при этом предпринять, об этом у политиков, богатеев и прочих членов банды голова никогда не болит.
Впрочем, назвался груздем, полезай в вагонзак. И не иначе. Поздно теперь рюмить, институтку разыгрывать. Вот только уж совсем не понравилась ему та дотошность, с которой Четвертый расспрашивал его об обстоятельствах звонка Симонова. Как бы парню не подзалететь… в студию Останкино при апостоле Петре.
Впрочем, прежде всего дело, а отмазка потом.
Кублицкий позвонил своим спецлюдям и приказал ввиду изменившихся обстоятельств немедленно начинать операцию.
– Мы не знаем, кто там, – объяснил он старшему группы, – скорее всего, случайные люди. Точнее говоря, вольные стрелки, из тамошних добытчиков. Но что точно, так это то, что через несколько минут на них пойдет вохра.
– Сколько вохры? – уточнил на том конце провода любознательный паренек. И сделал это тоном, которым мясник спрашивает у хозяйки: вам с косточкой или как?
– Думаю, что сначала они пошлют людей просто проверить, что там происходит. Значит, пойдут трое-четверо. А кого они застанут и что там произойдет, это вы уже сами сможете понаблюдать.
Затем по сотовой связи он разыскал Лору, которая ночами перемещалась по Москве, как он в свое время по тылам врага.
– Детка, – вкрадчиво начал он, – ты сегодня, если я ничего не путаю, идешь в гости с одним очаровательным старшим лейтенантом.
– И что ты хочешь сказать, па, по этому поводу?
– Успокойся, я вовсе не собираюсь обсуждать, действительно ли время от трех до пяти утра – самое удачное для визитов. Вероятно, вы этот вопрос уже обсуждали и пришли к единому мнению.
– Ну разумеется, па. Что это ты тянешь сегодня… Говори, что тебя беспокоит?
– Ты вот что, Ло, пригляди-ка сегодня за своим красавчиком. Он парень безвинный, а на него могут подумать.
– Как вы мне надоели! И ты, и твоя бандитская работа.
– Ну, ну, Ло, полегче. Твой Ваня – государственный человек. Стою на страже…
– Ну ты, па, прямо как Черномырдин выражаешься. Когда мужики говорят загадками, я прям балдею. Ладно, па, все. Засекли и пролетели.
«Ну вот, – подумал Иван Григорьевич, – если я не ошибаюсь в собственной дочери, то за Симонова в ближайшие сутки можно быть спокойным». А теперь следует отдать должное и субординации, то есть доложить полковнику Воронову.
«Породистый щенок», – иногда думал Кублицкий о своем начальнике отдела. При некоторых же обстоятельствах чувствовал, что в этом парне что-то есть. И во всяком случае, с ним можно иметь дело.
– Олег Юрьевич, не спишь?
– Нет, Иван Григорьевич, не задалось у меня что-то сегодня со сном. Слушаю тебя. Давай огорчай молодое, неопытное начальство.
– Да особо и огорчить нечем. Наши по старым делам, наверное, остались подключены к вохре[1] на Курском вокзале. Поступил сигнал, кто-то у них там не туда полез.
– А мы-то при чем?
– А мы ни при чем. Но раз уж сигнал наши приняли, я дал добро, чтобы они блокировали точку конфликта по дальнему периметру и пронаблюдали. А то как бы вохра и те, кто полез, больших фейерверков не устроили. Все-таки почти центр города.
– Послушай, Иван Григорьевич, ты о вчерашнем нападении на капитана Петухова что-нибудь знаешь?
– Жив будет капитан. Мои ребята были уже у него в больнице. Врачи обнадежили. Жену его, конечно, жаль, ее уже не вернешь.
– А что по сыску?
– Кажется, обычная бытовуха. Вероятного убийцу заметили и когда он входил, и когда выбегал обратно из подъезда. Да он и живет в том же дворе. Вместе с братцем, таким же громилой. Что-то они с капитаном не поделили. Думаю, зажимал их Петухов по части дворового раздолбайства. Сейчас эти два брата-дегенерата в усиленном розыске. До утра, думаю, их задержат.
– Я сейчас за городом, на даче у одних знакомых. На меня было совершено нападение. Как раз этими двумя братанами. И уверяю тебя, никакой бытовухи между нами не было.
– С тобой все в порядке?
– Они мне прилично дали по ноге. Какой-то железякой. Потерял много крови. Но мне здесь уже оказали помощь. Можно сказать, все обошлось.
– Где ты с ними расстался, Олег?
– На Киевском вокзале. Запрыгнул в отходящую электричку. По моим данным, они замешаны еще в одном деле. И на Петухова они набросились не просто так.
– Понятно.
– Вот я и говорю, когда будете брать, ожидайте с той стороны всего… Мне лично они нужны для разговора. Короче, если увидите их еще живыми, в этом же виде постарайтесь и сохранить.
– Ты где? Тебе не помочь? Может, выслать машину?
– Ничего не надо. Здесь полно людей на московских машинах. Я немного еще покантуюсь, а потом с кем-нибудь из них вернусь в город.
Дедуган поздно среагировал на резко затормозившую перед его сторожкой машину скорой помощи. Поздно и слабо. Хохочущие краснощекие молодцы в белых халатах гурьбой вбегали на крыльцо и рвали с крючка дверь, а он, совсем не как испытанный вохровский боец, а как баба заполошная, метался от окна к двери и причитал: «Вы што, ребятушки, да вы туда ль заехали?»
Лицемерил, конечно, старый, заплошал совсем от смертной тоски. Знал ведь по богатому своему жизненному и профессиональному опыту, что в этих делах ошибки не бывает. Рванулся к телефону, к оружию, но, конечно, не успел.
Двое могучих повалили деда на узкую жесткую тахту, перевернули его лицом вниз, расстегнули ремень и стали стаскивать брюки. Дед извивался, вырывался и как бы от неожиданной радости изумленно покрикивал: «Эт как же, ребятушки? Накажут, поди, вас. Ой-е-ей, бедные головушки».
– Во дед попал шебутной, – беззлобно, впрочем, переговаривались между собой бедные головушки. – Ну кончай шухерить, дед. Мы че тут с тобой, колыхаться должны? Ты че, в натуре, один, что ли, у нас?
Загнали деду в зад иглу размером с противотанковую ракету и выдавили поршнем хорошо если не полведра какой-то адской смеси. Дед закатил глаза и напрочь перестал хрюкать и возмущаться. Лопающиеся от здоровья бедные головушки подхватили бездыханное тело старого бойца, мигом вынесли его на вольный воздух и немилосердно забросили в металлический кузов белой машины с красным крестом.
Саня Рашпиль, чтобы не было сомнений в содержании остальных кейсов, взял на проверку кейс из самой середины. Укрепил фонарь на верхнем стеллаже, чтобы освободить руки для вскрышных работ. «Прошел» замочек и распахнул кейс. Внутренности состояли из двух ярусов, как солдатская казарма, а каждый ярус из паралоновых ячеек. Рашпиль прежде всего, ни к чему не притрагиваясь, подсчитал количество ячеек: их было по пятьдесят в каждом ярусе, итого сотня.
В каждой ячейке лежал запаянный в пленку брусок, этакий спрессованный из отдельных прямоугольных листов параллелепипед. Саня взял из ячейки один брусок и потянул за отогнутый кончик узкой красной полоски. Прием был тот же, какой применяют при вскрытии зацеллофанированной пачки сигарет с фильтром. Саня не спешил. Он уже прикинул в уме не только, что он может здесь обнаружить, но и сколько. И он понимал две вещи. Во-первых, что так или иначе он все равно уже доведет это дело до конца, А во-вторых, что пришла пора прощания с прежней жизнью. А скорее всего, с жизнью вообще.
Пачка стодолларовых банкнот содержала ровно сто новых, с укрупненным портретом президента, зеленых, с металлическим хрустом, листов. Итого – сто на сто – в одной пачке было десять тысяч баксов. В одном кейсе было сто таких пачек. Итого один миллион долларов. (К этим цифрам слово «баксы» уже как-то не подходило.)
Итак, прикинем же все-таки, что же происходит?
Десять тысяч стеллажей, по кейсу в каждом. В каждом кейсе – миллион. Умножить один миллион на десять тысяч Саня мог и без арифмометра. Один миллион умножить на десять тысяч равняется десяти миллиардам.
Десять миллиардов.
Баксов?
Долларов?
Восемьдесят тысяч лье под водой?
Несколько дней назад Сане на глаза попалась газетная заметка. В ней приводились данные о так называемом СВР, свободном валютном резерве страны. О том, что после выборов президента СВР России составил всего четыре с чем-то миллиарда долларов.
Итак, чтобы не говорить лишнего, перед Рашпилем в свободном пользовании находилась сумма, в два с половиной раза превышающая свободную валюту Федерации. Откуда-то сверху, из-за стеллажей, а точнее сказать, равномерно отовсюду, шипел потихоньку гадский фоновый звук. Так могла шуметь уже выключенная, останавливающаяся кофемолка. Или пылесос, где-то за три комнаты. Или работающий персональный компьютер.
Китайскому философу Чжуан-Цзы приснилось, что он бабочка и летает по летнему лугу среди цветов. Проснувшись, Чжуан-Цзы уже не мог решить, кто же он такой. То ли он философ Чжу-ан-Цзы, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой снится, что она Чжуан-Цзы.
Так и Рашпиль не мог решить, не зарезал ли его Старшой, быстро и безболезненно, еще до того, как он полез в вагон? И, стало быть, не находится ли он уже в раю или по крайней мере в его предбаннике?
В реальности ничего подобного, конечно, произойти не могло, но фоновый гадский звучок доказывал, что все в этом гадском вагоне включено и все схвачено. Что весь он, от запломбированных стальных стенок снаружи до зеленой, райской долины внутри, – весь на учете у адских сил. Весь целиком на мониторинге, весь до последней молекулы просвечивается, прослушивается, записывается и передается хрен знает куда.
Пломбированный вагон однажды уже кто-то пригонял. Рашпиль где-то читал об этом. Но, кажется, не сюда, а в Питер.
Он понимал одно: если его еще не сделали и он еще не в загробном мире, то, что бы он теперь уже ни делал и как бы себя ни вел, теперь все едино – то есть его заделают в самое ближайшее время.
Конечно, он обречен, потому что попал на Марс. А на Марсе без скафандра не живут. Разве что прихватить один такой кейсик?
Если бы он был один, такой кейсик, то прихватить его было бы не менее опасно, чем посадить за пазуху гремучую змею. В обычном мире такой чемоданчик искали бы на суше и на море, с помощью батискафов и аэростатов, по его следу шли бы джульбарсы, паханы и шестерки. Но здесь, в этом зеленом Эдеме, таких сказочных чемоданчиков было аж целых десять тысяч. И не то что исчезновение одного пройдет незамеченным, нет, конечно. Просто Санек как-то ощутил, что если его убьют, а это, в общем-то представлялось неизбежным, то не за один чемоданчик, а за все. И не за то, что увел, а за то, что увидел. То, чего простые смертные да не узрят.
В мозгу Саньки затрепетала мыслишка, что когда денег столько, то дело уже не в них.
«Эх, Мурка, Маруся Климова, прости люби-ма-ва», – замурлыкал Саня про себя, чтобы хоть частично затормозить поехавшую крышу.
Он выключил фонарик и положил его в рюкзачок с остальным инструментарием. В одной руке держа кейс, а в другой рюкзачок, ориентируясь на чуть белеющий прямоугольник проема, подошел к выходу.
Что там снаружи?
В случае чего понадобятся голова-руки-ноги. Все вместе и по отдельности. А вот рюкзачок уже не понадобится. Конец пришел Сане-взломщику, Сане Рашпилю и даже Александру Миронову. Всем этим людским профессиям и обликам не ходить уже больше среди людей и не светиться. Ни здесь, ни под небом чужим.
Перед тем как бросить рюкзачок в проход между стеллажами, Рашпиль еще подумал: «Хороший инструмент. Легко бы загнал». Но тут же вспомнил про содержимое кейса, который был у него в правой руке, и грязно выругался. По отношению к самому себе. Все, Саня, все. Тебе никогда и ничего не придется загонять. Толкать. Впаривать. Только бы спланировать из стратосферы в океан. Только бы перелететь через взрывное мгновение и шлепнуться где-нибудь в тине, в паутине, которую никто уже не будет просвечивать назойливыми прожекторами.
Рашпиль, прижимаясь к открытой в его сторону двери и стараясь не высовываться, цепко обшарил ночной пейзаж перед вагоном. Ничего и никого. Не стал ни прыгать, ни выползать задом, а перевесился всем боком и свалился вниз бесшумным пыльным мешком.
При встрече с землей кейсом чуть не вывернуло кисть руки. Но Рашпиль не издал ни единого звука. Наоборот, уткнувшись носом в пыль и жесткую траву, он прислушался к ночному звуковому фону вокруг себя и постарался профильтровать его. Но чужеродных, то есть искусственного происхождения, сигналов не обнаруживалось. Не слышно было даже ровного, гадского жужжания – того фона, что облучал или просто окружал его в вагоне.
Он полежал еще пару минут. Да был ли он там, внутри? А может, выпрямиться во весь рост, как это и пристало богатырю земли Курской, да и зашагать отседова со Старшим к такой-то фене, а конкретнее говоря, к своим девахам в ночных палатках?
Нет уж, фигушки. То раньше можно было. Да еще и как можно! Во всяком случае еще ни одна из тех девах не жаловалась.
Рашпиль ухитрился все тем же бесформенным мешком откатиться от вагона вниз, в ложбинку, где, как он знал, должен был дожидаться его Старшой.
– Ну что? – выдохнул невидимый Старшой ему на ухо. – Ничего, кейсяра. Я знаю место, где у нас такой товар по полсотне баксов за штуку возьмут. Есть там еще такие?
– Навалом, – так же бесшумно прошептал Рашпиль, слишком потрясенный тем, что он видел внутри вагона, чтобы быстро и четко доложить все Старшому.
Впрочем, какие тут теперь Старшие? Саня вознесен на седьмое небо, его подхватили ангелы финансовых потоков, и сквозь разрывы в мути опоясывающего экватор вихря спекуляций ему приоткрылся краешек престола брокера-князя мировой биржи.
– Теперь ты меня прикрой. Я там тоже маленько пощупаю – и назад.
– Не ходи. Если я нарушил сигнализацию, вот-вот должны подойти…
– Ладно. Не первый год замужем. Знаю я эту вохру: пока они там проблюются с перепоя, пока яйца в ширинки уложат… А я мигом. Да в крайностях или отобьемся, или договоримся.
И Старшой, в два прыжка достигнув вагона, подтянулся на руках и исчез в темном проеме.
Хорошо выраженная шизоидность момента на какие-то минуты распластала Саню на дне ложбинки, обесточила его дальнейшие броски по пересеченной местности. На какое-то мгновение ему показалось, что, может быть, и впрямь самое разумное – загнать эти кейсы примерно за полцены, то есть, как и предлагал Старшой, по пятьдесят гринов за штуку. Принимай подарок от Страны советов. А мы, мол, воры честные, что там внутрях – нас не касаемо. Эх, хорошо-то было бы закосить, не я, дяденька, внучку шторил, она сама мне у озера все показала. Но нет уж тех акций у юродивых на Руси. Не слушают долго их баек, даже если и складно выводят, берут их под прицел, как хищную живность какую, а то и начинают палить, как оглашенные.
Из проема показалась фигура Старшого, который явно не собирался следовать примеру Рашпиля, то есть плюхаться на живот, перекатываться через приступку и сваливаться мешком вниз. В каждой руке Старшой держал по два кейса. Он стоял в проеме вагона совершенно не маскируясь, выбирая момент, чтобы спрыгнуть вниз, и помахивал своими четырьмя чемоданчиками, как честный маклер на прогулке.
– Давай-ка вниз. Чего там стоишь? – раздалось над Саниной головой справа.
– Э, знакомые лица, – прозвучало слева.
– Что там у тебя в руках? Кидай вниз, – спокойно посоветовал голос, казалось, прямо из-за спины Рашпиля.
«Ага, первый эшелон прибыл, – подумал Саня, – всего три фуфлыжника, и, судя по их расхлябанности, они, как и Старшой, еще ничего не поняли».
– Всем стоять! – вызверился вдруг на хорошей истерике приказ откуда-то сверху.
«Вот и настоящие хозяева объявились, – понял Рашпиль, – или их гончие. Вот и началось и, пожалуй, сразу и закончится».
– Идет спецоперация. Вы все окружены. Вы, трое, подойдите к вагону.
Трое охранников, как бы сжимая кольцо вокруг стоявшего в дверном проеме Старшого, медленно подходили к вагону. Слышалось только их сопение и хруст пересохшей травы под подошвами их клевых армейских ботинок.
– Стоять! – заорал опять истерический голос, и охранники, не дойдя метров трех до насыпи, остановились. Старшой стоял теперь в проеме вагона, весь залитый лунной обманкой, вытянув прямо перед собой обе руки с двумя кейсами в каждой. Сейчас его расстреляют, понял Саня, знаем мы эти спецоперации. Но парень идет на рекорд, это ясно. Умереть, держа на вытянутых руках четыре миллиона зеленых, – это рекорд. Это бред и абсурд вожделений, легенда на все времена в бандитских притонах от Москвы до Владика.
Раздались один за другим несколько хлопков, и выбеленная луной фигура Старшого качнулась на полусогнутых и затем тяжело рухнула вниз вместе с кейсами. Один из них попал, видимо, под расстрельный огонь, во всяком случае при падении замок вышибло вон, и кейс раскрылся, как пьяная директриса перед старшим ревизорской группы. Трое вохровцев с недоумением и ужасом смотрели на зацеллофанированные пачки, рассыпавшиеся по траве у их ног.
«Теперь немедленно убьют и этих, – опять, как бы даже без всякой паники прикинул Саня, – а если я не рискну, и не пойду на прорыв, то потом быстро обнаружат меня. И заткнут пасть».
Сейчас истекали последние моменты, когда можно было предпринять какие-то действия, хотя бы с минимальными шансами на успех. Пока внимание страшненьких ребят из темноты было приковано к трем охранникам и раскрывшемуся кейсу. Но, покончив с этой троицей, они тут же обратят свое внимание на окружающий пейзаж.
Беги, парень, беги!
И забудь, как тебя зовут.
И где это происходило. И кто в этом участвовал.
Но перед тем, как бежать, сначала ползи. Вспомни, как передвигаются беспозвоночные, и вот так же, втихаря, прочерчивая носом в пыли основательную борозду, исчезай-растворяйся в дальнем конце ложбины.
И когда за спиной замечется снова истерический крик или застучат стальные гвозди выстрелов, несись очертя голову и не оборачивайся. И особо-то не бойся, не изнемогай под холодным потом. Перво-наперво, долларового миллионера редко задевают случайные пули. Это уж так в природе устроено, и, говорят, что еще Архимедом и Ломоносовым за верное было утверждено. А во-вторых, кто теперь может гарантировать, не воткнул ли Старшой тебе жило под левую лопатку еще до того, как ты вошел в открывшуюся дверь.
В этом случае все дальнейшее всего лишь снится тебе. Всего лишь грезится. То ли в предсмертном бреду, то ли в реанимационной палате, от передозировки наркоза. А может, и на Елисейских Полях или иных пажитях небесных.
О спорт, ты – мир! О, бег через барьеры!
Свобода бега-прыжка. Забега в ширину. В перпендикуляр путям, насыпям и рельсам. Взапуски с луной, прыгающей, как заяц, через кусты ветвящихся облаков.
Не удержавшись от скорости на ногах и скатившись кубарем в обнимку с кейсом с очередной насыпи, Рашпиль чуть не уткнулся носом в сторожку дедугана. Протирая засоренные околорельсовой дрянью глаза и продолжая прикидывать, не сдурел ли он уже полностью и окончательно, Рашпиль увидел, как из сторожки выносят обездвиженное тело героя, и решительно задвигают его, как противень в духовку, через заднюю дверь автомобиля.
Окно в сторожке стояло, по теплой летней погоде, раскрытым настежь. Рашпиль поднялся с земли и одним махом перескочил через подоконник.
В сторожке оставался еще один в белом халате. Замешкался мужик маленько, собирая какие-то бумаги со стола. Он обернулся на звук прыжка, когда Саня запрыгнул в комнату, и с испугом на лице начал пятиться к двери. Нельзя было дать ему уйти, но уже никаким броском через комнату Саня его не доставал физически. Оставалось достать морально.
Раздумывать и рассчитывать было некогда. Рашпиль выхватил из кейса один долларовый брикет и пустил его скользить по полу целлофановой оберткой к ногам медика.
– Десять тысяч зеленых. Это для тебя.
– Чего надо? Давай быстрей, машина сейчас уходит, – с опаской, но уже явно успокаиваясь, пробурчал верзила в белом халате. А Рашпиль уже в который раз отметил про себя, как быстро успокаиваются люди, стоит им только убедиться, что им что-то предлагают, а не отнимают.
– Ты подними, подними, а то войдет кто.
– Что вам надо? Говорите быстрее.
– Ты едешь с шофером или с остальными, в кузове?
– В кузове, вместе с больным и еще одним санитаром.
– Он тебя хорошо знает?
– Нет. Это новенький. Это первый его выезд с нашей бригадой.
– Освещение в салоне, насколько я понимаю, хреновое?
– Полумрак. Говорите быстрее, сейчас они заметят мое отсутствие. – Парень беспокоился уже явно только об одном: как бы не утратить невиданную им никогда пачку денег. Он, конечно, нервничал по делу и еще раз настойчиво повторил:
– Что вы хотите?
– Твой халат и документы.
– А если?…
– Скажешь, что отдал под пистолетом. Да и на кой тебе теперь эта работа? Ты с этой пачкой на Кипре круглый год можешь кантоваться.
– Пройда! Петек! Идешь, что ли? – раздалось со двора.
– Отлить нельзя? Давай, заводи! – откликнулся Пройда-Петек, извиваясь в это время всем своим мясистым телом, чтобы побыстрее выскользнуть из засаленного халата.
– Документы? – Рашпиль протянул руку. – Сегодня никшни. И завтра, как вчера. А потом можешь заявлять об утрате. Куда едете?
– В Кащенко.
– Слыхали, как же. Культурное, говорят, учреждение.
Рашпиль сбежал с крыльца и, стараясь не попасться в сектор обзора водителя, метнулся к открытой задней двери автосалона. Залез внутрь. Не оборачиваясь к напарнику, закрыл створки задней двери и закрепил их металлической щеколдой изнутри. И только после этого, когда в салоне стало еще сумрачнее, сел на узкую жесткую скамеечку, слева от пациента, зафиксированного на специальной каталке, которая, в свою очередь, была зафиксирована на направляющих, уложенных на полу вагона. Справа от каталки, на такой же скамеечке, сидел напарник Пройды-Петька. Машина тут же тронулась с места.
«Зачем я это сделал? – думал Рашпиль, когда его начало мотать по узкому пространству между каталкой и стенкой кузова. – Зачем было давать ему столько денег? Ведь это не могло не вызвать подозрения, И на какой прибор мне его документы? Тоже мне, маршал авиации, Санитар Дебилович Атасов. Бриллиантовая звезда на груди героя. Или как там, во всемирной истории? Звезду Александру Васильевичу, графу Петьку, Пройде Санитарычу. Нет, я правильно все сделал. Надо было одним махом оторваться от вокзала, и я это сделал. И с десятью штуками для Пройды-Петька все получилось путем. Подозрения, это все Гренобль-гренобель, пусть подозревает хоть в минировании мостов. Но пасть свою Петек не раскроет аж до Второго пришествия. Для него главное, чтобы никто и никогда не спросил у него о пачке запечатанной».
И пусть сумму Рашпиль кинул несуразную, некогда было слюнить и отсчитывать, да это и не главное, вернее, это только начало. Теперь он воочию убедился, что того, кто тратит не считая, никто и ни о чем не спрашивает.
Мерзавец шофер вел машину, видимо, в расчете на добивание слабых. Он закладывал такие виражи, с такой страстью и скоростью мчался прямо в середину любой колдобины, что было ясно: привези он клиента, а то и сопровождающих санитаров и медбратьев, только что испустивших дух по дороге, в приемном покое он рассчитывает встретить не осуждение, а молчаливое понимание.
Но с дедуней, похоже, шеф дал маху. Чем безумнее бросал он свой аппарат в пике, тем быстрее испарялось действие варварского укола. Дубленая задница деда могла, знать, выдержать еще и не то. Выдержать и дать отпор.
– Я три войны прошел, – затянул дед после одной, изумившей всех ездоков встряски.
– Врешь. Ни на одной не был, – спокойно возразил напарник Рашпиля.
– Вот те крест, ребятушки, – без особого, впрочем, огонька заверещал клиент. – А куда мы едем?
– В гости едем, на млины с блинами.
– Это как, ребятки? А на посту кого оставим?
– А так, что едем, дед, в гости. К господам чайникам и господам наполеонам. Ребята они негордые, всякого примут. Только ты должен прямо сейчас определиться, ты за какую компанию: за чайников или за наполеонов?
– Я тебя не знаю, – посуровел дед, – ты, может, враг и агент. А тебе все карты раскрой?
Рашпиль прикинул, что чумовоз и белые халаты при нем – натуральные. Ложный вызов, конечно, сделали спецлюди, которые и сами ломают теперь головы, в какой колодец поглубже забросить этого деда, а может, и всю команду психпилотов.
– Я в трех тылах бывал, – крепчал больной с неустановленным диагнозом, – и сам Рамзай на связи держал. Ты знаешь, кто я такой на самом деле? У меня три звания, если ты хочешь, и все три – военные. Высший комсостав, слыхал про такое? Вот это я и есть.
До шофера, видимо, телепатически донеслось, какую важную птицу он везет. И чтобы не мучиться сознанием ответственности, он, похоже, решил закончить все это бодяжное мероприятие одним кульбитом. Чтобы никому не обидно было.
Машина тормознула так, что чуть не встала на нос. Неясно слышалось, как водила орет на кого-то, чудом оставшегося в живых. Затем ор перешел в рокотание на умиротворенных басах, потом задняя дверь открылась. Сзади стояли шофер и совсем юный, чуть ли не моложе Рашпиля, пижонистый старлей в приталенной шинельке.
– Вот, военному надо срочно, подбросим… Куда ему, туда и нам. Нам не к спеху. Правильно я говорю?
Он сделал неопределенный приглашающий жест рукой, и старлей, стараясь оберечь чистенькую обмундировку, как ловкий воробей, запрыгнул в салон. Можно сказать, присоединился к теплой компании.
Машина снова рванула как обезумевшая.
– Мне тут недалеко. Мне надо срочно. Я даже с дежурства на час раньше отпросился, – начал оправдываться старлей, обращаясь как бы ко всем вместе: и к больному, и к медперсоналу.
– А ты знаешь, кто я такой? – встрепенулся дед со своей извечной загадкой.
– Полагаю, что в настоящий момент вы больной.
– Если хочешь, я сейчас прикажу, и шеф в «Метрополь» нас доставит. Слышал, небось, служивый, про «Метрополь?»
– Ты вот что, – подал наконец голос напарник Рашпиля, – ты стойку-то на деда не делай. Мы тут специфических больных перевозим. И отвечаем за их душевное спокойствие. Так что ты нам деда тут не волнируй.
– Да я тут недалеко, с невестой у меня встреча, – отчего-то растерялся старлей Симонов.
– Ты сколько ему дал? Шефу-то? – еще больше посуровел ликом санитар.
– Тридцатку. Тридцать тысяч в смысле. Да у меня больше и нет.
– За тридцатку, да по ночам, только коты на яйцах играют. У невесты займешь, А то мы тебя вместе с дедом сейчас определим. У нас там два Лужкова и два Кобзона имеются. И те и те жалуются, что им третьего не хватает.
Старлей промолчал, полагая, что после того, как он договорился с шофером, можно не реагировать на пустую болтовню пассажиров. Даже если они в белых халатах и угрюмого странно-свирепого вида. Рашпиль, идущий за звездой своей интуиции, наклонился к офицерику и тихо спросил:
– Идешь к бабе, как же без денег? А у меня есть. И я тебе могу дать.
– Слушай, будь другом, выручи! Я через сутки отдам. Вот, запиши. Адрес и телефон.
– Да спрячь, не надо. Вот тебе сотенка зеленая.
– А как же мы встретимся? Чтобы вам долг отдать.
– А мы и не расстанемся. Шеф что сказал, помнишь? Куда ты, туда и мы.
Симонов на какую-то секунду засомневался, уж не безумен ли и этот санитар. А тот? Тот пытался вымогать у него деньги. А этот сунул сотнягу зелеными. А шеф ломится через город, как пьяный слон на складе виски. По всему судя – дурдом на колесах.
– Ты возьмешь такси до «Метрополя», – неожиданно заложил руладу дедок. – А дальше? А, парень? Ты должен знать. Там как раз про лейтенанта.
– У меня еще есть. Гульнем, а, Паша?
– Я не Паша. Меня Никоном зовут.
– А я Саня. А как твою звать?
– Лора.
– О, богато. Ну что, Никон, гульнем? С Лорой, с Лерой, с Валей. Хрустов на всех достанет.
– Саня, вы производите впечатление порядочного человека, но делаете странные предложения. Что вам конкретно от меня нужно?
– Не расставаться этой ночью с тобой и Лорой. Вы ведь куда-то с ней приглашены? Я вам не помешаю. Я могу дать вам много денег. Слушай, Никон, давай на «ты»?
– Будешь плакать пьяными слезами, – вспомнил продолжение песни жизнестойкий и уколоупорный дед, –
– И стихи Есенина читать, Вспоминать девчонку с карими глазами, Что могла твоей женою стать.– Тебя ищут, что ли?
– Возьми, Никон, в знак нашей дружбы, – Рашпиль нащупал в кармане загодя надорванную им пачку и вытащил еще три сотняры.
– Ладно, оставь пока при себе, – Симонов сжал кулак Рашпиля и отвел его от себя. – Там будут я, Лора, и Валентина. Хозяйка. А ты вроде бы как четвертый. Так что может и ничего получится. Девочки классные, так что, если чего особенного закажут, ты со своими гринами и возникнешь.
Машина для безумных, пришпоренная безумным шофером. Адский водитель, не желающий ничего знать, кроме того, что тридцать штук у него в кармане. А эта сумма гарантировала ему, что до рассвета он закроется в ванной комнате тяжелого отделения с медсестрой Лизаветой. Высадит вот только эту худобу в погонах, и – прямо по борту, шмаляй глубоководными. Что в переводе с древнеизвестного означает полненькую извращенку Лизавету и пузатенький флакончище медицинского спирта. Как эту дозу спиртяры застаканишь, так и безгрешен.
Набитая деньгами, страхами и страстями машина, как пуля по нарезному стволу, нырнула от американского посольства в туннель и как будто тут же выскочила из другого его конца, перед Смоленской площадью.
Приехали, и хрен с покрышками. Пусть дымят, изнасилованные тормозом. Все приехали. Но не все еще об этом знали. Накатались недурно, пора и счетчик включать.
16
Дочь Кублицкого Лора прибыла к месту свидания на пятнадцать минут раньше назначенного срока. Сначала она притерлась на своих ободранных, как пьяная кошка, Жигулях прямо на Садовом кольце, напротив входа в сквер, у пивной.
Было душновато, и Лора опустила боковое окно. Закурила натуральный, не лицензионный Кент и не спеша стала размышлять о смысле своей молодой жизни на этой старой угрюмой Земле. Так выражался Гёте в переводе различных гигантов, зачет по которому она сдала всего несколько дней назад.
Придется, наверное, просто покатать старлея по ночной Москве. Валентина позвонила ей только что прямо в машину и сообщили, что погиб Мартин Марло, с которым она была связана несколько лет, и она не уверена, что Лоре с лейтенантом будет сейчас у нее весело.
Однажды в Клубе писателей Лору познакомили с этим немного загадочным плейбоем, косящим под комбата десантников. Мужик был шикарный, тут уж ничего не скажешь, но, как ни странно, не в Лорином вкусе. Она оставалась равнодушной к «правильному» выбору Риммой и Валентиной мужчин, которые их окружали. Властных, мужественных, преуспевших. Впрочем, Валентина позволяла себе весьма заметные отклонения от этих стандартов. Отклонением, конечно, являлся и сам Марло, и сменивший его недавно некий Алекс. Валентина, кажется, предпочитала далеко по воду не ходить. И после кризиса в отношениях с Марло быстро нашла ему замену среди его ближайших дружков.
Сама же Лора, самая молодая из трех подруг, предпочитала очень молодых, еще моложе, чем она сама, офицеров, офицериков, – лейтенантское племя, одним словом. Или таких же молодых жиганов, ножевых парней, как ни странно, частенько оказывающихся друганами тех самых, затянутых в портупею и в уставы лейтенантов.
Лора стряхнула нежно-белый столбик уже испепелившегося Кента на асфальт, отдающий снизу набранное за день тепло ее белеющему в темноте локтю.
Правой рукой нажала на кнопку, меняющую конфигурацию кресла, и откинулась назад в положение «полулежа». Затем подвернула повыше и так короткую кожаную юбку, чтобы она не стесняла движений, и раздвинула бедра. Передвинула вправо рычажок воздушной печки, гнавшей теперь теплый воздух от нагретого мотора по низу кабины.
Лора любила тепло, тем более когда оно шло на нее по вполне определенному направлению. В какой-то момент она даже чуть приопустила веки от удовольствия. Оно, конечно, не было острым и не обещало пиковых всплесков, но какие-то ответные волны по Лориному телу все-таки побежали.
К авто подошли двое мужчин и остановились около опущенного окна, немного наклонившись вниз, чтобы видеть лицо Лоры. В одном из них, который был повыше и поинтересней второго, она узнала Алекса, несколько загадочного для нее пижона, пару раз мелькавшего рядом с Марло и Валентиной.
– Здравствуй, Лора, – вежливо начал Алекс. – Ты что здесь делаешь, если не секрет?
«Кончаю. Разуй глаза, если сразу не видишь». – Но Лора была воспитанная девочка, и вместо того, чтобы так сразу, по делу, и ответить, сделала затяжку Кентом поглубже. Тогда, видя неуспех приятеля, решил вступить в разговор симпатичный толстячок, который был незнаком Лоре и совершенно ей безразличен.
– У мадам проблемы? Мы можем чем-нибудь ей помочь?
«Ну сил моих нет, – подумала Лора. – Хоть бы подлюга Симонов поскорей приезжал».
Теперь уже Алекс заметил неблагоприятное впечатление, которое произвел на «мадам» его новый друг Роберт, и попытался исправить положение.
– Это Роберт, Лора, познакомься. Он очень интересный человек. И между прочим, он – майор армии США.
– О-хо-хо, мальчики, – наконец откликнулась Лора, – ну почему вы не спите в такую и без вас нервную ночь? А между прочим, сейчас сюда прибудет старший лейтенант армии РФ. А для умных людей известно, что это означает армия Российской Федерации, старшие лейтенанты которой намного сильнее, чем майоры любых других армий.
– У нас, Лора, тут одно дело, – нерешительно произнес Алекс.
«Ну, ясно, – подумала Лора, – важные господа дело на безделье не меняют». А вслух сказала:
– А не поохотиться ли вам, господа, на ночных бабочек? Здесь, в центре города, да еще в разгаре сезона, встречаются очень крупные и яркие экземпляры.
– Ночные бабочки – это по-нашему… – начал было переводить Алекс, но Роберт его перебил:
– Да, я знаю, Алекс, мадам Лора права, встречаются очень, очень яркие. Кстати говоря, эта охота часто приводила к эксцессам для наших людей. Их приходилось раньше времени отзывать за океан. А некоторые… Вы так молоды, Лора, и вам трудно представить себе, что это означает. Так вот, некоторые даже лишались военной пенсии.
– Вот эти, лишенные, они, наверное, и были настоящими американцами, – сказала Лора, – таких я понимаю и одобряю.
– Но самое интересное, – продолжал О’Брайен, – это то, что многие из потерпевших, нисколько не сожалеют о случившемся. Я беседовал с некоторыми из них. Участие в этой вашей охоте так глубоко на них подействовало, что некоторые просто переродились.
– Понятно, – протянула Лора капризно, но уже с некоторым интересом. – Так ты, Алекс, со шпионом гуляешь? Что же ты сразу не говоришь? Это другое дело. Про шпионов я читала. Они, вроде, мужики ничего, путевые. Ну ладно, давайте знакомиться, – Лора выключила «поддувало», вернула спинку кресла в вертикальное положение и вышла из машины.
Затем она взяла Алекса под руку и, извинившись перед майором, отвернулась от американца.
– Роберт вроде путевый. Ты давно его знаешь?
– Нет. Но Валентина и литератор Герб знают его шефа, мистера Харта.
– Ты знаешь, что произошло с Мартином?
– Да. Его убили.
– И до каких пор вы будете заниматься этой херней?
– Кто это «мы»?
– Вы! Старые мандарины, гиббоны, полководцы. В задницу первопроходцы.
– Успокойся.
– Какая же сука посмела… Я представляю, каково сейчас Валентине. Ты, кстати, почему не с ней? Ты знай, Алекс, она его бросила и к тебе ушла, но она этого Марло все равно любила. Больше тебя. Она даже меня любит больше, чем тебя. А ты сейчас должен быть рядом с ней. Я бы и сама к ней пошла вместе с моим Симоновым, но она не хочет сейчас быть со мной или с другими. Наверное, только с тобой.
– Мы так и сделаем, Лора. Нам только надо повидаться с одним человеком.
– Ага. С одним милым, пьяным и поэтому длинным на язык человеком. А сразу после разговорчика его кокнут. А потом догонят вас и чпокнут. И с кухонными ножами в жо… вас доставят к подъезду Валентины и выбросят из какой-нибудь зачуханной кареты скорой помощи. А каково будет Валентине, еноты вы паршивые? Вы по делу Марло здесь? Тебе поддержка нужна? А то сейчас мой Симонов сюда подгребет.
– Нет. Спасибо. Ничего не надо. Мы не по боевой части. Поговорим только с одним аликом по имени Гарик, и лады. А ты, кстати, не боишься здесь одна поджидать своего Симонова?
– Кстати о Симонове. Кублицкий позвонил и посоветовал быть внимательной по отношению к Симонову.
– Кублицкий – это твой отец?
– Ну ясно. Кублицкий слов на ветер не бросает.
– Но с другой стороны, если бы угроза была реальной, отец так просто не отпустил бы тебя на свидание с этим Симоновым.
– Ты не знаешь. Все дело в его шизофренической уверенности, что со мной ничего не случится. Ты не знаешь, Алекс, что с нами было. Ты нравишься Валентине, значит, с тобой можно иметь дело. Если Симонов задержится, можете меня с майором даже в кусты затащить: вы путевые, ты не обижайся, что я так с вами не по делу начала.
– Все нормально, Лора. Так что ты хотела сказать?
– Ты не обижайся, ты мне не нужен, но если что, я тебе никогда не откажу. И не только, если, например, Валентина попросит. Ты мне и сам ненеприятен.
– Ага. Не нужен, но ненеприятен. Так что ты хотела сказать?
– У меня какое-то предчувствие, Алекс. Найдите своего Гарика и возвращайтесь. Может быть, мы еще с Симоновым будем здесь. Поцелуй меня, Алекс. Чтоб вы все провалились!
Алекс обнял гибкую талию девушки и молча прижал ее к себе. Майор, стоящий метрах в трех от них, показал Алексу на циферблат своих часов, но затем все-таки деликатно отвернулся. Поцелуй получился отнюдь не протокольным, а в высшей степени длительным и чувственным.
«Она немного боится за Симонова, – подумал Алекс, – и гораздо больше, но в глубоком подсознании, за отца, и она права. Кублицкий, верно, и впрямь зря не скажет. Но иногда человек сам не понимает, что же означают его слова. По крайней мере, понимает не в полном объеме. В данном случае начальник, видимо, имеет кое-какие основания беспокоиться за подчиненного. Но не меньше оснований у него беспокоиться за себя самого. Он сам еще этого не осознал, а дочь уже поняла, почувствовала. И, тоже подсознательно, уже боится остаться одна. Отсюда и припадок страсти».
– Да, – сказал он, прерывая наконец поцелуй, – найдем Гарика и вернемся сюда. Говорят, он где-то здесь недалеко, ночует на скамьях.
Алекс уже хотел взять майора под руку и нырнуть вместе с ним в темную гущу сквера, но что-то заставило его оглянуться и посмотреть на Лору. Высокая, стройная, затянутая в лиловый шелк блузки и черную кожу юбки, она уже медленно покачивала бедрами под музыку, которую включила в своих Жигулях.
Он снова подошел к ней, взял в обе ладони ее пышные светло-коричневые локоны и посмотрел ей прямо в глаза. В шальные, изумрудные, неподвижные.
Она была на несколько сантиметров выше его и лет на двадцать моложе.
«А как же Валентина? – подумал Алекс. – А как же Симонов? – а такая мысль даже и не пришла ей в голову».
Она была значительно моложе Алекса, а значит, в некоторых отношениях мудрее его.
В частности, она знала, что все в этой жизни так или иначе устраивается, и поэтому не надо ни о чем думать.
– Мы почувствовали с тобой одно и то же, – сказала она. – Я могу остаться одна. Ведь так?
– Мы очень скоро вернемся, Лора. Я не могу тебе точно сказать что, но что-то здесь произойдет.
– Скажи, но ведь ты не можешь заменить мне всех?
– Кого?
– Отца, мужа, любовника. Может быть, и друзей…
– Сядь в авто и жди там.
– Оставь. Ни в чем нет никакой разницы. Найми своего майора с его тачкой. А я смертельно хочу выпить. Как можно быстрее и больше. Поэтому я не смогу возить вас с Симоновым по Москве.
– Мы слишком задержались, Алекс, – довольно ворчливо заметил майор, когда они вдвоем покинули освещенную часть сквера и принялись пристально вглядываться в замаскированные развесистыми ветвями удаленные скамейки.
– Нет, Роберт, мы вовсе не задержались, а очень быстро все это время шли по следу.
– Как вас понимать? Про какой след вы говорите?
– Марло вчера вышел из дому примерно в то же время, когда вы окликнули меня у табачного ларька. Вполне возможно, что он избрал вчера тот же маршрут, что и мы сегодня.
– И что же?
– И именно здесь мы встретили эту необыкновенную женщину.
– Не спорю, Алекс, мы действительно встретили ее здесь. И она действительно необыкновенно красива. Но что все это может значить?
– Она не могла оказаться здесь просто так. И Кублицкий тоже просто так не скажет.
– А это еще кто такой, храни нас Всевышний?
– Отец Лоры.
– Всего лишь? Он же не имеет для нас никакого значения.
– Как-то у вас, Роберт, все просто. То, что Лора необыкновенно красива, не имеет значения. То, что мы встречаем ее здесь ночью, тоже вроде бы пустячок, ну а уж Кублицкий и вовсе ни при чем.
– Так ведь это все так.
– А по-нашему вовсе не так. И мы, пожалуй, свернем сейчас с вами поиски Гарика и быстро-быстро вернемся на площадь.
– Я протестую. Гарик, как вы мне рассказали, – это реальная нить. Но Кублицкий? Мы просто теряем темп.
– Я не сыщик, майор. И если и смогу быть вам полезным, то только в своем, пока для вас непонятном качестве. Оно и для меня не совсем еще ясно. Но я знаю точно, что это качество – все, что у меня есть. По крайней мере, для событий сегодняшней ночи.
– Хорошо. Будь по-вашему, – явно через силу сохраняя хладнокровие, сказал майор. Но в это время сработал сигнал его сотового телефона. О’Брайен присел на край сырой скамейки, прижал миниатюрную трубку к уху и услышал голос Харта:
– Майор, где вы сейчас находитесь?
– Недалеко от Смоленской, сэр. Я наладил контакт с Алексом и сейчас мы идем по следу некоего Гарика, который может вывести на след убийц Марло.
Харт, казалось, совершенно пропустил мимо ушей бодрый рапорт О’Брайена. Ему надо было сообщить свою информацию, и он сообщил ее встревоженным недоумевающим тоном:
– В Москву нелегально вброшена сверхкрупная партия нашей валюты. Пока контроль над ней осуществляют люди Кублицкого. Вы, кстати, знаете, кто такой Кублицкий?
– Так точно, сэр. Кублицкий – отец Лоры.
– Кублицкий, майор, является заместителем полковника Воронова.
– А кто такой полковник Воронов?
– Сейчас не время объяснять. Во всяком случае, он не находится с вашей новой знакомой Лорой в родственных отношениях. А вас, майор, я попрошу уяснить следующее: люди Кублицкого действуют, как мне кажется, по наводке. Сам Кублицкий с давних времен поддерживает контакты с некоторыми ультра. Но, кажется, их не связывают слишком теплые отношения.
– Ваш прогноз, сэр? Что все это может означать?
– Только одно: убийство Марло послужило сигналом к атаке на доллар. А значит, к атаке на Соединенные Штаты. Вот что это значит. А прогноз мой таков: в ближайшее время люди Кублицкого будут атакованы и оттеснены от денег. А скорее всего, просто уничтожены.
– А что у вас? Откуда появилась дочь Кублицкого? Она пытается скрыться?
– У нее здесь свидание, Чарльз. И похоже, она на нашей стороне. Точнее говоря, на стороне Алекса.
– Постарайтесь, если это не вызывет у нее протеста, выяснить у Лоры, где сейчас находятся ее отец и его начальник Воронов и что они намерены предпринять.
– У меня такое впечатление, что она боится за себя и своего бойфренда, который должен прибыть на площадь с минуты на минуту.
– Что предлагает Алекс?
– У него плохие предчувствия. Он предлагает вернуться на площадь к Лоре.
– Так и делайте. У меня пока все.
Боб сунул аппарат во внутренний карман пиджака и посмотрел на Алекса.
– Ты прав, Алекс, Кублицкий зря не скажет. Шеф полностью одобряет твои действия и намерения. Кам он, олд бой. Будем держаться ближе к твоей красотке.
Минут через десять после смерти Старшого, бегства Рашпиля и нейтрализации трех вохровцев, после того, как охрану у вагона организовали, как совершенно правильно доносил информатор Харта, люди Кублицкого, к месту событий прибыли три длинных лимузина. Из лимузинов вышли человек десять или двенадцать мужчин в длинных кожаных пальто. Возглавляющий группу высокий худой военный – в военной шинели и фуражке, но без погон, петлиц, кокарды и вообще каких-либо знаков отличия – знал пароль, и всю группу беспрепятственно пропустили внутрь вагона.
Минут через пятнадцать все участники группы, придерживая полы своих длинных пальто, спрыгнули из вагона на насыпь и, молча погрузившись в лимузины, отбыли туда, откуда приехали. Один из охранников узнал в одном из молчаливых гостей часто мелькавшего по телевизору банкира с политическим темпераментом. А в другом – политика с добротной банковской подкладкой. Но, разумеется, делиться своими открытиями с товарищами по оружию он не спешил. Что-то в этой назойливо лунной ночи ему явно не нравилось. Что-то надвигалось и сдвигалось вокруг него и его отборного, но немногочисленного отряда.
Иван Кублицкий не мог их предать. И его не могли кинуть как дешевку. Но оставался третий вариант: Иван запутался. Его запутали, и он запутался сам. Может быть и такое кино: один путаник и взвод трупов. И, разумеется, найдется гнида, в лампасах или в смокинге, которая с важным видом изречет: «И это еще, считай, немного».
Симонов, как только чумовоз вынырнул из туннеля, увидел на безлюдной асфальтовой площадке высокую фигуру Лоры, которая пританцовывала около своего авто. «Давай, шеф, причаливай!» – закричал он возбужденно и на всякий случай застучал в перегородку водителю. Шеф причалил. и старлей пулей выскочил из шизоконтейнера, чтобы прижать Лору к груди.
Рашпиль, недолго думая, тут же выбрался вслед за ним. Шеф, перед последним броском к загадочно-ненасытной Лизавете, все-таки вылез из кабины, чтобы проверить, все ли у него сзади тип-топ после высадки пассажира. И тут он с некоторым недоумением увидел, что один из санитаров, держа в руках подозрительно клевый кейс, тоже выпрыгнул наружу и поканал вслед за офицером к высокой стройной девахе.
«Общая она у них, что ли? – попробовал шеф объяснить себе ситуацию. – Так ведь все равно непорядок: с двумя оглоедами ушел в рейс, двоих должен и доставить обратно. А дедуган по другой части, это понятно».
– Он вовсе не санитар, – услышал вдруг шофер тихий голос второго санитара. – Я сразу узнал.
– Чего узнал?
– Что он не санитар. Я ведь того, Петьку знаю как тебя. Выпивали с ним сколько раз.
– Чего ж сразу не сказал?
– Куды сказал? Я один, а их двое. Надо было тебе еще этого старлея подбирать.
– Но, но, не балуй… Я сам на своей машине хозяин. Постой, глупый. А где же тогда Петька?
– А я знаю? Может, и прирезали… Пока мы дедка этого фундярили.
– Ну так что, отгребаем? Петька, поди, ежели что, и сам найдется. – Шеф знал, что так было, есть и будет всегда: как только у человека появляется светлая цель, к примеру Лизавета и ванная светлого кафеля, так тут же Вселенная начинает корчить рожи, громоздить препятствия, оттягивать за уши от белого тела. Он воспринял всю эту запутанную ситуацию с подмененным Петькой как личный вызов себе. И со своей точки зрения он был ничуть не меньше прав, чем Алекс, уверявший майора, что их встреча с Лорой – неслучайна.
Лора приникла к старлею не менее страстно, чем пять минут до этого к Алексу. Но и в страсти бывают перерывы. Воспользовавшись первым же из них, Симонов представил Лоре стоящего уже рядом с ними Рашпиля.
Рашпиль только окинул ее своим острым, царапающим, как ножовка, взглядом, в упор, и подумал так: «Как там Валентина, к которой мы идем, – это еще неизвестно. А вот за такую породистую лошадку, шатенку лиловой смерти, полкейса кинь, и все мало».
Впрочем, загадка внезапного богатства Рашпиля состояла в том, сколько еще часов или даже минут он сможет держать его в руках. В ушах у него не смолк треск выстрелов за спиной, когда он несся сломя голову чересполосицей запасных путей.
Ясно было одно: его должны сравнительно быстро найти, денежки отобрать, а самого его, без всяких вариантов, прикончить. Рашпиль знал, что для тех, кто выследит и будет отбирать и убивать, он и такие, как он, – всего лишь статистика, технические помехи при решении задачи. Кто он такой, чтобы предоставить ему шанс, вариант ответа, чтобы вообще ждать от него какого-то ответа?
Такие, как он, – объект охоты, а не субъект переговоров. Но пока что он на свободе. И он молод, силен и богат. О, уж это – без сомнения!
Рашпилю невыносимо сейчас было бы остаться одному: без дома, друзей и теплых молчаливых марух. С этим гробовым миллионом никуда не пойдешь и ни к кому не обратишься.
– Вот, Лора, – бесхитростно начал старлей, – это Саня Рашпиль. Давай возьмем его с собой к Валентине. Он хороший парень. И он сегодня угощает. Так, что ли, Саня?
– Отсюда надо смываться, – быстро, но совершенно спокойно проговорила Лора. – Но к Валентине не выходит, давайте-ка, сваливаем все отсюда, а по дороге разберемся.
Но от стальной кареты с красным крестом уже подходили к ним адский водитель Леандр и второй санитар, смотрящий волком при льве.
– Эй, парень, ты куда дел Петьку? – начал Леандр, при виде Лоры как бы сбрасывая скорость своего приближения к неистовой Лизавете.
– Мы с ним договорились, – не снисходя до подробностей, процедил Рашпиль. – Увидишься, он сам тебе все расскажет.
– Допустим, – не сдавался Леандр, – но раз ты не санитар, а ехал в моей машине, надо бы заплатить.
– Я же тебе тридцать штук, как копеечку, вот и считай, что за двоих, – вмешался Симонов в разговор, который неожиданно получался нервным.
– Не упусти, Леня, – мрачно поглядывая вокруг, бубнил санитар. – Ты же гляди, кто перед тобой. Богачи гребаные. Одна баба чего стоит, если с толком пустить.
– Я и говорю, – приосанился шеф, – нам чужого не надо, а своего не отдадим.
– Правильно, Лень. Артиллеристы, Сталин дал приказ!.. – вдруг заорал дурным голосом санитар.
– Меня зовут Леандр, – придвинулся шофер к Лоре вплотную, – если у ваших кавалеров… затруднения, то мы можем договориться. Так сказать, необязательно наличными.
– Я согласна, – опять опередила всех Лора. – Вы очень авантажный. Но здесь, вы же понимаете, мы все равно ничего не можем предпринять.
– Вы имеете в виду изобразить? – осклабился Леандр.
– Вот-вот, Леня, именно, как ты сказал, – изобразить. Сам понимаешь, изобразить ничего здесь не удастся. Так что давай разбегаться. Вот, возьми визитку. Завтра позвони, и мы с тобой изобразим все, что ты только пожелаешь.
А в это время еще один звонок раздался в квартире Кублицкого.
– Принимай донесение, Иван Григорьевич, – тяжело, надсадно начал говорить старший группы. – Мы все выполнили, что ты нам приказал.
– Молодцы, – чисто автоматически откликнулся подполковник. Но это он уже в последний раз прервал голос по телефону. Он был профессионал, смысл разыгравшейся на привокзальных путях трагедии вырисовывался перед ним совершенно отчетливо. И тяжелее только с каждым услышанным словом становилась трубка в руке, и ниже клонилась отяжелевшая, как смертный грех, голова.
– Ты, Ваня, подожди нас хвалить. Нет уж тех молодцов. Я знаю, что ты не предатель, поэтому и звоню тебе. Только ты уж, будь милостив, не перебивай. Тяжко мне, Ваня, с последним с тобой говорю. Две пули во мне, и обе никудышные. Только не спорь и не перебивай. Не трать время.
Ну так вот, ВОХРу мы, конечно, сняли, в смысле завалили, но не до смерти. Воришку, из-за которого сигнал прошел, они еще до нас успокоили. Там, правда, не так удачно у них получилось. У парня, когда он прыгнул из вагона, кейс раскрылся, зеленые, как ты понимаешь, и высыпались.
Теперь слушай основу. Те, о ком ты говорил, приехали, зашли в вагон, потом вышли и уехали. Все шло по плану. А потом… Я ничего не мог сделать, Иван. И никто ничего не мог сделать. Они скрытно взяли нас в кольцо, а потом сразу начали бить из всех стволов. А таковых, как я примерно определил, было задействовано до полусотни.
Мочили нас из тяжелых стволов, головы не поднять, со всех сторон земля фонтаном летит. Ты ничего не спрашивай, я сам все скажу. Нет у тебя больше моего подразделения: все полегли. И мои минуты, считай, уже не капают. А кроме меня… подожди, кажется Кортунов, сержант, куда-то уползал по ложбинке. Выжди денек. Если живой, даст знать о себе.
А теперь скажи, Ваня, зачем ты с ними связался? Неужели не видел, с кем дело имеешь? Ведь мы же с тобой через такое прошли… А ты вспомни, чем кончалось почти всегда? Кровь и предательство. А теперь следующий у них ты, Иван Григорьевич. Обратную чистку, воронье поганое, затеяли.
Засади ему финку, этому тухлому, кто заказ тебе делал. Под левый сосок, Григорьич, как у нас по уставу положено. Себя спасешь и ребят хорошо помянешь.
Все. Мне уже ничего не надо. Я тебя простил. А за остальных на тебе грех. Мы командирам доверять привыкли.
Со стороны проезжей части, а иначе говоря, Садового кольца, около Лоры стояли Симонов и Рашпиль, а чуть поодаль от них – Леандр, разглядывающий визитку, и санитар. Разоблачивший Рашпиля санитар понимал, что на его глазах Леандра дешево покупают и что память Петра, с которым столько выпито и которого почти наверняка этот мазай, переодевшийся в его халат, зарезал, останется неотомщенной и даже как следует не оплаченной.
Впрочем, санитар, если и выглядел возмущенным, если и смотрел зверем на кудрявого, как греческий бог, Леандра, то все это было напускным. В глубине души санитар понимал, что против лома нет приема, а против Лоры – какие споры? Сила, заключавшаяся хотя бы только в ее бедрах, была столь велика, что ее еле сдерживала черная кожа натянутой до предела мини-юбки. Ясное дело, что Леандр будет обнюхивать эту визитку всю оставшуюся жизнь. Как кобель след марсианской сучки, вышедшей на пять минут из летающей тарелки размять свои развратные марсианские ляжки. Эх, Петро, Петро. Но в таком случае следовало содрать с этого жигана хотя бы казенное имущество, то есть не принадлежащий ему халат.
А из темноты сквера снова вынырнули Алекс и Боб и тоже направились к Лоре.
Когда этот длинный черный лимузин только начал выдвигать свое серебристое рыло из туннеля, Алекс сразу почувствовал, что именно из него будут стрелять. Если бы он после этого произнес хоть слово или сделал бы одно лишнее движение, это стоило бы жизни всем или большей части собравшихся здесь людей.
Конечно, безупречность действий особенно хороша в трактатах по восточным единоборствам, а еще лучше – в терминаторских фильмах, с компьютером как главным режиссером – постановщиком виртуальной реальности. И дело не в том, что все это, мол, сказки, а в жизни ничего подобного не бывает. Но зрители, они же свидетели происшествия, ничего потом не могут рассказать о нем не только связного, но даже и последовательного. И кто же виноват? Ведь человек «видит» только то, что он успевает осмыслить. Чему успевает «придать значение».
И в самом деле, почему вдруг Алекс, чуть ли не в одном прыжке, в растянутом, как будто ветровом порыве, преодолел метров тридцать и оказался уже не в центре скверика, а около Леандра? И почему поднял на него руку? Пока пораженная публика только начала соображать, что дело здесь, видимо, не в порыве ревности, а в чем-то другом, лимузин уже вынырнул весь из туннеля и уже чуть дал вправо руля, то есть ближе к скверику. И уже заднее и переднее правые стекла начали плавно опускаться, и что-то за ними поблескивало, как хорошо смазанная, солидная и скучная – говорила же, что приду, – смерть. И Алекса уже не было рядом с Леандром, а он уже сидел за рулем чумовоза и уже повернул ключ зажигания. Потому что именно за этим ключом протянул он руку к нагрудному кармашку на ковбойке Леандра, когда подскочил к нему, а вовсе не для того, чтобы ударить в сердце за флирт-улыбку чужой красавицы.
Лимузин, снижая скорость и держась все правее, подкатывал прямо к скверу и к группе стоящих там людей.
Алекс врубил заднюю передачу. Он спланировал не врезаться в лимузин перпендикулярно, а, выкатывая свою машину на проезжую часть по дуге, отвлечь на себя внимание изготовившихся к стрельбе, оттесняя их машину от скверика и пристраиваясь в самом конце пируэта почти к ним в параллель, на противоходе.
Никто и никогда не был впоследствии допрошен по этому эпизоду. А что бы кто ответил, если бы, к примеру сказать, такой допрос состоялся? Скорее всего, санитар бы излагал, что на сквере один хулиган толкнул другого, но тот не упал, а вылетел на мостовую, прямо на Леандра, которого и ударил в грудь. Но шофер не растерялся и тоже не упал, а отшвырнул невменяемого хулигана к своей же машине. И кто-то, наверное, остававшийся там второй санитар, втянул его в кабину. И тут почему-то появилась вторая машина, она хоть и выворачивала влево, к Смоленскому гастроному, но оказалась такой длинной, что все не кончалась, и в конце концов корма белой машины ударила в корму черной. А тут еще и стрельба началась. А кто и откуда? Это вы что-нибудь полегче спросите. А только застучало как-то вразнобой. Поливали неприцельно, веером над головами. Нам-то что? Попадали, как чурки, и перележали. Я еще рядом с этой… Ох и задок у нее!
Может быть, из черной этой и стреляли. Она еще потом от удара по корме маленько как бы поплыла. Ясно, что управление потеряла, тут уж не о том речь. Она же ведь как пьяная, как мешок черного дерьма, понеслась под сорок пять градусов через осевую и прямиком в стеклянный вход гастронома влетела.
Что увидели и что поняли остальные свидетели, о том были бы составлены, наверное, целые тома увлекательнейшего чтения. По делу, которое, к счастью или к несчастью, никогда не было заведено и расследовано.
Майор Боб, в отличие от всех остальных, понял, что хотел и что сделал Алекс. Оттеснил расстрельную команду на лимузине, напугал, перекрыл сектор и в конце концов ударил по корме так, что у охотников зубы об стволы покрошились. Да, смысл действий Алекса Боб прочитал с листа. Но как Алекс успел все это сделать, этого Боб так и не понял.
Леандр сначала был потрясен до глубины души дерзкой попыткой угона его лайбы. У него из-под носа. Затем, когда раздалась стрельба и все уткнулись носами в асфальт, он понял, что подскочил к нему из сквера и выхватил из нагрудного кармашка ключи не кто иной, как последний полюбовник Лизаветы. Конечно, это месть ему, Леандрику, как называла его распутная медсестра, когда затаскивала его в ванную.
«Выследил, пес, и напал», – думал шофер, перекатываясь под бессистемным обстрелом поближе к задним колесам замызганного Жигуленка Лоры.
«Вот же как бывает, выследил, стервец, и поливает. И, между прочим, может попасть в невинных граждан. А в меня – луюшки тебе, луятки луевые! Ну, жив останусь, ну, Лизавуху заделаю! Деколона ей прямо туда, ах ты, стервь неумытая, на же, умойся!»
Они и не могли быть иными, более стройными или логичными, мысли человека, впервые в жизни попавшего под обстрел.
Рашпиль, в отличие от одуревшего от страха шоферюги, имел вполне реальные основания считать, что тесто поднялось из-за него.
«Ну, киллера-мудрилы, – повторял он про себя механически, накрыв голову кейсом и прижимаясь щекой к решетке сточной канавы, – на хвост сели классно, об этом не будем спорить. А вот лепят, как пьяный генерал на охоте в связанного кабана. Если и попадет, то с десятого раза. И не в кабана, а в егеря. А что это за шухер, который на Леньку-шофера из-за кустов прыгнул? Классно прыгнул, чистый зверь из Центральной Африки! А как он сразу же грудь у Леньки на части рвал! А потом? Зачем этот парень побежал прямо под колеса черного лимузина и прыгал на капот? Или он прыгал на белый? Или вообще не прыгал? То-то и оно. Чудны дела твои, Господи. А бошку пока лучше не поднимать. Негоже рисковать кумполом миллионера зеленого. И если уж это со мной случилось, то, значит, чего только на свете не бывает! И вот же оно и началось. Не успел я приклеиться к какому-то зачуханному старлею, как он меня прямиком выкатывает на первую красавицу. Понятно, конечно, он не считает меня опасным для себя, потому что не знает, сколько и чего в моем кейсе. Лежи, Саня, смирно, и если не убьет за раз, значит, еще поживешь… сколько-то».
Одна Лора знала истину, что стреляли именно в Симонова. А в остальных, если и заденет, то это чтобы не там не стояли. И не в то время.
Литератор Герб, в свое время познакомивший Мартина с Алексом, уже собирался ложиться спать, когда ему позвонила Валентина.
– Герб, – как всегда сдержанным тоном начала она, – ты Гарика знаешь?
– Привет, Валентина. Это какого, с площади, что ли?
– Ну конечно, ты там всех знаешь. Так вот, они поехали задать ему какие-то вопросы.
– Слушай, я позвонил в милицию и сообщил о смерти Марло.
– Ты назвал себя?
– Нет.
– Все равно. Если они не поленились и включили определитель номера…
– Мне скрывать нечего. Пусть приходят и спрашивают. А почему ты мне позвонила? Ты думаешь, что мне стоит пойти сейчас на площадь?
– У меня за два дома знакомая тут одна. Ее дом практически рядом со Смоленским гастрономом. Она позвонила и сказала, что около сквера какая-то перестрелка произошла. Вроде бы из встречных машин друг в друга палили. А одна после этого даже в гастроном, прямо в стекло центральное, вмазалась.
– Хорошо, Валентина. Я выхожу прямо сейчас. Посмотрю, как там и что и потом тебе позвоню.
– Лучше заходи. Я сегодня Лоре отказала, она с каким-то офицером хотела завалиться. А теперь уже жалею. Если встретишь там Алекса, забирай и его. Что-то сегодня новостей многовато.
– Принято, мадам. Приступаю к исполнению?
– Подожди минутку. Как у тебя с валютой?
– Двадцать баксов всегда ношу в правом носке. На случай встречи с вышедшей перед сном подзаработать мисс Мира. А в чем дело?
– Ладно, не буду тебя задерживать. Я знаю, что у тебя осталась от последней книги пара тысяч. И даже знаю, в каком банке ты их держишь.
– Еще бы тебе не знать, когда я сам тебе по пьянке растрезвонил.
– Поверь, это была не я. Ты пил в тот раз с кем-то другим.
– И что? Есть шанс обернуть их к утру втрое?
– Есть шанс сохранить то, что у тебя есть.
– Что я для этого должен сделать?
– Ничего. Дело в том, что, возможно, тебе будут делать якобы выгодные предложения. Ты понимаешь какого рода? Возможно, тебе предложат вынуть деньги из банка и на все что-то купить. А через неделю, мол, продашь за двойную цену. Может быть, скажут даже так: «Покупай все подряд. Покупай что угодно».
– Вроде среди моих знакомых финансовых авантюристов нет.
– А это здесь ни при чем. Какой авантюризм? Возможно, так будут говорить все вокруг.
– Ну, если уж все вокруг… И что же мне всем отвечать?
– Ничего. Просто сделай стойку дурака. Вот и все. Вы ко мне с какой-то валютой, а у меня, мол, «чай Липтон всегда под рукой».
– Валентина, мне, чтобы «чайника» изобразить, грима не надо, потому что я и есть «чайник». Только никто об этом не знает. Подожди, но ведь обратятся не ко мне одном?
– Отнюдь. Напротив, и те, кто советует, и те, кому советуют. Их будет великое множество.
– Но не у каждого, которому будут советовать, есть такая Валентина Кассандровна, как у меня?
– Думаю, что больше ни у кого.
– Но в этом случае все они, те, кому так посоветуют, возьмут свои деньги из банков, и банки лопнут.
– Может быть, не все.
– Какая разница? Лопнут ли они или нет на самом деле, повесятся ли президенты их правлений или их сначала задушат, а потом повесят, – какая разница? Главное, что нарушится траст, доверие, и платежи через два-три часа после возникновения ажиотажного спроса на валюту будут прекращены. И что же тогда произойдет?
– А то ты не знаешь? Ты просто потеряешь свои деньги.
– Негуманно, Валентина. Я не скряга и привык к скромной жизни. Но загашник – это святое. Он помогает мне больше любить своих героев.
– Если бы я сказала то же самое Алексу, он бы и сам, без уточнений, понял меня. Но у него нет двух тысяч в банке.
– Ну хорошо. Что есть такого, что Алекс бы понял сразу, а я никогда?
– Богатство – это то, по определению, чем владеют немногие. Оно и образуется таким образом, что нечто отделяется от очень многих к очень немногим.
– Разумеется, это так. А наоборот никогда не получится. Если на скачках очень многие поставят на лошадь, которая действительно придет первой, то хилый куш, разделенный между множеством выигравших, и вовсе превратится в гроши.
– Ты делаешь успехи. А теперь только оберни невозможность для всех по-настоящему выиграть на бегах на ситуацию с банками. Ты боишься, что многие, которые поступят не так, как ты, а наоборот, выиграют. Но многие выиграть, то есть стать богатыми, не могут по определению. Это для нас с тобой ясно, не так ли?
Кублицкий допил пятую пятидесятиграммовую рюмку коньяка и приставил ее к четырем уже опустевшим.
И в этот момент позвонила Лора. Он выслушал дочь молча, не перебивая.
– Вот так, папочка, вот такие пироги с начинкой из зайчатины. Ты был прав, когда предупредил меня насчет Симонова. Но мог бы сделать это и не так зашифрованно. Ну, слава Богу, все живы-здоровы, чего и тебе желаем. Симонова зацепило, но слегка. В плечо. Просто поцарапало. Не знаю, куда его и отправить. Тут один америкашка вроде бы готов взять его с собой. Он тут недалеко, на Маяковской. Да, кстати, я тебе не сказала, на нас тут нападение было совершено, прямо около сквера, на Смоленской, где мы с Симоновым о встрече договорились. Ты не волнуйся, никого и ничего не задело. Кроме Симонова. А его америкашка уже на Маяковской, наверное, перевязывает. Нет, ты представляешь, каков твой Симонов, какая лапочка? Вдруг приезжает на машине марки «форд», а в ней битком щизанутые и санитары. И кто из них кого вяжет, и кто кому чего колет или уже уколол, ни фига не поймешь. Ладно, пап. Ты, наверное, по ночам бандитов по телефону ловишь. Так что не буду занимать линию. Вот домой приеду и все тебе первому расскажу.
В ответ на это Кублицкий вынужден был вступить в разговор.
– Нет. Домой пока не приходи. Меня здесь тоже не будет. Неуютно стало у нас дома, дочка. А ты сейчас с кем?
– Я же тебе говорю, Симонова отправили на перевязку, но тут много других. Я с новыми людьми познакомилась.
– Вот-вот, дочка, это очень хорошо. Именно с новыми тебе теперь и надо. За новых и держись. Конечно, если люди хорошие.
Лора отлично поняла, что означает весьма глупый для постороннего уха совет держаться каких-то новых, совершенно отцу неизвестных. Он означал инструкцию отрицательного действия: в ближайшее время не идти на контакт с родственниками, друзьями и знакомыми. Она это поняла как бы между прочим и, как бы ничего особенного не поняв, продолжала щебетать:
– Да, папа, тут у меня много новых друзей. Есть такой Рашпиль, совершенно обалденный парень. Кажется, из бандитов. И еще тут один, Леандрик. Этот еще обалденней. Сразу стал меня уговаривать, ну, ты понимаешь, на что. Я, конечно, не такая дура, па. Я ему ясно дала понять, если он считает, что и Рашпиль должен платить наравне с Симоновым за то, что он его подвозил, то я здесь ни при чем. Ты когда, кстати, вернешься из командировки?
– Скоро. Думаю, дня через три, – ответил Кублицкий совершенно естественным тоном.
Ни в какую командировку он не собирался и дочери, естественно, ничего говорить об этом не мог. Но ее фраза означала примерно следующее: когда окончится эта очередная идиотская заварушка? Когда перестанут обстреливать ее кавалера вместе со всеми, кто стоит рядом с ним? И когда, следовательно, они смогут вернуться спокойно в свою квартиру.
И если бы он знал точный состав группы, которая окружала сейчас Лору, то заметил бы, что в пустой болтовне она упоминала кого угодно, но только не Алекса. Но Алекс не был ему известен. И никто не мог ему помочь, даже он сам.
Бывают ошибки, после совершения которых речь может идти только о том, чтобы принять их последствия с открытыми глазами. Это не знаменитая борьба за ликвидацию последствий.
Есть последствия, которые не ликвидируешь. Остается принять их на себя.
Он снова связался с Вороновым и сразу начал рубить, как будто рапорт зачитывал. Или приговор сам себе.
– Олег, ты меня выслушай, а потом скажешь, что думаешь об этом. Коротко говоря, я нарушил устав, присягу и, наверное, даже изменил здравому смыслу. Облегчающее обстоятельство только одно: у меня не было корыстных побуждений. Отягчающее обстоятельство: мои действия повлекли за собой тяжкие последствия.
– Какие?
– Страшные. Погибли люди.
– Какие? Сколько?
– Практически почти весь наш спецназ. Одну пятерку я, правда, оставил на базе. Да еще один или двое случайно спаслись. Итого максимум семеро. И только что в центре города обстрелян старший лейтенант Симонов. Слава Богу, с ним пока все обошлось. Но это я к тому, что операция не завершена и охота продолжается.
– Какая операция? Как вообще все это могло произойти?
– Генерал-лейтенант Толмачев предложил мне, а я согласился, вступить с ним в заговор с целью проведения акций по дестабилизации.
– Чего?
– Мне было заявлено, что отрицательные последствия наступят только для других. Имелось в виду, для других государств.
– Ага. А для нас, значит, лафа?
– Примерно так. Я согласился выставить своих людей для прикрытия операции. И они свою задачу выполнили. Но затем на них было произведено нападение. Это были или непосредственно люди Толмачева, или он нашел их где-то на стороне. Но это все равно, так как действовали они по его приказу.
– Может быть, произошел случайный конфликт? Все-таки дело ночное…
– Конфликта не было. И контакта не было. Их окружили и сразу открыли ураганный огонь. На уничтожение.
– Что ты предлагаешь?
– Немедленно арестовать Толмачева. А если не удастся, пустить ему пулю в лоб.
– У тебя есть доказательства?
– Мне позвонил один из уцелевших. Он умирал, после разговора я набрал его номер, но подошла жена и сказала, что он не возвращался с ночного дежурства. Значит, до дома он так и не дошел. А перед смертью люди не врут. Так ведь?
– Вероятно. Сам я еще не умирал, поэтому не могу сказать тебе точно. Это все?
– Я направил людей на поиски Кортунова, который, со слов звонившего мне, случайно уцелел. А только что я говорил с человеком, который уже побывал на месте событий. Он рассказал, что там были применены огнеметы. Затем они, видимо, подогнали туда грузовики. Ну, ты понимаешь, для ликвидации последствий.
– Так им это удалось? Ликвидировать?
– Конечно, в темноте и в спешке – не до конца. Следов бойни там еще предостаточно.
– Но до утра они могут исчезнуть совсем?
– А мы до утра, Олег Юрьевич, ждать не можем. До утра, если мы сами, без всяких прокуроров, не остановим Толмачева, от нас могут остаться только таблички на дверях кабинетов. Это до утра. А к обеденному перерыву исчезнут и они.
– Ты предлагаешь использовать статью о признаках непосредственной опасности для личности или государства?
– Какие там признаки? Опасность самая непосредственная. И, можно сказать, уже наступившая. Толмачев приступил к так называемой рекапульте.
– К обратной чистке?
– К ней самой. После моих ребят придет очередь тех, кто расправился с ними. Потом ликвидируют меня или обоих нас вместе. А закончится это все на самом Толмачеве. Но его куриные мозги не могут вместить, что у рекапульты острая вершина.
– Может, его тоже обманули? У тебя же, вот, не куриные, а он сумел тебя уговорить.
– Я не собирался никого убивать. Тем более боевых друзей. Ты что говоришь?
– Я вот что думаю, Иван Григорьевич. Непосредственную опасность для людей Толмачев, конечно, представляет. И остановить его прямо сейчас, ночью, необходимо. Тут нет вариантов. Но желательно его не застрелить, а задержать, а для этого требуются уже совсем другие резоны.
– Для кого?
– Для тех людей, с кем я собираюсь сейчас переговорить.
– Тебе нужны факты?
– Желательно их иметь. Что за операция?
– В области финансов. Валютная провокация, можно сказать.
– Та-ак… Ну ты хорош, Иван. Ты, может, финансист? Что же ты ввязался? Или, может, ты биржевой брокер?
– Голову мне Толмачев задурманил. Трескотней о том, что на доллар удавку натянем, а рубль – воссияет. И я, штопаный сапог, уши развесил и губы распустил. А он в это время уже ребят моих приговорил и исполнителей подыскал.
– Слушай, Кублицкий, а ведь и мне только что о валюте удочку закидывали. Я нахожусь на одной даче и здесь собрание происходит каких-то потрясающих старцев. Как будто ожил городок в табакерке, или что-то в этом роде. Я бы считал, что сошел с ума или наглотался галлюциногенов. Но боль в ноге, по которой меня сегодня «перетянули», и знаки внимания, которые оказывают мне хозяйка и ее дочь, говорят о том, что если тут кто и бредит, то это не я.
– Так что о валюте, Олег?
– Хозяйка меня уже один раз в гостиную водила, где старцы как бы собрание свое проводят. Как бы представили меня. Сначала, конечно, светские фразы пошли. Ни о чем и о погоде. А потом, очень опять как-то небрежно, посоветовали мне избавиться от валюты. Вынуть отовсюду вклады, если таковые у меня имеются, и выкинуть их на рынок.
– А это как?
– Приобрести на всю наличность все что угодно: недвижимость, камешки, барахло.
– Вложиться?
– Так точно, господин подполковник. Вложить все во что угодно. Они почему-то ожидают, что доллар переживет краткий, но очень резкий приступ слабости. Долларовые цены – на все! – взлетят в два-три и более раз. А потом так же внезапно вернутся на прежний уровень.
– А потом, Олег Юрьевич, может не быть даже супа с котом. Твои старцы, похоже, слышали звон, да не знают где он.
– Это то самое, что предлагал тебе Толмачев?
– Оно и есть. Ведь ты же не веришь в совпадения? И правильно делаешь. Только у Толмачева сценарий маленько другой, чем у твоих раритетов. Цены взлетят не в два-три, а в пять – десять и более раз. Но самое главное, что потом никуда они не вернутся. А будут подниматься еще и еще раз. До тех пор, пока доллар не превратится в деревянный. Как валюта одной славной, хорошо нам знакомой империи.
– Это же бред! А что будет происходить в это время во всем мире?
– Конечно бред. И что где будет происходить, я тебе не скажу, потому что сам ничего не знаю и не понимаю.
– И тем не менее…
– Вот именно. И тем не менее я поверил Толмачеву, что у наших яйцеголовых все просчитано и что куда ни повернет, а ничего, кроме пользы, для матушки-России выйти из этого не может.
– А на самом деле?
– А что на самом деле? Толмачев, конечно, теперь враг. Он кровь переступил, и теперь ему назад ходу нет. А только сдается мне, что и его запутали, как и он потом меня. Толмачева надо валить, он у них силовым ресурсом является. А вот у кого «у них», в этом надо разбираться. С чего начнем, начальник?
– Я сейчас проведу второй раунд переговоров со старцами, А ты начнешь с того, что немедленно покинешь квартиру. Твою пятерку спецназа, чтобы их никто не переподчинил, я перевожу в новую точку, в избушку на курьих ножках. И связи не дам. Но силой нам все равно генерал-лейтенанта не проштурмовать: маловато у нас сил.
– Что же ты предлагаешь?
– Постараться получить убедительные доказательства и выйти с ними на самый верх.
– А успеем? Первая легкая паника, как бы пробная волна, должна пойти уже завтра утром.
– Уже сегодня утром, ты хочешь сказать?
– Тем более. А дальше очень быстро – по нарастающей. Если не найдем, кто здесь крупье, то даже ликвидация или арест Толмачева могут уже ничего не остановить. Паника на финансовом рынке – страшная сила.
– Ладно, мы сейчас по телефону ничего с тобой не сварим. Старцы тоже какой-то прикуп держат. Но кто у кого в доле? О-ля-ля. Кстати, с какой суммой вы с Толмачевым начинали, как ты изволил выразиться, финансовую провокацию?
– Очень много, Олег, очень много. За половину ее или четверть одно государство другому войну может объявить.
– И доступ, разумеется, к ним закрыт?
– Конечно. Те же люди Толмачева. Он им приказал, они пошли и убили моих. А теперь блокируют груз с деньгами.
– Постой. А почему же он сразу своих не послал?
– Мои встречали уважаемых людей. И показывали им груз. А его люди никого не видели, даже тех, кого поубивали, ничего не слышали. Они внешнюю оборону заняли, и вся недолга. А что внутри и кто смотреть приходил, про то они, как я понимаю, не ведают.
– Слушай, а если сверху? Расфуганить весь объект, и пошли все к такой-то! А нет денег, музыкант футлярит скрипку.
– Можно, наверное, и сверху. Да ведь это в центре Москвы. А тебе кто туда долететь разрешит? Ну, ты думай, начальник. На то тебе и на фунт ветчины платят больше, чем мне. Я уже один раз подумал, теперь всю жизнь не оплачу. Теперь ты заводи. А я что? Я подчиненный. Если скажешь, на штык пойду. Лишь бы польза была.
Часть II
Когда я завладею всеми финансами, я прикончу всех и смоюсь.
А. Камю. «Калигула»1
Один не сильно пожилой джентльмен по фамилии Озерков внезапно после полуночи оказался один. Когда жена убедилась, что он пошел на третьи сутки запоя и, следовательно, снова будет всю ночь бродить по квартире как привидение и не давать спать, она тут же кинулась к телефону, и вот уже по ночным проводам заструились ее скорбь и гнев.
Потом она что-то на себя натянула, чем-то размашисто провела по губам и полетела по коридору на выход. А по дороге, проходя мимо кухни, взглянула на мужа, который сидел там в окружении пустых, полных и ополовиненных бутылок.
Хлопнула дверь, и в квартире воцарилась тишина. Озерков понял, что жена действительно ушла на всю ночь. Но ему нужен был слушатель. Иначе он мог уснуть. А во сне он уже не ощущал бы того кайфа. В случае отрубона получалась бы пустая работа и хлопоты. Зря он, что ли, сутками загружался, как под коммерческий рейс, под завязку, разнокалиберным алкоголем? Жена сошла с дистанции, что ж, ей виднее. У каждого свой расклад по кругам. Озерков понимал, что при темпе, который он задал, угнаться за ним хрупкой женщине невозможно. И сам он на финише этого крутого, далеко уже ему не по возрасту и не по силам, запоя рухнет, как некая биомасса, как дышащая на ладан биоконструкция, подлежащая долгому и мучительному капремонту.
Но все это не означало, что он должен был добираться до этого финиша в одиночку.
Он развернул перед собой рекламную страницу какого-то залитого темным пивом издания и изумился обилию телефонов с краткой пометкой «знакомства». Если бы Озерков был бы заурядный удила-мученик, то, разумеется, он по пьяни стал бы трезвонить куда попало. Но то был джентльмен. («Это-то и ужасно», – не преминула бы вставить при этом его жена, но… кто отсутствует, тому слово не дано.)
Поэтому, то есть по свойственной ему утонченности натуры, Озерков взял в рассуждение, что время теперь позднее, как бы не располагающее к доверительной беседе с незнакомым человеком. Хотя, с другой стороны, сами же приглашают. Вот же, так и написано: «Звоните – не пожалеете». Или вот еще: «Звоните прямо сейчас». И наконец то, что сняло все сомнения: «Очаровательная Виолетта. Незабываемое знакомство. На своей площади и с выездом. Круглосуточно».
Озеркова, считающего себя знатоком русского литературного языка, несколько покоробила «очаровательная» формулировка о «незабываемом» знакомстве «с выездом». Как бы здесь что-то отдавало очаровательной скорой помощью. А то и незабываемой реанимацией. И все-таки главное – это то, что звонить предлагали именно круглосуточно. То есть по крайней мере не обругают за позднее время звонка.
«Вот ведь что такое демократия, – не без умиления подумал Озерков. – Разве раньше такое было возможно? Сидит такая Виолетта одна и, натурально, скучает. И дает свой телефон в свободную от предрассудков газету, чтобы другая одинокая душа даже ночью могла приблизиться к ней по проводам в поисках тепла и сочувствия. А если с выездом? Возможно ли это? “А впрочем, чего только не бывает в эпоху развитого катапультизма?” – как выразился недавно литератор Герб. Не забыть бы ему, кстати, после конца приключения позвонить и рассказать все в подробностях. Или, как он сам всегда требует от рассказчика, постараться дать это «в цвете и запахе».
Разумеется, вариант «с выездом» потребует от Озеркова некоторых разумных расходов. Придется, конечно, оплатить такси для дамы. Туда и обратно. Это уж непременно. Ну, придется принять, как положено. Но и это не проблема. Насчет выпить-закусить, неслаб Озерков в эту ночь, нет, неслаб. И особенно его грела мысль – собственно говоря, не сама мысль, а ее формулировка – относительно «разумных расходов». В этот момент он и сам казался себе исключительно разумным. И даже – чего не мелькнет в пьяном мозгу! – эксклюзивно расчетливым, предусмотрительным и неотразимым плейбоем.
Озерков набрал роковой номер и спросил Виолетту. Ему ответил женский голос. Ответил с будничной готовностью, как отзывается на тупую иглу заезженная пластинка:
– Виолетты нет. Она дежурит с девяти утра.
– Так может быть вы… Я, собственно, звоню насчет знакомства, – заблеял Озерков, чувствуя почему-то, что отсутствие Виолетты наносит непоправимый удар по его вере в газетные чудеса, в частности, и принципы свободы печати вообще.
– Это не знакомства, – ответили ему опять с готовностью и терпением, – это только так пишется. Мы предоставляем платные услуги, с выездом на вашу площадь. Два часа – сто долларов. Вас устраивает?
– А, услуги? Понятно, – до предела растягивая слова, мямлил Озерков, так как ему действительно все становилось понятно, но это происходило слишком быстро, и нужно было выиграть какое-то время для перенастройки организма. – Это-то как раз мне понятно, насчет услуг. Но давайте тогда как-то поконкретнее, что ли.
– А поконкретнее, это уж от вас зависит, молодой человек.
– Не такой уж я и молодой…
– А вот это неважно. Кстати, сколько вам лет?
– Да уже под пятьдесят, – мучительно, как бы признаваясь в чем-то постыдном, выговорил Озерков, Но в ответ услышал ободряющее:
– Прекрасный возраст. Мы, знаете ли, предпочитаем иметь дело с мужчинами в зрелом возрасте. С ними не возникает проблем, не то, что с этой дикой молодежью. Итак, как вас зовут?
– Арчибальд, – почему-то соврал Озерков, который, разумеется, звался Платоном Николаевичем. Так назвали его когда-то родители и так подсказывала его внешность: широкие развернутые плечи и грудь и вместительный, и впрямь, как у настоящего Платона, лоб.
– Прекрасно, Арчи, а меня можете звать Брониславой! – воскликнула, явно воодушевленная возможным заказом диспетчер любви. – Итак, у нас большой выбор прекрасно сложенных, образованных и очень красивых девушек. Знакомство с ними совершенно безопасно для обеих сторон. Вы понимаете, о чем я говорю? Вам ни о чем не надо беспокоиться, у девушек все для этого есть с собой.
– Разумеется, – буркнул Платон, – безопасность прежде всего, не так ли?
Сто долларов у него как раз-таки было, намозолившая уже карман более года назад случайно образовавшаяся заначка. А щедрость, овладевающая человеком после первого застолья, на третий день праздника души превращается в жгучее желание избавиться от денег совсем. Не иметь их как таковых. Сжечь их дотла, засеять ими все поля и огороды страны, а потом вывернуть пустые карманы и закричать дурным голосом: «Граждане, на метро не хватает!» Эка красотища-то! Ибо знает перетрудившийся на алкогольной ниве, что с деньгами хорошо, а без них – слаще.
– Ваш телефон, адрес?
Платон безропотно назвал, поскорее переходя Рубикон. Теперь он, наконец, узнает, что же это такое – ночная жизнь столицы, о которой до сих пор читал только в газетах.
– Теперь ждите, вам позвонят. Ах да, я должна тут отметить: ваше предпочтение – блондинки, брюнетки, шатенки?
Платон был совершенно потрясен и очарован. Он чувствовал себя Гарун-аль-Рашидом Бейбутовым или, по крайней мере, директором кордебалета. Он хотел было прояснить, что для него хороши и те, и другие, и третьи, и что вообще, был бы человек хороший, но не тут-то было.
Бронислава, как бы и не ожидая от него разумного ответа, продолжала, что называется, дуплить:
– Высокие или средние? Так. Обязательно с высшим образованием? Так. Необязательно. Только до двадцати или можно до двадцати пяти, двадцати семи? Понятно. Теперь так. Я передаю ваши данные передвижным группам. Мы находимся очень далеко от вас, и, если ехать отсюда, вы будете очень долго ждать. Ведь вы не хотите долго ждать?
– Нет, конечно. Еще усну, – вдруг слегка зевнул Озерков. Теперь, когда в принципе дело было сделано и оставалось только ждать, на него действительно накатилась неодолимая усталость и безразличие ко всему на свете, даже к ночной жизни большого города и к тайнам большого порока. И если бы не необходимость сохранить лицо – а именно лицо эксклюзивного плейбоя, – он был готов снять свой «заказ» и тут же отрубиться от любых неожиданностей быстротекущей жизни.
Но Бронислава была, разумеется, профессионалом. Она тонко чувствовала момент. Она подсекла добычу и теперь, не мешкая, выводила ее на поверхность.
– Ничего, не заснете. А когда увидите нашу красавицу, с вас не только сон, но и все остальное слетит. Значит, Арчи, сделаем так. У нас в вашем районе как раз две машины с очень хорошими девушками. Одни из лучших, это я вам говорю. Одна из них с вами свяжется и приедет.
– Они еще будут звонить? Когда?
– Очень скоро. Ждите минут через десять.
– Файн, – блеснул своим запьянцовско-английским Озерков и хотел уже повесить трубку, но Бронислава, видно, еще не дочитала инструкцию и успела добавить:
– Я надеюсь, что вы, как интеллигентный человек, не причините ущерба сотруднице нашей фирмы. Имейте в виду, что это обычно влечет за собой или очень крупный штраф, или другие неприятности. К тому же я не знаю, как там другие, но у нас на фирме два ограничения. Вы меня понимаете?
– Честно говоря, нет.
– Ну как же, это стандарт. Разумеется, от вас я ничего подобного не ожидаю, но на всякий случай имейте в виду: минус два. Минус оральный секс и минус групповой. Вы ведь сейчас один?
– Все понятно. Нет проблем, – заверил ее джентльмен, и странный ночной разговор закончился. Состоялся.
Действительно, ему позвонили – водитель автомобиля, как он понял, – и он сказал свой адрес и уточнил, как удобнее к нему добираться, если они едут по Тверской, от Центрального телеграфа. Уже ни о чем не думалось. Арчибальд, ждущий обманувшую его Виолетту, сидел, как заяц, внутри широкоплечего Платона и изумлялся природной глупости джентльмена Озеркова.
Раздался звонок, и он открыл дверь. В прихожую стремительно, слегка оттесняя хозяина в сторону, вошли два молодых амбальчика. Они быстро продвинулись в глубь квартиры, бросая цепкие взгляды на жилые комнаты, ванную и кухню.
Словом, повели себя как охрана президента или ВИПа – очень важной персоны – непосредственно перед ее появлением.
И персона появилась. Она была действительно очень хороша собой, прекрасно сложена и на диво выхолена. И очень молода. И сверкание крупных волнующих глаз дополнялось посверкиванием дорогих серег. Да, это был класс! И пусть ее зовут не Виолетта, она была неожиданнее и лучше, чем все, о чем только можно было мечтать или подумать.
А неповторимый аромат парижских духов? А грива свободно льющихся коричневых волос? Вот про таких породистых кобылиц и восклицают с телеэкрана: «Вэлла, вы великолепны!»
Еще за какую-то секунду до ее появления с лестничной площадки Озерков воспринимал ситуацию так, как будто в любой миг могла раздаться до боли знакомая из гангстерских фильмов команда: «Всем стоять. Идет ограбление».
Когда его оттеснили к вешалке в прихожей и, не обращая на него внимания, буквально ринулись в глубь квартиры, он вспомнил, как Бронислава спрашивала его, один ли он у себя дома. А вот теперь и эти двое шарят вокруг взглядами, как волки несытые. Формально они, конечно, правы. И их действия необходимы, как обеспокоенность за здоровье и безопасность «сотрудника фирмы», которой предстоит остаться здесь наедине с клиентом.
Итак, эти двое, как и Бронислава до них, были чрезвычайно озабочены установлением того факта, что они имеют дело только с одним человеком. Хорошо, если это все та же озабоченность недопущением группового секса. То есть ничего здесь хорошего, конечно, тоже не было. А была какая-то сплошная паранойя. Можно подумать, что население Москвы всё состоит из любителей групповухи, с мелкими вкраплениями садистов и серийных убийц. Впрочем, охранное отделение этой специфической фирмы имело, наверное, в этой области свой, специфический, опыт. И не ему им указывать.
Но дело могло заключаться вовсе и не в охране каких-то там сотрудниц, мифических, прячущихся за подставными телефонными номерами, недосягаемых красавиц. Дело было в этих двух амбальчиках, которым даже не надо было взламывать его двери. Он сам впустил их сюда! И теперь он полностью в их власти. Они в любой момент могут ограбить его и убить. А что такого? В криминальной хронике самых кровожадных московских листков сколько угодно таких случаев. Да, прямо сейчас на него могут напасть и избить. Изувечить. А что он может сделать? Конечно, он назвался Арчибальдом, и вообще, он плейбой. Но не до такой же степени?
Но как только в квартиру вошла она, страхи тут же покинули его. Возить такое диво на грабежи и убийства было бы явно нерентабельно. Неоправданно и даже бессмысленно. Ибо ей и без грабежа везде все бы дали. И неужели ему достанется такая игрушка на целых два часа? О, теперь Озерков понимал молчаливую озабоченность, с которой охранники провели рекогносцировку на местности. Будь он на их месте, он бы вообще привязал клиента к стулу напротив «сотрудницы» и напутствовал бы его такими словами: «Смотреть, парень, смотри, а руками не трогай».
– Катрин, – представилась она первая и, не дожидаясь ответа, прошла мимо мужчин в гостиную. Что-то всю эту, прибывшую к нему, троицу беспокоило. Что-то не устраивало или как будто смущало.
– Ладно. Значит так, – сказал один из амбальчиков, который выглядел постарше и пограмотнее другого. – С правилами вы знакомы. Через два часа мы позвоним в дверь. Деньги давайте мне.
Платон вынул заранее приготовленную сотню из нагрудного кармана рубашки и протянул ее хорошему человеку, который, кажется, не собирался грабить его и убивать. Но для хорошего человека дело, как известно, прежде всего.
– Нужно двести, – сказал он, не глядя Озеркову в глаза.
– Как же так? Мне же по телефону ясно было сказано, что сто.
– Правильно. Так всегда у нас и было. А только что мне позвонили в машину.
– Бронислава?
– Да какая там!.. Разве такие дела она определяет? Нет, это от центрального диспетчера. Теперь, прямо с этой ночи, двести.
– Может, это ночной тариф? – слегка обозначился джентльмен. – Днем – сто, а ночью – двести. Вдвойне, так сказать.
Двухсот у Платона не было. И он вообще не понимал, как за десять минут цены на что бы то ни было могут вырасти на сто процентов.
– Нет, вы не понимаете, что я вам говорю, – охранник казался более раздосадованным, чем клиент. – Завтра днем будет столько же, сколько и в эту ночь. То есть двести. И послезавтра. А через два дня на третий будет триста.
– Руслан, это правда насчет трехсот? – раздался из гостиной голос Катрин.
– Насколько мне известно, новые ставки уже утверждены и вступают в силу одновременно во всех регионах.
– Что же они творят? Это же блеф, а не цены. Они рубят нас под корень.
– Согласен, детка, – ответил Руслан, – но это уже не нашего ума дело. На что-то, значит, они там рассчитывают. А вам, – он обратился наконец к Платону, – можно сказать, не повезло. Минут на двадцать пораньше, и вы пошли бы у нас по прежнему тарифу. Вы, может быть, мне не верите? Вот номер, позвоните в центральную диспетчерскую, там вам подтвердят.
– Нет, дело не в том, что я не верю. Лично вам я верю. Но как это все вообще может быть? Разве так бывает? Такие скачки. Да и у меня… как бы вам сказать? Вот, специально сто и отложено. А откуда ж еще?
– Руслан, а насчет кредитных карточек ты помнишь? – Катрин, почувствовав, что квартиру придется, скорее всего, покидать, вышла из гостиной в прихожую, к мужчинам.
Будучи абсолютно уверен, что дело его проиграно и сказочная птица Катрин никогда не дастся ему в руки, Озерков был тронут до глубины души ее вмешательством в разговор. Никаких кредитных карточек у него, разумеется, как у любого уважающего себя русского человека, никогда не было и быть не могло. Но ведь она явно затягивает дело. А это значит, что она не хочет покидать его дом. Место, где обитает плейбой. Уж это любой женщине должно быть понятно с полувзгляда.
– Да, я забыл вам сказать, – начал охранник, как бы извиняясь, – о новой форме оплаты. Опять-таки, только с этой ночи введена. Поэтому и голова дырявая. Еще не привыкли мы к этому. Вы можете заплатить по-прежнему всего одну сотню, но только в том случае, если вы являетесь обладателем кредитной карточки «Глобал Экспресс», – Руслан с трудом вывернул к концу длинную фразу, явно выученную им наизусть из инструкции. – Как я понимаю, этой карточки у вас нет. И двух сотен тоже нет. В таком случае мы должны ехать дальше. Расценки были изменены в последний момент, поэтому к вам претензий нет. Это я к тому, что штраф за ложный вызов в данном случае не выписывается.
Катрин, уже ни на что не надеясь, вознамерилась проскользнуть по коридорчику между охранником и хозяином квартиры. Когда она поравнялась с Платоном, он, неожиданно для самого себя, положил ей руку на талию. Или на бедро? Скорее, куда-то посередине. Так или иначе, но девушка вынуждена была остановиться и не без интереса взглянула прямо Озеркову в глаза. Он задохнулся запахами ее духов, волос и всей ее дико молодой, нерастраченной плоти.
Она все это поняла, все это буквально увидела у него на лице и не спешила пройти мимо. Она и впрямь не хотела покидать эту квартиру, но, разумеется, вовсе не по причине внезапной страсти к явно престарелому ковбою Садового кольца. Престарелый ковбой сразу был зачислен ею в разряд лохов. Но, с другой стороны, это был вполне симпатичный дядечка. Катрин точно знала этот тип клиента, и, надо сказать, он ее еще как устраивал.
Из отведенных им двух часов такие мужчины не меньше полутора часов затрачивали на тосты, посвященные различным мировым проблемам, продолжали накачиваться спиртным и попеременно то заливались слезами, то пускались в пляс.
Оставшихся тридцати минут хватало – или не хватало – на то, что уточнять не будем. Интеллигентный лох – не последнее дело на последнем твоем ночном выезде, когда и глаза бы уже ни на что не смотрели.
– Что? У нас есть варианты? – она мягко, хотя и не без легкой насмешки, подчеркнула свое «у нас», откидывая гриву своих ухоженных волос назад, а бедро под рукой Платона как раз наоборот, подавая вперед.
– Есть. У меня рядом один американец живет. Вообще-то это квартира литератора Герба. Мы с ним керосиним мал-мала, он керосинщик лютый, можно сказать.
– Кто, американец? – при упоминании дружественного нам народа Америки Катрин несколько оживилась.
– Нет, Харт – это американец. А Герб – литератор, он сосед мой, на одной лестничной площадке живем. Но сейчас он сдал квартиру в аренду Харту, американцу. Этот крутой. Но у меня к таким подход.
– Ладно, кончай ля-ля, – вмешался охранник. – Я бы в такие дела посторонних не вмешивал. Но если у тебя так уж заиграло, звони. Мы ровно одну минуту подождем. Так, что ли, Катерина?
– Алло, это мистер Харт?
– Кто вы?
– Ваш сосед по лестничной площадке, Арчибальд. Он же Платон. Мы иногда с вами раскланиваемся у лифта. Я друг вашего друга, литератора Герба. Замечательный человек, не правда ли?
– Совершенно с вами согласен. Немного поздновато, а, мистер Озерков? Впрочем, чем могу быть полезен?
«Ого! Он и фамилию мою знает. Герб, что ли, ему сказал?» – пронеслось слабое дуновение здравого смысла в тревожной атмосфере Платоновых алкоидей.
– Видите ли, мистер Харт, я трижды извиняюсь за столь позднее вторжение, точнее говоря, появление на вашем горизонте. Что только я могу, я все для вас сделаю. Я никогда вас не подводил, мистер Харт, не так ли?
– Как я понимаю, у вас еще не было для этого повода. Итак, что у вас там стряслось?
– Да в общем-то ничего, мистер Харт. Я заказал платные услуги, есть такая форма обслуживания, называется «с выездом на дом».
– А какие услуги? В чем они заключаются?
– Это трудно определить одним словом, здесь нужно перо нашего общего друга литератора Герба. В общем, это, как у нас в России говорят, все для человека. Все на благо человека. Представляете, мистер Харт, как это здорово все придумано? И я должен вам сказать, что я просто глазам своим не поверил… Это не пустые слова, мистер Харт, можете мне поверить. Я вас никогда не подводил и не подведу, но я вам гарантирую, что и вы не поверили бы своим глазам. Это вам не штат Кентукки, – вдруг почему-то сорвалось у Озеркова под конец.
– А сколько это стоит, то, чему вы глазам своим не поверили? – Харт был уже почти уверен относительно характера ночного заказа, равно как и относительно специфического состояния духа своего соседа. – У вас что, денег нет?
– Деньги как раз есть, я их специально приготовил. Но случилось неожиданное, мистер Харт, можете мне поверить, я и сам удивлен не меньше вас. Они вдвое подняли тариф.
– Понятно. Это, наверное, в связи с ночным временем исполнения заказа.
– Я и сам так думал. Но дело не во времени. И завтра днем будет вдвое дороже. А послезавтра – втрое. Тут вот сотрудники агентства у меня, говорят, что и сами не рады такому скачку цен.
– Еще бы. Это может подорвать спрос.
– Они именно этого и боятся. Но руководство агентства как будто идет напролом.
– И все-таки вы хотите занять у меня деньги?
– Нет, Харт. Благодарю вас, я знал, что вы не подведете. Но боюсь, что у меня не будет в скором времени возможности расплатиться.
– Тогда что вы хотите мне еще сказать?
– Они внедряют новую, прогрессивную форму расчетов. Наличными – двести, а если у вас есть кредитная карточка, то всего лишь сотня. Вот я и подумал, вы предоставите им свою карточку, они снимут с вашего счета сто долларов, а я эту же сумму передаю вам из рук в руки.
– Хорошо. У меня, конечно, есть кредитная карточка. И даже не одна. Но какая именно требуется им? У них должен быть соответствующий электронный терминал.
– Руслан говорит, им нужен «Глобал экспресс».
– Может быть, он имеет в виду «Глоб экспресс»?
– Да, конечно. Вот он тут, рядом со мной, раскрыл папку и показывает мне это название. Вы совершенно правы, мистер Харт. Надеюсь, у вас эта карточка имеется?
Но мистер Харт далее задал совсем не те вопросы и проявил себя совсем не с той стороны по сравнению с тем, чего ожидал от одного джентльмена другой джентльмен, то есть Арчибальд, он же Платон Озерков, – Слушайте, Арчи, я вам постараюсь помочь. Но не так, как вы ожидали. Кажется, вы попали или можете попасть в очень неприятную историю. И, быть может, опасную.
– Я вас слушаю, мистер Харт. Но я вас пока не очень понимаю.
– А я и сам пока не очень что-то понимаю. Вот и постараемся вдвоем это выяснить. Итак, давайте говорить как джентльмены: я буду спрашивать, а вы отвечайте. Но главное, без единого комментария с вашей стороны.
– Я вас слушаю, мистер Харт. Вы же знаете, Платон не подводит.
– Сколько всего людей к вам пришло?
– Трое.
– Мужчин?
– Двое.
– Они опасны? Вооружены, агрессивны?
– Я бы не сказал, сэр, что это выглядит именно так. Но, вы ведь понимаете, многое зависит от обстановки.
– Хорошо. Я сейчас зайду к вам. Постарайтесь, чтобы это не вызвало у них подозрений. Можете говорить про меня, что хотите, я переживу. Но главное, чтобы они расслабились. И зовите меня, кстати, Чарльзом. Для них мы с вами должны выглядеть старыми приятелями. Понимаете? Иначе они могут подумать, с чего, мол, старый дурак принимает такое участие в делах молодого дурака.
«А с чего это, действительно, старый американец Харт принимает во мне такое участие? – подумал Платон. – Наверняка из-за Катрин. Наверное, даже в столь поздний час многие американцы не спят, а маются дурью. И все им чего-то не хватает. Американцы избороздили весь земной шар в поисках этого «чего-то», но не могут попасть в точку. Теперь вот стали называть эти поиски расширением рынков сбыта. Бизнесом-шмизнесом. Вот Харт по ночам и дорасширялся. Небось когда они из лифта выходили, этот папа Карло американской мечты разглядывал их через дверной глазок. Двойное выпукло-вогнутое стекло, разумеется, искажает пропорции. Но Катерину не исказишь! Нет, это не тот случай».
– К нам зайдет сейчас мой сосед. Он очень богат и решит все наши проблемы, – с важным видом проговорил Платон.
– Слушай, приятель, тебе разве по телефону не говорили, что такое «минус два»? – не слишком решительно встрял Руслан.
– Минус групповой, это что ли? – небрежно парировал Озерков. – Так об этом забудьте. Мой давний друг – настоящий западный джентльмен. Это тебе, Руслан, не купи-продай, а настоящий североамериканский крутняк. А у них там, кстати, насчет группового очень большие сложности с законом. Так что они насчет этого так уж и привыкли: по доброму согласию, тут никто тебе и ничего. А уж насчет группового, это уж ни-ни, шалишь, братец, – вконец уже зарапортовался Озерков и наконец запнулся.
Руководитель делегации – Руслан. Ему и решать, как быть дальше. Руслан владел всего одним, но зато безотказно действующим приемом, позволяющим ему избежать неприятностей. При малейшем сомнении он предпочитал держаться как можно дальше от всего непонятного. Вот бы ему и сейчас применить свой прием, то есть попросту говоря, сделать ноги. Видел же Русланчик, что попали они хоть и к лоху, но сильно путанному мужику. А с такими иногда завязнешь почище, чем с крутыми. Но тут эта Катрин не вовремя подала голос. Как же, про фирмача услышала.
Какое тут ей «минус два»? Этому долговязому детскому саду, чтобы только прогреться, – весь алфавит подавай. Она тебе закоротит, что на «плюс», что на «минус».
– Вот ты всегда такой, Руслан, – начала Катрин капризным голосом. – Чуть что – и бежать.
– А ты-то что предлагаешь? – подал наконец голос второй охранник от дверей. – Мы же ведь этого второго совсем не знаем.
– Вот и узнаете. Чего бежать-то как угорелым? Только приехали, можно и посмотреть, что здесь и как.
– Между прочим, мы из-за тебя и ездим, не забывай, Киса, – тоном резонера произнес Руслан. – Это нам, что ли, с Эдиком надо? О твоей же безопасности базар ведем.
– Вам же сказали, что это гражданин Североамериканских Штатов. У них с этим строго. Вам же Арчибальд сказал.
– Ну, смотри сама. Это уж как вы там договоритесь, – помягчел Руслан, прикидывая про себя, что и ему с Эдиком могут перепасть кое-какие комиссионные, которые не пойдут под учет в центральную диспетчерскую.
Раздался звонок в дверь.
– Эй, Чарли, заходи. Чего звонить? – подал прерываемую икотой реплику Озерков, продолжая разыгрывать из себя приятеля американца. – Еще вчера мы тут с ним ой и накеросинили, а сегодня, видишь, они уже и стесняются. Заходи, Чарли, пропойные наши с тобой головушки, у меня для тебя запоров нетути! – заголосил опять хозяин квартиры.
«Надо все-таки делать ноги, – подумал Русланчик, – дурные тут какие-то все».
Эдик ничего не подумал, потому что не видел в этом пока необходимости.
Чарльз услышал, наверное, снаружи заполошные вопли закеросинившегося соседа. Он не стал звонить еще раз, а просто повернул ручку двери и зашел в квартиру.
Высокий, спортивный, сохранивший, независимо от заметно проявившегося возраста, кошачью гибкость движений, Харт выглядел, конечно, как настоящий американец. И это тут же все увидели и оценили. И стандартно-упитанные – по лучшей современной моде – Русланчик с Эдиком как-то поприжухли. Перед ними стоял не напарник этого, вконец заквасившего лоха Арчибальда, и даже не богатенький попрыгунчик-торгашок из-за океана. Несмотря на то что он был одет в штатское, в Харте чувствовался генерал. Да, натуральный генерал. И государственный человек. При исполнении.
Хочешь не хочешь, а прежде, чем такому стукнуть по голове, подумаешь: а что мне потом за это будет?
Харт кивком головы обозначил, что поздоровался со всеми, и, безошибочно определив главного, подошел к Руслану.
– Голубой форд-фургон во дворе, это ваш?
– А если и так, то что?
– Скажите вашему напарнику, пусть пока подождет вас внизу, в машине.
– Это зачем?
– Мне надо задать вам несколько вопросов.
– Так задавайте.
Харт наклонился с уху Руслана и понизил голос:
– Вы можете хорошо заработать. И об этом совсем необязательно знать остальным. Вот это, – Харт показал охраннику купюру во внутреннем кармане своего пиджака, – получите сразу, и вдвое – через десять минут, если ответите на несколько самых простых вопросов.
– Эдик, я тут с клиентами базар пока буду заканчивать. А ты спускайся вниз и жди меня там.
Эдик не понял, но пожал плечами и вышел. Катрин не очень понимала, состоится ли нарушение пункта «минус два», и если состоится, то сколько это принесет ей лично. Она была воспитанной девушкой и не могла прерывать старших, то есть Руслана и Харта, пока те не закончили разговора.
– Ты пока оставайся тут с этим, – как бы нехотя бросил ей Руслан, – он ослабел, так что ничего с тобой не случится, а мы в той комнате с американцем потолкуем.
Мужчины удалились, а Катрин осталась наедине с внезапно совсем загаснувшим Арчибальдом. Она села в глубину дивана, а он, как измотанный пес, подогнув колени, устроился рядом, положив голову ей на колени.
Она взъерошила волосы у него на затылке, слегка покатала лоховскую головушку, устраивая ее поудобнее между своих широких мягких бедер, и рассеянно в это время думала: «Подыши туда, подыши. Не так уж и горячо. Это ладно. А те? Придурки стальные. Сейчас небось бабки делят и «минус два» отменяют. Мне-то что? Этот не в силах. А иностранец – вообще отпад. Каким-то от него одеколоном потрясным дохнуло. Не забыть бы спросить, пока не залезет. А то они все так. Пока не залезут, о чем угодно могут рассуждать. А уж после ни о чем, кроме как о ночном транспорте, состоящем, как известно, из метро и такси. А может, американец как раз Русланчика решил и «натянуть»? Вот смеху-то… А чего? Русланчик упитанный, румяный, и тут у него все в норме, и вокруг. И ничего тут, конечно, особенного. Кто же свое упускает, когда оно само дается? Вот только денежки он положит себе в карман, минуя центркассу. Виолетта и Бронислава к нему неплохо относятся, но вряд ли он и этим подружкам-опекуншам что-либо доложит. А значит, придется немного и угостить меня с Эдиком. Эх, дуреха я неоструганная! Какое там кто кого натягивает! И как же я сразу не догадалась? Ведь он же мент! Как он вошел и как обратился, это и дите в колыбели в сомнении не будет. Пусть не наш, и по-другому у них, наверное, называется, но ментяра же с ног до головы. То-то, я смотрю, Эдик поскучнел и выкатился. И мой Арчибальд босоногий затух в момент. Одна я не поняла. И Руслан. Руслана сейчас повяжут. А мне пора делать ноги. Может по любви ему дать? Без прихода? Нет. Американец очень самостоятельный. Такой или спидяры боится, или попользоваться попользуется, а потом все одно – повяжет. И ведь не по ее же женской части будет такой шикарный мужик что-то выслеживать, да так, что аж ночей не спать? Нет, видно, Русланчик ничего мне с Эдиком не говорил, а сам чем-то еще промышлял. Но на кого теперь опереться? На Эдика? Или вот на этого сонного князя по прозванию “Глупей не бывает”»?
А в соседней комнате шел совсем о другом разговор.
– У вас эта такса, в сто долларов, давно установлена?
– Я так понимаю, что года три-четыре назад. Меня тогда еще здесь не было. А в этой системе я всего второй год.
– А еще раньше? Сколько это стоило?
– Раньше? Это когда Гайдар, что ли, по первому разу дал прикурить? О, тогда ваш зеленый стоял, как у павиана на блондинок. Кажется, полсотни это тогда стоило или даже меньше. Разные тогда варианты крутились: полсотни – это на ночь или даже на сутки. А так, как сейчас, на два часа, тогда это можно было устроить за тридцать или даже за двадцать баксов. Рынок услуг был еще неупорядочен, почти, можно сказать, свободен.
– А сейчас?
– Все договорились. И цену держат.
– Значит, если вы с сегодняшней ночи выставляете двести…
– А через двое суток – триста.
– И это не только у вас, но столько же будет выставлено у всех, кто занят в этом бизнесе?
– Именно так. Руководство уже приняло решение.
– Вы кого-нибудь знаете из руководства? Могли бы кого-то назвать, если бы возникла необходимость побеседовать?
– Это будет уже другой разговор. А с этим случаем у вас все?
– Боюсь, что задержу вас еще на несколько минут. Кстати, у вас не возникнут проблемы с вашими людьми? Что вы им скажете о нашей беседе?
– Чепуха. Какие там проблемы? Я знаю этих людей. Они доверчивы и добры. Никто тут, мистер, не хочет никаких осложнений. А под совсем небольшую смазку наличными вам поверят, что бы вы ни рассказали. Эдику я, например, расскажу, что вы крупный заказчик. Мы показали товар лицом и всем остальным, чем положено, вы увидели и офонарели.
– Это как?
– Это в том смысле, что оценили качество товара и решили заказать крупную партию, ну, допустим, на неделю-другую, в свою летнюю резиденцию, на сезон, если можно так выразиться, летних приемов важных персон.
– Но я ничего у вас не закажу.
– Ну и что? А кого трясет чужое горе? Переговоры состоялись, а сделка нет. Бывает? Сколько угодно. Значит все, проехали. Наплевать и забыть.
– А женщина?
– Катрин? Эту не проведешь, нет. Да она гениальнее вашего Эйнштейна в двадцать пять раз, – и это факт. Правда, она не тем органом думает, что Эйнштейн, а совсем другим. Следовательно, как вы понимаете, у нее и другая картина Вселенной получается, чем в теории относительности.
– И в ее картине мы с вами…
– Разумеется. Чем же еще мы можем заниматься, если мы закрылись вдвоем. Именно этим самым. Или уж, как вариант, обсуждаем, как подступиться к ней самой. С какого, так сказать, конца. А уж доверчива! Просто как гимназистка. Если ей, к примеру, засунуть за лифчик двадцатку зелени сверху, то она может поверить даже в то, что ее забирали на тарелку, и инопланетяне кавказской национальности ставили гнусные эксперименты над ее белым молодым телом.
– Замечательно. То есть я хотел сказать, замечательные у вас люди. Значит, говорите двадцатку сверху? А если еще столько же снизу? Ну, вы шутник, Руслан. Однако давайте-ка пройдемтесь еще раз по некоторым вопросам.
Харт специально кружил и петлял в разговоре, как бы придавая одинаковую ценность тому и другому, и тем самым обесценивая и то, и другое, и третье. Он видел, что перед ним – неглупый парень, ведь он даже не спросил пока Харта, почему тот заинтересовался их самой обычной конторой по оказанию самой обычной помощи населению. Если бы он спросил, Харт собирался предъявить свою официальную крышу, то есть Представительство ФБР в Москве. Продекламировать что-нибудь вроде такого стишка: где проституция, мол, там и криминал. Где криминал, там наркотики. А к наркобизнесу, что тоже известно во всем мире, ФБР дышит очень неравнодушно.
Но парень пока ни о чем не спрашивал. Значит, он считал, что в общем и целом разговор еще не вышел за рамки той суммы, которая была ему обещана. Неопасный такой, спонтанный разговор. Хорошо бы, чтобы он и дальше воспринимал его таким и не испугался, когда речь зайдет о главном. О том, из-за чего Харт так встрепенулся после дикого ночного звонка обезумевшего от пьянства соседа. Из-за чего он нарушил после этого звонка все правила личной безопасности, правила конспирации и все остальные правила, о которых он когда-либо слышал в своей жизни.
– Неплохое дельце, как я погляжу, – продолжил Харт выматывать душу юного Русланчика. – Неплохой бизнес. И неплохо налажен.
– Да вроде того, что все фурычит, – неопределенно согласился Руслан.
– Зачем же такие неосмотрительные шаги, как будто вы сами против себя.
– А что здесь такого? Новая форма оплаты.
– Сначала вы произвольно взвинчиваете цену. Со ста сразу на двести. А через день, как ты сказал, будет триста. Такие деньги девяносто процентов клиентов платить откажутся. Произойдет резкое падение спроса. Даже ваша Катрин это понимает.
– А чего же тут не понять?
– Далее вы предлагаете свои услуги по прежним стабильным ценам, но только владельцам кредитных карточек «Глоб Экспресс». То есть получается, что ваша фирма готова идти на риск потери большей части клиентуры. И она готова даже ничего не иметь за этот риск, получая по-прежнему от единичных пока в России обладателей этой карточки по сто долларов. И все это ради чего?
– Вообще-то это не нашего ума дело, мистер иностранец. Но здесь речь может идти об одном: о завоевании рынка сбыта.
– Браво, Руслан. Некая компания, чтобы приучить жителей вашего города пользоваться ее кредитными карточками, продвигает этот свой товар на ваш рынок. Причем делает это не то что решительно, а, я бы сказал, беспощадно. Беспощадно не только по отношению к клиентам, но и к самой себе. Ведь чтобы ваша и десятки подобных фирм приняли участие в таком, по сути дела, пока разорительном для них эксперименте, они должны получить от «Глоб Экспресс» весьма солидные отступные, не так ли? Так сказать, компенсация и страховка за риск и недополученную прибыль.
– Насчет компенсации не знаю. У вас в Штатах, может быть, так все и было бы. А у нас чаще всего договариваются. Могут на дальнейшее пообещать помощь, покровительство, мало ли чего еще.
– Это все эфемерно. В воздухе. В словах. А ваши потери в наличности и в разрушении спроса очевидны и сиюминутны.
– Ну, это я вам так сказал, что у нас договариваются. Это только так звучит. А на деле это означает, что нам смогли пригрозить, и пригрозить реально.
– А вот это уже совсем невероятно. Некая малоизвестная американская фирма начинает действовать на вашем рынке с такого неприкрытого силового наката? Да какими средствами она это будет делать? Кто ее испугается? Ведь ваша и подобные вашей фирмы вовсе не беззащитны. Наверняка у вас имеется силовой зонтик. Или крыша. Или как там это еще называется…
– Эта часть беседы окончена. Я могу получить свои деньги?
Харт протянул Руслану свернутые в трубочку купюры. Сейчас он готов был пойти на любые условия продолжения разговора, в том числе и на то, чтобы приоткрыться самому. Руслан, конечно, случайный информатор, но других искать было некогда. Цейтнот поднимал уже свою секундную стрелку у него за спиной. И за спиной у всех этих людей.
Руслан не был стопроцентно уверен, так ли уж случайно появился этот любопытный янки на квартире у лоха. Но в одном он не сомневался: его несложной и неплохо оплачиваемой работе по охране красивых девочек приходит конец. Он почувствовал это сразу же, как только услышал о новых условиях по взятию девиц напрокат. Это была чья-то наглая и абсолютно неумная авантюра. На что рассчитывали те, кто ее организовывал? Не на что тут было рассчитывать. А раз так, значит, это была даже не авантюра. Это была провокация.
В ее суть ему, Руслану, вникать нечего. Кто-то грезит зелеными миллионами, может, и властью. Его же дело – оберечь свой кусок хлеба с маслом и не получить при этом по зубам. Линять от этих дел надо очень быстро.
Пока на тех, кто на них наехал, не наехали еще другие и не начали валить старые кадры слой за слоем, не разбирая, много ли ты знаешь и кому лижешь.
Американцу, судя по всему, срочно нужна информация, но для дела, а не для досье. Значит, источник информации ему не важен и фигурировать в дальнейшем нигде не будет. Сразу после разговора его забудут.
И разыскивать этот источник никто не станет. Потому что все, что он может сейчас сказать, завтра же станет известно всей Москве. Так почему бы сейчас, пока это не остыло, не подать блюдо к столу, разумеется, за справедливое вознаграждение.
Он еще раз прислушался.
Ничего и никого не было слышно. Даже сладкая парочка за стеной, Катрин и полоумный лох, затихли.
Уж не занялась ли Катрин втихаря благотворительной деятельностью? Раздачей своих выдающихся природных данных малоимущим слоям населения? С нее станется. А впрочем, все это уже не его дело.
– Разговор может быть продолжен, если через десять минут я получу столько же, – скромно, но твердо сказал охранник, тем самым уже фактически сбегающий с корабля, избравшего, по его мнению, гибельный курс.
– Принимается, – ответил Харт, примерно угадывающий ход мыслей собеседника и причины его откровенности.
– Конечно, у всех таких фирм, как наша, имеется крыша. Мы, например, имеем дело с людьми Круглого. Не знаю, держит ли Круглый этот бизнес по всей столице-матушке или есть еще несколько крыш. Ну да нас, низовых работничков, это все не колышет. Это все, насчет сфер влияния и тому подобного, решается наверху, как мы говорим, в космосе. А нам вынь да положь стабильные заработки и стабильные условия труда.
– Круглый – крупная фигура, – окончательно отбросил сдержанность Харт. – Основные его интересы лежат в области экспорта цветных металлов. Проституция, по-видимому, лишь мелкий сектор его большого бизнеса. И в связи с этим я снова задаюсь тем же вопросом: как могла совершенно не авторитетная в России компания фактически продиктовать свои условия такому могучему боссу, как Круглый?
– Вообще, все это какая-то дребедень нецентрированная. Круглый любит наличняк. Впрочем, как и все наши. И не стал бы он за просто так с какими-то кредитками связываться.
– Мне это известно, Руслан. Насчет любви ваших к наличным. А вот насчет того, что эти кредитки «какие-то», тут я не согласен. Кстати, вы сами-то видели эту карточку?
– «Глоб Экспресс»?
– Да.
– Так… Помахали чем-то перед носом. Я и не вникал. Начальство вроде бы и не рассчитывало, что уже в эту ночь у какого-нибудь клиента найдется такая.
– И правильно, что не рассчитывало. Вот, смотрите, какие, например, карточки есть у меня. А я, заметьте, типичный или, лучше сказать, матерый чиновник на службе у правительства Соединенных Штатов.
«Знаем мы, какой ты чиновник, – подумал Руслан. – То, что матерый, это не соврал. Только не чиновник, а шпион. На службе хрен знает у кого. Небось в десяти местах премиальные получаешь».
А Харт развернул перед ним бумажник немыслимой толщины и достал две колоды, пардон, только не игральных, а кредитных карт.
– Вот у меня наши, американские, кредитные карточки: «Мастеркард», «Виза», «Америкэн Экспресс» и «Карт-Бланш». А вот ваши карточки: «Виза», «Виза Электрон», «Еврокард» и «Маэстро». Причем «Виза», например, аж в четырех спецификациях: «Виза Классик» – личная, «Виза Бизнес» – корпоративная и «Виза Гольд» – как личная, так и корпоративная. И все это многообразие, заметьте, завязано всего лишь на один банк. И вы знаете этот банк! Не так ли? Впрочем, сейчас для нас главное не это. Важно то, что гражданам Российской Федерации предоставлен большой выбор на рынке этих услуг. Они могут пользоваться американскими или европейскими карточками, используя местные филиалы соответствующих иностранных банков. А могут обращаться к своим банкам и их кредитным системам.
– А эти тогда, «глобалисты», жулики?
– Такая кредитная карточка существует на самом деле. Она имеет хождение в Соединенных Штатах, так что напрямую их жуликами не назовешь.
– Тогда как?
– Эта карточка, да, она имеет хождение, но по очень ограниченному кругу товаров и услуг. И, насколько мне известно, ею пользуется в Америке очень узкий и «специфический» круг людей.
– Привилегии? Для узкого круга? А это еще зачем? Как я понимаю, у вас в Америке все продается и все покупается. Как и у нас сейчас.
– Есть некоторые моменты. Они остаются при любой свободе торговли. При любом строе и в любом государстве, особенно крупном. Иногда некоторым людям необходимо быстро приобрести некоторое оборудование. Несерийное, скажем так. Из того, что не продается даже дружественным иностранным государствам. А внутри государства-производителя тоже не выставляется на витрины.
– Короче говоря, суперклассные штучки для шпионов?
– Что-то в этом роде.
– Но тогда этот банк, который гарантирует «Глоб-Экспресс», должен быть некоммерческим.
– Почему ты так решил?
– А как же? Получил некто, к примеру, по этой карточке в спецбуфете некий приборчик стоимостью в миллиончик. А потом пошел в поход по шпионским картам и то ли заблудился, то ли в канаву свалился. А приборчик раскокал. И что?
– А что тут такого? Просто его счет в банке уменьшается на миллион.
– Ой, не смешите, господин чиновник американского ведомства по ночным делам! Откуда у этих, с плащом и кинжалом которые, такие счета? Какие там миллионы? Они и ста тысяч-то никогда в руках не держали.
– Ну, за исключением выходцев из очень богатых семейств, тут ты, скорее всего, близок к истине. Но какой же вывод ты делаешь из всего этого?
– Такой вывод, что все это – крупная лажа. Что и банк этот не коммерческий, и счета этих агентов – не их счета, и за всей этой системой стоит, конечно, правительство. Вот то самое, на службе которому вы тут ночей не спите.
– Я это все знаю. Да, действительно, «Глоб Экспресс» действует по всему миру. Но отнюдь не для всех. Во всяком случае, так это было задумано. Как система «для своих». И, безусловно, основа деятельности этой системы – некоммерческая. Единственное, до чего ты сам не додумался, – это то, что финансирует и страхует ее деятельность не только правительство, но и некоторые частные фонды.
– Зачем вы все это мне говорите?
– Во-первых, все это всего лишь общие слова, и поэтому не может быть использовано против кого бы то ни было. А во-вторых, мне надо, чтобы ты вспомнил какие-нибудь детали, что-нибудь из разговоров твоих начальников, например. Но чтобы ты вспоминал в определенном направлении.
– Боюсь, что причины, по которым Круглый лег под ваших «глобалистов», и почему они вдруг озаботились, почем то, что под трусиками у наших девочек, – это все никогда и ни в каких словах не могло быть обсуждаемо при охраннике. Даже если он – старший охранник.
– Кто может знать об этом хоть что-то?
– Попробуйте поговорить с Виолеттой. Ее сегодня, то есть уже вчера, вызывали на какой-то шабаш. Круглый, разумеется, там не присутствовал, ему не по чину. Но там собирались все старшие диспетчеры по Центральному округу и, кажется, по Юго-Западу.
– Где именно? И как можно туда к ним попасть?
– Хорошо. Я могу ответить на ваши вопросы. Но после этого я получу свои деньги? Кроме этого, я ничего по этому делу не знаю. Поэтому, как я понимаю, разговор наш на этом заканчивается?
– Принято.
У санитара Петьки, которого Рашпиль в сторожке у дедугана лишил халата и документов в обмен на плотную пачку зеленых, никаких особых планов на этот вечер и ночь не было. Петька подумывал, не добраться ли ему на каком-нибудь транспорте до Кащенко, может, и удастся еще раз пересечься с этим сумасшедшим, который увез его документы. Но… хладнокровие должно быть на первом месте у медицинского работника. Тем более у обходящего мир по психиатрическому меридиану.
Стоит хотя бы чуть-чуть напрячь свои извилины, как становится ясно, что пересекаться ему с этим сумасшедшим не с руки. Потому что это вовсе и не сумасшедший, а налетчик, жиган, – словом, активный участник бандформирований, стоящий на платформе дальнейшего укрепления организованной преступности. Вот так-то, граждане лопоухие.
Нет, повторная встреча Петьке совсем не нужна. Дадут по башке и деньги обратно отберут, вот и вся встреча на высшем уровне. А документы… Какие там документы? Так, смехотень одна. Да он за одну такую вот зеленую бумажку все себе восстановит, да еще и в лучшем виде.
Петька, интуитивно воспринимая тревожные токи, исходящие от привокзальной территории, стараясь никому не попасться на глаза, проплыл, подобно неуклюжей тени, в неопределенном направлении и растворился в московском ночном пространстве.
И глупо было бы просто так завернуть домой. Нет, к такому случаю надо, конечно, семью хоть как-то подготовить. И вообще, все это надо как-то отметить. Озвучить. Ознаменовать.
Еще бы! Часто ли идет ночным маршрутом независимого вида мужчина, имея в кармане десять тысяч ненаших, что равномощно более чем пятидесяти «лимонам» наших. И, что самое характерное, то, что у него в кармане, никому, кроме одного психа-налетчика, неизвестно, нигде не оприходовано и не учтено. Даже, смешно сказать, женой востроглазенькой.
Опасно перед ней, конечно, так вот всю сумму и обнаружить. Закружится у бедолаги голова, не сумеет распорядиться этакой суммищей, на тряпки и подобную им дрянь изведет. Нет, к такому случаю надо, конечно, подойти с умом. И прежде всего определить святое. То есть каков размер загашника и где этот загашник хранить-прятать? У шурина? Или, может, по частям у племяшей? Нет, ненадежное все это племя, до спиртяры сильно падкое. И большая наличность будет постоянно подвергаться у них неминуемой опасности быть расхищенной.
«Да и зачем обязательно домой? – медленно соображала башка, еле поспевая за быстро чувствующим сердцем. – Или там клад какой зарыт? А не завалиться ли… да хоть к какой из наших, из кащенковских? А дома разве не поверят, что на дежурствах был и непрерывно везли психов, и невозможно было ни оторваться, ни позвонить? Поверят, потому как куда они денутся, ежели он с такими подарками и с деньгами придет?»
А подарки он, конечно, сейчас накупит. Не старые времена, чай, хоть и за полночь, а чего хочешь выбирай. Вот, например, супермаркет, с огромными стеклянными окнами в полтора первых этажа, в которых, вот, и он отражается… походкой пеликана. (Это, стало быть, он уже к Триумфальной, бывшей Маяковской, по Садовому кольцу подгребает.)
Заходи да покупай, чего душа рабочего подростка возжелает внезапно и жарко.
Подарки, подарочки, для дома для семьи – это уж в первую очередь. А все остальное потом. Вот, к примеру, какие бутылки стоят, еще невиданной им красоты. Да ведь и не столь важно уже, что у них там внутри: коньяк, виски, ликер? Ведь такой красоте место разве что в исторических музеях али еще в каких хранилищах. А цены…
Он разменял сто, а потом, подумав, еще сразу двести долларов и, имея в кармане за полтора миллиона рассейских, внезапно ощутил, как все это великолепие вокруг него, в сущности, недорого. Можно сказать задарма.
Для начала он купил бутылку с каким-то хвостатым плодом на наклейке и, свинтив ей горлышко, вытянул тут же, из горла, на глазах у удивленной, но сохраняющей спокойствие продавщицы. И пошла она неплохо. Даже, нечего греха таить, хорошо пошла. Зря, выходит, критикуют засилие импортных товаров. А особенно напитков. Нет, братан-критикан, ты вот набей, как я, карман-великан да и выйди в ночку летнюю, весь забашленный, а тогда и толковать с тобой можно.
Что значит нетути? Вот же я, простой труженник, сумел раздобыть заморской капусты? Сумел, а ты не сумел. Значит и пути-дороги у нас с тобой разные. Ты идешь домой баиньки, а я иду в ресторант. Я провернул крупное дело, парняра, и не тебе со мной тягаться.
Я – Петр, что по латыни значит «камень». Так, по крайней мере, практикантка-заочница шутила. Еще бы ей не шутить, когда она в это время, как бы в рассеянности, по его корню рукой шарила. А значит, я и сам – кремень. Кремневый парень, вот я кто такой на самом-то деле. И не даром мне этот заполошный целую пачку швырнул. Знал, собака, что от меня меньшей суммой не отделаешься.
Другие выпьют и бузят: приключений на свою задницу выискивают. Другое дело я. Я хоть и выпил, но вполне контролирую себя. А все потому, что я – Петр. Эта практиканточка правильно тогда заметила. Даром что руки у нее тогда были заняты, зато голова соображала. Зато уж потом, стоило только врачам из кабинета уйти, чего только она не вытворяла. Одно слово, простодушна, и при этом, можно сказать, почти до изумления. Ей дали задание – закрепить во время практики полученные ранее навыки. Она их и закрепляла.
А чего? Ни медперсонал, хотя бы в лице кремневого парня Петра, ни больные претензий к сверхисполнительной практикантке не имели.
Одного шизофреника она даже от импотенции вылечила. Жена его потом приезжала в больницу, прознала каким-то образом, что не врачей ей надо благодарить за чудо, а молодое поколение, и вся в слезах обнимала Жанну. (Это практикантку Жанной звали.)
– Он теперь, – от восторга рыдала жена, – понимать… один хрен, ничего не понимает, а работать работает. Я его теперь и не отпущу никуда. Да помилуйте, ягодка вы моя накипелая, уж и налечились мы от вас. Премного благодарны. А только теперь и пожить с муженьком. Времечко-то не казенное, утечет сквозь пальчики – не воротишь. А до конца, то есть до полного вразумления, как-нибудь вдругорядь моего дуремара доведете. Не все ж ведь и сразу, а, Жаннуля?
А Жанка вроде бы тогда, во время этого трогательного разговора, и саму жену дуремаровскую уже за ягодицы начала тискать. И как бы почти ее заваливать стала на стол операционный. Еле та у нее из-под мышки проскользнула и, как потерянная, куда-то в наклон потерялась. Петр тогда еще удивился, что Жанна где-то может недоработать. И прямо ее об этом и спросил:
– Ты чего же это? Через бельишко, что ли, не успела к ней пройти?
– Это ты Петр, что значит «камень», – тогда и перевела ему с латыни Жанна. – Не все же такие… терпеливые. Да и я, выходит, чересчур постаралась. На три точки ей сразу нажала, и по двум сегментам, ноготочками… Она и не выдержала, вся взмокла, хоть выжимай. Вот и побежала в туалет – приличия навести.
Да, душа практикантки – не потемки, а свет проникающий. Кристаллическая структура, что там говорить. Скольких она еще сможет выпрямить? На таких бескорыстных и вся-то наша медицина, а если честно сказать, то и вся наука с философией еще как-то держатся.
Мыслями Петр унесся далеко в сторону, но ноги несли его по-прежнему прямо, по Садовому кольцу. Мимо высотной гостиницы «Пекин», мимо затаившегося в конце темной аллеи планетария, высотного дома на площади Восстания, и резиденции друзей из-за океана, то есть посольства США. «И о чем только думают, бедолаги, над чем головушки свои клонят?» – подумал Петр, глядя на светящиеся даже и в этот поздний час окна бело-желтого здания. «И все-то им не спится, все-то черепушки свои американские ломают. Небось опять прикидывают, как бы им исхитриться, чтобы нашим головушкам забубённым помочь. Да так это все провести, чтобы никого не обидеть, то есть чтобы наши как бы и не заметили, что им помогают».
Ну, помогай им Бог, американцам. А перед Петром уже горел и даже как бы дрожал от возбуждения огромный вход в огромный ресторан, что на углу Садовой и Нового Арбата.
На входе Петра не ждали, и его прикид был им, конечно, подозрителен. Но если у человека в кармане пачка валюты, то в глазах у него появляются особые искорки, обескураживающие тех, кто на входе. Вроде бы и не наш человек, но вроде бы и не просто так вынырнул он из неисследованных глубин этого огромного, загадочного, как сама жизнь, города.
Пройдя внутрь, в огромный холл-вестибюль, Петр подошел к непонятно зачем дежурившему в летнее время гардеробщику (но что за галуны, ядрена в пампасы!) и наменял у него жетонов для телефона-автомата.
– Аллоу, большой бонжур. Это Манна? Как не туда? Ладно, пети-мети, мы вас привети. Первый раз можно и не туда. Жанна? Это Петр, кремень и камень, как ты говорила. Так точно, санитар из Кащенки. Не забыла, кому обязана успехами в науке? Ну то-то же. Я что звоню, кисанька. Ты хочешь видеть много денег в одной мозолистой руке?
– Много? – сомнамбулически протянула Жанна. – А это сколько?
«Специально прикидывается разнеженной со сна, – соображал быстродумающий Петр. – А какое там со сна, я не знаю, что ли, чем она вместо целительной силы сна исцеляется? Но прикинемся наивом, ладно».
– У меня очень много богатырских денег, – со значением продолжал Петр, подхваченный второй волной опьянения. – Приезжай, не пожалеешь, я кремень, и ты меня знаешь.
– А ты где?
– На углу под глобусом. Большой кабак и весь светится, собака.
– Так чего мне тут ехать? Я рядом живу. Постарайся продержаться до моего прихода. Минут десять.
– Что значит «продержаться»? Да я ради тебя с важного вызова слинял. Бросил старика на случайных людей. А он на меня рассчитывал, ты же знаешь, как ко мне больные относятся. Да я за этого старика, если хочешь знать, свои лучшие документы в пасть налетчикам бросил. Ты что, Петра забыла? Вот и приходи, узнаешь, почем теперь твой Петенька на валютной тяге, в котировке и около.
– Да не кричи ты так про свои тяги! Я же сказала приду, значит, приду. А ты слушай: там, где ты находишься, очень опасное место. Ни с кем и ни во что не ввязывайся. В большой зал пока не заходи, а прохаживайся по вестибюлю, откуда ты сейчас мне звонишь, с независимым видом. Как будто ты просто дожидаешься какую-нибудь сикушку из туалета, чтобы окончательно с ней по всем вопросам договориться.
– Жанна, если у тебя кто есть, ты не стесняйся, всех приводи. Бери за хобот и тащи на водопой. Дядя Петя всех накормит. У дяди Пети капусты еще навалом.
– Слушай, дядя Петя. Здесь, за сто метров от кабака, в котором ты сейчас пузыришься, сразу после выезда из туннеля направо – есть такой скверик. Около него две машины столкнулись и перестрелка была. Или просто кто-то в одностороннем порядке шмалял.
– Ну ты и даешь, Жанна! А нам-то чего? Пусть они и шмаляют, дурное дело нехитрое. А у нас с тобой танго и фокстрот в одном, отдельно взятом ресторане.
– Одна из машин, участвовавших в столкновении, как передала мне случайная очевидица, очень похожа на нашу. На которой я с вами, дуремарами, по вызовам ездила. А тут и ты позвонил, и почти из того же места. Я и подумала: не участник ли ты этой заварушки?
– Я – нет, Жанна. Я только при деньгах, и больше ничего. Зря ты, Жанна, на меня так сразу подумала. А если тебе заказали деньги эти найти и вернуть, то и дура ты, Жанна, то есть дурее, чем самка бычка. Корова, что ли, называется? Ты ничего не видела и не знаешь, поняла? Так им и расскажи, кто тебе заказал. Не звонил я тебе и не знаешь где. А деньги мы с тобой пропьем и разделим.
– Может, все-таки наоборот? Сначала разделим, а потом прогуляем?
– Ну, ты меня поняла.
– Хорошо, я тебе, как всегда, верю. Тебя там не было. Но машина эта могла быть нашей, из Кащенко?
– Запросто могла. Она, наверное, и была. Я разве тебе не рассказал? Я лучшие свои документы в пасть налетчикам кинул. Чтобы эти шакалы старика не тронули. Ты же знаешь, что я, в случае чего, со своего поста не уйду.
– А машина?
– А машину они захватили, это верно. Машину от налетчиков спасти было невозможно. Надо было прежде всего думать о спасении людей.
– А деньги? Откуда деньги?
– А деньги у меня, Жанет. И не будем больше об этом, не будем. Деньги приходят и уходят, а старая любовь не ржавеет.
– Хорошо. Я сейчас приду и начнем тратить. Но не раньше.
Разумеется, как только он окончил разговор, третья волна опьянения приподняла его, как штормяра балла в четыре, и стремительно понесла на берег. То есть как раз в тот большой зал, куда входить ему запретила неизвестно чем озабоченная Жанет.
В этот очень уже поздний час зал лежал в руинах от состоявшейся большой гульбы. Уже почти отдыхал. Как несокрушимый гуляка, валяющийся среди битой посуды и пролитых соусов и искренне удивляющийся, что в очередной раз выдержал этакое нашествие на собственный организм.
Кого по плану должны были снять, тех уже сняли и увезли в разнообразных направлениях. Но еще выписывали перед эстрадой неверными ногами кренделя несколько парочек, которых даже и порочными нельзя было назвать, настолько они потеряли всякий смысл и соображение. Эстрадники, конечно, давно уже разбежались по хатам и постелям верных своих жен или еще более верных подруг. Но эти, дотанцовывающие, наверное, столько здесь за вечер наели и напили, что одного кларнетиста им все-таки оставили. Чтобы он наигрывал что-то почти джазовое этим запредельным парам, давно уже утратившим понятие, кто из них кого должен был снять и кто с кем и что принять.
В дальних углах за сдвинутыми столами сидели две, что ли, компании деловых, на которых и глядеть-то особенно было нечего. С первого взгляда все было ясно. Как будто массовку для американского полицейского телесериала снимали.
Но и кроме этих, исчезающих в шашлычно-сигаретной дымке, двух компаний еще слонялись, к примеру, между столиками некие не то юнцы, не то мужчины, наклонявшиеся к сидящим за столами и что-то быстро им шептавшие и сжимавшие при этом кулаки в карманах, а в кулаках – то ли последняя деньга, то ли рукоятка пистолета.
Тореадоры неведомого для Петра бизнеса. С тоской и испугом в глазах. Но одновременно с нахальством и жестокостью.
«Шпионы? Возможно, очень даже возможно, – решил про себя Петр. – Наверное, шпионов, при продвижении блока НАТО на восток, начальство поприжало насчет представительских расходов. Так что теперь этим трудолюбивым людям выдают только на немного выпить-закусить. А чтобы вот в таком кабаке снять и увлечь в свое шпионское гнездо шелковистую бабочку ростом этак под метр восемьдесят, а еще лучше – восемьдесят пять, это нынешнему трудяге по секретной части не по карману. Неплохо бы познакомиться с одним из этих славных парней и показать ему, что и он, Петр, нюхал порох и кое-что другое. И даже очень нюхал. Жанна не даст соврать. Но для общей ориентировки на местности неплохо было сейчас и поддать».
– Официант, меню! – дурным дискантом завопил Петя-санитар, плюхаясь в ближайшее свободное кресло. Но ему казалось, разумеется, что он произнес это солидным и уверенным тоном.
– Горячего сейчас… поздновато-с. А вот, не желаете ли для начала «Карту вин»?
«Карту вин» Петр как раз и желал. Он готов был изучать ее дни и ночи столь же тщательно, как диверсант на миллиметровке – подходы к вражескому аэродрому. Золотые виньетки на мелованном, лоснящемся, как атлас, картоне только подчеркивали значительность этого документа, его важнейшую роль в жизни настоящих мужчин.
А дальше все развивалось уже быстро. Петр вскрикивал, тыкал ногтем в строку на карте, обнаруживая знакомое или просто смутно припоминаемое им название, официант кидался куда-то вбок и исчезал за кулисами, чтобы тут же возникнуть вновь, волоча, как удачливый охотник, очередную алкогольную добычу.
В какой-то момент рядом с ним уже оказалась и Жанна. И первое время она довольно спокойно наблюдала за «Двойным Нельсоном», исполняемым официантом и санитаром. Но пришло время расплаты. И официант назвал сумму, которая не только Жанне, но и в лоск умотанному Пете показалась несуразной.
– Вот же, даже на карте все обозначено. И так-то бабки ломовые, чего же ты их вздуваешь, как ненормальный?
– Двойной тариф. Прошу прощения, предупредить не успел. Только что введен, еще не привыкли сразу клиента пооберечь. Впрочем, если желаете по прежним ценам, то и это возможно. Но только для владельцев кредитных карточек «Глоб Экспресс». Слышали про такие?
– А ты слышал, что такое буйное отделение и какие санитары там работают? – на удивление мирным тоном поинтересовался Петр.
Жанна знала, какие санитары там работают. Но она и заметила, как недовольно поднимают головы и поглядывают в стороны те, из компаний за дальними столами. Возникший шумок, дискомфорт… Как можно отвлекать утомленных разбойников от подсчета и дележа дневной добычи? Жанна понимала, что им с Петькой не время и не место находиться здесь, какая бы сумма ни топорщила карман ее кавалера. Конечно, официант просто видел и оценил Петькины баксы и решил грабануть нелепого лоха под смехотворным предлогом внезапного удвоения всех цен и на ходу придумывая несуществующую кредитную компанию.
Но те, за сдвинутыми столами в углах зала, зело Жанне не нравились. При любом шуме они разбираться не станут. Прикажут, чтобы спокойствие было восстановлено. И оно будет восстановлено простейшим способом: Петра так швырнут на асфальт, что он пролетит как минимум метров двадцать и легко сумеет осознать, что жизнь дается человеку только один раз и что надо ее прожить так, чтобы не было мучительно больно.
– Не спорь с ним. Дай, сколько он спрашивает, – не обеднеешь. Отсюда надо быстро уходить.
Петр, с трудом сосредоточившись, отделил от основной пачки несколько сотен и протянул их спруту-официанту. Но тот покачал головой и, указывая на меню, сказал:
– Вы же видите, цены указаны в у.е. Что значит в условных единицах. В валюте нам принимать запрещено. Разменяйте в кассе по биржевому курсу. И поторопитесь, а то сейчас кассу снимать будут.
– Возьми баксы, – сказала Жанна, – сам потом разменяешь. Тебе же так выгоднее. А мы спешим.
– Не имею права, – равнодушно повторил официант. – Пройдите к кассе, а если спешите, я пройду вместе с вами, прямо там и рассчитаемся.
«Дело швах», – решила Жанна.
Касса находилась в глухом закутке, вне поля видимости людей из зала. Там официант при помощи двух-трех корешей может предпринять попытку замотать у Петра всю сумму. Но выбора не было. Там, у кассы, Петр, если повезет, сможет постоять за себя. А оставаться в зале было еще опаснее.
Но в действительности все разыгралось еще хуже и как-то постыдней. Еще более фантастично и безобразно, чем может получиться у насильника-импотента.
Кассир сначала провел Петины купюры через обычный детектор валюты. И они вползли и выползли из него с мягким солидным шелестом, не оставляя никаких сомнений в своем благородном происхождении. Но затем – честный санитар воспринимал дальнейшее уже как фантасмагорию – он, этот гниляк в кассе, включил еще какой-то аппаратик, вращающийся диск, как для игрушечного миниатюрного проигрывателя. И он стал быстро и ловко ставить на этот диск Петины купюры, переключал диск на большую скорость и поглядывал на сигнальную лампочку на боковой панели аппарата. Лампочка начинала мигать красным. И тогда кассир останавливал вращение диска, снимал купюру и прикреплял на диск следующую сотенную. И опять разгонял диск. И снова мигала красная лампочка.
– Ты что же, фраер, делаешь с моими деньгами? Гони рассчет! – не выдержал Петр.
– С сегодняшнего дня, – осклабился кассир, – мы принимаем только валюту, которая проходит через этот аппарат. А ваша, как вы сами видите, не проходит.
– Куда не проходит? Ты же сам проверял через детектор. Это же самые натуральные баксы!
– Я и не говорю, что ваши деньги фальшивые. И в любом другом месте у вас их, без сомнения, примут. Но у нас приказ: принимать только то, что проходит через вот эту машинку. Если у вас есть другие купюры, я могу их вам проверить. Но эти принимать не имею права. Вопросы есть?
Вопросов не было. Петр решил положиться на свою основную медицинскую профессию и двинулся, оттесняя официанта, от кассы, чтобы постараться в темпе пересечь зал и грудью проложить себе дорогу на выход.
Как самый принципиальный и заинтересованный, «его» официант стоял ближе остальных. А за принципиальность он первый и схлопотал. Петр прикинул, что терять на него темпа нельзя. И поэтому надо, как бы на ходу, как бы по ходу дела, просто заехать тому локтем под дых. В соответствие с этой прикидкой он и прицелился. И – попал.
А на обратном пути, после движения локтем, правая, под прикрытием поднятой выше плеча левой, пошла навстречу багровой, плавящейся в собственном поту харе, которая мгновенно нарисовалась на месте павшего бойца. Правая пошла навстречу харе не сжатой в кулак, а доверчиво раскрытой ладонью. И он еще успел примериться, как бы ему ловчее ухватиться за нос и губы на этом шаре. С тем, чтобы, сжав их, как резиновую маску, крутануть против часовой стрелки да и швырнуть куда-нибудь в сторону всю будку целиком. Как срывают и отбрасывают надоевший противогаз. И снова попал. С третьим и думать было нечего: коленом в наследство! И попал в третий раз.
Но когда он бил левым коленом, в правое подреберье ткнули ему какой-то палкой, наподобие милицейской. И он пропустил.
Невольно реагируя на вспыхнувшую боль, схватился рукой за правый бок и открыл челюсть. А по открытой челюсти не бьет только очень ленивый. Кое-кто не поленился. И он – снова пропустил.
Беда не приходит одна. От этого удара Петр потерял скорость и точность передвижения. Сломался ритм боевого танца. Всего несколько мгновений он протоптался на месте, пытаясь восстановить потерянное равновесие.
Но этого было достаточно, чтобы занесенный сзади над его головой, сверкающий серебряной фольгой снаряд – невскрытая бутылка шампанского – опустился на его голову. И он пропустил в третий раз.
– Я живу с Виолеттой, впрочем, и с Брониславой – тоже. Это я к тому, что от меня у них секретов нет, – начал Руслан отрабатывать обещанные ему Хартом деньги. – Вчера вечером девок вызывали в контору Круглого. Не только их одних, конечно. Собрали всех ответственных по секторам.
– А разве нельзя было отдать распоряжение по телефону? – по профессиональной привычке методично втягивался в разговор Харт.
– В этом случае – нет. По двум причинам. Во-первых, сами распоряжения о росте тарифов на наши услуги и еще кое-что, чего вы пока не знаете, – это все было сложно воспринять. Многим сразу же показалось, что это просто удар по нашему бизнесу и что Круглого кто-то подставил.
– Подставил?
– Ну да, что тут непонятного? Подставил, это значит использовал втемную. Заставил действовать не в своих интересах. Но интересы Круглого – это интересы и его людей. Персонала. Нас всех, черт побери!
– Но ведь в организациях подобных вашей слово босса – закон. Что же тут обсуждать?
– Это так. Дисциплинка у нас, конечно, лютая. А впрочем, думаю, что и у вас, как бы там ваша организация ни называлась, слово босса – не пустой звук.
– Как можно? С меня никель.
– То есть?
– Двадцать пять центов. Это так говорится, когда один ловко возражает другому. Я вас слушаю.
– Так вот. Дисциплина – это одно, а успокаивать людей все равно пришлось бы. Ну так и правильно, что не с каждым по телефону по часу дурь гнать, а всех собрали и одним махом мозги промыли.
– И промыли?
– Не совсем. Похоже, у тех, кто промывал мозги уполномоченным, у самих не было полной ясности, для чего Круглый все это затевает. Говорились общие фразы, что падение спроса постепенно будет преодолено, и тогда за счет выросших цен будет достигнут значительный рост доходов.
– Рынок легко потерять. И очень трудно потом на него вернуться.
– Все это прекрасно понимают. Но вынуждены были промолчать именно в силу дисциплины.
– А вторая причина, по которой их собрали всех вместе?
– Надо было кое-что людям показать и кое-что им раздать.
– «Глоб Экспресс»? Они действительно появились в Москве?
– Не спешите, э… мистер. Не только карточки. Но, в частности, и они.
– И в большом количестве?
– Пока в каждую фирму раздали по одной. Как бы образец. На пробу. Но было сказано, что уже завезено и в ближайшие дни поступит в продажу несколько сот тысяч. Примерно по количеству обеспеченных москвичей.
– Но это же невозможно! Откуда? От кого они поступят? И кто будет их распространять?
– Отвечаю на последний вопрос: распространяться они будут в тех заведениях, где их будут принимать к уплате и где их наличие позволит господам сэкономить половину. На всем. А откуда и кто отправляет и зачем – это уж вы у себя там, в Штатах, разбирайтесь. А то ведь у вас говорят, что Россия – страна чудес и что у нас все возможно. Ну так убедитесь теперь, что и от вас дерьма навалом может приплыть.
– Разберемся. Если на то будет воля Божья.
Итак, были даны ответы на незаданные, но подразумевающиеся вопросы. И были розданы карточки. Что еще?
– Мне назад дороги нет. Куплю домик в Крыму по дешевке. Там наш рупь посреди купонов и гривн – как белый вождь чернокожего племени.
– Я вам должен еще что-то дать?
– Я вам не только покажу и расскажу, но и оставлю образец аппаратуры.
– Сколько еще вы хотите?
– Всего вы передали мне три с половиной. Мне нужно еще столько же. То есть три с половиной тысячи.
– Это немалая сумма.
– До этого момента вы не разочарованы тем, что вы получили за свои деньги?
– Нет.
– Тогда вы можете сказать себе, что вложить бабки в Руслана – это неплохое дельце. Или, как говорят наши деловые, подстраиваясь под евреев, – неплохой гешефт.
– Логично. О’кей, считайте свое предложение принятым.
– Дело в том, что даже если бы у этого вашего клевого соседа, у Арчибальда…
– Его, кажется, зовут Платон.
– А по мне – хоть Аристотель Онасис. Важно другое. Даже если бы у него были две зеленые сотни, все равно сделка могла бы не состояться.
– Из-за Катрин? У нее есть право выбора?
– Ни в коем случае. То есть я не хочу сказать, что кто-то готов принуждать ее к чему-то силой. Просто… как бы вам это сказать? Она делает это для души. Ну, если это звучит смешно, не знаю уж, как вам точнее… Во всяком случае, с Катрин у нас проблем не возникает. А вот у вас, я имею в виду вас, американцев, проблемы уже возникли. Или возникнут, самое позднее, завтра к полудню. Когда выяснится, что по Москве, в самых злачных местах, берут только ваши новые сотенные и, что самое удивительное, даже их будут принимать с большим разбором.
– Это я знаю. У вас наши сотенные в основном играют роль не платежного средства, а накопления и хранения богатства. Поэтому при обращении они воспринимаются скорее как золотые украшения, а не как бумажные деньги. В соответствии с этим ваши люди обращают большое внимание на внешний вид, на сохранность банкнот. Предпочитают новенькие купюры. Чтобы без затертых мест, резких перегибов, помет, которые делают кассиры чернилами или даже карандашом, и тому подобного.
– Нет. Это вы знаете сами, и я был бы наивным дурачком, если бы за дважды два попытался получить с вас деньги. Сейчас я вам кое-что продемонстрирую.
Руслан открыл пузатый кейс и вынул оттуда плоскенький аппаратик.
– Работает как от сети, так и автономно, – как бы сам себе пробурчал он. Затем с помощью четырех валиков-держателей с мягкой поверхностью он закрепил за четыре угла банкноту в сто долларов на диске, смонтированном на одной из крышек аппарата. Нажал «пуск». Когда стрелка скорости вращения дошла до середины шкалы, на боковой панели загорелся красный огонек.
– С этой деньгой все ясно, – сказал Руслан, осторожно отгибая держатели и снимая банкноту с диска.
– Что ясно? Что это еще за манипуляции?
– Вот эта ваша сотня не годится.
– А что случилось? Ваш аппарат ловит какой-то тонкий способ подделки, который не берет обычный детектор?
– Не волнуйтесь, с вашими деньгами все в порядке. С помощью этого диска мы ловим не фальшак. Для этого есть обычный детектор. А мы среди самых настоящих, хороших новых сотен ловим очень хорошие.
– Это какие же?
– Вот если здесь загорится не красная, а зеленая лампочка, значит, на диске очень хорошая сотня. И только такие нам с этой ночи велено брать. А все остальные, вот как эта ваша, только что проверенная, велено не брать.
– А ты не бредишь, Руслан? На почве трех с половиной тысяч, которые, как ты договорился со мной, вот-вот должны быть удвоены?
– Намек понял, сэр, и быстро отвечаю. Если бы у Платона, будь он хоть Аристотель, нашлись бы две сотни и он, одурев от Кати, выбросил бы их на кон, то я должен был бы вынуть этот аппарат и проверить его деньги. Так?
– По-вашему получается именно так.
– И, стало быть, вы хотите сказать, вы увидели бы аппарат в действии всего за две сотни, а не за три с половиной тысячи.
– Да, действительно, я полагаю, что я увижу кое-что еще.
– Разумеется. Я воздух не продаю. Поэтому у меня покупают на слово.
– Мы теряем время. Покажите мне наконец, что вы такое ищете? Чего вам не хватает а этих стопроцентных американских баксах?
– Мы будем крутить, мистер крутой, ваши сотни на этом диске до тех пор, пока не среагирует не красная, а зеленая лампочка. Тогда вы сами все и увидите.
– Делайте что надо, и не будем больше тратить время на разговоры.
Зеленый индикатор загорелся только на пятой сотенной купюре.
– Встаньте на мое место, – сказал Руслан, – вот так. И наклоните голову. Наклоните и поверните. Вот так. Ну? Что-нибудь видите?
Чуть-чуть меняя угол зрения, Харт некоторое время пристально всматривался в слитную поверхность купюры, вращающейся с огромной скоростью. И наконец увидел. Стал различать.
Сначала это можно было принять за аберрацию зрения. За оптические шутки электроосвещения. За муаровые крылья крупной тропической бабочки, чье сердце виртуально впрессовано в пересечение диагоналей стодолларового прямоугольника.
Бабочка как будто хотела взлететь, но могла только взмахивать крыльями, отчего по полю прямоугольника к его краям катились волны.
А еще это напоминало оживший иероглиф или некоего паука в космическом корабле в условиях невесомости. Уж больно плавно от центра к краям колыхались его щупальца.
Руслан убавил обороты, и картинка исчезла. Затем снова дал прежнюю скорость вращения, и непонятная рябь снова побежала по поверхности купюры. Теперь Харт решил, что больше всего это похоже на заглавную букву «Ж» славянского алфавита, с извивающимися, колышущимися верхними и нижними пучками щупалец.
– Что это? – спросил Харт, почти жалобно, почти извиняясь, поглядывая на Руслана. Но он не смел еще поверить, что произошло самое худшее, что осквернена святая святых – Федеральная резервная система, и что, возможно, уже непоправимо, нарушена защита в самых внутренних отсеках свободного мира.
Конечно, все это надо немедленно подвергнуть экспертизе и проверке на предмет выяснения, откуда и от кого, от каких мастеров все это пришло. Но… не опоздал ли он, Харт, со своей «оперативной» суетой? Кого и от чего он может еще успеть спасти, если операция уже вступила в решающую стадию?
И в Вашингтоне ни о чем не подозревали? Похоже, что так. Особенно если учесть, что в такой момент они безропотно согласились с предоставлением ему длительного отпуска и с заменой его на О’Брайена. А ведь майор, хоть и прославился в определенных кругах работами по идеологическому внедрению в чуждые цивилизации, здесь, в Москве, был все-таки новичком. А что может предпринять новичок, когда ситуация быстро становится острой и очень опасной. Опасной для всех. Даже для этого русского Руслана и его великолепных Джульетт.
Похоже, Марло почувствовал, что готовится какая-то крупная гадость. Или даже узнал что-то конкретное. Но не успел ничего и никому передать. Но почему? Как такое могло случиться? Ведь связаться с ним, с Хартом, не представляло для Марло никакого труда.
Остается предположить только одно: не от него, Чарльза Харта, сильного человека из Соединенных Штатов, рассчитывал Марло получить решающую поддержку. А от кого же тогда? Может, от этого неизвестно кого представляющего Алекса, который теперь так внезапно, как водяной из пробирки, поднялся из каких-то глубин прямо к нему с О’Брайеном в руки?
– Что за фокусы, парень? – повторил Харт, не веря ни своим глазам, ни чужим ловким рукам.
– Это ваши фокусы, сэр. То есть я имею в виду, что они – американские. Нот раша, сэр. Бат америкэн.
– Вы… уверены?
– А как же не уверен, сэр? Вот эта банкнота, на которой заиграл паучок, – это ваши деньги?
– Мои. Сами знаете.
– А откуда они у вас? Могу предположить, что эти деньги вы получили в своей конторе как часть зарплаты. Могу предположить, что ваша контора – это не бизнес. Не совместное предприятие, такое, скажем, как хороший отель на паях. Не торговля. Не контрабанда. Нет, нет и нет. Не так ли?
– Почему вы так решили?
– Тут и решать нечего, у меня глаз наметан. Вы работаете на правительство Соединенных Штатов. От него получаете и деньги.
– Вы правы. Но мне и незачем это скрывать. Я нахожусь здесь на вполне официальной основе, как сотрудник представительства ФБР в Москве.
– А я разве говорю, что у вас, мол, не вполне официальная основа? Я же вам про то же и толкую. Что глаз у меня наметан, и насчет вашей основы я как раз ничуть не сомневаюсь. Но что же у нас тогда получается, сэр? А получается такая как бы хреновая картинка. Эти ваши деньги – они не в Москве напечатаны, они к нам прибыли издалека. Не так ли?
– Да. Похоже, что так.
– Похоже, мистер, очень похоже. Это у вас там, в Америке, – страна чудес. Это у вас там печатаются новые сотни, и какую-то их часть, вероятно, одну пятую или одну десятую, делают зачем-то отличной от основной массы. И для этого наносят какой-то, прости господи, паучиный рисунок. И для распознавания паучьих баксов не поленился трудолюбивый и талантливый американский народ и выпустил на какой-то, я даже допускаю, что и на подпольной, фабричишке прибор для сортировки новеньких сотенных. Прибор с торговой маркой, я уверен, ёксель-моксель.
– Это жаргон?
– Ну конечно. Что означает на литературном американском языке «извольте бриться».
– Я немедленно отдам этот аппарат нашим экспертам. Вам, как я понимаю, он больше не нужен?
– Да забирайте.
– Мы с вами прощаемся?
– Разумеется. Производим окончательный расчет и расстаемся.
– А остальные? Те, что с вами?
– Для нашей смены это был последний вызов. Так что напарник с шофером поедут сейчас по домам. В принципе то, что я свалил, не должно обнаружиться в ближайшее время. Но ежели что – ребят разыщут по телефонам, и еще до рассвета они меня заложат. Но к тому времени я буду уже далеко. Так что вы не беспокойтесь.
– Да я и не беспокоюсь, – на удивление бесцветным тоном откликнулся Харт, который, казалось, потерял интерес ко всей этой истории. – До рассвета мы все можем оказаться очень далеко. Еще дальше, чем кто-либо может себе даже представить.
Харт помолчал. От нервного перевозбуждения он казался потерянным, сбитым с толку. Разочарованным в жизни, даже сломленным.
Но мысли его в это время стремительно уносились в одном, избранном им направлении. А внешнее впечатление возникало только из-за отсутствия времени на то, чтобы «соответствовать» внешнему миру. Отвечать на ожидания окружающих. Которые – эти ожидания – являются столь универсальным деспотом, что распространяются не только на наши слова и поступки, но и на выражение лица. На ту или иную складку губ, например. Или на силу, с которой выдыхается изо рта сигаретный дым.
Не верить в совпадения, а значит – радоваться, когда таковые обнаруживаются, и сразу же начинать производить вокруг них раскопки – вот, пожалуй, основной хлеб, который кормит разведку со времен фараонов.
Уже совпадение двух событий есть вполне достаточное основание для того, чтобы сделать стойку. Совпадение трех и более могло указывать на то, что сидящий в засаде решил уже не прятаться, а ринуться на добычу напролом, через чащобу, не обращая внимания на треск сучьев под ногами и раскричавшихся птиц над головой.
Вчера под утро убивают Марло. И вчера же днем Харт должен был отбыть в Штаты, а на его место заступить О’Брайен.
Так бы и произошло, если бы он не позвонил сам, а оставил телефон Мартина майору. Но даже если бы он и позвонил, а на том конце никто не подошел, результат был бы тот же. То есть он, Чарльз Харт, – за океаном, а Роберт – здесь, на его месте, с этим дурацким вращающимся аппаратиком в руках.
И старлей Симонов у него на руках. Он, американский гражданин, имеет на своей квартире раненного военнослужащего Российской Федерации. Плюс неиспользованный отпуск. И – если он ничего не забыл – мировой заговор ловких ребят. Настолько ловких, что им в решающий момент почти удалось заменить на ключевой позиции его, опытнейшего резидента, на толстячка-идеалиста с голубыми глазами.
2
– Олега Юрьевича Воронова просят в гостиную, – произнесла высокая сухопарая девица с бесцветными волосами и бесцветным лицом, входя в угловую башенку на втором этаже дачи Виктории Рейнгольд. Олег отдыхал в этой, отведенной ему горенке от потрясений и погонь отошедшего дня.
Сначала была совместная с Риммой погоня за наслаждением. Как ни странно, результаты этой погони он все еще чувствовал у себя в крови. Чуял их, как пел безвременно погибший бард, «с гибельным восторгом».
Затем началась его погоня за теми, кто осуществил покушение на капитана Петухова.
И уже третьим пунктом развернулась поистине бешеная погоня за ним самим. За полковничком-охотничком.
Соскочив с электрички на станции Круглое, Олег вспомнил, что где-то здесь, километрах в двух в стороне от железнодорожной линии, начинается некий заповедный дачный поселок, обитаемый остров для избранных, в число которых входили и Рейнгольды, семейка его новой пассии. Учитывая необходимость перевязки рассеченной ноги, плачевный внешний вид и подорванную внутреннюю уверенность, Олег счел за лучшее разыскать дачу, на которой жила Римма.
Здесь ему была оказана медицинская помощь, а также радушный прием со стороны Виктории, Риммы и их зятя и мужа, следователя Никонова.
Затем ему было оказано доверие. Разумеется, не высшее, но одна из первых и, тем не менее, серьезных ступеней. Его представили собранию неких старцев, слетевшихся на эту дачу, наподобие потревоженных воронов с башен Тауэра. Виктория сделала это в двойственной манере. С одной стороны, совершенно спокойно, капитально и уверенно, что выразилось в отчетливом произнесении не только его фамилии, имени и отчества, но и возраста, воинского звания и должности.
С другой стороны, насчет основания, на котором он здесь находится, она как-то смазанно свела все на «дружбу по профессии». Что-то вроде того, что и дочь Римма, и Олег Юрьевич – оба ведь по юридической части, а следовательно, им очень даже есть о чем поговорить. И чуть ли у нее не выходило – хоть и неразборчиво, но ловко проскальзывало, – что Олег Юрьевич очень может помочь Римме в осмыслении ее готовящейся к защите диссертации.
Воронов не возражал. Насчет осмысления Виктория была, конечно, права. Все это совершенно не поддавалось пока никакому осмыслению. По крайней мере все то, что началось вчера с раскладывания бильярдных шаров на обнаженном теле Риммы и продолжилось сообщением о нападении на капитана Петухова, а увенчалось появлением на арене цирка Гриши-маленького и его братца, такого же крошки.
Впрочем, Олег видел, что старцев не слишком занимало, под каким соусом Виктория пытается подать его к общему столу.
У благородных ребят, самому молодому из которых на вид было не меньше семидесяти пяти, тоже появились пункты, нуждающиеся в осмыслении. И по каким таким хренам, то есть с какими педагогическими целями, в семейном доме появляется, чтобы залечить раны, молодой красивый полковник, этим благородным ребятам, другими словами, «их благородиям», и обосновывать долго не стоило.
Только один из них, аж генерал-полковник, разумеется, давно в отставке, как бы в раздумье пробурчал нечто вроде: «Но ведь Петр Николаевич тоже, кажется, по юридической линии?»
Виктория услышала даже и это, ни к кому вроде не обращенное ворчание, и так же неакцентированно, вроде бы ни для кого специально, ответила: «О, Петр Николаевич в постоянном контакте с Олегом Юрьевичем. Римму полностью удовлетворяют их совместные консультации. Здесь нет проблем, как теперь, пардон, принято говорить. Они прекрасно дополняют друг друга».
– А, ну если так… – вполне уже успокоился бывший генерал-полковник.
А фамилия у этого птеродактиля лет под сто была Рюмин. Полностью его звали Григорий Генрикович Рюмин. И его бывшие должности и звания перечислять для Воронова было ненужно.
Все-таки Вороновы потомственные военные и юристы, в общем, государственные люди. И с этим, например, Рюминым, служил пару лет дядя Олега. Из его Управления Генштаба уходил на пенсию.
Да и птеродактиль, разумеется, кое-что слышал об этом на первый взгляд чересчур молодом полковнике и о характере его нынешней деятельности. И все-таки как опытный кадровик Рюмин как бы затягивал момент нового важного назначения. А что может быть лучше для такого чисто эстетического затягивания, чем якобы озабоченность моральным обликом кандидата. Впрочем, самые опытные люди утверждают, что для правильного кадровика забота о внутреннем спокойствии новой кандидатуры – первое дело.
Так или иначе, но Рюмин лишний раз убедился, что полковник таким внутренним спокойствием как бы вроде обладает. А остальные старцы, похоже, в этом и не сомневались.
– Будет тебе, Григорий, – раздался вдруг голос, который мог бы исходить от мумии фараона, если бы она заговорила. – Мы знаем мужчин из его фамилии, и всегда, при необходимости, к ним обращались.
Затем заговоривший, который, по самым скромным оценкам, был лет на десять старше Рюмина, обратился уже непосредственно к Олегу.
– Я Александр Нойгард, председатель этого собрания. Правда, почетный, учитывая преклонные годы.
Воронов подумал, что насчет «преклонных лет» старец выразился слишком уж сдержанно. Этот Нойгард казался не отдаленным потомком тех, кто появился здесь при Петре Первом, а одним из них, про которого старуха с косой напрочь забыла.
– Предлагаю немедленно приступить к делу, – сказал высокий плотный мужчина, стоящий у зашторенного окна с огромным бокалом красного вина в руках. – Возможно, кооперируясь с Моргенштерном, мы делаем стратегическую, гибельную для нашей идеи ошибку. Если Воронов согласится нам помочь, кто-нибудь из нас, например вы, Григорий Генрихович, должен обрисовать полковнику положение. Так, как оно складывается на наступающее утро. Иначе военный человек не станет принимать участие в событиях с завязанными глазами.
– Я между прочим не в отставке, – скромно заметил Воронов.
– Вот-вот, – опять откликнулся здоровяк у окна. – Он что вам, мальчик?
– Он полковник, и мы его знаем.
– Он заместитель Толмачева.
– Говорил я, что Толмачев не потянет, – раздались голоса вразнобой.
– Вот что, Олег Юрьевич, Осетров, – Рюмин показал рукой на здоровяка, – совершенно прав. Выслушайте меня, а потом решайте сами, что вам делать. Или ничего не делать. Если, впрочем, такая возможность нами еще не упущена. Как вы легко могли догадаться по составу присутствующих, мы все здесь, господин полковник, монархисты. О, не подумайте никакой пошлости, знаете, из этих, из новомодных ряженых. Мы не политическая партия, не общественное движение, не радикалы и не заговорщики. Мы монархисты, если можно так выразиться, природные.
– Простите, господин Рюмин, вы решительно заявили, что вы не заговорщики. Но это звучит, учитывая всю совокупность обстоятельств, не очень убедительно.
– Я же говорил, Григорий! – закричал от окна Озерков. – Или все, или ничего. Иначе мы не заполучим полковника даже на преферанс.
– Мы не стремимся свергнуть правительство, будь оно красным, белым или розовым. Мы просто ждем неизбежного – восстановления на российском престоле государя императора, и готовимся к этому моменту.
– Просто ждете?
– Ждем, сохраняя иерархию, кадры и структуры, если вам так понятней.
– Допустим, вы дождались, А не скажет ли вам государь император, будь он из Рюриковичей или из Романовых, что принять такое разоренное в куски царство, как современная Российская Федерация, есть полнейшая дискредитация монархической идеи.
– Разумеется, это одна из основных проблем, Олег Юрьевич. И, разумеется, мы об этом подумали. Только сохранения иерархии, конечно, недостаточно. Но у нас есть чем встретить великий день. Мы работали над этим с конца двадцатых годов и сегодня можем сказать, что работали не зря.
– Великий день, господин Рюмин, может стать днем великого конфуза, если казна государева окажется пустой.
– Она не будет пустой.
– Что же у вас есть? Валюта, акции, недвижимость?
– И то, и другое, и третье, господин полковник. Но все это мелочи.
– Ах вот даже как? Что же тогда для вас не мелочи?
– Золото. Вот то, что я могу сказать в одном слове. Очень много золота. Прямо здесь, под рукой. И в условиях, когда доллар пропустит сильнейший апперкот, к голосу русского царя снова прислушаются племена и народы.
– А о каком апперкоте вы говорите?
– Позвольте тогда с вами ненадолго уединиться. Мы с вами люди военные, а тут женщины пока организуют десерт.
– И при чем здесь Толмачев?
– Я же вам и говорю, Олег Юрьевич, чего мы тут с вами не видели? Пойдемте на веранду. Или в сад. Там, под звездами, многое, знаете ли, становиться очевидным. То есть не требующим никаких доказательств.
Рюмин шел впереди, раздвигая ветви садовых деревьев и кустов и придерживая их руками, чтобы они не хлестнули по глазам идущему вслед за ним Воронову. Они кружили вокруг дачи по громадному участку, пересеченному несколькими узкими, асфальтовыми тропинками. Небольшие клочки легкого предутреннего тумана, побледневшие шары нескольких фонарей, зеленовато-росистые, бредовые, утомленные невниманием со стороны людей, – все это превращало двух обменивающихся приглушенными фразами мужчин в фигуры таинственные. Не то первопроходцев, не то кладоискателей. А то и вовсе заговорщиков. Кем они, конечно, с некоторыми оговорками, и являлись.
– Вы представляете себе, где золото роют? – спросил Рюмин, как бы не очень заботясь о том, разбирает ли его слова тот, кто сзади.
– В горах, – тотчас, то есть не задумываясь, ответил Олег Воронов.
– Еще до революции существовали довольно сильные преступные организации, почти целиком состоящие из дворян, – все тем же глухим, как будто даже печальным голосом продолжал Рюмин свою «Сагу о Форсайтах Петровичах Форсайтовых». – Разумеется, в основном это были мелкопоместные разорившиеся, проигравшиеся и промотавшиеся в куски ребята. Бубновые валеты, одним словом. Но иногда за наиболее дерзкими их делами, в основном аферами в области финансов или крупных строительных подрядов, за валетами проглядывали и бубновые тузы, которые, впрочем, были тузами не только этой специфической, бубновой масти. К сенаторам и министрам тянулись иногда нити после того, как лопался очередной искусственно надутый коммерческий банк. Обо всем этом, знаете ли, великая русская литература почти сумела умолчать. Впрочем, если прочесть под определенным углом зрения Щедрина, Сухово-Кобылина, того же Крестовского, то кое-что выйдет из тумана. Не правда ли?
– Разумеется, – с готовностью буркнул Воронов.
– А «Игроки» Гоголя? Это уже прямой репортаж о жизни и нравах организованной преступности.
«Зачем же он мне это говорит?» – думал в это время Воронов, стараясь не ступать всей тяжестью на раненую ногу.
– Вы, верно, думаете сейчас, уж не забыл ли я, зачем вызвал вас на разговор? Смею вас заверить, никак нет, господин полковник. Далее вы услышите куда более удивительные вещи. А потому и краткое мое вступление в данном случае более чем уместно. Оно необходимо, чтобы душевно подготовить вас к восприятию дальнейшего.
– Постойте, – сказал Воронов, и идущий впереди остановился и обернулся к нему. – Возможно, мы все-таки теряем время. Вы – не заговорщики. Охотно верю.
– Вы должны не верить, а понимать.
– Как вам угодно. Но остановимся пока на вере. Но если вы не заговорщики, то что у вас за дела с Толмачевым? И почему вы обращаетесь ко мне? С каким предложением и с какими гарантиями?
– С каким предложением, Олег Юрьевич? Так ведь это вам самому и выбирать. Вот я и говорю: выбирайте. Одно из двух. Что на сердце ляжет, то и в квит. Первое – министр обороны. Второе – на место Толмачева. На его должность и звание.
Повисла тишина. Та самая, которая подступает к человеку один раз в жизни. Как в сновидении. Перед тобой жулик, безумец или астральная проекция из иного измерения. И при всем при этом ты последним неразгрызаемым зернышком своей самости понимаешь, что это ни то, ни другое и ни третье. Что так это все и происходит. И как бы там ни было, но следующая реплика – твоя. Но в это время со стороны дачи раздался женский голос, который звал Воронова на очередную перевязку ноги. Это он сам договорился с высокорослой сухопарой фройляйн, чтобы она отозвала его в определенное время, которое было уговорено у них с Кублицким для выхода на связь.
Иван Григорьевич Кублицкий вышел на связь исправно. И в скупых выражениях поведал о безумных кровавых событиях, разыгравшихся на запасных путях Курского вокзала. Так вот, значит, с какой задачей подступают к нему дачные старцы. Надо немедленно остановить Толмачева, их же, этих же старцев, ставленника, но машущего косой слишком широко: от пуза до горизонта.
Но дело, кажется, не только в излишней размашистости Толмачева. Ибо старцам этим излишняя чувствительность явно не присуща. Дело, кажется, в том, что они поехали не на ту ярмарку и теперь торопятся побыстрее развернуться и сканать обратно до дому. До хаты. В надежде, что таковая стоит, как ни в чем не бывало, на прежнем месте.
Все империи всегда рассыпались от войн, которые они по большей части сами же и начинали. Любые войны – выигранные, проигранные, ничейные – обладают одним общим свойством: государства, принимавшие в них участие, выходят из них обновленными. И в прежнее состояние никогда уже не возвращаются. Они как бы исчезают с экрана исторического времени, чтобы затем вспыхнуть совсем в другой точке этого мистического монитора.
Силовой конфликт, повлекший за собой необратимые последствия, такие, например, как смерть части его участников, – это мини-война. И здесь тоже возврат к прежнему, исходному, состоянию невозможен. Ни для тех, кто приказывал, ни для тех, кто исполнял. Что уж говорить про третьих, кто прямо с места событий отправился в последнее путешествие.
Воронов снова вышел к господам аристократам, но перед ними предстал уже другой человек. Даже внешне, по озабоченному, ожесточившемуся лицу было заметно, что состоявшийся разговор потряс его куда сильнее, чем даже нападение Гриши-маленького и последующее преследование с попытками расправиться с ним.
Бойня у вокзала сделала обязательным и неотложным некоторое решение, которое до нее можно было очень долго обдумывать или даже вовсе уклониться от его принятия.
Так, например, по отношению к данному почтенному собранию Олегу Воронову следовало немедленно определиться: или арестовать его участников, или стать одним из них.
Эти господа долго интриговали, маневрировали и теперь, кажется, влипли во что-то нехорошее. И во всяком случае несходное с тем, чего они ожидали. И эта ночь оказалась совершенно непохожей на тот день, который они приближали, как могли.
– Так вы говорите, Григорий Генрихович, что золото роют в горах? – казалось, как ни в чем не бывало спросил Олег, обращаясь к Рюмину.
– Так точно, господин полковник, – ответил Рюмин, один из трех оставшихся в зале мужчин, – непременно в горах. В горах же его и прячут. Правда, уже в других. Не в тех, в которых его нарыли.
– С двадцатых годов, – раздался несколько заржавевший, но твердый голос Александра Нойгарда, – наши люди контролировали добычу золота в Сибири.
– И, что не менее важно, – подал голос третий мужчина, Озерков, – не только добычу, но и последующее распределение. Сколько шло вождю, в стольный город Москву, и сколько «по диким степям Забайкалья» уходило, уплывало все дальше, южнее и западнее, пока не достигало предгорий Северного Кавказа.
– Как удалось установить контроль? – спросил Воронов, которому теперь, в изменившейся обстановке, необходимо было знать все и с максимальной достоверностью.
– Туда, на Восток, попадало очень много наших людей. В основном бывших офицеров. Белых, красных… Неважно, из какой повозки они выпадали. Главное, что по личным качествам наши кадры значительно превосходили уголовников из низов. Неудивительно, что аристократы оказались и там лучшими. Буквально за несколько лет они установили свой контроль над рудниками и промыслами. И особенно плотным этот контроль был в области золотодобычи.
– Какая чепуха! – не сдержался Воронов. – Неужели диктатор не мог провести привычных для него репрессий и быстро восстановить полный контроль над столь чувствительной для него отраслью народного хозяйства?
– Значит, не мог, – менторским тоном пояснил Рюмин. – Один раз попытался, а больше не стал.
– Что же произошло?
– А ничего особенного. Просто доля Кремля в добываемом количестве упала почти до нуля. Сталин мог, конечно, довести дело до конца. Но для этого требовалось минимум несколько лет, пока не были бы вычищены старые кадры и заменены новыми. Но, во первых, у него не было гарантии в успехе этой гигантской всесибирской чистки. А во-вторых, и это главное, все эти годы Кремль не получал бы с Востока ни одной золотой тонны. Прекрасно организованный саботаж, вот как это называлось бы, господин полковник. И вождь знал, как это все было бы организовано. Сам был из таковских, чего уж там! А золото, по тогдашним обстоятельствам государственной политики, должно было поступать в закрома родины непрерывно. Вот поэтому-то вождь и мирился со своей долей.
– А какова она, кстати, была?
– О, мы старались не загонять хищника в угол. Государство получало не меньше половины, а в послевоенные годы даже и того больше. Процентов шестьдесят пять, семьдесят.
– Чудесно! Невероятно, но… превосходно. Но куда шла ваша доля золота?
– Небольшая часть тратилась, разумеется, на нужды движения. Но, как я уже это подчеркивал, мы не заговорщики и, следовательно, избавлены от многих видов затрат. В частности, мы, как правило, избегаем нелегального приобретения оружия.
– Хорошо, это небольшая часть. А остальное?
– В горах, мой мальчик, в горах. Где же еще? А если быть точным, то придется сказать и так: в пещерах и ущельях Кавказского хребта.
– Чечня? Осетия? Абхазия?
– Пещеры и ущелья, герр оберст, уважаемый Олег Юрьевич. Подземные озера и гроты, лесные завалы вокруг, представьте себе, каких-то огромных каменных дыр, воронок или жерл, уходящих зазубренными спиралями куда-то вниз и в сторону… Вы помните фильм Абуладзе «Покаяние»?
– Да. Прошло уже лет десять, не так ли, с тех пор, как он шел. И я был тогда совсем еще молодым. Можно сказать, подростком. Но этот фильм я запомнил хорошо.
– Значит, вы должны помнить и сцену допроса в саду. Зритель, конечно, относит это на счет сюрреализма: цветущая природа, герой, который обезумел от пыток или, по крайней мере, находится на грани помешательства. И непонятные темные вопросы о каких-то туннелях в Индию. Бред угасающего сознания, помноженный на бред опьяневшей от крови тайной полиции.
– Конечно. Это очень сильная сцена, и она воспринимается именно так, как вы только что изложили. Именно сюрреализм, и при этом изумительно красиво снято. Субтропики и похоть насилия. Да, это действительно безумие, снятое с помощью совершенной киноаппаратуры.
– Нет, Олег Юрьевич. Это не безумие и вовсе никакой не сюрреализм.
– А что же тогда? Власти действительно искали какие-то туннели в Индию? И их действительно кто-то прокладывал?
– Они уже были проложены. Лет этак пятнадцать – двадцать тысяч назад. Только не туда, а обратно. И не совсем из Индии, а из Гималаев. Но это уже очень старая история, которая прямого отношения к нашему столетию не имеет.
– Тогда что же? Черный юмор?
– Этот жанр очень сложен. Куда там сюрреализму! Во-первых, власти надеялись узнать что-то совершенно конкретное. А во-вторых, они не намеревались делиться этим знанием с кем бы то ни было.
– Вы имеете в виду тех, кто это знание и должен был им добыть? Среднее звено работников НКВД?
– И среднее звено, и высшее, и низшее, и какое угодно. Разнообразные следователи, пыточники и прочая застеночная братия, разумеется, прежде всего гнали свой план по заговорщикам и диверсантам. И уже на этом этапе, конечно, полно было крови, смерти и бреда. Но тем, кто психически был сломлен или находился в пограничном состоянии, подкидывались на первый взгляд совершенно фантастические вопросы. Спрашивающие как бы ходили вокруг да около, играли в «холодно-горячо». Изысканность жанра состояла в том, что следователи сами не знали, что именно они ищут. Потому что руководство не посвящало их в суть дела, а ограничивалось только туманными намеками. Можно предположить, что и сам Абуладзе не знал, чего эти костоломы кружат в своих вопросах вокруг каких-то туннелей. Он использовал этот эпизод как метафору больного общества. А высокое начальство, между тем, раскидывая сеть общих вопросов, рассчитывало выйти на конкретную поляну.
– Григорий Генрихович, не слишком ли мы уходим в историю вопроса? – несколько ироничным тоном осведомился Озерков.
– Но позвольте, господин Озерков, – твердо ответствовал Рюмин, – вы же сами настаивали на том, чтобы господину полковнику была предоставлена вся информация. Была обрисована, так сказать, полная картина.
– Нет, господа, в этом и впрямь что-то есть, – подал свой голос Александр Нойгард. – Режиссер не знает, что хотят узнать следователи на допросах, которые как бы не допросы, а сцены в его картине. Но и сами следователи этого не знают.
Нойгарду следовало бы поставить памятник из чистого золота хотя бы за то, что он в своем уходящем за грань веков возрасте все еще держится на ногах, а воротничок его белой рубашки туго накрахмален.
В гостиную вошла Виктория, которая, похоже, хорошо знала привычки и вкусы этих людей. Во всяком случае, она без всяких консультаций взяла из рук Озеркова огромный, но пустой бокал из-под вина, а взамен протянула ему полный. И этот, второй, бокал был в два раза больше, чем первый. То есть он был уже не огромных, а потрясающих, поистине царских размеров. Озерков воспринял эту замену как вполне разумную и, может быть, неизбежную процедуру, хотя он и вынужден был держать новый бокал не одной, а двумя руками, как делали это английские короли на средневековых гравюрах или артисты, когда разыгрывали трагедии или исторические хроники Уильяма Шекспира или Кристофера Марло. Кристофер Марло, английский драматург, был убит «за то, что слишком много знал». Так было написано в одном сборнике «Загадок истории», который Олег листал в магазине на Тверской буквально несколько дней назад. А за что же тогда был убит натуральный, сегодняшний Марло, если таковой существовал? В первую половину истекшего дня Воронов не обнаружил никаких донесений об этом событии, если предположить, что такое произошло. А во вторую половину его самого чуть не отправили изучать другие планеты. И это только за попытку слегка копнуть дело о нападении на семью капитана Петухова и связанное с ним дело об убийстве некоего Марло. Которого, надо полагать, звали не Кристофер, и по профессии он был не драматург.
Возможно, что знаменитого англичанина и этого, московского, Марло роднит только то, что оба они слишком много знали.
– Не очень-то все это патриотично, – продолжил Воронов, когда Виктория снова покинула их. – Можно только преклоняться перед организационным талантом тех, кто все это устроил. Но результат получается такой: около половины золота уходило налево.
– Скорее, направо, молодой человек, – возразил чему-то усмехнувшийся Нойгард. – Монархисты всегда считались в политике правыми, а не левыми.
– Мы понимаем ваши чувства, Воронов, – властно вступил в разговор Озерков, – но стране ущерб этой деятельностью нанесен не был. На самое необходимое – на стратегические нужды – золота хватало. А что сверх того… Разумеется, прежде всего вы подумали, что средства могли быть вложены в повышение уровня жизни.
– Почему бы и нет? Не повышали бы цены на мясо, не было бы событий в Новочеркасске.
– Успокойтесь и забудьте про всяческие «бы» да «кабы». Что сверх самого необходимого, то никуда не вкладывалось, а просто расхищалось. Присваивалось. Заматывалось. Бесследно исчезало. Это хорошо видно на нефтедолларах, которые пошли сюда при Лене Днепропетровском. Та же участь ждала и вторую часть золота. А мы, во-первых, сохранили его. Так что и по сей день это воистину золотой запас страны. А не прибамбас, как у нынешних, все чего-то доскребывающих по сухому дну госказны.
– Согласен. То, что золото удалось сохранить, – колоссальное достижение. Но для кого?
– Как же вы этого еще не понимаете, Олег Юрьевич? – как будто еще более строже стал Озерков. – Как это вы все еще у нас спрашиваете, как будто мы для вас случайные люди и вы нас впервые встретили на лесной дороге? Вы спрашиваете «для кого?», но я уверен, что ответ не только вам отлично известен. Он, можно сказать, запечатлен в глубине вашего сердца всей вашей жизнью. Разумеется, для государя императора, чьи права на Российский престол не только никем не будут оспорены, но, наоборот, вселюбовно признаны. Для того, чтобы его царствование началось в славе и продолжилось бы в триумфе.
Произнося эти, казалось бы, безумные, но завораживающие речи, Озерков все ближе подходил к Воронову и все выше поднимал огромный кубок рубинового, золотящегося стекла. Воронов подумал, что при огневом контакте подобных личностей надо брать на прицел в первую очередь.
– Что происходит? – спросил Воронов, стараясь, чтобы голос не выдал его смятения.
– Пока ничего. Но скоро произойдет.
– Чего вы ожидаете от меня?
– Вы должны определить свой статус, Олег Юрьевич.
– То, о чем вы говорили со мной в саду? – обратился Олег напрямую к Рюмину.
– В том числе и это.
– Но… у меня есть начальник. Генерал-лейтенант Толмачев.
– Да знаем мы, что он генерал-лейтенант, – небрежно, через губу, протянул Александр Нойгард. – Да ведь, кажется, ему – старец демонстративно выкатил глаза на свои огромные, как мельничное колесо, наручные часы – не более суток осталось в своем звании… э, быть задействованным.
– Это как прикажете принимать?
– А это вот так. Вы, господин полковник, являетесь заместителем Толмачева. Ну а у вас тоже имеется заместитель, подполковник Иван Григорьевич Кублицкий. Не так ли?
– Что же спрашивать, коли вы и так отлично все знаете?
– Признаться, мы рассчитывали на сотрудничество с генералом. И поначалу казалось, что все договорено и функции распределены. Но у Толмачева сразу не задалось. Не будем сейчас рассуждать, можно ли было избежать гибели людей. Ошибка ли это, преступление, просчет… Сейчас на это нет времени. Говоря конкретно, вы сейчас в своих решениях никем не связаны.
– Это вы мне говорите, господин Нойгард?
– Это вытекает из того факта, что Толмачев упустил Кублицкого, что вместо первоочередной нейтрализации Кублицкого потерял время, охотясь за каким-то старлеем Симоновым, который все равно не соображает, что вокруг него происходит.
– И что же теперь?
– А теперь уже за самим Толмачевым идет охота. И, судя по славной боевой биографии Ивана Григорьевича Кублицкого, в исходе охоты сомневаться не приходится.
– Вот что, Воронов, – уже совершенно по-деловому произнес Озерков, опуская наконец свой кубок ниже уровня головы. – Мы исходим из того, что Толмачев свою карту уже выбросил. Но нам нужен на его месте свой человек. Не мне вам говорить, что из его кабинета можно контролировать решающий силовой ресурс города Москвы. И этим человеком должны стать и станете вы. И это должно произойти еще до полудня начавшихся суток. Теперь говорите, что вам неясно.
– Мне неясно самое основное: что за операция разворачивается в Москве и, в частности, в районе Курского вокзала? Кто руководит операцией, какие силы в ней задействованы и, что самое главное, какова ее цель? Ведь ваша цель, господа, насколько я мог понять из нашего приятного общения, возвести на трон нового царя?
– Не совсем так. Дождаться, когда новый избранник самой любовью народной будет отмечен и возведен на царство. И тогда сплотиться вокруг престола, чтобы укрепить его и защитить от злых ветров безбожного мира.
– Ну, я примерно это и имел в виду. Итак, будем считать, что ваши цели мне понятны. Но в операции участвуют еще и другие. И возникает много вопросов, В частности, такие: кого используют в этой операции втемную? И если вас, то как же это все случилось?
– Что именно?
– То, что имея такие ресурсы и столько времени на подготовку, вы в союзе с Толмачевым начали с такого провала? Итак, я повторяю: кто еще участвует в этой операции? Почему начали с провала? И, наконец, какова моя задача?
Старцы что-то темнили. Воронов не сомневался в их искренности. Все, что они тут понарассказывали, вполне могло соответствовать действительности. И одновременно все это выглядело разорванными и деформированными фрагментами непоправимо искаженного целого. Утаивался какой-то важный пункт. Или, во всяком случае, он все время подразумевался, но не был высказан, не был сформулирован с необходимой ясностью. Почему у них все-таки так плохи дела, если сами они так хороши и важны, так, казалось бы, могущественны и защищены здесь, на этих своих необъятных дачах?
– Отвечаю по пунктам, но кратко, – приосанившись, начал Рюмин. – Мы в союзе с Толмачевым начали с провала именно потому, что мы начали в союзе с Толмачевым.
– Иными словами, вы признаете сейчас, что этот ваш союз был ошибкой?
– Да, молодой человек, именно так, И те, кто повинен в ней, ответят по законам чести, можете не сомневаться. У нас ведь не как у нынешних: города на карте нет, войск, наступавших на него, тоже уже нет. И, что самое удивительное, виновных во всем этом тоже нет. Ну, это я так, к слову. А что у вас там по второму-то пункту?
– Ах, да: кто еще участвует в операции?
– А это вы, опять-таки, у генерала Толмачева можете уточнить. При личной встрече.
– Не понял. Как же можно начинать операцию при невыясненных участниках?
– Я же вам ответил: ошибка. Мы слишком во многом поверили на слово Толмачеву.
– А проверить его слова?
– Проверить не было возможности. Вернее говоря, мы рассчитывали, что такая возможность в последний момент появится. Но, к сожалению, вместо реализации она была утрачена полностью и окончательно, – Ну хорошо. А какова хоть схема операции в изложении Толмачева?
– Как вы, может быть, знаете, Толмачев много лет находился на нелегальной работе в обеих Америках, как в Южной, так и в Северной. Естественно, у него там остались свои люди. Да и не только люди, но и целая сеть банков, предприятий и магазинов. Как все это было организованно, не сейчас рассказывать.
– Да уж, Григорий, ты бы покороче, – раздался недовольный голос Озеркова. Но Воронов уже привык, что у этого строгого господина может быть только такой голос.
– Короче говоря, с помощью всей своей американской клиентуры Толмачев брался организовать здесь, у нас, «Черный вторник» наоборот. То есть резкое падение курса доллара, который в дальнейшем, где-то уже через неделю, должен был сблизиться с курсом рубля.
– А что в это время происходило бы за рубежом?
– Мы в это особо не вникали. Нам сказано было, что у них там, в долларовой зоне, события здесь тоже отзовутся некими финансовыми судорогами. Но, повторяю, мы считали, что это их проблемы. И они на Западе, маленько перепугавшись, с этим справятся.
– А что здесь?
– Выдавливание доллара.
– И что же вместо него?
– Золото. А оно у нас. Зависимость от зеленого дьявола лопается. А на смену идет золотой червонец. Золотые акции. Да что угодно. И вот тогда, на гребне успехов новой платежной реальности, страна безбоязненно возвращается к единственно легитимной, исторически прославленной форме правления.
– Очень красиво, Я вас поздравляю, господа. Если бы я был редактором и вы принесли бы мне этакую вдохновенную поэму, я ответил бы вам коротко и ясно: «В печать!» Но так как у меня другая специальность, то я говорить буду не совсем, может быть, то, что вы ожидаете. Первое: сколько у вас золота и доступно ли оно, учитывая положение на Кавказе?
– Около двух десятков тысяч тонн, – не без стариковской гордости ответил Нойгард. – И оно доступно. Вполне доступно, господин Воронов. Последние десять лет шло его перебазирование. Сейчас все оно в Москве. Можно сказать, в центре столицы.
– Но ведь это такое количество… Оно, как вы говорите, на глазах. Такое не замаскируешь. Следовательно, любой власть имеющий может наложить на него лапу.
– У нас нет сейчас времени рассказывать вам о некоторых технических решениях. Но, поверьте, проблема решена на таком совершенном уровне, который обеспечивает как сохранность и контроль, так и практически мгновенный доступ к золоту.
– Прекрасно, господа! Конечно, на мой поверхностный взгляд, это что-то из области фантастики, но… не будем, не будем спорить. Итак, допустим, я верю, что по этому пункту у вас все в порядке. Но дальше я вынужден говорить куда более неприятные вещи. Шутки в сторону. Вы привлекаете меня к работе как профессионала. И как такового прошу меня сейчас и выслушать. Первое: все, что вы мне тут говорите, звучит почти правдиво и одновременно ужасно фальшиво. Очень уж это заметно, господа. И если бы я этого не учуял, то нет от меня никакой пользы, и зря, выходит, вы ко мне обратились. Времени у нас немного. И все-таки я позволю себе уточнить всего два пункта. Во-первых, что это за возможность проверить Толмачева, которая у вас была и которая теперь для вас утрачена? И, во-вторых, каковы все-таки мои задачи?
– Очень хорошо, Олег Юрьевич, что вы задали именно эти два вопроса, – сказал Рюмин необычайно мягким тоном, в то время как Нойгард и Озерков вообще отвели глаза в сторону. – Два ваших вопроса касаются, по сути, одного и того же пункта. Как вообще могут быть проверены слова человека или организации, которую он представляет?
– Прежде всего, действия, которые, по их обещанию, они предпримут, должны быть выгодны им самим. Соответствовать их целям.
– Но если мы не уверены в их целях?
– Тогда их обещания могут быть гарантированы другим человеком или организацией, которому или которой договаривающиеся стороны…
– Участники сговора, говорите уж прямо.
– …подчиняются в том или ином смысле.
– Вот на такого человека, который смог бы сыграть роль гаранта соглашений, мы и надеялись выйти до последнего момента. Точнее говоря, мы не очень-то и надеялись. Но один из наших, который посвятил поискам этого человека много лет, очень нас обнадежил в этом отношении.
– В каком отношении? Прошу вас, Григорий Генрихович, будьте предельно конкретны.
– Когда наши контакты с Толмачевым и американской группой вступили в решающую стадию, наш человек сообщил нам, что не сегодня завтра будет предпринята попытка убить его.
– И что же?
– Он связывал это с тем, что он или вот-вот выйдет, или уже вышел на человека-гаранта, но пока еще не смог его опознать.
– И что же случилось дальше?
– А дальше, к сожалению, случилось вот что: нашего человека действительно убили. Ночью, сутки назад. Примерно в это же время.
– И он вам ничего не успел сообщить?
– И он нам ничего не успел сообщить. Для того, господин полковник, чтобы он ничего не успел, его и убили. По крайней мере, я так полагаю.
– Разумеется, господин Рюмин.
– Продолжаю отвечать на два ваших вопроса. Как только началась операция, мы убедились, что сбываются наши худшие опасения. Первое. Толмачев идет не на регента и не на главнокомандующего. А на диктатора. Что, как вы понимаете, полностью идет вразрез с нашими планами. И второе. Сам Толмачев может оказаться пешкой в руках американской группировки. Ее усилия тоже могут быть направлены на установление диктатуры. Но только совсем не той, на которую рассчитывает Толмачев.
– Хорошо, Григорий Генрихович. Я снимаю вопрос о том, почему с вашей стороны были допущены такие провалы и ошибки. Вы не вышли на человека, который мог бы гарантировать вам выполнение договоренностей. Более того, вы потеряли своего человека, который был близок к установлению необходимого вам канала связи. И в этих условиях вы еще проявили, я бы сказал, удивительную реакцию, всего лишь в течение суток осознав, что вас везут не той дорогой. И совсем не в ту степь.
– Ничего удивительного, полковник. И заслуги нашей в том нет. Это смерть Марло всех нас насторожила.
– Что вы сказали? Смерть кого?
– Мартин Марло. Он и был нашим человеком, который, казалось, близок к установлению канала связи с теми, кто мог нам что-то гарантировать. Или, наоборот, отказать в каких-либо гарантиях Толмачеву и американской группировке. И этого было бы достаточно, чтобы мы отказались от каких-либо контактов с ними.
– Мои задачи, Григорий Генрихович?
– По большому счету, их всего две. Первая очевидна. Не дожидаясь акции Кублицкого, нейтрализовать Толмачева. А в оптимальном варианте – перехватить у него контроль над силовым ресурсом. Вторая задача – творческая. Но зато ее решение может сильно облегчить решение первой или даже сделает ее ненужной.
– Вы должны, – не выдержал в очередной раз Озерков и каменными шагами командора подошел к Воронову, – расследовать дело об убийстве Мартина Марло! И при этом по полной программе, полковник. Что же тут непонятного? Найти, кто убил и почему. Но не общие мотивы. Они нам и так всем ясны. Какой контакт был этой смертью оборван? Кто конкретно вмешался и благодаря чему удалось это осуществить?
– Тогда считайте, что я работаю с вами уже с середины прошедшего дня. Вчера я принял сообщение о нападении на капитана милиции Петухова. Начав расследование, я обнаружил, что оно выводит меня на какие-то разговоры о смерти некоего Марло. Но проверка показала, что дело о его убийстве не возбуждено.
– Ничего удивительного. Прошло еще слишком мало времени. Завтра возбудят.
– Теперь-то мне это понятно. Но вчера я, как зашоренный, думал, что дело идет только о капитане Петухове и его скончавшейся от резаных ран супруги. В результате я никого не задержал, и вообще, мне едва удалось унести ноги, причем одну в довольно плачевном состоянии.
– И что ему удалось, твоему племенному красавцу? Всего лишь пролить толику своей драгоценной племенной крови. Не смог задержать какую-то шпану. Бежал, как заяц.
– Он уцелел, вот что ему удалось, миленький, – хотела ответить Римма разъяренному мужу. – Ему это удалось, много это или мало, – это все относительно. Но вот что абсолютно точно, так это то, что тебе бы на его месте ничего бы не светило. Ни единого шанса. Прыгнуть в сторону не успел бы, а не то что добраться до любимой женщины. Пусть и немного смешно получилось, потому как – истекая кровью…
– Ведь ты посмотри, – снова завелся Никонов, – как они с ним заперлись, как обхаживают, дряхлые-то эти!
– Ну, положим, Озерков далеко не дряхл.
– Ладно. Ты мне говоришь… А Виктория? Как она вокруг него, а? Может, вы того, рокировочку надумали? Может, устарел для вас Петя Никонов? Не тянет или нынче не в моде? Ты чего молчишь, девка обозная? Или не тебя спрашиваю? – Никонов схватил Римму за плечо, чтобы она перестала маятником вышагивать перед ним, и развернул к себе.
Ему не следовало без крайней необходимости возобновлять с ней физический контакт. Дело в том, что после затяжного экстаза на супружеском ложе их все еще окутывало совместное, весьма медленно рассасывающееся биополе. Оно спутывало индивидуальные воли в причудливые сочетания, которые рассчитать невозможно было бы даже на машине, а не то что взволнованным женским умишком. «Убить мне его, что ли? – прежде всего почему-то подумалось Римме в то время, как Никонов молча и яростно тряс ее уже за оба плеча, – Ну да, а почему бы не убить? Дать вот сейчас леща, и пусть летит, превращаясь на лету в рыбу с крыльями. А как только выскочит из воды, как воспарит, так тут же им займутся ангелы… или реаниматоры».
– Ты что думаешь, – продолжал яриться муж, – ему сейчас там чинов понавешают и о тебе вспомнят? Да кому ты нужна, недоучка шпаргальная? Супруга маршала Франции… Ха-ха-ха!
«Нет, – продолжала соображать Римма, стараясь уворачиваться так, чтобы Никонову не удавалось вместе с плечами трясти и ее голову, – нет, конечно. Убить как бы походя, не за здорово живешь, любимого и любящего мужа – дело нестоящее. А надо его охорашивать постепенно. Сбить с ног, пожалуй, придется. Не без этого. А потом избить до полусмерти. Ухайдакать и отметелить. До бесчувствия. До потери пульса…»
– Я сейчас все решу, – бормотал Никонов, еще сильнее заряжаясь безумием от близости ее трепещущей плоти. – Я, Петр Никонов, а не этот наполеончик с эклером. Я – следователь Никонов. Я тот, кто начал это дело и кто его закончит.
– Ну, заканчивай уже, что ли, – как бы окончательно обессилев, произнесла Римма.
– Я сейчас поеду прямо туда, я слышал разговор твоего хахеля, ему доложили, что эти двое живут в одном дворе с Петуховым. А я вот сейчас поеду и возьму их один. Один, понимаешь? Вот этими самыми руками. Потому что я следователь. И знаю, что говорить людям, чтобы совладать с ними.
– И тогда?.. Ух, Никонов, ну ты и крут.
– Сама знаешь, что тогда. Вот тогда эти, которые в гостиной, и поймут, кто такой Воронов, их новый любимчик. А чего стоит Петя Никонов, следователь милостью Божьей!
«Да ведь он верит всему этому», – она ужаснулась этому открытию.
Она и сама виновата. Он загнан в угол, и поэтому предпочел временно сойти с ума. И вообразить, что он может совершить и то, к чему его в реальности и близко никогда не подпустят. А она в результате останется вдовой. Валентина будет утешать. Мать, хоть и очень умна, но в данном случае ее чуткости не хватит, и она не поймет. И только презрительно усмехнется.
Воронов – не муж. Воронов – ворон. Боевая птица. Это так. Уж она-то знает это и поняла. Как и те, кто беседуют с ним сейчас в гостиной.
– Тебя убьют.
– Меня-то не тронут. Да успокойся. Чего как кошка вцепилась?
– А я и есть кошка. Тебе же нравится, когда на меху все?
Никонов понимал, что его отвлекают. Но еще не понимал, от чего именно.
Болезненный любовный чад, еще более едкий от разочарования непонятной жизнью, кружил ему голову как пионеру, случайно попавшему рукой под юбку вожатой.
– Пусти, тварь! Извращенка. Небось твой индюк Воронов и не подозревает, что он у тебя всего лишь для разогрева перед встречей с Петенькой.
«Ну, когда и бить, если не сейчас, – рассудила Римма. – Он несправедлив. Он сам принимал в этом участие, а следовательно, не ему попрекать. Ну вот хотя бы за это я ему сейчас и врежу».
И она ему врезала. Она никогда не посещала никаких занятий по боевым единоборствам, поэтому и ударила бесхитростно: слабым своим женским, но злым кулачком прямо в челюсть забунтовавшего не по делу раба.
Никонов от полной неожиданности, по-смешному разинув рот, не удержал равновесия и рухнул на ковер.
Конечно, ничего серьезного с ним не произошло. Что там за удар?! И ковер под голову при падении. Да вот он уже и приподнялся на локтях. Перевернулся на бок. Вытирает тыльной стороной ладони кровь с губ.
– Знай, лярва, конец вашему господству с Викторией подходит! Ваша не пляшет, гражданин начальник. Сейчас поеду и возьму их в наручники.
– Нет. Лучше я тебя изуродую, но никуда не пущу.
– А… испугалась, что я дорожку твоему Воронову перебегу? А ведь правильно ты испугалась, так все и будет. Двух ребят по мокрому делу задержу, это как, а? Вот тогда и посмотрим, кто в замке король. А ты и твоя Валентина будете передо мной в любовном хороводе кружиться. Ну это, разумеется, только когда я буду вас вызывать.
Он встал на четвереньки и сосредоточился, чтобы рывком встать на ноги. Когда же и добивать неумного человека, как не в подобном положении?
Ударила ногой в бок. Все так же неумело и зло. Никонов утратил позицию на четвереньках и снова свалился на спину. А теперь что же? Сейчас он снова станет подниматься, но уже вдесятеро обозленный. Риммой овладело чувство, что она лечит ребенка. Уговаривает его принять микстуру. А практически это значило, что чем сильнее она ударит Никонова, тем будет полезнее для него.
Она схватила с подоконника здоровый том «Словаря криминалиста» и ударила им Никонова по голове. Разумеется, она била не по затылку и не по лицу. Специально изловчилась и дала по ушам. Сначала по одному, и голова его мотнулась слева направо, и тут же – по другому.
Он перевернулся на живот и что-то забубнил в ковер. И обхватил уши ладонями, защищая их от возможных новых ударов. Римма неправильно истолковала его движение. На секунду ей показалось, что этот его жест оскорбителен для нее и означает, что муж не желает ее слушать. Тогда она отшвырнула словарь куда подальше и принялась отдирать его ладони от ушей, визжа при этом как сумасшедшая:
– А, так ты не желаешь меня слушать? – хотя слушать, в общем-то, было и нечего, кроме самого этого повторяющегося вопроса.
Хрустели и выгибались пальцы Никонова, который был оглушен двумя ударами фолианта в твердой обложке и сопротивлялся теперь наугад. А Римма на какой-то момент почти утратила представление, что и зачем разыгрывается в этой комнате. Ей казалось, что единственная ее цель – отодрать эти руки от головы, которую они обхватили.
Наконец, убедившись, что силы ее рук для этого недостаточно, она стала наносить удары мысками своих туфель.
Потом так же внезапно опомнилась, остановилась. Прислушалась. Муж перестал бормотать. Да, он уже никому не угрожал и не порывался ехать кого-то арестовывать. Значит, если, конечно, она его не убила, он сохранен для семейной жизни.
Она обошла тело, распростертое на ковре, и вышла из спальни. Прошла по коридору до застекленной двери и открыла ее. Виктория сидела посреди веранды в лонгшезе, оплетенном золотящейся в полумраке соломкой, опустив правую руку на горлышко ее любимого крымского портвейна.
На какое-то время Римма остановилась в дверях, не переступая порог и не окликая мать. Она все еще не могла придти в себя. Не могла полностью дать себе отчет в мотивах своего поведения. Если все это, конечно, можно было назвать поведением, а не безумием чистой воды.
Но если и безумие, то не она в нем виновата. По крайней мере, не одна она. События прошедшего дня выбили из колеи и не таких зубров, как она и ее Петенька. Вон сколько их понаехало! И если они начнут драться, то в ход пойдут не кулаки и туфли.
На противоположном крыле дачи как будто хлопнула дверь. И опять сонно стрекочущая тишина летней ночи, тихонько, никому ничего не говоря, перетекающая в предрассветное стекленеющее озарение. Нет, ничего в этом мире не изменить, и никого здесь никогда не оставят в покое. До самой смерти.
И красота никого не спасет. А только будет свидетельствовать слепыми глазами беломраморных статуй о чьих-то грандиозных попытках изменить траектории планет.
– Мама, – сказала Римма, неслышно приблизившись к Виктории, – по-моему, я убила Никонова, а может и нет.
– А зачем ты это сделала? – тихим голосом спросила Виктория, даже не обернувшись на дочь.
– Он ничего не слушал. Я не могла ему ничего объяснить.
– Нет. Ты не могла этого сделать. Тебе показалось.
Послышался звук заработавшего автомобильного двигателя. Затем шум машины, выбирающейся по гравию на асфальт боковой шоссейки. Римма вбежала в спальню и увидела то, что и предчувствовала: спальня была пуста.
Минское шоссе в это интимнейшее время суток было, разумеется, пустым. Вот и ладушки. Жена отделала его, если честно говорить, со страшной силой. В таком состоянии, да еще с залитой кровью мордой, если и катиться, то именно и только по абсолютно пустынной трассе.
Зла он ни на кого не держал. Даже и страшный град ударов, который нанесла ему жена, он как-то смутно объяснял в свою, а значит, и в ее пользу. Бьет – значит любит. Развратная, смутная баба. А испугалась за него, когда он начал орать, что едет на задержание. Жаль, что не стукнула посильнее. Он потерял бы сознание, и у него было бы алиби. А если его по вине Виктории попрут из органов? Ну что ж, она баба небедная. Пока не найдет новую работу, посодержит.
Но это значит, снова ступай под каблук. Нет, этому не бывать, и все это надо переломать и выбросить. Римме уже не хватает этого и другого. И третьего. И даже всех их вместе взятых. Начала метелить. Теперь, выходит, за ней глаз да глаз. А жить когда?
Перед выездом на Минку он притормозил, больше по автоматической привычке дисциплинированного водителя, чем по необходимости. Разумеется, ни вправо, ни влево ничто не двигалось и даже не трепетало. Его поташнивало, и кружилась голова.
А может, это она только так обставила, что испугалась за него? А что у нее в голове, не говоря о том, что под юбкой? Нет, в попытке преднамеренного убийства он, конечно, Римму не заподозрит. Но что она может выкинуть, на что решиться, когда нервишки закоротят?
Много ли он вообще знает об этих людях, о своей, будем говорить прямо, новой родне? Их можно, конечно, оправдать, это ясно. Они почему-то жутко перетрухали, узнав о смерти этого своего родственничка, с какой-то театрально-маскарадной фамилией. Но Никонов здесь не при чем. Нет, господа хорошие, разбирайтесь в убийствах своих людей сами.
Он не может больше оставаться в полной зависимости от этого клана. Это не просто ненадежно. Это опасно.
И, чтобы разорвать эту зависимость, есть отличное средство. Прямое мужское действие! Он разрешит все свои проблемы. И отомстит за жену капитана Петухова.
Он возьмет этих двух громил. И сделает это сам. Один. Не обращаясь к разнообразному спецфуфлу. И тогда этот золотопогонник исчезнет с их дачи, чтобы никогда там больше не появиться.
А его, Никонова, окончательно тогда признает за хозяина весь этот бабий хоровод: жена, теща, подруги жены и тещи. Вся эта камарилья.
Впрочем, это он мелко мыслит, мелко опять плавает. Наверное, это потому, что маленько плывет голова. Мелко наплывает морозная одурь. Как хорошо, что шоссе абсолютно пустое. Вот так бы и до самой Москвы. Надо бы свернуть на ближайший придорожный «карман», чтобы немного постоять на месте, успокоиться, обтереть хотя бы лицо от крови. От кровянки, которую пустила ему безумная баба.
Она, конечно, психопатка. Все время почему-то боится, что всю ее родню вырежут, а ее саму продадут в дешевые притоны Стамбула. А его, Никонова, утешения для нее, конечно, недорого стоят. Чего, мол, стоят утешения мужчины не в чинах? Разве он может кого-нибудь защитить или что-то предотвратить?
Вот и сейчас, мелко он плавает, предвкушая всего лишь щелкнуть по носу полковничку и укрепить авторитет среди своих. Надо не только задержать этих двух бандитов, но и обязательно первому допросить их. В дальнейшем его могут оттереть от следствия и не допустить до контактов с задержанными. К тому же, таких рукастых ребят, когда еще неизвестно, кто им платит за то, чтобы они распускали руки, находят иногда повесившимися в камерах предварительного заключения.
Задержать и допросить. А там… пусть плывут по инстанциям. И если он получит в руки нить, ведущую к убийце этого их родственничка, то уже его, Никонова, начнут они и обхаживать. А там и… Нынче карьеры делаются хлестко. Как в дурном сне. Зажмурил глаза и… прыгнул. Некоторые так и в кресло генпрокурора запрыгивают. А чего, Петенька? Крепче за баранку держись. Тем более, когда ее вместе с чашечкой кофе утром тебе в постель подают. Итак, продвигаемся до первого «кармана». А там будяру почистим. А то бандиты дверь откроют и не поверят. Какой ты следователь? Сам налетчик.
Слишком долго он собирался привести себя в порядок. Забыв, вероятно, что начинать надо с порядка в мыслях, в голове. Впереди слева показались огоньки поста ГАИ. Дисциплинированный водитель автоматически сбросил скорость до сорока, хотя и не ожидал, что одинокий странник на самых банальных «Жигулях» привлечет чье-то внимание.
Он, конечно, маленько промухал во время вчерашних допросов. Поспешил поверить пустой болтовне алкашей и не придал значения всей этой мутной истории с мутным гражданином Марло. Ну ничего. И сегодня еще не поздно исправить. Как говорят во французских романах – еще до восхода солнца.
Он уже поравнялся с постом и уже собирался нажать на газ, чтобы снова набрать скорость. Но метрах в двадцати впереди него, прямо на осевой, стоял гаишник гигантского роста и палкой со светящимся наконечником предлагал остановиться у своих сапог.
Никонов чуть проехал мимо него, затем сдал назад и остановился, опуская боковое стекло со своей стороны.
– Ваши документы.
– Пожалуйста, – Никонов протянул через окошко техпаспорт, доверенность от жены на право вождения и свой паспорт.
– Нарушаете, Петр Степанович, – слегка напряженно начал гаишник свою традиционную канитель.
– А в чем дело?
– Ну как же? Колесо-то вон переднее, – он пнул сапогом в колесо, – можно сказать, почти спустило. А резина?
– А что резина?
– Резина у вас лысая. Вот что.
– Скоро буду менять, – осторожно ответил Петр, стараясь не высовывать голову из машины, чтобы мильтон не заметил, как он изукрашен. – Да и не лысые они, сзади только одна покрышка потертая.
Гаишник медлил, углубившись в документы, как в интимную переписку собственной жены.
«Почему он в дождевике? – подумал Никонов. – На небе ни облачка. А он, между прочим, не откозырял и не представился. А впрочем, кто я для него? Плиблудный мужичок, ездящий по жениной доверенности. Подобные личности почтения, конечно, к себе не вызывают. Может, показать ему служебное удостоверение для ускорения процедуры? Но неужели ему не душно? В такую теплую ночь и так плотно запахиваться в этот чудовищный, не иначе как брезентово-битумный, плащ?»
Бред и неадекватность внешнего мира продолжали играть с Никоновым недобрые шутки. Но пока еще он твердо рассчитывал удержать контроль за этими хохмочками, не дать им войти в полную силу.
– Э-э… а что это у вас с лицом?
– Послушайте, машина в полном порядке, а я очень спешу. Если вы нашли какое-то мелкое нарушение, выпишите штраф и верните документы.
«Вот ты и раскрылся, – подумал мужчина, стоявший у машины, – у нормального-то мужика первыми словами были бы: “Ну что, командир, договоримся?” А этот? “Выпишите штраф”. Нет, парень, не наш ты человек, А тогда кто же ты? Из прокурорских, наверное, хотя и не из крупных. Начальничек. Ну да тут, на ночной трассе, как в бане, все равны. Сейчас мы тебя чуть качнем и посмотрим, что из тебя полезет».
– Вы сказали, что очень спешите.
– Ну да, я так сказал. А что?
– А куда же это можно в такое время спешить?
«Скажу, что на самолет, – быстро стал прикидывать Никонов, – спросит билет. Если встречаю, то кого, откуда и с какого рейса. Гаишнику нужны деньги, это понятно. Но денег у меня с собой нет. А поняв, что с меня не слупишь, он может отреагировать или спокойно, или агрессивно. И во втором случае все эти похаживания вокруг машины, почитывания документов, постукивания ногой по колесам могут продолжаться неограниченно долгое время. Надо рубить концы и показывать удостоверение. Сличат фотографию и откозыряют».
– Я – следователь городской прокуратуры. Вот удостоверение. Меня вызвали на задержание двух опасных преступников. Поэтому, задерживая меня здесь, вы можете помешать выполнению важного задания.
– Ну, чего там? Платить не хочет? Кто такой? – раздалось с того края шоссе, где стояла сторожка ГАИ, и на крыльцо вышел еще один, вровень с первым, верзила в плаще.
– Говорит, что следователь. На задержание, мол, едет.
– Ща разберемся. Следак на оперативку?.. Ну-ну. Что-то тут не так. – Второй спустился с крыльца, пересек проезжую часть и присоединился к первому. Некоторое время он с интересом разглядывал документы, особенно служебное удостоверение, которые протянул ему первый.
– А что это он у тебя сидит? Мы тут перед ним стоим, с документами его говенными разбираемся, а ему что, трудно задницу оторвать? Пусть вылезает. А мы пощупаем, что у него в салоне. Может, стволики? Или травка нарисуется.
– Вы же держите в руках мой документ! – гораздо более нервно, чем рассчитывал, почти выкрикнул Никонов.
– А ну давай вылезай, – продолжал второй, – липа это, а не документы. Сейчас в любом переходе метро еще и не то можно купить.
– Что «не то?» – Никонов окончательно утратил инициативу, ему стало страшновато, и он просто тянул время.
– Да хоть свидетельство о разводе Кобзона. Даже если он, к примеру, никогда не разводился.
Если бы Никонов был в своем обычном собранном состоянии, он нашелся бы, как среагировать на эту дурь, которую катили на него два смурных инспектора неизвестного чина и звания. Но он и сам был сейчас смурной. И поэтому он принял предложение, которое, будь оно сделано в спокойной обстановке, показалось бы ему дикостью и потрясением основ.
– Вот что, следователь, – сказал второй, постукивая документами о ладонь, – как-то нескладно у нас с тобой получается. Отпускать тебя, что ли?
Петр протянул руку за документами.
– Да не, ты подожди. Погодь, маленько, а я скажу. Честно говоря, следователь, что-то с тобой не в порядке. И вызывает наше подозрение. Мы, конечно, можем взять тебя сейчас вон туда, в нашу кибитку. И там по телефончику мы все твои понты проверим. Где учился, на ком женился и кого задерживать собирался.
– Но ведь это какое время…
– Ну вот. А я о чем? Ты же спешишь? Спешишь. Значит, тебе этот вариант подходит? Нет, он тебе не подходит. Но войди и в наше положение: просто так отпустить мы тебя не можем. А вдруг ты ограбил и убил этого Петра Степановича, а удостоверение его взял, ну и фотку, конечно, переклеил. Это уж дело плевое. Шучу, конечно, но ты сам знаешь, следователь, чего в жизни не бывает.
– Я могу ехать?
– Вот давай сделаем так. Чтобы и у нас сердце не болело, и тебя не задерживать. Говори, что за задание. Кого хоть задерживать собираешься? Ответишь быстро и без запинки, мы увидим, что ты не врешь, забирай тогда свои документы и езжай, куда хочешь. А если начнешь из пальца высасывать, тогда извиняй, придется задержать до выяснения. Нам тут на трассе, сам понимаешь, все права даны.
И само вылетело с языка и сказалось:
– Вы даже не представляете, это очень важное дело. О нападении на капитана Петухова. Преступников вычислили. Но задержать их решил я сам.
– Ну, если так, мы тебе, Петр Степанович, премного поможем. Вылезай, сейчас сам увидишь.
– У вас еще какие-нибудь сомнения?
– У нас нет. Но я же не шучу. Мы можем здорово помочь в твоем деле.
Он открыл дверцу и довольно решительно потянул Никонова из машины.
– Вот сейчас сам увидишь…
Трое мужчин пересекли шоссе и приблизились к сторожке.
– А, кстати говоря, вы сомневались в моей личности…
– Уже не сомневаемся. Ты с нами начистоту, и мы с тобой нараспашку.
– Но сомневались. А сами, между прочим, не представились.
– Сейчас сам увидишь, – уже предательски заводясь, возбуждаясь, повторял тот, который держал его за локоть. – Все увидишь…
Они взошли на крыльцо сторожки, и один из них ногой распахнул дверь.
«А ведь я, может, и на свет Божий больше не взгляну, – вдруг неожиданно остро начало доходить до Петра Степановича. – Что же я наделал? И это все? И так все и закончится?»
Апартаменты, куда они вошли, состояли из двух комнат. В первой не было ничего, кроме стола с телефонным аппаратом, стула и табуретки. Из-за приоткрытой двери второй виднелись только чьи-то ноги, в форменных брюках, но без обуви.
«Напарник, что ли, отдыхает», – мимолетно подумалось Никонову. Но тут же ему стало не до мимолетностей.
Его грубо, с силой надавив сверху на плечо, усадили на табуретку. Затем один из них, тот, что остановил его на дороге, остался стоять у него за спиной, а второй уселся за стул, немного комически изображая неторопливостью всех движений большое начальство.
Но все комическое в этой сцене кончилось очень быстро.
– Ну что, следак, давай знакомиться, – как будто вполне спокойно сказал тот, что сидел напротив Петра за столом. Но уже в следующий момент голос его взвился до визга и поросячьей истерики: – Ах ты кум гадский! Мрак вонючий!..
И. мгновенно выросши над столом, он ударил своим правым шатуном Никонову промеж глаз. В последнюю долю секунды Петр успел как бы мотнуть головой вбок, и только это спасло его переносицу от того, чтобы быть сломанной и вдавленной внутрь.
Но избежать остального это не помогло. От страшного удара Петр опрокинулся вместе с табуретом и, отлетев на пару метров, покатился по полу. Когда движение прекратилось и он приоткрыл глаза, то снова увидел те же ноги без обуви, принадлежавшие кому-то, валявшемуся во второй комнате.
Но теперь, подкатившись почти вплотную к ним, он увидел и вторую пару ног. Истина открылась Никонову, но, как это и частенько случается, произошло это слишком поздно. Во второй комнате лежали не напарники этих двух, а их жертвы. И они не спали, а если уж точнее, спали вечным сном. Их окровавленные тела – это и было все, что осталось от действительного поста ГАИ. Захваченный двумя бандитами совсем недавно, он превратился теперь в свою противоположность – в мощный источник опасности и хаоса.
Когда на Киевском вокзале Воронов в последний момент вскочил в электричку, Гриша-маленький и его брат, хотя и отстали от него вагонов на пять, но успели сделать то же самое. Олега спасло то, что электричка была битком забита народом. К тому же братья, разгоряченные погоней, избрали неправильную тактику ее продолжения. Несмотря на живую стену из тел, заполнявшую тамбуры и проходы вагонов, они все-таки попытались пробиться вперед, не дожидаясь остановки.
Но их усилия, сопровождаемые руганью и даже тычками со всех сторон, привели лишь к тому, что они все-таки оказались остановленными и затертыми посреди первого же вагона. То есть, того самого, в который они успели запрыгнуть. Против физики не попрешь, а уплотняться народу впереди было решительно некуда. Тогда они решили дождаться остановки в расчете на то, что кто-то впереди выйдет, и они смогут возобновить свое продвижение.
Но не на первой, не на второй остановках никто не вышел. Наоборот, еще снаружи пытались присоединиться к едущим, чуть ли не с разбега трамбуя людей, заполняющих тамбур.
Осознав, что, впаянные в айсберг из пассажиров, они могут уплыть аж до Серпухова, братаны пустили в ход кулаки и локти, протискиваясь в обратном направлении. По возможности им отвечали тем же. Наконец, они кое-как протиснулись в тамбур, и двери открылись на очередной остановке. Гриша-маленький, сметая все на своем пути, выскочил на перрон и уже хотел было бежать вперед, к вагону, в котором находился Воронов. Но братка все еще вырывался изнутри, преодолевая встречный поток людей, которые ринулись на посадку.
Гриша ухватил его за руку и рванул что было сил. Наверное, брату еще кто-то хорошо поддал сзади, потому что он с внезапно обретенной скоростью полетел на Гришу. Оба повалились на перрон, кляня на чем свет стоит непреоборимую силу народных масс. Но пока они поднимались на ноги и прикидывали, куда им теперь бежать или прыгать, двери электрички тупо сошлись, рассекая человечество на две половины: на тех, кто ехал дальше, и… на остальных.
Попавшие во вторую половину бандиты для начала побрели, конечно, на пристанционный пятачок, где взяли по тройке хорошего дорогого пива «Балтика». Но, по большому счету, даже если бы они приняли по дюжинке темного «Афанасия», это не привело бы их в радужное настроение. Оба понимали, что оборвались они прилично. И дело даже не в упущенном фраере, которого, конечно, пристукнуть было бы самым правильным. Но насколько это исправило бы основной непорядок?
Грише неделю назад заказали базар на сквере. Ходить среди фраеров и бакланить, что такого человека, как Марло, положили ни за что. И что по этому поводу никто не может отказать ему, Грише-маленькому, в стакане вина. Не по-людски это будет – не помянуть покойника.
Заказ как заказ. Мало ли, о чем иногда могут попросить те, кому это надо. Может быть, он бы его и не взял, ведь не нами заповедь дана, что по базару отвечать надо. Но этот мужичок, которому это надо было, подвалил к нему, конечно, не от себя. От самого Круглого подошли тогда к нему ребята и бесхитростно попросили: «Слушай, уважь человека».
Согласно инструкции этого коротышки Гриша ставил базар и смотрел, кто на него отзовется, кто обратится к нему с вопросами, откуда узнал, мол, да как же это все произошло, ну и тому подобное.
Сам Марло, как поставил в разговоре заказчик, куда-то на эту неделю уканал. По понятиям сходилось: этот отставной вроде бы морячок иногда пропадал со сквера на срок до двух-трех месяцев. А что там неделя?
Братан Витек, по правде говоря, еще с самого начала высказывал опаску, говорил, что в черном деле все надо перепроверить. А на вопрос, почему оно черное, отвечал, что нормальные воры не будут о живом, как о зарезанном, неделю шорохом посыпать. И самому Круглому никогда в голову бы не пришло заниматься такой дичью.
– А значит? – спрашивал его брат.
– А то и значит, – отвечал Витек, – что не Круглый это затеял. Его тоже попросили. А ты соображаешь, кто может вот так вот к Круглому подвалить, чтобы он уважил и разрешил авторитет свой мусолить?
– Кто?
– Я же тебе сказал: черные люди. И дела у них неслыханные. Не за бабки и не за грины делаются.
– А как?
– Я же тебе говорю, все у них не по-людски. А тебя используют втемную.
Гриша-маленький всегда считал, что у Витька не голова, а Совет министров. Как тот говорил, так гнилухой все и рассыпалось. За всю неделю никто так и не среагировал на Гришины речи каким-то особым образом. То есть, вином-то угощали, но при этом не кидались расспрашивать, как и что получилось с Марло. И откуда у него такие сведения?
А в конце недели – возьмите бриться. Петухов сгреб троих с площади, а когда они вернулись, оказалось, что их возили раскалывать даже не в ментовку, а в прокуратуру.
Это что же выходит? Раз дело у прокурора, значит, дело есть. А раз есть дело, значит, есть и труп. А он, как голодный баклан, всю неделю вырывал у людей вино с закуской, разгоняя тухлую волну об убийстве. Которое, как теперь выяснилось, произошло на самом деле.
И трое алкашей, конечно же, раскрыли у следователя свои бакланьи клювы и вмазали его имя в эту историю.
– А я тебе что говорил? – сказал Витек, и они собрались идти к Петухову, который жил через парадное от них.
Хотели только во двор вызвать и поговорить по-соседски. По этому делу не было на Грише ничего серьезного. Ходил по скверу пьяный, шутки шутил. Это еще не дело. По такому-то делу он блеванул бы и на кэпа, даром что сосед, и на всю прокуратуру, от крыши и до крыльца.
Но год назад он в неудачном настроении, накатившем на него из-за крупного проигрыша на бегах, завалился в кафе на Арбате. Время было уже позднее, и посетителей не осталось. Он подвалил за столик к официантам, среди которых был у него и хороший кореш Фадей. Три официанта и две размалеванные, как куклы, девахи пировали вовсю. Только что потерпевшему унизительную неудачу. Грише-маленькому требовалась немедленная компенсация. Он опрокинул в себя, торопясь, как на пожар за чужим добром, пару пухлых фужеров с водкой, и тут же его внимание привлек резкий, глупый до наглости, смех одной из девах. Он, не раздумывая, положил к ней на плечо свою ручищу и сжал ее, еще не зная, что следует делать дальше.
Но деваха оказалась даже еще глупее, чем выглядела. Она сразу же попыталась вырваться из-под его руки. Блузка на плече затрещала, а ее хозяйка с пунцовыми щеками заверещала, как одичавшая пьяная канарейка:
– Ты чего, горилла? Куда грабли тянешь?
Тогда он сначала дал ей свободной рукой по лицу. Конечно, по его собственному разумению, дал несильно. Так, махнул. Как и положено дать по орущей пигалице, чтобы расквасила рот и замолкла. А потом и вовсе отшвырнул ее куда-то прочь от себя, как бы заканчивая надоевший номер со старым охромевшим котом. Бабешка куда-то полетела и глухо стукнулась.
Вмиг повисли у него на руках и повели за кулисы. Он, по сути, не сопротивлялся, понимая, что три – это вот они, на виду, а надо будет, и тридцать три набегут. Да и дела-то никакого… дешевке рыльник умыл. И кореш Фадей рядом, среди тех, кто его ведет.
Но оказалось, что не в рыльнике чьем-то дело. И что он ее не просто толкнул, а, как говорили все три официанта, и Фадей в том числе, буквально вмазал в стоящий неподалеку от стола массивный буфет. Буфет же стоял к столу ребром.
Ее тело притащили к ним же, за портьеру. Фадей сжал ей углы губ, а второй, кинув в стакан с водой моментально растворившуюся таблетку, влил содержимое ей в рот.
– Покажем как передозировку, – пояснил ему Фадей. – Она принимала, вся улица это знала и подтвердит. А ты иди домой и жди. Я приду через три дня. И все скажу. Кому и сколько от тебя. Понял?
Как не понять? Он быстро выпил еще два фужера водки и вышел из проклятого кафе.
Через три дня, как и говорил, пришел Фадей и принес еще больше водки, чем они выпили в тот вечер.
– Все, парень, внесено в протокол и закрыто, – сказал он, наливая по первой. – Так ее и оприходовали, как ослабевшую на почве передозировки.
– А ушибы? – со звериной настороженностью уточнил Гриша, еще не смеющий верить в свою удачу. – Она же влетела виском в буфет.
– А врач?
– А что врач?
– То, что он врач-эксперт.
– Откуда же у вас такой?
– Ты что? Знаешь, кто все такие заведения крест-накрест от нас на километр держит?
– Говорят, что Круглый?
– Вот его собственный Минздрав тебя от жмурика и отодвинул. А теперь, Гриша, все. Знаешь, как пионеры говорят? Больше выпьешь, крепче позабудешь.
– А что с меня? – спросил Гриша, по собственному суровому жизненному опыту знавший, насколько опасно оставлять подобные разговоры недоговоренными.
– Надо будет – отдашь. А пока гуляй и веселись.
– Ты что? – Гриша схватил Фадея за горло, но тут же и отпустил. Понял, что поезд ушел. А Фадей – это так, красный фонарик на последнем вагоне. Работа исполнена, а о цене не условливались. Вот так.
– Ладно, – сказал Фадей напоследок, – Круглый не зверь, детишек свежевать не заставит. Но если что попросят, сделай. И главное дело – аккуратно. Вот это он любит, чтобы аккуратно.
И целый год, на удивление, он жил, как и прежде. Только в то кафе больше не заходил.
Братка-Витек, выслушав его рассказ, вообще тут же заявил, что мочить надо было Фадея, как только тот заикнулся про «отдашь».
Сначала Гриша по привычке восхитился, что у Витька не голова, а Совет министров. Но, поразмыслив, дюже в этом засомневался.
– Не, – возразил он, – Фадейку замочил бы, они кого третьего прислали бы… А тогда на мне дубль-счет: и за девчонку, и за Фадейку.
– Могли отстать. Иногда людей своих экономят. Может, и был у тебя малый шанс, кто знает?
– Какой шанс? Ты чего пилишь, Витек? Они все мои, – загоношился Гриша, но особой уверенности в своей правоте в его голосе не было.
На том тогда этот разговор и закончился.
Поэтому через год он без звука подрядился неделю гнать шизо, ставить вокруг пивной глупый базар, который в конце концов оказался не глупым, а гнилым.
Три чайника хвастливо шумели на сквере, как их раскалывал в прокуратуре чистый зверь, следователь Никонов. А Гриша понял так: ему хана. Кто-то действительно пришил Марло. И следователь уже идет по горячему следу. И уже три чайника назвали его имя как человека, уже неделю гнавшего гнилуху среди «пивных» мужиков.
И пусть они назвали его пока только капитану, но от капитана до следователя дистанция – телефонный шнур и семь кнопок нажать. Может, он как раз в этот момент их и нажимает.
Глупая шутка или розыгрыш в этом случае, конечно, не пройдут. Марло-то успокоили всерьез, а значит, какие шуточки? Следователю результат вынь да положь. И если даже и не на Гришу начнут всю экспозицию навешивать, то все равно подступят к нему изрядно. Кто да что, да когда, да при каких обстоятельствах? Так и дойдут в результате длительных дружественных бесед во время гадских пишущихся на магнитофон допросов не только до мозгляка, заказавшего Грише этот гнилой базар. Уж этого-то придется сдать им сразу. Хотя бы словесный портрет, потому как ничего больше он про него и не знает. Конечно, придется. Выкладывать сразу, и при этом все, что у тебя есть. А иначе кто же поверит в такую лажу, в такой глупый заказ? И в такие его пионерские рассказы для гнилых?
Словесный портрет коротыги – это уже тепло. Но горячо для Гриши настанет, если они выйдут на этого румяного гниляка, а через него на другого-третьего-четвертого. А что ему сказал тогда Фадейка? Что Круглый любит аккуратность.
Вот тут Гриша и взвыл: он попал в классические ножницы, в которых сотни лет исправно лопались и более крепкие головы. С одной стороны, власти будут жать из него информацию. И только при ее бесперебойном поступлении гнилые ребята, которые будут вести допросы, согласятся всерьез не рассматривать его как мочильщика Марло. А с другой стороны – Круглый любит аккуратность. И такие слова просто так не произносят. Фадейка сказал, Гриша-маленький слышал. Это уж надежней, чем под протокол. А еще и третья сторона. И тоже в ту же масть. В конце всего, или даже в середине, всплывет и курва – чтоб ей и на том свете икалось! – которую он жахнул тогда об угол буфета.
Вот и заиграло очко, и кинулся он со сквера звериными прыжками, чтобы хоть какую-то плотину поставить и не допустить дальнейшего потопа от болтовни трех чайников и одного капитана.
Братка-Витек, хоть и был Светом министров, не присоветовал на этот раз ничего охлаждающего. Хотя бы того, что по панике к мильтону базар ставить не бегут. Опасное это дело, а прежде всего – неполезное. Он только пробормотал себе под нос, что, мол, когда еще говорил, что Фадейку надо было замочить, но это были даже не слова, а так… невнятные жалобы.
Чего они побежали к Петухову? Любым способом прекратить гадский треп, что, мол, Гриша трепался о Марло. А каким способом? Этого они еще не знали. Еще не обсуждали.
Звонок то ли не работал, то ли звучал слабо, и они от возбуждения его не услышали. Забарабанили в дверь:
– Ты здесь, капитан?
Что после такого начала могло получиться полезного?
– Кто это? – послышался из-за двери женский голос.
Ясное дело, капитан после смены сидит на кухне за чекушкой.
Небось сидит и чешет яйца.
А что ему? Он по чужим домам не бегает, а после работы и на сквер около пивной не выходит.
А баба, известное дело, любопытна от природы. Вот пусть к дверям и шныряет.
– Открой! У капитана чэпэ в отделении. Срочное дело.
– Кто такие?
– Открывай, тебе говорят! Нет времени… суслить с тобой.
– Эй, чего там шумишь? Счас открою. Какое еще там чэпэ? – это уже сам подошел, услышав, наверное, из кухни, что баба его оказалась в сомнении.
Конечно, он двух таких, как Гриша с Витьком, вытолкать или даже задержать в прихожей не мог. Даже и одного бы, наверное, не задержал.
А тут оба. Оба-на! Агрессивные и перепуганные одновременно. А это и есть самое опасное сочетание.
А вот они его как бы затолкали на кухню, где на столе – бывает же телепатия, отодрать ее – действительно стояла початая чекушка родимой.
– Ты вот что, капитан, ты нас знаешь, – начал Гриша лепить без подготовки, – как скажем, так и будет. Как вот договоримся сейчас с тобой.
– Ты чего? И ты, Витек, что ли? Вы что же это, в семейный дом?.. Обалдели?
– Ты не шуми, не шуми. Сам видишь, поговорить надо.
Из прихожей рвалась в кухню жена. Витек, подпиравший кухонную дверь, не давал ей пройти.
– Так не говорят. Идите на сквер, через десять минут подойду.
– Через десять минут ты уже с ментовней своей покумишься.
– О чем кумиться-то?
– Знаешь, о чем. Куда трех алкашей сегодня возил? О ком они тебе настучали, когда обратно их вез?
– А-а-а… вон вы о чем, – капитан, как ему казалось, уже овладел ситуацией. Он очень давно работал в органах и был очень опытным человеком.
В частности, Петухов понял, что эти двое, особенно Гриша, стабильный клиент вытрезвителей и ментовок чуть ли не с принятия его во Всесоюзную пионерию, вспотели от страха. По причине реальной или им такой показавшейся. И что угроза, как они считают, исходит от него, от Петухова.
Остальное, как ему виделось, было делом техники. Многозначительность и намеки – вот и все, что сейчас от него требовалось по обстановке. Потянуть резину, а тем самым успокоить бросовых ребят. И надо бы как-то успокоить жену. Нечего ей всем телом на дверь бросаться.
– Я их вез, а они мне стучали. Так, что ли, по-вашему?
– Не мети метлой, Петухов. Я на зоне успокоюсь, а ты здесь утухнешь. Ты гнилой, Петухов, поэтому говори быстро: на кого вязку вяжешь?
– Я не гнилой… Ну уж нет, соловьи мудаческие, так у нас политграмота не пойдет.
Петухов рванулся с табурета. И не для чего-то особенного, а так просто, чтобы привстать и говорить в дальнейшем с более достойных позиций.
Но Гриша не понял и ударил сразу. С капитаном не случилось ничего страшного, он просто чуть как бы окосел. И оказался на том же самом табурете, который только что хотел покинуть.
И все еще могло кончиться… неизвестно, как. Да уж не так, как оно кончилось на самом деле. И притом, всего-то за несколько секунд.
Жена Петухова, углядев в приоткрытую дверь, что ее мужа бьют, резко изменила направление удара. Она развернулась от кухни и кинулась к входной двери. Ее план был очевиден: вырваться на лестничную площадку и поднять крик. Кажется, она уже начала что-то кричать на ходу, но в точности никто из них не мог бы этого утверждать. Ввиду тьмы кромешной, опустившейся враз на разум и чувства участников событий.
Ни вышедший спустя долгое время из больницы Петухов, ни выбежавшие из его квартиры буквально через пару минут братовья так и не смогли в точности реконструировать произошедшее.
Но общая схема была, пожалуй, однозначна. Витек, ввиду того, что вся прихожая в длину не превышала трех-четырех метров, настиг женщину только у самой двери. Она тянула дверь на себя и что-то кричала.
Она была в аффекте и не могла остановиться, не могда замолчать, не могла сразу открыть дверь, не могла повернуться и хотя бы выставить для защиты локти.
Капитан тоже ничего уже больше не ждал от своей опытности и многолетнего стажа работы. Он кинулся на помощь жене и снова был опрокинут ударом Гриши. Тогда капитан дал ногой Грише, куда надо, – слабенько получилось, – а сам сполз с табурета на линолеум и постарался приблизиться к окну, где на стене висели кухонные ножи.
Почему он остался жив, а жена нет?
Капитану повезло, что в спешке ему не перерезали что-то жизненно важное? Да, повезло. Если слова что-то значат. И если некоторые из них здесь уместны.
Впрочем, если бы это для кого-нибудь оказалось важным, можно было бы и прикинуть, каким составом оказалось возможно склеить это «повезло»?
Вероятно, женщина в прихожей кричала очень громко. Несмотря на уже посыпавшиеся на нее сзади удары, она даже успела открыть дверь на лестничную площадку. Именно благодаря этому соседи услышали шум и позвонили, и буквально через несколько минут прибыла милиция, а через полчаса обо всем случившемся было доложено самому полковнику Воронову.
Они бежали буквально из-под носа у прибывшей первой передвижной группы милиции. Бежали, неожиданно быстро решив проблему с гнилым Петуховым, но уже понимая, что гниляков вокруг мало им теперь не привидится.
И вот, первого же такого они, хоть и гнали его хорошо, через дворы, мост и площадь, хоть и загнали на номера, в герметичную ловушечную электричку, но в конце концов упустили.
Гриша уже с опаской поглядывал на братка. Ведь, если так говорить, то Витек – голова, Совет министров – мог рассуждать и таким, например, образом: это Григорий должен был Круглому, вот Круглый его и затянул в тухлое дело. А я, мол, у брата на подхвате, а сам – никому и ничего.
«Может, заехать ему прямо сейчас бутылкой по голове? – еще раз подумал Гриша, косясь на брата. – Но что дальше? Уложить его трудно, еще и сикось-накось может получиться. Но даже если и получится, даже если и засвечу, как положено, то ничего хорошего мне от этого не светит. Даже, если нас и видели дворовые, как мы рвали вдвоем из петуховского подъезда, то искать, как первого барана, все равно будут меня. А его только, как второго. Вот если он меня здесь уложит, а потом пойдет и заложит… Все, что знает о той моей истории с той девахой, год назад. О предложении Круглого. О том, как я базар лажовый около пивной ставил, а потом во дворе на этого, с трубой кидался. И жену Петухова может, конечно, на меня повесить. Ему веры будет больше, потому что я-то со всех сторон и с самого начала в этой истории. Да, мне в любом варианте нет назад хода. А Витьку можно еще попытаться в отрыв от меня пойти. А куда я без него? В Москве около дома, небось, в трех дворах вокруг залегли уже и ждут. Надо на юга пробираться, а там, может, и дальше, на теплоходах-пароходах, на танкерах и катеришках. Там найдем, и куда, и с какими бумагами. А может, и не придется еще дальше югов-то. Сколько они кидаться-то еще будут? Покидаются и утухнут. Но сезон-другой залечь – это кефир без балды. Только бы туда попасть сейчас по-тихому, И залечь по-умному. А для этого кто нужен? Русланчик нужен. Руслан-околобабский бухгалтер. Он и сам с югов, и связи у него там обширные, и лазы удобные. Без Руслановой наводки засветишься там, и спалишься на раз. А по его слову – нырнешь и исчезнешь. Но Гриша у Руслана в последний год – не в авторитете. Витек, то другое дело. Для Витька тот сделает. Значит, надо уходить через Руслана вместе с Витьком. Витек и так влип в тухлое вместе с Гришей. Но еще подбавить никогда не вредно».
Так Григорий, не обращая внимания, что это у братка, а не у него, не голова, а Совет министров, опутал Витька своими опасениями и планами, как бы на равных относящимися к ним обоим. Так эти два забуревших великана шли от ларька к ларьку, все больше удаляясь от железной дороги и, соответственно, приближаясь к Минскому шоссе.
Наконец, они достигли развилки этой трассы с какой-то более узкой шоссейкой. Залегли прямо на травке, невдалеке от дымящихся мангалов с шашлыками.
– Ты вот что, Гриша, – начал, как бы осторожничая, Витек, – некуда нам торопиться, ни туда, никуда. На тебе вообще это все с самого разворота завязано. На мне тоже… кое-что в натяжку сидит. Надо б нам не в ту сторону кумекать, – он указал по направлению к Москве, – а в другую.
Гриша, боясь спугнуть удачу, делал вид, что мысли брата являются перед ним наподобие откровения. То есть, что они слетают на них обоих прямо с небес и осеняют их души чем-то неземным и невиданным.
– Через Русланчика будем действовать? – все-таки подал он свой охрипший, якобы от наивности, голос.
– Кочумай, братишка. Через Русланчика я уже действовал. Еще днем созвонился. Точнее, ближе к вечеру, как раз перед тем, как ты этого во двор привел, которого мы погнали.
– Уже знал, что придется линять?
– Тут и знать нечего. Все одно к одному шло.
– Ты о чем?
– Я ему только намекнул. Имею, мол, ощущение, что большую гнилость кто-то со дна цепляет. На стремнинку ее подволакивает.
– С чего взял?
– Так. Когда тебя этот мозглый поставил про Марло гундеть, что того уж неделю, как кончили…
– А что тебе Марло?
– Пил я с ним однажды. Да не так, как вы там, в сквере, не для понта и базара, а для отключки. В компании одной это было, но не важно. И он мне сказал, когда в незабудку наквасились, что, мол, не забуду мать родную.
– Не понял.
– А тут и понимать нечего. Как он это сказал, так и свалился. Под стол, в натуре. Что с ним, заметь, то ли раз, то ли два всего и случалось.
– Темно ставишь, братка, кто разберет, тому хрусты подошлю. Вместе с бабой.
– Я так понял, что он искал одного мужика. И тот должен был поставить ему одно дело.
– На сто тысяч?
– Очень крупное. Марло был тогда в сосиску, и я ему поверил.
– В долю надо было проситься.
– Нет. Из того, что он мне успел передать, – это пока не свалился, – я все же проунькал, что что-то там очень опасно.
– Не тяни. Это что, то самое, что мне поручили?
– Конечно. Так что зря мы, выходит, к Петухову на раз побежали. Все одно, на тебя бы в два счета вышли. И при этом с разных сторон.
– Сожалеешь, значит. На мне можно было крест ставить, а ты в стороне тогда бы остался.
– Нет. Меня бы, как брата твоего, замели. Я чую: в таких делах парят с запасом.
– Так что же Руслан? Отказал, что ли?
– Нет. Тут хитрее.
– Что же? Ему заплатить надо? Он же нас знает. Скажи, обрастем на югах и обернемся с ним.
– Он не о своих, он о наших деньгах сказал.
– Что именно?
– Что их желательно иметь, и при этом побольше, чем наши с тобой карманные.
– Слышала ворона, что сыр дают.
– Нет, он не трепался. Он сказал, что не только, мол, желательно, но их и можно поиметь.
– У нас нет времени. Ты же знаешь.
– В эту ночь. Вот в эту. Которая сейчас будет.
– Ты чего, Витек?
– Которая настанет. И вокруг полно товара. А у кого товар, у того деньги. Слышал про такие дела?
Гриша с тоской отвел глаза от брата. Бессильно поглядывал на автомобильчики, снующие мимо них по шоссе. Еще недавно прикидывающий, не двинуть ли ли брату в висок поприемистей, чтобы тот утух без слез и упреков, сейчас, сидя как бы на берегу этой огромной автомобильной реки, он и впрямь ощутил себя Гришей-маленьким. И меньше всего на свете он хотел бы сейчас остаться перед этой рекой один на один. А у Витька, кажись, поехала крыша. Не выдержал, наверное, мочиловки у Петуховых и последующей гастроли.
– Вот товар, – сказал Гриша, чтобы проверить, прав ли он относительно размягчения Витькиной черепушки. – Едут в тачках. А в карманах денег навалом. Значит, у них и товар, и деньги. А у нас – хрен…
– А они не знают, – ничуть не смутившись, ответил Витек, – они не знают, а мы знаем.
– Чего не знают?
– Завтра все втридорога. Потом еще и еще задерут. А потом снова опустят.
– И что?
– Если мы с тобой сегодня заимеем товар, завтра за него можно будет взять втрое.
– А послезавтра?
– Нас здесь уже не будет.
– А Руслан? Такую наводку дает, а сам в стороне?
– Он с нами отрывается. Поэтому я ему и верю. Но за эти сутки нужно так обернуться, чтобы в отрыв нам идти не с пустыми руками.
– Как же это они сделают? Втридорога и остальное?
– То не нашего ума, кому успела дать кума. Спекуляция… и все тут. А как ставят игру, то не для нас. Вроде бы, Русланчик так намекал, фальшаками многие деньги объявят.
– Как это можно? Ты что?
– Перестанут принимать, и паси гусей. Вот так это и можно.
– Им же пасть порвут.
– Отобьются. Для этого Круглый свои отряды по всему центру выдвигает.
– А гарантируют?
– Есть кто и повыше Круглого. Именно для гарантии.
– Не уцелеют. Кровь им пустят.
– Может, и так. Нам-то что? Их прибьют, а мы в бегах. Но сначала кубышку набьем. Эта ночь пока еще наша. Ты что об этом думаешь?
– Да тут и думать нечего. Повалим людей поболее. Дорогих тачек нахватаем. Деньги, брюлики – все наше. А тачки где-нибудь в сторонке попасем. Завтра снесемся с портовыми, весь караван им и загоним. Только бы ментовня шум не подняла.
– Не поднимет. Силы у них будут отвлечены. Сейчас, поближе к ночи, в первопрестольной такая херня заварится, что куда им за Окружную высовываться. Не-ет, братан, этой ночью, кто, как вот мы с тобой, работать не ленится, большие бабки может в загон загнать. Сегодня на шоссе – мы и товар.
– А гаишники? Их же не отзовут?
Витек с интересом посмотрел на брата, а тот на Витька. И мутное, одно на двоих, видение многократно отразилось в их зрачках. Видение дикого лова, ночной охоты на людей и товары, быстрой и ловкой силы, хрустящей захваченной добычей.
– Светлая у тебя голова, Григорий, – с удовлетворением ответил Витек. – Гаишников, конечно, не отзовут. Но сколько их там, в этих их будках педерастических? И все толстые ребята, наверное. Неверткие. А нас с тобой, считай, цельная двоица.
3
Гарик был опытный центровой алконавт с большим стажем специфической деятельности в условиях практической невесомости. Некогда племянник известного борца за мир во всем мире, он после мирной кончины этого борца окончательно утратил представление о том, кто, где и за что наливает в его стакан вина. Или откуда прямо перед его ртом иногда возникает закуска: горбушка черненького, луковица, уже обмакнутая перед этим в соль, или – о радость невероятная! – боковина леща, пусть излишне подсушенного, какая беда, если его можно чудесно размягчить, помакивая в кружку пива.
Он протягивал, и ему наливали. Его просили пойти и взять еще, он шел и приносил, и ему опять наливали.
– Ну что ты, Гарик, за человек? – восхищались им знатоки наболевших вопросов. – Ни украсть, ни покараулить.
– Гарик не соврет, – бормотал в таких случаях Гарик, польщенный непонятным для него вниманием собутыльника, – ты Гарику дай, и он тебе разольет. Он тебе в любую тару скипидару…
И все это, разумеется, была чистая правда. Ибо, чтобы, к примеру, соврать, надо иметь для этого какую-никакую цель и пусть совсем минимальную четкость мышления, чтобы самому-то хоть отличать правду от вранья. Ну, а у Гарика давно уже не было ни того, ни другого – ни цели, ни четкости. Поэтому и соврать он практически не мог.
Что же касается ювелирной точности его разлива, – действительно в любую, пусть даже в самую нестандартную тару, – то о ней и вообще ходили легенды. На эту его уже нечеловеческую точность, не зависящую ни от трясущихся рук, ни от метео– или иных помех, заключались пари, люди приволакивали откуда-то из химических лабораторий точнейшие весы и градуированные мензурки, проверяя точность дозы и на вес, и на объем, но тщетно. Еще ни одному, кто поставил против Гарика, не удавалось выиграть пари. Деньги неизменно доставались поклонникам его таланта. И приводило это все, разумеется, опять к тому же: он протягивал, и в его стакан наливали.
Иногда поручали и кое-что посложнее: «Поднимешься до третьего этажа, постучишь три раза в разбитую дверь, откроет маруха, отдашь ей сверток. От Коли, мол. И канай прямо сюда. Отопьемся по-доброму».
Впрочем, посложнее это считалось у тех, кто кумекал и рассчитывал. Для Гарика же не имели значения ни сверток, ни адрес, ни маруха. Из всего задания любой сложности и конспиративности он твердо ориентировался только на последние пункты: канать прямо сюда и отпиться по-доброму. И Гарик совершенно искренне не понимал людей вокруг, если они придавали значение чему-то другому, кроме этих и им подобных пунктов. Эстрадных номеров в концерте жизни на планете Земля.
Он уже не помнил, когда и по какому поводу его перестали пускать домой. Да и случилось ли именно так? А может, это он сам как-нибудь запьянствовал ловко с корешками, не возвращался домой неделю-другую, а потом так и отвык? Случилось это все давным-давно. И кто же теперь будет исследовать, как именно?
Но так или иначе, а зимами он насобачился кантоваться перебежками: то у художников в околоарбатских мастерских недельку отваляется, то в психушку на месяц загремит, то просто заскакивал в отходящий поезд, чтобы, переходя из вагона в вагон, прокатиться до югов и обратно.
Зато уж, как только сходил последний снежок, Гарик прочно переселялся на сквер около пивной: здесь пил и стоял среди почтенного общества днями, здесь же, на скамейках в глубине сквера, можно сказать под сению дерев, и отдыхал ночами. Барин изволили почивать – это опять же, если по-другому выразиться.
В эту звездную ночь Гарик расположился в самом дальнем и глухом углу сквера, уютно подоткнув под бока и укутав ноги тяжелым армейским бушлатом огромного размера. Обычно он старался слишком не удаляться от асфальтовой площадки перед Садовой. Ночью возникали иногда разные люди, и случались разные казусы. Требовались мелкие услуги или просто поддержать компанию. Вот на этот случай все и знали, что Гарик где-то здесь, рядом, на ближайшей скамье.
Но на этот раз ему не потребуются эти заблудшие души, жалкие людишки с их жалкими разовыми порциями. Запас в несколько бутылок был им загодя, ближе к ночи, расположен под этой дальней скамейкой, в головах. И теперь, мастерски укрывшись бушлатом какого-то отвоевавшего свое великана, он мог полеживать и посматривать на небо. А время от времени, естественно, не слишком растягивая промежутки, Гарик выпрастывал руку из-под бушлата, протягивал ее вниз, до земли, брал початый бутылек и подносил его ко рту, чтобы хлебнуть раз-два-три-четыре-пять.
И после каждого такого мероприятия звезды казались ему еще ближе и ласковее, а будущее еще более безоблачным и пустым. Как полет астронавта.
«И не кончается бой, и юный Гайдар впереди», – мурлыкал Гарик, который был спокоен насчет собственной судьбы по крайней мере до восхода солнца, а после этого события и тем более. Потому как что может случиться с человеком неладного, с таким, к примеру, человеком, у которого не кончились еще деньги? Ничего, конечно, с таким человеком случиться не может, окромя того, что он может пойти утром в магазин и взять еще выпить-закусить. На поправку здоровья, чего и объяснять грамотному человеку не надо.
А денежки у Гарика еще были. Еще не вышли. Вот они, в левом носке. А как же? Любишь заказывать, люби и денежки отстегивать. Заказ Гарик получил, как он сам считал, плевый. Ну, натурально, подошел он к этому Карнаухову, и все тому слово в слово передал. И как в квартиру к Марло проникнуть, и что там дальше сделать-учудить. Передал-то он все точняк. Но в смысл того, что он передавал, а Карнаухов должен был исполнить, Гарик по своему обычаю не вникал. Не врубался. А раз так, то через самое короткое время он начисто позабыл и буквальный текст своей устной депеши.
От всего этого дела осталось только лицо заказчика, сам факт, что Гарик говорил с Карнауховым, туманное воспоминание какого-то давнего пьяного трепа, что Карнаухов как-то связан с высотными зданиями, что, кстати говоря, было Гарику абсолютно до фени, хотя когда-то, еще при жизни борца за мир, Гарик жил у него, в одном из таких высотных домов. И что же еще осталось? Вот именно, самое милое. Нехудая пачечка денег в левом приятно опухшем носке.
Так что ля-ля, миленькие, обойдитесь одну ночь без Гарика, потанцуйте в обнимку с бутылочкой.
Вот из-за такого стечения обстоятельств Гарик и не отреагировал на шум и выстрелы там, на входе в сквер, откуда-то с проезжей части Садовой.
Ясное дело – непорядок. Но мало ли какого непорядка успевают наломать ребятишки на темной половине Земли, пока она не посветлеет?
– Открыты Лондон, Дели, Магадан, Открыли все, но мне туда не надо,– продолжал мурлыкать Гарик на этот раз из Высоцкого, поуютнее укладываясь под бушлатом.
Но послышался шорох раздвигаемых ветвей.
Сначала на периферии, метрах в тридцати от его лежбища.
Нет, какое там случайно.
Ближе и ближе.
Сюда идет. Метрах в десяти.
Гарик приподнялся на локте, чтобы посмотреть, кого еще принесла нелегкая.
Кусты раздвинулись, и он узнал… лицо заказчика.
Гарик подмигнул ему, а вот словами как-то у него ничего не выговорилось.
Молчал и заказчик. И тоже как будто подмигнул Гарику.
«Так вот, значит, как оно приходит», – успел подумать Гарик. И правильно, в общем-то, сделал, что успел. Потому что ни на что другое времени у него уже не оказалось.
Заказчик молниеносно переместился за скамейку, а значит, за спину Гарика.
«Я же с детства просил только одного, – пронеслось еще в уме Гарика, – чтобы только не так. Выходит, не допросился».
Он ощутил, что это не заказчик у него за спиной, а большая жаба, которая приладилась сделать над ним что-то дико мерзкое и постыдное. И что уже невозможно ни вскочить, ни пошевелиться. Потому что жаба свое уже сделала.
Уже через рассеченную спину в него входил холод межзвездного пространства. У астронавта лопнул скафандр.
Разумеется, он все равно продолжал свой полет. Но в этой, второй части экспедиции, ему уже не понадобятся ни деньги из левого носка, ни недопитое вино под правой рукой.
Алекс с О’Брайеном обошли центральную площадку сквера, пристально вглядываясь в темные углы и скамейки с нависающими над ними ветвями кустов и деревьев. Наконец, они заприметили то, что им было нужно. Московского мужчину, который по искусству концентрации не уступил бы при случае индийскому йогу самой высокой степени. Во всяком случае, в настоящий момент он находился на прямом пути к нирване, если только уже не достиг ее. Алекс тронул его за плечо, и голова аборигена, до этого уроненная в колени, приподнялась и повернулась, правда, ценою странного хруста шейных позвонков.
– Земеля, ты Гарика тут не видел такого?
Земеля взирал на собеседника с таким изумлением, с которым земляне разглядывают тарелку, приземляющуюся у них прямо под носом.
– Предложите ему деньги, – тихо сказал О’Брайен.
Но Алекс знал, что надо предлагать в таких случаях.
– Примешь? – он поднес к глазам аборигена бутыль с джином.
– А чего? Давай, – неожиданно вполне разумно ответил абориген и тут же тяпнул мало не треть бутыли из горла.
Переход из нирваны к суете сует был осуществлен, таким образом, быстро и квалифицированно.
– Там, – он махнул рукой по направлению узкой аллейки, ведущей к дальнему, самому глухому участку сквера.
– Пошли, – сказал Алекс, собираясь не мешкая нырнуть по указанному направлению.
– Алекс! – раздался в это время крик Лоры, которая стояла вместе с остальными мужчинами на проезжей части около автомобилей.
Что-то у них там случилось, может, и не слишком серьезное, но Алексу показалось, что оклик Лоры прозвучал довольно тревожно. Он в нерешительности переводил взгляд с Лоры на майора и обратно.
«Гарик там дрыхнет в кустах, – наконец рассудил он, – ничего не случится, если мы начнем собеседование минутой позже».
– Подождите. Я только узнаю, что там у них.
– Давайте, давайте. А я пока разведочку произведу, – и майор двинулся к узкой аллейке. Затем, перед тем, как исчезнуть за первым ее поворотом, он как-то лихо обернулся и несколько неестественным, вздернутым тоном произнес, точнее, почти выкрикнул: – Тайм из ап! Трансфер комплитид!
Алекс уже на рысях двинулся к Лоре, на ходу перекатывая в голове горячий, как пуля, вопрос: «Где я это слышал?»
– Алекс, они хотят запереть меня в психушку, – заявила Лора, тут же вцепившись своими ноготками ему в плечи и притянув его к себе с такой силой, что Алекс понял: это – навсегда.
Подошли Рашпиль с Леандром. С первого взгляда на них было ясно, что Рашпиль уже все профинансировал, а Леандр является исключительно сильным кадром, который, по крайней мере в данной ситуации, решает все. В смысле, проблему транспорта.
– Между прочим, это неплохая идея, – сказал Алекс, поглаживая ее по голове, как опытный конюх испуганную лошадь.
А горячая пуля-вопрос все перекатывалась в голове: «Где я это уже слышал? Что так неожиданно и возбужденно выкрикнул майор? И чего он так возбудился? От предстоящего разговора с Гариком? Так ведь это еще неизвестно, поведет ли куда эта ниточка, или она настолько сгнила, что оборвется при первом же натяжении».
– Да? Может быть, ты хочешь сказать, что я поеду туда без тебя?
– Там безопасно. У Сани, – он указал на Рашпиля, – сегодня неплохая зарплата. И премиальные. Значит, с помощью Леандра вам устроят и отдельные палаты, и все остальное, по необходимости.
– Ты что? Ты не понимаешь?
– А что я должен понимать?
– Это же маньяки. Ты посмотри хотя бы на Леандра, – безграничная возбужденность Лоры, между тем, резко контрастировала с невозмутимостью самого Леандра. Хотя, разумеется, ему с большим трудом удавалось скрыть свое крайнее нетерпение возобновить свой финишный бросок по направлению к влекущей его со страшной силой Лизавете.
– Твой отец спокоен, отпуская тебя одну. Тем более, чего волноваться мне, когда я отпускаю тебя в сопровождении таких ребят?
– Хорошо. Ты мне не веришь, что эти твои так называемые ребята маньяки? Отлично! Я знаю, что ты заблуждаешься, но я тебя не виню. Собственно говоря, ты и не можешь мне поверить. С какой такой стати? Ведь ты не видел, как они на меня глядели? О, если бы ты знал, как они на меня глядели! Даже Валентине такое не снилось, ты понял? Даже Валентине.
– Лора, это серьезные ребята, и я им доверяю. Я думаю, что если серьезно, то и ты им доверяешь. Я признаю, что твоя манера флиртовать очаровательна. Но позволь мне насладиться ею несколько позже. Поезжай сейчас с ними в дурдом, там вы окопаетесь и в случае чего сможете какое-то время продержаться.
– В случае чего – это в случае чего? – неожиданно быстро отреагировал Леандр.
– Это в случае неизвестно чего. Потому что кому в голову придет искать вас именно там?
– А чего нас вообще-то искать?
– Я и говорю, что вас и искать никто не будет. Нас обстреляли из-за старлея. Но Симонов уже в надежном месте. Значит, оставшиеся никому не нужны.
У Сани Рашпиля был на этот счет свой взгляд на вещи, но он, разумеется, благоразумно промолчал. После того, как Алекс стремительно блокировал и оттеснил машину с огнестрельными окнами, Рашпиль окончательно решил, пока суть да расправа, примкнуть к этим странным, но, похоже, надежным людям.
– Нет уж, дай мне договорить, – похоже, Лора не намеревалась выпустить его плечи из рук даже в случае повторного обстрела площади, а может быть, даже в случае ввода в Москву танков. – Хорошо. Я согласна. Может они и не маньяки. В конце концов, ты командир, и тебе виднее. Но подумай о тех, к кому я еду. Подумай о них. Подумай и представь: я – и они! Ведь в Кащенко, ты же не можешь со мной не согласиться, полным полно насильников и извращенцев. И если Леандр и Саня, хоть и излишне темпераментны, но все-таки вполне нормальные молодые люди, то там…
Что встретит Лору там, так и осталось за кадром, ибо теперь уже О’Брайен диким голосом кричал, появившись из-за кустов:
– Алекс! Алекс! Все пропало!
– Все! Ну все же! Поезжайте, я буду у вас часа через два.
– Ты хоть любишь меня?
– Да. Берите ее ребята. Никуда не выпускайте.
– Нет, я с тобой. Я не больна.
– Да уезжайте же отсюда! Заводи водилу! Здесь нечисто.
И, не оглядываясь уже на отъезжающий чумовоз, Алекс все так же на рысях помчался в обратном направлении к майору. По узкой аллейке они прошли в тот самый угол сквера и приблизились к той самой скамейке, на которой лежал зарезанный Гарик.
– Вы уверены, что это он? – спросил Алекс, просто чтобы разрядить обстановку.
– Больше некому. Впрочем, мы можем привести сюда для опознания того пьяницу, которого вы разговорили с помощью джина.
«Конечно, мы можем, – подумал Алекс, – и конечно, мы так и сделаем. И этот типичный представитель местной то ли флоры, то ли все-таки фауны, опознает в убитом Гарика. Обязательно опознает, потому что прав и майор – больше тут лежать просто некому. Кроме того, существует и еще одна гарантия достоверности полученной информации, о которой майор знать не может».
А вот Алекс знал, что она будет даже посерьезней, чем все остальные соображения.
Эта гарантия заключалась в качестве того напитка, с помощью которого была получена информация. Джин «Бифитер» не мог не привести аборигена в состояние полной открытости внешнему миру, который представился ему в данном случае не враждебной средой обитания, а Елисейскими полями, по которым бродят исключительно хорошие парни. У которых в карманах полным полно натурального джина, виски, водочки, не будем продолжать. Нет, людям, угощающим такими вещами, не врут. Об этом нечего даже было и думать.
– О чем вы задумались? Вы сильно расстроены? – спросил О’Брайен.
– А разве мы на вы, Боб?
– Извини. Я сильно разволновался. Как это у вас быстро так и аккуратно. Не могу еще привыкнуть. Как у вас говорят, Алекс, не врубился? Все-таки самый центр города.
– Ничего, Боб, еще врубишься. Успеешь. Если, конечно, до этого тебя самого не вырубят.
– Шуточки, Алекс.
– Где же ты тут видишь шуточки, Роберт? Мы идем к хорошему человеку, чтобы поговорить с ним об интересных вещах. В частности, хотелось бы нам у хорошего парня Гарика узнать, кто попросил его подойти к Карнаухову, и дать тому странное задание. Которое, это задание, включало, между прочим, и нанесение мне удара по голове тяжелым металлическим предметом типа пистолет. Но о своей голове, это я так, к слову, А куда хуже другое, Боб.
– Бывает хуже?
– И намного.
– Хуже, если сейчас прибудет милиция, и заберут нас по подозрению в убийстве.
– Брось, Боб, болтать. Ты американский гражданин. Да не простой, а на правительственной службе. Зачем тебе убивать подзаборника?
– А ты?
– А я тоже не в лапти обутый. К тому же лучший друг американца Боба. С которым сегодня не расстаюсь. Ведь не расстаюсь, ты же подтвердишь?
– Конечно. Почему нет?
– Вот и выходит, что не туда ты рулишь, О’Брайен. А хуже всего то, что никто не знал, ни куда мы пошли, ни с какой целью.
– А Валентина? Ты же ей звонил.
– Ах да, Валентина. Но она не могла этого сделать.
– Не сама, конечно, Алекс. Кой-кому позвонила.
– Нет, не получается. После звонка мы с тобой были уже на колесах. Практически рядом с площадью. Значит, чтобы опередить нас, этот человек должен жить прямо где-то вот здесь, в одном из этих домов. И после звонка Валентины он должен кубарем скатиться вниз со своей лестницы и, на ходу засовывая нож за голенище, примчаться, как угорелый, сюда и…
– Иногда так все и бывает, Алекс.
– Подожди, я не договорил. Валентина знала только то, что мы отправились сюда искать какого-то Гарика. Да, мы и отправились, и нашли его. Но для того, чтобы найти, мы его искали. Ведь так, Роберт?
– Конечно. А как же по-другому?
– А как мы его искали? Очень просто, Роберт. Мы провели вдумчивую беседу с достойным джентльменом.
– Весьма, весьма достойным.
– И мы угостили его твоим достойным «Бифитером».
– Да, это был сильный аргумент.
– А это все требует чего, Роберт? Времени. Как же тот, кому, предположительно, позвонила Валентина, пусть даже он живет в одном из окружающих этот сквер домов, мог не только прибыть сюда раньше нас, но и успеть кого-то расспросить о местонахождении Гарика?
– Значит, не Валентина?
– Увы, Роберт, как говорят игроки в шашки, ваша не пляшет.
– Что же это все означает?
– К сожалению, майор, это может означать только одно: все наши действия находятся под контролем. А мы сами, простите за вульгарность, под колпаком.
– Этого не может быть.
– Да почему же, О’Брайен?
– Я – профессионал. И, разумеется, я постоянно проверяюсь на предмет этого самого, как вы сказали, колпака. И даже, если бы у меня возникли какие-то подозрения на этот счет, я тут же сообщил бы об этом Харту. А уж он принял бы меры, чтобы обнаружить и обрубить любой хвост, который кому-то удалось ко мне присобачить.
– А я?
– А вы – частное лицо. И до вчерашнего дня вообще никого не интересовали. Я не говорю, конечно, о нескольких женщинах, на которых вы действуете, кажется, совершенно магнетически.
– Вы мне не нравитесь, Боб. И я жалею, что допустил вас расследовать вместе со мной убийство моего друга.
– Не будьте бабой, Алекс. У вас просто легкий позыв на истерику. Кто-то безобразно располосовал этого вашего Гарика, и это, конечно, ужасно. Но мы здесь не при чем. Так вышло, понимаешь, Алекс? Так получилось, И так может получиться еще не раз.
– Но ты же даже не предложил никакого объяснения, Боб? Кто-то же за нами ходит? И дышит своей пастью нам в затылок?
– Не обязательно, мэн, вовсе не обязательно. Я согласен, тот, кто ликвидировал Гарика, не мог действовать по наводке Валентины. Для этого у него, действительно, ни при каких обстоятельствах не хватило бы времени. Но не стоит ничего усложнять, а уж простой ответ найдется всегда. Его убрали, конечно, по нашему делу, это без сомнения. Убрали, чтобы не допустить нашей с ним встречи. Но это вовсе не означает, что кто-то дышит нам в затылок.
– А что же это тогда означает?
– Заранее запланированную чистку, Я не удивлюсь, если узнаю, что ликвидировали и вашего Карнаухова. Но он хоть успел вам кое-что сказать. Точно так же, то есть, по заранее запланированному графику, ликвидируют и Гарика, Но тут тем, кто действует против нас, повезло чуть больше. Они на половину корпуса опередили нас и добились своего, а мы нет.
Алекс начал, было, слушать с интересом, но, быстро раскусив, какое объяснение предлагает О’Брайен, начал поглядывать на того чуть ли не с сожалением.
– Хорошо, Роберт. Если тебя устраивает, что бегуны состязались не только на разных дорожках, но и на разных стадионах, и тем не менее, один смог обойти другого на полкорпуса, воля твоя. А на мой вкус, это вовсе не объяснение. Но ты, наверное, просто устал и запутался.
– А ты? Разве ты не устал?
– Я – нет. Я всего лишь разочарован. Ты подключился к этому делу, а людей по-прежнему убивают.
– Я это уже слышал. Ты разочарован мной. Может быть, ты и прав. Хотя я и не очень-то вижу, где мы могли сработать сильнее. Но раз ты так считаешь, нам стоит хотя бы временно разделиться. Погуляем каждый по своей тропе. Обмениваться информацией мы всегда можем через Харта.
О’Брайен сделал неуловимое движение плечевым поясом, как рыба плавниками, и тотчас исчез в зарослях кустарника.
Ловко это у него, не мог не отметить Алекс. Обмениваться информацией через Харта. Харт тоже знал, что они на площади и что ищут некоего Гарика. Майор сам ему об этом сообщил во время телефонного разговора.
Алекс приподнял огромный бушлат, пропитанный кровью, и прикрыл им лицо Гарика. Затем он достал из-под скамейки початую бутылку «Киндзмараули», сделал из нее три крупных глотка, а оставшееся тонкой струей разлил вокруг скамейки.
«Надо позвонить Валентине. Майор профессионал, а кто я? Кто бы ни был, как-то у меня с профессионалом не задалось. А потом позвонить Гербу. В присутствии Герба я размышляю иногда результативно. И надо позвонить Харту, узнать, как там Симонов. Про Лору можно пока не узнавать. За Леандром и Рашпилем она, как за каменной стеной. И можно теперь не узнавать про Гарика. Он тоже теперь в надежном месте. Точнее, конечно, его бессмертная душа. Наконец-то она воспарила, покинув, как ненужную, стыдную обузу, вот это, каким-то негодяем безнадежно испорченное тело. И почему майор так легко согласился, что наше сотрудничество ни к чему хорошему не ведет и полезнее действовать параллельно? Одно из двух: или убийство Гарика подействовало на него так же, как и на меня, и он был так же разочарован моими действиями, как и я его. Или ему на ум неожиданно пришла некоторая новая программа расследования, в которой для меня уже нет места. Что-то у этих ребят-американов не стыкуется. Если Марло был для них так важен, то почему Харт даже не обеспокоился за всю ту последнюю неделю, что Марло исчез с его горизонта? А вчера, узнав от меня об убийстве, был так шокирован, что даже отменил отбытие в отпуск. В конце концов, все действия, которые американцы могут предпринять, едва ли зависят от персоналий. Не один, так другой. Не Харт, так О’Брайен. Но сам Харт, выходит, так не думал. Напротив, он посчитал свое личное присутствие в Москве в это время критически важным. Почему? Что его насторожило? Он что, не полностью доверяет О’Брайену? Но ведь это же нонсенс: при столь деликатной материи, которой занимаются эти ребята, внутри их собственной команды никаких пустот быть не должно. За этим следит начальство. Святая ложь. За всем и всегда должно следить начальство. А иначе и браться ни за что не стоит. Боец видимого или невидимого фронта – между прочим, один хрен разница – должен иметь за спиной такое начальство, за которым ничего не надо проверять. Не потому, что оно самое мудрое – мудряцкое, и мудрее его не бывает, а просто… по определению. Просто такова структура дел, которые предполагается сделать, а не только обсуждать. Почему же у Харта оказалось не так, и его мудряческое начальство прислало ему заместителя, на которого он в кризисной ситуации не рискнул оставить свои дела? Литератор Герб сдал квартиру Харту. Он, в какой-то степени, знает этого человека и неплохо о нем отзывается».
Алекс вспомнил, как Герб быстро уловил игровой стиль его последнего телефонного разговора. Уловил и развил, тут же склеив вполне правдоподобную байку об обстоятельствах своего знакомства с Чарльзом Хартом. Вероятно, он безошибочно почувствовал, что разговор ведется в присутствии его заместителя. Гербу и его оценкам можно, пожалуй, доверять. А Герб всегда очень неплохо отзывается о Харте. Собственно говоря, именно исходя из этого Алекс и отправил раненого Симонова к нему на квартиру.
А что же в сумме? Какое-то все-таки смазанное впечатление оставляют эти американцы. Эта парочка честнейших шпионов, которые так законспирировались, что, похоже, и сами запутались в собственных петлях и ложных следах.
Но происходящее – не абсурд. В театре абсурда только говорят, а здесь убивают. Причем самым натуральным образом. То есть, так, как, согласно армейским уставам, должен быть выполнен любой приказ командира: быстро, точно и в срок.
Катрин очнулась от легкого, молодого и здорового забытья и обнаружила, что Платоша посапывает, расположившись между ее мощных раскинутых ног, запрокинув голову на ее роскошное, удобное во многих отношениях лоно. Нет, последнюю преграду из тончайших, к тому же невероятно растянутых под напором плоти, трусиков он так и не преодолел. Джентльмен, на таких и не обижаются. Однако жене Озеркова, которая могла появиться в любой момент, этого всего не объяснишь.
Ей даже и понравилось именно так проводить время с мужчиной, тем более таким милым, как этот ее Арчибальдик. Но всему приятному или, говоря понятнее, всему клевому приходит конец. Катерина знала об этом законе подлянки и, может быть, еще и поэтому нередко проявляла изумляющие посторонних хладнокровие и выдержку. Ну, то есть, в самых понтовых переделках. А это было другое: она не держалась за эти понты и вообще, кажется, ни за что не держалась, кроме того, о чем не уточняют.
Ладно, проехали. Если она захочет, то не будет у Платона ни этой жены, ни этого дома. Все он позабудет и все поменяет. Вот только нужен ли тогда будет ей и сам Озерков? Весьма сомнительно.
Она знала, что клевыми могут быть только фрагменты, а склеивать их – дело ненадежное.
Но кончился ли уже этот фрагмент?
– Вставай, – она осторожно взяла его голову в руки и приподняла со своего лона.
Катрин подалась немного вверх, оставляя кавалера внизу, сначала между бедер, потом между коленей и, наконец, между лодыжек.
На кухне она быстро сварила кофе на две чашки и из недопитых бутылок налила в невысокие граненые стаканчики два по сто. Вернулась в спальню и растолкала, то есть окончательно вырвала из сна так называемого свежего клиента.
Платон с благодарностью принял из рук юной служительницы разврата кофе и водку, принял то и другое на грудь и захорошел.
Катрин лишний раз отметила про себя, насколько примитивны рефлексы мужчин, просто биокуклы какие-то. Она, впрочем, к ним и относилась, как к большим куклам: раздевала и одевала, укладывала в постель и поднимала после короткого забытья, поила из рюмочек да стаканчиков. Игралась с этими куклами, как с разумными существами, знала, что этим несовершенным моделям такое отношение приятно.
Платон, оклемавшись, разумеется, потянулся к ее запретной области, на которую уже была накинута юбка.
– Мальчик сдал не ту колоду, – она легко отвела его жадные, приятно осмелевшие руки.
– Поедем на дачу, там сейчас рай земной, – неожиданно и для самого себя предложил Платон.
– А рабочий день? – жеманно растягивая слова, зная, что получается это у нее просто обалденно, произнесла Катрин, желая немного поиграть с этой бестолковой, но не лишенной несколько идиотического шарма куклой Арчибальдихой-Платошей.
– Это дача отца, по Минскому шоссе всего минут двадцать. Я тебя с ним познакомлю, скажем, что ты потеряла деньги на обратную дорогу, он и подкинет.
– Он что у тебя, дурак?
– С чего это ты взяла? Как раз наоборот. Это тот самый Озерков, поняла?
– Не поняла. Какой еще тот самый?
– Ну ты даешь, старушка. Озеркова не знаешь? Кто у нас главный по ракетам?
– Батя, что ль, твой?
– Ну? Он и есть.
– Не знаю, что он у тебя с ракетами там делает, но то, что меня, как только увидит, схватит и потащит в постель, это я тебе гарантирую. Потом, разумеется, может быть, и денежек подкинет. На обратную дорогу, как ты говоришь. Но это, опять-таки, мне. А ты вернешься в город пешком. Причем сделаешь это сразу, как только доведешь меня до калитки своей дачи.
– Как это так? Я как раз предполагаю провести с тобой целый день за городом.
– Еще раз объясняю для очень умных: увидев, кого ты привел, Озерков-старший тут же втащит меня на участок и захлопнет калитку перед твоим носом.
– Ты его не знаешь. Он очень серьезный и все время думает о космической связи и о благе народа.
– А ты о чем подумал, когда меня увидел?
– Ни о чем. Просто мне стало веселей. Несмотря на чудовищный перепой.
– Ну вот, и папане твоему станет веселее. И, кстати говоря, космической связи это никак не повредит.
– Поедем, Катя, – простым тоном хорошо выспавшегося ребенка попросил Платон, на этот раз не похотливым, а несколько отеческим движением привлекая ее к себе. – А то, ты сейчас меня оставишь, а тут жена на пороге, и понеслась… Видишь, сколько я выпил? – Платон показал на батарею на кухонном полу. – Так что все будет в моем мозгу записано горящими цифрами. Поедем, спасение ты мое. А отец у меня – интересный мужик, сама увидишь. Ты таких еще и не знаешь.
– Ладно, поедем. Сегодня в нашей фирме выходной. Но с кем?
– Что значит – с кем? Я и ты. Словим сейчас тачку и через сорок минут мы на даче.
– Нет. Нужна охрана.
– Ты что? Что с тобой?
– У тебя папаня, ну и у меня… не ручка от музыки. Ты, кстати, знаешь, кто мой отец?
– Откуда, Екатерина?
– А мой отец, между прочим, Круглый.
– Ну и что?
– Нет, ну ты и темнота. Ты хоть понимаешь, кто он такой? Да он по всему центру держит вот этот бизнес… к которому ты обратился.
– По всему центру? Значит, он у тебя крупный гангстер?
– Да уж не мелкий. А насчет гангстера, это у тебя устаревшие представления. Он ни в кого не стреляет, и за ним никто не гонится.
– Стоп, Катрин. Джаст э момэнт. Разумеется, твой отец не гангстер, а крупный организатор, как раньше, например, про партийцев в некрологах писали. Крупный менеджер, да?
– Бери выше. Ну ладно уж, все сразу не объяснишь.
– Беру выше, – и он попробовал продвинуть свою руку выше ее колена, но был отвергнут.
– В этом случае, – холодно заметила Катрин, – берут еще выше. Но не сейчас. Так о чем ты?
– Твой отец знает, что ты и сама работаешь в его системе?
– Ты что? Он все пытался в Англию меня отправить учиться. Но там не так клево, и тех уж навыков там не получишь. Я его обвела. Сказала, что в Лондоне полно цветных и они хватают белых девчонок прямо на улицах. А уж в ихних колледжах, там, мол, вообще кранты. Прямо во время урока, мол, за парту завалят и всем активом используют.
– Хорошо, с отцом понятно. А с тобой?
– А что еще такое со мной? – слегка как бы встревожившись, Катрин кинула беглый взгляд в настенное зеркало, но тут же, видимо, под влиянием отражения и успокаиваясь.
– Тебе-то это зачем? Дочь «крупного организатора» столичной проституции бедствовать вроде бы не должна?
– Все равно. Я должна иметь свои, заработанные мною деньги. Только они дают независимость. А чем еще я могу заработать? Ты же понимаешь, с моими внешними данными… глупо было бы не воспользоваться. Это первое. А второе – папаня у меня хоть и дока, но уже стареет. На приключения потянуло, цветными металлами стал баловаться.
– Ничего себе – баловаться. Да в экспорте металлов летают суммы на порядок величины превосходящие те, что в твоей… отрасли.
– Там он новичок, и там все ненадежно. Опасно и недолговечно. Ведь от себя там ничего нельзя сделать, все только по подписям из высоких кабинетов. А среди этой публики ходит пословица: в Кремле кормят хорошо, но недолго. А в своем бизнесе он король. Он его поднимал и развивал. И ставил на современный уровень. И здесь его никто не осудит. Потому что он занимается не спекуляцией, не продажей воздуха, а реальным производством.
– Каким еще производством? Послушай, нет еще порции, для ради лечения?
Катрин тотчас плеснула ему вторые сто грамм из заранее отставленной в сторону бутыли и, не отвлекаясь на этот эпизод, ответила на его вопрос:
– Ты что, не слышал, есть такой термин: производство товаров и услуг? Вот, скажем, твой фазер производит ракеты, то есть товары. Ну а мой – услуги.
– Но ведь они, как бы это тебе сказать, нестандартны? Ну, необычны, что ли. Многие считают это безнравственным.
– Послушай, ты марсианин? Нет. Ты – население. Так вот, мы оказываем услуги населению. А марсиан мы не трогаем. Марсианские каналы, как известно, давно пересохли. Поэтому пусть утешаются чтением Мопассана.
– Вернемся к тебе.
– А чего ко мне возвращаться? Я вот она, вся тут, – сказала Катрин, меняя при этом положение ног таким образом, что Озерков мог точно убедиться, что она действительно тут или здесь, перед его глазами. И при этом именно вся. Вся, елки зеленые, и никак не меньше. – Я же тебе уже втолковывала, папаня хоть и крутенек, но то ли стареет, то ли задурил. Лезет не туда, куда надо. А это значит, что скорее рано, чем поздно, он загорится синим пламенем. Может быть, и уже загорелся, только мы этого не видим пока. Это значит, что? Бизнес не может быть остановлен, не так ли? Значит, придется впрягаться мне. Я совсем молодая, ты же видишь, – Озерков это видел, – а это такая ответственность. В таком большом деле если что пойдет не так, тысячи людей могут лишиться своих рабочих мест, а значит, и куска хлеба.
– Катрин, мне кажется, ты путаешь мою кухню с думской трибуной.
– Как тебе угодно. Ты же спросил, я думала, что тебе это действительно интересно. Короче говоря, в случае необходимости, я должна перехватить руководство фамильным делом у отца. И при этом сделать так, чтобы это произошло без всяких потрясений. А для этого я должна знать весь деловой цикл с первого до последнего такта.
Они уже покинули квартиру и уже стояли на Садовой напротив аргентинского посольства, перед въездом в туннель под Триумфальной площадью, пытаясь остановить какой-нибудь редкий в такую рань несущийся, как безумный, мотор. А разговор, начавшийся вроде бы нехотя, но теперь, похоже, захвативший их обоих, продолжался.
– А я подумал, что, кроме этих двух, есть и еще одна причина, по которой ты пошла работать в папину фирму на самый ответственный участок.
– Это какая же?
– Да тебе просто это нравится. Ты по природе, наверное, авантюристка, любишь крутить мужиками, и вообще, ты молодая, обалденно красивая телка. Как ты сказала, такими внешними данными грех не воспользоваться.
– Да ты что, Платоша? Ты это куда намекаешь? Что я, мол, из-за этого?… Х-ха. Да я, если знаешь, к этому вообще, что оно есть, что нет. Ты что, думаешь, у нас выходных не бывает? Да сколько угодно. И по два, и по три дня.
– Ну и что? А при чем тут твои выходные?
– А так, что, если бы мне это было надо, я бы уж договорилась с кем-нибудь, чтобы подменять на вызовах. А я же этого не делаю. Сижу дома, больше внимания отцу уделяю. И, как видишь, запросто могу два-три дня и без этого обходиться.
– Ну, раз так… Я же не знал, – развел руками Платон, потрясенный силой логики, которую продемонстрировала Катрин.
– Вот именно так, мой миленький, – не на шутку разволновалась дочь Круглого. – А то тоже, нашел в чем подозревать. Да если хочешь знать, я могу и неделю на работу не ходить. И ничего, – но тут она не выдержала и, блудливо скосив огромные глазищи, вдруг добавила с каким-то сдавленным смешком: – Да в крайнем случае, дома, что ли, не найдется, с чем поиграть?
Наконец, около них затормозила тачка системы «Волга», которая уже забыла, куда она впадает.
– Сейчас по Садовой, – начал Платон говорить шефу, – а после американского посольства сразу направо. И прямо, я там скажу.
– Нет, – вмешалась Катрин, – после посольства не сразу направо, а сначала остановишь на углу. Мы там кое-куда зайдем, в один кабак, – уточнила она для Платона, – а потом рванем, куда, вот, он тебе скажет.
– Куда, в какой кабак? Во-первых, сейчас все закрыто, посмотри на часы. Во-вторых, мы не можем приехать на дачу к отцу пьяными. А, в-третьих, да просто и шофер не будет ждать.
– Отвечаю для очень умных. Куда я иду, там открыто. И даже расстегнуто. Ты согласен? Со-гла-сен?
– Да-да, конечно. Только перестань, это же неудобно.
– Во-вторых, мы зайдем туда не пить, разве что с собой немного возьмем. Нам нужна охрана. Я же тебе в квартире об этом говорила.
– Говорила. Но не сказала, зачем.
– А это ты меня заговорил. С тобой вообще голову потеряешь. – Она притянула к себе Платона и зашептала ему на ухо: – Я же тебе говорила, папаня устарел, на дурную голову потянуло за приключениями. Но мне-то он успел шепнуть: как раз сегодня ночью и под утро – ждут большой заварухи.
– Какой еще? Зачем это Круглому? – так же на ухо, а значит, вдыхая ее аромат, прошептал Озерков.
– Ни зачем. Ни ему, ни кому еще, но они что-то крупное затеяли. А если что-то крупное идет наперекосяк, вот и начинается заварушка.
– А нам-то что?
– Нам-то бы и ничего. Вот, когда сидели бы дома, то бы и ничего. А раз ты решил за мной ухаживать и на дачу везешь, то невредно тебе и узнать, что именно это направление считается у них так называемой осью напряженности.
– То есть, это откуда всяческую подлянку можно ждать?
– Точно.
– И именно Минское шоссе?
– Оно самое. Я сама слышала, отец по телефону гудел, не разобрала только, что именно. То ли на Москву какие-то части могут тут прорываться, то ли наоборот, эти части будут загонять по садам и огородам. Рассредоточивать.
– Кажется, твой отец не по делу заехал.
– Ну? Вот видишь, и ты так думаешь. Даже тебе ясно. А этому старому буденовцу все неймется. Сгорит, старый дурак, и мы все накроемся. Ну ничего, поздняя ягодка еще тебе покажет, это он меня поздней ягодкой называет, еще ранней пташкой у меня защелкаешь.
Ресторан стоял на углу сонной неприступной глыбой. Как бы нехотя взблескивал стеклянными поверхностями в ночном, собственно говоря, уже предутреннем уличном освещении.
Катрин молча открыли и так же молча, ограничившись кивком головы, пропустили внутрь.
Она за руку вела, почти тащила Платона, и так они пересекли огромный пустынный холл и еще более огромный и так же совершенно пустой зал.
За кассами и амбразурами выдачи заказов находилась узенькая лесенка, по которой они и стали подниматься.
После того, как они преодолели три или четыре пролета, – точно Платон определить не мог ввиду смещения точки, где обитало его рацио, куда-то вбок и ближе к паху, – Катрин повела его по невзрачному, казенного вида коридорчику. Подергала несколько боковых дверей, но они были закрыты. Платон уже подумывал, не напрасно ли она все это затеяла, ведь теоретически даже дочери крупных организаторов могут иногда ошибаться. Но тут одна дверь подалась, и они вошли в темную комнату, в глубине которой кто-то охал и вздыхал.
– Эй, есть кто-нибудь? – тихонько окликнула Катрин.
Но в ответ послышались только все те же вздохи неясного происхождения. Она нашарила на стене выключатель и включила свет. Узники – а это были Петя-санитар и пришедшая к нему на свидание в ресторан медсестра Жанна – сидели в углу небольшой комнатки, связанные спина к спине и, вот что такое мода, с кляпами во рту. Катрин выдернула их сначала у Жанны, а потом у Петра.
– Что с тобой, девушка? – обратилась она опять-таки в первую очередь к Жанне.
Но первым подал голос Петр:
– Беспредел, едрена-матрена.
– Ты что, юноша? – все тем же болезным, сочувствующим тоном попыталась Катрин умиротворить избитого в лоск паренька, культурно отдыхающего после бурного вечера. – Здесь беспредела быть не может. Ты знаешь, кто это заведение держит?
– Не болтай, – поморщился Петр, ощутив стремительно наплывающую боль от многочисленных ушибов, – лучше развяжи, да и канать нужно отсюда, пока не поздно.
– Здесь все предусмотрено для культурного отдыха населения, – упрямо повторила Катрин, – а никакого беспредела быть не должно. Если хотите знать, то я, лично я, ничего подобного не допущу.
– Эй, девушка, я вижу, ты девушка с понятиями, – вступила в разговор Жанна, понимая, что дипломатия не самое сильное оружие Петра, и что эта неизвестно откуда взявшаяся парочка может так же неизвестно куда и исчезнуть. – Чего ты мужика слушаешь, Петю Петуховича? Наклонись-ка, я тебе что скажу…
Катрин наклонилась, и Жанна тут же что-то ей зашептала на ухо. Брови Катрин почти тотчас изогнулись от изумления, она присела на пол рядом с Жанной и более тесно приникла к ней, желая без помех слушать и дальше. Затем раздался ее смешок, какое-то глумливое хихиканье, и наконец она уже не выдержала и, запрокинув голову прямо на шепчущие, ищущие, щекочущие губы Жанны, рассмеялась как малое дитя, которое отец подбрасывает к потолку.
– Ну козлы, – всхлипывала как бы от восхищения Жанна, – ну у тебя, слушай, мужик и денежный. Десять тысяч баксов? И за один вечер, говоришь, на вокзале заработал? Ну я счас фазеру звякну. Счас он пару ласковых от меня получит. Ничего себе, культурный кабак. Беспредел у него гнездо вьет под носом, а он еще в новую дрянь ныряет.
– Ты бы только, девушка, – тоже как бы давясь от смеха, хотя все еще и со связанными руками, сказала Жанна, – про вокзал ничего пока папке своему не говорила. Там, – она языком почти ввинчивалась в ушную раковину Катрин, – дело темное. Дело глухарь. Нам бы самим выбраться без потерь. А те там, на вокзале, нам не по зубам.
– Ты где работаешь? – внезапно меняя тему, спросила Катрин.
– В дурдоме. А ты где, девушка? Хочешь, иди к нам.
– А у вас клево?
– Со мной – в умот.
– Ладно, я подумаю. Может быть, у вас наш филиальчик заделаем. Для любителей экзотики. У вас ведь и молоденькие, наверное, лечатся?
– Еще какие.
– Ну вот. А небось как на выписку – в кармане ветер. Правильно?
– Чаще всего, конечно, так оно и есть.
– А мы сделаем, чтобы у них на первое время и на питание, и на туалеты хватало. Если девчонка молодая, и ее поддержать некому, это как, а?
– Глубоко попадаешь, девушка, что б тебе столько здоровья, сколько их через мои руки прошло. Да ты, кстати, развяжи руки-то. Я тебе покажу кое-что из того, что умею.
– Клево?
– Пока никто не жаловался.
4
Чуден Донской монастырь в летнюю ночь. А перед рассветом бывает такой тихий и чуткий час, что, может быть, даже душа безумного Петра Чаадаева прилетает и вьется над своим надгробием.
Все здесь помнит о смерти. Торжественно и чудно помнит монастырь и надгробия около него. Они-то ведь под защитой Того, Кто смертию смерть поправ.
Подавленно и угрюмо помнит, вернее, напоминает, морг, который расположен через дорогу от монастыря. Его защитить некому. Здесь пристанище тел, оставленных своими душами. Склад тел. Страшно. Потому, что души улетели, и покинутые ими тела никому не нужны, безгласны и бессмысленны. По сути дела – бессмысленны.
Мертвых душ не бывает. А бывают мертвые тела. Иногда они кое-кого интересуют. По мелочам.
В это раннее утро, проехав по Шаболовке и сразу после Клиники неврозов свернув направо и вверх, к монастырю приближалась колонна из трех автомобилей. Первым плавно катился ненормальной, не меньше трамвайного вагона, длины белый лимузин с коричневыми тонированными стеклами. Метрах в тридцати от него следовали два джипа-чероки, в каждом из которых сидели по пять молодцов недвусмысленной внешности, выправки и сложения.
Лимузин объехал вдоль стен старого монастыря и, развернувшись на Профсоюзной, подкатил к моргу. Джипы остановились на противоположной стороне, под монастырской стеной, один чуть спереди лимузина, другой чуть сзади него.
Из лимузина вышли два господина. Один из них был высоким, с круглым мясистым и чрезвычайно властным лицом. Второй, напротив, скорее немного ниже среднего роста, с юркой, как у лисы, повадкой и, похоже, побывавший в немалых переделках.
Господа, не произнеся ни слова, направились к дверям морга, разумеется, закрытыми в это время суток наглухо. Но господинчик с лисьей повадкой уверенно нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока с той стороны не послышался скрежет отодвигаемой металлической щеколды.
В щель открытой на четверть двери низенький господин сунул записку, на которой был от руки написан номер одного из боксов, в которых хранились трупы. А поперек номера начертанная крупным корявым почерком стояла подпись: «Круглый».
Дежурный прочитал записку и вернул ее обратно. Затем захлопнул дверь, освободил ее от верхней и нижней цепочек и снова открыл, на этот раз, что называется, настежь.
Господа вошли внутрь, после чего дверь снова была закрыта. Затем они пошли вслед за дежурным, который не торопясь продвигался по коридору, включая освещение на углах, на которых они сворачивали.
Наконец, все трое остановились перед боксом с нужным им номером. Дежурный открыл металлическую дверь и наполовину выдвинул в коридор специальный ящик-подставку с трупом. Он оглянулся на спутников, но тот, что повыше, недовольно помотал головой. И служитель понял, что господа, видимо, желают осмотреть именно верхнюю часть туловища покойника. А для этого он был выдвинут недостаточно. Тогда дежурный потянул ящик на себя, чем и исправил положение.
На этот раз высокий господин удовлетворенно кивнул, а затем мотнул головой по направлению вдоль коридора.
Дежурный все понял и отошел по коридору за угол, тем самым оставив господ наедине с покойником.
Тогда низенький подошел к телу, взял покойника за кисть той руки, которая лежала сверху, и поднял руку, отогнув ее на девяносто градусов по отношению к туловищу. Затем он оглянулся на высокого и указал ему жестом на обнажившийся участок тела.
Высокий, как бы делая усилие над собой, подошел вплотную к трупу и хладнокровным, цепким взглядом посмотрел на то, что он и ожидал увидеть.
Хотя, как сказать. Быть может, он и не ожидал, что еще раз в жизни увидит то, что видел когда-то, лет двадцать назад, очень далеко, на Востоке.
Но, с другой стороны, он знал, что просто так низенький его сюда не пригласил бы. Что-то да предъявит. Так и получилось: что-то ему предъявили. А вот что именно, так вот тут, на месте, не разберешь. Не установишь. На то есть люди, которых он немедленно сюда и направит. С низеньким надо решать в течение ближайшего часа. И от того, правильно ли он с ним решит, зависит и то, как после решат и с ним самим. Или можно сказать и наоборот: с самим Круглым. Потому что Круглый, – а это был он – твердо знал, что, насколько бы ни поднялся человек, всегда к нему может прийти кто-то от кого-то. И как он скажет, так и будет. Значит, и жизнь вся в том, чтобы так угадать в своих делах, чтобы тот, кто придет, не посчитал бы необходимым навесить крепких пендюлей.
Выходит, если определять по формальным признакам, религиозным человеком был крупный организатор известной по Москве сферы услуг Круглый. Сам он, правда, об этом не подозревал.
Низенький свистнул, и служитель вновь появился из-за угла. Двое молчаливых мужчин не стали ждать, пока он снова задвинет покойника в бокс, а повернулись и, даже не попрощавшись, твердо зашагали на выход.
Выйдя наружу, они, все так же не говоря ни слова друг другу, подошли к лимузину, задняя дверца которого была уже услужливо открыта шофером.
Мужчины сели в лимузин, шофер мягко захлопнул за ними дверь, и весь кортеж тут же тронулся в обратный путь. Мимо монастыря, вниз до Шаболовки, а там налево и в центр.
Оставшись на площади один, Алекс подошел к ближайшему телефону-автомату и набрал номер Валентины. Она не спала и начала разговор на удивление спокойно:
– Можешь не оправдываться и не объяснять, где тебя носит и почему нет со мной. Я ждала в гости Лору с ее старлеем, но она позвонила и сказала, что не сможет зайти.
– Старлей ранен.
– Да, я и это, и все остальное насчет того, что вас обстреляли, тоже знаю. Вы нашли Гарика?
– Нашли. Но чуть раньше его нашел кто-то еще. И убил.
– А теперь иди домой и ложись спать. Можешь даже перед этим напиться. От этого, конечно, будет вред, но небольшой. А если ты продолжишь ходить по Москве, я буду постоянно узнавать о все новых покойниках.
– Валентина…Может быть, я загляну к тебе?
– Не лицемерь. Именно этого тебе хочется меньше всего. Ты огорчил меня, Алекс, но виновата я сама. Не следовало омрачать последние недели жизни Мартина. Я должна была быть с ним до конца. Не дождалась. Вот Бог меня и покарал.
– Ты не могла знать, что произойдет с Мартином. И, во-вторых, никто тебя пока ничем не покарал.
– Нет, Бог устроил так, чтобы вы с Лорой среди глубокой ночи не нашли в таком, ведь согласись, немаленьком городе, как Москва, двух разных площадей. Не спорь и не возражай. Одного этого совпадения достаточно. А тут еще ты спасаешь ее кавалера, а может быть, и всех остальных, от лютой смерти под обстрелом. Жаль, что я этого не видела. Но я всегда знала, что ты не тот, за кого себя выдаешь.
– Как и Марло?
– Скорее всего. Ну вот, поэтому я теперь и остаюсь одна.
– Валентина…
– Да. Я это окончательно поняла, как только мне позвонила Лора. Но имей в виду: ей всего семнадцать, с крошечным хвостиком. Но она вынослива, как женская лыжная эстафета четыре по пять километров, вместе взятая.
– От инфаркта я не умру.
– Нет, конечно. Твое сердце я тоже неплохо знаю. Но бандитская пуля или истощение нервной системы тебе гарантированы.
– Лора здесь не причем. Сейчас она в надежном месте, но позже приедет к тебе и все объяснит.
– А я никого не приглашаю. Прости, я расстроилась и говорю первое, что приходит в голову, Алекс, я знаю, ты заговоренный. Но Мартин тоже был таким. Уходи с этого сквера и забудь про все, чего уже не вернешь и не переиграешь.
– Если я не найду того или тех, кто все это заварил, то в ближайшие сутки в этом городе прольется большая кровь.
– Думаю, что не только в этом, но и во многих других.
– Ты это тоже почувствовала?
– Я журналистка. И, кроме того, женщина, у которой разбито сердце. Неудивительно, что все чувства обострены. А почему ты заговорил в подобном тоне?
– Мне не нравится, когда я этак случайно встречаю ночью паренька, у которого в кармане миллион зеленых.
– По-немецки это называется, по-моему, ташен гельд.
– Ну да, карманные деньги.
– Так что тебе здесь не нравится?
– С деньгами не надо шутить, Валентина. На деньги люди живут, на них они и рассчитывают. И если кто-то решит очень зло подшутить над людьми, то ничего страшнее, чем манипуляция с деньгами, ему не придумать.
– Мне из трех газет ребята из финансовых отделов звонили. Действительно, какой-то такой пакости все ожидают.
– Ее не надо ожидать, Валентина. Она уже произошла. Или происходит. Вот этой самой ночью. Но только это не пакость, Валентина. Это то, из-за чего убили Марло. И из-за чего погибнет множество людей. А может быть, и целые народы. Вот про это я тебе и толкую. Если ночью по городу таскается парень с зеленым лимоном, то этот город может не простоять и до следующей ночи. Это тебе не динамит. Это много страшнее.
– Но он тебе что, совсем ничего не рассказал? Где он хоть его раздобыл, этот лимон?
– Рассказал, Валентина. Кое-что он мне шепнул. А боле не надо. Мне и так теперь уже все равно: что сон, что явь, что бред или загробные видения. Я, конечно, и раньше знал, что все это суета сует. И что, следовательно, все едино или, по крайней мере, не поддается настоящему различению. Но это я знал так, теоретически. А теперь-то уж и практически – ощутил.
– Ты не сказал, где он все-таки его раздобыл?
– Разве не сказал? О, ну это уж совсем просто. Деньги, как тебе известно, можно раздобыть только двумя способами: украсть или заработать. Второй способ, если иметь в виду такую сумму, можно смело исключить. Вот этот милый мальчик и воспользовался способом номер один. Попал он на Курский вокзал, где эти деньги и украл.
– Всему приходит конец, Алекс. Однажды придет конец и деньгам.
– Это будет означать, что пришел конец и людям.
– Возможно. Но это не должно произойти по крайней мере раньше, чем Лора родит тебе мальчика.
– Какой смысл, если всему конец?
– Смысл в том, что этот мальчик вырастет и всех нас спасет.
– Значит, имеет смысл какое-то время продержаться?
– Безусловно.
– Пока. Я позвоню тебе часа через два.
– Пока. О, подожди. На твое имя по пейджеру пришло сообщение.
– Я уже спешу. Что-нибудь важное?
– Да кто ж его знает? Это или шифровка, или шутка недурно набравшегося мэна. Записывай, я думаю, что по пьяному делу человек все-таки поленился бы записывать на пейджер.
Алекс записал телефонограмму, еще раз попрощался и повесил трубку.
Затем огляделся. Ближайшей хорошо освещенной территорией был вход в ресторан, разумеется, в этот предутренний час наглухо запертый.
Но сверху, впрессованные в массивный каменный козырек светили лампы зелено-салатного и фиолетового цветов. Про фиолетовый Алекс подумал, что он действует жутко возбуждающе, и что, следовательно, такие оттенки могут быть позволены только в будуарах заслуженных куртизанок республики.
Но тут же он уже и остыл. И тогда рассудил, что это возбужден он сам. И что степень его возбуждения еще сравнительно невысока, учитывая плотность событий хотя бы за последние полчаса.
В самом деле, даже за этот совсем небольшой интервал времени он успел выслушать признание от одной, отказ от другой, постоять над еще не остывшим трупом третьего.
Алекс развернул газетный лист и постелил его на каменной, скорее всего, гранитной ступеньке. Затем он сел на него, прямо напротив входа в ресторан, и раскрыл страничку из записной книжки, на которой он записал послание с пейджера.
«Тебе авто, а не слон на ухо наступил. Не помнишь, что ли, как подают утяру? Не там, а плюс один. Там, где собачки лают. И где спросили прикурить. И минус пять, и понимай, как знаешь».
Еще до первой попытки расшифровки Алекс понял, кто автор веселенькой записки. Угарный говорок Хорька как не узнать? Того, кто дал ему по голове железом, а после извинялся. Кто, судя по этой записке, все еще жив. В отличие от некоторых иных.
Авто, а не слон на ухо… Авто можно назвать и каром. Кар на ухо, Виталий Емельянович Карнаухов. Это, стало быть, автор послания представился так. Сотрудник таинственного и, как уверял сам Карнаухов, самого непотопляемого учреждения послевоенной истории: Дирекции по эксплуатации высотных зданий и сооружений. Но это так, детские шалости. А вот что дальше?
Алекс понимал, что в тексте обязательно должно быть упрятано упоминание о событии, которое могли бы припомнить и идентифицировать только они двое – отправитель и получатель. Иначе нечего было и затеваться со всеми этими шарадами, а уж лепить открытым текстом, и вся недолга.
Он несколько раз перечитал текст, оставшийся после откидывания первого предложения. И, действуя простым методом исключения, установил, что таким предложением может быть только это: «И где спросили прикурить». Карнаухов правильно рассчитал, что уж обстоятельства их «знакомства», повод и самые первые слова наверняка отпечатались в памяти у Алекса.
Вся записка – это зашифрованное приглашение на встречу. Сообщение о месте и времени. Мол, приходите, буду ждать вас во столько-то и там-то. А где? «И где спросили прикурить».
А где спросили прикурить? Прежде всего, на двенадцатом этаже. Конечно, известен и дом, где это произошло. Но, разумеется, дом имеется в виду совсем другой. Не может Карнаухов так рисковать и назначать встречу на том самом этаже и в том самом доме, то есть, просто-напросто перед квартирой Мартина Марло. А отсюда и следует, что «где спросили прикурить» обозначает только этаж, и ничего больше. Значит, этаж, на котором его будут ждать, Алексу известен. Двенадцатый.
Никто не начинает сообщать координаты с этажа. Разумеется, перед этажом указывают дом. А после – время визита или встречи. Все правильно, серединному характеру информации соответствует такая же позиция этого предложения во всем тексте сообщения. Значит, в том, что слева от него, сообщается о доме, а в том, что справа, о времени встречи.
«Не помнишь, что ли, как подают утяру? Не там, а плюс один. Там, где собачки лают».
Помнишь, не помнишь, не в этом дело. А в том, что «утяра» является словцом как раз из Карнауховского слэнга, а если говорить по-человечески, то и будет никакая не утяра, а утка. Просто утка. И как же ее подают? Да, наверное, так же, как и готовят. И как печатают в меню. Ну, конечно, «Утка по-пекински».
И происходить это все может только в ресторане «Пекин», который находится в здании гостиницы «Пекин», что на Маяковской, или теперь опять на Триумфальной площади.
«Не там, а плюс один». Не там, оно и значит, что не там, а в другом месте. Но плюс один дом – нет, не получается. Что плюс, что минус.
Соседние с «Пекином» дома далеко не добрали до двенадцати этажей. «Пекин», вообще-то, мелькал и искрился в байках Карнаухова. А в связи с чем это вдруг?
Знатный работник «Управления по эксплуатации…» старался поразить воображение Алекса рассказами о никем не разгаданном могуществе своей конторы. А затем от конторы перешел на мистику и параллельные пространства внутри самих объектов, то есть высотных зданий и сооружений. Значит, он ставит эту гостиницу в один ряд с высотными домами.
Так ли это на самом деле, то есть имеет ли «Пекин» официальный статус высотного дома и, следовательно, находится ли на обслуживании в «Управлении по…», это было не суть важно. Скорее всего, да, Карнауху все-таки виднее. Пусть так или не так, главное все-таки – это установить, что было в голове автора записки, когда он оную составлял.
А было в ней, определенно, следующее: не там, а плюс один – значит, не в «Пекине», а в следующем высотном здании. В каком же? Плюс – это плюс. А не минус. Плюс – это, конечно же, приближение, а не удаление. Приближение к чему?
Есть две отмеченные точки: пивная на Смоляге, и дом Марло, где они встретились и откуда началась вся эта история. Обе они находятся по одну сторону от «Пекина». Следовательно, сюда и приближайся. Сюда и указывает плюс. А к трем вокзалам, где гостиница «Ленинградская», – туда не надо. Там минус.
Значит, «не там, а плюс один» – это ближайшая к «Пекину» высотка на Площади Восстания. Вот там он меня и будет поджидать. И даже известно, на каком этаже. На двенадцатом.
Но эта высотка – громадное здание. Какой же подъезд имеется в виду?
Не там, а плюс один. Там, где собачки лают.
А где же они лают? Ясно, где. Между Садовой и Зоопарком, вот там они и обитают, там их и содержат-маринуют-тренируют. Если от Садовой спускаться вниз к метро «Баррикадная», то по правую руку, сразу за Институтом усовершенствования врачей, расположена громадная асфальтовая площадка, в глубине которой виднеются гаражи для милицейских и пожарных автомобилей, и еще какие-то одно– и двухэтажные строения казарменно-походного стиля. Вот из недр этой суконно-ведомственной площадки и раздается в определенные часы суток неистовый и надрывный собачий лай. И судя по отчаянным интонациям этого многоголосья, то ли там этих собак затренировывают вусмерть, то ли, что скорее всего, пытают голодом, унося собачью долю в человечьи вигвамы.
Значит, речь идет о правом, если смотреть от Садовой, крыле высотки, который выходит на этот непонятный, вечно лающий питомник. Угловая дверь – вход в гастроном, а ближе к дальнему углу – булочная. А вот как раз между ними жилой подъезд, по-другому говоря, – парадное, ведущее к жилым квартирам. Он там даже и был однажды, на седьмом, кажется, этаже. Герб его тогда затащил к своему другу – писателю Пафнутию, у которого они тогда и раздавили быстренько на троих то, что при меньшей жажде могло бы удовлетворить и девятерых. Там они под эту тревожную собачью какофонию и пофилософствовали вдоволь, разумеется, на тему хрупкости современной цивилизации, которая, как это очевидно слышалось в лае снизу, не может находиться в гармонии даже со своими четвероногими друзьями.
Итак, есть адрес. Конечно, есть. Известны дом, парадное и этаж. Чего же боле? На лестничной площадке Алекса, наверное, и встретят.
Но когда?
«И минус пять, и понимай, как знаешь».
Здесь, конечно, и вариантов никаких быть не могло. Как и в случае с местом встречи, указание на ее время также не могло не основываться на том, что известно только им двоим. Минус пять означало, конечно, на пять часов раньше, чем время их вчерашней встречи.
Пять часов или пять минут? Вот тут он и оставил зазор. Ухмылку неопределенности. Наверное, сам еще точно не знает или для подстраховки оставил два варианта: «…и понимай, как знаешь».
«И минус пять, и понимай, как знаешь». Хочешь, понимай, как минус пять минут или пять часов. А может, пять суток? А почему бы тогда не лет? Последний вариант в кругах, ценящих абсурдизм, считался бы, вероятно, самым изящным.
Но все это были уже досужие размышления. Для разрядки, как сказал однажды вождь, правда, совсем по другому поводу. Он просто должен быть в этой высотке на пять часов раньше, чем вчера получил по голове. И если на двенадцатом этаже никто к нему не подойдет, то повторить свою попытку на пять минут раньше, чем исполнятся ровно сутки этому незабвенному событию.
Алекс вытащил зубами из пачки одну сигаретину, поджег спичкой послание из параллельных миров по эксплуатации высотных галактик, и уже от открытого огня прикурил. Тем самым он прикурил сигарету и под видом бесшабашной, пьяной выходки уничтожил карнауховский текст.
О, да, конспирация. Конспирация один. Так они подшучивали тогда над Учителями, Наставниками, господами генералами, как выражались самые лихие из курсантов. И в чем же оказалась, в конце концов, шутка? О, шутка, так же, впрочем, как и конспирация один, оказалась весьма многосоставной. Широкоразветвленной, глубокоэшелонированной и вообще основательно кем-то продуманной и реализованной. Проведенной в жизнь.
Проведенной ли? А может, как раз неудавшейся?
Вот и опять его посетили сомнения. А ведь он давно уже не курсант, а выпускник. Впрочем, опять и опять – выпускник чего? Училища, которого не существует?
Его признали полноценным выпускником. Но кто? Где эти учителя и наставники, герры профессоры, ректоры и деканы, где, наконец, господа генералы? Может быть, все они давно уже разоблачены и осуждены, как враги народа? Или, следуя современной моде на компакт-продакшн, без всякого суда и следствия получили быстрое успокоение в темном переулке?
Алекс понимал, что, сколько не суди и не ряди, основным свидетельством уровня любого учреждения является уровень его кадров. Значит, на все вопросы об Училище ответ может дать только он сам. Здесь, сидя под ночным звездным небом перед входом в закрытый ресторан, и, как истинный звездоплаватель, попыхивая «Космосом» с ментолом, он ничего не решит. И не узнает. Училище, а, следовательно, и конспирацию один, следовало признать высокоэффективными, если таковым окажется он сам. А что же пока? Карнаух что-то узнал, и что узнал, то скажет при встрече. Гарик зарезан и, наверное, не успел даже посожалеть, что был злым ветром занесен в дюже суровую и ненужную ему степь. Боб хорошо излагал, да только и сумел, что размахивать руками да прыгать, как подбитый заяц, по кустам. Боб не тот человек, и зря только Алекс сел к нему в тачку, выйдя из дома Марло. Он ведь хотел попытаться воспроизвести последние часы жизни Мартина, а тот в предыдущую ночь ну никак не мог сесть в кар О’Брайена. Потому что майор тогда только еще летел над Атлантикой по направлению к Шереметьеву. Нет, не надо было пить «Бифитер» американо-майора и вязаться с ним. Что-то с ним складывается не так, как хотя бы с тем же Карнауховым, даром, что знакомство с ним началось ударом по голове.
А Чарльз Харт? Этот вошел в ситуацию как бы по рекомендации многолетнего кореша, литератора Герба, значит, по крайней мере, заслуживает доверия. Ну, о доверии теперь вообще поздно говорить, когда они отправили к Харту раненого старлея Симонова. На которого, как уверяет Лора, и ей можно верить – просто потому, что это Лора, – и был совершен наезд с целью убийства, а остальных, следовательно, поубивали бы просто заодно, как шпыняют ногой не так стоящую фурнитуру.
Наезд, правда, чуть не был совершен. Чуть-чуть. А так, разумеется, уже не считается. И все это из-за кого? Из-за Алекса. Его интуиция сработала, еще когда они выезжали из туннеля и только начали опускать боковые окна, чтобы высунуть из них стволы. А после интуиции сработало уже тело. Да так, что Алекс и сам ничего не помнил, себя не помнил, только визг шин и скрежет металла до сих пор в ушах.
Итак, с американо-майором не надо бы вязаться. К Харту надо бы позвонить, а к Гербу зайти и поговорить. В любом деле, которое сложнее, чем занять на кружку пива, неплохо посоветоваться с литератором Гербом. Это тебе любой на Смоляге подтвердит. К Валентине теперь просто так не пойдешь. По крайней мере прямо сейчас, когда она только что осознала, что их брак скорее всего не состоится.
И с этим, конечно, вышло нескладно. Зачем только он Лоре напоследок признался в любви? Ясно, что не время было что-то выяснять и уточнять, и надо было как можно скорее всю эту гоп-компашку во главе с миллионером Рашпилем эвакуировать с площади. Но что это вообще означает, когда вот так говорят: «Ты меня хоть любишь?» и в ответ слышат: «Да», что она в свои чудные семнадцать лет может под всем этим подразумевать?
Алекс подошел к ресторану не один, но он этого не замечал. Еще когда он покинул сквер и двинулся вверх по Садовой, метрах в тридцати за ним последовал мужчина. Он был ниже среднего роста, но очень коренаст. Верхнюю часть лица, кроме собственных его приемов светомаскировки, мешала разглядеть широкая кепка, скрывающая лоб и глаза под огромным козырьком.
«В подобной ситуации я мог бы обратиться к Мартину Марло, и он бы помог, – продолжал неспешно размышлять Алекс. – Он мог бы стать моим другом. Это очень сложно и редко получается в нашем с ним возрасте. Но все-таки это возможно, и может быть, у нас с ним был тот самый случай. Он всегда относился ко мне с особой теплотой, а иногда у него проскальзывали интонации какого-то пиэтета, чуть ли не преклонения передо мной».
Теперь вот говорят, что он искал связь с некой «ответственной» организацией. Возможно, что под это определение или по крайней мере под то, что он сам под этим подразумевал, подошло бы и Училище. Да, собственно говоря, наверняка бы подошло. Но что бы он сказал, если бы Алекс рассказал ему про вариант «без денег и документов», про унижения, которые он испытал, и упорство, которое он проявил в последующие за «выпуском» годы? Вот именно, интересно.
Теперь, когда контакт прервался, по крайней мере до перехода Алекса в ту область, куда отошел Марло, многое, связанное с погибшим «морячком», стало интересным. Могла ли быть между ними настоящая дружба? Нередко во время дружеских попоек и длительных застолий Алексу казалось, что да, что не только может сложиться, но фактически все уже и состоялось.
Но затем он ловил на себе некий особый взгляд Марло или слышал некий странноватый, не совсем связанный с темой разговора вопрос. И тогда у него снова возникало ощущение, что морячок, казачок или как там он еще назывался, короче, что Марло шукает по жизни не только простого отдохновения в дружеской попойке. Да, скорее всего, он действительно искал кого-то или чего-то наподобие Училища. Но в связи с этим возникают два вопроса.
Первый: как он отнесся бы к такому «эксцентричному» выпускнику Училища, как Алекс? Весело рассмеялся бы вместе с другом над причудами мировой конспирации, а их отношения только бы упрочились, приобретя недостающую им полную открытость? Или, напротив, был бы разочарован и направил бы свои поиски в других направлениях?
Ответ на это напрямую зависел от второго вопроса: зачем, в каких целях он искал контакт с организацией наподобие Училища, будь то с его руководством, курсантами или выпускниками? Что для него заключалось в установлении подобного контакта: простое любопытство, неодолимая тяга к знанию или внезапно возникшая и при том крайняя необходимость?
Многолетние попытки и «внезапно возникшая» не состыковывались. Значит, скорее всего, имел место третий вариант, комбинированный. Марло много лет встречался с Хартом или с другими ребятами из той же конторы, и они обменивались кое-какой информацией. И эти их встречи вызывали иногда, пусть и незаметные для общественности, но вполне реальные изменения. Коррекции внешнеполитического курса двух стран, некоторые локальные снятия напряжения.
Стало быть, Марло выступал не от себя, не как участник самодеятельности. О нет, сэр, нет. Это невозможно.
От кого же? Ну, то, что он был связан с МИДовской высоткой на Смоленской, это почти очевидно. Недаром же он и пасся десятилетиями около этой пивной. Такой человек, как Марло, не стал бы ездить заливать вечную жажду куда-то далеко от центра своих интересов. Но, разумеется, группа, от которой он встречался с американцами, и не могла быть МИДом как таковым. Ибо официальный МИД мог действовать только официально, то есть так, как было согласовано, а то и просто приказано со стороны Политбюро. А это все и так было заявлено на официальных встречах и переговорах, и было прекрасно всем известно и без Марло, кем бы он там ни был.
Следовательно, картина вырисовывается такая: Марло представлял на встречах некую корпорацию, имеющую своих людей на многих, если не на всех уровнях власти, а уж во внешнеполитических структурах – без сомнения.
А что это за корпорация? Марло уже не ответит. Валентина, пожалуй, могла бы.
Многолетняя ее связь с Марло – явно не случайна. И это при том, что никак нельзя отрицать искренних чувств, связывавших этих двух, таких непростых людей.
Сейчас она – довольно известная журналистка, сделавшая себе имя на статьях и репортажах «из горячих точек»: о наркотранзитах, о маршрутах, по которым путешествуют караваны с оружием, о сложной игре вокруг всего этого северных, южных и западных спецслужб. Сейчас это так, и никто не поставит под сомнение ее право на просторную двухкомнатную квартиру в номенклатурном доме.
Но лет пять назад Валентина была еще мало кому известна. Лет десять назад она в журналистике была никем, нулем без палочки. А эта квартира у нее тогда уже была. И помог ее получить именно Марло.
Это Алекс знал из случайных обмолвок Мартина во время застолий. Причем, если при этом и присутствовала Валентина, она никогда ничего не опровергала и даже не уточняла. Из чего Алекс мог сделать вывод, что так оно и было на самом деле, как об этом говорил или намекал Марло.
Если сказать, что такая «помощь» дорогого стоит, то это, пожалуй, ничего не сказать. «Устроить» такую квартиру, и даже не жене… Не сказки ли это Шахразады?
Это уже становилось интересно. Алекс не любил докуривать сигарету до корня, поэтому он достал из пачки и закурил новую. Начинали сказываться вторые сутки бессонницы. От глубокой затяжки слегка закружилась голова. В охватившей его легкой истоме он оперся ладонями обеих рук на неостывшие за короткую летнюю ночь плиты и запрокинул голову в неясно светлеющее утреннее небо. Никого и ничего не было слышно, а мысли, как сущности нематериальные, сплетались в узлы и сети абсолютно бесшумно.
А между тем темный мужичок – или паренек? – в кепке с громадным козырьком стоял шагах в пяти сбоку от Алекса. Одной рукой он для большей устойчивости держался за ствол тополя, скрывавшего его от объекта наблюдения, а другой, засунутой в карман, сжимал наборную рукоятку старой финки. Вещи как бы и устаревшей, давно вышедшей из моды, но по-прежнему притягательной для публики, гулявшей некогда по послевоенной Москве.
Он был свидетелем странного происшествия на Смоляге, когда Алексу удалось предотвратить прицельную стрельбу по Симонову и всем остальным, кто стоял рядом. И поэтому этот паренек, как человек опытный, не тешил себя иллюзией относительно видимой беззаботности и расслабленной позы «клиента».
Пять шагов – вроде бы немного. Но и их не перелетишь вчистую по небу, как этот там, перешагнул полсквера и вскочил в тачку, и все это за пару-тройку секунд.
Нет, паренек отталкиваться от земли и лететь скорее всего в последний свой полет, пусть и с финкой в вытянутой вперед руке, не собирался.
«А сделать даже один шаг из-за дерева я не успею, – разумно рассуждал он, – видели, знаем. С другой же стороны, пушки у меня нет. Да и валить его сразу, наглухо, за такое, может, и не похвалят. Можно метнуть финку отсюда. Но он беспокойный, все время меняет позу. Второй-то попытки не дадут. Нет, это кино. А за кино тоже не похвалят. Если ноги удастся забандеролить. И что же тогда остается?»
Постояв какое-то время, затаив дыхание, за деревом, паренек принял весьма нестандартное, но совершенно правильное решение: если враг не сдается, и уничтожать его – приключение себе на голову, то, может, это и не враг. А чтобы все это прояснить, надо подойти к человеку и поговорить.
Можно даже выпить с ним, с непонятным. Выпить, пожалеть детинушку тренированную. А то ишь, как мается, места себе не находит. Наверное, грех какой замаливает. Не может такой способный не быть грешным. Тех дураков на площади он, конечно же, спас. А сколько других, может, и положил?
Надо выпить с ним, а потом приобнять за талийку да и спивать чего попротяжнее. От тогда, може, и финочку посподручнее выдет в ход пустить. Она любит, когда ее в ход пускают. Но чтобы так, как она привыкла: снизу вверх, с потом с косым движением на себя.
Но тут он мысленно одернул себя. Он знал за собой эту слабость: постоянную возможность забыться, утонуть в бесплодном предвкушении, а значит, потерять темп, хладнокровие, высшую эффективность.
Этого страуса требовалось прежде всего стреножить. Заманить и запутать. А потом и допросить.
«Имею право, – ободрил себя паренек. – В конце концов, чья это территория? Чего он тут разлегся?»
Алекс чувствовал, что за тополем кто-то есть. Но, как и сам паренек, притаившийся за деревом, тоже рассчитывал на эти же пять-шесть метров, которые их разделяли. И что-то он еще недодумал о Валентине и Марло, и о своей вине, о том, что не вовремя возник в их жизни и, может быть, способствовал обрушению их отношений.
Только бы этот, за деревом, постоял бы там еще несколько минут. Алексу не хотелось менять позу и покидать это место. А, кстати, чье это место? Вход перед рестораном, разумеется, даже и ночью принадлежит тем, кто держит это заведение. Кто держит на плаву этот мощный, огромный непотопляемый авианосец. Заправленная спиртным выше крыши – трехпалубка для авиэток любви.
– Эй, земеля, самосадик садишь? – раздалось, наконец, из-за дерева.
Алекс еще не кончил анализ. Более того, он только еще подбирался к чему-то очень важному, что было неизмеримо трагичнее, чем заговоры разведок или ночная встреча с пареньком. Или с финкой. Или с пареньком с финкой.
Это всегда представлялось ему проблемой проблем: возможность идентификации. Идентификация, то есть правильная интерпретация отдельного факта. Отдельного случая или встречи. Можно ли предугадать или даже задним числом оценить действительное значение тех или иных событий.
И, наконец, идентификация жизни. Собственной жизни, да-да, собственной судьбы. Ее финальной траектории и начальных, расчетных импульсов.
Кем рассчитанных?
– Чего жмешься? – паренек вышел из тени и, засунув обе руки в карманы, чуть-чуть приблизился к Алексу.
«Да, попытать бы его, то есть, тьфу, допросить бы», – опять мечтательно повело в голове у паренька.
– Кто ты и откуда? – спросил Алекс.
– Ишь ты, – присвистнул паренек, – а я думал жмешься, жмыха жалеешь.
Разговор плавал волоском над лезвием бритвы. Алекс подумал, что если Марло и сидел прошлой ночью перед входом в этот ресторан, то к нему подошел другой, не этот паренек. Этот, похоже, шел за Алексом от сквера. А Марло поймали на каком-то другом направлении. На этом, на пивном, была только проведена подготовка. Подготовочка. Симуляция паники и ажиотажа вокруг ложных слухов, которые внезапно оборачиваются свершившимся фактом. Вот тогда всем и страшно.
– Ты не знаешь, кто зарезал Гарика? – спросил Алекс. И тут же понял, что спросил неправильно. А у такого паренька спросить неправильно – опасно для жизни. Поэтому он попытался исправить, что можно. – Я это не к тому, что ты можешь подумать, а просто подумал, что ты, наверное, был на сквере и мог случайно что-нибудь видеть.
– А-а… вот ты из каких, – казалось, с облегчением ощерился парень.
– Нет, – сказал Алекс, не отводя взгляда от белесых обморочных глаз паренька, – я не оттуда. Я сам по себе.
– Врешь и не мокнешь, – убежденно отпарировал паренек. Затем, как бы подумав, добавил: – Но можешь и промокнуть. Я на тебя не в обиде, я за тобой и вправду от сквера шел, но есть и к тебе некоторые вопросы.
– О Гарике?
– Не-а.
Паренек присел на корточки, находясь прямо перед Алексом, и занял при этом столь устойчивое положение, что мог сохранять его, похоже, часами, если не сутками.
Алекс знал, где, в каких благословенных краях приобретается такая устойчивость в позиции «на корточках». Но, расставшись с майором, он уже полностью перешел на собственный стиль расследования. А этот стиль диктовал ему не уклоняться в сторону и не бить первым, даже если нож будет уже щекотать горло.
Только плывя по течению, можно было рассчитывать достичь водопада, чей рев раздавался пока на плохо определяемом направлении. И чьи дурманящие, гибельные пары поднимались из темных провалов финансовой цивилизации, вырывались из-под цокольных и подземных этажей банков, сокровищехранилищ, казначейств и монетных дворов. И только там, на дне этого водопада, он сможет прикоснуться к тайне гибели Мартина Марло, которая, теперь он в этом не сомневался, пересекала лесные тропы – по-немецки «хольц веге» – его собственной судьбы.
Паренек раскачивался на подошвах ног, как кобра, заслышавшая дудку факира, и не отводил обморочно сверкающих глаз от лица Алекса.
– А может, выпьем? – сказал, наконец, он, щерясь на Алекса корешками выбитых зубов.
– Ты что-то хотел спросить. Спрашивай. Раз уж ты шел за мной.
– А потом выпьем?
– А потом обязательно выпьем.
– Смотри, корешок, ты слово дал. Ну тогда слушай. Есть такая легенда о поезде с долларами. Слышал?
– Зеленый вагон? Зеленая карета?
– Не темни, темнила. Я же тебе сказал – о поезде с долларами.
– Легенда – это что? Это шпионы наизусть про себя заучивают?
– Легенда, корешок, это, когда ты здесь сидишь, как гандон недоштопанный, а сам можешь прямо из зарослей в машину прыгать. Как Бобби Морроу какой, не при лохах будь сказано.
– Я знаю одного Бобби, – аккуратно начал отвечать Алекс, который не верил не только в пустые совпадения, но даже и в пустоту случайного трепа, – но это не Морроу, а О’Брайен. И я знал одного, правда не Морроу, а Марло. Но он был не Бобби, а Мартин. Почему ты соединил именно это имя и эту фамилию?
– Ничего я не соединял. Бобби Морроу, полицейский из Штатов, выиграл спринт на олимпиаде в Мельбурне в пятьдесят шестом году. Спринт, бег на сто метров. Понимаешь? Это был герой моего детства. Вот поэтому я его сегодня и вспомнил. Когда увидел, что ты, как кенгуру под скипидаром, прыгаешь из сквера на Садовую. Я вспомнил, понимаешь? И больше ничего я не сделал.
– Ты сделал. Ты соединил имя одного и фамилию другого человека. А значит, ты соединил и самих этих людей. Но зачем? В каком смысле? Ведь один из них мертв, а другой как будто еще нет.
– Значит, ничего не знаешь о поезде с баксами?
– Почему же ничего? Кое-что слышал.
– Значит, придется тебя допросить. Ведь так, корешок?
– Я же тебе сказал – спрашивай.
– Нет, так не пойдет. Мы о чем с тобой договорились? О том, что мы с тобой выпьем. А за слова ответишь. Как же без этого?
Алекс выразительно кивнул головой на темный и глухозакрытый вход в ресторан, у себя за спиной. Но паренька, разумеется, это не смутило.
– Значит, так. Сейчас заходим и выпиваем. Потом я тебя допрошу. Потом еще выпьем. А потом уже можешь и меня… по понятиям разводить.
Паренек говорил это, уже поднявшись с корточек и теперь стоя перед Алексом во весь рост. И глаза его из белесых и закатывающихся за горизонт сознания, стали сверкающими и сверхсознательными.
Алекс понимал, что «А потом уже можешь и меня…» означало: если ты к тому времени останешься жив. Но плыть надо было только по течению. По заросшему, в глубоких расщелинах берегу к водопаду было не подобраться.
На грубый стук паренька в глубинах ресторанного холла уже зажегся тусклый, неверный свет. Какой-то желто-масляный, как элитное отечественное шампанское. Через минуту страшное, сплюснутое лицо нарисовалось за стеклянными створками центральных дверей, «Вот оно, – подумал Алекс, – добро пожаловать к батюшке Круглому. Ну что ж?»
5
А батюшка Круглый, несмотря на преклонные года, не спал в эту ночь совсем. То есть, совсем как молодой, чур нас от шуток. Только что вернувшись с одной деловой поездки, он лишь пяток минут передохнул в своем любимом бабушкином кресле, которое стояло у открытого балкона.
Курить он бросил давно, еще когда был в последней великой ходке на берегах Восточных морей.
Сто граммов белой, и вот он уже и готов к дальнейшим разумным поступкам. А так не к тому, чтобы склонять к таким разумным поступкам других, которые иногда склонны впадать в неразумие.
Но разумен ли сейчас он сам? В этом Круглый уверен не был. Одно вытекает из другого, и вчерашние понты встают сегодня ребром острым. Вчера позарился вложить лишние бабки в ненужный ему, незнакомый и опасный бизнес: экспорт металлов. А сегодня нужно думать об этих бабках, которые хоть и увеличились, как снежный ком, скатившийся под гору, но оказались теперь там, в этих педерастических европейских банках, совершенно беззащитными.
Вот и принимай эмиссаров от мировой гэбухи-цээрухи, на старости лет принимай участие в дряни, которая даже и в перспективе, то есть при удаче, не сулит ничего, кроме смрада и унижения. Да и какая там может быть удача? Завтра же, нет, уже сегодня, как только солнышко росу выест, так все и посыпется.
У них, де, все схвачено. Это с помощью кого же? С помощью его, вот, Круглого, да еще одного генералишки? Если бы это было так легко, то было бы сделано другими и раньше.
«В Кремле кормят хорошо, но недолго». Да, это была любимая присказка старого пахана, на которой он воспитывал свое окружение, но которую сам не сумел соблюсти. Оскоромился. Потянулся за халявой. А теперь за халяву пришло время платить. Да не деньгами и не простой услугой. А подключением всего своего московского потенциала к делу, которое и по задумке-то выглядело безумным. А при крахе, который представлялся Круглому более, чем вероятным, под ударом оказывалась и вся его столичная «Империя страсти». Так в шутку называли общее дело его заместители, после просмотра одного японского фильма. Странного, как все японское.
Нет, и все-таки так просто он под этого эмиссара не пошел бы. Может быть, даже пошел бы на риск, чтобы ему обрубили одну его финансовую лапу.
То есть, так ему неприятен и отвратителен показался этот заокеанский деляра, и он сам, и дело, которое он предлагал, что Круглый в глубине души подумывал о том, а не послать ли к бабушке или внучке безопасность европейских вкладов?
Вильнул в сторону и ответил за это свободным налом. Какие проблемы? Зато он сам доживет так, как он это понимает, в почете и уважении. И потомству оставит честное имя и налаженное, нужное людям дело.
Но вмешалось другое. Единственное, что могло заставить Круглого действовать не только по собственному разумению. В далекие восточные его годочки, когда по совокупности его заслуг перед зонами трех побережий Круглого облекли высшим воровским доверием, то он узнал много такого, от чего разинула бы рты братва, от Владика до Бреста.
Среди прочих чудес узнал он и тайны распределения золотых потоков. На поверхности, казалось бы, власти держали все. Но во глубине сибирских руд, между лагерями, госприисками и неорганизованными старателями прочный был вкопан водораздел. Золотораздел. На величину, если по диагонали с северо-востока на юго-запад, чуть ли не с континент.
Никто не мог изменить конфигурацию этого золотораздела, изогнуть направления его главных, рассекающих плоскостей. Уж на что был крут и решителен Ус, но и тот удовлетворился примерно двумя третями добычи, которые причитались по этой схеме Кремлю. Круглый и сам тогда стоял около одной из форсунок этого чудовищного по масштабам и сложности, невидимого обычным людям, будь они хоть академики-ядерщики или члены коллегии Госплана, аппарата по разделу сокровищ.
Аппарат функционировал примерно с начала тридцатых годов, а, учитывая его невидимость, на него за это время натыкались разные чудаки, вольные стрелки, мети их налево. Они натыкались на некоторые несообразности как в работе золотодобытчиков, так и в учете этой работы. Они не могли, конечно, проследить несообразности до их истоков и поэтому не могли и понять, что так это все специально и устроено. И что устройство сие – зело сложно и прочно и ограждено даже от случайных поломок и повреждений. Вот от вмешательства, скажем, таких умников, как они. И что приставлены к тому специальные люди. Вот такие, например, каким был в ту пору сам Круглый.
Итак, с чудаками и умниками дело обстояло известным образом. И их молодые потрепанные жизнью тела вытаивали по весне по оврагам и брошенным карьерам, сплавлялись к Северному Ледовитому, вмерзши по кромке огромных, с футбольное поле, льдин.
Что же делать? Они являлись неизбежными жертвами всемирного процесса, обезбоживания. Верующий человек, да хотя бы из того же Средневековья, встретив на своем пути что-то непонятное, допустим, включенную электророзетку, ни за что не стал бы совать в нее пальцы. Встретив на своем пути непонятное, можно сказать, чудо, он прежде всего задумался бы, а от кого сие знамение? Уж не от врага ли рода человеческого?
Так то верующий. А то – на, поди, цельный общесибирский или даже общеевразийский механизм распределения сокровищ матушки Земли, а олух, наткнувшийся даже не на след, а на след следа, рад стараться: «Во напутали, ребята, во напортачили. Ща я встроюсь, пристроюсь, через меня тоже кое-что потечет».
Через них и текло. Только было оно не рыжего, священного золотистого отлива, а красного и дымящегося. Бурого. Гематомного.
Так что с этими ребятами Круглый знал, что делать, и не в каких дополнительных командах или консультациях в этих случаях не нуждался. И эти ребята, как появлялись, так и исчезали из этого огромного мира под серо-жемчужным небом, оставляя после себя разве что легенды – рассказываемые чаще всего шепотом или уж просто в бреду! – о кладах, картах, которые надо расшифровать, о тунгусских метеоритах, рассыпающихся на золотые самородки, и тому подобном.
Но все время копилась напряженность и между самими структурами, поделившими между собой золотые потоки. И появлялись иногда персоналии, которые выставляли перед Круглым требования об изменении долей. Причем Круглый точно знал, что эти персоналии точно не самозванцы. То есть, что они действительно представляли те кланы, от имени которых они и выступали. Допустим, от Кремля. Или от тайных суфийских организаций, каждая из которых считала себя истинным агентом «Вечного Имама».
Роль Круглого сводилась в этих случаях к координации. Он сводил заинтересованные стороны за столом – или за ковром – переговоров.
Сам он присутствовал на них в роли третьей силы, эксперта и технического арбитра. Наблюдал и фиксировал, настаивая лишь на одном: перед тем, как эти люди снова разъедутся по своим штаб-квартирам, которые разделяли частенько тысячи километров и несколько государственных границ, должна быть достигнута новая договоренность. Или подтверждена старая. И должны быть даны гарантии, что на участке, который прикрывает он, Круглый, сила не пойдет на силу.
Но имелась во всем этом деле одна, тонкость. Одна инструкция, которая была передана ему всего один раз. И передал ее всего один человек. Тот самый, который председательствовал на сходке, на которой Круглого и ввели во внутренний круг. Когда сходняк закончился и его участники разошлись, Учитель – такая была кликуха у председательствующего – задержал Круглого и сказал:
– Когда ожидают передела, может появиться джокер. Передел случается редко. На своем веку, может, и не застанешь. Но если случится, знать должен.
И Учитель сообщил ему все, что необходимо для опознания джокера. Затем, убедившись, что Круглый все усвоил и запомнил, он закончил сообщение так:
– Ты взошел теперь на очень высокий уровень. Не ниже моего. А для чего мы сюда приходим, на этот уровень? Вот ты, например, тебе что, денег не хватает?
– Это есть, – осторожно усмехнулся Круглый.
– Не сомневаюсь. Значит, теперь для тебя главное – не ходить под кем-то. Бить клинья от себя. Это и есть свобода, которой остальным, не таким, как мы, не видать. Будь они по эту или по ту сторону зоны.
Все это Круглый знал и без Учителя. Но так же хорошо он знал и то, что Учитель рисованных хрустов не мечет. И поэтому продолжал слушать с прежним напряжением и собранностью.
– Это тебе на всю жизнь, – продолжал Учитель. – Но случаются точки слома, в которых ты не сможешь действовать от себя. Что не сделаешь, все будет только гнилое. Тогда узнаешь джокера и сделаешь по его.
Много лет прожил после того разговора на земле Круглый, и никаких точек слома ему так и не встретилось. Был острый момент, сразу после того, как Леню из Кремля под стену уложили. Когда при Андропове «Боинг» американский шарахнули.
Пригодились тогда инструкции Учителя. Но как пригодились? Можно сказать, отрицательным образом. Только, чтобы убедиться, что бобик сдох и фокус не удался.
Во всем остальном, за исключением ситуации с появлением джокера, Круглому тогда, на той сходке на Дальнем Востоке, была заповедана свобода действий. И сказано было: «Это тебе на всю жизнь». Вот поэтому он так теперь и ерзал, так и чувствовал себя неуютно, чтобы не сказать, в дураках, когда пошел под ярмо к заокеанскому эмиссару. Конечно, сразу же, в первом же разговоре, Круглый попытался поставить американца на его место. Он поначалу так тому и заявил, что он, Круглый, «имеет право» самому решать, входить ему или не входить в те или иные крупные дела. А вот другие «не имеют права» пугать его и склонять к чему-то против его воли. Но американец знал, оказывается, о статусе, а значит, и о правах Круглого. Более того, он перечислил ему чуть ли не половину тех, кто присутствовал на сходняке, на котором Круглого ввели во внутренний круг. Знал он и о последнем инструктаже Учителя. Хотя, как показалось Круглому, сами инструкции он знал неточно.
Разумеется, просто так завернуть такого осведомленного человека, не считая даже плохо завуалированной угрозы зарубежным вкладам, Круглый не мог. Он выслушал того и, в конце концов, вынужден был дать обещание, что окажет тому всю необходимую помощь.
За одним исключением. Если не появится джокер. А если появится, то тут уж, как Круглый ни рад помочь американцу, но как джокер скажет, так он и сделает. И никто в этом случае, никто в целом мире Круглого не осудит. А вот американца, если тот и после этого будет продолжать жать масло, то есть мутить тут, у них в Москве, воду, вот его-то тогда все «уважаемое общество» и запрезирает. И станет от этого американцу очень скучно.
На это американец ничего возразить не смог. А что тут можно было возразить? Он хоть и прибыл издалека, а человек с понятиями. Да, кроме того, и не верил, вероятно, в появление джокера.
Не очень-то надеялся на это и сам Круглый. Но выбирать не приходилось. Оговорка с джокером была его последней попыткой отвязаться от американца и от участия в его гнилой, сумасшедшей афере. Если бы джокера не существовало, Круглый заплатил бы любые деньги, чтобы кто-то его придумал.
Но он знал, что Учитель зря не скажет. Что джокер существует реально, и если пока не появился, это всего-навсего означает, что пока не достигнута «точка слома».
Он, разумеется, сразу же дал американцу все необходимые тому технические связи и наводки, но это все были цветы невинности. А вот с этой ночи, если он по-прежнему будет играть в команде американца, назад ему дороги уже не будет.
Круглый связался по телефону с помощником и продиктовал тому срочное поручение:
– Найдешь врача, не знаю, кожника там, терапевта, в общем, специалиста по наружному осмотру.
– Травматолог?
– Я же сказал, не знаю. Специалист по татуировкам, по такой специальности лекарей не бывает?
– Почему же? Вот как раз тут у нас завелся один. Кандидат наук по антропологии. Подкармливаем пока, вроде как небольшую стипуху ему подкидываем. Для особых случаев в резерве держим.
– Специалист?
– А то, шеф. По татуировкам сечет, как я по комсомолкам.
– Годится. И пусть возьмут с собой фотографа. Мне нужно: мнение спеца и фотки, чтобы сам мог поглядеть.
– Куда и когда им прибыть?
– Значит, так, записывай. Морг около Донского монастыря. Бокс…
Позвонила дочь, Катька, безобманная его отрада. Услада сердца стариковского.
Ее родила ему одна зечка, там, на зоне. Далеко-далеко на востоке, там, где холодный рассвет лишь освещает, но не согревает холодные волны.
Мать невдолге после родов покончила с собой, так, видимо, и не сумев ничем согреться на сверкающем беспощадном северо-востоке планеты.
А Катьку он вывез в Европу, как свое неразменное сокровище и как последнюю память о громадной жизни, исчезнувшей там, над Северным Ледовитым.
– Пап, я тут познакомилась с Озерковым, – начала Катрин как бы ни о чем, а на самом деле просто для разведки, в каком настроении ее папуля. Папулечка. Фатер-патер, отец и громовержец в одном лице.
– Ты, конечно, знаешь, есть такой Озерков – самый главный по ракетам. Ну, я, конечно, не с самим этим познакомилась, сам понимаешь, на фиг мне такой и сдался, а с его сыном.
– Говори короче, – прервал ее отец, который в другое время был не против потрепаться с дочерью, но сейчас хотел сосредоточиться.
– Он меня уже к своим родителям на дачу приглашает.
– Он что же, не женат?
– Ну я же тебе сказала, па, я тебе потом о нем расскажу. Ну какой ты, вот. Тут беспредельщина, а ты… тьфу, хотела сказать безобразие. А так же, уважаемый шеф, полная утрата контроля с вашей стороны.
– У меня никакой утраты контроля не бывает. Бывает, что глупенькие девочки, которым, кстати говоря, давно пора лежать в своих, я подчеркиваю, в своих постельках, а не шастать по ночным джунглям…
– Он, конечно, женатик, не буду тебя обманывать, па. Но ведь он уже пригласил меня на дачу, что и симптоматично. Да я за него и не собираюсь.
– Я смотрю, ты здорово возбуждена и совсем меня не слушаешь.
– Ты сам мне говорил, чтобы я, по возможности, бывала в приличном обществе. А уж куда приличней? В такой поселок меня везут. Даже и тебе, думаю, было бы не зазорно дачку там поиметь.
Круглый рукой, свободной от телефона, достал из бокового кармана пиджака платок и вытер пот с лица.
Почему она под утро едет с женатым сыном ракетчика пусть даже и в очень хороший дачный поселок, и как это связано с какой-то беспредельщиной. Этого он вот так сразу уразуметь не умел. Не врубался.
– Теперь слушай, отец. Твои здесь творят, что хотят. Прикажи, и я сама наведу порядок. Меня тут поддержат.
– Что творят?
– То баксы не принимают, то их отбирают. То их крутят на какой-то машинке и какие-то узоры на них ищут. У тебя что тут, приличное заведение или притон для наперсточников?
Круглый взглянул на часы. Все ясно. План уже вступил в действие. Сегодня утром он распространится на весь город. А вчера вечером или, точнее говоря, сегодня ночью перед закрытием ресторана начали, наверное, прихватывать отдельных клиентов. Для разминки персонала. Разминки капитанов и адмиралов. А также всего боцманского состава.
Ох, как тоскливо отозвалось сердце Круглого на это известие. Планировать и обещать – это одно. Но вот оно и началось, и еще до уточнений дочери ясно, что началось как-то погано и как-то далеко не так гладко, как об этом верещал гнилой штатник. Да куда ж от него денешься теперь?
Скрипнул Круглый зубами и выслушал молча, что и с чего там у них началось. А Катрин, девочка, вкратце ему кое-какие сценки набросала. Из эпизодов, случившихся с санитаром Петей и медсестрой Жанной, и с ней самой, в обществе Руслана, Харта и Платона. Который почему-то называл себя Арчибальдом. Наверное, от восторга перед силой настоящих чувств.
Рассказала, нарочито смазывая картину в тех ее точках, в которых действовала она сама.
– Тут с тобой один мэн хочет поговорить.
– Ага. Этак поболтать с Круглым под утро, с хорошего бодуна.
– Нет. Тут другое дело. Он знает, где этот парень с миллионом. Рашпиль.
– Да? Он у нас в руках?
– Похоже, что так.
– Что значит – похоже? Он задержан? Его допросили?
– И задержан, и допросили. Но мне кажется, что дело не в этом.
– А в чем?
– У меня такое впечатление, папа, что он был не против, чтобы его задержали и допросили. А если бы захотел, то всех бы одной табуреткой успокоил.
– Спецназовец?
– Не знаю. Задумчивый какой-то. Как будто бы что-то все время вычисляет. Не было бы хуже, па. Так что, может быть, ты с ним поговоришь?
– Ладно. Все. Кончай трепаться. Я сейчас говорить с ним не готов. И спешить мне некуда. Так что пусть он потихоньку дальше там раскалывается, а минут через сорок пять можете его со мной соединить. За тобой машину с ребятами зарядить, когда за город рванешь?
– Ну ладно, пап. Ты чего? Разберусь по обстановке.
Алекс тоже, пожалуй, не был готов начинать разговор прямо сейчас и немедленно. Как только он, вслед за пареньком, протиснулся в приоткрытую парадно застекленную дверь, так на нем, разумеется, и повисли. Но он, как и доложила потом своему отцу Катрин, сопротивлялся и вправду как-то механически. Без души. Повел плечами, чтобы сбросить ребят, но они, конечно, только крепче повисли.
Ну, он и совсем далее почти не брыкался. И когда поволокли наискось через холл и зал к эстраде, на которой вороном Эдгара По возвышался концертный рояль с незакрытой крышкой. И в дальнейшем, когда его культурно, с помощью стальных браслетов и цепей подсоединили к одной из ножек рояля.
Разумеется, он с самого начала рассчитывал, что вторжение в этот кабак в столь неурочный час, может как-то помочь ему выйти на самого Круглого. Но столь полным, глубоко о чем-то задумавшимся непротивленцем он оказался не только ради возможности поговорить с батькой Круглым.
Алекс понимал, что времени у него, если говорить начистоту, никакого не осталось. И что единственный шанс догнать события, здесь и теперь, то есть буквально вот тут, где он сейчас находится, вспомнить и понять что-то важное, определяющее, как о себе, так и о своих друзьях.
Поэтому-то он и не шибко брыкался, когда его тащили через пустой ресторан, и потом, когда затеяли эту хренотень с приковыванием к ножке рояля. Тяжких телесных повреждений ему наносить пока, вроде, не собирались. А с остальным можно было пока примириться, не отвлекаясь и не тратя времени на него.
Важнее было понять, кто по-настоящему поддержал тогда Валентину, много лет назад, когда она только что появилась в Москве. Марло, если бы даже и очень захотел, один сделать бы ничего не смог.
Квартира и карт-бланш в журналистской карьере. А кто же у нее еще мог быть? Допустим, какой-нибудь богатый и влиятельный старичок, который требовал внимания один-два раза в месяц. А Марло, как мужчина во цвете лет, играл бы тогда роль сильного любовника, веселого ухажера, не претендующего ни на что серьезное.
Как вот не претендует сейчас ни на что Алекс, пока ребята обращаются с ним, как с куклой. Или с кулем.
Нет, такой полюбовный треугольник существовать в природе не мог. Такой вариант полностью исключался, как характером отношений между Марло и Валентиной, так и характерами каждого из них в отдельности. Не такие это люди. И не та история.
Тогда какая – не?
Это история о Марло и Валентине. И о том, что у нее был еще кто-то. Да, эти кто-то, это они сделали ее звездой репортажей из «горячих точек». Звездой, связной, а впоследствии, по-видимому, и, так сказать, странствующим резидентом.
И все эти годы она была рядом с Марло. Но замуж за него так и не пошла. Значит… и не собиралась.
И группой людей, которые стояли за жизнью и карьерой Валентины, могла быть только его родня.
И несколько лет назад Валентина могла представлять для этой группы только личный интерес. Интерес как личность? Так сказать, с прицелом на вырост? Интерес интимный? Чисто человеческий? И тот, и другой вместе взятые? А почему, кстати, на каком основании он их разделяет? Так принято при анализе? Анализ – разделение.
Нет, анализ односторонен. И как метод познания он может дать результаты, только если владеешь последовательным набором фактов. И узловыми, и связующими, и якобы фоновыми, бросовыми, сопутствующими. Но Алекс не знал Валентину в те годы. И поэтому нет, он букв не разбирает.
Слова и надпись существуют, букв не разобрать.
Почему Валентина вдруг так резко, при живом «почти муже», разорвала с ним и пошла на открытую, чуть ли не афишируемую связь с Алексом? Перед кем и для кого шла игра? Только ли для них троих – для Мартина, Валентины и Алекса?
Что реально изменилось, когда она «ушла» от Марло к Алексу? Только одно. Все эти годы она была «рядом» с Мартином, а теперь, на последних неделях, оказалась рядом с другим столь же крепким специалистом по квасу и сопутствующим напиткам.
К Алексу подошел паренек и опять, поигрывая своей финкой, стал допрашивать, как будто шаман затянул свое заунывное заклинание:
– Значит, не знаешь легенду о зеленом поезде?
– Кое-что знаю, – автоматически отбрехивался Алекс, – дай связь с Круглым, все скажу. Не дашь, босс тебе и всем остальным, кто здесь участвует, моторчики вставит, куда надо, и полетите под небом Арктики.
– Почему Арктики? – спросил паренек, с интересом поглядывая на закованного то ли философа, то ли дурачка-супермена.
– Потому что только там вам будет легко и прохладно. А босс у вас не зверь, нет. Ты же не хочешь сказать, что он обязательно будет вас пытать и вообще доводить до слез, когда узнает, что вы за лапти?
– Чего пытать? Ты вон сам на себя-то погляди, в цепях весь… Вот ты сам и есть сейчас, как натуральный медведь. А то тоже, мастак макушечник, других пугать Арктикой начал. А ты сам сперва освободись, а тогда мы тебя послушаем.
– Грубого чуда требуешь? Священных книг не читал? Ладно, будет тебе грубое чудо. Соедини с Круглым, тут чудеса и увидишь.
Паренек попятился назад и куда-то исчез, растворился в лакированно-посверкивающей черноте огромного зала.
С какой же целью Валентина была все эти годы рядом с Мартином? Если предположить, что его родня пыталась через нее как-то проконтролировать его контакты с американцами, в частности, с Чарльзом Хартом, то… ничего из этого предположения не выходило.
Контакты начались задолго до появления Валентины в Москве. Контакты осуществлялись успешно и удовлетворяли обе стороны. Чего же там еще контролировать?
Итак, неоспоримые факты были таковы. Во-первых, Валентина, помимо Марло, имела крепкие связи с его родней. Первоначально, вероятно, он сам представил ее им просто как свою новую знакомую, красавицу, начинающую журналистку, ну и тому подобное. Допустим, в один из летних вечеров после душевного ресторанного застолья он пригласил «новенькую» за город, на дачу к каким-нибудь старорежимным, но от этого-то как раз и шикарным дядюшкам-тетушкам.
Привез и представил. А родня, по крайней мере кто-то один из присутствовавших, вдруг заинтересовалась, вдруг положила глаз, вообще прозрела в «новенькой» некие способности и перспективы, о которых Марло, допустим, и думать не думал.
Хорошо. Пока все в схеме. И этот факт, этот сценарий начала, можно было считать вполне реальным.
Но что же дальше? Если Валентина не была влюблена в Мартина и не собиралась выходить за него замуж, если относилась к нему просто как к другу и любовнику, – а все это, несомненно, именно так и есть, – то о чем это говорит? Конечно же, только об одном: да, она и дружила, и спала с Мартином Марло. Но это нисколько не отменяло того, что она и присматривала за ним.
По чьему заданию? Ясно, по чьему. Той самой Мартиновской родни, к которой он привез однажды на дачу свою новую пассию, которая положила на Валентину глаз и в дальнейшем так успешно «руководила ею по жизни».
Все это факты. Точнее говоря, все это логическая цепочка фактов, которые просто не могут быть другими, если принимать реальность самой цепочки.
Но дальше идут вопросы. Если не за каналом связи с Хартом, то тогда за чем же еще должна была приглядывать Валентина, находясь все эти годы в непосредственной близости от Марло?
Прямого ответа нет! Нет прямого ответа. А разговор с Круглым, если он сейчас состоится, будет одним из решающих. Круглый – не паренек с финкой. Трудно будет с ним говорить, пока не додумал основного. Пока картинки, шум и ярость пролетевшей мимо жизни не сложились в единственную мозаику сказочного витража. Прожить жизнь – это одно. Да, участвовать в событиях, встречать людей, получать удовольствие и принимать удары. Это все одно. А разобрать, в чем же был смысл столь грандиозной заварухи, – это уже совсем другое.
Вернулся, вернее, вновь нарисовался из тьмы паренек. Он сказал, что дежурный по ресторану уже знает про события на Смоляге, а он, паренек, уточнил кое-какие детали относительно роли в них самого Алекса. Дежурный призадумался, поэтому прямо сейчас бить его не будут.
– Это неплохо, – признал Алекс, – но как насчет разговора с Круглым?
– Не пыли на дождик, – в свойственном ему загадочно-притчевом стиле ответил паренек. – Жив останешься, Круглый не забудет. Сечешь, маль-маля?
– Допустим.
– Тогда кемарь, цепь тебе не помеха, – затем криво ухмыльнулся и добавил, – цепь тебе не помеха. Меня тоже на нее сажали, знаю, маневра дает, лучше не надо.
– Чему не помеха?
– Бабу тут одну захватили. Вроде дурдомовская. Близко к тебе подведем, а там уж смотри, дело казацкое. Сколь ухватишь, то и твое. А там есть за что ухватить, есть. Я около нее уж терся. Только ты гляди, она вроде как полубезумная насчет того самого. А в цепях все ж ты, а не она. Как бы она тебя не ссильничала или еще как.
– Из какого она дурдома?
– Говорит, что из Кащенко. А там, нам-то что?
– Давай, приведи ее. А потом покараулишь, чтобы нам с ней не помешали. А сколько за мной насчитаешь, столько и вернется к тебе.
Кто же там был? Кто конкретно скрывался под расплывчатым наименованием Мартиновской родни? Ведь сколько раз они с Мартином выходили из защищенной бухточки солидного выпивона в бурное море безразмерного пьянства. И Мартин в этих случаях почти неизменно – Алекс сейчас отчетливо припоминал это – сворачивал разговор на свою родню. Надувал щеки, стучал пивной кружкой о стол, грозил волосатым кулачищем неведомым узурпаторам.
Когда его вопли о неминуемом позорном конце узурпаторов становились чересчур адресными, собутыльники одергивали его, указывая на людей в шинелях, стоящих с пивом за соседними столиками. Это-то, разумеется, только прибавляло куражу, и Мартин буквально захлебывался в словоизвержении о каких-то двух двоюродных племянниках, которые оба оказывались Великими князьями, о великом Нойгарде, который родился, кажется, еще до отмены крепостного права и, следовательно, практически разгадал секрет бессмертия. Частенько вопил он и призывал всю пивную в свидетели своей исключительной правдивости и о могуществе старой линии Рейнгольдов, каждый из мужских представителей которой на протяжении почти двух столетий неизменно дослуживался до генеральского звания. Так что смело можно было о них говорить как о роде генералов Рейнгольдов.
Правда сейчас, так можно было понять из воплей и выкриков Марло, вся власть и влияние на этой линии сосредоточились у женщин.
«Тоже, конечно, неплохо, – рычал, бывало, Марло, разрывая прокуренными, но еще крепкими зубами, спинку леща, – Катька-немка уж куда лучше для государства Российского постаралась. А все почему? Военачальник был напрямую заинтересован в результате. Она ему, понимаешь, аванс в государевой опочивальне до утра выдаст, а там и лети, на юг али на юго-запад. А под расчет – цельные провинции урывали. Вот так, студент», – так неожиданно заканчивал иногда Марло, даже если поблизости не наблюдалось никого, хоть мало-мальски похожего на студента.
Да, неоценимая иногда вещь – возможность сосредоточиться.
Все дела у Рейнгольдов вершат теперь бабы. Так жаловался Марло, когда набирался выше ватерлинии, жаловался никому и в никуда. И именно поэтому подобные безадресные ламентации следовало считать вполне искренними. И суть их состояла в том, что тогда, на даче у Рейнгольдов, у него фактически увели бабу. Да, увели.
Несмотря на то, что она все последующие годы оставалась его любовницей и верной, заботливой подругой, несмотря даже на то, что время от времени возникали разговоры о том, что они должны вот-вот пожениться.
Валентина обрела тогда независимую от Марло опору в жизни и никогда уже не вернулась к положению опекаемой им молодой трепещущей от собственной робости оленихи. Видимо, она с первого взгляда настолько понравилась женщинам Рейнгольдов, что они каким-то образом почувствовали в ней полностью родственную душу, приняли в свой круг, в самый ближний и узкий круг. В тот, где между людьми, мужчины они или женщины, уже нет дистанции.
Между ней и Марло дистанция всегда оставалась, а по отношению к ее новым подругам и покровительницам таковая отсутствовала. Так что, если Валентина и находилась все эти годы в непосредственном контакте с Мартином не только из-за чувства искренней привязанности к нему, но и будучи неким соглядатаем со стороны его родни, то тут еще не было прямого предательства. Ведь если она какую-то информацию от Марло и «переносила», то кому? Тем, с кем ее связывали еще более тонкие и одновременно прочные нити, чем с самим Марло. Тем, кто, как искренно она была убеждена, никогда ничего не предпримут в ущерб Мартину.
Но что же она «переносила», если вся эта конструкция имела место быть? Почему родню Марло могли так уж неотступно интересовать зигзаги его непутевой жизни? Что именно в этих зигзагах?
Как ни крути, у Алекса набирался уже весьма солидный стаж совместного – с Марло – «распития спиртных напитков в общественных местах». А такой стаж дает и знания. Куда там! В таких дальних командировках в спиритуальные, то есть в спиртовые, миры, члены одного экипажа – постоянные посетители одной и той же пивной – узнают друг о друге, считай, всю подноготную. Но ничего особенного не узнал за этот славный период Алекс, хотя Марло, казалось, никогда и ничего не скрывал. Можно было предположить, что Мартин был превосходным актером и никогда, независимо от стадии опьянения, не терял самоконтроля? Конечно, можно. Но не нужно. Потому что, если имеется более простое объяснение, то оно всегда и более надежно.
А более простое объяснение состояло в том, что Алекс ничего особенного от Мартина не узнал потому, что нечего было и узнавать. Ничего и не было. Что же тогда хотели узнать или что боялись пропустить Рейнгольды и, вероятно, стоящие за ними другие «фамилии»?
Да, именно так. Если узнавать столько лет было, по сути дела, нечего, то оставалось другое. Именно – боялись пропустить. Появления чего-то, что отсутствовало все эти годы и что могло появиться в любой момент. Но только через Марло! Рядом с Марло. А не через них. Не через остальных.
Что?
Чуял Алекс, чье пиво выпил.
Или кто?
Конечно. И вы знаете этого человека. Человека, которым так неожиданно увлеклась Валентина, хотя и до этого знала его несколько лет. Так увлеклась, что готова была стремительно, на лету, перелететь от одного любимого мужчины непосредственно в руки другого, не менее, как оказалось, любимого и замечательного.
От Марло – к Алексу.
Воистину, как выкрикнул недавно на сквере О’Брайен, Трансфер камплитид. Передача завершена.
Майор только выкрикнул, и неизвестно при этом, что имел в виду. А Валентина «завершила передачу» вполне реально. Передачу самой себя.
Если исключить версию, что она знала о готовящемся убийстве Марло, а ее как раз и следовало исключить напрочь, как изначально невозможную, то оставалось еще вот что.
Любовь любовью, особенно если она не проходит по разряду единственной и неповторимой, и симпатия симпатией. Все это могло быть и, без сомнения, и было в его, нет, в его и Мартина отношениях с Валентиной. Но на каком-то этапе ей – почему-то! – захотелось находиться ближе уже не к Мартину, а к нему, Алексу.
Трансфер был действительно завершен. А это значит… да что же это все значит?
Вот что. (А для иного воистину нет места на узкой логической тропе. Нет лишних узлов и отпочкований на дереве жизненных вариантов). Они, кто бы они ни были персонально, коротко говоря те, кто стояли за изысканной Викторией Рейнгольд, знали Мартина Марло с детства. Знали не только его реальные возможности, но и потаенные мечты. Этакие дримы энд медитативные глюки.
Разумеется, еще с самого нежного возраста этот мальчик умел слушать взрослых. Нет, даже не подслушивать. Просто ловить обрывки разговоров и далее комбинировать их, прилаживать друг к другу и так и эдак. Ну, в конце концов он и доприкладывался. Докомбинировался. Мартин уловил, что в прошлом с предками всех этих людей случилась какая-то грандиозная катастрофа. Причем произошло это задолго до девятьсот семнадцатого, лет за триста с хвостиком до этого.
В семнадцатом тоже произошла катастрофа, но, как выходило из разговоров взрослых, это была уже не столь грандиозная катастрофа, как та, древняя. Более того, о катастрофе семнадцатого маститые старцы часто отзывались как о необходимом этапе. Перехода.
К чему?
К новой династии? Или к восстановлению старой?
А что значит старая? Говорили еще и о древней.
В этих различениях Мартин путался. Но один мотив повторялся в разговорах неизменно. И его-то уж юный Мартин Марло осмыслил досконально. Можно сказать, со всех сторон.
Этот мотив состоял в твердом убеждении всех старцев, что катастроф можно было избежать, и что происходили они всегда по одной и той же причине.
Алекс вспомнил, как буквально за несколько дней до последнего исчезновения Марло и он, прихватив три бутылки портвейна, зашли к Гербу, который, сдав свою квартиру в аренду американцу, стал новым соседом Алекса по коммуналке.
Пропустив стаканчиков с десяток неслабого портвешка, он, как это случалось с ним нередко, начал многословно и запутанно жаловаться на бесконечные исторические неудачи «царственных родов». Но в тот день и маститый профи-детективист, литератор Герб, куда-то засунул свою обычную воздержанность и принял на грудь дозу загулявшего слона.
Вероятно, именно поэтому Герб не только «усек», о чем, о каких таких несбывшихся мировых проектах всхлипывает могучий Марло, но и сумел перевести эти всхлипы в более-менее понятную систему обозначений.
Согласно интерпретации Герба, то, о чем так сожалел упившийся Марло, состояло вот в чем. Неудачи царственных родов проистекают из одного корня: из их безблагодатности. Пока с ними была благодать, пока на них был Дух Святой, царство их и власть их стояли крепко. Когда Дух отлетал, династия была обречена.
– Это так было всегда, – с профессорской основательностью поучал осоловевших собутыльников Герб. – Вот, например, еще у древних египтян можно видеть четкое триединство: Бог – фараон – Ка.
– Ты говоришь о Ка-мутеф, особой форме проявления божественного Ка? – уточнил тогда Алекс, блеснув остатками знаний, которые он получил когда-то в Училище.
– Да, – ответил Герб, – Бог выступает «отцом», царь «сыном», а Ка – творческой силой, мощью посредника, связующим звеном между тем и другим.
Пока династия пронизана энергиями Ка-мутеф, она, как бы на крыльях этой энергии, всегда может воспарить, так сказать, к престолу Всевышнего, обратиться непосредственно к Божеству. И именно такие, не растерявшие своей благодатности династии и правили столетиями обширными Империями или Союзами государств. А технически, стало быть, это означало одно: связь со своим персональным Ка-мутеф.
Да, именно персональным, потому что Ка царей имели свои индивидуальные имена.
– При Тутмосе третьем, например, – по-прежнему спокойно говорил Герб, – живое Ка Владыки Двух Стран звалось «победоносным быком, сияющим в Фивах».
– Значит, и Гогенштауфены, и Гогенцоллерны, – на удивление связно для своего состояния, как бы задумчиво протянул Мартин.
– Да, конечно. И Рюриковичи, и Романовы во времена своего высшего могущества имели самую тесную связь со своим персональным Ка. И пока эта связь не прерывалась, они могли творчески реагировать на приход новых времен и в течение длительного времени сохранять или даже упрочивать свои позиции.
– Значит, как ты сказал? Живое Ка Владыки Двух Стран звалось… Клево, Герб. Клево накручено. Скажи, а как звалось это самое живое Ка Российской Империи?
– Я не знаю, – ответил Герб и разлил остатки портвейна по трем стаканам.
– А есть, кто знает?
– Я думаю, есть.
– Что же он не призовет это живое Ка и тем самым не восстановит престол?
– Возможно, что те, кто знает, не могут. А те, кто могут, не знают.
– Как это возможно, Герб? – вмешался тут уже Алекс. – Кто может, тот может только потому, что знает. Знание – сила. А иной силы не бывает. Не так ли? – Сам Алекс знал выход из этого лабиринта, но хотел услышать мнение Герба. Потому что у Герба, как, впрочем, и у Марло, могло быть только Мнение. Знать, о чем по-настоящему идет речь, из них трех мог только Алекс.
Но Герб был очень умен, умен и проницателен. И этим он несколько сокращал дистанцию между собой и теми, кто был по праву рождения или инициации Посвященным в подводные, океанические глубины мировой истории.
– Знать можно на разных уровнях, – ответил он Алексу, – даже на многих. Часто ведь человек знает что-то, но не знает, что он это знает. Не знает, не осознает самого этого факта.
– Не темни, – прохрипел Марло, вращая, как припадочный, налитыми кровью белками глаз, – говори, ты что-нибудь сам знаешь?
– Я только могу предположить. Во-первых, что, разумеется, такие люди есть. И во-вторых, что, может быть, даже и среди нас трех хотя бы один – из таких.
– Из тех, кто знает живое имя Ка? – еще более возбудился Марло.
– Да. Но кто именно из нас троих знающий, гадать бесполезно. Он, вероятно, и сам этого не осознает.
– Ну нет, я-то осознаю. Я знаю, что я знаю. И это то, что это не я. Значит, кто-то из вас двух: ты, Герб, или ты, Алекс. Вас, кстати, ни того, ни другого, никогда в жизни не избивали до беспамятства?
– Меня нет, – быстро ответил Герб.
– Про себя не могу ничего сказать, – уклончиво сказал Алекс. – Круглый сирота, с детства скитался, бродяжничал, убегал из детских домов. Ловили и водворяли. Может, что-то и было. Ты же понимаешь, при таком образе жизни чего только не случалось?
– Врешь, Алекс, – размазывая щеки по столу, вырубался на глазах Марло. – Это ты! Ты и есть! Скажи, Герб, я не прав?
– Смотря в каком смысле, – продолжал уклоняться Герб. Но Алекс заметил, что и он смотрит на него с каким-то странным, приценочным интересом.
– Вы не туда идете, – сказал тогда он им со всей аккуратностью, которую позволяло количество выпитого. – Вы едете не в ту степь. Ведь ты же сам сказал, Герб, что у каждого царского Дома, у каждой династии должен быть свой, персональный Ка. Со своим индивидуальным именем.
– Ну, и что получается? – мгновенно трезвея, как это умел он один, спросил Мартин.
– А вот я вас тогда и спрашиваю: что же получается? И прежде всего тебя, Герб. Раз уж ты все это фараоново хозяйство нам разобъяснил. Ты говоришь, что, возможно, кто-то из нас троих – Посвященный.
– Я только предполагаю.
– Оставь. Мы не в суде. Итак, кто-то посвященный. Но, дорогой мой, единственный и неповторимый, да святится твой лучший триллер среди бестселлеров мира, во что? Вот в чем вопрос. Во что мог бы предположительно быть посвящен один из нас?
– Как, во что? Он может знать имя. Вот именно, персональное имя Ка-мутефа, связь с которым была утрачена одной из рухнувших в начале двадцатого века династии.
– Вот именно, Герб, «одной из…». Ты хоть прислушайся сам, в какую паутину ты нас завлек. Вот перед тобой, например, благородный человек Мартин Марло. И он благородно-трагически стремится восстановить связь времен. Или хотя бы нащупать остатки порванных нитей. Ничего, кроме уважения, такой человек и его стремления вызвать не могут.
– Мы все уважаем Мартина, – с готовностью подтвердил «прибывающий в порт назначения» литератор Герб. – Марло мой друг, и ни о чем другом не может быть и речи.
– Теперь заметим себе, – продолжал Алекс, – что Мартин возглавляет в нашей пивной партию монархистов и никогда этого не скрывает. Даже когда находится в несвойственном ему абсолютно трезвом виде. Следует также отметить, что он неоднократно, не реагируя даже на появление милицейского патруля, запевал «Боже, царя храни» и «Бог, храни королеву», соответственно на русском и английском языках.
– Зачем ты нам говоришь то, что мы и так знаем? – вежливо спросил Герб. – То, что Марло не обращает внимание на патруль, это, кстати говоря, совершенно естественно. Он все-таки дворянин.
– Мартин монархист, но какой монархии? Неизвестно. Тогда при чем здесь имя персонального Ка-мутефа какой-либо конкретной династии?
– Вы оба зарапортовались, – вмешался практически трезвым голосом Марло, – и ты, Герб, и ты, Алекс. Вы ходите по кругу. А на этом маршруте к центру не приблизиться.
Мне не нужно индивидуальное имя персонального Ка-мутефа какой-либо конкретной династии. И я думаю, что если, например, в Румынию вернется король Михай, то это произойдет не только потому, что он – Гогенцоллерн.
– А почему же еще? – спросил Алекс.
– Потому что его возвращение, если, повторяюсь, таковое состоится, будет согласовано и поддержано… умными людьми. Назовем это так.
– Да где ж их взять, ластарь ты наш ненаглядный? – всплеснул ручками Герб.
– Ясно, – продолжал гнуть свою линию Марло, – что это не люди из спецслужб. Идея монархии выше идеи спецслужбы. Обе они, конечно, суть вещицы вполне эзотерические. Но все-таки в иерархии бытия структура царей расположена выше структуры спецслужб. Итак, эти искомые нами умные люди, – хотя все это условно, и ум может оказаться здесь вовсе даже и не на первом месте, – не «агенты, которые пришли с холода» или хрен его знает еще откуда. И так же очевидно, что они – не политики. Потому что те еще ничтожнее и, значит, еще бесполезнее для нас, чем секретчики. Тогда, кто же они? – и Марло строгим взглядом оглядел двух присмиревших собутыльников. – Частичный ответ я уже дал в предыдущих размышлениях. А именно: нам нужен выход на структуру, которая находится выше структуры царей. Или уж, в крайнем случае, не ниже. Только в этом случае возможно взаимодействие и реальная отдача от него.
– Что это может быть за структура? – спросил Герб. – Тайные религиозные ордена? Суфии? Кто или что?
– Внешне такая структура может принять любые формы, – небрежно ответил Марло. – От самых экзотических, как, например, руководство братством глухонемых нищих, до самых респектабельных, если даже не сказать рутинных. Ну, например, руководящее ядро преподавателей какого-нибудь известного учебного заведения. Скажем, для смеха, Московского государственного университета. МГУ, с вашего разрешения.
При оглашении этой дикой идеи о заговоре неких преподавателей некоего учебного заведения Марло почему-то с особой строгостью посмотрел на Алекса. Но тот, разумеется, и ухом не повел, то есть продолжал слушать алко-фантаста с прежним вниманием.
– Царства рушились, – продолжал Марло, – только когда цари утрачивали связь с теми, кто был им равен, а может, даже и выше их. И они восстанавливались, и династии снова всходили на трон, когда связь снова возникала. И союз двух сил упрочивался, оставаясь нерасторжимым в течение иногда тысячелетий.
– А если конкретней, Мартин? – произнес Герб, вставая со своего места.
И еще неизвестно, не отмахнулся бы от него Марло, как от мелкого насекомого, если бы Герб заострил вопрос на ровном месте. Но Герб был велик в этот момент. Потому что он открыл кухонный шкафчик, пошуровал в его недрах и достал оттуда пузатую склянку виски «Джонни Уокер», мир праху его. Это уже был удар по психике за пределами запрещенных. Демонстрация чуда, после которого можно уже смело разуваться и босиком гулять по облакам.
– Конкретней не могу, Герб. Конкретней ничего нет. И поэтому я конченный человек и алкоголик.
– Ну допустим, это ты не поэтому, а просто потому, что тебе так приятно…
– Но не подумайте, – как ни в чем не бывало продолжил Марло, наливая себе первую, на палец бегемота, порцию «Джонни Уокера», – что в моей голове ничего не осталось. Что в ней только мрак и туман.
– Что же у тебя еще, Мартин? – с непонятным упорством подзадоривал его Герб. – Чего ты ищешь? Быть может, это совсем рядом? И если бы ты поделился с нами, то мы, может быть, хоть чем-то смогли бы помочь.
– Ты, Герб, всю жизнь влюблен в Валентину. Ну, по крайней мере, всю ее московскую жизнь.
– Мартин!
– Да ладно тебе, мы все здесь пьяны, я правильно говорю, Алекс? Вон, кстати, посмотри на Алекса. Сколько пьет человек, а Валентина теперь вокруг него увивается.
– Я тебя прошу, Мартин. Я не пожалел последнего вискаря, но не для того…
– А для чего? Ли-те-ра-тор! Ты же литератор, от слова «литера» – «буква». И ты же, буквица, из Божьего сада, еще меня и не уважаешь.
– Давай вернемся к прежнему разговору. А кто кого уважает, это уж на самый кончик припасем.
– А мы прежнего и не покидали, голубь мира. Валентина почему-то решила, что я для нее устарел и неперспективен. А? Каково? Это я-то, Мартин Марло? Посмотри теперь на меня и скажи: могу ли я для кого-либо устареть?
– Нет, Мартин. Это невозможно. Ты, как древнегреческий бог, беспутный, но вечный.
– Ну так вот. А она вот на этого меня променяла, – и он мотнул головой в сторону Алекса.
– И что ты по этому поводу думаешь? – спросил Герб.
– Нечего тут особо и думать, – с готовностью отвечал Мартин как человек, для которого не существовало проблем, кроме факта собственного рождения. – Это те дачные змеи ее настроили. А точнее, перенастроили.
– Кто? Какие змеи?
– Ты слышал когда-нибудь такую фамилию – Рейнгольд?
– Что-то припоминаю из истории… Но туманно.
– Вот то-то, что туманно. Да ясней тебе и не надо. И не из истории, а из самой суть современности, ядрена матрена. А звать ее Виктория, если это тебе чего-нибудь говорит. Вика. И у нашей Вики есть дочурка Римма.
– Ну и что? – спросил Герб.
– Вот ты у них и спроси, почему это я для Валентины устарел. А вот сей, запорожец и победитель, наш друг Алекс, отнюдь нет. Вот он не устарел, а совсем наоборот.
Хотя Валентина меня любила, почему нет? Ничего худого не могу сказать. Может, она почуяла, что мне вообще хана? Что меня должны, выражаясь старомодно, ликвидировать?
– Кто? Валентина?
– Тю, мышонок. Я же тебе сказал, кто у них главная ведьма: Виктория Рейнгольд. Она и почуяла.
– Я вообще удивляюсь, Мартин, как тебя до сих пор не пришили.
– За Валентину?
– За язык.
– А это такая конспирация, кролик. Ее разрабатывали лучшие умы Кембриджа и Оксфорда, и более ста лет назад уже применяли Чарльз Диккенс и Льюис Кэррол.
– И в чем же заключается столь изысканная конспирация? – вошел в разговор Алекс.
– Говори все подряд, и пусть другие думают, что бы это могло означать.
– А я делал все, что мог. И если не взял главный приз, то это еще не повод… для убийства.
Марло знал, не просто предчувствовал, а знал все, что должно было произойти в ближайшие дни. Но он снова применил свою проклятую кембриджско-оксфордскую конспирацию. Он все прокричал открытым текстом, но сделал это в состоянии безумного, безразмерного опьянения.
Алекс потянулся, насколько позволяла ему цепь, и перекатился с бока на спину. Пора, пожалуй, уходить от этих гостеприимных и тихих людей. Он был почти благодарен им за предоставленную ему возможность вот так, в центре города, поразмышлять в тишине. Тишина, ты лучшее из всего, что слышал. Да, поэты понимают, о чем пишут.
И слава Богу, в шикарном ночном притоне действительно стояла полная тишина. Нигде, вроде бы, никого не били и не пытали. Во всяком случае, ниоткуда не доносились крики или стоны жертв или, допустим, характерные звуки возни и ударов. Даже странно, подумал Алекс. Впрочем, нечистая, наверное, успела вдоволь поработать до и после полуночи. А сейчас, перед самым рассветом, когда вот-вот закричат петухи, ей, конечно, особо уже не разгуляться.
Тишина и принесла на своих бесшумных крыльях почти полное решение. Значит, и правильно он дал себя сюда затащить.
Марло не мог бы так вызывающе и беспечно дразнить Алекса и Герба во время их последней пьянки, если бы воспринимал угрозу своей жизни всерьез. Если она существовала, а он не принимал ее всерьез, это значит, что он контролировал или думал, что контролировал, ее источник.
Он принял участие в игре, которую предложили ему, а он попытался вовлечь в нее и Алекса с Гербом. Да, он был уверен, что это всего лишь игра. И что ее рамки известны ему до конца. А не знал очевидного для профессионала правила: если в сценарий встроена, даже на уровне блефа, угроза для жизни, блеф может быть откинут в любой момент, как скрипичный футляр, в бархате которого покоился до времени автомат-пулемет.
Марло не принял этого правила во внимание. За что и поплатился.
Оставалась мелочь. Установить персоналии.
Но в это время из глубины зала к эстраде подошли две пары. Они приблизились прямо к роялю, но на Алекса, казалось, не обращали ни малейшего внимания.
Один из молодых людей сел за рояль. Другой, так и не поднявшись на эстраду, остался стоять, скрестив по-наполеоновски руки на груди. Пианист заиграл печальную красивую мелодию, которую тотчас узнал Алекс, как наваждение своего исчезнувшего, а может, приснившегося детства. Вальс Ребикова «Елка». Да, когда-то, еще до поступления в Училище, когда еще он жил в детском доме, он пытался разучить этот вальс на старом, но не сдающемся кабинетном «Петроффе», который с незапамятных времен стоял у них в красном уголке. Девицы танцевали в стиле медленного вальса, причем получалось это у них довольно красиво. Та, что пониже и постарше, вела. А та, что помоложе и повыше, велась. Увлекалась. Откинув голову с пышной гривой волос назад и переломившись гибким станом, она вальсировала в объятиях подруги, полузакрыв глаза. И, конечно же, если бы у нее был полушалок, то она закусила бы его от муки. От блаженства. Но полушалка у нее не было.
Второй молодой человек, наконец, все-таки поднялся на эстраду и подошел к распростертому на полу Алексу.
– Ты вот что, земляк, давай знакомиться, – сказал он по-простому, присаживаясь на корточки рядом с закованным.
– Меня зовут Алекс. А кто ты?
– Я Петр, санитар в психушке. Вот эта, пониже, медсестра. Жанной зовут. Вторая, здоровущая, Катрин. Хочешь верь, земляк, не хочешь, хрен с тобой. А только она дочь самого господина Круглого. Ну, а тилигенчик за роялем что-то вроде хахе-ля при ней. Фамилия ему Озерков. Имя смешное, Платоном, вроде как, кличут. Сейчас на дачу к нему едем. Если папаня евонный метлой по шапке нам не даст, значит, гудеть будем.
Ну, публика… Где только и находят друг дружку, прости нас и помилуй. Вот тебе и «Елка» композитора Ребикова. Дочь Круглого и сын Озеркова. Разумеется, того самого дачного соседа Рейнгольдов. Теперь Алекс не сомневался, что через несколько часов он поставит точку в расследовании убийства Марло.
Круглому позвонили те, кому он дал поручение послать в морг специалиста по татуировкам.
– Он классный специалист, – сказал порученец, – но мы ни фига не можем понять, чего он лепит. Выслушайте его сами, шеф, нам в этих вопросах, я имею в виду татуировки и прочие обрядовые прикидоны, до вас далеко.
Порученец был хорош тем, что его лесть хоть и высказывалась прямо в лоб, но выглядела всегда как исключительно деловые замечания.
– А что лично ты сумел разобрать, когда этот антрополог-болтолог заключение после осмотра трупа давал?
– Шеф, он много чего говорил. Мы же его сейчас к вам доставим. Вы все разберете. Вы не мы. А нам куда?
– А в глаз не хочешь?
– Ни за что не ручаюсь, но я так понял, что татуировка – свежак.
– Ты что? Она должна была появиться на нем не позже, чем двадцать лет назад. Ну, пятнадцать.
– Какое? Вы что? Говорю вам, совсем свежая. Антрополог много чего лепил, но это я разобрал. Сутки, как рисуночек нарисовали. Плюс-минус несколько часов.
Круглый опустил трубку на рычаг и, на первый взгляд, казалось, что призадумался. Но на самом деле он материл себя в душе как последнего фраера, салагу и портяночника.
Так попасться и вляпаться! Конечно, покалякать с антропологом будет небезынтересно, Круглый ценил контакты с по-настоящему знающими людьми, но основное он уже знал.
Чертов пес заокеанский, подсунул гнилуху. Впрочем, чуело сердце, куда ноги шли. А теперь что же? Пора резать постромки. Но как? Джокер-покер-спаниэль. Или – картина художника-передвижника «Приплыли».
Опять позвонила неугомонная деваха. И опять начала выдавать пену насчет того же проходимца, которого ребята, вероятно, для смеха приковали к роялю, а он, как сумасшедший, вообразивший себя королем, требует личного свидания с самим Круглым. И немедленно.
– Слушай, дочь, отец, конечно, груб, но ты мне все-таки ответь. Ты чего хлопочешь? Он тебя там случаем прямо на рояле не обогрел?
– Как ты можешь, па?! – с достоинством ответила Катрин. Я же тебе сказала, что со мной мой новый кавалер. Из очень приличной семьи. Как же можно? Что же ты хочешь, что б я прямо при нем?..
– Тогда слушай в трубку и постарайся со своими кавалерами больше сюда не лезть. Того хлопца, с денежным кейсом, наши возьмут и без твоего информатора. На площади засекли, что он уехал с чумовозом. Уже выяснили, что машина из Кащенко.
Значит, туда они и укатили. Там их наши и накроют. Ну, и что мне твой прикованный еще может сообщить?
– Папа, я все же женщина. Пусть для тебя я еще дуреха, может, так оно и есть. Послушайся меня.
– Еще чего?
– Послушайся меня. Я не могу тебе объяснить все, что я чувствую, когда говорю с этим человеком. Но ты должен с ним встретиться и поговорить. Хуже от этого не будет. А будет только лучше.
– Значит, по-твоему я должен? Ну, хорошо, ты женщина и все такое. Может быть, ты еще и египетская кошка, кто тебя знает? Это надо было у твоей матери, покойницы, уточнить. Но ты должна мне объяснить, почему я должен с ним встречаться. Скажи что-нибудь убедительное. Кстати, если это человек серьезный, то он должен был снабдить тебя какой-нибудь примочкой для меня.
– Почему? Какой еще примочкой?
– Потому что он должен был понимать, что я самолично не погонюсь за каким-то фраером, даже если у него в кейсе зазеленел лимон. Я поручу это своим ребятам. А они вычислят этого другана с кейсом на раз. Как, кстати, и произошло. Значит, твой приятель, если он не пустой, должен был сообщить тебе для меня что-то более заманчивое. Вспомнишь – позвони. А нет, и слушать не буду.
– Вспомнила. Он сказал, что хотел поговорить с тобой о татуировках.
Круглый почувствовал, как по спине, между лопатками, покатилась к пояснице узкая щекочущая струйка пота.
– Дай адрес. Только скажи, если какое железо есть, пусть заранее оставит. Все равно здесь просветят.
– Да нет у него ничего. Мы подвезем его на своей машине. А потом на дачу, к Озеркову.
– Жду.
6
Москва златоглавая спала и не ведала, что золото у нее не только в головах, но и в фундаментах. Не ведали о том москвичи, а потому и спали спокойно, пока игривое летнее солнце не заскакивало к ним бесцеремонно в окно и не начинало щекотать кому веки, а кому и обнаженные после ночи любви внутренние поверхности бедер. Эти самые поверхности хорошо обвевались ветерком из открытых по летнему времени окон, ну а щекотка солнечными вязальными спицами, проникающими через небрежно задернутые шторы, приводила в чувство утомленных неизвестно чем жителей столицы.
Кому надо, те, конечно, ведали. И не только про золото. Московское Управление ФСК ведало, например, и про зеленый вагон на Курском вокзале, и про перестрелку, случившуюся там же. Которая, уж коли зашла о том речь, была вовсе не перестрелкой, а отстрелом одним вооруженным отрядом профессионалов другого, считай, такого же, как они сами, отряда.
Начальник Управления не мог с ходу ухватить самую соль такого своего ведения. Чтобы ухватить соль, ему нужно было какое-то время подумать. Да не просто так, как-нибудь на ходу, а в обстановке полной отрешенности. Дома, в обстановке совершенно неотступного уюта, всепроникающей холы и неги со стороны любимой женушки, не менее любимой тещеньки и уж просто обожаемых доченек, домработниц и кого-то там еще, сделать это не представлялось возможным. Поэтому он приехал утром спозаранку на службу, заперся у себя в кабинете и раскрыл «Веды», книгу мудрости древнего индийского племени. И углубился в первый, самый древний раздел Ригведы.
Между тем, в это историческое утро, историческое, потому что оно могло стать рассветом новой эры безденежной цивилизации, происходило в мировом городе, одном из пяти мировых городов, и много других, бесспорно, интересных событий. Так, например, люди, посланные Круглым в Кащенко для поимки Рашпиля и изъятия у него явно чрезмерной для такого молодого человека суммы в инвалюте, никого там и ничего не обнаружили. Ни шофера, ни чумовоза, ни пассажиров.
Дело в том, что Рашпиль, которого Алекс после событий на площади назначил старшим группы, получил свое назначение недаром. Мозги у него шурупили, вот что главное. И он, даже не обращаясь к древней мудрости «Вед», вычислил на раз, что там, куда они намеревались приехать, их возьмут тепленькими в самом близком будущем.
Поэтому он задал несколько толковых вопросов Леандру, водиле, который к этому времени уже плюнул на свою бестолковую пассию Лизавету, бестолковую именно потому, что он никак не мог к ней добраться. Рашпиль спросил у Леандрика, куда они могли бы заховатъся всем колхозом, если, допустим, исключить то место, куда они официально должны были сейчас прибыть.
Леандр знал толк и кое в чем еще, кроме прелестей буйной медсестры. Ему даже не надо было ничего объяснять. Он и сам понимал, о чем и почему спрашивает Рашпиль, Коротко говоря, не доехали они ни до какой психушки, а завернули, благо и по дороге даже оказалось, в мощное пятиэтажное заведение с благородным наименованием «Клиника». Естественно, у Леандра все здесь были друзья, а кто не друзья, так те знакомые.
Открыли ворота и впустили машину, а потом опять закрыли ворота. Без применения тяжелой артиллерии такие ворота не снесешь. Здесь можно было продержаться. Это все видел и правильно оценил Рашпиль. И окончательно решил окопаться пока среди невротиков.
Им отвели целиком третий этаж, благо невротики там и так отсутствовали из-за предремонтного статуса этих помещений. Насчет охраны Рашпиль тут же договорился с ребятами в камуфляже, которые дежурили: один – во дворе перед входом, а второй – в холле.
Когда Санек назвал им сумму, которую он кладет за час работы, камуфляжники быстро обзвонили всех своих корешей, и через час в его распоряжении уже было достаточно бойцов, чтобы блокировать периметр здания, точнее, всего комплекса зданий. И, разумеется, три направления, это если считать вместе с главными воротами, на которых могла развиваться попытка проникновения в здание.
Гриша-маленький и его братан чем дальше, тем больше входили во вкус «беседы» с захваченным ими следователем Никоновым. А как же? Ведь это он, следователь, ненавистный им «следак», должен был при правильном обращении планет допрашивать их, диких зверей и мокрушечников. А тут выходило наоборот: они его спрашивают, а он должен отвечать.
И о семье. И о жене. И где деньги хранит. А он должен отвечать. И причем все едино: отвечает он или нет. Для него разницы нет. Он в любом случае после каждого их вопроса получает страшный удар по корпусу. И понимает Никонов, в сущности совсем еще молодой парень, что тяжкие телесные повреждения, наносимые ему, уже как бы и слишком тяжкие, и совсем скоро их надо будет переквалифицировать в «несовместимые с жизнью».
Несмотря на свое состояние, Никонов прекрасно отдавал себе отчет в том, что происходит. Под видом какого-то идиотского, никому не нужного допроса, его просто элементарно убивали. Причем убивали ни за что.
То, что эти мудаки тратили время на такое бестолковое дело, показывало, что и с ними, если подходить строго профессионально, было уже все кончено. Они, видимо, «поплыли» и, несмотря на то, что все больше ярятся и рычат, обладают уже всего лишь «сумеречным сознанием».
Это означает, что у них нарушено целеполагание и нарушен контроль за продвижением даже к тем химерическим целям, которые они еще перед собой выдвигают.
Сейчас, например, они как бы забыли, зачем захватили пост ГАИ и убили дежурных милиционеров. Они попали в иссушающую пустыню сознания, заполненную миражами и бредом, предсмертным потом, дрожью и скорпионами.
И одним из таких миражей, одним из таких ярких островков в основном-то серого, чавкающего бреда стало для них как раз появление на шоссе и захват ими этого поганого лоха, следопыта на колесах, в рот тебе компот и печенье.
Нет, они не торопились. Они уже утратили понятие о том, что это такое: спешить, медлить, успевать или опаздывать.
Никонов выехал в ночь именно с целью задержать этих двух ребят. Как ни странно, задачу свою он, можно сказать, выполнил. Ребята, конечно, чиня расправу над ним, тем самым были задержаны. По крайней мере, на своем дальнейшем кровавом пути.
А тем, кто взывает к высшим силам о чем-то личном, следует постоянно находиться начеку. Потому что самые дерзкие, самые авантюрные или даже просто бредовые планы имеют обыкновение сбываться. Но цену, которую за это приходится платить, никто заранее не обговаривал.
А она, цена, то есть эта, выходит иногда чересчур высокой. Или вообще, неожиданной. В неслыханной форме оплаты.
Государственная Дума, бывший Дом Совета Министров, тылом выходит на узенький, буквально сдавленный солидными, «имперскими» зданиями, переулочек. На первый взгляд, сюда ни заехать, ни выехать отсюда. Но кому надо, разумеется, въезжают, и даже на очень неслабых лимузинах. Очень уж было еще рано, так что парадный подъезд Думы стоял закрытым, как иногда выражается деятель государственного масштаба, капитально.
Но тех, кто в этот собачачий, в сущности, еще час вздумали встретиться и обсудить свои делишки, такие мелочи не волновали. Плевали они на парадный подъезд, как, в сущности, и на многое другое. И заезжали они, куда им надо, не с Охотного Ряда, а втискивались на своих бокастых, на первый взгляд, неуклюжих карах в переулочек с тыльной стороны, накапливались по пять, по семь и затем отводились встречающим в здание Думы, проводились мимо молодого, с заспанной щекой охранника, с неизменной словесной чешуей, чем-то вроде: «Эти товарищи со мной. Это все по списку».
Вскоре они прибыли и накопились, и были проведены в небольшой зал на втором этаже в достаточном количестве. По крайней мере, в достаточном относительно запланированного теми, кто устраивал это сборище.
Но пока никто не брался сделать какое-либо заявление для всех, и вновь прибывающие разбились на небольшие группки, среди которых сразу возник довольно устойчивый гул голосов. Впрочем, если бы нашелся человек, который переходил бы от одной группы к другой и прислушался бы к этому гулу, то он быстро убедился бы в его однообразии.
Фактически, во всех возможных комбинациях упоминались и склонялись всего несколько фамилий. Факты же казались присутствующим, вероятно, настолько очевидными или, наоборот, настолько невероятными, что как следует, то есть в связном виде, и не излагались. Фактическая обстановка, как это часто происходит в решающий момент, как бы заключалась заговорщиками в скобки и таким образом уже не казалась такой пугающей.
Это были те же люди, которых ночью привозили на Курский вокзал и пустили внутрь таинственного вагона, чтобы они своими глазами смогли увидеть его содержимое. И потом, разъехавшись, смогли рассказать о том, что видели, членам советов директоров своих банков и компаний, членам своих партийных команд или просто важным спонсорам, если речь шла о политиках.
Сейчас, разумеется, на окончательную сходку, прибыло раза в три больше народа, чем ночью на вокзал. Именно за счет членов правлений и спонсоров. И попадался здесь, особенно среди спонсоров, народец пестрый. Поэтому и решено было устроителями через Охотный Ряд не ломиться.
Вот последнего, самого веского слова от устроителей встречи и ждали. А пока кто расселся на стульях, обитых шелком, и откровенно подремывал, похоже, как бы со вчерашнего недопоя.
Кто, и таких было большинство, гужевался в проходах зальца и около входа в него. И гудели. Слитно так, вроде бы и негромко, но плотно:
– Я всегда говорил, что Толмачев – восходящая звезда.
– Бросьте вы эти эстрадные штучки. Не звезда, а просто Бог нам его послал!
– Да в такой момент!
– Хватит ли у него сил? Все-таки это так неожиданно. А Москва – гигантский город.
– А Круглый?
– И то. Толмачев сверху. Круглый снизу – так подопрут, что ох-хо-хо… Народишко не вздохнет, не охнет.
– Тем более, что в первые часы все это пойдет под антизападную пропаганду. Кто и мог бы догадаться, того именно антиамериканизм собьет с толку, а потом будет поздно.
– Боюсь, господа, как бы нам всем потом не стало поздно.
– Что вы имеете в виду?
– Мы ведь даже толком не знаем, какова позиция Рюмина.
– Да что там ваш Рюмин? Что он уже решает? Вы еще Александра Нойгарда упомяните. А, между прочим, Озерков, если уж вообще брать в расчет тех людей, весьма здравомыслящий человек. Я уверен, что он не только займет благожелательную позицию, но и окажет прямую поддержку.
– Ладно вам, господа. Этакие вещи… как будто прямо сейчас и решаете. Там уж все решили: кто за кого и почему. Если уж такие деньжищи откинули, так уж все рассчитали и высчитали.
– И то… ваша правда. А все же – и там ошибаются. А мы, сами знаете, шкурой ответим.
– А, кстати, кто сказал «мяу»?
– Да ладно вам. Тут такой момент, а вы… фиглярничаете.
– А я, между прочим, за свое – своим и отвечаю, И желаю, чтобы и мне ответили.
– Спрашивайте, вам и ответят. А, впрочем, недолго и подождать. Скоро нам всем сразу и ответят.
– И отвесят.
– Вот я и спрашиваю: кто сказал «мяу»?
Но на этот сакраментальный вопрос, заданный уже дважды, ответить пока было некому. Публика гужевалась, гудела и… нервничала.
Нервничал и американский гражданин Чарльз Бойнтон Харт, «генерал по особым поручениям» американского государства, а если кто сомневается, что где-либо существует такая воинская должность, то это его личная проблема.
Харт нервничал потому, что несколько его панических, предельно откровенных звонков за океан не принесли желаемого результата.
Вернее, те звонки, с помощью которых он надеялся получить дополнительную информацию, как раз получились удачными. Но после всего, что он узнал и что только подтвердило самые худшие его опасения, пора было действовать. Наносить встречные удары.
Более того, так как много времени оказалось упущенным и заговорщикам удалось не только консолидироваться, но и приступить к практической реализации своего плана, встречный удар мог быть уже нанесен только с самого верха.
Следовало немедленно донести до президента Соединенных Штатов всю имеющуюся информацию. Только у президента имелись достаточные полномочия и воля использовать их в полном объеме там, где речь шла о спасении нации. Государства. Цивилизации. Той, что возросла и окрепла по двум сторонам Океана, посередине которого покоилась их общая прародина – Атлантида, о которой писал в «Тимее» благородный Платон.
Разумеется, после того, как он расстался с не менее благородным, чем древнегреческий, Платоном Озерковым и его непередаваемо оригинальной новой пассией, Харт не терял даром ни минуты. Через подвалы Лэнгли и некоторых подземных баз в Колорадо и на самом Тихоокеанском побережье, через их компьютеры и базы данных он установил все, что только можно было через них установить. Он вытянул из них все.
И это все оказалось недостаточно для тех людей, которым он звонил потом. Для двух влиятельнейших людей на Восточном побережье США. Звонка хотя бы одного из них президенту хватило бы для того, чтобы тот немедленно заблокировал то. что уже начало осуществляться здесь, в Москве. Президент не смог бы пренебречь информацией из таких источников.
Что же выяснил Харт? И почему этого оказалось недостаточно для двух благородных – сколько, кстати, в мире вокруг благородства! – джентльменов с Восточного побережья?
По словесному описанию Харта молодые длинноволосые гении в компьютерных бункерах установили, где печатались те кредитные карточки «Глоб Экспресс», которые распространялись с этой ночи в Москве. Разумеется, заказ оказался размещен и выполнен в производственных джунглях одного из юго-восточных «тигров».
Далее, несмотря на умышленно запутанную систему размещения заказа и отправки, или отгрузки, готовой продукции, компьютероголики на удивление быстро установили, что все следы ведут к Джону Моргенштерну, лицу явно подставному, номинально возглавляющему небольшую компанию с нарочито расплывчатой сферой деятельности.
Но Харт был не из налоговой полиции, и даже не потенциальным заказчиком, клиентом или компаньоном. Он кое-что знал и помнил из того, что происходило в этом беспокойном, как будто ему шилом щекочут в одном месте, мире. Допустим, лет двадцать, тридцать или сорок назад Харт мог с большой долей уверенности предполагать, на кого в действительности работал Моргенштерн, кто основал эту – так же, как и многие другие, – ничем не примечательную компанию, которую даже Торговая палата США включила в свой список, казалось, только из-за ее кричащей ничтожности. То есть, просто чтобы включить и забыть. И, таким образом, не тратить в дальнейшем усилий на рассмотрение повторных просьб и апелляций.
В двадцатых годах на Западе появились первые солидные советские нелегалы. Солидными их можно было назвать не только из-за тщательной шпионской подготовки и безукоризненности легенд и документов. Нередко они являлись обладателями солидных капиталов. Могли свободно распоряжаться крупными суммами в валюте.
Естественно, что в таких условиях они легко находили себе в компаньоны для каких-либо коммерческо-производственных проектов уже натуральных, а не засланных, как они сами, западных бизнесменов. И такие предприятия, пройдя всю необходимую легальную процедуру лицензирования, представления всех необходимых документов и получения всех установленных законом разрешений, основывались, начинали свою коммерческую, производственную или финансовую деятельность и в дальнейшем процветали или разорялись.
А чаще просто дышали в соломинку, не особо привлекая к себе внимание, но потихоньку все-таки наращивая жирок и капиталы.
Разумеется, большинство из них находились под полным контролем Москвы. И безотказно служили опорными пунктами советской инфраструктуры на Западе, являясь источником и средоточием связей и прикрытия, неподконтрольно используемых транспортных средств и недвижимости и, что было решающим, свободной валюты. И все-таки проблема контроля над этими первыми нелегалами всегда стояла перед Центром. И никогда не была им полностью решена. Просто-напросто потому, что полного решения, как оказалось, не существует.
Разумеется, использовалось все, что только существует в природе и обществе для сохранения длительного влияния на человека: «промывка мозгов» с самого раннего детства, постоянное поддержание высокого, на грани истерии, идейного тонуса с использованием всего арсенала тяжелой артиллерии, типа патриотизма, смертельных угроз для любимой Родины, жертвенности с вечной славой героям и т. д.
А увенчивал арсенал, и при этом совершенно естественно и гармонично, страх. Угрозы, шантаж, знакомство с печальной судьбой неразумных. Их самих и их родственников, остававшихся в заложниках у тех, кто снабжал деньгами, документами и легендами.
Но даже все это вместе взятое срабатывало далеко не всегда. Уж больно самостоятельные или, прямо сказать, бедовые ребята уходили в ночь с подмосковных дач и баз, чтобы всплыть где-нибудь в Буэнос-Айресе в кресле члена правления Страховой компании, Издательского объединения или Адвокатской конторы.
И что поначалу в наибольшей степени пугало центр, даже наполняло его чувством отвращения перед огромностью мира и несовершенством человека, быстро выяснилось, что полный контроль во многих случаях просто невозможен. Недостижим, так сказать, технически.
Тогда в центре сделали хорошую мину при не той игре. Раз нечто оказывается невозможным по техническим причинам, его следует считать и излишним. Просто даже ненужным.
А можно и нужно относиться к бизнесу, развиваемому нелегалами, как к черному ящику. На входе – внедрение в заданной стране и определенном социальном слое агента с определенной денежной суммой.
На выходе – этот агент должен выполнять все, что мы ему поручаем. Усиливать свои собственные позиции и авторитет, осуществлять «проводку» и иную помощь новым агентам, наконец, по первому требованию, предоставлять в распоряжение центра все денежные средства, образовавшиеся в результате успешного бизнеса, финансовых спекуляций, а то и просто совместных операций с преступным сообществом.
И вот как раз по поводу последнего пункта и завязалась ниточка, конца которой что-то не видно и в наши дни. В самом деле, кто мог с одного конца Земли эффективно проследить за доходностью той или иной сделки, которая осуществлялась в другом полушарии и частенько нелегальным образом? Кто, какие контролеры? Какие полномочия они должны были предъявить, чтобы им раскрыли всю отчетность, показали всю кухню?
Конечно, такие контролеры существовали и их посылали, как посылают, наверное, и в наши дни. Но кто проверит самих контролеров? Разве они не люди? И значит, разве нельзя с ними договориться на месте? То есть, убедить, подкупить, запугать, ну и т. д. по полной программе?
А если не удается или сложно осуществимо первое, второе или третье, можно такого проверяющего и ликвидировать.
Разумеется, сообщая в центр о «смерти на боевом посту» боевого товарища и о представлении его к посмертной боевой награде.
И разумеется, именно все это с контролерами и происходило. В конце концов, начальство в центре считало, что дела и так идут неплохо. Подконтрольный бизнес на Западе процветал, и центр имел с него немало. Официально считалось, что имел все. Все сто процентов. Распоряжался душой, телом и капиталом тех, внедренных.
Ну, что-либо считать никому не запрещено. Особенно, если никто не возражает.
Да и что такое центр? Разве над ним нет еще центрее? И разве не надо и центру в чьих-то глазах выглядеть пристойно, компетентно и удачливо? Конечно, все понимали, что прибыль от высокодоходных операций никогда, не может быть указана и выявлена полностью. А как там и насколько, на какие такие государственные нужды делилось даже то, что учитывалось в каких-то засекреченных сводках, о том ведь тоже никто ни у кого не спрашивал.
Знал Харт и о том, что после войны, после образования ЦРУ США, ситуация с неподконтрольным никакому государству, но и не вполне частным бизнесом только усугубилась. Вышла, так сказать, на новую спираль.
Коротко говоря, к дядям, начавшим когда-то дело на деньги Москвы, начали присматриваться таковые же, но снабжаемые из Вашингтона.
Вашингтонские парни всегда с крайней раздражительностью относились к попыткам полного их контроля со стороны обезумевших от демагогии и безответственности политиков. Но независимость в делах начинается и заканчивается независимостью финансовой.
Конгрессмены и сенаторы всегда могли охолодить крутых ребят из Лэнгли, указав на тот простой факт, что денежки налогоплательщиков распределяются для них именно на Капитолийском холме.
Но даже если примириться с их опекой, которая, чего уж скрывать, никогда не была и по самой специфике дела никогда не могла быть слишком плотной, так вот, даже если закрыть глаза на их ценные – только для них самих! – указания, то все равно сразу же возникла проблема с нехваткой наличных сумм. А ведь были случаи, когда какие-то жалкие два-три, а то и один миллион долларов, но прямо сейчас, в кармане, в кейсе, в свертке, из рук в руки и, конечно, без всяких расписок и документов, короче говоря, в форме, которая в современной России называется «черный нал», и… И необходимые или желательные результаты могли быть достигнуты там, где не давало эффекта многолетнее давление на государственном уровне. Давление, которое обходилось в десятки и сотни раз дороже и неизбежно требовало не только денег, но и политического торга.
ЦРУ могло делать свои деньги на многом. В конце концов, самым надежным оказывалось просто использование своего влияния на местные элиты в десятках мелких государств, не отличающихся внутренней стабильностью. Надежным из-за практической невозможности разоблачения. Там и разоблачать-то нечего.
Местные князьки и министры обороны, люди, возглавляющие безопасность, принимающие решения в области закупки вооружений, – все они считали агентов ЦРУ своими друзьями. Более того, считали их, и не без оснований, своими благодетелями, которые вносят решающий вклад в независимость и процветание их маленькой, но – благодарение Богу! – абсолютно независимой страны.
Случались, конечно, и взятки, и недоразумения со стрельбой, взрывом автомобилей или преждевременным государственным переворотом, который иногда, именно в силу своей преждевременности, ограничивался недоворотом, случалась время от времени и другая разнообразнейшая чепуха и самодеятельность. Но суть дела, его стабильная и долговременная основа, заключалась, разумеется, не в этих фейерверках, а в том, что все всегда знали, но о чем не говорили, что подразумевалось само собой. Многократно опосредованное участие в самых высокодоходных статьях местного экспорта и импорта, изощренно завуалированные формы «благодарности» за лоббирование местных интересов в далеком Вашингтоне, «подарки» в виде годовых абонементов на проживание в самых дорогих отелях или на полеты в первом классе на международных авиалиниях. Купоны лотерейных билетов местной лотереи с миллионными выигрышами, причем иногда такие «общенациональные» лотереи устраивались специально только для того, чтобы иметь возможность подарить хорошему американскому другу хороший местный билетик. Бесплатный, или за символическую цену ремонт недвижимости хорошего человека, после которого эта недвижимость из дряхлой хижины или в крайнем случае конюшни превращалась в усадьбу. В двух-трехэтажное поместье.
Да мало ли, в самом-то деле, можно сделать для людей, которых искренно уважаешь? И от которых кое в чем важном зависишь. Так или иначе, но «свободные» деньги ЦРУ не могли не встречаться на крутых поворотах высокодоходных операций с денежками КГБ, которым приделывали ноги уже давно загоревшие под тропическим солнцем чекисты с банковским уклоном.
Эти деньги иногда враждовали одни против других. Иногда, что было чаще, объединялись, усиливали друг друга, вкладывались в совместные проекты.
Деловые люди, как с той, так и с другой стороны, прекрасно понимали друг друга, иногда десятилетиями даже не видя и не зная партнера в лицо. Так во всем мире понимают друг друга брокеры на финансовых биржах, специалисты по ценным бумагам и, наконец, валютные спекулянты и компьютерные грабители. Взломщики. Хакеры. Если уж по простому-то говорить.
Оригинальное это явление, которому и название-то трудно подобрать – Финтернационал? – удачно лавировало между торосами холодной войны, именно из столкновения и скрежета этих торосов и получая свой первоначальный капитал, который потом уже многократно оборачивался и возбухал в воронках джунглевых революций, войн и переворотов.
Как Вашингтон, так и Москва прекрасно понимали, что эти эвентуальные центры силы, не вполне подотчетные породившим их правительствам, суть явления «неправильные». Могущие в будущем, да и вообще в любой момент, представить угрозу.
Хотя вот так сразу даже и не скажешь: угрозу – чему?
Государственной безопасности?
Разумеется, в конце концов, именно так. Только не в этой кондовой формулировке, которая понимается однозначно, как угроза одному государству со стороны другого.
В данном же случае речь, скорее, могла идти об угрозе государству как таковому. Государству, как достижению и форме развития человеческой цивилизации, начиная с древнейшего Урарту, с первых фараоновых династий в Египте, с объединения племен в долинах Тигра и Евфрата.
Харт знал, что и в КГБ, и в ЦРУ имеются компактные, сверхзакрытые группы, отслеживающие положение дел у полуотвязавшихся нелегалов. Сам он к работе таких групп никогда не привлекался, но знал нескольких офицеров, которые в разные годы выполнили для них отдельные задания.
И он иногда обращался к этим офицерам, когда ему случалось встретиться с чем-то труднообъяснимым. В ответ он слышал многоречивые, но, в общем-то, мало в чем помогающие речи, пересыпанные такими терминами, как «спагетти», «обратное кольцо сложности», «конспирация один» и тому подобное.
Глаза же, которые в это время на него смотрели, излучали грустное спокойствие и примиренность с несовершенством мира. Грусть объяснялась, конечно же, тем, что никто из работавших в этих контрразведывательных группах не был уверен в своих источниках информации.
Ребята-нелегалы, тем более на некоторой стадии самоорганизации, которой на каком-то этапе достигло их Сообщество, могли ведь организовать что угодно. От маршей протеста против вторжения в ту или иную банановую республику до… расследования центром их собственной деятельности.
Так или иначе, но идеологи к ним подтянулись, прицепились, а потом, как оно и водится, и возглавили всю эту поначалу веселую и богатую шайку-лейку. В Вашингтоне и Москве твердо знали только одно: то, что идеологи действительно там появились и что им даже удалось подмять под себя основные кадры и средства Сообщества.
Кто были эти идеологи? Руководящие круги двух сверхдержав несколько раз пытались обсудить возможные персоналии и возможные цели, но попытки оказались с негодными средствами.
И даже после того, как Сообщество перешло от чисто финансовой к активности с непонятным политизированно-уголовным душком, центральные власти продолжали смотреть на их деятельность сквозь пальцы. Во-первых, их страшненькие, но ограниченные по масштабам «эксперименты» разыгрывались, предпринимались исключительно в странах «почти четвертого» мира. По отношению к центрам индустриальной цивилизации соблюдалось неизвестно кем наложенное табу. А во-вторых, и момент для решительных действий был, собственно говоря, уже упущен. Теперь, если атаковать Сообщество в лоб, то есть или попытаться восстановить над ним и его ресурсами полный государственный контроль, или провести акцию тотального уничтожения, то Истеблишменту Америки и России пришлось бы прополоть собственные грядки слишком широкими полосами.
И никто заранее не мог сказать, по чьей семье пройдется кровавая тяпка, а кого минует стороной.
Сильные мира сего как-то вдруг ясно поняли, что заигрались. У них могли увести не только жен и имущество, но и власть над миром. Власть принадлежит тому, кто знает ее технологию. Так вот, по «экспериментам» было очень похоже, что вожаки Сообщества как раз и заняты отработкой новых, неклассических технологий власти.
Их призывали к ответу, взывали к их чувству ответственности, а они только отбрехивались, прикрывались отписками и демагогией. Например, такой, что-де, правительствам Америки и России «на всякий случай» надо иметь в загашнике некоторые наработки по части управления озверевшим людским половодьем, которое однажды может подняться выше дамб страны Нидерландии и с запасом перехлестнет крышу Нью-Йоркского Эмпайр Стейт Билдинга или Московского госуниверситета.
Хитрые вожаки, впрочем, никогда не засвечиваясь персонально, умели довести до кого надо свою точку зрения.
А она состояла в следующем.
По сравнению с этими миллиардными, закипающими пока в низинах жизни массами, вся Земля и уж тем паче все центры власти – сплошная Нидерландия. То есть, имеется территория, пока что огороженная от Мирового океана. Но при малейшим волнении, родившемся в диких, никогда от создания этого мира не освещаемых глубинах впадины Тускарора, все эти перегородки окажутся не прочнее, чем коробок спичек под ногой слона.
И тогда будет поздно не только искать виноватых, – они-то, кстати, и так ясны, Адам и Ева, из-за которых люди лишились Рая, – не успеешь даже скомандовать: «В колонну по четыре, становись!»
И ковчег не поможет, даже если таковой заранее оснастить. Не успеешь, опять-таки, произвести посадку. Все ведь задавятся насмерть! Все, сколько там пар ни будет. Чистые, нечистые, крайние, полусредние и т. д.
Значит, подводили невидимые идеологи, каждый должен заранее знать свой маневр. Так сказать, загодя.
И главное дело, что каждый. Каждый человек, каждая семья, община, производственный коллектив. Каждое племя, нация, государство. Группа, союз или блок государств.
А для того, чтобы именно каждый знал свой критический маневр, надо каждого же этому и научить. Каждого – своему.
И как раз самую трудоемкую, но и самую необходимую работу предстоит провести среди этой вот самой миллиардноголовой гидры «широких трудящихся масс». Иногда, впрочем, трудящихся, иногда нет, но главное, что всегда широких. Чтобы в случае чего не металось тело этой гидры, как обезглавленная, обезумевшая от боли анаконда, проламывая своим километровым хвостом просеки в джунглях и городах.
А чтобы распределялось и рассредоточивалось. Всяк и каждый по своим убежищам. По своим норам и расселинам. По единой команде, поданной условленным знаком. Криком, песней, молитвой. Звуком трубы, несущимся с неба вместе с магической эскадрильей лунных Старфайтеров. Невыносимо высоким воплем муэдзина, зазвучавшим из всех телевизионных экранов за минуту до того, как они взорвутся и будут охвачены знаменитым среди простого народа «синим пламенем».
Короче говоря, чтобы существовала команда, к которой все так и отнесутся. Как в армии, где положено команду не обсуждать, а выполнять.
Даже, если она сомнительна или непонятна.
Даже, если опасна для исполнения.
Даже, если самоубийственна.
О! Вот тут оно все было и зарыто.
Ведь если так все будут обучены, а честнее сказать, натасканы, то зачем еще ждать и каких-то там грядущих катастроф?
Отдай команду, и они все разбегутся по своим кубрикам и отсекам дружно выполнять то, о чем ты с ними заранее благоугодно договорился.
Ах вам, ребята, в костерок по разнарядке прыгать? Что значит, жарко? Но ведь мы же договаривались? Вы же обещали! Давайте-ка, давайте, не задерживайте, вон очередь какая за вами.
Но кто сможет подать единый сигнал? Смочь-то, положим, сможет любой, допустим, высшее руководство того или иного государства. Но кого именно послушают? А это уже другой коленкор. И послушают и исполнят команду только того, кто их и натаскивал. Кто тренировал и кому обещали.
И вот тут-то и выходило, что Сообщество чуть что, то есть, как только у высшего руководства возникали какие-то сомнения, сразу заверяло, что никакая их деятельность никогда не выйдет из-под государственного контроля.
То есть все плоды каких бы то ни было социокультурных экспериментов всегда будут полностью передаваться в распоряжение компетентных органов. В виде отчетов, технологических разработок и рекомендаций.
Центр понимал, что это всего лишь ничего не значащие слова, наукообразная лапша и отговорки. Понимал, что реальная значимость таких экспериментов не в красиво оформленных папках с докладами. Реальность составляли именно те сотни (тысячи? миллионы?) людей, бросивших свои семьи и распродавших свое имущество, оставивших родные для них дома, деревни и города, и полностью готовых к выполнению единой команды. Любой.
Но поступившей не от какого-то там правительственного чиновника или ведомства. Нет, конечно. А только лишь от того, кто их и натаскивал. Кто сгонял их в овчарню перед тем, как кинуть на ее соломенную крышу пылающий факел. Кому они все это и обещали.
Да, центр все это понимал. Но дело уже зашло слишком далеко. Остановить Сообщество или хотя бы пресечь самые опасные из его поползновений прямолинейными рациональными методами было уже невозможно.
И пока ребята шалили на периферии мировых центров силы, никто не прибегал ни к каким радикальным мерам.
Все ждали. И дождались.
Когда Харт беседовал в Вашингтоне с помощником президента перед отлетом с тайной миссией в Москву, он получил подтверждение, что тайна сия имеет двойное дно.
Вашингтон подозревал, что ненормальные вещи, происходящие с долларом в Москве, не сводятся целиком к прыжкам тамошних валютных игроков.
А если в каждом деле брать в расчет самый худший из возможных вариантов, то Вашингтон желал, кстати, и выяснить, не стоит ли за биржевыми и иными экспортно-импортными спекулянтами чудовищная по своей непредсказуемости лапа Сообщества?
И что же Харт до сегодняшнего дня сумел выяснить? Сообщество, конечно, участвует в начинающейся заварухе. После ночных разоблачений охранника проституток Руслана, после демонстрации им диска для вращения стодолларовых купюр и карточек «Глоб Экспресс», сам факт их участия в разыгрывающихся событиях должен был считаться твердо установленным.
И с этой точки зрения Харту уже было что рассказать и доложить тем, кто его сюда послал.
Но он чувствовал, что все эти факты всего лишь прелюдия к последующим событиям.
По всем признакам, перед ним вырисовывалась попытка Сообщества, вероятно сумевшего договориться с некоторыми другими центрами силы, провести мощную атаку на легитимные органы власти. На исторически сложившуюся систему управления обществом. На Истеблишмент.
План атакующих состоял, по-видимому, из двух частей.
Первая фаза – лобовая атака, подрыв и опрокидывание всей финансовой системы цивилизованного мира. Обесценивание обычных долларов – ведь уже появились необычные! – и изъятие по всему миру из ряда банков крупных и сверхкрупных сумм наличности, что неизбежно подхлестнет панику на биржах, в банках, на всех финансовых коммуникациях, включая электронные терминалы и банкоматы, кассы государственных сбербанков и пункты обмена валюты.
После того, как финансовый хаос и всеобщая утрата траста, доверия к чему бы то ни было, захватит миллионы людей, будет достигнута и пройдена «точка невозврата».
А после нее не подействуют уже никакие успокаивающие заявления правительств, президентов, королей и министров.
В неистовом страхе перед уничтожением денег, а значит, уничтожением всех привычных условий их существования, люди кинутся на улицы добивать то, что еще осталось. Что еще можно добить. Добивать остатки государства. А вторая фаза – это, разумеется, установление из хаоса нового порядка, – как эти деятели во все времена любили и любят все новое! – схватывание социальной магмы новой кристаллической решеткой. Выплавление из всепланетного пара и грязевых потоков, в которые превратятся государства, и Объединенные нации, Таможенные союзы и Военные блоки, новой иерархии. Новых правителей Земли и пастухов человечьего стада.
Неслабо. Но слишком самонадеянно.
Одному Сообществу, разумеется, не под силу не то, что схватить за горло мировые державы, но и развязать настоящую, что называется, «глобальную» панику. И, конечно, кое с кем были заключены соглашения о поддержке. Достигнуты негласные договоренности о параллельных акциях или хотя бы о нейтралитете. Но, разумеется, и с дележкой свежевыпеченного пирога.
Но когда рассеется дым большой – и, увы, к тому времени непоправимой – катастрофы, то выяснится, что контрольный пакет акций нового выпуска в руках тех, кто напечатал и завез в Москву тонны карточек «Глоб Экспресс». В руках Моргенштерна и тех. кто стоит за ним.
Вот тогда-то все те, кому удалось пока договориться с Сообществом, все нейтралы, союзнички и помощнички, увидя, что партия кончилась, а их просто-напросто «кинули», вот тут они и взвоют по-хорошему. И кинутся отыгрывать. И, учитывая совокупную их массу, удержать за собой единоличный контроль Сообществу явно не удастся.
Но…
Нельзя было дать им возможность провести такую широкую акцию. Неисчислимые страдания и беды принесет она частным гражданам. Дискредитирует и, вполне возможно, невозвратимо подорвет легитимность крупных государств. Империй.
Какие это империи и какие это правители, если не смогли оборонить собственные валюты? Собственные центры дыхания и кровообращения.
И лет через десять, а может, через пятнадцать, попытка покончить с современной цивилизацией будет повторена. Только с куда более тщательной подготовкой и привлечением более надежных и многочисленных союзников. И вторая попытка будет, скорее всего, удачной. Как говорили русские большевики после успеха в семнадцатом году: без генеральной репетиции девятьсот пятого года не удалось бы победить в семнадцатом. А они в тактике большой смуты кое-что понимали. Несомненно.
Для Харта это означало одно. Нельзя уповать на переход громадных организованных сил государства в контратаку. Нельзя дать Сообществу, Моргенштерну и тем, кто его двигает, шанса совершить крупный прыжок. Необходимо валить их прямо сейчас, в тот самый последний момент, когда отталкивание уже состоялось, но сам прыжок еще не начался. Валить и ломать кости.
И вот этой ночью – закипело.
Все, кто намеревался планировать в восходящих потоках смуты и отчаяния, под покровом этой ночи уже выдвинули свои отряды на передовые рубежи.
Из-за океана помощь могла придти только от президента. Харт знал, что если к президенту поступит вся необходимая информация, и при этом из источника, которому сам президент доверяет, то он не уклонится от ответственности.
Третий звонок, как и два предыдущих, оказался безрезультатным. А Харт откладывал его напоследок, как эн зэ, неприкосновенный запас, как тайное оружие, которое можно пустить в ход лишь однажды.
Ведь молодой конгрессмен Грегори Линч, сын трагически погибшего в джунглях Южной Америки сенатора Джерри Линча, однажды уже твердо заявил Харту, что он обратится к президенту с личной просьбой только в одном случае: если это будет касаться расследования гибели его отца, случившейся во время его инспекционной поездки в одну из неортодоксальных религиозных сект.
Разыгралось все это уже более двадцати лет назад. Одна из нетрадиционных сект, после того, как вошла в острые противоречия с законами и властями Соединенных Штатов, целиком, то есть в полном составе и со всем имуществом, перебралась в джунгли Южной Америки. В одно укромное местечко-поселение на северо-восточном побережье материка.
Но скандальные сведения о явном неблагополучии в религиозной коммуне и даже об угрозе жизни и здоровью рядовых сектантов со стороны верхушки секты продолжали поступать в США и публиковаться в прессе. У отбывших искать спасения в джунглях осталось в Штатах немало родственников, которые громогласно выражали тревогу по поводу возможных грубых нарушений прав человека в секте. Они использовали для этого все известные способы доведения своей озабоченности до американской общественности. В том числе и отправку писем в Конгресс США.
В конце концов, сенатор Линч, из Штата которого приходило наибольшее число тревожных писем и обращений, решил провести «инспекцию на месте».
Он списался с руководством секты, получил от него не только согласие на свой приезд, но и любезное приглашение.
Джерри не вернулся из этой поездки. И сын больше никогда не увидел отца.
Убийство американского сенатора – событие, разумеется, не рядовое. Но в данном случае оно было заслонено в прессе и общественном восприятии уже совершенно ужасающим, воистину апокалиптическим событием: массовым самоубийством поголовно всей секты во главе с Гуру и его ближайшими помощниками.
Назывались цифры от одной до полутора и даже до двух тысяч человек.
О фрагментах массовой гибели людей кое-что, хотя и очень отрывочно, смогли рассказать несколько местных жителей, которые по договоренности доставляли в расположение секты простую пищу, воду и медикаменты.
После того, как в поселке «начались беспорядки», – а выражались они в том, что сектанты, принявшие по прямому приказу Гуру галлюциногены и отравляющие вещества, те из них, конечно, кто не умер на месте, начали бегать по проходам между палатками, страшно крича и корчась в конвульсиях агонии, – так вот, когда началось все это светопредставление, некоторым из местных, из тех, кто рот не разевал, удалось скрыться в густых зарослях кустов. Тех же, кто замешкались, без всяких церемоний пристрелили люди из личной охраны Гуру.
Кстати, именно этим людям, сыгравшим в событиях немаловажную, если не решающую роль, удалось тогда скрыться. Во всяком случае, среди трупов сектантов их тела так и не были обнаружены.
Кто были эти охранники? Откуда или по чьей рекомендации набрал их Гуру?
Расследования одно за другим заходили в тупик. В конце концов, общественному мнению, за неимением ничего более съедобного, скормили следующую весьма расплывчатую и приблизительную версию.
Сенатор Линч как-то успел выяснить или просто случайно увидел нечто, компрометирующее руководство секты. Или даже прямо противозаконное.
Допустим, к нему мог вырваться некий сектант, которому силой препятствовали покинуть расположение секты и вернуться на родину. Он мог передать сенатору, устно или письменно, что его подвергали мучительному или грубому обращению. Это уже были не шутки.
У кого-то из сопровождающих Линча не выдержали нервы, и участь сенатора была решена.
Все это были, понятно, только догадки. И ничем другим так они в дальнейшем и не стали.
Нынешний президент заканчивал тогда университет, в котором до выборов в сенат преподавал Джерри Линч. Загадочная, страшная смерть этого обладавшего выдающимся умом и редким обаянием человека потрясла тогда молодого гарвардского выпускника.
И он тогда обещал Грегори, сыну Джерри, что, когда бы тот ни обратился к нему за помощью по поводу убийства отца, он сделает все, что от него потребуется.
– Что же ты хочешь от президента, Чарльз? – спросил его из-за океана Грегори Линч.
– Чтобы он немедленно собрал в Белом Доме, или где ему будет удобно, одну теплую компанию. Там должны быть человек двадцать-двадцать пять. Список я уже выслал на три адреса – в Совет по международным делам, в Госдеп и в Лэнгли.
– Почему не на один?
– Чтобы наверняка. Чтобы не попало не к тому человеку.
– Хорошо. И что же это за люди?
– Биржевые брокеры. Банкиры. Из средних. Несколько президентов разных хитромудрых посреднических компаний. Ну и, конечно, ребята из «Сети старых парней».
– Понятно. Без них не обошлось. Отставники спецслужб всегда готовы дать прикурить… кому угодно. И что же эта компания натворила, Чарльз? О чем с ними будет перемигиваться президент? Вообще, мне кажется, ты там, в Москве, настроен несерьезно. Ты что, считаешь, что все-это можно организовать, как ты просишь, в течение часа и при этом сохранить секретность? Тебе президент, что – частный человек, допустим, любитель лошадей, гусиной печенки и шампанского, который может вот так запросто собрать у себя на ранчо своих приятелей-забулдыг?
– Он должен их собрать и предложить, нет, просто приказать, чтобы они вышли из игры. Чтобы в ближайшие дни ни в коем случае не снимали с вкладов крупные суммы наличных. Пригрозить, что против Моргенштерна начато уголовное расследование, и что любое сотрудничество с ним или его компанией «Глоб Экспресс» с сегодняшнего дня будет рассматриваться как соучастие в крупном мошенничестве, со всеми вытекающими последствиями.
– Какими еще последствиями?
– Вплоть до замораживания счетов и обращения преследования на недвижимость, изъятие всего, что представляет собой ценность или может быть обращено в таковую.
– Это все?
– Примерно.
– Будет исполнено, ваше генеральское величество. Президент Соединенных Штатов к вашим и нашим услугам. Он готов по первому вашему звонку приказывать, угрожать, изымать…Что там еще? Ах, да. Замораживать.
– Говори, да или нет? Ты сделаешь это? Ты позвонишь президенту?
– Мы живем здесь, Чарли, в демократической стране, как бы тебе, может, ни хотелось в данный момент выкинуть это из головы. И все, о чем ты говоришь, к сожалению, невозможно.
– Я знаю Конституцию не хуже тебя. Если возникает непосредственная угроза безопасности нации и стране, президент не может уклониться. Он просто не имеет права не применить все доступные ему средства, чтобы отклонить эту угрозу.
– Браво, Чарльз, ты и действительно превосходно понимаешь, что на самом деле записано в нашем великом документе. «Когда и если возникает непосредственная угроза». Так докажи это, Чарльз. Докажи это прямо сейчас. Хотя бы мне. Потому что, как ты понимаешь, доказать это президенту будет еще сложнее.
– Вагон с десятью миллиардами долларов.
– Беда в том, что отсюда, из округа Колумбия, его не видно.
– Я сам видел аппарат для вращения стодолларовых банкнот. И рисунок, который проявляется на некоторых из них.
– Извини, но это и вообще идет по разряду дешевых трюков. Может быть, ты и действительно размотал кончик какой-то валютной аферы. Но на всемирный заговор это не тянет. По крайней мере с точки зрения хозяина Белого Дома.
– Ты помнишь, Грегори, наш последний разговор перед моим отлетом в Москву?
– Помню. Ты сказал, что почерк убийц моего отца указывает на ребят из Сообщества. Так ты называл некое смешанное предприятие КГБ и ЦРУ, которое, по твоему мнению, стоит за некоторыми нетрадиционными сектами.
– Правильно. Именно это я тебе и сказал. Но не только.
– Не только, конечно. Ты еще сказал, что надеешься выйти на их след в Москве.
– Точно. Именно так я тебе и сказал. Теперь ты понимаешь, почему я тебе звоню?
– Это серьезно, Чарльз? Тебе есть, что сказать?
– Это они, Грег, поверь, я не ошибаюсь. Мы дождались, они наконец прыгнули. Остается встретить их на меч!
Это наверняка те же люди, которые убили твоего отца.
– Дай мне хоть одно имя, Чарльз. И я тут же позвоню президенту и напомню ему его обещание. Он сам до сих пор ненавидит убийц Джеральда. И, если появится хоть что-то реальное, указывающее на их след, он выслушает меня. Он даст мне аудиенцию, и я смогу передать ему все, что ты предлагаешь.
А если надо, у тебя состоится прямой разговор с ним.
Это я тебе обещаю. Но дай мне хотя бы одно имя.
В подмосковном поселке Кокшино есть чудесное место для отдыха, так называемый Дом творчества. Впрочем, творить там что-либо человеку, всерьез воспринявшему название этого милого заведения, было бы не с руки. А скорее всего, и попросту невозможно.
Почти под всем первым этажом был устроен настоящий крутой дансинг. Он же кафе-шантан, дискотека, в общем, смехопанорама с поддачей непрерывного литья и ломом бутылочного стекла. Всего, как говорится, понемножку.
Вечерами напролет завывала оттуда и расцветала потолочными, настенными и паркетными фингалами – ух ты, буги-вуги-цветомузыка. А внутри, то бишь, в самом том дансинге, прыгали и прижимались друг к другу творческие работники и, что, пожалуй, самое прекрасное, работницы. В определенной области. Почти демонической. Ведь все они имели дело с пятой субстанцией, безрезультатно разыскиваемой физиками со времен основания их науки Аристотелем. Имели дело с эфиром.
Да не с тем, который нюхают, а с тем, в котором носятся, пардон, на волнах которого несутся. Словом, плывут в этакий Зурбаган, где корабли под алыми парусами бесшумно появляются на рейде в виду еще спящего города, а волны мягкого, ласкового, как смерть, прибоя, шепчут; «Оставайтесь с нами. Оставайтесь на нашей волне».
Итак, Дом творчества назывался так просто по доброй традиции, взятой от писателей и композиторов. А в этом Доме просто хорошо отдыхалось, здесь, вот как это сегодня складно умеют назвать, можно было хорошо оттянуться.
Захорошеть, наконец, если вы не любитель новорусских лексикографов.
А, собственно говоря, чего же боле? Так ведь, кажется, писали и спрашивали в прежние-то времена?
Зато, в отличие от соответствующих усадеб, где ютились те композиторы и писатели, которые непременно должны были творить на природе, в Кокшинском Доме имелся один объект, о котором отдыхающие – или оттягивающиеся? – здесь творяги что-то вроде и слышали, но как-то вскользь и неточно. И не потому, что-де, тайна сия велика есть и тыр-пыр-восемь дыр.
Нет, и вовсе даже нет, и совсем не поэтому.
А просто, кому ж оно нужно, и что же там уточнять? Фрагмент пирога, понимаешь ли, как говорят в таких случаях.
Знали, что на выходе из дансинга – маленький буфет. От него туда и сюда – два коридорчика. Два небольших загончика, и оба тупиковых.
Правый – тупиковый без обмана. Там, у торцовой стены накапливалась в ожидании путешествия в грузовике винно-водочная тара. Да валялись по углам какие-то совсем «нетворческого» облика и мезозойского стажа употребления ватники. Если уж и они иногда использовались, чтобы еще как-нибудь лучше и, главное, побыстрее оттянуться, то это свидетельствовало бы о том, что жизнь во Вселенной может принимать любые, самые причудливые формы, и что творческие работники, как и неуловимый для физиков эфир, пронизывают собою, по сути дела, все мироздание, включая таинственные забуфетные пещеры.
В отличие от правого, левый загончик только казался тупиковым, и вообще смотрелся ряженым. В самом деле, в нем не только ничего не скапливалось, но, напротив, он неизменно демонстрировал некую каменную ухоженность тем, кто, твердо или покачиваясь, выходил из кабаре, то бишь из дансинга, кабака или переоборудованного под веселье бомбоубежища.
А каменная ухоженность есть, как известно, некая складка или отпечаток, некое государственно-угрюмое выражение, которое приобретают со временем определенные объекты.
Тут, кстати, если уж об этом зашла речь, верная наводка для шпионов. Иной ведь, особенно если из вновь прибывших, суетится, расспрашивает, а ведь оно, коли по сути говорить, и выеденного яйца не стоит.
Увидишь, где подметено чисто и прибрано всячески, да не под праздник, а под самые будни, в рань такую, когда еще и не вставал никто, не сомневайся: перед тобой он самый. Объект государственного значения.
А уж как ты на него, к примеру, собираешься проникать или, как бы это выразиться подипломатичнее, вынюхивать, то уж насчет этого совет со стороны – не подмога. Тут тебе советчик только твоя совесть. Она подскажет. Она же проведет и выведет.
Вот так все обстояло и с этим постоянно прибранным, тускло лоснящимся голубой «динамовской» краской закутком. Отдыхающие, конечно же, видели, что перед ними вход на самый натуральный, без лажи, объект государственного значения. Но что им с того?
Никто ведь от них факта этого и не скрывал. Время от времени отходил вверх квадрат линолеума в конце коридорчика, и из открывшегося люка появлялась чаще всего усатая, но уж румяная и заспанная – это всенепременно, будка военного. Допустим, как чаще всего оно и было, в чине майора.
Затем майор выбирался наружу по торс, а там и вообще вылезал, кряхтя больше от непонятного смущения, чем от натуги, целиком, поворачиваясь во все стороны, дабы показать, какой он весь из себя служивый и озабоченный.
И тут же, бывало, спрашивал у проходящих мимо его коридорчика «танцевальных пар», не имеется ли закурить.
Таким образом, со временем к майору и его появлениям из подполья настолько привыкли, что останавливались рядом не только для того, чтобы угостить дорогой сигареткой, но и самим прикурить, пару раз затянуться и перекинуться со служивым парой общих фраз.
Невольно взгляд курильщика скользил в сторону вскрытого подпола, стекал вниз, по металлической лесенке, цепляясь за металлические же перила, выкрашенные все в тот же бессмертный голубой масляный цвет. А дальше, метрах в двух внизу, шел еще один узенький коридорчик, еще более казенно-вылизанный. Как бы уже и безупречный в своей госугрюмости и неприступности. Ну, чисто вход в машинное отделение крупной, как голубой кит, подводной лодки.
Не с каждым, понятно, майор и заговаривал, а не то, что откровенничал.
Но если уж останавливалась рядом творческая личность, не слезающая, что называется, с экрана, которая, как понимал майор, и без него много чего знает, то уж тут надо было как-то обозначить и свою значительность.
– Наш, кхе-кхе, дубль вэ, так сказать, – с неловким смешком кивал он в таких случаях на свое хозяйство, из недр которого только что появился. На что важная творческая личность молча и исключительно тонко улыбалась, загадочно кивая знаменитым профилем, колеблющимся сквозь клубы дыма вирджинского табака.
Утром, когда все штатские еще спали, из дверей пустого дансинга появилась скособоченная фигура заспанного администратора. В правой руке он держал совковую лопату, а в левой спортивную сумку, в которой что-то уверенно-негромко позвякивало.
Подойдя к крышке люка, почти неотличимой от остального линолеума, покрывшего пол в коридорчике, администратор трижды, как будто вызывая подземных духов, стукнул по ней. Какое-то время снизу никто не отзывался. Но наконец послышалось легкое потрескивание отделявшегося куска покрытия, и люк начал приоткрываться.
Сначала показалась голова, разумеется, вся в усах, как турецкий полумесяц.
– Ну? – шепотом спросила голова.
– Все здесь, – с той же значительностью ответил администратор, – три пол-литра, три прицепа.
– Давай, – майор протянул снизу руку за сеткой.
– Ты погодь, погодь, – администратор явно не спешил передать посылку по назначению. – Ты, слышь-ка, вылезь сюда, есть для тебя кое-что.
– От кого? Зачем?
– А как же? Что вниз ушло, то раскурочено. Скажешь, не так? Там у тебя сколько дежурят?
– Да двое еще.
– Во. Двое. Да молодых. Им чего не подай, стрескают и не заметят. А я хочу тебя лично кое-чем удивить. Да вылезай уж, что ли. У нас тут все на скорую руку. Не задержу, поди. Чего ты, как рак какой, торчишь?
Майор, традиционно покряхтывая от сознания собственной значимости, поднялся на поверхность, ожидая дальнейших приятных сюрпризов. И сюрпризы последовали. Правда, не столь приятные, сколько неожиданные.
Администратор молча стоял, опираясь на лопату, как на жезл Моисея, и смотрел прямо в глаза майору госбезопасности. Взгляд его был глубок и проникновенен. И только в уме майора начали брезжить зачатки понимания этого взгляда, как уж все и без того стало ясно.
Тотчас отделились от противоположных стен две, до этого момента совершенно неразличимые на темном фоне фигуры.
– Ты чего? – майор рванулся запоздало, но…
– Тихо, тихо, тихо… Своих не узнал, Шурик?
Майора, положим, звали не Шурик, но своих он, конечно, узнал. Можно сказать, по всему. Да уже по тому, как под лопатки, не слушая подозрительных хрустов, завели руки и пришпаклевали спиной к свежевыкрашенной стене.
– Непобедимая и легендарная, В боях познавшая ра-адость побед…Ну, тут уж сунули по зубам. И опять же, знакомым манером, можно сказать, по-свойски. И…
– Тихо, тихо, тихо. Не шуми, Шурик. Тебе выпить принесли, а ты дергаешься.
Двое удерживали его у стены, а со стороны дансинга появились еще четверо.
– Да не тронем мы твоих, ты чего, майор?
Майор быстренько рассчитал, что его просто блокируют, а не бьют по голове железом, что, конечно, было бы со всех сторон проще. Значит, точно свои.
Межведомственная разборка. Измену Родине не пришьют. Значит, задача номер один – не загореться синим пламенем.
Первыми в люк спустились двое спецназов. А уже за ними, чуть погодя, пошли на погружение двое высоколобых с инструментальными чемоданчиками. Спецы.
Внизу, кажется, тоже все прошло тихо и благопристойно. По крайней мере ни криков, ни, упаси Боже, выстрелов, оттуда не послышалось.
Так, в высшей степени профессионально, то есть без всяких внешних эффектов, но зато быстро и без потерь – ни с той, ни с другой стороны – был произведен захват и переподчинение Объекта государственного значения. Потому как недаром майор, когда угощался сигаретами, мурлыкал про «наш дубль вэ». Он самый это и был: Дублирующий комплекс управления радио– и телесетями. На всей территории страны.
Неплохая игрушка, надо сказать. Впрочем, всего лишь одна из многих, построенных, как поется в одной из песен Высоцкого, «Говорят, на случай атомной войны-ы-ы».
Вот тебе и не война, а пригодился. Понимающим людям. Такой объект на дороге не валяется, тем более, что высоколобые могут его так перенастроить, что…
И подобрали. Кто? Ну, это и ежу понятно. Люди Воронова.
Президент просыпался и выходил в сад на прогулку так рано, что первый час оказывался в его личном распоряжении. Даже самые свежие донесения спецслужб не были еще готовы или, по крайней мере, не были еще доставлены к нему для ознакомления.
Но сегодня утром, возвращаясь с дальней поляны после легкой, как бы предварительной гимнастики, он заметил, что на подносе, лежащем на грубо струганном столе в беседке, уже что-то появилось.
Две бумаги. Не могли подождать, что ли, чтобы уже дать потом со всеми вместе? Выходит, не могли.
На этом уровне власти ничто не происходило случайно. Не случайно составители этих бумаг подсуетились. И не случайно помощник президента пошел им навстречу и подкинул их сообщения в беседку в такую рань.
Первая бумага – из ФАПСИ. Что произошло на этой грешной планете в ночь и под утро. И что же? По крайней мере из того, о чем следует немедленно поставить в известность президента.
Новость из Японии. Страна восходящего солнца. Оно и у нас-то уже вовсю восходит. А у них, значит, и тем более, далеко уже не утро.
Так. И что же? Сообщается, что утром в деловом центре Токио всего спустя час после начала работы разгромлено и подожжено помещение американской трастовой компании «Глоб Экспресс».
Кем разгромлено и подожжено? Что за американская компания? Подробности письмом, а пока что – возьмите сам фактик. «Доигрались», – почти беззвучно произнес президент. И было неясно, относится ли это к честным, но иногда слишком горячим японцам, к янки-жуликам из воровского «Экспресса» или даже к самим высоколобым перехватчикам из ФАПСИ, которым теперь в любом случае придется объяснять, почему они решили привлечь внимание президента именно к этому сообщению.
Значит, это их не беспокоит. Или, говоря точнее, их что-то беспокоит, но не это. Не возможные в будущем микрозавихрения в сфере персональной ответственности.
Одно это обстоятельство уже указывало на серьезность невнятной угрозы, стоящей за этим, если уж признаться, отвратительным, каким-то бормочущим, каким-то блудливым сообщением.
Вратарь, который изготовился отразить пенальти, смотрит только на ноги форварда. На разбег, замах, разворот стопы. Мгновенно анализируя весь этот калейдоскоп, это замедленное для его восприятия «кино», он может надеяться угадать направление удара. Да еще успеть броситься на перехват.
Вот так и в данном случае, прежде всего президент прислушался к потоку совершенно конкретных, даже конкретно-чувственных ощущений, которые вызвало в нем это сообщение.
По ощущениям выходило, что правильно побили этих жуликов из «Экспресса». А нам-то что? Может быть, и в Москве сотенка-другая этих карточек уже гуляет? Так и опять же, а нам-то чо? Может быть, сами фапсисты успели приобрести эти карточки, а теперь дрожат, как овечий хвост?
Так вполне могло случиться. Но с такими делами не лезут наверх, а дрожат, как овечий хвост, в задумчивости и одиночестве.
Видно, ощущения еще не вполне проснулись, раз ничего серьезного не несут в своих сетях. Вот только мелькнуло что-то рыбье, то ли глаза такие холодные, бесчувственно-выпученные, то ли бритвенный промельк красного, как кровь, плавника. «Нехорошо, нехорошо так, ребята», – произнес президент про себя. И опять-таки, даже и ему самому было до конца не ясно, кто эти ребята.
Но одно, правда, было для него определенным вполне: если эти ребята шебуршат близко под боком, то, без сомнения, следует показать им козу-дерезу.
Кто бы они не были, а нечего зря ребят из ФАПСИ нервировать. Да, здесь без президента не обойтись: растерялась служба и начинает на нерве попрыгивать.
Так. А вторая бумага? О, еще того не легче!
От начальника Московского Управления ФСК.
Почему же этот генерал не переслал свое донесение министру? Почему не снял трубочку, – если уж чересчур горячо, чтобы по инстанциям посылать, – и не доложил своему непосредственному начальству? А сразу, через все головы, на самую вершину Олимпа. Так. Перестрелка в районе Курского вокзала. Огневой контакт. По предварительным оценкам, имеются человеческие жертвы. События развернулись вокруг вагона с иностранной валютой, пока неизвестного происхождения и принадлежности.
По предварительным оценкам…Что же еще следует из этих самых предварительных? Которые, коль скоро они пошли не по инстанции, а легли прямо на этот дачный стол, как раз можно считать вполне надежно установленными. Что?
Во-первых, совершенно ясно, что заваруха возникла внутри группировки под командованием Толмачева. Никому другому не удалось бы устроить какой-то там, ни хрена себе, огневой контакт – и при этом, судя по количеству жертв, вполне капитальный – почти, можно сказать, в центре Москвы, и не подвергнуться сокрушительным ответным мерам. Не лечь под еще более капитальную огневую атаку, хотя бы со стороны того же Московского Управления ФСК.
Устроил Толмачев, больше некому. Но почему его уже больше не боятся? Или, может, еще и боятся, но уже не так, не в полном объеме. Если бы боялись по-прежнему, то не обращались бы выше через его голову. Что же поменялось?
Произошло побоище на вокзале. Да еще в далеком Токио пощипали каких-то финансовых спекулей.
А в результате этих событий позиции всемогущего, по общему мнению, генерал-лейтенанта Толмачева показались московскому ФСК так капитально ослаблены, что его действия можно и нужно обсуждать в разных докладных записочках.
Туда же и его собственный помощник. Если бы он считал, что Толмачев в самой силе и в ближайшее время еще более усилится, то бумага из ФСК… Много занятных приключений могла бы она пережить, по столам многих ответственных чинов из Администрации попутешествовать. Под благовидными и всегда уместными предлогами получения отзыва эксперта, «мнения специалиста» и тому подобного. Но уж во всяком случае, не легла бы она в такое «эксклюзивное» время на этот подносик. На этот столик. Не слетела бы, как с ветвей этих деревьев, или уж прямо с утреннего, еще белесого неба.
Но пока Толмачев занимает свою должность, его не могут не бояться. Его не могут тыкать носом, как нашкодившего школьника, в какую-то там перестрелку на каком-то там вокзале.
Но его не только тычут носом, но, кажется, готовы уже и жахнуть по затылку.
А это почему же такое?
А такое бывает уже не по расчету, а только с великого страха.
Подивился на это президент и в мыслях как бы прошелся еще раз по цепочке своих выводов. Толмачев, выходило, начал колоть дрова. Валять Ваньку и рвать на куски его шапку. Пугать народ до потери пульса и понятий о субординации. До забвения неколебимого чиновничье-армейского правила «Не высовываться».
До сих пор эмоции такой силы мог и должен был внушать только сам президент. А теперь что же получается?
Вот что: генерал-лейтенант так, до такой степени напугал служивых людей, что тем самым оказался как бы не на своей территории. Тут речь уже шла сугубо о президентских прерогативах. Логика строения высшей государственной власти диктовала в такой ситуации задать вопрос: если ты такой могущественный, то почему ты еще не президент?
А может, ты и еще покруче, чем все эти «жалкие» слова и устаревшие устало-либеральные понятия? Может, ты Терминатор, десантированный к растерявшимся людишкам из двадцать первого века? Но почему ты тогда еще не диктатор?
Из-за деревьев возник помощник и протянул телефонную трубку.
– Толмачев, – доложил спокойно президенту, а сам опять исчез среди летней зелени.
Генерал извинился за ранний звонок, многозначительно объяснив его тем, что «обстоятельства – чрезвычайны». А затем голосом, хорошо передававшим взволнованность и полную уверенность в конечном успехе, повторил примерно все то же, о чем президент только что прочитал в докладной ФСК.
«Значит, – отметил про себя президент, – он страхуется на всякий случай, понимая, что массированный огневой контакт на московском вокзале вряд ли может пройти незамеченным. Но страхуется нелепо, дребезжаще, без особого расчета, что поверят ему и его версии событий. Генерал делает этот звонок и ведет этот разговор несобранно. Неподготовленно. Непрофессионально. Это Толмачев-то? Да, это Толмачев. Он позвонил и доложился. Как бы перехватывая инициативу у возможных кляузников. Как бы действуя по всем канонам и правилам аппаратной борьбы за существование. Но как он это сделал? Как выкинул кость на крыльцо. А ведь мог бы куда богаче и толковее все устроить. И объяснения, и оправдания. (Ежели даже напортачил, и таковые потребовались.) А тогда по отношению к кому эта его небрежность? Ясно же, к кому: к единственной персоне, только и имеющей право на проявление небрежности, которую в этом случае, кстати говоря, называют “царственной”. К первому лицу в государстве».
– Вы внутри были? Сколько там, в этом вагоне? – спросил президент, как бы уже напоследок вспомнив некий пустячок.
– Точный подсчет под протокол не произведен. Но визуально можно прикинуть, что речь идет о нескольких миллиардах. Может, даже порядка десяти миллиардов. Или около того. Вы не волнуйтесь. Мои люди в настоящий момент осуществляют сплошную блокаду вагона и прилегающей территории. Комар носа не подточит.
– Вот что, генерал. Нечего там осуществлять сплошную блокаду. Ценный груз – а я сейчас же, немедленно объявляю его стратегическим – должен быть незамедлительно перемещен в надежное место. В Кремль, в Центробанк, в Госхранилище. Словом, куда будет удобнее.
– Перемещение по городу не гарантирует полной безопасности. Такое мероприятие требует тщательной подготовки.
– А на вокзале? Разве там нападение исключено? Допустим, самолетом.
– Собьем, – благодушно заверил Толмачев, – еще когда к Окружной будет подлетать.
Из такого разговора президент извлек простейшие, а значит, капитальные следствия. Обстоятельства дела на это утро. Если без заморочки.
«Мои люди осуществляют блокаду», – сказал генерал.
Да, у него были не только государственные, и даже не только «государевы», но и персонально «его» люди. И это обстоятельство уже и так с некоторых пор беспокоило президента и кое-кого из его окружения.
Но пока генерал был отсечен от финансовых потоков, беспокойство гасло, не выбиваясь на поверхность.
А теперь генерал контролирует колоссальную сумму черного нала, неизвестно откуда и с какой целью привезенную кем-то в Москву. А вдруг именно с этой самой целью?
Доложить-то Толмачев доложил, но уже первое конкретное предложение президента – о том, что следует поскорее переместить деньги в надежное место, – фактически проигнорировал. Вежливо так заболтал, затер в бестолковщину, А фактически – вот он, саботаж.
Но кто загрузил вагон? Ведь чьи денежки, тот и контролирует весь проект. Что бы там ни думали по этому поводу разные генералы.
Кто? Внутри страны таких молодцов нет. просто не соберут. А если бы и сумели собрать всем скопом, то… для чего? А то у нас и в десять, и в сто раз меньшей суммой нельзя решить любой вопрос кривой обточки?
Значит, очень похоже на то, что кто-то хочет решить «не наш» вопрос. Или американский (японский?), или какой-то совместный. Интернациональный. Глобальный.
Вот тебе, бабушка, и «Глоб Экспресс».
Наверное, начали они по часовой стрелке, с Японии. Но тамошние генералы оказались чуток поумнее, чем наши Бонапарты Иванычи. Те, небось, сразу поняли, что их всего лишь хотят использовать. И сразу дали под зад некой слишком хорошо намылившейся кредитной трастовой компании.
Президент присел за стол и кое-что набросал на первой странице раскрытого блокнота.
Когда появился помощник, он оторвал лист по сгибу и протянул тому для прочтения, не отдавая, тем не менее, в руки.
Помощник прочел:
– Во-первых, выяснить, действуют ли в Москве кредитные карточки компании «Глоб Экспресс». Если да, то с какого времени и в каком объеме? Как решался вопрос о лицензии? Во-вторых. (Но немедленно.) Выяснить местонахождение и установить связь (дать мне связь) со следующими лицами: 1. Генерал Воронов Олег Юрьевич. 2. Его заместитель, подполковник Кублицкий Иван Григорьевич.
Помощник нагнулся было над президентом – ткнул ногтем в слово «генерал» перед фамилией Воронова. Но вдруг мелькнуло у него в голове предположение, что президент не вполне еще проснулся и поэтому подзабыл, что Воронов все-таки еще полковник, а не генерал.
Но вовремя опомнился, отшатнулся и снова встал сбоку от шефа в спокойной, расслабленной позе. Если главковерх написал генерал, то, значит, с этого момента генералом Олега Юрьевича и следует считать.
7
Литератору Гербу вдруг позвонил его друг, литератор Пафнутий, и буквально завопил, что есть колоссальные новости и, следовательно, надо бы немедленно встретиться.
Пафнутий неделю с небольшим, как улетел в Штаты, и так быстро возвращаться вовсе не собирался. Он раздобыл где-то по блату или за небольшие деньги официальное, в том смысле, что с печатью нотариуса города Нью-Йорка, Приглашение, на удивление завистникам и пессимистам на «ура» прошел собеседование в посольстве США, то есть, получил въездную гостевую визу, и, не говоря худого слова, оторвался от Шереметьева-2 в полет на Запад.
Были у него в Нью-Йорке какие-то дохлые связи, очень уже ненадежные, так как люди свалили кто пятнадцать, а кто и двадцать с хвостиком лет назад, и ручеек общения с ними по переписке, можно сказать, иссяк.
Пафнутий заранее на всю Москву, то есть, разумеется, на ту ее часть, которая вообще знала о его существовании, объявил о цели поездки. О второй причине сенсационного решения навестить Новый Свет, перелететь Ла-Манш и приземлиться в Ирландии, затем перелететь океан и на часик вступить на землю Канады, а в заключение рвануть на юг, до изнеженных (или изъеденных?) смогом каменных гор нью-йоркских небоскребов.
Сенсационным решение Пафнутия явилось для всех, кто был осведомлен о его домоседстве, что, если отбросить этикет, можно было назвать и на самом деле являлось совершенно дикой, чисто природной и потому неоперабельной ленью. «Ленив, как Пафнутий», – так говорили даже в пивной на «Смоленской», где, в общем-то, насчет трудяг всегда было негусто.
Так или иначе, но Пафнутий сделал заявление для всех желающих слышать, что цель его поездки – разгадать, наконец, тайну Запада. Установить, существует ли Запад на самом деле, и если да, то стоит ли на своем месте, как о том трактует политическая география, и если, опять-таки, да, то как он на самом деле выглядит?
Конечно, железный занавес давно пошел отдельными кусками на металлолом или в переплавку. И люди в соответствии с этим уже лет пять мотались туда и обратно со страшным свистом, как будто и впрямь демонстрируя неутомимую дружбу народов. Но даже подобные секс-, шоп– и прочие транзиты так называемую загадку Запада еще не разрешали.
По крайней мере, так авторитетно заявлял сам Пафнутий, как и его сторонники из литературных и околокабацких кругов.
Дело в том, что еще в эпоху раннего застоя кем-то сначала робко была высказана, а затем пошла в рост идея о нереальности Запада или, как его называли в чудом выплывающих из-под глушилок радиопередачах, Свободного мира.
Никто из тех, кто десятки лет слушал такие радиостанции, как «Би-би-си», «Свободу», «Немецкую волну» или «Голос Америки», ни на каком Западе, конечно, не был и не мог себе даже представить, что такое когда-нибудь может случиться.
И, кстати говоря, правильно, что не мог представить. Ибо какое же партийное бюро хоть кого-то из них могло пропустить или утвердить? А без утверждений того или иного партбюро, как хорошо известно всем, кому довелось жить и трудиться в ту историческую эпоху, и воробей из лужи не напьется.
Складывалась ситуация, хорошо известная профессиональным психологам. Свидетельство одного органа чувств, в данном случае слуха, никак не подкреплялось данными других органов. А в таком случае возникает сомнение в реальности и единственного действующего показания.
Но, если Запад – это фикция, то где тогда источник радиопередач? Разумеется, самым разумным было предположить, что крамольные передачи ведет КГБ. А кто же еще? Сам ведет, сам и глушит. Для создания, так сказать, аромата подлинности.
Редкие телекадры о встречах на высшем уровне, маршах протеста против размещения в Европе ракет среднего радиуса действия и войны во Вьетнаме – все это, разумеется, согласно этой версии, было срежиссировано и отснято в спецпавильонах Гостелерадио.
Показывали, конечно, не только демонстрации против войны во Вьетнаме, но и саму эту войну. Впрочем, то были всего лишь нелепо смонтированные, пляшущие кадры, по которым понять что-либо было затруднительно. Да и, если уж принять эту логику до конца, кто может гарантировать, что и сам Вьетнам существует в реальности, а не в виде разрисованных под джунгли павильонов телестудии? Кто там бывал, в этом Вьетнаме? Почем там, в конце концов, кружка бочкового пива?
Словом, идея о бутафорской природе Свободного мира и многого другого пустила прочные корни в кругах вышеупомянутой, в основном, мужской общественности. Со временем она, можно сказать, и не подвергалась сомнению, а использовалась лишь как некий исходный постулат для возведения дальнейших умственных конструкций.
Итак, так называемый Запад придуман и сконструирован – в его теле– и радиоверсиях – учреждением под названием КГБ.
Но Алекс в одном из подобных разговоров пошел еще дальше. Он призывал всех, крепко держащихся в этой жизни за пивную кружку, проявить интеллектуальное мужество, а это значило, по Алексу, крепко держаться за единожды выбранную логику.
А согласно логике Порт-Смоляги – это он называл так пивную, по аналогии с французским Порт-Роялем или дальневосточным Порт-Артуром, – аккурат получалось, что не только Запад и Великие географические открытия придуманы КГБ, но что и само КГБ тоже кем-то придумано. И тоже для отмазки. Для отвода глаз.
– Нет, так не выходит, – сначала возражали ему. – Там, на Западе, действительно никто из нас не бывал. Можно и усомниться, стоит ли там чего, окромя бутафории. А здесь, вона дура какая расселась, пирог целый на Лубянке. И офицерики там так и шастают. Даром что в штатском, а что мы их, не знаем, что ли? Да в ближайших пивных приходилось и пивка вместе цедить, и леща впополаме имати.
Но Алекс разъяснил, что он и логика Порт-Смоляги ставят под сомнение вовсе не физическую реальность КГБ, как реально существующего учреждения, со всеми его зданиями, подвалами, это уж непременно! – и кадровым составом. Все это и многое другое, как, например, тысячи явочных квартир по Москве, боевые отравляющие вещества, заправленные в авторучки, существует вполне реально и ощутимо. Но все это физически реальное КГБ не может поручиться за свое собственное существование в некоем высшем, концептуальном плане.
Тут Алексу говорили, что он просто «от фонаря под фишки гонит». Но Алекс и на это знал, как ответить. Он говорил, что любое учреждение определяется не зданием и названием, а исключительно своими функциями и, во вторую очередь, своей внутренней структурой.
Так вот, насчет Комитета Алекс утверждал, что ни его реальные задачи, ни его структура, или, проще говоря, внутреннее устройство, его собственным сотрудникам могут быть и не известны.
Может даже быть закамуфлирована истинная иерархия, система подчинения исполнителей тем, кто ставит цели.
– Для отвода глаз, – говорил Алекс, – у них, конечно, все как у людей. Лейтенанты, там, капитаны, генералы. А на деле возьми какой-нибудь шпионский проект, особенно из долгосрочных, и хрен найдешь, откуда у него ноги растут. За некоторые дела брались, в порядке надзора, так за головы потом хватались. Я уж не говорю, что и за все остальные места в придачу. Откуда финансирование? Вообще ни черта не понятно. А оно, представьте, идет. Оно, представьте себе, капает. То есть, до абсурда. А когда и кто начал? И вот опять, копают, копают… С времен НКВД? Нет, раньше. От ГПУ? Раньше. Ну, в конце концов, выясняется, что еще русский царь заказал сие любопытное исследование. Да не последний царь, а, скажем, еще Екатерина поручила своему резиденту и конфиденту в Европе Дашковой. Так вот, с восемнадцатого века «обследование» хрен знает чего и длится. Вот такое положение дел, при котором неизвестны ни истинное начальство, ни реальные цели и задачи, Алекс и называл миражным существованием какого-либо государственного учреждения. И его следовало признать в таком случае всего лишь бутафорией.
– Но если «безопасники» сами ушами трясут, кто же тогда гонит фуфло? – спрашивали Алекса нелицеприятно. Но он, разумеется, только пожимал плечами, погружая губы в белую глыбу пивной пены. И только иногда оттуда, то есть, из пены, слышались как бы утомленные вздохи кита или тюленя, и Алекс шептал, уткнувшись в кружку:
– Этот вопрос требует дополнительных исследований.
И вот такое дополнительное исследование, правда, в его наивной и ограниченной форме, и решил вдруг произвести литератор Пафнутий.
Ему, конечно, указывали, что вопрос о реальности Запада как бы подувял. Чего там проверять или сомневаться, когда уже столько достойных братков и корефанов туда ныряли и, что самое главное, выныривали обратно. И при этом прямо к ним, на Смолягу.
Но Пафнутий был неумолим.
– Мы продолжаем исходить, – вещал он Гербу и Алексу с безумными, полыхающими закатом и портвейном глазами, – из того, что Комитет обладает практически неограниченными средствами. А разве в этом случае трудно выстроить что угодно, и где угодно? Выстроили же Байконур среди степей. А Лас-Вегас в пустыне? Это же официально признанные факты. Ну так вот. Почему же нельзя этих бедолаг, которые считают, что они наконец-то попали на Запад, повозить, как матрешек – прости, Господи – туда-сюда по фанерным городам да и баиньки уложить в палаточном городке. А чтобы палатка под пятизвездочный Палас-отель сошла, так не грех и галлюциногенов с чайком вечерним заварить.
– Ты только что прилетел? – спросил Герб, услышав в трубке голос Пафнутия.
– Нет, вчера. Я дома. Я очень устал и поэтому непрерывно спал. Хочу тебя видеть. Я сейчас одеваюсь – и к тебе.
– Может, тебе еще надо отдохнуть? – спросил Герб, считая, разумеется, что Пафнутий планирует грандиозную пьянку под рассказы об Америке.
Но Пафнутий удивил трезвостью интонации и смысла сказанного:
– Я попал там в странную историю, Герб. Она продолжается здесь. Я хотел бы с тобой посоветоваться.
– Тебе кто-то угрожает?
– Не могу так сказать. Но ощущение неприятное.
Через двадцать минут литератор Пафнутий уже стоял на пороге огромной коммуналки, одну из комнат которой временно, на период сдачи в аренду своей квартиры на Маяковской, занимал литератор Герб. После того, как Герб провел Пафнутия в комнату и усадил в старое кожаное кресло, гостю было предложено на выбор выпить крепкого чая или коньяка.
– А какая разница.? – нервно парировал Пафнутий. – Вон, смотри, у них и цвет один и тот же.
– Тогда позволь, я тебе скромненьких три звездочки плескану.
– Давай, Герб, лей, не жалей. Чего ты на меня, как на вставшего из могилы смотришь?
– Ну, за твое возвращение, – Герб налил и себе грамм семьдесят. – За то, чтоб мы всегда возвращались и чтобы было чем согреться после дороги.
И друзья далее, уже не чинясь, тут же налили по второй, уже более солидной дозе.
– Ну что, Пафнутий, ты чего так быстро приканал? Собирался месячишко исследовать, стоит ли Запад на месте, а сам за десять дней перекувырнулся. Это как понимать?
– Даю отчет, земеля, даю отчет, – загудел отошедший от первоначальной суровости лика Пафнутий. – Знаешь, как в хорошей песне поется? «Там хорошо, но мне туда не надо».
– Знаю. Хороший певец поет. Высоцкий.
– А ты помолчи, Герб. Я знаю, чего ты знаешь, а чего нет.
– И чего я не знаю?
– Чего тебе не положено, того и не знаешь. Но у тебя есть друг. Понимаешь? Кореш. Литератор Пафнутий. Вот он тебе и скажет.
– Что скажет литератор Пафнутий, если ему не менее великий литератор Герб нальет и в третий раз трех звездочек?
– Давай теперь за тебя, Герб. И за Алекса, за Марло, за вас всех. И за то, что я снова присоединился к вам.
Пафнутий выпил, и Герб присоединился к нему.
– А теперь слушай. Да, я вернулся через десять дней, а готов был обратно лететь уже через три дня. Я уже и обратный авиабилет взял. Да не получилось, пришлось на неделю задержаться.
– Нет, Пафнутий, в меня так ничего не войдет. Если не возражаешь, я тебе буду вопросы задавать. А если будешь один ты говорить, я все равно ничего не пойму.
– Да валяй, Герб, какие наши годы? Допрашивай, пытай, только потчевать гостя заморского не забывай.
Герб понял, что прыжок по воздуху с одного континента на другой не прошел для Пафнутия даром. Это был, конечно, понятный и знакомый опытным питокам эффект: нервы Пафнутия расслабились и легко резонировали с микровзрывами в крови коньячного спирта.
– Ты свое задание выполнил?
– А как же? Стоит Запад на своем месте, никуда не делся. Чего и нам желает.
– Чего желает?
– Чтобы и мы никуда не делись. Так, на всякий случай. А то ведь он все равно не заметит, делись мы куда или все еще тут вот сидим, гутарим под коньячок.
– Так уж и не заметит?
– Ну разве что правительство как-то на это и чихнет. Да и то, что ему в случае нашего полнейшего исчезновения придется Госдеп сокращать. А под сокращение кому охота попадать? Вот чиновник вашингтонский и озаботится. Вот он, глядишь, и затоскует. И затрепещет, пес несытый.
– А как же дружественный нам американский народ?
– Меня ведь не встретили. Герб, там жара нечеловеческая, в этом аэропорту имени Кеннеди, прости нас грешных и помилуй. Около сорока, представляешь? Тридцать пять-тридцать восемь, и стопроцентная влажность.
– Короче, Пафнутий. Ты решил вернуться через три дня. Почему?
– Так я же тебе о чем толкую? Жара, ну совершенно дикая, ну ты пойми это. Небо, нет, ты все равно не поверишь. Небо, Герб, совершенно желтое.
– Что же ты хочешь? «Город желтого дьявола», так ту местность и припечатал Буревестник пролетарский.
– Ты не смейся, не суй мне перо из буревестниковских ляжек.
– Да я не смеюсь. Уж больно ты суровым вернулся. Прямо как Амундсен замороженный.
– Ты что думаешь, вот вы тут сидите у Садового Кольца и прямо вы уже такие несчастные? Прямо у вас тут смог, и нечем дышать, и через озоновую дыру вас космос жестким излучением охерачивает? Ведь скажи, ты так и думаешь?
– А что, разве это не так?
– Да в том-то и дело, Герб, что ты глуп. Как сорок тысяч братьев, между нами говоря, глупее быть не могут, и ты, и все ваши окосевшие от пива дуремары на Смоляге.
Герб подумал, что вот же как бывает, только что пил человек за его и всех прочих питьевых знакомых здоровье, а не прошло и минуты, как все они оказались записаны по разряду дуремаров.
Но строго судить Пафнутия, конечно же, не следовало. После дальней дороги человек. Да к тому же после выполнения исторической миссии по установлению реальности существования Запада.
Герб с огромным внутренним напряжением ждал звонка от Алекса или Валентины. Кроме того, ему предстояла нелегкая задача: сообщить Пафнутию о гибели Марло. Поэтому он справедливо рассудил, что выслушать подробный отчет о заокеанских нравах – под рубрикой «их нравы» – еще будет время впереди. А пока что неплохо бы расспросить Пафнутия о той единственной конкретной причине их срочной встречи, на которую так многозначительно намекал Пафнутий в телефонном разговоре.
– Ты сказал, что с тобой произошла там какая-то история.
– А как же, Герб. Но ты пойми и меня. Совершенно дикая жара и влажность…
– Это ты уже говорил.
– Да. Но я до сих пор не могу отойти, как будто меня перехреначили из установки залпового огня Фиалки Монмартра. Ты не можешь этого понять, Герб. Это же другой континент. И будут новая земля и новое небо. Потому что старое все миновало.
– Значит, все стоит на месте, и все в точности, как в полицейских сериалах?
– Все, Герб, все до запятой. Полицейские сирены, как звуковая дорожка, и желтый цвет, как доминанта видеоряда, – вот твой Нью-Йорк, о Генри Миллер. Причем заметь, что есть и неожиданности. Внутри некоторых закрытых двориков – Италия Возрождения: фонтаны, статуи, мраморные плиты с набранными из сердоликов цветами и павлинами.
– Но об этом в следующий раз. Тебя не было, Пафнутий, всего недели с небольшим, но за это время кое-что случилось. Но сначала выкладывай ты сам: что там у тебя стряслось? Я же слышал по телефону, у тебя голосок в мандраже маленько был.
Пафнутий тяжело вздохнул, с некоторым недоумением поглядывая на пустую, допитую ими бутылку коньяка.
Тогда Герб, чуток поколебавшись, движением факира достал откуда-то с подоконника два двухсотграммовых снаряда с водочной начинкой.
Приплюсованные к выпитому коньяку, эти снаряды могли рассматриваться уже как серьезный зачин серьезного разговора.
– Уже на вторые сутки пребывания на гостеприимной земле талантливого нью-йоркского народа я твердо решил делать ноги, – выпив водяры и крякнув, как оживающий на глазах мертвый богатырь, начал Пафнутий.
– Поехав на Авеню Ар и взяв заказанный по телефону авиабилет на следующий день, я на обратном пути в Квинс-Асторию, где меня приютили старинные московские знакомые, заехал на знаменитый Брайтон-Бич. Ну, ты понимаешь, Герб, что знаменит он в основном именно у нас, и то благодаря кассетам с тамошними кабацкими шлягерами. Конечно, какое там купание в океане? Я-то надеялся всю свою дальнейшую жизнь с гордостью произносить: «Я плавал в Атлантике».
– Что же тебе мешает? Произноси.
– Да неохота как-то. Какая там Атлантика? Так, до неприличия теплый, мутноватый заливчик.
– И все-таки, именно там с тобой что-то и произошло?
– Представь себе, нет. Не там. И даже не в тот день. А на следующий.
– А что на следующий день?
– А на следующий день я должен был улететь. Вот скажи, если ты мне друг, что должен сделать человек прежде всего, если он хочет откуда-нибудь улететь?
– Прежде всего, он должен перестать трепаться.
– И если это откуда-нибудь называется Нью-Йорк-наш-Сити, то прежде всего такой отлетающий господин должен попасть в «Джи Фи Ки». Правильно? Что означает, как нетрудно догадаться, аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди. И я туда добрался от Астории на совершенно роскошном кадиллаке, внутри отделанном полированными панелями коричневого дерева и голубым бархатом.
– Это что же, у империалистов и такси уже такие шикарные?
– Никак нет, шер ами. В дополнение к таксерам у них, как впрочем и у нас, действуют индивидуалы, имеющие лицензию на частный извоз. Вот мне такой и попался, индивидуал. Веселый индус, чьи губы на светло-оливковом лице казались голубыми, как бархат, которым были обтянуты сиденья кадиллака.
– Короче говоря, ты оказался в «Джи Фи Ки»?
– Если короче, то да. А то я мог бы рассказать тебе и о том, как мы с индусом более получаса объезжали периметр аэропорта и у всех подряд спрашивали, где пассажирский терминал «Аэрофлота». На рейс которого я, разумеется, и приобрел билет, потому как он был намного дешевле билетов американских компаний. Так вот, мой индус у всех спрашивал – у свободных таксистов, у индивидуалов, как он сам, даже у полицейских, и никто не мог нам ответить, где же наш терминал. И если ты подумаешь, Герб, о бойкоте русскому писателю, то ты глубоко ошибешься. Никто не мог указать моему шоферу нужный нам терминал просто-напросто потому, что никто из них никогда не слышал о такой авиакомпании, как «Аэрофлот».
– Исходя из чего ты это понял?
– Исходя из того, что они с величайшим недоумением выслушивали вопрос, переспрашивали название, произносили его на разные лады – Э-э-э флот? – и казались еще более огорченными, чем индус или даже я сам, начинавший уже потихоньку нервничать из-за возможности опоздать на рейс.
Герб понял, что Пафнутий, может быть, и неосознанно, затягивает со своим сенсационным сообщением. Или вообще не решил, стоит ли о нем говорить.
– Закончи с тем, о чем ты хотел мне сообщить. Тогда еще и дернем. У меня еще три бутылки полусладкого.
– Так, может, промочим горло?
– А это что, так долго рассказывать?
– Да ты что, Герб, чего там долго? Ну вот, слушай. Я регистрацию прошел и гужуюсь потихоньку между залами ожидания и барами, спускаю последнюю зеленую тридцатку на пиво. Ибо, как сказал мне один талмудист со Смоляги, благословил нас Господь этим напитком во веки веков. Да не устанем мы славить имя Божие за такие его милости к нам, поганцам сущим, если уж как на духу-то молвить.
– Тормози лаптей, Пафнутий.
– И тут подходит ко мне господинчик. Можно сказать, подкатывается, потому что у него вся комплекция и конституция, а стало быть, и походочка здорово похожи на мои собственные. И предлагает он мне клевый гешефт. То есть, дело сомнительное, но на первый взгляд вполне проходное.
– И ты стал его слушать? Ты что, с ума сошел?
– Как видишь, нет. Не сошел, не схожу и не буду сходить. А жив-здоров, чего и тебе желаю.
– Что же тебе предложил твой милый?
– Почему ты так его называешь, Герб? Он не из таких, смею тебя уверить.
– Ну как же? Ведь поют: «Я милого узнаю по похо-о-одке…» А ты говоришь, что у него вроде и походка в точности твоя.
– Ну, не в точности, но в пределах рассеянного взгляда возможно отождествление.
– Какого взгляда?
– Незаинтересованного. Скользящего.
– А дело он мне предложил, между прочим, на десять тысяч баксов. Пять тысяч дал прямо там, в аэропорту. И еще пять должен передать здесь, в Москве.
– За что?
Теперь Герб встревожился не на шутку, так как прекрасно знал, что Пафнутий не относился к деловой породе гуманоидов, и, стало быть, в вовлечении его в какую-то реальную сделку было что-то неправильное.
– За то, чтобы я еще на недельку остался в Штатах под его именем и с его документами. И наоборот.
– Что, наоборот?
– Ему нужен был мой билет и мои документы. Вместо них он дал мне свой билет, на рейс неделей позже. Которым я вчера и прилетел. За «беспокойство» мне были выданы пять кусков прямо там, на месте, и столько же обещано здесь, в Москве, при встрече и обратном обмене документами.
– И где ты там эту неделю жил?
– Он отвез меня к «Ля Гвардия» и дал ключ от номера отеля, который был оплачен за неделю вперед.
– Это где и зачем?
– «Ля Гвардия» – это второй после «Джи Фи Ки» крупнейший аэропорт Нью-Йорка. Рядом с ним – отельчик средней руки. Я думаю, что он специально заранее снял там номер для своего предполагаемого двойника, чтобы тот в эту неделю нигде особо не шатался и не отсвечивал.
– Как он это все тебе объяснил?
– А чего там особенно объяснять? Деньги сунул под нос и сделал предложение.
– Шутишь? Получается, он тут целую неделю жил под твоим именем и, что хотел, то творил?
Пафнутий теперь, когда перешел на полусладкое, казался еще более взволнованным, чем в момент коньячного старта. Его енотовые глазки посверкивали от ужаса запоздавших прозрений. А горевшие апоплексическим возбуждением щечки интенсивностью холодного свечения напоминали пламя газосварки.
– Нет, Герб, ты не туда глядишь. Если бы на нем здесь, в Москве, повисла пара-тройка трупов или, допустим, несколько взятых сейфов, то он договаривался бы со мной совсем по-другому.
– Как именно?
– А так, что он взял бы мой билет и документы, а мне в обмен ничего бы не дал. Я сидел бы в отеле около «Ля Гвардия», он совершил бы здесь все запланированные им злодеяния и спокойно, под моим именем, вернулся бы в Штаты. Потом приехал бы ко мне в номер отеля и, что скорее всего, отправил бы меня кормить рыб на дно Ист-Ривер.
– Логично. Ты оказывался просто ненужным свидетелем.
– И, к тому же, по прибытии в Москву я мог быть арестован и допрошен, если бы он как-нибудь здесь засветился со своими художествами.
– А так? Что получается в вашем варианте?
– А в «нашем» варианте, ты же сам это видишь: вот он я, сижу перед тобой живой и здоровый. И заметь, прибывший в Москву по его документам.
– То есть, он не боится, что его прибытие было зафиксировано нашими властями?
– А перед этим точно так же американцами зафиксировано его, а на самом деле мое, но под его документами, убытие из Нью-Йорка.
– Значит, он не бегает от властей, а путает их. Причем делает это изобретательно и злонамеренно. Нет, ты зря с ним связался. Это все-таки очень опасно.
– Да ведь мы с тобой сейчас все это вычислили и прикинули. Парень не злоумышленник, иначе он не дал бы мне свои документы, чтобы я открыто прибыл с ними в Москву.
– Но что же тогда? В чем его интерес?
– Да проснись, Герб. Какой ты, к родным березам, писатель-детективист? Ну неужели ты не чуешь, что здесь за сто миль пахнет старыми добрыми Сетями шпионажа? Понятно, что парень этот из спецслужб, и ему вдруг понадобилось нагреть или подзапутать своих же корешей по ведомству плаща и кинжала. Его ждали здесь только вчера. Вчера он, по документам, и прибыл.
– А на самом деле он находится здесь уже более недели. И мы не знаем, что он тут за это время навалял. Да еще с твоими документами в кармане.
– Да какие там мои документы? Писатель Пафнутий, экий какой, понимаешь, чин! Да куда с такими пойдешь, в бункер Генштаба, что ли, прямиком? Я же тебе говорю, а ты Пафнутия слушай: он ни от кого прятаться или убегать не собирается, раз мое, а по документам его, прибытие зафиксировано в аэропорту. А это и значит, что уголовщиной он заниматься не собирается.
– Допустим, что так.
– Значит, его интерес только в том, чтобы кое-кого запутать относительно даты своего прибытия в Москву. Просто обмануть, и все. Ты понимаешь? Просто у него, я думаю, скорее всего с его начальником пошли какие-то скользкие делишки. А при таком скольжении, как ты понимаешь, самое милое дело – это хоть как-нибудь, а надуть своего начальника. Ну вот этот мой двойничок по мере сил и петляет, как заяц, который лапами по осине морзянку бьет. И еще всем вокруг хитро подмигивает. Мол, я жулик, но свой. Дело грязноватое, конечно, но не опасное и никому особого вреда не приносящее. Ты что, Герб? А то бы я иначе согласился, как бы не так! Ты чего молчишь, Герб?
– Что произошло здесь?
– А ничего. То есть все, как договорились. Он мне позвонил, и мы договорились сегодня встретиться. Обменяемся документами, и он мне даст еще пять штук зелеными.
– Покажи, хоть, его бумаги.
Пафнутий через стол, над бутылками, передал Гербу документы и корешок авиабилета, по которому он вчера прилетел в Москву, Герб, как только заглянул в них, удивленно и даже с некоторым недоверием хмыкнул. А затем с каким-то новым, но, казалось, со смягченным выражением стал разглядывать Пафнутия.
– Ну? Ты чего? – не выдержал Пафнутий. – Знаешь, что ли, этого мужика?
– Нет. Лично не знаю.
– Тогда что же? Посоветуй мне. Я ведь за этим к тебе и пришел. Он мне встречу заказал в высотном доме, на площади Восстания. Вот я и подумал: а почему именно там, да еще на частной квартире? Может, его ко мне пригласить? Или сюда, к тебе и Алексу?
– Как я представляю себе этого человека, прямая опасность тебе вроде бы не угрожает. Но на всякий случай я пойду вместе с тобой.
– Он сказал, чтобы я был один.
– Понятно. Кому охота светиться, когда лепишь аферу? Но мы с тобой что-нибудь придумаем. Я как-нибудь там подотстану или забегу вперед. Словом, сориентируемся на местности.
– Ты, Герб, писатель, пишешь детективы. Значит, твое место здесь, за столом и за бутылкой. А где кошмары-пожары намечаются, туда выдвинем кадры винтовые. Из бронзы и заклепок в три ряда. Ты усек, о ком я говорю?
– Нет. Я не усек.
– Позвоним Марло. Прямо сейчас. Вот он для такого дела подойдет на все сто.
– Нет. С тобой пойду я, и Марло мы больше звонить не будем. Никогда. Пока тебя не было здесь, у нас случились страшные дела. Всего сразу не расскажешь. Но как раз в ночь перед твоим вчерашним прилетом Марло был убит.
– Что ты говоришь? При чем здесь мой прилет? Ты бредишь, Герб. Мы все бредим. Ведь, может быть, никакого «Шереметьева-2» нет. А есть только киностудии, декорации, выстроенные, сам знаешь, кем. И я никуда не летал. А просто меня усадили в макет самолета, вкололи чего надо куда надо, и аля-улю! Что в переводе означает – вперед, на Запад.
– А этой ночью, буквально несколько часов назад, убит Гарик. Прямо на сквере. Ты же знаешь, он летом прямо там, на скамейке, и ночует.
– Это уже пурга, Герб. Так можно никого и не найти. И ты гляди, как все сразу стронулось. Нечего было мне трогать этот Запад и проверять, нарисован он или записан на видеокассеты. Нам-то какая, хрен, разница, в конце-то концов?
К Круглому привезли специалиста по антропологии, который осмотрел труп Марло в крематории около Донского монастыря и сфотографировал метку на его теле. На удивление специалиста, могущественный человек жил в самой обычной малометражной двухкомнатной квартире, обставленной в простецко-небрежном, старомодно-холостяцком стиле.
Неопытный в таких делах, Спец не обратил внимания ни на камеры внизу, у входа в подъезд, и на четвертом этаже, где он в сопровождении двух охранников вышел из лифта, ни на укрепленные на военный образец двери в соседние квартиры на этом лестничном пролете. А если бы и обратил внимание, то не понял бы, что все это значит. Ведь дверь к самому Круглому была даже и не из стали, а из хотя и солидного, но самого обычного и тоже ведь донельзя старомодного дуба.
И только человек с наметанным взглядом сразу бы оценил, насколько надежно контролируется вся лестничная площадка, на которой была расположена квартирка со скромной, слегка даже и обшарпанной дверью.
Отметил бы он, этот человек, и решетчатые секции, перегораживающие вход на эту площадку с верхнего и нижнего этажей, и красные глазки электронных датчиков на стенах около этих секций.
Да, воистину Круглый мог не беспокоиться о своей безопасности и жить в патриархальной простоте и непритязательности. Простая квартира, простецкая дверь, символические запоры. Но, разумеется, ни малейшего легкомыслия никем, и прежде всего его охраной, не проявлялось.
От Круглого зависело процветание, благополучие или даже само существование столь многих, что сохранность его персоны можно было считать делом воистину общественным.
А Круглый, соблюдая старые правила игры, да к тому же и сам нося в себе ген староверов, сторонился показной роскоши в импортном, а значит, по его искреннему убеждению, дьявольском исполнении. Отодвинул он от себя, вынес вовне и всю эту ухищренную технику безопасности. Пусть, конечно, она будет, куда ж без нее? Но пусть уж и не стоит над душой, и не дышит в затылок. Поэтому справа и слева от его малометражной холостяцкой берлоги располагались в своих роскошных пятикомнатных квартирах два его заместителя: по безопасности и по кадрам.
А на третьем и на пятом этажах жили или круглосуточно дежурили ответственные за связь, транспорт и быт. К тому же, все они при необходимости могли взять в руки оружие.
Нет, Круглый не собирался изменять простому вкусу своего жизненного обихода. Пусть недоумки считают это за его личное чудачество. И даже за первые признаки начинающегося старческого маразма. А это, веселые ребята, совсем даже и не так.
По его образу жизни тем, кто поумнее, понятно, каким он богам служит и жертвы приносит. А боги эти еще ревнивее, чем люди. Они только молчат и смотрят.
– Вот, видите, – он разложил перед Круглым несколько цветных фотографий, на которых в разных ракурсах можно было разглядеть правый бок трупа Мартина Марло, – вот, пожалуй, эта и еще эта самые удачные.
– Что вас интересует, основной факт я уже доложил вам по телефону. Татуировка нанесена не раньше, чем несколько суток назад. Скорее всего, прошлой ночью. Во всяком случае, ни о каких двадцати годах не может идти и речи.
– Значит, ты это подтверждаешь?
– Безусловно. Да для этого не надо быть и особым специалистом.
– И то. А что еще можешь сообщить, раз уж ты много лет учился?
– Поглядите внимательно на рисунок.
– На паука, что ли, похоже?
– Нет. То есть, да, похоже. Но не очень. Видите, две вогнутые навстречу друг другу полоски? А посередине, чуть ниже середины, их перечеркивает или соединяет тонкая вертикальная черточка. Это – символ Рыб.
– Хм. Не очень-то похоже. На семгу, положим. Или еще на какую приличную снедь.
– Оно и не должно быть похоже на снедь, как вы изволили выразиться. Все-таки, можно считать, что здесь изображены две рыбы, соединенные связкой и плывущие в противоположных направлениях. Изображение, конечно, символическое, но оно таким и должно быть. Здесь изображены не морские или речные, а небесные Рыбы. С большой буквы.
– Созвездие зодиака? – ради выигрыша во времени Круглый решил не изображать ваньку, а задавать вопросы по существу.
– Да. Абсолютно точно. Но опять-таки, заметьте себе, символично. В астрономическом созвездии одна рыба расположена вертикально, а вторая горизонтально.
– А смысл? Давай свои выводы, а там порассуждаем.
– В эру Рыб Земля вошла две тысячи лет назад. Разумеется, это было воспринято как астрологическая синхронность с зарей христианства. Так вот, вертикальная Рыба на небе считается соответствующей первому христианскому тысячелетию. А горизонтальная – второму.
– А третьему, значит, не бывать?
– Так мы же уходим из Рыб и начинаем эпоху Водолея.
– А, ну конечно. Как же это я, про Водолея и забыл. Ладно, парень, складно врешь, но под пулю не присядешь. Слышал такие куплеты?
– Я еще не кончил доклад.
– Неужели?
Что все это значит? Говори, если есть, что сказать.
– Всякая татуировка такого высокого класса автоматически должна рассматриваться как послание.
– Не шустри. Что значит – высокого класса?
– Тонкость и сложность рисунка, безусловно, свидетельствуют о древности оригинала, с которого выполнено клише.
– Так, может, в дело и был пущен сам оригинал?
– Нет. Это явная подделка.
– Почему? Говори коротко и толково.
– Я же сказал, татуировки подобного класса должны рассматриваться как послание. А послание состоит из него самого и адреса отправителя.
– Ишь ты. Обратный адрес?
– Можно сказать и так. Так вот, обратного адреса здесь как раз и нет. Вот, у меня с собой лупа. Можете сами изучить фотографии.
– Это еще зачем же? Ты ведь, надеюсь, это сделал?
Эксперт все еще не рассчитал в точности, следует ли ему проявлять всю ту осведомленность, которой он обладал? Увеличит ли это его шансы благополучно пережить участие в столь необычной экспертизе?
«Но я не знаю, как звали при жизни этого человека, – прикидывал про себя эксперт. – Значит, с этой стороны я им не опасен. Но, с другой стороны, приложив кое-какое старание и кое-какие деньги, я мог бы узнать его личность у работников морга. И с этой стороны я, вроде бы, мог бы стать для «них» опасен. Но ведь это надо быть сумасшедшим, чтобы попробовать заняться этим. А я что, сумасшедший? Нет. Я специалист-консультант по антропологии и мифам, по древним культам, наконец, и «они» это знают. Они видят, конечно, что я не безумец и не авантюрист, и поэтому не посмею и даже не подумаю соваться не в свои дела и вынюхивать, что не положено».
– Я могу сказать вам больше, – решился, наконец, эксперт несколько расширить тему разговора, но был прерван появлением в комнате мужчины-малютки с невероятно, однако, накачанным, буквально квадратным торсом.
Малютка что-то прошептал на ухо Круглому и тут же исчез, как его и не бывало.
– Так что ты там еще можешь больше сказать? – как бы в некоторой рассеянности и озабоченности спросил Круглый.
– Я ведь осмотрел не только участок, где нанесена татуировка. Но и все тело.
– Это еще почему?
– Общая картина показалась мне запутанной.
– Картина чего?
– Смерти этого человека. Меня, разумеется, не интересует, кто он такой, – тут Круглый совсем чуть-чуть усмехнулся, так как ему сразу же стало понятно, из-за каких опасений эксперт так резко очерчивает границы своей любознательности, – но меня, признаюсь вам в этом со всей определенностью, весьма заинтересовало, как и от чего именно он погиб.
– О, ты можешь определить и это?
– Со всей определенностью едва ли. Но кое-какие соображения на этот счет у меня уже появились.
– Стой. Давай прервемся. Мне нужно поговорить с одним человеком, и я тебя ненадолго оставлю. Попробуй пока вот этого вискарика. Знатоки его уважают. А ведь ты знаток?
Круглый вышел во вторую комнату, а Спец подумал, что последний час его, может быть, еще и не пробил. Кого решили заваливать, не балуют объяснениями и высококачественным шотландским виски. А может, наоборот, притупляют бдительность, чтобы он расслабился и не оказал сопротивления при нападении на него?
Во второй комнате Круглого ждал Алекс, доставленный сюда из кабака теми же хлопцами, которые приковали его там, на эстраде, потехи и удобства ради к концертному роялю.
Круглый, между прочим, некоторые моменты, связанные с обликом гомо сапиенса, просекал не хуже, чем спец-антрополог, маявшийся сейчас за стеной над бокалом дорогого классного вискаря. Поэтому он сразу отметил во внешности Алекса достаточно заметное, пожалуй, даже бросающееся в глаза несоответствие. Имело место явное расхождение между возрастом, – как говорится, «хорошо под полтинник», – и молодой, а если еще присмотреться, то можно сказать, безупречной гибкостью движений, мягкой, оттренированной уверенностью повадки.
Возраст определялся по лицу, по морщинам, в три полосы пересекавшим высокий лоб, по отливу седины на висках, по набухшим венам на кистях и запястьях рук. С этим ошибиться было невозможно.
А совершенная скоординированность и юношеская легкость тела существовали как бы сами по себе, над или вне густого течения земного времени.
Сразу же определив и как бы зацепившись за это несоответствие, Круглый решил уделить вновь прибывшему больше внимания, чем это было определено после телефонных переговоров.
Ну, намекнул этот Алекс, что у него есть что сказать по части татуировок. Круглый сразу отметил совпадение этого предложения незнакомого ему человека и всего, что накручивалось вокруг осмотра этой ночью мертвого тела.
Совпадений, конечно, в профессии Круглого не бывало. И поэтому можно было пойти на контакт с неким, вероятно, случайно затесавшимся в события аферистом. Хотя бы для того, чтобы узнать, где прохудилось и откуда произошла утечка. Но первый же взгляд на Алекса показал Куглому, что перед ним не аферист, что Катрин права, заинтересовавшись этим типом, и что у него попросят не деньги. А что же тогда?
Чтобы скрыть некоторую свою неподготовленность к серьезному разговору, Круглый и решил начать с выяснения запросов собеседника.
А что тот мог предложить в обмен, должно было выясниться само собой, но при сохранении инициативы за тем, кто выслушал, а не за тем, кто первый сказал.
– Значит, говоришь, тебе моя дочь понравилась? – не выдержал все-таки старый гангстер, чтобы не поерничать, не желая, а может быть и не будучи в состоянии скрыть свою лютую натуру.
– Да, ваша дочь очень хороша. И очень скоро она освободит вас от головной боли, которую имеет любой отец молодой и красивой дочери.
– Женишься, что ли?
– Не я. Но мне кажется, что еще сегодня ей сделает предложение отец того звонаря, с которым она закатилась в ресторан.
– Ладно. Ты не цыганка, а я не баба на базаре. Ты что хотел, когда лез ко мне? Если дочь, – сам каркаешь, что уже кто-то там сговорился ее увести. Если денег – говори, сколько и за что. И канай отсюда по-доброму, раз за тебя Катрин просила. Я ее просьбы, как правило, выполняю. Но по одной в год.
– Нет, речь идет не о деньгах.
– Значит, о людях? О заложниках, что ли, каких? Так нет же, я этим не занимаюсь.
– Есть паренек, зовут его Саня Рашпиль.
– А, вон ты о чем. Так ведь на нем же миллион?
– Не у вас же он взял.
– Пусть и не у меня. Так у моих друзей, партнеров по бизнесу, можно сказать.
– Я знаю, о ком вы говорите. О людях Толмачева. Я даже видел их в деле. На одной площади. Они охотились за моим другом, старлеем Симоновым. Но охота сорвалась.
– Чего же это у тебя друзья в лейтенантах ходят? Ты вон уже заматерел как, а корешки твои, выходит, никак кашу из крупы не сварят?
– Мы подружились с Симоновым только этой ночью. И то только потому, что нас познакомила Лора.
– А это еще кто такая?
– Мы с ней познакомились этой ночью.
– Да что это ты все заладил, о ком тебя ни спроси. Ты что, до этой ночи вообще людей не знал?
– Нет, почему же? До этой ночи я тоже кое-кого знал. Например, Гарика.
– Это что, племянника того?.. Борца за мир?
– Да.
– А почему ты говоришь – знал? Что с ним?
– Его убили. Буквально за минуту-другую до того, как я подошел к его скамейке.
– Мерзавцы. Верь мне, я здесь не при чем. Ни я, ни мои люди. Кого же ты еще знал до этой ночи?
– Мартина Марло. Его тоже убили. Примерно за сутки до Гарика.
– Послушай, что же это получается? Кого ты знал раньше, тех поубивали. Как можно? Значит, ты был им плохой друг. Плохо их охранял.
– Зачем же мне было их охранять, если на них до этого никто не нападал?
– Э, оправдываешься, значит, совесть заела. Ладно, сам на нож налетишь, многое тебе простится, – опять не удержался Круглый, чтобы не намекнуть Алексу относительно реального соотношения сил.
«Чудит старик, играется, нервы свои, верно, так успокаивает», – подумал Алекс, а вслух сказал:
– Так или иначе, вы спросили, я ответил. Я знаю, что после столкновения на площади спецназы Толмачева потеряли след этих людей. А может быть, утратили к ним интерес. В конце концов, как вы сами только что сказали, речь шла всего лишь о каком-то лейтенантике и нескольких его случайных знакомых. А вот братве с самого начала плевать было на всяких там литеров, они и о существовании Симонова, скорее всего, не подозревали.
– Верно гуторишь, станишник. Не подозревали. Потому как им оно ни к чему. Подозрения-то эти.
– Им ничего и не надо было подозревать, потому что им уже все сообщили. Их корешки с Курского вокзала.
– Давай заканчивай, я тут и без тебя кое-что знаю. А чего не ведаю, того, стало быть, мне и не надо.
– Братишки сели на хвост Рашпилю, посчитав, что для одного, он слишком много унес.
– А что? Это так. Не всякая сумма во благо. Так о чем у нас с тобой базар зашел, я что-то не врубаюсь? Не везет мне сегодня, ты у меня уже второй такой. Вон он, за стеной сидит, хиппи по высшим наукам, едрена-матрена. И как начнет закручивать, ну чисто вроде тебя. Я вас сейчас сведу. Только давай с тобой закончим. Значит, что тебе от меня надо, это я более-менее понимаю. А кстати-ка, повтори все это, только ясно и четко.
– Снимите погоню с Рашпиля и тех, кто с ним.
– Да какая там погоня? В Кащенке-то их не обнаружили, ну а из соседней психушки люди добрые уже доложили: там они. Пригрелись и круговую оборону заняли. Ну, чисто дети. Какая там круговая?
– Значит, снимите осаду.
– Понимаю. Миллиончик сам решил с Рашпилем поделить? А в самом деле, зачем моим ребятам? Слишком жирно, испоганятся, со службы разбегутся.
– С деньгами Рашпиль сам разберется, сколько и на что ему нужно. С ним Лора. Я же вам сказал.
– Понятно. Это твоя женщина?
– Будем считать, так. Мне нужно, чтобы Лоре, Рашпилю и всей группе людей с ними была гарантирована безопасность.
– А что ты под этим подразумеваешь?
– Сейчас вы отдадите приказ о том, чтобы с них была снята осада. Таким образом, чтобы они смогли беспрепятственно покинуть территорию больницы и скрыться…
– В неизвестном направлении?
– Ну да. Примерно это я и имею в виду. Во всяком случае, чтобы их никто не преследовал.
– А дальше?
– Не преследовал ни сегодня, ни завтра. Чтобы совсем о них забыли. Если вы так распорядитесь, то так ведь и будет?
– Сегодня, может, и распоряжусь. Если ты мне понравишься. Но откуда ты знаешь, как я распоряжусь завтра?
– А вы мне слово дадите. Это же все очень просто.
– Я? Тебе? Ты сумасшедший. Вы все у меня в руках. Ты и вся твоя полоумная компания.
– Не будем тратить времени. Вы сделаете то, о чем я говорю?
– Это все?
– Нет, конечно. Это самое простое и самое бесспорное. Но прежде, чем я буду говорить с вами о дальнейшем, возможно, что-то захотите сказать мне и вы. Возможно, у вас тоже есть кое-какие проблемы, в разрешении которых я мог бы вам помочь?
– Ты? Мне? А кто ты такой?
Вместо ответа Алекс отошел к окну и, отвернувшись от Круглого, как будто дергал что-то руками у себя на груди.
«Расстегивает сорочку, – догадался Круглый. – Неужели у него там железо за пазухой? Нет, его ребята аккуратные доставили, значит, обшмонать должны были по первому разряду».
Между тем Алекс и вправду расстегнул свою голубую, слегка побелевшую от нескольких лет стирки сорочку, но оборачиваться не спешил. Как будто что-то высматривая там или ожидая еще что-то услышать из-за спины.
В нетерпении Круглый, чувствуя, что вот-вот произойдет или уже происходит что-то важное, но пока ему непонятное, крикнул со всей возможной строгостью, но фактически в панике:
– Кто ты? И откуда?
И только тогда Алекс повернулся от окна в сторону комнаты и плавно приблизился к Круглому. Теперь они стояли на расстоянии метра и будучи разного телосложения, но примерно одного роста могли смотреть прямо в глаза друг другу. Не говоря более ни слова, Алекс отвел правую полу сорочки в сторону и, повернувшись к Круглому в пол-оборота, поднял правую руку вверх.
– Джокер? – не выдержал и, как лучшей половиной своей жизни, выдохнул Круглый. Но тут же и очнулся, даже головой потряс, как бы желая избавиться от наваждения. Затем, резко отвернувшись, отошел к окну и занял ту же позицию, в которой только что стоял там Алекс.
«Значит, сбылось? – лихорадочно пытался что-то подрассчитать Круглый. – Да разве так бывает? Как раз, когда мне он нужен позарез, в последний, можно сказать, момент и появился? Да разве так бывает? А может, все это снится или, допустим, чья-то хитро-бестолковая провокация подходит к концу? И прямо сейчас, с крыши вон того особнячка напротив, ужарят маслиной промеж глаз?»
Но все такого типа предположения пронеслись в голове Круглого скучно-обязательным вихрем – обязательным для рассмотрения – и на мусорной тяге вытянулись вон. Интуиция все-таки – это дело святое. И ей он доверял всегда больше, чем правилам перепроверки. И она говорила ему сейчас, что это не провокация, и что сказка, рассказанная ему на Востоке, поможет ему здесь, в Святом городе, переиграть неудачно затеянную игру.
Если это реальный Джокер, то у Круглого появляется шанс выкарабкаться из-под чужих дядей, которые внаглую уже сели на него и поехали. Послать их куда подальше. А для верности таких физдюлей навесить, чтобы они и внукам своим заказали не приближаться к уютной империи Круглого ближе, чем на дистанцию международного авиарейса.
И все-таки не помешает и перепроверить. А то одного такого, правда, почему-то отдавшего концы, ему сегодня в морге уже предъявили.
«Итак, кто он? Допустим, ответ гласит: Джокер. Но откуда он? Катрин правильно определила, подготовочка у него, судя по быстроте и правильности передвижений, капитальная. И, конечно, он смог бы и сам освободиться от моих ребят в кабаке. Но ему надо было выйти на меня. Зачем? Чтобы я защитил этих олухов, окопавшихся в дурдоме? Нет, эта его забота, хоть и истинная, так как замешана молодая женщина, но для такого ко мне обращения все-таки мелковата. Справился бы, скорее всего, и сам. Значит, о настоящей работе только сейчас еще и услышим. Может быть, он и не появится, сказали ему тогда, не на жизни каждого это и случается. Но если придет, то у тебя все уже будет хорошо. В том смысле, что выполняй и не думай. За тебя подумано, и риски уже не твои. Не на жизни каждого и случается… Почему же именно на моей случилось? Круглый – барин невелик. Хоть и дело свое крепко поставил. Тогда почему же? Или поставим вопрос по-другому: что изменилось в жизни вокруг? Что возникло, и причем из такого, чего прежде не только не было, но и не могло и не должно было случиться? Чего же тут маяться? Разве не понятно, что такой невиданной новизной обладает только этот гнилой проект, в который втянули его против его воли. Гниляки и втянули, а он решил, что не стоит с ними ссориться, что, может, все обойдется малой кровью, а потом он вынет свою долю из этого гнилого металло-экспорта и спокойно доживет до старости лет королем московских борделей. Значит, нет, не пронесло. Откуда же все-таки этот? Не зэк, и не спецназ, а что-то третье, с извлечением кубического корня. А также – одночлена. Только бы это был он, мне больше ничего и не надо. Но перед основным разговором неплохо бы все же уточнить. Укрепиться. А тогда уж и бить… со всей колоды».
Он снова подошел к Алексу и сказал:
– Хочешь с докой поговорить?
– С кем?
– Со спецом по твоим делам. Я-то уж стар стал, куда мне. И вижу плохо. А он глазастый. Чего ему там скучать?
– Если это необходимо, то почему бы и нет? – ответил Алекс, и они перешли в соседнюю комнату.
– Так что ты мне хотел еще сообщить? – довольно бесцеремонно возобновил Круглый прерванную беседу с молодым ученым. При этом он даже не счел необходимым представить антрополога и Алекса друг другу.
– Как я вам уже сказал, – достаточно охрабренный принятым виски заговорил эксперт, – я осмотрел не только участок тела, на который нанесена татуировка, но и многочисленные шрамы, ушибы и обширные гематомы. Мне кажется, я частично вижу картину гибели этого человека.
– Ишь ты, – не так, чтобы очень добро, усмехнулся Круглый, – вот как таким прикажешь яйца прищемить? «Частично вижу» – это как понимать? Ты можешь, например, частично поиметь сам себя в зад?
– О ком у вас идет речь? – спросил Алекс.
– Давай мы это потом с тобой обсудим, – быстро ответил Круглый, – вот с этим сейчас закончим, а потом я тебе на все вопросы отвечу. И все сделаю. Меня о тебе предупреждали, что ты можешь появиться. И раз ты здесь, дальше уже не моя, а твоя игра. А мне только интересно послушать, что он скажет о твоей метке. А то одного такого деятеля он перед твоим приходом тут разоблачил. Прямо по фоткам. А теперь пусть себя покажет на живом теле, так сказать.
– А вот это совсем другое дело, – уверенным тоном заявил ученый малый, осмотрев Алекса.
– Почему другое? – быстро спросил Круглый. – Вроде бы похожи, рисуночки-то?
– Во втором случае присутствует то, чего нет в первом: не только само послание, но и штемпель отправителя.
– И что он означает?
– Не могу сказать точно, обводящая линия чрезвычайно тонка и прерывиста. Я только по ее положению относительно общего рисунка определил, что она должна означать адрес отправителей. Но кто они – сказать затрудняюсь. С уверенностью можно только сказать, что послание очень древнего происхождения.
– Нарисуйте на бумаге, как выглядит штемпель? – неожиданно предложил Алекс, плюс к делу решивший проверить, насколько Фундаментальную подготовку по мифологии он получил когда-то в Училище.
Антрополог начертил на листочке из блокнота круглую линию, а затем вписал в нее косой крест.
– Это знак столицы Атлантиды, острова, исчезнувшего в океане в незапамятные времена.
– Что? Действительно древняя загогулина? – спросил Круглый.
– Древней не бывает. Послание от до – нет, вы представляете? – от допотопного человечества! – восторженно продекламировал ученый, которого, казалось, ничуть не задело, что его квалификация эксперта несколько поблекла на фоне уверенного знания Алекса.
Впрочем, Круглый не склонен был считать, что дискуссия закончена и все вопросы сняты.
– В таком случае я не понимаю одного, – обратился он снова к эксперту, – почему на труп был нанесен такой грубый фальшак? Что помешало им скопировать и штемпель отправителя?
На этот раз ответ эксперта последовал молниеносно:
– Те, кто изготавливали клише для фальшивой метки, сами могли никогда и не видеть настоящей. До них могли доходить только рассказы в устной, всегда крайне расплывчатой и приблизительной, передаче. Или даже описания в каких-то древних книгах по астрологии и геральдике. Но в древних книгах полным-полно ошибок, позднейших вставок или, наоборот, сокращений, которые проникали в них при снятии рукописных копий. Так или иначе, у тех, кто это проделал, – я имею в виду рисунок на трупе, – были только те неполные представления об оригинале, которые они и реализовали. Вы удовлетворены?
– Не совсем, – твердо заявил Круглый, и Алекс лишний раз подивился неукоснительной логической последовательности, с которой тот обрабатывал мельчайшие детали неясной для него ситуации.
– Как ты изложил, тем, кто работал с покойником, – земля ему пухом, – не хватило только знаний, чтобы сделать точную и полную копию метки. Значит, если бы они где-нибудь видели полный рисунок, то смогли бы его и воспроизвести. Что-то уж больно легко у тебя получается.
– Что именно?
– Под древних атлантов закосить легко, вот что. Вот ты, например, а хоть бы и я, мы же с тобой увидели сейчас правильную и полную версию татуировки? Да к тому же на живом человеке. Значит, мы что же с тобой, и подделывать теперь можем?
– Никак нет, – тихим и скромным голоском ответствовал эксперт. – Дело, конечно, не так просто, как оно может показаться. Я не хотел заводить вас в дебри, но раз уж вы сами просите уточнить…
– Уточняй. Пока нас вместе с тобой не уточнили.
– На самом деле подлинность второй метки, которая э…
– Нанесена на моем теле, – спокойно уточнил Алекс. – Вы это хотели сказать? Кстати, чтобы не экать, можете называть меня Алексом.
– Да, благодарю вас. Так мне будет удобней, – ответил эксперт, который оказался настолько захвачен предметом обсуждения, что даже и не подумал представиться в ответ самому. – Так вот, подлинность метки Алекса фиксируется не только на символическом и семантическом, но и на физическом уровнях.
– Давай-давай, не гони пузырь, – набычившись, бросил Круглый, что означало предложение не переходить с человеческого на птичий, то есть, наукообразный язык.
– Дело не только в содержании, но и в форме. А если еще конкретнее, то речь идет о способе нанесения такой татуировки на тело. Вернее, о целом комплексе способов, включая не только само нанесение, но и закрепление, и сохранение рисунка.
– Это что же, чтобы обманка не расплылась? Какое тут такое еще искусство? Да у нас на зоне каждый десятый его знал.
– Нет, – с удивительным спокойствием продолжал эксперт, – такое вам ни на какой зоне не сделали бы. Вот так, как здесь, – эксперт показал на фотографии, – да, смогли бы. А так, как у Алекса, нет.
– Это почему же?
– Потому, что в его случае была применена мазь или притирание. Вы знаете ее состав? Нет. Вот так же и я. Так же и все остальные, на всех ваших зонах, сколько их ни есть. Даже в Средние века, об этих мазях, которые применяли ведьмы и колдуны, ходили только легенды, а ничего конкретного об их составе известно не было. Говорили, например, что ведьмы готовили свое варево из тел некрещеных детей. Понятно, что это всего лишь иносказание, но многие ли могли его разгадать?
– В данном случае, – сказал Алекс, – имеется в виду корень мандрагоры.
– А при чем здесь детишки? – с озабоченностью директора детсада поинтересовался Круглый.
– Корень мандрагоры по форме напоминает человеческое тело, – объяснил Алекс, – но только маленькое. А маленький человек – это, конечно, ребенок. С другой стороны, мандрагора – растение, а растение, само собой разумеется, не крестят. Вот и получалось, что мазь готовили из некрещеных детей.
– Но ведь теперь все эти секреты известны? – предпочел все-таки уточнить Круглый. – Знаете вы, могут знать и другие. Какой же это секрет?
– Корень мандрагоры я привел только в пример, – ответил ученый, – чтобы вы поняли, о чем вообще идет речь. Какие вообще степени защиты применяются против подделок таких вот инициатических меток.
– Каких-каких?
– Инициатических. От слова инициация, что значит – посвящение. Обряд посвящения юноши, например, в охотника. Или вообще, в мужчину, взрослого члена племени. Считается архаическим и, в общем и целом, исчезающим обрядом.
– Ага, исчезающим, – удовлетворенно хмыкнул себе под нос Круглый, – эх, дурдом вы непуганный, ученые записки пиквикского изолятора. А откуда же тогда пошла «прописка» в армии для салабонов или в камере, чтобы расколоть, первую ли ходку делает человек, или бывал уже в гостях у хозяина? Вот оттуда все это и идет. Вот тебе и исчезающий обряд. Да хотя бы пока мы с тобой вот сейчас долдоним, знаешь, сколько солдатиков первого года службы, если по всей Руси великой посчитать, примут такое посвящение своим задом? Тебя вот ложками никогда не пробовали отдубасить? До крови?
– Нет. Я срочную не служил, только офицерские сборы, – ответил антрополог с некоторым испугом, как бы прикидывая, не прикажет ли вдруг хозяин произвести солдатскую «прописку» на его собственных ягодицах.
– Ладно. Проехали, – посуровел Круглый. – Давай свой вывод и свободен. Значит, ты считаешь, что метку на теле моего друга, – он слегка поклонился в сторону Алекса, – подделать невозможно?
– Да, я так считаю. В его случае мог быть использован рецепт куда более древний, нежели средневековый. Я сам с описаниями таких составов не встречался, но в древних рукописях встречаются все-таки намеки на их удивительные свойства.
– Например?
– Такие мази служили символом установления кровного родства. Между участниками обряда посвящения устанавливалась, можно сказать, ментальная и фармакологическая связь.
– Довольно. У меня все. – Круглый резко поднялся со своего места и зашагал по комнате, вопросительно поглядывая на Джокера. Да, теперь, после краткой ученой полемики, он ни в малейшей степени не сомневался, что перед ним человек, о котором шептали ему когда-то авторитетные люди. После того, как ввели его в свой круг.
– А у меня нет, – сказал Алекс. – Я хочу задать ему несколько вопросов наедине. А вы пока выполните то, о чем мы с вами уже говорили. И что является сейчас самым срочным. Снимите осаду с клиники, куда заехали Рашпиль и остальные, и прекратите любую слежку.
– Ты сказал, я слышал, – буркнул Круглый и слинял в соседнюю комнату.
– Послушайте, – тут же зашептал ученый, как только они с Алексом остались наедине, – откуда у вас такая власть над этим… Вы ведь знаете, кто он такой? Это один из крупнейших новокрутов Москвы. Мне, конечно, обещали хорошо заплатить за научную консультацию. Но я уже был и не рад, что связался. Особенно, когда он приказал осмотреть вас.
– Это почему же?
– Ну как же вы не понимаете? Одно дело – осмотр трупа. И то – дело не безгрешное. Но там все-таки труп. И мне даже лица его не показали. Так что я в данном случае не знаю, о ком идет речь, что является косвенной гарантией, что меня не будут устранять. А совсем другое дело, когда вы, живой человек… Но у вас, я смотрю, какое-то влияние на него. Как это возможно? Ведь вы, как и я, человек науки. Я это сразу понял по вашим метким репликам. Но раз так, то теперь другое дело. С вами он считается, а вы замолвите слово за меня. Вы мне обещаете?
– Почему бы нет?
– Вы давно знаете Круглого?
– На четверть часа дольше, чем вас.
– Как? Вы пришли к нему первый раз в жизни? И сразу получили такое влияние? А, понятно, вы, наверное, знали, что ваша метка его заинтересует?
– Мог только предполагать. Просто мне надо было встретиться с Круглым и обсудить с ним некоторые проблемы. Как я мог убедить его это сделать?
– Чем-то заинтересовать?
– Совершенно верно.
– Что именно вас интересует?
– Вы говорили, что после осмотра трупа у вас возникли некоторые соображения. Вот и изложите их мне.
– Характер травм показывает, что этот человек, можно сказать, перед самой смертью стал объектом ритуала.
– Инициация?
– Да. Магический обряд посвящения.
– Но его посвятили в покойники, не забывайте. Что-то здесь не стыкуется.
– Может быть, случайность? Мы знаем, что при инициации применяются определенные клеймения тела, такие, как обрезание и шрамы. И нередко посвящения носят откровенно жестокий характер.
– Но ведь степень жестокости контролируется?
– Как я понимаю, да. Должна контролироваться.
– Тогда что же? Что произошло именно с этим человеком? Его обманули? Или убили случайно?
– Надо бы еще раз осмотреть труп. В первый раз все мое внимание было направлено на метку. И я не придал этому должного значения.
– Чему?
– Его печени. Да, теперь я вспоминаю совершенно определенно, что этот участок тела выглядел неестественно. Он был вздут…
– Не болтайте вздор. Этот человек много лет пил, как вакуумный насос. Его дозам и темпу их поглощения изумлялись алкоголики и психостеники. Так что не пытайтесь продать мне тут очевидное за невероятное.
– Нет. Я говорю не о вздутии печени как предвестнике цирроза. Хотя и это, разумеется, у клиента присутствует в лучшем, а точнее сказать, в классическим виде.
– Тогда что же?
– В некоторых видах единоборств есть прием «смертельное касание». Если во время поединка специальным образом мгновенно коснуться печени, то это в несколько часов вызовет полное ее разрушение с неизбежным в этом случае летальным исходом.
– Через несколько часов? А точнее?
– Время смерти, или время оставшейся жизни, это уж как поглядеть, зависит от степени касания. Всего насчитывается, если я не ошибаюсь, семь степеней. Опытный мастер, владеющий всеми семью, может, следовательно, вызвать смерть человека в довольно широкой временной шкале: от нескольких секунд до нескольких часов.
– Значит, какова наиболее вероятная картина смерти этого человека? При неожиданном нападении он мог постоять за себя?
– О, в высшей степени. Неожиданно напавшие часто превращались при этом в неожиданно отваливших.
– Я так и думал. Мускулатура у него развита превосходно. Говорите все, что вы можете предположить по этому поводу.
– Если он был опытным и сильным бойцом, значит, к нему подобрались обманом. Его могли, например, уговорить принять участие в обряде инициации и заранее предупредить о болезненности и даже жестокости некоторых процедур. А уже потом, в разгар обряда, так сказать, когда кровь уже лилась рекой, провести смертельное касание необходимого градуса.
– Вы хотите сказать, что, если убийца владел этим приемом в совершенстве, то он мог нанести касание, вызывающее смерть или почти мгновенно, или только через несколько часов?
– Да. Я хотел сказать именно это.
Алекс покинул антрополога и зашел во вторую комнату в момент, когда Круглый закончил отдавать очередные указания по телефону.
– От твоих отвалили, – доложил с ухмылкой Круглый. – У моих же по извилине на ствол. Я, признаться, побаивался, что кое-кто из моих самостийничать полезет. Сам понимаешь, слух о зеленом лимоне круглый, до любых ушей докатится. Но я им скормил, что лимон утрачен во время перестрелки на Смоляге. Спецназы, мол, и грины или спалили, или укарманили. Ничего, съели.
– Поверили? Это точно?
– Я же говорю, уже отвалили. Ладно. Проехали. Что теперь будем делать?
– Я знал этого человека. Он был мой друг. У нас были общие знакомые: мужчины, женщины, общая компания, понимаете?
– А чего ж тут не понять? Его звали Мартином Марло. Я сам с ним не пил, но видел его в первый раз лет пятнадцать назад. Помнишь историю со сбитым южнокорейским «Боингом»? И, что самое интересное, никто не мог тогда понять, зачем пилот углубился на нашу территорию? И не реагировал на предупреждения. И пилот понимал, что дело пахнет керосином. И у наших очко играло: столько людей разом рыбам на прокорм пустить! С Москвой непрерывную связь держали. И все-таки жахнули. Как будто и те, и другие чумы нюхнули.
– Вы там в первый раз Марло и увидели?
– В первый и, как выяснилось, при его жизни в последний. Он прилетал тогда из Москвы, пробовал осуществить погружение в районе падения самолета. Надеялся, что ему удастся осмотреть на дне тела пассажиров.
– Зачем?
– Надо полагать, за тем же, зачем мы осматривали сейчас фотографии метки на его теле.
– Он искал?..
– Джокера.
– Меня? Но почему на Востоке?
– Джокер не один. Вероятно, к нему поступили данные, я думаю, что через американцев, что к нам на Дальний Восток собираются закинуть с воздуха Джокера.
– Зачем такая экзотика? Почему бы ему не прибыть к нам через родное «Шереметьево», где пока – слава Создателю! – самолеты не сшибают, как кегли?
– Возможно, те, кто его посылали, рассчитывали именно на его арест. И именно там, на Востоке. В конце концов его, конечно же, притащили бы в Москву. Но иногда очень важно, кто допрашивает первым. А первыми его в случае его благополучного приземления, допросили бы, конечно, местные военные. На том допросе он и мог сообщить им кое-что интересное. Кое-что не для слабонервных.
– Что именно?
– Да ты что? Да разве ж это кто теперь узнает? Сто процентов гарантии, что фрайер не заложит, имеется только тогда, когда он сам не знает, на какое дело он идет.
– А что с тем, который должен был выпрыгнуть с «Боинга»?
– Он и выпрыгнул. Ко мне потом от местных пэвэошников шепот дошел. По цепочке. Он выпрыгнул тогда в последней точке над сушей, когда они уже разворачивались в сторону Японского моря. Прыгнул затяжным, разумеется, чтобы его еще в воздухе не расстреляли. Ну, и получилось у него… шибко затяжным. А в общем, обычная история: поздно раскрылся, не успел полностью погасить скорость. Поехал на спине по сопке, катился, бился по камням. Словом, когда наши поисковики его обнаружили, то уже в виде молодого красивого трупа. Ну, конечно, это все засекретили. Да и о чем там трубить? Испугались одного парашютиста, а скольких угробили?
– Похоже на то, что в центре не могли рисковать, – заметил Алекс. – Они и сами не знали, что могло бы произойти, если бы он заговорил на первом допросе. Да к тому же невозможно было точно рассчитать, к кому он к первому попадет в руки.
– Да-а, грохнули всех под нулевку. С запасом. А Джокер-то, между прочим, мог и живым приземлиться. А тогда… может, и сам Андропов дольше бы протянул. А может, и Союз нерушимый, как стоял-красовался на пригорке, так и остался бы…
– Начинаем работу. Карточки «Глоб Экспресс» все розданы?
– Да куда их столько раздашь? Больше половины прямо здесь, у Альфреда.
– Это еще кто такой?
– А вы его только что сами видели. Коротышка вот с таким торсом.
– Альфред?
– Да это мы его так, для смеха. Голос у него замечательный и очень сильный. Раньше, когда я еще его к себе не брал, он, как напивался, начинал петь оперные арии прямо в Оружейных Банях, где и проводил большую часть времени.
– Не пробовали его действительно в театр определить?
– Да он сам не пойдет. Его ломовые бабки испортили. Он раньше всегда мог их заработать, выступая в цирке. В силовой акробатике. Держал пирамиду из семи или девяти здоровых бугаев. Альфред! – крикнул Круглый в сторону коридора. – Иди сюда, с хорошим человеком будешь говорить.
8
Ехали с ветерком, но не гнали предельно, когда и из окна не высунуться, не полюбоваться летней утренней благодатью. На первой машине ехали Озерков-сын, который пригласил всю компанию на дачу, и Катрин, в чудесной головке которой роились странные мысли относительно перемены земной своей участи.
На второй лайбе, марки Бешеный мустанг, разместились, не считая шофера и парня типа сейфа, рядом с ним, санитар Петр и медсестра его Жанна, уже, пожалуй, не жалеющая, что ввязалась в историю с этим Петюней.
– Притормаживай, – распорядилась Катрин, не глядя на водителя. – Через один кэмэ – пост ГАИ.
Шеф начал притормаживать, так что к посту они подъехали, как оно и положено, на скорости не больше, чем двадцать пять – тридцать кэмэ в час.
Он вовремя, конечно, заметил фигуру мужчины, стоящего перед ним на пути.
Но мужик был одет в гражданское, то есть явно не являлся гаишником. Поэтому шоферила собирался уже, было, объехать его по кривой, чтобы затем снова утопить педаль газа.
Но тут Катрин закричала, как будто ее ухватили за заветное:
– Стой, тебе говорю! Руслан! Ты откуда?
Машина остановилась, и теперь уже Платон разглядел тормознувшего их Делового. И с некоторым удивлением признал в нем старшего охранника, в сопровождении которого в прошедшую ночь возникла у него на пороге Катрин.
Катрин, конечно, – не то, что блаженно улыбающийся лапоть Платоша, – по выражению лица Руслана тут же поняла, что дело пахнет керосином.
Она выскочила из машины, – а сзади уже притормаживала вторая лайба, – и подбежала к Руслану:
– Что? Почему ты здесь?
– Там, – Руслан неопределенно повел взглядом в сторону служебного помещения гаишников.
– Да говори же!
– Корешки у меня… Да и не так, чтобы корешки, а так, иногда по мелочи в долю их брал…
– Ты! Ох – рана! Будешь говорить?
– Позвонили, просили помощи, хотели на юга оторваться, машины перепродать, какие угонят.
– Получилось? Что же ты молчишь?
– На мокрое потянуло ребят. Очумели. Пост положили. А сейчас мужика одного добивают. Захватили тут же, на дороге. И сами уже не волокут – кого, чего вокруг них. Приедет смена поста – все, не уйдут.
– Иди и скажи им, чтобы они оставили этого мужика и уходили. На север, на юг, куда угодно.
– Не реагируют, – плачущим голосом повторял напуганный Руслан, – очумели, как бы не видят и не слышат.
– Судя по вашему описанию, это истерическое сумеречное состояние, – раздался голос медсестры Жанны, которая подошла к ним вместе с остальными пассажирами второй машины. – По-иному говоря, сужение сознания. Оно характеризуется выключением больного из реальной обстановки.
– Чего от них ждать? – спросила новую подругу Катрин.
– А чего угодно, – равнодушно ответила Жанна. – Могут и совсем на тебя не прореагировать. А могут и прыгнуть. Всякие бывали случаи.
– А кто тот человек, которого они захватили? – снова обратилась Катрин к Руслану.
– Сам он уже ничего не говорит. Мычит и икает. Наверное, кончается. А братовья, когда как бы промеж себя рассуждают, упоминают о нем как о следователе Никонове. Хотя какой здесь следователь? Откуда? Наверное, у них в голове вместо мозгов клипы коротят.
– Следователь Никонов, – внезапно подал голос Платон, – муж Риммы. Дача Рейнгольдов. Мой батя – их сосед.
– Мало ли Никоновых? – усомнилась Катрин.
– Да нет. Это, наверное, он и есть. Здесь десять кэмэ до поворота на наш дачный поселок. Если вон та тачка его, – Озерков-младший показал на жигуленок у противоположной обочины шоссе, – то он, похоже, разогнался на Москву. А эти его каким-то образом притормозили.
– Идем! – решительно скомандовала Катрин. – Своих надо выручать. Как мы к твоему бате заявимся, если его соседа, а может, и, прости Господи, хорошего собутыльника, оставим в беде?
– Куда, барышня? – ухватила Катрин за локоть Жанна, медсестричка-психушница. – Оне ж – сумеречные! Им теперь – все одна музыка. Повалят и не запомнят.
– Пошли, – Катрин высвободилась от Жанны и решительно уцепилась за Платона. – Пойдем, подтвердишь, ваш ли это Никонов влип?
Когда они вошли в сторожку, то увидели странное и страшное зрелище. На расстоянии примерно трех метров лицом друг к другу сидели на простых стульях два невероятных, невиданных еще в этих краях зверя.
Рубахи этих лютых существ были распахнуты и надорваны. А кроме того, они были забрызганы кровью. Разумеется, не их собственной, не Гриши-маленького и его братка, с его светлой, заржавевшей от чужой крови головой.
Это была кровь «клиента». Или, можно сказать, допрашиваемого. Убиваемого ими сейчас мужика, который, как выходило по документам, назывался в миру следователем Никоновым.
Никонов, обхватив голову руками, сидел между ними прямо на полу. Канцелярский стол, которому положено было стоять на том месте, на котором он сейчас сидел, братья для удобства допроса, а точнее выражаясь, для удобства перекрестного избиения, отшвырнули в угол комнаты.
И теперь, хоть они и были в сумеречном состоянии, сумели устроиться со всеми удобствами. В этой позиции они могли, не вставая с мест, доставать сидящего на полу человека ударами как ног, так и рук.
– Он, – выдохнул Платон Озерков, боясь подойти ближе и взглянуть пристальнее, что именно сделали эти двое с молодым следователем. – Надо быстро сообщить отцу. Он примет какие-то меры. Пришлет людей…
– Встать! – вдруг дико заорала Катрин, и Озерков понял, что время советов миновало, и сейчас что-то произойдет.
Но в первые секунды, как это ни странно, ничего не произошло. Двое сидящих на стульях только повели головами в ту сторону, откуда на них заорали. И все поматывали длинными, как бы оленьими, мордами и поблескивали снизу вверх на Катрин крупными глазами.
Нет, сразу они не могли врубиться. И сообразить, кто, что и откуда. И почему так на них вдруг орут. Ведь не ОРУД? Тот ведь в полном составе уложен в соседней комнате, и выходит, что беспокоить не должен?
Но никто из вошедших не знал, как долго, сколько еще секунд или мгновений будет продолжаться ступор этих страховидных существ. И что произойдет дальше? Успеют ли они, в худшем случае, просто-напросто выскочить из помещения обратно на шоссе? Могли и не успеть. Это все почувствовали, и потому стояли неподвижно, как оцепеневшие, понимая, что любое движение может привести к непредсказуемым последствиям.
Но тут поднялся с пола Никонов, и только тогда, кстати, стало очевидно, как он зверски и, скорее всего, непоправимо избит и истерзан. Его сотрясала непрерывная дрожь, и он исходил потом, как будто выскочил из какой-то адской духовки.
От многочисленных ударов по голове восприятие Никонова тоже находилось в сильно плывущем состоянии. Он тоже, как и его мучители, не мог быстро определить, кто появился в помещении, на чьей они стороне и что им вообще нужно. И, наверное, не он сам, а его изувеченное тело осознало, что любая перемена во благо, что шанс что-то изменить только один, к тому же в любой момент и он может исчезнуть.
Братаны продолжали сидеть на стульях, попеременно поглядывая то на Катрин, то на. стоящего теперь между ними Никонова. А Никонов поглядывал на стоящий рядом у боковой стены высокий канцелярский шкаф.
Между левой и правой тумбами, прямо по центру стола имелось полое пространство. Это была бы перемычка, соединяющая массивные боковые тумбы. Причем если поверху вся конструкция соединялась вполне прочно, то ниже пояса соединительные доски уже отсутствовали. Так что на метр от пола перемычка обнажала казенный блеск масляной краски стены, вплотную к которой стоял шкаф.
Никонову надо было сделать всего лишь шаг, чтобы оказаться вплотную около шкафа, и встать в полом пространстве между двумя боковыми тумбами.
И он его сделал.
Шаг занял у него… Да кто это может определить?
Он стоял теперь в проеме между тумбами, лицом – а не затылком – к тому месту на полу, на котором его только что истязали двое страшных, которые все еще не успели или не надумали переменить свои позиции, то есть по-прежнему сидели на стульях по бокам. То есть располагались прямо напротив боковых тумб огромного шкафа. Никонов поднял руки и ухватился за крайнюю верхнюю перемычку. Повис на ней и, несмотря на неотпускающую дрожь и дурноту, понял, что на последние усилия сил у него хватит. Он согнул висящие в воздухе ноги в коленях и уперся подошвами в нижний участок стены сзади себя.
Затем, продолжая делать раскачивающие движения руками и плечевым поясом, начал нажимать подошвами на стену. Под воздействием этих согласованных усилий шкаф начал раскачиваться и даже рискованно крениться в сторону братанов.
Конечно, это могло продолжаться лишь несколько секунд. Какова бы не была заторможенность сидящих на стульях, угрожающе кренящиеся в их сторону более чем двухметровые тумбы как будто заставили их немного прийти в себя.
С искаженными недоумением и запоздалым страхом лицами они взирали на болтающегося в воздухе паяца, мертвяка, вообразившего, наверное, что его уносят куда-то ангелы, и уже готовы были сорваться со своих стульев.
Но тут Никонов оттолкнулся от стены изо всех сил. И шкаф прошел сорокапятиградусную точку наклона и обрушился вместе с висящим на нем человеком вперед.
Но рухнувший вместе со шкафом человек падал в полом центральном участке и при падении оказался накрыт всего лишь задней половиной соединительных досок. К тому же они находились на значительном расстоянии от его спины.
Совсем иной, воистину сминающий эффект испытали на себе оба бандита, на которых обрушились боковые тумбы. На первый взгляд, казалось, что их просто расплющило, намертво вдавило в пол вместе с их смятыми, как спичечные коробки, стульями.
Но через короткое время стоны, раздавшиеся из-под обломков, показали, что такое предположение было истинным только наполовину. Их действительно вдавило в пол. Но не намертво. А значит, предстояло извлечь их из-под обломков и отдать в руки следовательских органов.
Представитель которых, следователь Никонов, находился тут же. Не просто, конечно, находился, а валялся на полу под центральной полой частью шкафа, всего лишь оглушенный падением вместе со всей конструкцией.
…Римма услышала шум въезжающего на участок автомобиля и выскочила на крыльцо веранды.
Вместе с матерью она, разумеется, всю ночь не сомкнула глаз и теперь находилась в перевозбужденно-притупленном, наркотическом состоянии.
И она до сих пор не могла полностью поверить в случившееся. В то, что муж всерьез укатил на ночную ловлю бандитов. И в то, что она не смогла удержать его от этого.
Когда же она подбежала к авто и заглянула на заднее сиденье, то убедилась, что к этим двум пунктам, в которые ей до сих пор не верилось, можно прибавить и третий: муж выполнил то, что обещал. И что казалось в тот момент диким и жалким бредом.
Она сразу поняла, кем были те громилы, невероятно изуродованные и окровавленные, которые распластались, прикованные по бокам от ее Петечки, тоже, впрочем, невероятно изуродованного и окровавленного.
А Никонов при очередном прояснении сознания увидел стоящую на лужайке Римму, которая загляделась на него с немного жалким смешанным выражением. С выражением счастья, преданности и любви.
И муж прохрипел жене, торопясь быть понятым, пока его снова не утянуло под лед ясного сознания:
– Если еще раз этот Воронов…Чтобы ноги его в нашем доме! И матери передай… будет покрывать дочь, не увидит нас… Уйдешь от нее. Вот это видела? – и он попытался показать ей свой кулак. Но сознание опять покинуло его.
«Не может быть, – думала Римма, не отходя от авто, – он не должен сейчас умереть. Он действительно любит меня, и я теперь знаю об этом».
Собрание банкиров, депутатов и спонсоров явно пробуксовывало. Основного «Слова» так все еще и не было произнесено. А деловитые, но не внушающие прочного доверия ораторы, которых время от времени выпускал на трибуну ведущий, только усугубляли общее замешательство и неуверенность.
Например, один из них сообщил, что по последним полученным вот только что данным, Нойгард покушался на самоубийство. У Рюмина – тяжелый сердечный приступ, исход которого под вопросом. Озерков не выходит на связь, что косвенно свидетельствует о растерянности в стане монархистов. Это так докладывающий закруглил. Но тертые калачи, собравшиеся в тылу у Госдумы, прекрасно понимали, что все это может косвенно свидетельствовать о чем угодно. И даже не косвенно. А так, что в любой момент могут раствориться двери и войти молодые статные ребята со стволами и примкнутыми штыками.
Другой доложил, что, как ни странно, Толмачев тоже не выходит на связь.
Тертые опять намотали на ус. Ничего себе «как ни странно». Совсем это может оказаться и не странно. Ведь генерал только показал им содержимое вагона, как вещественную гарантию под их залповое снятие со счетов наличности в европейских банках. Которое и должно было вот-вот последовать по команде «Все вдруг». Да, генерал показал им этот фантастический вагон. Но почему бы ему с такими деньгами не попытаться «кинуть» не только президента и американцев, но и такую, во всемирно-историческом масштабе, конечно же, шушеру, как местные, то есть российские господа банкиры и господа спонсируемые?
На самом же деле ситуация была еще хуже, и генерал не выходил на связь по той траги-технической причине, что люди Воронова обрубали ему одну линию за другой.
Спецсвязь, собственно, уже отвечала ему гулким эхом. А выбегать на улицу, чтобы докладывать что-то каким-то мудакам, такого, разумеется, ожидать от двухзвездочного генерала было бы невозможно.
Но этого обстоятельства не просекали даже и тертые калачи. Они только чувствовали, что деньги не любят шума, и что неразбериха, смазанность и даже противоречивость общей картины – это, по сути дела, тот же шум.
По-тихому, что значит организованно и эффективно, сделать дело, похоже, не удавалось.
Многие все-таки утешали себя тем, что в деле, и при том на первых ролях, задействован Круглый. Не может же «такой человек», как Круглый, чего-то не знать или не рассчитать?
Наконец, по залу прошел обнадеживающий слушок: прибыл верный гонец от Круглого. И значит, наконец хоть что-то узнаем из первых рук.
Около трибуны стоял стол под зеленым сукном, а около него стул. И вот какой-то коротышка с торсом мистера Бодибилдинга поставил стул на стол, а затем туда же, на зеленое сукно, поднял с пола и поставил рядом со стулом две бельевые корзины, накрытые непрозрачной целлофановой пленкой.
Затем он сам, поистине с ловкостью обезьяны, вскарабкался сначала на стол, а затем и на стул.
После чего этот человек с внешностью бандита-эксцентрика обернулся к собравшимся в зале и простер руки вверх и в стороны. Он выполнил это движение, как ныряльщик перед прыжком, стоящий на краю гибкой доски. Затем он сделал вдох, продемонстрировав удивительные возможности увеличения объема грудной клетки.
Что же дальше? А дальше он сцепил пальцы ладоней под подбородком и обратился к присутствующим:
– Профуганил, отвали, не так ли? Я, между прочим, заехал к вам от Круглого и зовут меня Альфред. Лучший исполнитель арии Герцога в Оружейных Банях. Фиксаж спроси, любой пространщик подтвердит. Бани на слом, Альфред гуляет по бульвару. Так что будем знакомы. А я вам и подарочки под случай. – И он начал цеплять какой-то, вроде бы бамбуковой, раздвижной тростью петли стоящих на столе двух корзин.
Собравшиеся глухо, что называется, набычившись, молчали, неотрывно глядя на безумного паяца и его стремительное представление. Они понимали, что его появление, каким бы ненормальным, ошеломляющим хулиганством ни казалось, – не просто так. Это было, конечно, для них очевидным. За просто так никто не узнал бы об этом собрании. Не проник бы сквозь охрану внизу. Не кидался бы именем Круглого.
Унизительно все это было, ломались все правила игры, да просто-запросто никто уже, кажется, с ними и не играл, а по старому Остап-Бендеровскому обычаю роялили ладьей промеж глаз.
Альфред, между тем, разливался соловьем:
– Спокойствие и порядок, и никто тебя не толкнет, если ты не дергаешь под себя. Вот так я всегда и иду к людям, так им и говорю. И меня понимают. Я Альфред, чего же тут не понять?
Альфред подцепил, наконец, двумя концами гибкой трости обе корзины и поднял их со стола до уровня груди.
В груди некоторых наиболее дальновидных из собравшихся в зале мелькнуло сожаление, что они живут в столь яркую эпоху. Им померещилось, что в корзинах гранаты, баллоны с ипритом, готовые выметнуться наружу ядовитые змеи.
Подарочек от Круглого… Стоит сейчас этому Герцогу-убийце раскрутить эти корзины и швырнуть их в зал…
– Кто не с нами, подходи и получишь довесок, – не унимался атлет-коротышка, – кто вынет свои деньги, пойдет по этапу.
– Это что же, вы нам угрожаете? – не выдержал наконец один из самых шебутных депутатов. – Вы лично или сам Круглый? И где доказательства, что вы говорите от его имени? Где доказательства, что вы не самозванец?
Шебутной депутат работал под крутого, на самом же деле был полным дураком. По крайней мере в данной ситуации.
А люди поумнее его ничего не спрашивали, потому что видели, что – все! Приехали!
А когда все и приехали, то не все ли равно, кто этот Альфред и откуда? Да пусть даже и не от Круглого, пусть даже хрен его знает от кого и откуда, пусть от объединенного хора пространщиков Сандуновских и Центральных Бань. Если он здесь возник и стоит и вещает, и никто его до сих пор не схватил в узел и не выбросил в окно, то… То то-то и оно.
– Меня тут спрашивают, кому угрожает Альфред? Я певец, человек искусства, и мне обидно слушать такие вещи. Круглый всех вас любит и уважает. Альфред споет вам арию Герцога, Фигаро и Симбирского гостя. Арию «Я сказал, ты слышал». Кто снимет сегодня денежки, пойдет по кругу с протянутой шапкой. И каждый честный сначала плюнет в его шапку, а потом нассыт на нее. А кому это приятно? Кто после этого натянет такую шапку на свою черепушку? На кумполец свой, лососино-островский?
– И все-таки, почему такая перемена? – на этот раз вопрос задал тоже видный мужчина, но не шебутной, а из солидных. – У нас же есть гарантии. Вагон налички, в который мы сами заходили. И кредитки «Глоб Экспресс». Наличку охраняет Толмачев, и этого достаточно, что она никуда не денется. А кредитки нам продал по символическим ценам сам Круглый.
– Уйди, демон! – зарычал вдруг Альфред. – Уйди, гнилой – нехороший. Ты спрашиваешь, ты же и нарываешься. Слушай сюда, и рыльником не вороти. Вагон налички – пошел на спички. А кредитки – пойдут на нитки. Я смотрю, кое-кто не понимает. Для этих кое-кого есть два приема. Номер один: верьте Круглому, он худому не научит. То я вам, Альфредик, говорю. А Круглый не советует делать вам некоторые гнилые вещи, как, например, гнать понт в европе-банках. Даже ежели вы заранее все здесь договорились и кое-кому обещали. Даже если вы это обещали самому Круглому. А кто не понял, и у кого хавальник дрожит, очко играет, тем мой добрый босс и шеф, всем гнилым и хорошим ребятушкам, шлет две корзины дерьма.
Мистер Бодибилдинг начал раскачиваться на узком плацдарме стула, опасно кренясь в сторону зала вместе с тросточкой, на концах которой висели две огромные корзины.
Затем он поднял балансир с корзинами над головой на вытянутые руки и принялся раскручивать их вокруг себя наподобие лопастей вертолета.
Зал замер со спокойствием обреченных. Всем было понятно, что ломиться на выход – поздно. Что бы ни было в этих корзинах, но их можно было швырнуть в собравшихся в течение доли секунды.
А большой мастер провокации, маленький крепыш с хорошими нервами лишь еще больше свирепел и куражился:
– Не желаешь арию тамбовского гостя, получай арию Альфреда.
И он действительно запел из «Травиаты»:
Высоко поднимем мы кубок веселья И жадно прильнем мы устами…И самое во всем этом ужасное, самое нестерпимое для спекулей международного масштаба состояло в том, что этот фантастический тип еще и запел удивительно красивым, прекрасно поставленным голосом настоящего оперного певца.
«Нас здесь не было, – стучало в головах большинства из них, – нас здесь не было, и ничего мы поэтому видеть здесь не могли. И не видели».
Но заключительный полет корзин, сорвавшихся, наконец, с трости, им все-таки увидеть довелось. Корзины полетели одновременно, одна в правую, другая в левую половины зала. Сначала они взлетели под потолок, а затем, лопнув там и теряя боковые стенки и днища, осыпали публику дождем блестящих лакированных карточек.
Разумеется, это были кредитки «Глоб Экспресс», и, разумеется, их стоимость стала ясна всем в мгновение ока. То, что швыряют корзинами, не стоит ничего.
Участие в дальнейшем становилось бессмысленным, если не позорным. И злая, одураченная, сбитая с толку публика повалила на выход.
А в спину ей неслось:
Разлуки нет. Покинем край мы, Где так страдали, Где все полно нам Былой печали…Как говорится, и т. д.
9
Герб еще раз взглянул на часы. До встречи с Пафнутием оставалось еще около двух часов. Он прилег на диван, прижавшись щекой к стене и стараясь, насколько это было возможно после всего выпитого, точнее оценить открытие Пафнутием Америки.
Можно ли считать такое открытие скорее опасным, чем полезным? И даже, более того, состоялось ли оно вообще? А если и состоялось, то какую цену может заплатить за это сам первопроходец?
Тут за стеной, в комнате Алекса, что-то глухо, но плотно стукнуло.
– Алекс? – стоя в коридоре, Герб окликнул соседа, одновременно со всей врожденной ему интеллигентностью постукивая костяшками пальцев в дверь. Никто не ответил, но одновременно прекрасно было слышно, что в комнате кто-то есть. И что этот кто-то чем-то там таким вроде шуршит или что-то перебирает.
«Какого черта? – подумал незлобивый от природы Герб, – мне надо, а он ломается».
Хмель еще не вполне освободил клетки его мозга, поэтому, когда ручка замка не провернулась, он просто дал плечом в дверь и тут же оказался за порогом, внутри комнаты.
Алекс обернулся на шум, но, увидев, что в комнату влетел всего-навсего маститый прозаик земли русской, тут же продолжил свое занятие.
Видно было, что он очень спешит и к тому же нервничает, не находя того, что было ему надо.
– Ты чего ищешь? – на всякий случай для вежливости спросил Герб.
– А-а… слово одно, – буркнул Алекс, продолжая перелистывать толстенный том.
– Ты слушай, что получилось, – быстро заговорил Герб, – вернулся Пафнутий.
– Да? – заинтересовался, но как бы только для вежливости, Алекс. – И чего это он так рано?
– Ты бы лучше поинтересовался, чего это он так поздно? Ты знаешь, что у него обратный билет не на него? А по его билету прилетел другой еще неделю назад?
– Как я могу про это знать, когда ты мне это только что сообщаешь, и все равно я ничего в этом не могу разобрать?
Герб быстро и складно, как только мог, пересказал Алексу рассказ Пафнутия. И про то, как отважный литератор сверхбыстро, буквально через трое суток после прибытия, решил, что его персональное открытие Америки пора закрывать. И какое предложение ему сделали в аэропорту «Джи Фи Ки». И как пришлось ему под чужим именем прожить еще неделю в славном городе Нью-Йорк-Сити, в гостиничке около другого аэропорта, «Ля Гвардия».
Герб был уверен, что излагает приятелю необычайно важную информацию. Он был даже уверен, что она имеет самое что ни на есть оперативное значение. Что приключения Пафнутия в Северной Америке каким-то образом связаны с событиями в Москве и, может быть, даже с прояснением обстоятельств убийства Марло.
И он продолжал быстро пересказывать Алексу все, связанное с внезапным появлением Пафнутия, и даже то, что он сам решил присутствовать при окончании дела и через пару часов пойдет на встречу американца с Пафнутием. Где они, вроде бы, должны обратно махнуться своими документами.
– Где? – только спросил Алекс, продолжая просматривать с озабоченным видом том Большой Советской Энциклопедии.
– В высотке, на Восстании. Через площадь от Клуба писателей.
– Вот как? – опять как бы оторвался от своих поисков Алекс. – Я тоже туда приду. Может, и встретимся.
Но Герб видел, что голова Алекса занята все-таки чем-то другим, и он не выдержал, решил все-таки поинтересоваться, чем именно:
– Тебе помочь? Что ты ищешь в этой, скажем прямо, весьма хреновой энциклопедии?
– Трансфер. Или трансферт.
– А чего же его искать? Народная примета говорит что? Если чего неясно, спроси у маститого литератора. Ну хотя бы у такого, как я. Или Пафнутий. Это что-то связанное с переводом валюты или золота из одной страны в другую.
– Это как раз то, что я выяснил и без обращения к маститому литератору Гербу, чтобы у нас так все вращалось, как у него язык. И что меня не устраивает.
– Как это тебя может не устраивать, что пишут в энциклопедиях? Даже в таких хреновых, как Бэ Сэ Э?
– Один человек прошедшей ночью вдруг крикнул: «Трансфер камплитид». После чего произошли разные события, в том числе и кровавые.
– Так прямо и крикнул?
– Ну, разумеется, звучало это чуть по другому: «Трэнсфэ», что-то в этом роде.
– Значит, он крикнул на английском?
– Да. Только не делай, Герб, прямо на моих глазах открытие, что этот парень из англоязычной страны. Потому что он и сам сообщил мне, откуда он прибыл: из Америки.
– А что же тебе во всем этом надо? Вы все здесь сбрендили, ядрена-матрена из метростроя! Что ты, что Пафнутий. И я между вами. Ну ты скажи хоть по-человечески, чего тебе с этим трансфертом?
– В том-то и дело, что я сам не знаю.
– Ах вон даже как? И кто же, скажи, из нас сегодня пил с Пафнутием, я или ты?
– Точнее, я знаю. Но мне надо это вспомнить.
– Да что вспомнить-то?
– Один человек так уже когда-то кричал. При мне. Это было давно и, наверное, при очень странных обстоятельствах, Я бы и так, разумеется, вспомнил. Но нет времени, чтобы хотя бы освежить голову сном. А так… как котел. Вращается и не цепляет.
– Это был тот же человек?
– Откуда я знаю? Если это было давно, и я мог видеть его только мельком, то как можно говорить об опознании по внешнему виду?
– Значит, что же ты ищешь?
– Обстоятельства… Любую зацепку. Ассоциации.
– И трансферт, как трансфертный сертификат или передаточная надпись, тебе ничего не дает?
– Решительно. То, что мне надо вспомнить, с переводом валюты никак не связано.
– Тогда пошли ко мне.
– Зачем?
– У меня Брокгауз и Ефрон.
Но тома дореволюционной энциклопедии размещались в комнате Герба аж под потолком. А куда ближе, прямо на письменном столе валялись веером несколько фотографий молодого военного, размером не меньше, чем восемь на десять, поясные и в полный рост.
– Я вот что подумал, – начал Герб, скептически оглядывая созданный им же художественный беспорядок, – может, лезть на верхотуру и не надо?
– Давай, что там у тебя еще за идея.
– Это все шпионские штучки. Агент быстро что-то набирает на компьютере, а под конец – раз, и на мониторе надпись: «Трансфэ камплитид». Мол, все, что вынюхал, все и перегнал. Больше ничего пока нет. Или возьми, например, списки агентов и заданий, которые им давались. Знаешь, как они ведутся? Название операции, имя или кличка агента, и результирующая надпись: «Мишн камплит». Мол, задание – или Миссия – выполнено.
– Откуда ты все это взял?
– Как, откуда, лапочка? А телефильмы про шпионов? Текст дублирован на русский, но надписи-то все, будь то на мониторах или в секретных досье, остаются на английском. Только успевай считывать. Ну что, лезть за словарем? Или тебе все ясно относительно этого человека?
– Мне действительно многое ясно относительно этого человека. Но, к сожалению, не все. И как раз самого важного не хватает. Из твоих замечательных наблюдений следует, что этот человек скорее всего связан со шпионской деятельностью. Но все дело в том, что для меня самый этот факт не секрет, так как он и сам этого не скрывает. А мне надо вспомнить о нем что-то еще. Другое. Так что придется все-таки лезть за словарем. А, кстати, чьи это фотки?
– Валентина зашивается с одним большим материалом. Какая-то опять супервдумчивая беседа о политике России на Кавказе. Я обещал ей помочь. Просмотреть материал и кое-что подчистить.
– Так с кем беседа? Вот с этим? Кто это?
– Он что, тоже, я смотрю, кого-то тебе напоминает?
– Кто он?
– Генерал Толмачев.
– Тот самый? Великий и ужасный?
– Да.
– Но почему он так молод? Не может быть, чтобы он в таком возрасте уже занимал свой пост.
– Разумеется, это не сегодняшняя его фотография. Таким он был… ну, думаю, что лет двадцать назад. Ты же знаешь пижонство любого автора, фото которого должно появиться в печати. В таких случаях в редакции, как правило, представляются фотографии молодых лет.
– А в данном случае, я думаю, могут быть еще замешаны и соображения секретности.
– Правильно мыслишь, Алекс. В самом деле, в современном своем облике генерал-лейтенант, можно сказать, никому, кому не положено, неизвестен. Фигурнуть хочется, а… не положено. Следовательно, он и дает в редакцию свою моложавую фотку. С одной стороны, и выглядит получше. А с другой, и замаскировался под банан. Так ты что, Алекс, и этого как бы признаешь, но признать не можешь?
– Да. И этого. Но давай все-таки для начала разберемся с тем.
– По-американски трансфер может означать «пересадочный билет», – продолжал Герб, которому после возлияний с Пафнутием явно не хотелось залезать на верхотуру.
– Нет. Это мне тоже ничего не говорит. Давай Брокгауза и не спланируй мне на голову. Расследовать наши сложные взаимоотношения будет уже некому, и тебе с ходу припаяют умышленное, тщательно спланированное убийство на почве сильнейшего перепоя с коллегой Пафнутием.
– Ага! – обрадовался Герб, раскрыв, наконец, нужный том на нужной странице, – целая большая статья, которая в Большой Советской, – напрочь ку-ку. Что значит отсутствует. Трансферт – термин из области психиатрии. Конкретнее, перенос анестезии во время истерии.
– Давай по порядку.
– Истерия – от греческого «истера» – матка. При истерии развивается анестезия – потеря чувствительности на отдельных участках кожи. В свое время нечувствительность к боли считалась доказательством связи с дьяволом. («Стигмата диаболи».)
– Исторические детали можешь опустить.
– В результате приложения металлов или магнита – анестезия на данном участке тела исчезает, а появляется на другом, на противоположном или симметричном участке.
– Значит, это и есть транферт у психиатров? Перенос участков потери чувствительности? Анестезии?
– Йес, сэр. Тебе что, и этого мало?
– Подожди, не гуди. Что-то вроде да, и чего-то как будто нет.
– Да не хрен было и лезть под потолок. Если бы ты, сэр Алекс, как человек, с самого начала принес бы мне чего-нибудь покрепче, я и так бы вспомнил.
– Что ты там еще вспомнил бы?
– Ну как же? В начале века это вообще считалось основной проблемой медицинской психотерапии. А по-немецки это будет «Юбертрагунг». У Юнга есть даже отдельная работа, называется «Психология трансфера».
– У кого?
– Карл Густав Юнг. Как я понимаю, ты никак не можешь слышать это имя в первый раз. Автор так называемой аналитической психологии. Объяснял появление сходных представлений у разных народов и в разных религиях – коллективным бессознательным, деятельностью в психике отдельных людей, в том числе и современных, – автономных психических комплексов.
– Значит, говоришь, в разных религиях?
– Ну да. Чего это ты в лице переменился? Юнг исследовал культ, ритуалы в различных архаичных сообществах, в небольших племенах, сектах…
– Остановись! – вдруг закричал Алекс и вскочил на ноги.
– Что с тобой? Я говорю только то, что общеизвестно.
– Прощай. Может, встретимся в высотке. Сейчас у меня нет времени ничего тебе объяснять.
Еще в ночном ресторане Алекс получил от Платона ключи от его квартиры, объяснив свою просьбу довольно невнятно. Дескать, должны подскочить «молоденькие».
Озерков видел, какое впечатление произвел Алекс на Катрин, и, кроме того, он понял по разговору, что перед ним один из крепких корешков его соседа по лестничной площадке, литератора Герба. Поэтому он не стал уточнять, что за «молоденькие» и почему они должны «подскочить» не куда-либо еще, а непосредственно к нему домой.
Алекс понимал, что квартиру на Оружейном, где засели два сильно шпионистых американца, навестить придется обязательно. Но совсем, может, так случиться, необязательно будет звонить при этом в парадную дверь.
Теперь, после изысканий о всевозможных смыслах трансферта, произведенных им совместно с Гербом, Алекс только сильнее уверился в том, что был прав.
В квартире, которую Герб сдал в аренду американцу, засел враг. Единственное, что вызывало сомнение, – вопрос о количестве: один враг или их двое?
Это все и решало. Это и предстояло выяснить.
Алекс хорошо знал расположение квартиры Герба и предполагал, что у Платона планировка примерно такая же. Так оно и оказалось. И даже комната, которая выходила на Оружейный, имела здесь, как и в соседней квартире, застекленную до пола балконную дверь. Алекс ударом кулака опустил заедающий шпингалет и осторожно высунулся на балкон.
Его расчет оказался правильным. Неровно оштукатуренный кирпичный балкон опоясывал снаружи обе соседние квартиры.
Персональная принадлежность каждого полубалкона была обозначена лишь невысокой, до пояса, тоже кирпичной перегородкой.
На балконе соседей никого не было видно.
«Видно, утонченные нервы шпионов не выдерживают смога Садового Кольца, – подумал про себя Алекс. Но потом сам же себе и возразил. – Нет, у них в Нью-Йорке не легче, могли бы привыкнуть. Просто, видно, их утонченная аппаратура связи требует закрытых окон».
Несколько мгновений, и Алекс перемахнул на балкон соседней квартиры. Балконная дверь стояла приоткрытой наружу – вот тебе и забота об аппаратуре, – но заглянуть внутрь мешала плотно задернутая тяжелая штора. Алекс был уверен, что Симонова здесь уже нет. Старлей был ранен настолько легко, что наверняка уже связался с Лорой и убыл или к ее отцу, или непосредственно в ее распоряжение.
Нет, сейчас он уже принимал в расчет только двух американцев. Если в квартире труп одного из них, остается задержать второго. Если трупы обоих… нет, этого быть не должно. Иначе Алекс участвовал в бессмысленных событиях, а Марло скончался с перепоя, беспорядочно ударяясь перед смертью об углы собственной мебели.
Но визит к Круглому доказывал, что ни первое, ни второе не соответствуют действительности. События были далеко не бессмысленны, и Марло не скончался, а был убит. Причем убит в процессе имитации какого-то странного ритуала, а затем, уже посмертно, был татуирован, причем, опять-таки, рисунком, имитирующим тот… что был нанесен на самом Алексе.
Итак, двух трупов внутри быть не может. Значит, один или два живых, или мертвец в единственном числе.
Алекс чуть-чуть раздвинул штору. Прислушался и постарался заглянуть в комнату хоть одним глазом. Ничего не слышно и никого не видно. Похоже, по крайней мере, в этой комнате, никого нет. Тогда он полностью проскользнул внутрь и, никого не увидя, пересек комнату и выглянул в пустынный холл. Снова никого. Дверь в гостиную была распахнута, и в глубине ее стояло кресло, в котором сидел сильно пожилой джентльмен. Не О’Брайен, сэр, нет. Не майор.
А, следовательно, надо было понимать, что перед Алексом – сам генерал Харт, монументально неподвижный, но живой.
Алекс стал под защиту приоткрытой двери холла и крикнул:
– Харт! Не двигайтесь! Я Алекс, друг Марло.
– Я знал, что вы должны появиться. Но почему так поздно?
– Я должен задать вам несколько вопросов.
– Взаимно.
– Но сначала выньте за дуло ваш пистолет и откиньте его на пол. Начнете делать по-другому – не успеете. Вы под прицелом.
Харт с выражением отвращения к жизни выполнил указание Алекса. Раздался грубый стук металла о твердый лакированный паркет.
– Что вам угодно, Алекс, друг Марло?
– Я знаю, кто убил Мартина. А потом еще несколько человек. Но пока, при моем уровне знаний, я должен согласиться, что он не мог этого сделать. По обстоятельствам дела.
– И вы хотите расширить свои знания. Понятно. Но почему я должен помочь вам, даже если предположить, что это в моих силах?
– Ваш помощник, О’Брайен, сам просил у меня помощи. Предложил мне сотрудничество. Мы действовали заодно.
– И что же теперь? Где он?
– Я думал, что вам, как его непосредственному начальнику, это должно быть известно.
– Представьте себе, нет. Последний раз он позвонил мне с площади, где, действительно, действовал с вами заодно.
– Что же он вам сообщил?
– Что вы идете по следам некоего Гарика. И после этого он исчез. По крайней мере для меня. А для вас?
– Да, мы тогда почти сразу расстались. Но перед этим, перед нашим расставанием, О’Брайен убил Гарика. Зарезал прямо на скамейке в сквере.
– О-о, – невольно вырвалось у Харта.
– Почти у меня на глазах. Но я ничего не понимал. И поэтому не смог ничего предотвратить.
– А что же вы поняли сейчас? И благодаря чему?
– Что Гарика мог убить только один человек. Значит, он это и сделал. О’Брайен. Но одновременно это должен был сделать именно убийца Марло. А ваш О’Брайен быть им не может чисто по физическим причинам.
– Да никакой он не «наш». И даже не О’Брайен.
– Кто же он?
– Уберите свою пушку, а мою можете ногой отшвырнуть в холл. И проходите сюда, садитесь. Нам надо срочно поговорить лицом к лицу. А то шанса больше может и не быть.
Алекс выполнил все, что предложил ему Харт, после чего занял кресло напротив генерала. Но Харт посчитал такую степень доверия недостаточной.
– Не следите за мной так напряженно, – сказал он, – рискните и доверьтесь мне полностью. Иначе наш разговор грозит затянутьея, а такой роскоши позволить себе мы не можем.
– Всего лишь в начале прошедшей ночи я доверился вашему заместителю. И что же? Погибли люди.
– Вы видите только это. Я же боюсь, что могут погибнуть миллионы людей, а вместе с ними сама память о нашем образе жизни. О тысячелетиях нашей цивилизации.
– Я понимаю. Вы говорите об этой финансовой афере?
– Скорее заговоре с целью ликвидации мировых финансов.
– Вы предотвращаете заговор, я хочу раскрыть убийство моего друга. И давайте и дальше каждый делать свое. Потому что две эти вещи не просто сходятся. По сути это одно и то же. Я абсолютно убежден, что, раскрыв и предотвратив заговор, можно будет однозначно указать на убийцу Марло. Но верно и другое: окончательно заговор может считаться провалившимся только после разоблачения убийцы.
– В принципе я с вами согласен. Но действовать параллельно у нас с вами больше нет времени. Процесс вошел в острую фазу. Предлагаю соединить все, что у нас есть.
– Ваши полномочия? О’Брайен сослался на вас как на своего начальника и человека, который ряд лет осуществлял контакты с Марло. А на кого или на что можете сослаться вы?
– Эх, зря теряем время. Впрочем, после убийства Гарика, вы, вероятно, и должны говорить именно так. Ну что ж… Для начала я могу «сослаться», как вы выражаетесь, на то, что этот майор – вовсе не Роберт О’Брайен.
Когда он исчез с моего горизонта после своего невразумительного звонка с площади, я тут времени, как вы понимаете, не терял. Не буду посвящать вас в технику моих раскопок, как и по каким каналам я все это выяснил.
– Так что «все это»?
– Это Блэквуд, Брайант Блэквуд. Как и обычно в таких случаях, в его нынешней биографии более половины истинных фактов. Он действительно закончил университет в Калифорнии, только не тот, который он указывает, а другой. И он действительно сразу после выпуска, то есть совсем тогда еще безусым юнцом, поступил на службу в Контору. Но затем он, по одной официальной версии, которая для всех, разочаровался в разведке и решил посвятить себя науке. По другой официальной версии, для внутреннего, служебного употребления, под прикрытием академических занятий был откомандирован в Париж для внедрения в Корпорацию.
– А это еще что за зверь? КГБ, что ли?
– Вкратце так: это ребята, которые возросли на бесконтрольном финансировании разведывательных сетей. И потом решили стать умнее всех.
– Кого всех?
– А буквально всех. Вашего и нашего правительств. Наших с вами стран, народов, цивилизаций.
– Они решили все это разрушить?
– Они решили все это захватить. А для этого да, сначала им надо «все это» разрушить. Да покрепче, поосновательнее, чем было разрушено у вас в семнадцатом.
– Чтобы потом покрепче, поосновательнее захватить?
– Разумеется. Так вот, и КГБ, и ЦРУ уже много лет весьма обеспокоены существованием этой Корпорации, ее неподконтрольностью. Возможности у них немалые, скажем прямо. А вот на что они их употребят, зависит от того, какие очередные безумные идеологи возьмут верх в их руководстве. Для того чтобы хоть что-то знать наперед, мы и стараемся впарить им иногда своего человечка. Очередным таким человечком и должен был стать Брайант Блэквуд. Но в Париже случилось непредвиденное, хотя и не такое уж невероятное дело. То ли на личной, то ли на корыстной, то ли на идейной почве, но только мистер Блэквуд, сэр, был перевербован Корпорацией. Дальнейшее – молчанье.
– Интересно все-таки, как это могло произойти? Ведь он все же предал свою страну. Он из богатой семьи?
– Из очень богатой.
– А какая академическая «крыша» была ему определена для пребывания в Париже?
– Так, кое-что из модных тогда направлений в философии и литературе. Помните, тогда это звучало: «Экзистенциализм – это гуманизм»?
– Жан-Поль Сартр?
– Вот-вот, Блэквуд даже участвовал в работе какого-то семинара под руководством Сартра.
– Тогда ясно.
– Что именно?
– Почему Корпорация, как вы ее называете, поручила возглавить мятеж против денег в Москве именно Блэквуду.
– Я думаю, просто по его официальной карьере людям Моргенштерна легче всего было провести именно Брайанта на должность моего заместителя.
– Наверное, учитывалось и это. Но основное в другом: учитывая его участие в семинаре Сартра, можно считать Блэквуда фигурой не рядовой, а одной из тех, кто и разрабатывал идеологию подобного рода попыток разрушения современного общества. Достаточно вспомнить, что в том же семинаре участвовал и юный тогда Пол Пот, будущий диктатор Кампуччии. Когда Пол Пот достаточно пропитался премудростью Сартра, он вернулся к себе на родину и, спустя какое-то время возглавив движение Красных кхмеров, захватил там власть. И прежде всего Пол Пот отменил в новом обществе деньги. А так как за бесплатно люди работали неохотно, то их убивали ударами мотыги по голове. Прямо на полях. Неизвестно, чем бы все это кончились, если бы не поражение Пол Пота от вьетнамцев. Но и за три года, которые они были у власти, Красные кхмеры уменьшили население страны на треть.
– А я-то думал, – подал, наконец, реплику генерал, – что здесь, в Москве, у них будет первая попытка. А получается, что это уже вторая.
– Да. Первая, с помощью мотыг по голове, провалилась. Вторую они решили попытаться осуществить более цивилизованнными методами: с помощью кредитных карточек «Глоб Экспресс».
– Где вы узнали об этой компании?
– В ресторане на Новом Арбате. Там их уже пытались всучить последним клиентам.
– И что клиенты?
– Натурально, полезли драться.
– Да, бедняжка Сартр, никак глупые людишки не желают его проекты заглатывать. Им говорят, что без денег только и заживут, только и свет увидят. Аж обезумеют от счастья. А они все уворачиваются, кайфа своего не хотят ловить. Так, на этом теоретическую часть будем считать законченной, – более жестким тоном заговорил Харт. – После вашей справки о характере парижских семинаров Блэквуда ясно, откуда у Корпорации растут ноги. И как родился их безумный план всемирного финансового краха и введения через кредитные карточки одной компании-монополиста тотального контроля над населением. Повторяю, будем считать, что нам обоим эта их стратегия понятна. А теперь самое время перейти к тактике.
– Значит, договорились, мистер Харт?
– Договорились.
– Я дам вам все, что у меня есть по заговору. А вы мне – по убийству Марло. Повторяю, фактически мы заняты одним и тем же делом. И тем не менее, просто будем считать, что мы обходим одно и то же логово с двух сторон.
– Тогда послушайте меня, – Харт тщательно раскурил потухшую сигару. Теперь, перед обращением к собеседнику с конкретной, можно сказать, оперативной информацией, он максимально сконцентрировался и, казалось, напрочь забыл о какой-либо спешке:
– Здесь, в Москве, им удалось выступить тремя колоннами: Толмачев, Круглый и, условно говоря, монархисты. Естественно, каждая их этих колонн решилась принять участие в столь грандиозной авантюре, преследуя свои цели, рассчитывая, что им удасться переиграть остальных и воспользоваться плодами хаоса так, как они сами сочтут нужным.
– И хаосом, и зеленым вагоном на Курском вокзале?
– Естественно. В связи с этим все три силы играли или могли сыграть двойственную роль. Возьмем хотя бы монархистов. Соглашаясь, так сказать, поучаствовать в атаке на доллар, они несколько наивно полагали, что все ограничится краткой биржевой паникой на Западе и некоторым недоумением народа, переходящим, опять-таки, в краткие волнения здесь, в России. И в этот момент, когда бумажные деньги ничего бы не стоили, они вывели бы на авансцену некоего престолонаследника и вручили бы ему, так сказать, на первый случай и для спасения народа свой золотой запас.
– И где же он, этот запас?
– По нашим сведениям, основная часть золота переведена сейчас ими с Кавказа и хранится здесь, чуть ли не в центре Москвы. Но более точных сведений у нас пока нет.
– Хорошо. Таково их собственное представление о развитии событий. А что бы произошло на самом деле?
– А я откуда знаю? Вы знаете, что такое мировой хаос? Нет? Вот и хорошо. Дай Бог вам и не узнать. Ни вам, ни вашим внукам.
– И все-таки? Каков мог получиться реальный расклад?
– Опять-таки, здесь все зависело от того, кто внутри этого многоугольника сил с кем бы и против кого блокировался. Все зависело бы вот от этих самых расчетов. А они могли оказаться неверными. Абсолютно все. Монархисты, например, рассчитывали, что в решающий момент они смогут опереться не только на свое золото, но и на монопольный силовой ресурс Толмачева. Что Толмачев своим штыком, так сказать, подопрет вновь воздвигаемый русский трон. Корпорация, со своей стороны, тоже рассчитывала на то, что генерал будет таскать для нее каштаны из огня. Мне, правда, не очень понятно, на чем они его купили…
– Как раз это я всего лишь час назад узнал абсолютно точно.
– Что же вы не говорите?
– Я сообщу вам об этом сразу, как только вы закончите свой анализ. Но мне необходимо выслушать его до конца.
– Хорошо. Так вот, и Корпорация, и монархисты собирались использовать Толмачева по своим, совсем не похожим один на другой сценариям. Они забыли только об одном: о том, что возможен третий вариант, по которому не они используют Толмачева, а он их. А я, например, уже годы наблюдая за карьерой генерала, да и успев несколько раз побеседовать с ним во время встреч на некоторых приемах, совершенно убежден, что у него был и самостоятельный план.
– Например?
– Он мог допустить на день или два деятельность в Москве «Глоб Экспресс». Разумеется, возникла бы паника, и начались бы волнения. Тогда генерал мог заявить, что президент утратил контроль, и во имя высших интересов безопасности народа и государства вводится военное правление. После этого он тут же арестовал бы или расстрелял на месте всех деятелей от «Глоб Экспресс», разогнал бы шоблу Круглого, вежливо извинился бы перед монархистами, что их историческое время еще не пришло, и… Что там еще у нас? А, ну да. И встал бы во главе классической, национально ориентированной военной диктатуры.
– И как вы думаете, у него могло получиться?
– Нет, конечно. Десять миллиардов, которые захватил бы Толмачев в пломбированном вагоне, это, конечно, неплохо. Но для диктатора России – это всего лишь на конфеты. А на что он смог бы опереться еще? Монархисты, оскорбленные в лучших чувствах, своего золота ему бы не дали. И просто отобрать его он не сумел бы, по крайней мере, сразу. У них очень крепкие позиции среди военных и в некоторых других важных ведомствах. Да и Корпорация что-то ведь да имеет на него? Иначе, как бы они вообще на него вышли и получили хотя бы предварительное заверение в сотрудничестве? Кстати, именно в этом важнейшем пункте вы обещали меня просветить.
– Хорошо. Давайте сначала закончим с вашими делами. Какая конкретно помощь вам нужна?
– Та, которую вы можете мне предоставить. Вам же лучше знать, в чем она может заключаться? А направления… я же вам только что все изложил.
– Это вы про три колонны?
– Да.
– Считайте, что их уже две. Круглый вышел из игры. А за ним было записано, ни мало ни много, как распространение по Москве «Глоб Экспресс» и, при необходимости и на необходимых участках, силовая поддержка любых акций Толмачева по установлению своего контроля в городе.
– Как и когда это произошло?
– Примерно час назад. Мне удалось встретиться с ним. Он признал во мне Джокера.
– Кого?
– Я показал ему вот это, – Алекс расстегнул сорочку и поднял правую руку, – и этого было достаточно.
Харт поднялся из кресла, подошел в Алексу вплотную и какое-то время пристально разглядывал метку.
Затем он произнес какую-то странную, удивительную для Алекса вещь:
– Так, значит, вы действительно существуете?
– Похоже, что так, – с глубоко запрятанной печалью ответил Алекс.
– Это всегда передавалось только устно. Что Джокер, или даже Джокеры, могут появиться. Выпускники Училища. Иногда, впрочем, его называли Обителью. А кто и вовсе Университетом. Я встретил в своей жизни шестерых, не считая меня, кому однажды шепнули, что при появлении Джокера игра считается законченной, и следует всего лишь выполнять то, что он скажет.
– Как бы там ни было, но одна из упомянутых вами трех колонн больше не существует. Точнее говоря, она больше не действует. И ничего не подпирает. А на вас, кажется, мистер Харт, не очень-то подействовало, что вы встретили самого Джокера? Круглый выглядел в этой ситуации куда более взволнованнее.
– Люди большой политики, большого бизнеса или большой преступности, Алекс, отнюдь не так эмоциональны, как вы, люди частного образа жизни. Естественно, что появление живого, вполне реального Джокера, которого мы все, посвященные, в глубине души считали всего лишь красивой выдумкой нашего начальства, не может не вызывать эмоций. Но у нас с Круглым разные позиции, поэтому и реагируем мы по разному. Для него с вашим появлением все кончилось. И надо думать, он испытал при этом большое облегчение. Вы явились для него, как у вас здесь теперь модно выражаться, крышей. И пока он выполняет ваши требования, он может не бояться «наезда» ни на себя, ни на свою империю «платных услуг населению».
– А вы?
– А я – другое дело. То, что Джокер существует, и мне даже довелось с ним встретиться, – это, конечно, событие. Но я еще успею его пережить в дальнейшем, когда завершится вот эта история. Пока же у меня просто нет времени на эмоции. Пока что я остаюсь на своем посту представителя своего государства и должен предпринять все возможное для предотвращения угрозы его безопасности.
– Так предпринимайте!
– В Москве их партия идет к закату. Круглого вывели из игры вы. Против Толмачева обманутые в лучших чувствах монархисты выпустили его заместителя, полковника Воронова. И к настоящему времени у Воронова по Москве и Московской области большие успехи.
– А что же президент?
– По-моему, он в последний момент заподозрил, что Толмачев охраняет вагон на Курском отнюдь не для того, чтобы вручить его содержимое верховной власти. Во всяком случае, как докладывает наша служба перехвата, Толмачев не может соединиться с президентом. А это означает только одно: президент не хочет с ним соединяться. От Круглого генерал тоже никакой поддержки больше не получает. И теперь мне понятно, почему. Коротко говоря, он оставлен один на один с Вороновым, который сжимает кольцо вокруг его штаб-квартиры.
– Не успеет, пожалуй, Воронов.
– Это еще почему? Куда не успеет?
– Лично добраться до Толмачева. А где, кстати, старлей этот раненый, которого мы направили к вам с площади?
– Симонов? Ему позвонила какая-то девица и, как он объяснил мне, приказала ему «выступить» в распоряжение ее отца.
– Я так и думал. Ее отец – Иван Григорьевич Кублицкий.
– И что с того? Что это решает?
– Для Толмачева это, возможно, решает все. Но вы правы, для обсуждения некоторых вещей время пока не настало. Так значит, вы говорите, что мятеж в Москве сильно подорван? Что же вас тогда беспокоит?
– Здесь ведь у них планировалось только начало. Вслед за Москвой волна должна была накрыть Западную Европу, а затем и Соединенные Штаты.
– Каким образом?
– В Западной Европе все должно начаться согласованной акцией группы ваших политиков и бизнесменов. Они должны единовременно потребовать выдачи из европейских банков огромных наличных сумм. Вероятно, они требовали каких-то гарантий. И этот ужасный, воистину монструозный вагон на Курском, был им продемонстрирован в качестве такой гарантии.
– Считайте, что эта проблема тоже снята. И в Западной Европе сегодня утром ничего не начнется.
– И это тоже сделали вы? – произнес Харт, уже с несколько опасливым восхищением поглядывая на Алекс.
– По моей подсказке. А конкретно сделал это Альфред. Из оперы «Травиата».
– Вот даже как, – неопределенно хмыкнул Харт, с некоторым сожалением поглядывая на далеко отброшенный пистолет. Ведь собеседник в любой момент мог и сам вообразить себя Хозе из оперы «Кармен», и что тогда?
Между тем Алекс продолжал, как ни в чем не бывало:
– Значит, вашей головной болью остаются только Соединенные Штаты. Что вы собираетесь там предпринять?
– Нужно, чтобы президент сделал некое жесткое заявление, подготовленное группой крупных биржевых брокеров, банкиров и президентов страховых и трастовых компаний. Всех тех, на чьи деньги и удалось снарядить этот вагон.
– Судя по обстоятельствам, он был загружен деньгами где-то на юге, в районе между Туапсе и Абхазией. А дальше он мог быть прицеплен к любому составу и докатиться до самой Москвы без досмотра. Если всем, кому следовало, щедро заплатили.
– Да. Скорее всего так все и было. Но вернемся все-таки в Америку. Президент должен заявить, что любой, кто окажет поддержку Моргенштерну и его Г «лоб Экспресс», будет рассматриваться властями как наносящий урон безопасности Соединенных Штатов. А с десятью миллиардами те из них, кто сколько-то вложил в эту сумму, пусть распрощаются. Эти деньги или вообще не вернутся в Штаты, или – даже если какая-то часть и вернется, – то, разумеется, уже не тем, кто незаконным образом забросил их в Россию. Незаконным образом и с преступной целью!
– И что же вам мешает предпринять шаги в этом направлении? Даже несмотря на то, что вы далеко от них, люди в Вашингтоне прекрасно знают вас. Они поверят любой вашей информации и сделают все, что вы им предложите.
– Не совсем так, Алекс. В принципе должно быть так, но не в данном случае. Президент должен будет принять весьма жесткие, нестандартные меры, почти рядом с нарушением Конституции. Для этого у них должно быть что-то более реальное и конкретное, чем моя оценка московских событий.
– А вагон на Курском?
– Я лично его не видел. И его в любой момент могут сжечь, взорвать, разграбить или испарить. Все это становится слишком эфемерным, когда передается через океан.
– Передайте, что рядом с вами находится Джокер. Кто-то из тех, к кому вы обращаетесь, должен знать, что это такое.
– Разумеется, кто-то должен знать. И я даже знаю, кто это. Ректор одного из известнейших в западном мире университетов. Он примерно одинаковое количество лет знает как меня, так и президента. Я ведь и сам когда-то услышал о существовании Джокера и Училища именно от него. Но я знаю, что вы были другом Марло. Что вам поверил Круглый. Наконец, я и сам видел вашу метку. По совокупности обстоятельств, мне не надо дальнейших проверок. Я и так знаю, что вы не самозванец. А у ректора будет только мое слово. Моя уверенность, что я не ошибаюсь. Чтобы идти к президенту, этого слишком мало.
– И этот человек единственный, кто реально может поверить вашей информации и предпринять соответствующие меры?
– Есть еще один, сравнительно молодой конгрессмен. Грегори Линч.
– Знакомая фамилия.
– Да, хотя вы и были тогда совсем еще молоды, но и до вас не могла не дойти эта ужасная история. О гибели отца Грегори, сенатора Джерри Линча. А вместе с ним и еще более тысячи человек. И президент, который тогда не был еще, разумеется, президентом, обещал молодому Линчу, что, где бы и когда бы не обнаружились новые обстоятельства, он всегда выступит на его стороне. Сделает все, чтобы убийцы были названы и наказаны.
– Это сделали два человека, мистер Харт. И я могу назвать вам их имена. А дальнейшее, полагаю, за молодым Линчем и вашим президентом. У нас ведь тут тоже… кое-кого поубивали. Так что, может быть, и вы мне кое-что подскажете.
Алекс машинально схватил одну из визитных карточек, лежащих в вазе в центре стола, написал что-то на ее свободной поверхности и протянул карточку Харту. Тот аккуратно взял ее в руки и прочитал:
– 1) Майор О’Брайен. Он же – Блэквуд. 2) Генерал Толмачев.
– Как вы узнали?
– Я был там. Это происходило совсем рядом от меня. Я видел, как эти двое провели Линча, уже обливающегося кровью, по аллее, мимо сотен агонизирующих мужчин, женщин и детей. В конце аллеи, прямо напротив дерева, в кроне которого я оборудовал свой наблюдательный пункт, эти двое его и прикончили.
– Все, кто там был, или даже просто слишком принюхивались к тем событиям, все они были уничтожены.
– Как видите, не все.
– Ах да, я же забыл, что вы – Джокер. Выпускник Училища, которое не засекают никакие электронные средства слежения. Интересно, а в Интернете у вас или о вас что-нибудь есть?
– Коли и есть, то разве что в символической форме. Ну? Что же вы не звоните в Америку?
Алекс видел, что Харт находится в чрезвычайном возбуждении, но все-таки справляется с ним. И, стало быть, пока он сам для себя не признает убедительной полученную от Алекса информацию, никуда он не позвонит.
Алекс знал, что таковы правила разведки, таковы правила сильных мира сего, и что поэтому у Харта, собственно говоря, не было и выбора. Когда там, за океаном, будут оценивать поступившую от него информацию, ему зададут все те же вопросы, которые он должен задать сейчас Алексу.
– Хорошо, оставим пока ваше Училище и вашу неуловимость. Но как вы узнали этих двух сейчас? Ведь прошло более двадцати лет.
– Блэквуда я узнал по характерной для него фразе, которую он выкрикнул тогда, в джунглях, перед тем, как нанести окончательный. смертельный удар Линчу. И вчера ночью, в сквере на Смоленской, перед тем как ринуться убивать Гарика. Нечто вроде «Трэнсфэ камплитид», что на шпионско-компьютерном жаргоне означает «Сообщение закончено».
– Не совсем убедительно, Алекс. Вы слышите короткую фразу через двадцать лет и, как и в первый раз, находитесь при этом на расстоянии от человека, который выкрикивает ее. И тем не менее, этого достаточно, чтобы его идентифицировать?
– Разумеется, нет. Если бы я «идентифицировал» его сразу, не произошло бы множества событий. И прежде всего, остался бы в живых Гарик. Но сначала мне просто показалось, что где-то я уже слышал этого человека, выкрикивающего именно эту же фразу. Но где именно? Я решил проверить по словарю все значения слова «трансферт», надеясь, что одно из них подскажет или напомнит мне обстановку, в которой я услышал эту фразу в первый раз.
– Так и произошло?
– Почти. Впрочем, ассоциация, которая помогла мне все вспомнить, получилась достаточно изощренной. Литератор Герб нашел в своем Брокгаузе и Ефроне значение «трансферта», связанное с истерией. После чего он сообщил мне, что этому, психопатологическому трансферту посвящена целая книга Карла Густава Юнга, который иллюстрировал свою теорию архетипов примерами архаичных обрядов и культов. Как только Герб это произнес, в моем мозгу сразу всплыли ужасающие картины культа массовых человеческих жертвоприношений.
– Хорошо. Такое объяснение трудно придумать «ад хок», то есть специально к этому случаю. А следовательно, оно может вызвать доверие. А как вы узнали второго?
– Герб вызвался помочь Валентине подготовить какой-то рекламно-биографический материал про Толмачева. И среди прочих заготовок я увидел у него на столе фотографию молодого Толмачева. И как только у меня перед глазами снова встала картина убийства Линча двумя мужчинами, одного из которых я идентифицировал, как Блэквуда, фотография на рабочем столе Герба подсказала остальное.
– Хорошо. Ждите мена здесь. Я сейчас буду говорить с Линчем-младшим.
Харт оставил Алекса одного, а сам закрылся в так называемой темной комнате, в которой у него и был оборудован персональный пункт трансокеанической связи.
Алекс подумал, что если бы прямо сейчас в квартиру вошел О’Брайен, он же Блэквуд, то все могло бы разрешиться мгновенно и кроваво. Он поднял пистолет Харта с пола и, подумав, положил его на телевизор, рядом с невскрытой бутылкой «Джонни Уокера».
Все и так уже разрешилось. Но Алекс чувствовал, как в нем закипает волна гнева городского хулигана. Молодой подвыпившей шпаны, которой дали в нос, и убежали.
«Не затевайся», – говорили они друг другу в подобных случаях. «Не лезь. Не ищи приключений на свою…», – и все такое подобное.
И позволяли растаскивать, виснуть у себя на плечах, заламывать руки.
Гнев быстро проходил, и становилось ясно, что правы те, кто так советовал и растаскивал.
Иногда разбивали губу или выбивали зубы, или сбивали с ног и успевали сунуть пару раз ногами по голове.
Ну и что? А иногда даже и убивали: ножом, кастетом или невесть откуда взявшейся неровной глыбой бетона.
Доходило дело и до судов, и до сроков, и до отсидок. Гнев к тому времени уже давно исчезал. И даже к моменту открытия суда собравшиеся в зале потерпевшие, ответчики и свидетели не совсем ясно представляли, зачем они все здесь собрались, и о чем так настырно переспрашивает тетенька-судья. Все дело разрешилось в минуту там, во дворе или в сквере, под солнцем или даже под звуки духового оркестра.
Все. Кончено. А тут они как бы потрошили труп того события, по очереди подходя к нему кто с ножом, кто с пилой, а кто и с топором.
Но по отношению к Блэквуду гнев не проходил. Он посещал, видите ли, в Париже семинар Сартра.
Может быть, поэтому? Дело в том, что Алексу никогда не нравилась проза Сартра.
Нет, гнев на дерьмака, загубившего ребят, не проходил. А в этом случае пистолет не помощник. С собой бы справиться.
Вернулся Харт, по лицу которого было видно, что разговор с Америкой состоялся и был успешным.
– Все, Алекс, Грегори Линч уже едет на встречу с президентом. Что у нас осталось?
– Кто убил Мартина Марло? Гарика? Консьержку в доме Марло?
– Все мотивы – у Блэквуда.
– Разумеется. Но он не мог это сделать физически. Марло был убит на сутки раньше, чем Блэквуд прибыл в Москву.
– Вот насчет этого прибытия тоже что-то темновато.
– А что именно, мистер Харт?
– Когда я узнал, какие виражи закладывал в молодые годы человек, который должен был заменить меня в Москве, я сузил круг поиска. Навел на резкость по времени и пространству в интересующих нас с вами узлах. И, представьте себе, выявилось кое-что неправильное. А за неправильностью, как мы с вами понимаем, кроется преступление. Или безбожие. Что, впрочем, одно и то же.
– Основная неправильность в том, что Блэквуда не схватили за задницу еще там, в Штатах. А позволили прибыть к нам, в Москву. И погулять здесь… на вонючих лапах.
– Согласен. Но мы с вами и здесь, в Москве, кое-что сумели. В частности, я говорил с непосредственным начальником Блэквуда, неким мистером Гринауэем. Разумеется, полковником какой-то службы космической дезинформации и тому подобной кошмарной ахинеи. Но не в этом дело. А в том, что мистер Гринауэй сообщил мне, что его подчиненный, майор О’Брайен, ушел в отпуск для выполнения особого задания в России по просьбе и по согласованию с вышестоящим начальством. Гринауэй знал, что задание должно начаться только со вчерашнего дня, когда О’Брайен, он же Блэквуд, официально и прибыл в Москву. Но вот в отпуск-то наш майор ушел уже более недели назад.
– Как он это объяснил Гринауэю?
– А вот в том-то и дело, что объяснил. И даже вполне логично и убедительно. Он сказал Гринауэю, что перед полетом в загадочную и холодную Россию хотел бы навестить родителей, которые живут на Западном побережье. Старики-де годами не видят сына, защищающего на всех контитентах идеалы свободы от нехороших парней. К тому же, они вроде бы хотели посоветоваться с ним по вопросу управления своими акциями. Гринауэй выслушал разумного человека и заботливого сына, и, разумеется, не стал возражать, чтобы тот убыл в отпуск на десять дней раньше, чем начиналось его задание в Москве.
– И он действительно поехал на Западное побережье?
– Нет. Его там не было. Я представился его родителям как его новый шеф и быстро все выяснил, так как у почтенной четы не было никаких оснований что-то скрывать.
– Он не приехал к ним?
– Более того. Они и не ждали, что он приедет. И не было никакого разговора о каких-то трудностях с управлением акциями.
– Значит, он все придумал с самого начала.
– Разумеется. Легенда разового использования. Даже без подстраховки. Только для наивного Гринауэя. У которого, впрочем, и не было никаких предпосылок для того, чтобы проверять своего высокопородного подчиненного.
– Где же он был это время?
– Тогда я еще сузил круг поиска. В конце концов, рассудил я, Блэквуд, когда бы это ни произошло, вылетел из Нью-Йорка в Москву из аэропорта «Кеннеди». Далее не буду вас утомлять и, самое главное, задерживать, перечисляя те силы, которые я подключил к выяснению всех обстоятельств, связанных с этим эпизодом. Так или иначе, после тщательного прочесывания всего, что так или иначе связано с аэропортами, один агент наткнулся, наконец, на весьма интересный факт. А именно: выяснилось, что О’Брайен, или какой-то человек с его документами последнюю неделю прожил в мотеле около аэропорта. Только не «Джи Фи Ки», а «Ля Гвардия».
– Что? «Ля Гвардия»?
– Да. Это второй по величине аэропорт Нью-Йорка. Куда вы, Алекс?
– По его документам в мотеле жил литератор Пафнутий. А сам он гулял в это время по Москве. И подготовил ликвидацию Марло и многое другое.
– А вчера в «Шереметьево»?
– Разумеется, вы прежде всего позвонили туда, и вам ответили, что, по их данным, О’Брайен прилетел в Москву только вчера.
– Так и было.
– А вчера прилетел Пафнутий. С документами О’Брайена. И через тридцать минут у них встреча. И она может кончиться еще одним трупом. А может, и не одним. Вместе с Пафнутием, не подозревая об опасности О’Брайена-Блэквуда, на встречу идет и литератор Герб.
– Подождите. Я иду с вами.
– Нет. Вы ждите его здесь. Если он что-то заподозрит и не придет на встречу, то обязательно появится здесь. А я… мне бы только с ним повстречаться. Мне там помощь будет не нужна.
Генерал Харт умел разбираться в людях. Поэтому он поверил Алексу, что тот обойдется без подкреплений.
10
Найти и взять за хобот. И неважно, сколько у того будет стволов или ножей в его потайных вонючих карманах.
Если же говорить профессионально, то предстоит задержание особо опасного и предотвращение новых убийств. Но я не профессионал. Я – джокер. Шутник. Последняя ставка. Последняя карта. Последняя попытка людей договориться между собой.
Он вошел в парадное высотного дома на площади Восстания, как раз напротив той площадки, «где собачки лают».
На лифте поднялся до двенадцатого этажа и вышел на площадку, «там, где спросили прикурить».
«И минус пять. И понимай, как знаешь».
Алекс понял так.
Из-за плеча раздался вкрадчивый голос: «Виталий Емельянович Карнаухов. Не позабыли?»
Карнаух взял его под руку и повел по коридору, по мраморному полу, застеленному красной ковровой дорожкой.
Остановился перед дверью с номером двенадцать и толкнул дверь. Они вошли в почти пустую комнату, если не считать низкую широкую кровать и стоящий прямо на полу телевизор с выпуклым овальным, как иллюминатор, экраном.
– Вот здесь он его и держал.
– Что значит, держал?
– Ну, не насильно, конечно. А по уговору. Я деталей не знаю, это уж сам у американца спросишь, когда задержишь его. Но он как-то обманул Марло, и они договорились действовать вместе.
– Ты приходил, что ли, к ним сюда?
– Да. Я у них вроде как за прислугу был. Приносил продукты, выпивку, то, другое.
– Чем они тут занимались? Почему Марло целую неделю не возвращался к себе на квартиру?
– Они распустили на площади слух, что Марло убили. Ясно, что он не мог в это время появляться у себя дома.
– Зачем это было сделано?
– Ждали, что кто-то объявится и что-то предпримет. Похоже, парень, что ждали тебя.
– Я бы, конечно, что-нибудь сделал, но меня как раз всю эту неделю не было в Москве. Следовательно, я не появлялся в пивной и в сквере и не мог ничего этого услышать.
– Поэтому вся эта их чушь ничего и не дала. Они искали кого-то, но не знали, что это ты.
– Хорошо. Об этом я подробнее поговорю лично с американцем. А сейчас речь идет о Гербе и Пафнутии. Ты же ведь знаешь их по Смоляге?
– Как не знать? Клевые мэны. Они что, тоже завязли?
– У них здесь свидание с этим американцем, с майором. Как ты думаешь, он встретится с ними именно здесь?
Карнаух явно с трудом расставался с любыми сведениями, относящимися к «эксплуатации высотных зданий», но вчерашние потрясения, похоже, размягчили его крутизну до основания.
– Всему здесь есть свой дубль. Здание симметрично.
Алекс понял, что время уходит, а ему грозит услышать еще одну лекцию о четвертом измерении московской архитектуры.
– Тебе что, ребят не жаль? К тому же не забудь, у тебя рыло в пуху. Если сейчас их не спасем… Это последний шанс, понимаешь?
– Я все говорю путем. А ты не слушаешь.
– Говори.
– Мы с тобой на двенадцатом этаже восточного крыла. В двенадцатом номере. Так? Значит, в западном крыле имеется точно такое же помещение. Допустим, под номером двенадцать А.
– А почему ты решил, что он назначил им встречу именно в том крыле, а не в этом?
– Да именно потому, что это помещение засвечено. Я его засветил, понимаешь? А я еще жив. Ему меня пока найти и убить не удалось. А в то крыло, он считает, я побоюсь проникнуть.
Алекс, почти уже не слушая, ринулся вон из комнаты и далее по коридору к лифтам.
– Да подожди ты… – еле поспевал за ним Карнаух. – Куда без меня? Как слепой же…
Толмачев понимал, что проиграл. Но предстояло еще уточнить размеры проигрыша и – заодно уж! – форму оплаты.
Что он может предложить президенту? Вагон с долларами все еще оцеплен его людьми. И это, пожалуй, все, чем он может похвастать. И этого может не стать в любой момент. А по остальной Москве игра пошла сплошь провальная.
Круглый отступился и не выходит на связь. Блэквуд, как нырнул в столичную ночь, так до сих пор и не вынырнул.
Генерал набрал номер американца.
– Мне нужен мистер О’Брайен.
– Мне тоже. Но его здесь нет. И я не знаю, где он.
– Говорит генерал Толмачев. Что вы мне можете сказать?
– Если вас это интересует, то меня зовут Чарльз Харт. Думаю, вам понятны мои полномочия и информированность.
– Да, конечно. Говорите же!
– Часов через двенадцать, мистер Толмачев, в Москву прилетает Грегори Линч, гражданин Соединенных Штатов. И он непременно постарается встретиться с вами и задать вам несколько вопросов. Относительно одной, сравнительно уже давней, истории. Об обстоятельствах гибели его отца, сенатора Джерри Линча.
– Почему мне, Харт?
– Потому что это сделали вы, генерал. Вы и Блэквуд, которого вы называете О’Брайеном.
– Кто может это утверждать? Разве вам не известно, Харт, что таких людей не существует?
– Просто людей – да, не существует. Ваша корпорация, которую до сегодняшнего дня номинально возглавляет Моргенштерн, уничтожила всех, даже косвенных свидетелей.
– Не знаю никакого Моргенштерна. Но, даже если это так, вы же сами согласны, что все, кто мог что-то видеть, были ликвидированы. О чем же вы тогда болтаете?
– О Джокере, генерал. Он был там и видел все с расстояния не более нескольких десятков метров.
– И столько лет молчал? А теперь вдруг узнал меня и Блэквуда? Какая чушь!
– Представьте, узнал, Блэквуда – по фразе, которую тот зачем-то выкрикивает, когда непосредственно идет убивать. Вас – по одной вашей старой фотографии, на которой вы гораздо моложе, чем сейчас. Вопросы есть? Соберитесь с духом, генерал. Кажется, это все, что вы можете сделать.
Разговаривать больше было не о чем. Толмачев ни на мгновение не сомневался в том, что Харт не блефует. Значит, миссия Блэквуда полностью провалена. Перед началом операции часть руководства утверждала, что никакого Джокера и Училища не существует, и нечего распылять силы, выслеживая и блокируя угрозы химер.
И все-таки было решено подстраховаться и поручить Блэквуду нейтрализовать Джокера, если таковой существует в природе.
Толмачев был против. Он считал, что существует Джокер или нет, а специально искать и заниматься глубокомосковским бурением ни в коем случае не следует. В отличие от Блэквуда, он был москвич и поэтому знал, что, если здесь, в центре, покопать, то можно докопаться аж до Господа Бога. А с Нечистым просто-напросто сыграть на сквере в шахматы.
Но нет, умники заокеанские не послушались и поручили провести профилактику Блэквуду. Вот он и провел.
Толмачев уже давно, с первых совместных операций, предчувствовал, что однажды Блэквуд подведет. Не мог не подвести, потому что в его арсенале всегда было только одно средство: убийство.
«Я всегда сначала убиваю, а потом смотрю, как оно и что», – любил, жизнерадостно посмеиваясь, приговаривать Блэквуд. Ну вот, хлопчик, мы, кажется, и досмеялись.
«На кой пес я с ними связался?» – подумал Толмачев, понимая одновременно, что и связался давным-давно, и сожалеть теперь об этом поздно.
Национальная военная диктатура… Ну так и устраивал бы своими. Людей, что ли, здесь бы не нашлось?
Все. Надо было думать о неотложных, то есть об оперативных решениях.
Генерал только минут десять как вернулся в свой огромный кабинет из западного крыла здания. Он лично проверил сигнал, что через это крыло несанкционированно проник человек.
Вначале, как только пришло это сообщение, Толмачев, естественно, заорал, как раненый вепрь: «Куда смотрели?!»
И в самом деле, западное крыло было укреплено не хуже, чем центральный вход. А учитывая узкие двери, то есть небольшую площадь возможного проникновения, вообще трудно было вообразить, как охрана ухитрилась пропустить кого-то.
Как только Толмачев перестал на какую-то минуту орать, ему пояснили, что задержать нарушителя не смогли, потому что с его стороны был применен «Танец».
«Танцем» спецназы называли некое антиинерционное состояние, в которое, якобы, может произвольно впадать особо тренированный и способный на то человек.
В этом состоянии он как бы не подчинялся тяготению и инерции, то есть мог производить произвольные перемещения под любыми градусами, никак не подготовленные прыжки, повороты, вращения, использовать любые предметы мебели с той же непринужденностью, как обезьяны ветви деревьев.
Никто и никогда не видел «Танца» в чьем бы то ни было исполнении в полном объеме. Трезвые головы склонялись к мысли, что то была лишь красивая легенда, придуманная инструкторами по боевым единоборствам.
Но Толмачеву были доступны закрытые сообщения о странных случаях проникновений и покушений, случавшихся в разных концах земного шара. Успешность таких попыток можно было объяснить только применением нападавшей стороной «Танца».
В таких случаях рассказы охранников, мимо которых кубарем, вприскачку, паря, складываясь и выворачиваясь на лету, промчалось некое существо человеческого обличия, носили крайне сбивчивый и противоречивый характер. Так было и на этот раз. Толмачев, даже не дослушав их, вернулся к себе, прикидывая, кто во всем российском спецназе, если хоть один такой существует, смог бы по-настоящему «станцевать». И понимал, что, по крайней мере, один такой есть.
Ну, стало быть, одно к одному.
И не решить ли тогда все проще?
Он еще раз прошелся по своему гигантскому кабинету и окончательно ощутил, насколько неуютен этот огромный, сугубо деловой простор. Тогда он открыл небольшую дверь, которая вела в комнату отдыха, обставленную диваном, столиком с телефонным аппаратом с гербовым диском и высоким холодильником «Розен Лев».
Толмачев опустился на диван, выдвинул нижний ящичек телефонного столика и засунул туда руку, нашаривая пистолет.
Металл больно ударил его сзади под ухо, и он тут же понял, что зря искал. Его пистолет уже нашли до него. И изъяли. И теперь рука, раздвинув шторку, которая закрывала нишу около холодильника, ткнула этим же пистолетом ему под ухо.
– Ты, что ли, Иван Григорьевич? – спросил Толмачев.
– Я, – ответил подполковник Кублицкий, – я и твоя смерть.
– Подожди… Я хотел… Военная диктатура… Мы же с тобой об этом часто говорили. А ребята… они погибли не зря.
– Ты действовал на чужие деньги и в чужих интересах. Какая диктатура? Какой еще диктатор? Уж не ты ли?
– Ваня…Ты подожди…
– А ведь ты совсем черный, Толмачев. Ты еще чернее, чем дыра, в которую ты полетишь.
– Ваня… Все могло быть по-другому.
– А вот это ты объяснишь уже там, куда ты сейчас отправишься. А здесь, что же… – прощай!
Кублицкий нажал курок.
Генерал Толмачев с разбитой головой повалился на столик, заливая кровью гербовый телефонный диск.
Если бы они вышли из лифта на первом этаже и обошли бы высотку снаружи, чтобы попасть в западное крыло, то можно было еще успеть. Но Карнаух, опасаясь, что на улице их могут засечь, решил не рисковать.
Он опустился вместе с Алексом в первый подземный этаж, и только там они покинули лифт. На этом уровне, как это иногда планируют в обширных по площади, многокорпусных медицинских центрах, по диагонали под всем зданием шла галерея. Вот именно по ней, по этому выложенному грубо обработанным гранитом коридору, двое мужчин достаточно быстрым шагом спешили пересечь здание и попасть в его западное крыло.
Но уже в лифт в этом самом западном крыле садились двое других мужчин, которые никак не предполагали, что счет для них пошел на секунды. Это были, разумеется, два широко известных в кругах, близких к пивной на Смоляге, литератора – Герб и Пафнутий.
Литератор, как известно, велик и могуч, пока не покидает области своей компетенции. Эти же двое решили вдруг поинтересоваться, так ли оно все снаружи, как в их складных сюжетах.
Они поднялись на двенадцатый этаж и подошли к двери, на которой мелом довольно небрежно, как будто наспех и только что, было выведено – «12, Фи, Бета, Каппа: кто хочет заработать?» Дребедень, одним словом. Но это была дребедень, о которой американец уговорился по телефону с Пафнутием.
Пафнутий постучал в дверь и, когда никто не ответил, открыл ее, – что тоже было оговорено, – и оба приятеля вошли внутрь. Комната производила впечатление нежилой: в конце ее пустого пространства стоял шкаф размером почти в точности со стену, к которой он примыкал, да сразу справа от входной двери был выгорожен шторкой небольшой участок для рукомойника.
Герб тут же скользнул за эту шторку, приготовившись стать свидетелем интересной сцены между двумя профессионалами: шпионом и литератором.
И сцена произошла. Даже, можно сказать, разыгралась.
Мгновенно.
Вот только профессионалов в ней оказалось не двое. А лишь один.
Когда они подошли, наконец, к площадке западного лифта, то попали в эпиценр строительно-реставрационных работ. Гранитный цоколь, который опоясывал здание по внешнему периметру, оказывается, не прерывался и здесь, внутри. В данный момент на некоторых участках гранитные плиты были сняты. То ли они потрескались сами по себе, то ли их внешний вид был изуродован некими вандалами. Но, видно, их решили частично заменить на другие, частично заново отшлифовать и поставить на прежнее место. А по такому случаю можно было, конечно, профилактически укрепить и бетонную начинку, скрывающуюся под гранитной облицовкой.
Работяги этим и занимались. Носилки, лопаты, ломы, которыми шуровали внутри старой и теперь, судя по всему, частично просевшей и местами рассыпающейся окаменелости.
Герб подивился атлетическому сложению работяг и напряженной сосредоточенности, с которой они работали. Не слышно было шуточек, балагурства, не мелькали улыбочки или хотя бы обычные на таких работах матюги, просьбы прикурить и тому подобное. Так работают только «спецработяги».
Сверху уже раздавалось гудение шедшего вниз лифта.
Внимание Герба привлек необычный металлический блеск новой партии бетона в огромном лотке, спущенном на тросах прямо около развороченного цокольного угла. Он опустил руку и захватил на ладонь небольшую порцию странного бетона. Поднял ладонь к лицу и растирая «песочек», поднес его к самым глазам.
Песочек был золотым.
– И вот так, почитай, круглый год, – бубнил за плечом Карнаух. – И вот укрепляют… как будто при Усатом строить не умели. И меняют, и меняют… Вот куда денежки-то вбухивают. И ты что, думаешь, это только здесь? Такая же бурда с цокольными этажами по всем пяти высоткам идет. Ясное дело, деньги на ремонт спущены, вот и надо осваивать, хочешь не хочешь.
Гербу было ясно совсем другое: в фундаменты, в начинку цокольных этажей высотных зданий Москвы в течение года укладывался бетон, на половину или на треть смешанный с золотым песком.
Кто бы не осуществлял этот проект, он тем самым сохранял золото от возможного его перемещения за пределы страны, так сказать, закреплял его за территорией. Расположенное таким образом золото оказывалось теперь как бы неразрывно сцементированным с центром, или с самим сердцем Москвы. И, значит, при любых политических потрясениях оно могло менять хозяев только номинально, то есть на бумаге, и до следующего переворота. А физически оно оставалось бы на месте и продолжало бы ждать своего часа. Когда его востребовали бы постоянные, а не временные его хозяева, которые, без сомнения, являлись и настоящими хозяевами «Дирекции по эксплуатации высотных зданий и сооружений».
Что же заставило перемещать такие, в полном смысле слова мировые, сокровища, в течение года? Откуда их потребовалось срочно эвакуировать?
А что произошло за последний год, какая территория или географическое направление оказалось под угрозой?
События в Чечне.
Значит, золото хранилось где-то в районе Кавказского хребта. А теперь пришло время положить его к подножию московского Кремля.
Состоялся трансатлантический разговор президентов России и Соединенных Штатов. Десять миллиардов в вагоне на Курском вокзале были настоящими.
Но они были «заражены», и при этом в неустановленной пропорции, тайным знаком, проявляющимся только при вращении купюры на специальном аппарате.
Следы вели в святая святых, в то место, где чеканилась «Мировая Монета». Поэтому до проведения полного расследования и чистки среди работников, заподозренных в участии в этой акции, зараженные деньги следовало просто уничтожить. Тем более, что это не наносило ущерба экономике Соединенных Штатов на десять миллиардов, как могло показаться.
Эту пачку денег, толщиной с вагон, можно было безболезненно уничтожить, а потом напечатать точно такую же, так как это были купюры новой серии. То есть, у населения сотенных с таким номером серии еще не было.
Президент России сказал, что он понимает опасения, связанные с подрывом доверия к мировой валюте, и находит вариант уничтожения вагона вполне разумным.
Но одновременно было подчеркнуто, что этой акцией, равно как и деятельностью трастовой компании «Глоб Экспресс», был не только нанесен огромный материальный и еще больший моральный ущерб. На какой-то, пусть даже краткий, момент создалась реальная угроза безопасности государства и общества. Президент Соединенных Штатов согласился с такой оценкой событий в Москве. Он уже знал, что она соответствует действительности. Поэтому было решено всю уничтожаемую в Москве по доброй воле российского руководства сумму вернуть России снова, как компенсацию, в течение двадцати лет. То есть, по пятьсот миллионов в год.
В том, что ему удастся обосновать перед Конгрессом эти выплаты, президент Соединенных Штатов не сомневался.
В афере была замешана часть американского истеблишмента, крупные брокеры Нью-Йоркской Фондовой биржи, а также некоторые руководящие сотрудники Разведывательного сообщества в отставке. Таким образом, речь шла о сохранении лица мировой державы.
Закончив этот разговор, президент России вызвал к себе помощника и протянул ему записку на так называемом президентском бланке: «Груз – распылить. Исполнители – те же, кто охраняет. Довести до среднего командного состава о переподчинении генералу Воронову».
Помощник чуть заколебался, но потом все-таки дописал еще одну строку и снова положил записку перед президентом.
Президент прочел: «Обоснование переподчинения для сред. ком. состава?»
И ответил через дефис: «Трагическая гибель генерала Толмачева. При исполнении служебных обязанностей».
Алекс и Карнаухов толкнули дверь, которая оказалась незапертой, и вошли в номер 12-А.
И тут же они поняли, что опоздали.
В нише около умывальника стоял, привалившись спиной к стене, окровавленный литератор Герб, как бы обнимая за плечи, а вернее, удерживая на ногах литератора Пафнутия.
Пафнутия тут же осторожно уложили на пол, освободив, таким образом, Герба от его страшной ноши.
Хотя Герб и оказался абсолютно невредим, а кровь на нем была не его, а Пафнутия, все-таки охотник за детективными сюжетами находился в настоящем шоке.
– Я… вот тут стоял… за шторкой. Мы думали… интересно, как он поведет дело с Пафнутием. Все-таки настоящий шпион, разведчик, или как его там? Видишь, Алекс, какие дела, нам и стало интересно. А тот и говорить ничего не стал. Как вошел, Пафнутий ему только начал чего-то заправлять, в смысле, что я вам ваши документы отдал, а теперь, мол, мои гоните. А тот только как будто бы удивился. Мол, я не против, но зачем они вам? Или, как же это он сказал? Зачем они теперь вам? Ну да, именно теперь. А потом сразу как развернулся и ка-ак врезал Пафнутию. Пафнутий на шторку и повалился. А за шторкой я. Он бы добил, Алекс. Он пошел на него добивать. Но тут увидел меня. Он не знал, что я тоже литератор. Ну, то есть, что у меня нет оружия. Иначе он бы добил нас обоих. Это так, Алекс. Я видел его лицо, это зверь.
– Куда же он делся? – спросил Алекс, который видел, что Пафнутий, хоть и серьезно ранен, но жизнь его, скорее всего, вне опасности. Разум Герба тоже, хоть и был основательно потрясен, но в основном оставался на своей орбите.
– Вон туда побежал, – показал Герб в сторону шкафа, – там и исчез.
– Значит, по-твоему выходит, что он сейчас в шкафу этом сидит?
– Качумай, братишка, – подал свой скромный голос Карнаух. – Там на заднюю стенку выведена дверь внутреннего лифта. И он сейчас едет в этом лифте вниз, на четвертый уровень.
– Точно, – опять на грани истерики забормотал Герб. – Я еще удивился: когда он в этот шкаф заскочил, как будто что-то загудело. Вот это он и поехал.
– Когда это произошло? – спросил Алекс.
– Да прямо перед вами. Минуты не прошло.
– Что такое внутренний лифт? – обратился Алекс к Карнауху.
– Если он им воспользовался, то другой уже нет. Неизвестное количество степеней защиты. Ни ломом, ни гранатометом. В крайнем случае можешь взорвать и разворотить. Но не использовать. Тут только знание. И я думаю, что в обмен на какие-то посулы, допустим, присвоить Марло такую же должность, как у тебя, Мартин все ему и передал.
– Что все?
– Прежде всего коды. Как, например, запуска и блокировки внутреннего лифта.
– И что же он теперь, неуловим и всемогущ?
– Я так не сказал.
– Тогда скажи.
– Сначала скажи ты: что ты хочешь?
– Взять американца. Это еще возможно?
Они подошли к шкафу, и Алекс убедился, что Карнаух знает, что говорит. Раскрыв переднюю дверцу, Алекс убедился, что у шкафа отсутствовала задняя стенка, а вместо нее тускло поблескивала металлическая дверь. Это, разумеется, и была непреодолимая для непосвященных дверь внутреннего лифта.
– Есть одна возможность, – нерешительно начал Карнаух.
– Говори.
– Не то, чтобы опасно, а…теоретически.
– Что значит?
– Говорят, что так можно. Но живых экземпляров, которые этим воспользовались бы, я лично как-то не встречал.
– Я – пока еще живой. А экземпляр или нет, увидим потом.
– Тогда поехали наверх. Под самый кумпол.
Они поднялись еще на десять этажей и вышли на «чердак», размером, может, чуть поменьше стадиона. Над ними, наподобие готического собора, возвышался шпиль высотного здания, о необходимости и эстетической оправданности строительства которого в сороковых годах шли жаркие баталии в московских архитектурных кругах. Наверх вела только пожарная лестница, и подняться предстояло на высоту нескольких десятков метров.
Они, не теряя времени, начали подъем, и метров через двадцать достигли промежуточной площадки.
– Ты как? – спросил Карнаух.
– Нормально. Значит, ты говоришь, что там я его найду?
– Можешь найти. Всего лишь можешь. Если повезет. Я же тебе сказал, под самым шпилем – оконечность резиновой колонны. Резинового прохода, гигантского шланга, можешь назвать это как угодно. Конец выведен под самый верх. Но он сплющен. Так что без посторонней помощи там нечего и делать. Мы с тобой вдвоем раздвинем резиновые губы, потом я буду их удерживать, а ты в это время проскользнешь внутрь.
– Это мне все примерно ясно. А вот что потом?
– Когда потом? Ты, паря, говори, да не заговаривайся.
– Как вернуться обратно? Я же изнутри, в одиночку, не двину снова этот раструб? А откуда ты знаешь, когда меня здесь поджидать?
– А я и не стану. Знающие люди говорили, что кто через губу на шпиле уходил, того уж обратно не встречали.
– Верная смерть, так, что ли?
– Почему же? Ты, может, в другом каком месте вынырнешь. А мне что же, всю остатнюю жизнь здесь сидеть, ожидаючи?
– Так. С этим покончили. Но я хоть найду его там?
– Должен. Через этот раструб ты попадешь сначала в некую кишку. Внутри там будет навроде вот этой самой пожарной лестницы. Но самое главное, что ни у него, ни у тебя пути, вроде бы, другого нет. Все вниз и вниз. И так до четвертого уровня.
Наконец они добрались до самой вершины. Там опять-таки была площадочка, но уже совсем крохотная. Напоминающая птичье гнездо не только размерами, но и тем, что оно явственно раскачивалось под порывами ветра снаружи, как будто было закинуто не под шпиль мощнейшего, железо-бетонно-каменного небоскреба, а на тоненькую, гибкую вершину стройного дерева.
– Ну, пора, – сказал Алекс, гася сигарету о металлическую полосу посередине резинового овала, через который ему предстояло проникнуть в мир, где еще можно было что-то переиграть.
– А кстати, что такое четвертый уровень? – спросил Алекс, как бы желая хотя бы ненамного продлить разумные разговоры с разумным человеком.
– Первый уровень – метро. Второй – правительственные трассы из-под Кремля, Лубянки, Старой площади за город. Противоатомные убежища на пару-тройку тысяч человек. Тритий уровень – технический. Там просто трубы. Коммуникации. Ну, небольшие комнатки, узкие лазы, считай, траншеи. Только, чтобы ремонтники еле-еле могли подобраться, ежели что где прохудилось. Ниже его – не должно, вроде бы, быть ничего. Но он есть. Есть и четвертый уровень. Ниже третьего.
– Значит, говоришь, я его там найду? А не разойдемся?
– Не должны. Там путь один: что у него, из внутреннего лифта, что у тебя, через эту дуру резиновую. И запомни: там сейчас, кроме него, и быть никого не может. Так что шорох услышишь или увидишь тень – бей и не промахивайся. Можешь и не окликать.
Вдвоем они растянули резиновое кольцо. и Алекс раздвинутыми локтями помогая Карнауху удерживать резину, протиснулся внутрь. Он сразу нащупал ногами ступеньки лестницы, после чего плавно сдвинул локти и опустил руки вниз, чтобы их не защемило наверху снова сошедшимся тугим кольцом.
Он был один. На высоте птичьего полета над Москвой. И одновременно внутри ствола какой-то непонятной, как будто ведущей прямо в ад, шахты.
Впрочем, почему непонятной? Это же просто запасной вариант прохода на четвертый уровень. На случай отказа, захвата или уничтожения внутреннего лифта.
Где-то далеко внизу мерцал какой-то огонек, и Алекс, методично перебирая руками и ногами, опускался навстречу ему.
Наконец, спустившись метров на пятьдесят, он достиг узкой площадки. И как только он полностью отцепился от лестницы, то есть плотно, обеими ногами встал на площадку, она мягко завибрировала и… не спеша, можно сказать, плавно, пошла вниз.
Алекс инстинктивно принял прямую стойку, включая даже «руки по швам», так как площадка опускалась в довольно узком бетонном стволе. Иначе говоря, в бетонном стакане.
Стенки стакана, которые проплывали мимо глаз Алекса, производили мрачное впечатление необработанностью внутренней поверхности, застывшими черными языками каких-то технических жидкостей, скорее всего, мазута и машинных масел.
Спуск кончился. Перед Алексом открылся теперь почти горизонтальный проход, уходящий вниз всего лишь под десятью-пятнадцатью градусами. Впрочем, стены, пол и потолок прохода ничем не отличались от грубо наложенного бетона вертикальной шахты.
Алекс прикинул, на сколько он уже спустился. Очень приблизительно можно было определить, что он находится уже метрах в тридцати-сорока ниже уровня земли.
Не мешкая, предельно быстрым шагом он направился по бетонному коридору. Конечно, если верить Карнауху, – а что же еще, кстати, оставалось делать? – Алекс не должен был разминуться с Блэквудом. Но это пока они идут здесь, хоть и под землей, но всего лишь на первом, а потом, допустим, на втором или на третьем уровне.
Вот в это время и необходимо его настигнуть. Потому что, когда они попадут на четвертый уровень, то что это будет означать? Тот же Карнаух точно ничего об этом не знает. А только намекает, что окажутся они там как бы в неисследованных краях. А значит, и окружающая среда может иметь там такие особенности, что станет не до погони, а может, и не до чего.
Нет, если и удастся задать Блэквуду страшные вопросы, то делать это надо здесь. Или уж прямо бить по тени или шороху! Как советовал практичный товарищ Карнаухов. Поэтому он уже почти бежал по узкому, тускло освещенному коридору, постоянно меняющему направление, но неизменно ведущему вниз.
Наконец, коридор расширился, и Алекс тут же воспользовался этим, перейдя на полноценный, мягкий, но неостановимый бег трусцой. Видеоряд по флангам начал понемногу усложняться: то мелькнет ниша, то даже небольшой зал, впрочем, совершенно пустынные, с одной какой-нибудь голой, запыленной лампой, чей скучный свет только подчеркивал бесперспективность этих странных полупомещений для осмотра. Значит, нечего было и останавливаться.
Но вот мелькнул выведенный прямо на стену обьект, который все-таки заставил Алекса остановиться. Это была точно такая же металлическая дверь, как та, к которой был придвинут шкаф в номере 12-А.
Выходная дверь внутреннего лифта. Вот, значит, откуда начал свое путешествие на четвертый уровень Блэквуд.
И когда он вышел из этой двери? Минут десять назад.
Фора приличная. Больше ни на что отвлекаться и делать остановки нельзя. Иначе нечего было сюда и забираться.
Он снова побежал по ломающимся направлениям коридора, притормаживая на поворотах, чтобы погасить инерцию, все время нараставшую из-за того, что пол даже еще резче, чем в начале, шел под уклон.
А вот это уже интереснее: в некоторых нишах промелькнули статуи античных богов. Затем на каком-то участке попадались только распятия и другие композиции на евангельские мотивы.
Мелькали все более обширные помещения, которые уже можно было считать настоящими залами. Готика. Статуи средневековых рыцарей.
Трофеи, что ли? Но с какой войны? И знает ли хоть кто-нибудь там, наверху, что они здесь вот так гордо и отрешенно стоят неизвестно сколько столетий, освещаемые неизвестно отчего горящими лампадами.
Вниз! Еще вниз. С какой скоростью передвигается Блэквуд? Да с какой бы ни передвигался, Алекс его, конечно, нагоняет. Вот только успеет ли?
У Алекса заложило уши, как у пассажира самолета, идущего на посадку. Неужели он так быстро бежит и, следовательно, так быстро устремляется вниз?
И куда? Доколе вот так мчаться? Уж не до ядра ли Земли, если таковое существует?
Лирика. А важна дыхалка. Бей на шорох или мелькнувшую тень. Какое тут что, когда он несется, как добро смазанный локомотив, подминая пространство, которое приобретало, впрочем, все более странный характер.
Вот в очередной нише промелькнула бронзовая фигура рабочего с отбойным молотком на плече.
И за следующим же поворотом…
Мраморный зал.
Похож на станцию метрополитена. Очень похож. Но дикая роскошь мрамора, подбор рисунков – павлины, алхимические и опять-таки евангельские композиции – делали его еще более похожим на какой-нибудь из залов Ватиканских дворцов.
Вот тут уже надо было и впрямь притормозить. И прислушаться. И оглядеться.
На противоположной стороне зала стоял на рельсах аккуратненький такой составчик. Шесть-семь вагончиков. Чистенькие, как будто только что из мойки. Или сразу после снятия упаковки поставщиками завода-изготовителя.
Головной вагон, с кабиной водителя, смотрел в сторону жерла темного туннеля, метрах в полусотне от него.
Вагоны были прекрасно освещены, и через безупречно вымытые стекла просвечивали своей пустотой. Внутри них не было не только пассажиров, но и пассажирских скамеек.
Следовательно, бессмысленно следовал Алекс привычке логической обработки увиденного, этот поезд ходит только на короткие расстояния. А если на значительные расстояния, то с высокой, быть может, огромной скоростью.
Вот только куда?
Реагируй на шорох.
Но это был посвист, сопровождаемый сухим хлопком.
И еще один звук, такой же.
Это был обстрел из пистолета.
Стрелявший, видимо, тоже знал, на что тут следует реагировать, и засек появление Алекса по шуму, когда тот выбежал в зал из коридора.
Алекс легко и на этот раз совершенно бесшумно переместился на несколько колонн вправо. Впрочем теперь, после первых выстрелов, то есть нарушения звуковой целины, следовало уже ловить не щорохи, а тени.
– Блэквуд! Выходи! – кричал Алекс, непрерывно продолжая передвигаться за колоннами.
Вжикнуло и звиюкнули над головой еще пару раз.
А он продолжал перебегать от одной колонны к другой, продолжал перекатываться, перепрыгивать, мгновенно затаиваться, вжимаясь в мрамор, как в теплую основу безопасного мира.
– Выходи, Блэквуд, дам сто рублей! – с нарастающей яростью выкрикивал Алекс, прекрасно понимая, что этот его завод не может не передаваться Блзквуду. А если тот как следует заведется, то возможно, что он совершит хотя бы одну ошибку.
Пока же Алекс занимался тем, что на техническом жаргоне называлось «расстрелять пистолет на себя».
Оставаясь неуязвимым, провоцировать противную сторону на ведение огня. Пока не кончатся патроны.
А мог быть у Блэквуда запасной магазин?
Нет. Это уж была бы глупость, запасаться двумя магазинами, когда идешь ухайдакивать всего-навсего какого-то литератора Пафнутия. Которому, уж если пришла такая минутка, просто нажми под ухом, он и свалится, как комар, на спину.
Ясно, что Блэквуд может сделать всего лишь несколько выстрелов. Сколько из них он уже сделал? Четыре или пять?
И вот шестой.
И больше ничего.
Разумеется, Блэквуд понимал все то же самое, что и Алекс. И даже более того, так как он знал точное количество патронов в своем пистолете.
Блэквуд намеревался убить Алекса и потом уходить через четвертый уровень. Но, сделав несколько выстрелов, он понял, что пора сокращать программу до второго пункта.
Уходить. А с Алексом… как получится.
Реагировать на тень.
Правильно, вот оно и пришло. В противоположном конце зала дествительно метнулась между колоннами тень. Прямо к первому вагону поезда-игрушечки. К кабине машиниста.
Раздумывать было некогда, Блзквуд мог, конечно, использовать кабину, как идеальную огневую позицию, чтобы встретить свинцом потерявшего осторожность преследователя. Но мог ее использовать и… по назначению. То есть, как кабину, из которой можно управлять движением состава.
Алекс выскочил из-за колонн и понесся через весь зал навстречу пустому поезду и возможному граду пуль в подарок от янки.
Нет, подарка не будет и пуль не будет. Поезд тихонько тронулся и поплыл вдоль перрона по направлению к черной дыре туннеля. Алекс запрыгал из стороны в сторону, как подстреленный заяц, хотя в него теперь никто не стрелял.
Просто он применил технику «бейдевинда», косыми прыжками резко набирая скорость и мощность бега.
Он уже покрыл более половины зала, но и поезд уже набрал нешуточную скорость. Наконец он достиг перрона, но поезд уже шел на полной скорости. И несшиеся мимо Алекса пустые вагоны были наглухо закрыты. И прыгать на их внешнюю поверхность, пытаясь удержаться за случайные выступы, было бесполезно.
Слишком узок был туннель, в который уже втягивалась головная часть поезда. И, следовательно, слишком мал зазор между вагонами и каменным ободом туннеля. Человек, как угодно плотно прильнувший к вагону снаружи, неизбежно был бы раздавлен всмятку при входе вагона в туннель.
Алекс, надеясь уже неизвестно на что или ни на что не надеясь, бежал по кромке перрона по направлению движения поезда, почти не уступая ему в скорости.
Секунда-другая, и наступит развязка. Хвост поезда исчезнет в туннеле, и это будет означать, что Блэквуд ушел.
Ну вот он, шанс, который всегда успевает мелькнуть перед тем, кто достаточно быстро передвигается.
Последняя дверь последнего вагона была нараспашку. Он выждал какую-то еще долю секунды, пока она не поравняется с ним, и затем одним отчаянным, но точным прыжком оказался на полу вагона. И почти в то же мгновение закрылась эта единственная дверь, и вагон нырнул в темный желоб туннеля. И тут же вагон мотнуло на рельсах справа-налево и обратно, что свидетельствовало о предельной скорости движения, о неопытности машиниста, а может быть, о его психической перевозбужденности.
В соответствии с вихлянием вагона, тело Алекса перекатилось по пустому полу вагона с бока на бок. Но тут же, не общая внимания на ушиб головы о металлический угольник на полу, Алекс вскочил на ноги и кинулся к передней части вагона.
Не тут-то было. Его первое лобовое движение – пройти через вагоны в головную часть, чтобы настигнуть, наконец, Блэквуда, – сразу уперлось в непреодолимую стену.
Вагон, снаружи столь веселенькой сине-красно-белой раскраски, в основе своей состоял из стали и даже, вполне возможно, с броневым покрытием. Невозможным казалось разбить и стекла, которые, похоже, могли выдержать расстрел АКМом в упор.
Под потолком зашуршал включившийся динамик, и раздался будничный голос, который тут же узнал Алекс. Голос Блэквуда.
– Раз, два, три. Проверка узла связи. Проверка узла связи. Посторонних просьба покинуть поезд. Повторяю. Посторонних просьба покинуть поезд.
И тут же, почти без смены интонации, Блэквуд произнес:
– Ну что, ковбой, поскачем к водопадам?
Датчик последнего вагона показал увеличение веса. А кто мог в него запрыгнуть на полном ходу? Что за заяц такой под двести фунтов? Ясно, что такое мог совершить только наш Алекс.
– Тебе бы в цирке, парень, выступать. Много бы денег получал.
Алекс немного привел в норму дыхание, и теперь не без интереса наблюдал за неожиданно разворачивающимися картинами за окнами бешено мчавшегося поезда.
А голос «машиниста» почти с отеческой укоризной продолжал вещать из-под потолка:
– Путешествие наше, парень, во всяком случае совместная его часть, продлится недолго. Всего какие-то несколько минут. А далее – мне налево, вам, господин Джокер, направо. Как только мы минуем контрольную магнитную отметку, я нажму тут у себя в кабине одну небольшую хорошенькую кнопку. И последний вагон, вместе с замурованным в нем господином Джокером, автоматически отсоединится. Ты спросишь, что же дальше? Изволь, послушай. Почему бы не сказать человеку все, тем более перед вечной с ним разлукой. Я, как ты понимаешь, узнал от Мартина Марло гораздо больше подробностей, чем ты от своего Карнаухова. Вот поэтому теперь я и направлю твой вагон туда, откуда нет возврата. А сам продолжу восхождение к вершинам мировой авантюры. После того, как твой вагон отсоединится и немного подотстанет, я опять-таки из своей кабины переведу стрелку за поездом. То есть как раз перед твоим вагоном. И он, а вместе с ним и ты, прокатите в правый туннель. И если даже тебе удастся каким-то чудом выбраться из твоего герметичного гроба, то снаружи ты обнаружишь только аммиачные реки и воздух из метана. Озера из хлорки и пруды нечистот. С берегами, почерневшими от стай обсевших их крыс. А скорее всего, встретишь и еще чего похуже. Ведь ты же везучий. Ты же Джокер. А вот мой поезд, Алекс, довезет меня до одной идиллической дачной местности, где обитают некие не в меру прыткие и не в меру наивные старцы. Правда, у них сейчас убыль в вождях. Но ничего, они не унывают, так как у них остался сам Озерков. Вот этого самого Озеркова я и постараюсь прихлопнуть. А уж потом и покину ваши благословенные края.
Алекса опять на повороте прижало лбом к стеклу, и он ясно мог разглядеть десятки, если не сотни, танков, стоящих рядами по бокам на тускло освещенных асфальтовых полях.
И танки-то какие-то странные. Чудные, как на декорациях, башенки, тонкие, как рахитичные, башенные пушечки.
Наконец Алекс сообразил, почему эти машины производят какое-то нереальное впечатление. Перед ним проплывала экспозиция еще довоенной бронетанковой техники, скорее всего тридцатых годов. Причем не только нашей, но и заграничной: английских, французских и немецких танков. А машинист, вероятно, определив, что близится время прощания, перешел к самой интересной для Алекса части своего рассказа:
– Конечно, задание у меня было – разыскать Джокера. Ежели таковой существует в природе московского климата. Через кого я мог его разыскать? Безусловно, только через Марло. Нам хорошо были известны его собственные многолетние попытки выйти на Джокера. В частности, его поездка на Дальний Восток и поиски следов Джокера на месте падения сбитого «Боинга». А через кого я мог выйти на Марло? Ясно, что не через Харта. Потому что он не был нашим человеком. И, следовательно, ничего не знал о событиях, которые должны были произойти в Москве после того, как он отбыл бы в Штаты на отдых. Значит, через кого? Правильно, Джокер, даром что ты от меня отделен прослойкой из пяти вагонов. Только через Валентину. Она ведь, как только стала ездить по «горячим точкам», так люди Марло ее и потеряли. Так мой старый боевой товарищ, а ныне генерал Толмачев ее и завербовал. Ты не подумай чего плохого, Алекс. Она вам зла не желала. Ни тебе, ни Мартину. А просто это обычно так и кончается, то есть лишней кровью, когда женщина, и при этом настоящая женщина, а не спецпродукт, вдруг возомнит, что она может самостоятельно ходить по нашим тропам.
Вагон теперь болтало и трясло, как припадочного, выдавая адскую скорость, которую набрал состав.
А мимо проплывали теперь ангары с самолетами, выглядевшими трогательно, как детские игрушки, марок все тех же, тридцатых годов.
– И, конечно, я легко затянул Марло этой идеей еще одной, решительной попыткой обнаружить Джокера. Потому что это была и его идея фикс. Я поселил его на двенадцатом этаже высотки на площади Восстания, и через двух горилл, которых предоставил мне мистер Круглый, мы распустили слух, что Марло-де пришили в какой-то напонятной драке. Но никто по этому делу так и не проявился. Мог бы засветиться ты, но тебя не было в городе. Так что зря кума хлопотала. Если под кумой понимать нас с Марло. Ну, а потом пришла и его очередь. На следующий день должна была начаться операция с внедрением кредиток «Глоб Экспресс», ну и со всеми прочими валютными прибамбасами. Марло быстро бы все понял, и, безусловно, первый, кого бы он вздернул прямо на вашем знаменитом сквере – был бы я, Блэквуд или О’Брайен, как тебе теперь будет угодно. Я убедил Марло, что отрицательный результат его и наших совместных поисков доказывает, что, по крайней мере, в нашем столетии, настоящего Джокера не существует. И предложил ему пройти инициацию, обряд посвящения в новую династию связных между монархами и первосвященниками. Он обожал подобные идеи и, разумеется, ухватился за мое предложение. Я заранее его предупредил, что вынужден буду немного его калечить. Что такова суть инициации, а шрамы-де только украшают настоящего мужчину. Он вернулся к себе домой, так как, может быть, что-то заподозрив, решил посоветоваться с Валентиной или с тобой. Но в ту же ночь я снова вызвал его в высотку и сказал, что инициация может произойти или немедленно, или никогда. Он согласился, а остальное было делом техники. Во время ритуального избиения Марло я нанес ему так называемое «смертельное касание» по печени. Оно было хорошо замаскировано среди града ритульных ударов, и сразу Марло ничего не почувствовал. Его хватило еще на то, чтобы самостоятельно добраться к себе домой и позвонить тебе. Да, Джокер, не удивляйся и не ищи больше никого. Когда Марло стало совсем плохо, он не мог не перебрать в памяти всю сцену квази-инициатии. И, вероятно, припомнил мой прием, в котором с опозданием, но опознал «смертельное касание». Марло тоже чему-то когда-то учился, и поэтому у него уже не было сомнения, что он обречен. И тогда он позвонил тебе. Естественно, что у человека за пару минут до смерти голос может быть сильно искажен. Поэтому ты и не узнал его. А я, еще когда пришел к нему первый раз знакомиться, заложил в его аппарат «жучка». Поэтому я тут же узнал о его звонке и послал по твоим следам Карнаухова. Ну, что еще? Может быть, тебе непонятно, почему Марло выражался столь загадочно, когда он звонил к верному человеку? Почему не сказал тебе все открытым текстом и, в частности, прямо не назвал тебя? Я вижу здесь только одну причину: он не знал точно, Джокер ли ты. Если нет, то, Марло понимал это, при первой же твоей попытке получить объяснения, ты был бы уничтожен. А если ты Джокер, так рассуждал он перед смертью, то и сам, без подсказки во всем разберешься. Так ведь оно и получилось, а, Джокер? Теперь ты во всем разобрался? А теперь давай прощаться. Судя по моей электронной карте, через минуту мы пересекаем магнитную отметку.
Динамик смолк, но почти сразу же и снова ожил:
– Да-a, ну а консьержку и Гарика я просто должен быть убрать. Когда консьержка-дура связала Карнаухова-дурака, я ведь в машине как раз напротив подъезда сидел и, разумеется, всю эту милую сцену видел. И когда эта имбецилка уже готова была бежать по инстанциям, пришлось мне быстренько выскочить из машины и успокоить ее. А что, скажи, оставалось мне делать с Гариком? Ведь стоило тебе заговорить с ним, и он указал бы на меня, как на человека, который заказал ему передать информацию Карнаухову. И если бы та деваха – ах хороша, Алекс! – не окликнула тебя в тот момент на площади, то пришлось бы мне резать сразу вас обоих: Гарика и тебя. Ну все, ковбой, до новых встреч в эфире. Да, уж до кучи, ты пойми, птенчик…Вы же считаете нас ультралевыми? Ультрареволюционерами? Нет, Джокер-неудачник, не так. Пока есть деньги – есть свобода. Какие там еще тоталитаризмы, Сталин, Гитлер? Ты что? Пока существует наличность, сильная личность всегда натянет государству. А значит, никакой тоталитаризм неосуществим. Мы хотим порубить наличность и посадить всех на единые кредитные карточки. И тут мы да, мы против неподконтрольности всего этого многомиллиардного стада. И, значит, вроде бы левые. Но ты пойми, что мы все-таки особые революционеры. Мы те, кто раз и навсегда сделает невозможными любые дальнейшие войны и революции. Надеюсь, ты уже понял, почему? Это же так просто, мистер Джокер, сэр. Чтобы подготовить какую-никакую войну или революцию, что необходимо в первую голову? Деньги, сэр. Большие деньги. А денег-то как раз больше – и не будет. Ловко?
И вот теперь динамик отключился окончательно. Вагон дернулся и начал сбавлять ход. Алекс понял, что Блэквуд нажал кнопку, отсоединившую его от поезда.
Затем впереди громыхнуло на рельсах. Это машинист перевел стрелку. Затем вагон Алекса сильно тряхнуло, когда он перешел на другую линию, за окном промелькнули стальные ворота, которые с лязгом захлопнулись, как только вагон пересек их створ.
Алекс понимал, что если вагон остановится, то его ждет смерть от удушья в этой блиндированной капсуле-ловушке. Но вагон не только не остановился, а, напротив, вдруг резко увеличил скорость, которая вот-вот готова была перейти в скорость падения. Значит, сразу за воротами рельсовый путь брал круто под уклон.
Алекс лег на пол, держась руками за единственный металлический выступ на полу, и напрягся в ожидании развязки.
И она наступила. Раздался страшный, рушащий любой материал удар. Вагон на очередном крутом повороте задел за какой-то выступ на стене, и кругом все стало вздыбливаться и рассыпаться, как будто было исполнено из хрусталя.
Наконец, страшные звуки раздираемого на части вагона смолкли. Алекс поднялся с пола и подошел к дикой дыре в боковом стекле. Да, лобовой удар о выступ бетона на скорости в сто двадцать – это вам не АКМ.
Из разбитого стекла несло вольным воздухом. О, конечно затхлым, смрадным и даже погибельным. И всего-таки – вольным. Потому что воля начинается – со свободы передвижения.
Надо было выбираться из вагона. А уж потом он разберется, как переплыть озера из хлорки или нечистот. И как обойти берега, усеянные плотными рядами заждавшихся развлечений грызунов.
…Это был канализационный люк. Правда, он был почему-то смонтирован прямо посередине беседки. Скорее всего, люк использовали очень давно, когда беседка еще не была построена. Позже перешли на другую трассу, старый люк оказался не нужен, но и делать с ним что-то показалось дачникам лишней докукой.
Да он никому и не мешал, так как был выведен заподлицо с полом беседки, так что и не спотыкались о него.
Стоял ослепительный, безмятежный полдень конца июня, Божия пора, если кто понимает в природе Подмосковья.
И вот, десятилетия лежащая мертво крышка люка поднялась, и оттуда показалась голова Блэквуда.
Сначала он, как настороженное животное, повертел головой туда и сюда. Благолепие. Тишина и благорастворение воздусей. Тогда он решительно подтянулся и выбрался весь на поверхность. Кажется, это была дача не Озеркова, а Рейнгольдов. Ну да ведь это рядом.
И тут Блэквуд заметил, что выход из беседки перегораживают какие-то две темные безобразные фигуры.
Беседку сплошь огораживал деревянный барьер высотой метра полтора, а Блэквуд чудовищно устал.
Поэтому он решил все-таки воспользоваться перегороженным выходом из беседки, не ожидая от преодоления «фигур» никаких хлопот.
Перешагнет, да и вся недолга, тем более, что присмотревшись, он заметил, что руки у фигур были прикованы наручниками к капитально укрепленной в полу дубовой скамье.
Он не спеша подошел к громадным мужикам, больше походившим на запаленных медведей, чем на людей, и уже собирался, было, переступить через них.
Но в это время поднял голову один из них и сказал другому:
– Ты смотри, да ведь это тот самый, гнилой.
И заплел своей ногой-бревном ноги Блэквуда.
Блэквуд упал и начал бить рукояткой пистолета по обвивавщим его чудовищным конечностям.
Патроны были расстреляны по Джокеру, и пистолет превратился всего лишь в холодное оружие.
Но уже к Грише-маленькому присоединился, а точнее, присоединил свои ноги братка, который перехватывал теперь Блэквуда поудобнее за грудную клетку.
Раздался треск костей, и из горла Блэквуда вырвался ужасающий крик, вместе с которым он и простился с этим своим земным существованием.
От дачи бежали люди. Но какое все это уже имело значение? Братаны рассудили, что раз гнилой, с которого и начались все их незадачи, сам появился перед ними из-под земли, то это знак. И не о чем тут и говорить.
Алекс шел сначала по щиколотку, потом по колени, а временами и по пояс в какой-то странной субстанции.
Освещение почти отсутствовало. Так, какое-то серое свечение. Скорее, блики. Или вообще, игра утомленной сетчатки глаза. За ноги действительно все время задевали какие-то твари. Сначала он энергично отшвыривал их в стороны, но через несколько часов пути просто перестал обращать на них внимание. Воздух, которым он дышал, состоял из неповторимого настоя теплой трупной гнили, тысячелетней безнадежности и смеси всех боевых отравляющих веществ войск НАТО, бывшего или будущего Варшавского Договора и разных прочих шведов.
У него от природы было уникальное чувство времени, к тому же укрепленное непрерывными тренировками во время учебы в Училище. И все-таки внутренние часики тикали где-то часов шестьдесят, то есть двое с половиной суток.
Затем он превратился уже в космонавта чистой воды, да к тому же вышедшему из корабля в открытый космос. Он просто делал свое дело, то есть вытягивал ногу из сомнительной жижи, вытягивал ее вперед, чтобы перенести на нее тяжесть и иметь возможность проделать все то же самое со второй.
Чем он дышал? То есть во что превратились его легкие, щеки, глаза? Об этом он не думал.
Может быть, давным-давно обглоданы ступни? Может быть.
Но суставы держали, значит, можно было двигаться дальше.
Но всему приходит конец, а значит – неизвестно уже, через сколько дней его существования в состоянии невесомости, – пришел конец и его заводу.
За что-то он там зацепился правой ногой. Потянул ее посильнее, чтобы освободиться. Но не удержался, утратил равновесие, и, теряя сознание, рухнул вперед по ходу движения.
Но от острой боли сознание тут же вернулось к нему, потому что, падая, он ударился грудью о какое-то деревянное ребро. Это был борт лодки. На шоке от удара он еще успел столкнуть ее с мелководья, завести на стремнину и только тогда самому перевалиться через борт и отключиться. Лодку несло по течению под неизвестными небесами, если это вообще можно было назвать небесами, по неизвестного состава реке, в окружении газов и испарений немыслимого состава, разве только если согласиться, что они вырвались из самых глубинных областей планеты.
На дне лодки лежал человек, больше похожий не то что на сорока, а даже и не на девяностолетнего мужчину, а скорее, на мощи, которые пролежали в святой обители лет этак четыреста.
Наконец, или лучше сказать, однажды человек очнулся.
Пришел в себя. Возможно, этому способствовал изменившийся к лучшему состав атмосферы.
Алекс – а он все-таки не забыл своего имени – приподнял голову и оглядел берега, вдоль которых несло лодку. Берега отдалялись, а лодка, утрачивая целенаправленное движение, стала закручиваться и вращаться на месте, как сухой лист. Посреди озерца, в которое превращался здесь поток, стоял небольшой остров, скорее даже отмель. На берегу отмели, к которой понемножку относило лодку, сидел крупный мужчина, с круглым, слегка лоснящимся лицом. Алекс узнал Наставника и, не дожидаясь, пока лодка причалит к берегу, вышел из нее и пошел к нему по воде, которая, впрочем, доходила здесь ему только до колен.
Да, пусть туман, пусть клочья сероватого тумана, но небо было уже небом. А туман – он ласковый. Алекс уткнулся в грудь Наставнику и, весь дрожа, прижался к его плащу.
– Ничего-ничего, – бормотал Наставник, – ничего, это не четвертый уровень. Это Земля-матушка.
Они помолчали, и затем Алекс, понимая, что сейчас он снова потеряет сознание, все-таки успел спросить:
– Конспирация один. Наверное, нельзя было по-другому?
– Нельзя, Алекс. Только этот вариант: без денег и документов. Человеческая судьба страшно усложнилась, Алекс. Профессионалы уже не могут давать ответы за пределами своей сферы деятельности. Сейчас по-настоящему могут сыграться только частные граждане. Они открыты любым поворотам и потому универсальны. Если бы Блэквуд боролся только с профессионалами, у него были бы неплохие шансы на успех. Но он упал на Марло. А Марло – это ваша пивная в центре Москвы. Это уже серьезно. И он завяз в этих ребятах, он ударился об эту непонятную ему конструкцию и проиграл. Он вынужден был убивать. Другого пути у него не было, потому что ему противостояло то, что в средневековой Европе называлось Обществом бражников. А с каждым новым нападением он все больше засвечивался, и его следы становились все более глубокими и кровавыми.
– Лора… Она меня спасла. Тем, что окликнула тогда на площади.
– Да. Ты применил высший, по христианским и суфийским канонам, метод познания: любовь. С того момента, как ты ответил ей на площади «Да!», у тебя открылись глаза, и ты начал хоть что-то понемногу понимать.
– Где она?
– Она вышла замуж за Рашпиля. Но сам он готов отдать весь свой миллион, чтобы снарядить экспедицию по твоим следам.
– Я не был на четвертом уровне?
– Конечно, нет. Что мы о нем знаем? Только то, что его задумывали основатели и строители государства. А как и кем он был осуществлен – пока не пришла пора нам озабочиваться этим.
– Что у Озеркова и остальных, с которыми был связан Марло?
– Они еще раз убедились, что от себя ничего делать не надо. В феврале семнадцатого года явилась людям чудотворная икона Божьей Матери, Державной. То есть, с державой и престолом в руках. А это и значит, что судьба Государства Российского с того момента уже больше не в человеческих, но только в Божьих руках. Так что, господа монархисты, можно сказать, погорячились. А ведь это могло стоить им всего. Разгрома их структур, потери золота и конспирации высотных домов.
– Значит, я больше ее не увижу?
– Теперь эти двое, Рашпиль и Лора, будут искать тебя, как этим был занят много лет Мартин Марло. Правда, в отличие от него, они знают, кого ищут. Поэтому я могу предположить, со второй или треьей попытки, эти юные следопыты наткнутся на следы Училища. А может, даже и поступят в него. Так что однажды ты перед началом своей лекции вполне можешь увидеть, как в аудиторию входит новая студентка, которая почему-то смотрит на тебя с особой пристальностью.
– А я?..
– К тому времени ты будешь Наставником. А с сегодняшнего дня ты – преподаватель Училища.
– Какой курс вы предлагаете мне читать?
– Да ведь какой? Наверное, тот, которого ты есть лучший знаток среди нас всех.
– Да разве может быть такое?
– А вот, к примеру, «Курс молодого бражника»? Наука о том, как пить и не закусывать, – и Наставник, не выдержав далее серьезного тона, залился негромким, дробным смешком.
Алекс не спешил возобновлять беседу, усевшись поудобнее рядом с Наставником у самой воды.
Наконец тот отсмеялся, и какое-то время они сидели молча, как будто набухая влагой от проносившихся мимо клубов тумана тревожно-пепельной окраски.
– Я там видел танки, – нерешительно продолжил Алекс, – а потом ангары и самолеты.
– Вы мчались тогда между третьим и четвертым уровнями. По промежуточному слою. Я думаю, это были первообразы.
– Платоновские идеи?
– Что-то вроде этого. Чисто смысловое пространство. Осколки смыслов, из эпохи между двумя мировыми войнами. Или порождающие модели. Как любил формулировать дедушка Алексей Федорович, он же, как, надеюсь тебе известно, тайный монах Андраник.
Клочья несущегося над рекой тумана теперь почти скрывали от Алекса фигуру Наставника, и его голос доносился как бы из воздуха.
Туман. Да, туман. Пусть так.
Но пусть хоть небо над ними – настоящее.
Сноски
1
Военизированная охрана. – Примечание ред.
(обратно)



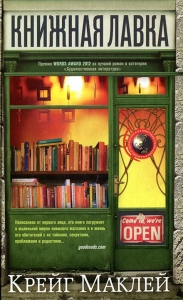
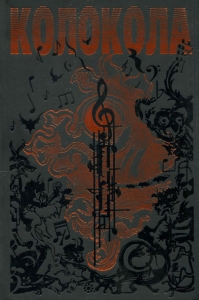



![Пішу як жыву [Аповесць, апавяданні, мініяцюры, эсэ]](https://www.4italka.su/images/articles/504527/primary-medium.jpg)


Комментарии к книге «Московский Джокер», Александр Павлович Морозов
Всего 0 комментариев