Сергей Жмакин Золотая струя Роман-комедия
© С. А. Жмакин, 2014
Каждый человек имеет право на свои 15 минут славы.
Энди УорхолЧасть I
К пятидесяти годам мужику надо бы подводить предварительные итоги, мусолить достигнутое, по-петушиному пыжить грудь и на нешуточном серьезе хмурить брови, принимая поздравления с юбилеем. А тут выпнули Сидорова с родного завода, как шелудивого пса со двора, – вот и все итоги, как будто и не пахал всю жизнь, как проклятый. Новый собственник, банк московский, почему-то решил продать все сверлильные станки, и остался сверловщик Сидоров без работы, без зарплаты, без настроения. Сунулся было сгоряча на другой завод, а там своих сверловщиков с избытком хватает, лишних тоже гнать собираются.
Жена поначалу, вроде бы, сочувствовала и жалела, потом стала проявлять недовольство тем, что он дома сидит и работу не ищет. А Сидоров не хочет за копейки горбатиться, и, вообще, у него тридцать четыре года трудового стажа, он сверловщик высшей квалификации, на конкурсах не раз побеждал, у него рабочая гордость, в конце концов.
От нечего делать счинился с соседями-пенсионерами ходить на зимнюю рыбалку – сроду этим делом не увлекался. И, от неопытности, от незнания, что ли, (там ведь и одеваться надо с умом) после многочасовых морозных бдений над лункой неожиданно нажил себе, в добавление к другим неприятностям, еще и деликатную болячку.
Пока зубы не болят, человек их не замечает, жует и жует, перемалывая пищу. Пока ноги не болят, человек ходит, бегает, прыгает и не думает о них. Пока у мужика его главный орган исправно выполняет и санитарную, и созидательную функции, о нем забывают, как забывают о здоровых зубах и ногах. А тут Сидоров пошел утречком избавиться от лишней жидкости – ну, как все нормальные люди, обычное дело, – и очень ему не понравились ощущения. Потом, в течение дня и последующей бессонной ночи позывы избавиться от жидкости участились, и Сидоров уже натурально страдал, выдавливая из себя боль по капле.
Обеспокоенная жена заставила его пойти в поликлинику. Пожилой, усталый уролог равнодушно задавал вопросы, привычно строча в карточке корявым, размашистым почерком. Спросил зачем-то:
– Как с половой жизнью?
– Да какая там половая жизнь, больно ведь, – сокрушенно пожаловался Сидоров.
– Сейчас – это понятно. А вообще? Регулярно?
– Да вообще-то не жалуюсь, вроде регулярно, – призадумался Сидоров.
– Это хорошо, – сказал врач. – Но простату надо посмотреть. Пройдите за ширму и приспустите брюки.
С замиранием сердца, с гнетущим предчувствием, что сейчас произойдет нечто крайне неприятное, Сидоров сделал, как ему велели.
Врач легко и быстро натянул резиновые перчатки.
– Ну-ка, батенька, покажите мне свое хозяйство, – попросил он и вдруг стеклянной палочкой ловко залез, гад, туда, где болело. Сидоров даже морально подготовиться не успел, запоздало охнул.
– Это-то зачем? – только и спросил.
– Мазок для анализа, чтобы быть уверенным в правильности лечения, – скороговоркой пробурчал врач.
Но это было еще не все. Мучитель в белом халате сунул Сидорову прямоугольную стекляшку:
– Держите вот так, поближе, на нее должно капнуть, – и доктор попросил нагнуться.
Сидоров не успел и глазом моргнуть, как позади инородное тело бесцеремонно вторглось в его тело.
– Иттить твою налево, ты чего там творишь? – зарычал он, будучи в травматическом и культурном шоке.
– Массирую вашу простату, уважаемый, все-то вам расскажи, какие любопытные, – проворчал врач, активно орудуя пальцем. – Капает? Капает, спрашиваю?
– Да ничего не капает. Мне из-за живота не видно. А что должно капать-то?
– Простатический сок, если так интересно. Чтобы исследовать его на лейкоциты. Больно, что ли?
– Да мало радости. Во, кажись, капнуло.
Наконец врач, вроде бы, утихомирился. Сидоров торопился застегнуть брюки, затянуть ремень, после пережитых потрясений его потряхивало.
– Придете ко мне с результатами анализов через недельку, а пока я выпишу вам таблетки, они хотя и дороговатые, но зато эффективные, – сказал на прощание уролог. – Да, и горячую ванну примите, прогреться не помешает.
После визита к врачу Сидоров был охвачен громадным, исступленным стремлением никогда в жизни не возвращаться в проклятый пыточный кабинет. В сочетании с желанием избавиться от болячки это делало его чрезвычайно дисциплинированным больным. По вечерам он принимал горячие ванны, купил дорогущие таблетки и глотал их в строгом соответствии с указаниями врача. К его радости, улучшение он почувствовал почти сразу. Резкая боль утихла, вскоре и совсем ушла. А струя – о, это было счастьем! – струя с каждым днем набирала силу, она крепчала, делалась тугой, звонкой и уверенной, словно пробила наконец-то ненавистную, мучительную преграду и устремилась к долгожданной свободе.
Окрыленный текущим выздоровлением, Сидоров, теперь щепетильно, с пристрастием относясь к собственному организму и помня вопрос врача о половой жизни, и на жену стал «поглядывать» чаще. Как можно регулярнее.
Однажды зимним, ясным днем они поехали проведать дачу. Сидоров широкой деревянной лопатой выскребал снег из дачного дворика, а жена фотографировала мобильником снегирей на яблоне. Крутой сенсорный телефон ей подарила дочь, которая была замужем за полковником и жила в другом городе. Сидоров намахался лопатой, голова под шапкой взмокла, решил отдохнуть, и захотелось ему сделать отметину на чистом, белом, как сахар, свежевыпавшем снеге. Поскольку в последнее время, настрадавшись, он получал от процесса несказанное физиологическое и эстетическое удовольствие, Сидоров выбрал для облегчительной церемонии нетронутый его лопатой участок дворика возле баньки. Жена Маруся стояла рядом за заборчиком и целилась айфоном на красивых красногрудых птиц. Увлеченная съемкой, она его не замечала, а он, глядя на ее румяное милое лицо, решил вдруг сдуру не чертить на снегу имя «Маша», а сделать ради хохмы ее портрет. Он вгляделся в ее лицо и, помахивая выверенными (или ему так показалось) движениями, направил упругую струю, словно кисть, на белоснежную, нетронутую целину.
Дурашливо посмеиваясь, он сработал в одно касание – не прерывался, пока не закончилась «краска».
Снегири вспорхнули, оставив после себя голые ветки.
– Ой, Толик, ты не представляешь, какие они красивые! – Маруся, переваливаясь в глубоком снегу, пошла показывать фотки мужу. Сидоров, похохатывая, как раз засупонивался. – Чего ты тут делаешь? Ах ты, бесстыдник!
Маруся оторвалась от телефона, взглянула на помеченный снег и замолчала. Сидоров тоже смотрел и молчал. На снегу было нарисовано лицо его жены Маруси: глаза, брови, нос, завитушка из-под вязаной шапочки, губы в улыбке.
– Это ты как? Это ты чем? – спросила она.
– Чем, чем… Известно чем, – засмеялся Сидоров.
– Да не ври. Ты разве умеешь рисовать? Это же вылитая я.
– Да откуда? Случайно получилось.
Жена принялась рисунок фотографировать.
– Снег растает или просто заметет, до весны-то еще далеко, – приговаривала она. – А у меня в телефоне память останется. Меня еще никто в жизни не рисовал. Да ты ли это сделал?
– Нет, сосед приходил. Ты сдурела, что ли? – Засмущавшись, Сидоров ногой взборонил рисунок.
* * *
Юбилей порешили отмечать в узком кругу, по-родственному и дома – в своей хрущевке-двушке. Столовую откупать у безработного Сидорова подкопленных денег осталось в обрез, а на зарплату жены, продавца в продуктовом магазине, тоже не шибко разбежишься. Да и чего праздновать, чему радоваться? Полтинник – это тебе не двадцатчик, когда вся жизнь впереди.
Выпили за здоровье Сидорова водочки по первой, после небольшого перерывчика, как водится, замахнули по второй, повеселели, загомонили, зашутили. Маруся поспешила, пока народ в памяти, похвастаться своим крутым мобильником.
– Смотрите, какой мне доченька телефон подарила. Он и фотографирует, и видео снимает. Жаль, сама она не смогла приехать, далеко лететь, да и ребятишек не на кого оставить.
– С тобой все ясно, у тебя радость – телефон, а юбиляру-то что дочь подарила? – спросил кто-то из родни.
– А юбиляру она прислала очень качественное и очень теплое нижнее белье.
– Вот это правильно, зачем мужику телефон, теплые штаны поважнее, – под общий смех заключил родственник.
Маруся не стала уточнять, что дочь прислала только деньги, а подарок, в свете последних событий, она купила сама.
– А мы с нашим сыночком Костей подарили ему ноутбук, – продолжала Маруся. – Это сейчас очень современно.
– И что мне делать с этим ноутбуком, ума не приложу, – ухмыльнулся Сидоров. – Разве что гвозди им забивать.
– Папа, ты мне еще спасибо скажешь, – сказал Костя. – Особенно когда к Интернету подключим.
– А еще на днях юбиляр меня удивил, – объявила Маруся. – Сколько лет с ним живу, а не знала, что он художник.
– Да какой там художник, – махнул рукой Сидоров.
– Не понял, – оживился племянник Витя. – У меня конкурент появился?
У племянника среди родни прижилось прозвище Витя-Богема. Когда-то после школы он закончил художественное училище, хорошо рисовал, писал картины, даже выставлялся на выставках и зарабатывал неплохо, но потом наступили другие времена, и теперь Витька, которому уже за сорок, торговал обувью на рынке. Ему-то Маруся и хотела показать в первую очередь свой портрет.
– На, посмотри, какая я тут симпатишная, – протянула она племяннику телефон.
Витя-Богема иронично вгляделся в экран, уже подыскивая слова для подковырки на потеху застолья.
– Опоньки! – Он удивленно вскинул брови. – Это кто тебя так?
– Я ж говорю, муж родной, юбиляр.
– Не могу понять технику исполнения, – сказал Витька озадаченно. – Дядя Толя, ты что, рисовать умеешь?
– Наливать я умею, – ответил весело Сидоров с бутылкой в руке. – Мужики, у кого рука не устала, давай наливай и женщин рядом не забывай.
– На чем это сделано… ну, этот портрет? – Витька внимательно вглядывался в фотографию.
– На снегу, – сказала Маруся.
– По малой нужде сходил, вот тебе и портрет, – пошутил кто-то. Конец фразы утонул в безудержном смехе.
– Дак так оно и есть! – крикнула отчаянно Маруся.
Тут уже все гости едва не лежали от хохота.
– Дай посмотреть! Дай! Дай! – потянулись руки к телефону.
Весь вечер Витя-Богема сидел сам не свой. Он и так по натуре смурной – творческая личность, ничего не поделаешь, а тут совсем расклеился: в танцах-плясках не участвовал, разговоры за столом не поддерживал, думал какую-то свою думу. А водку он уже давно не пил – в свое время выпил свою дозу сверх всякой нормы и пришлось кодироваться. Когда курили на кухне, он вдруг обратился к Сидорову с просьбой:
– Дядь Толя, нарисуй меня, пожалуйста, как ты тетю Марусю нарисовал. Очень мне понравилось. А я тебе денег заплачу. Нет, я серьезно.
– Сколько заплатишь? – сопел пьяненький Сидоров, затягиваясь сигаретой.
– Тысячи рублей не жалко! Ты же сейчас пока без работы? Тысяча рублей разве не пригодится?
– Папа, мой шеф тоже бы заплатил, – встрял в разговор сын Сидорова Костя. Он работал водителем у бизнесмена, ездил на большом черном джипе, и Сидоров им гордился. – Шеф у меня любит всякие приколы. Вчера говорит, мол, буду, Костик, разводиться с женой, так ты найди мне женщину, но чтобы она роста была небольшого, мне, говорит, чтоб было по пояс, нет, даже чуть пониже. И чтобы у нее голова квадратная была, я, говорит, когда буду пить пиво, буду кружку ей на голову ставить, а она бы мне в это время… того… делала бы… – Костя не стал договаривать. Хотя и изрядно поддатый, отца постеснялся.
– Дядя Толя, нарисуй, – не отставал племянник.
– Витька, вот ты, вроде, умный, а предлагаешь мне, родному дяде, чтобы я у тебя, сына моей родной сестры, за какую-то хренотень деньги взял. – Сидоров насупился. – Какой же ты умный после этого? Да ты, Витька, просто дурак.
– Да конечно, я дурак, дядя Толя, – согласился племянник. – Ладно, хотя я считаю, что за настоящее искусство надо платить, но если ты не хочешь, нарисуй меня без денег.
– Это другой разговор, – сказал Сидоров. – Но есть тут одна заковырка.
– Какая?
– Я рисовать не умею.
– А как же портрет тети Маруси?
– Понятия не имею. Придуривался, случайно получилось.
– Такого не может быть, – уверенно сказал Витя. – Поверь мне, дядя Толя, это – не случайность.
– Папа, а может, ты феномен? – сказал Костя.
– Кто?
– Ну, уникальная личность, ты умеешь то, чего никто в мире не умеет.
– Короче, дядя Толя, предлагаю родственный обмен, – решительно заявил Витя. – Ты, вроде бы, говорил, что у твоей «шестерки» радиатор подтекает? Ты рисуешь мой портрет, а я тебе отдаю новый радиатор.
– Откуда у тебя радиатор? – спросил Сидоров с подозрением, но уже заинтересованно.
– Сосед по гаражу долг радиатором отдал.
* * *
На другой день Богема заехал за Сидоровым, и они отправились на дачу. Сидоров не успел похмелиться до прихода племянника, а потом Витя высказал пожелание, чтобы дядя Толя при написании картины был трезвый, и Сидоров был сумрачен и молчалив.
– Командуй парадом, дядя Толя, – сказал бодро Богема, когда они очутились на дворике дачи. – Куда мне вставать?
– Да хоть куда, – буркнул Сидоров.
– Тебе же надо, это, так сказать, холст подготовить, – хохотнул Богема. – Где ты будешь творить-то?
– Вон, у бани.
Племянник стал притаптывать ногами рыхлый снег, объяснив, что так рисунок будет четче. Сидоров, насупившись, засунув руки в карманы куртки, молча стоял, смотрел. Утрамбовав квадрат два метра на два, Витя отошел в сторону, отпыхиваясь.
– Все, дядя Толя, можешь творить.
Сидоров начал было расстегиваться, но вдруг сказал:
– Нет, так не пойдет, ты меня смущать будешь. Иди за забор, к яблоне, там Маруся стояла, вон следы еще сохранились.
Богема послушно двинул за заборчик, черпая ботинками снег.
– Все, приступай, дядя Толя, – крикнул он.
Постояли, помолчали. По небу лениво ползли серые облака, насвистывал ветерок в электропроводах.
– Не получится, – сказал угрюмо Сидоров. – Во-первых, патронов нет в обойме, во-вторых, настроение на нуле, башка трещит. Поэтому без пива никак не обойтись.
Поехали до ближайшего магазина, купили полторашку пива и соленых сухариков.
– Вот это по-нашему, удружил ты мне, племяш, – подобрел, размяк Сидоров, отпив изрядно, взасос, прямо из горлышка. В машине было тепло и уютно. – Я и не помню, как вчера все разошлись.
– Да ты рано вырубился. – Витя, покуривая, терпеливо ждал, когда Сидоров созреет для творчества.
– Без драки обошлось?
– Без драки. Ты только немного почудил. Решил нарисовать на ковре коллективный портрет всех гостей.
– Да ты что! – удивился Сидоров. – А Маруся мне ничего такого не рассказывала.
– Не успела.
– И что дальше?
– Осерчал ты шибко на нашу компанию, кричать стал, мол, всех щас нарисую. Даже успел достать свой этот… как бы карандаш. Все, особенно бабы, уржались. Тетя Маруся тебя в охапку и утащила на диван, ты там и вырубился.
– Да ты что! Вот стыдоба-то! – расстроился Сидоров. – Это ты, Витька, виноват: нарисуй да нарисуй. Вот у меня и отложилось.
– Ничего страшного, все свои были.
За разговором Сидоров почти допивал бутылку, похрустывая сухариками, как вдруг заерзал:
– Погоди-ка, Витёк, щас я до ветру отлучусь.
– Ага, – оживился племянник. – Набил обойму туго? Зачем же патроны тратить понапрасну? Дядя Толя, я уже заждался, когда ты меня нарисуешь.
– Тьфу ты, я и забыл. Пошли!
Скорым, бодрым шагом они вернулись во дворик. Витя тотчас встал за заборчиком у яблони. Сидоров расстегнулся над утоптанным «холстом», вгляделся в племянника и почувствовал, как его охватывает знакомое дурашливое настроение, какое он испытал, когда рисовал свою Марусю. Богема из-за заборчика видел Сидорова только по пояс. Локти дяди Толи были прижаты к бокам, и он двигал ими и туловищем, как будто держал в руках клюшку и поигрывал шайбой, на которую смотрел с выражением, никогда племянником ранее не виданным: казалось, что Сидоров вот-вот расхохочется, лопнет от смеха, но пока огромным усилием воли удерживает смех в себе, чтобы без помех досмотреть хохму до конца. С таким выражением люди смотрят уморительные комедии.
Однако Сидоров смеяться не стал. Лицо его потухло вместе с прекратившимся журчанием.
– На, получай товар, купец, – небрежно бросил он.
Витя со всех ног, увязая в снегу, побежал к нему. На снегу он увидел свое лицо, изображенное в три четверти оборота. Причем, соотношение формы глаз и бровных дуг было удивительно правильным, а ближний глаз был чуть больше дальнего, как сделал бы профессиональный художник. Дальнее ухо было укорочено и расположено под небольшим углом, а дальняя половинка рта тоже меньше, чем ближняя, поскольку при рисовании в три четверти оборота возникает перспективное сокращение. Непостижимыми легкими штрихами на снегу были переданы тени вокруг носа. Объем глаз и рта также были виртуозно выделены тенями. И главное, Витя к своему изумлению обнаружил в рисунке эмоции, которые он испытывал на момент дядиного творческого процесса – волнение, неверие и одновременно ожидание чуда были запечатлены в его портретных чертах.
Богема трясущейся рукой вытащил, выворачивая карман, фотоаппарат и стал снимать.
– Ну, ты долго там? – спросил Сидоров. Ему не терпелось допить пиво в тепле автомобиля.
– Дядя Толя, ты гений! Береги, береги его! – Витя от полноты переполняющих его чувств крепко обнял Сидорова.
– Кого? Кого его?
– Талант береги. Не заморозь.
И они поспешили к машине.
* * *
Сын Костя заехал к родителям пообедать, мама готовила вкусно, в отличие от его молодой супруги.
– Пап, я шефу-то показал мамин портрет, скачал его из телефона, и рассказал, что вот, мол, один мужик умеет вот таким образом, – сказал Костя, наворачивая картошку с котлетой. – Так шеф сначала не поверил, потом разобрало его на смех, просто угорел от смеха, а потом захотел, чтобы его тоже нарисовали. За деньги, конечно.
– Ага, еще один любитель искусства нашелся, – иронично отозвался Сидоров.
– То Витька прилип, как банный лист, то теперь этот олигарх.
– Но Витька-то тебе отдал по-родственному радиатор?
– Ну, отдал.
– А шеф мой тебе не сват, не брат, с него можно деньгами взять, – сказал уверенно Костя.
– И сколько?
– Пять тысяч-то можно запросить. Но одну из них – мне, за посредничество.
– И на кой ему такой портрет? – спросил Сидоров.
– А я, говорит, его сфотографирую, напечатаю в типографии, в рамку и – домой на стену. Будет, что корефанам показать.
– И как ты это представляешь? – вмешалась Маруся. – Отец будет стоять перед каким-то чужим мужиком и того… махать? – она хихикнула. – Это ж стыдно. Ой, с вами не соскучишься.
– Во-первых, необязательно говорить, что это мой отец. Во-вторых, он тебя и Витьку нарисовал и ничего не случилось, солнце не упало на землю, со стыда никто не сгорел. И в-третьих, сейчас зарабатывают хоть на чем, лишь бы платили. Любая работа почетна, если за нее бабосы дают. Папа, ты у нас богатый, что ли?
Сидоров ушел из кухни в комнату, лег на диван.
– Вы меня что, за дебила держите? – крикнул он оттуда.
– Папа, ты же безработный, а тут такая возможность бабла срубить, – крикнул в ответ сын.
– Дешево меня ценишь.
– А какая твоя цена? – Костя перестал жевать, прислушался.
– Пятнадцать тысяч моя цена и ни копейки меньше, – крикнул Сидоров, чтобы от него отвязались.
– Такая была у него зарплата, – шепнула мать сыну.
Костя поспешно встал из-за стола.
– А компот? – забеспокоилась Маруся.
– Да погоди ты, мама.
Костя тихо вошел в комнату, присел на диван в ногах у Сидорова.
– Пятнадцать так пятнадцать, – испытующе вглядываясь в отца, сказал он. – Тогда мне уже три штуки.
– Ха-ха-ха, – по слогам, театрально произнес Сидоров. – Нет, это не я дебил. Да какой нормальный будет платить такие деньги за такую лабуду!?
– Папа, ты пойми, что это очень, ну очень-очень прикольно, – радостно зачастил сын. – В общем, шефу доложу, что я с тобой договорился, ну, вернее, не с тобой, а якобы с каким-то мужиком. Только ты не подведи, я ему обещал.
– Вот молодец! Он пообещал, а я отдувайся.
– Пап, ты пообещал! – И Костя, забыв о компоте, быстро оделся и убежал, не дожидаясь, когда отец передумает.
* * *
Первым пунктом в грандиозных планах Вити-Богемы был визит к начальнику областного Управления культуры. По телефону он записался на прием по личным вопросам и в определенный час смиренно ждал в приемной в компании с делегацией каких-то деревенских теток в вязаных кофтах, разглядывая окружающую чиновничью обстановку, а заодно, украдкой, молоденькую деловую секретаршу.
– Здравствуйте, Раиса Степановна, – вежливо, с улыбкой сказал он, входя в просторный кабинет.
За большим, лакированным столом сидела, перелистывая кипу бумаг, симпатичная, хорошо одетая дама со свежеуложенной прической.
– Ну, и чего ты приперся? – спросила она.
– Не понял, – удивился Богема. – Я по делу пришел, Раиса Степановна. И зовут меня Виктор Алексеевич. У вас тут управление культуры или, может, прачечная?
– Ах, даже так? – в свою очередь удивилась дама, подписывая документ. – Сказала бы я тебе, что у нас тут, да стесняюсь. И какое у тебя дело?
Богема выложил перед ней два листочка форматом А4.
– Так, лица знакомые. Сам нарисовал? И что дальше? – Раиса Степановна мельком глянула на листочки, продолжая перебирать бумаги.
– Сесть-то хотя бы можно? – с упреком спросил Витя.
– Ну, сядь.
– Дело в том, что это не я рисовал, а другой человек. Но это не самое главное. Главное, как это нарисовано, вернее, чем. Ваше мнение, Раиса Степановна?
Она вновь небрежно глянула на портреты:
– Карандашом, наверное, или красками… Ты бы покороче, Склифосовский, ближе к делу и желательно без загадок.
– А если короче, то прошу вашей поддержки в организации выставки этого уникального, талантливого художника. Я уверен, что он прославит не только наш город, нашу край, но и всю страну.
– Как у него фамилия? – спросила Раиса Степановна.
– Сидоров.
– Не слыхала такого. – Она более внимательно вгляделась в портреты. – Нормальные рисунки, ты вон вообще похож на себя, как две капли. Организовывайте на здоровье вашу выставку. Есть Союз художников, есть художественный музей и культурно-выставочный центр, места много. Флаг вам в руки, я не против. Всё?
– Огромное вам спасибо, Раиса Степановна, – сказал Богема. – Хотелось бы только уточнить для вас, в чем заключается уникальность художника Сидорова, чтобы между нами было полное взаимопонимание. Эти портреты выполнены не карандашом и не краской, а, как бы выразиться поделикатнее… В общем, художник Сидоров создает свои художественные произведения, используя свою физиологическую потребность по малой нужде.
Раиса Степановна уже было отключилась от разговора, занятая бумагами. Смысл последней фразы не сразу дошел до нее.
– Что? – Она подняла голову. – Что ты сказал? По какой нужде?
– По малой. Художник Сидоров рисует на снегу, применяя свою физиологическую потребность. В этом его уникальность, которая прославит его и нас с вами на весь мир.
– Витя, ты выпил, что ли? – после паузы спросила Раиса Степановна.
– Рая, я давно в завязке, вообще не пью.
В это время зазвучал телефонный зуммер. Раиса Степановна нажала кнопку внутренней связи и сразу, отвечая уверенному, начальственному голосу, преобразилась – стала деликатной, предупредительной и покладистой. Такой же, какой Витя-Богема впервые увидел ее в библиотеке – она выдавала ему книги по искусству. Вот это умение создать вид покладистости и помогло ей вырасти до чиновничьих высот, подумал Витя. Сначала скромный библиотекарь, потом его бывшая жена несколько лет серой мышкой сидела в управлении культуры в качестве специалиста по музеям. Последний раз Витя видел ее в новостях по телевизору, когда она с умным видом докладывала на заседании областного правительства. Витя был уверен, что ее женские чары тоже повлияли на карьерный рост, повертеть хвостом Раенька была не прочь. Прожили вместе они недолго, детей нажить не успели, он тайком от нее погуливал, но очень был возмущен и страдал, когда узнал, что она ему изменила.
Завершив доверительный разговор с руководством, которое, судя по теплоте и веселости в мужском голосе, осталось довольным, Рая перевела дух и вернулась на суровую, грешную землю.
– Что ты там говорил про малую нужду? – спросила она.
– Если не веришь, я договорюсь с Сидоровым, он сделает твой портрет.
– То есть ты хочешь сказать, что я, как натурщица, буду позировать перед твоим художником, а он будет держать в руках не карандаш, не кисть, а… совсем другой предмет?
– Ну, сделаем не так уж откровенно, прикроем чем-нибудь, – успокоил Богема.
Рая вдруг уронила голову на руки, плечи ее вздрагивали от безудержного смеха. Богема терпеливо ждал.
– Ой, Витя, уйди, – отсмеявшись, сказала она, осторожно, чтобы не размазать тушь, вытирая слезы. – Я-то тебя, чудака, знаю со всеми потрохами, а другой на моем месте и психушку может вызвать. Всякие люди ко мне приходят, особенно по весне, когда у шизиков обострение начинается. Многого я наслушалась, но такое слышу первый раз.
– Ну да, ну да, – закивал Витя, сдерживая негодование. – Сразу видно, шизиков ты наслушалась. А слышала ли ты о таком французском художнике, как Марсель Дюшан? У него есть произведение искусства под названием «Фонтан». Это обыкновенный фаянсовый писсуар, на котором он поставил свою подпись и дату. Так вот, не так давно, одна очень известная зарубежная газета, обратилась с просьбой к экспертам – художникам, критикам, музейщикам – составить список самых выдающихся произведений двадцатого века. Так вот этот «Фонтан» занял первое место в этом списке. А имя Энди Уорхола тебе известно? Его портрет Мэрилин Монро был продан больше, чем за миллион долларов. А это не живопись никакая, это хрен знает что, чуть ли не рентгеновский снимок.
– Это же всё кич, пошлятина! – воскликнула Рая.
– Пошлятина, которая стала мировым шедевром и которая стоит миллионы? Ну, все дураки, одни мы умные. И разве у Сидорова пошлятина? Посмотри портреты. – Витя схватил листки с рисунками и тряс ими перед носом Раи. – Ты же сама сказала, что это неплохо. А чем исполнено – не имеет значения, хоть кочергой. Наоборот, это станет хорошим маркетинговым ходом для раскрутки. И можно денег заработать. Да, я не скрываю, заявляю открытым текстом: я хочу заработать на этом деньги. И тебе предлагаю тоже заработать. Поэтому и пришел к тебе.
– Ага, еще не хватало, ты не впутывай меня в свои делишки, – вдруг испугалась Рая. – Не нужны мне твои деньги, мне своей зарплаты хватает.
– Конечно, хватает. Вот потому-то молодежь наша и рвется в чиновники, потому что вы как жили, так и живете при социализме на всем готовеньком, а все остальные брошены в акулью пасть капитализма, крутятся, думают день и ночь, где бы и как бы заработать. В общем, Раенька, я к тебе больше не приду, скорее всего, ты ко мне придешь. Но это будет уже другой разговор. Последний раз спрашиваю: поможешь устроить выставку?
– Да я что, с ума сошла? У меня язык не повернется с кем-нибудь говорить на эту тему. Чтобы у виска пальцем вертели? Скажут: совсем сдурела Раиса Степановна. Иди, Витя, иди.
Витя неожиданно успокоился. Он взял свои листочки, бережно уложил, не торопясь, в прозрачный файлик.
– Ничего, прорвемся. – Он хитро подмигнул бывшей супруге. – Покедова, оревуар.
* * *
Вечером Богема сидел у Кости в «Лэнд Крузере». Тихо, едва слышно журчал мотор, нагоняя тепло в кожаный салон, спасая от дикого мороза за стеклом.
– Особенно я и не надеялся, – говорил Витя. – Но надо было удостовериться, что официальные органы власти примут нашу идею в штыки. Это же бюрократия, а ей надо, чтобы наша жизнь текла согласно регламенту и окостеневшим правилам. Ладно, мы пойдем другим путем. Ты знаешь, Костик, что делает художника знаменитым?
– Знаю, его картины, конечно.
– Ошибаешься. Знаменитым его делают скандалы всякого рода: разводы с женами, драки в ресторанах, половые связи с несовершеннолетними девушками, выход нагишом на балкон выкурить сигарету, горячие речи на телевидении в пошлых ток-шоу, интервью официальной и желтой прессе – впрочем, цвет прессы здесь не важен, лишь бы о нем писали – мелькание, мелькание, мелькание всюду и везде. И тогда люди, глядя на его картины, будут говорить: ах, это тот самый художник, о котором писали, как он, пьяный в лоскуты, бродил по гостинице без трусов, в одних носках, или который дал в морду кому-то в прямом эфире.
– И неважно, что он нарисовал?
– Важно, конечно. Но понимаешь, хороших картин, даже шедевров, много, а знаменитостей – единицы.
– Что-то я с трудом могу себе представить, как мой батя выходит голым покурить на балкон, – сказал Костя. – А в ресторанах он вообще не бывает.
– Уникальность твоего бати заключается в том, что ему, чтобы стать знаменитым, не нужны скандалы. Его техника рисования уже сама по себе вопиющий скандал и глобальный повод для всех видов СМИ. Нам с тобой, Костик, надо только этот процесс запустить. И еще надо продумать лексику, выражения, чтобы можно было культурно говорить об этом феномене. А то я Райке, ну, своей бывшей, хочу втолковать, что это высокое искусство, а слова на язык лезут низкопробные, типа «по малой нужде», «физиологическая потребность». В общем, нечто среднее между медициной и привокзальным туалетом.
Они задумчиво помолчали, глядя сквозь притемненное стекло на холодную, безлюдную улицу.
– Как там твой олигарх? Согласился позировать? – спросил Богема.
– Да, представляешь, согласился не только позировать, но и заплатить пятнашку, – оживился Костя. – Даже не удивился таким деньгам и торговаться не стал. Но сейчас вон какие морозы, холодновато для позирования, да и отца бы не застудить, а то тогда кранты нашему бизнес-проекту.
– Это правильно, – сказал Витя. – Здорово, что согласился. У нас будет уже три портрета. А нам надо для начала штук десять хотя бы. В выставочные залы нас не пускают, в таком случае устроим квартирник.
– Что это? – спросил Костя.
– Выставка в обыкновенной квартире. Развешиваются картины по стенам, рассылаются приглашения, в том числе и журналистам, проводится презентация, в руках у публики бокалы с шампанским, люди прохаживаются перед экспонатами, мило беседуют, обсуждают. Потом в Интернете или газете появятся публикации. Только квартиру надо найти попросторнее да поприличнее.
– Я, кажется, знаю, такую квартиру, – вдруг сказал Костя. – Только пока между нами. Есть у моего шефа зазноба, а если точнее, по сути, вторая жена, у нее ребенок вроде как от шефа, но наверняка не знаю, свечку не держал. Зовут ее Настя, живет она в шикарном особняке на Увальском шоссе, шеф этот дворец специально для нее построил. В основном тусовки с друганами он там проводит. И портрет свой он, скорее всего, там на стену будет вешать.
– Что эта Настя из себя представляет? – спросил Богема.
– Красивая баба моих лет, я бы и сам ей с удовольствием по самые, как говорится.
Человек творческий, шефа таскает на концерты, выставки, учит уму-разуму. Представляешь, на какого-то художника они специально аж в Москву летали. Вспомнил: на Сальвадора Дали. Она про него все уши шефу прожужжала. Он поэтому картинами интересуется, она его натаскала. Секретаршей у него работала, обычная история. Веселая такая. С ней можно попробовать договориться. Через шефа, конечно.
– Костик, ты молодец! – с жаром воскликнул Витя, обнимая его за плечи. – Мы с тобой горы свернем. Сейчас самое главное – сделать портрет твоего олигарха.
* * *
Когда утихли морозы, когда состоялось окончательная договоренность о дате, времени и месте творческой встречи Сидорова и олигарха, наступила пора сомнений, тревог и нервотрепки. С особой ясностью и четкостью вдруг проявилась абсурдность задуманного. Одно дело придуриваться в узком семейном кругу, а другое – выносить эту дурь нá люди. Сидоров в беспокойстве ночью плохо спал. Рисовать на снегу совершенно чужого человека, пусть и за большие деньги, уже казалось ему не только дурацким, но и постыдным делом.
– Я не знаю, как себя вести, – раздраженно признался он Богеме по телефону. – Мне же надо настроиться, быть уверенным в себе, а я буду отвлекаться на всякую фигню. Я улыбаться ему должен, этому прохиндею? Да на хрен он мне сдался!
– Дядя Толя, ты не горячись, – отвечал ему Витя, который хотя и сохранял спокойствие, но кошки-то на сердце у него скребли. – Давай выработаем линию твоего поведения. Мы тебя выпускаем, когда все готово для творческого процесса. Он стоит, ждет. Ты выходишь и спокойно делаешь свое дело. Без всяких разговоров. Ну, можешь поздороваться для приличия. Сделал свое дело и ушел. Остальное не твоя забота.
– А если не получится?
– Получится, – как можно увереннее сказал Богема. – Обязательно получится. Мы очень надеемся на тебя, дядя Толя. И верим, верим в твой талант.
– Связался же я с вами, придурками.
Потом сразу Сидорову позвонил Костя.
– Папа, ты уж меня не подведи, – попросил он. – А то перед шефом будет невдобняк. Если я облажаюсь, не знаю, что ему в голову взбредет. Уволит к едрене-фене, у него разговор короткий.
– Ага, а я буду виноват! – негодовал Сидоров. – Хорошо устроились, ребята.
* * *
Костя сообщил, что шеф намерен посетить художника сразу после обеда. Однако Богема настоятельно попросил, чтобы договоренность была на конкретное время, поскольку успешное написание портрета зависит не только от творческого дара художника, но и от соответствующей готовности его организма.
На сидоровскую дачу Витя приехал за два часа до мероприятия. Ночью выпал снег, и Витя, взяв в руки знакомую деревянную лопату, проделал в снежном покрове тропинку на ширину лопаты: сначала от дороги к наружным воротам, потом от ворот по дворику до заборчика. Немного подумал, повздыхал и стал лопатить глубокий снег от калитки, ведущей на огород, до яблони. Затем Богема взялся притаптывать снег перед заборчиком, готовя «холст» для художника, но из-под ног проглянули желтоватые следы предыдущего портрета. Вите пришлось снова взять лопату. Он выскоблил до земли место для «холста», набросал туда чистого, свежего снега и аккуратно, тщательно притоптал. Опершись на лопату, отдыхая, еще раз прикинул, что еще надо бы сделать, чтобы мероприятие прошло без накладок. Подумалось, что если снег опять пойдет, то явно помешает, и он, Витя, ничего поделать не сможет. В дальнейшем надо бы обставить все так, чтобы не ждать милости от природы.
Богема заехал за Сидоровым, и в половине второго они были на даче. К приятному удивлению племянника, дядя Толя на этот раз был настроен по-деловому, без всякого следа недавней истерики. Витя не знал, что вчера вечером тетя Маруся пожаловалась мужу, что опять прохудились ее зимние сапоги, и у нее мерзнут ноги. В ремонт сапоги уже не принимают, они чиненные-перечиненные. А с деньгами в семейном кошельке – напряг. Сидорова это потрясло, он почувствовал себя виноватым. «Куплю я тебе сапоги, – сказал он. – Обязательно куплю, обещаю».
Сидоров внимательно осмотрел место предстоящего действия, одобрительно отозвался о проделанной племянником подготовительной работе.
– Знаешь, Витя, что меня смущает? – спросил он задумчиво.
– Что? – встрепенулся племянник.
– Ветер.
Да, ветер! Он задувал сегодня с юга, со стороны ворот, и закуток в углу между баней и заборчиком уже не спасал. Было у Богемы предчувствие, что здесь что-то не так, но ума не хватило самому догадаться. Порывы ветра налетали неожиданно и резко. В таких условиях точность воплощения творческого замысла художника стояла под вопросом.
– Что же делать? – спросил Богема озабоченно скорее самого себя. Вот-вот должны были подъехать Костя с олигархом.
– Есть у меня в сарайке лист ГВЛ, он метра два с половиной на полтора, – сказал Сидоров. – Можно им прикрыться с подветренной стороны.
– Дядя Толя, ты не перестаешь меня удивлять! Нет, все-таки ты гений! – воскликнул Витя.
В сарайке у Сидорова была навалена обычная для дачи куча разнородного хлама, который увозится из городской квартиры за ненадобностью и который жалко сразу выбрасывать на помойку: старый холодильник, велосипед без колес, мопед без мотора и руля, дырявая, излохмаченная резиновая лодка, обрезки досок, облезлый кухонный гарнитур и прочая дребедень. Ценный гипсоволокнистый лист Сидоров замаскировал этим барахлом.
– Дядя Толя, зачем ты его так далеко засунул? – спросил с досадой Богема.
– Известно зачем. Чтобы не скоммуниздили.
Прежде, чем громоздкий, неудобный лист ГВЛ был вызволен на волю, им пришлось, отплевываясь пылью, изрядно потрудиться, передвигая, переставляя, перекидывая хлам из одного угла тесной сараюшки в другой.
В два часа они сидели в машине и смотрели на пустынную дорогу меж заснеженных дачных домиков.
– Ну, где эти охломоны? Я дома чая чуть ли не полный чайник выдудил, – сказал Сидоров, весь ужимаясь.
– Терпи, дядя Толя, терпи. Уже едут.
Вскоре к даче подкатил черный «Лэнд Крузер». Из него вышли Костя и невысокий, поджарый мужчина средних лет в меховой кепке и куртке-аляске, под которой виднелась белая рубашка с галстуком. «Вот они какие, местные олигархи, на чиновников похожи», – подумалось Богеме.
– Дядя Толя, ты пока сиди, не высовывайся, я тебя позову.
– Вы давайте там поживее шевелитесь и поменьше языками чешите, – напутствовал его Сидоров. – Иначе пусть лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь.
– Хорошо, постараемся сделать все быстро, – сказал Богема и пошел встречать.
– Виктор, – представился Богема.
– Геннадий, – ответил мужчина, пожимая его руку. – Вы, что ли, художник?
– Это мой двоюродный брат, – встрял Костя. – Он тоже художник, но не тот.
– А где тот?
– В машине сидит. Настраивается на работу, – сказал Богема.
– Надо бы познакомиться.
– Лучше пока его не трогать, – улыбнувшись, посоветовал Витя. – Он человек творческий, натура капризная, ему нервничать нежелательно.
– Вот как? – удивился Геннадий. – Ладно, показывайте, что тут у вас.
Вошли во двор. Геннадий огляделся.
– В доме есть кто-нибудь? – спросил он.
– Нет. Печки нет, зимой здесь не живут, все закрыто.
– А это зачем? – Геннадий кивнул на лист ГВЛ, распластанный посреди двора.
– Сегодня ветер, надо будет прикрыться. Мы с Костей его подержим. А вам, Геннадий, надо встать вон туда, у яблоньки за забором.
– Почему туда? – насторожился Геннадий. – Я встану туда, куда захочу.
– Это начальник охраны, – поспешил вмешаться Костя.
– Ёлы-палы, Костя, чего же ты молчишь! А где шеф? – спросил обеспокоенно Богема.
– Вадим Иванович в машине, – сказал Геннадий.
– Надо скорее звать его сюда, – заторопил Богема. – Мужики, художнику уже невтерпёж, он на пределе возможностей, физиологию не обманешь. Можно запортачить все дело.
Геннадий на секунду задумался, согласно кивнул, развернулся и зашагал к «Лэнд Крузеру», убыстряя шаг. Богема и Костя – за ним.
Начальник охраны открыл дверцу машины, что-то сказал, и из нее вывалился здоровенный мужик в длинном черном пальто и вязаной черной шапочке-«матершинке». За ним еще какой-то парнишка, видимо еще один охранник. Вадим Иванович прижимал к уху мобильник и кричал:
– Ты чего мне впариваешь? Чего ты мне лапшу на уши вешаешь? Да мне до фонаря твои заморочки, у меня своих выше крыши. Давай разруливай, пока я тебе руль не засунул, куда следует.
Он сунул телефон в карман и сказал с чувством, от души:
– Ну, губошлеп, бляха-муха… Костя подал голос:
– Вадим Иваныч, это Виктор, он занимается художником.
– Ага, привет. Ну, где ваш художник? От слова «худо». Или от другого слова, сами знаете, какого.
– Он сейчас будет, – спокойно ответил Богема. – Вадим Иванович, вам нужно пройти на место, которое мы для вас подготовили. Мероприятие займет буквально несколько минут.
– Нет проблем, пошли. – У Вадима Ивановича были генеральские повадки под стать его густому, зычному басу.
Богема зашагал проводником по прокопанной им в снегу глубокой тропинке. Пока шли, олигарху опять позвонили:
– Да, я ему уже сказал пару ласковых. Он совсем оборзел, мышей не ловит, – зарычал он. – Ты ему намекни, что, если дальше так пойдет, ему мало не покажется. Он меня уже достал.
Богема оставил его возле яблоньки, а сам бросился бегом через двор к своей машине.
– Дядя Толя, вылазь, клиент ждет.
Сидоров с суровым видом, молча, выбрался из машины. Когда зашли в ограду, он неодобрительно и строго взглянул на охранников.
– В сторонку, пожалуйста, – за его спиной умоляюще попросил Богема. – Можете помешать.
Охранники шарахнулись к воротам.
Сидоров медленно подошел к «холсту», медленно расстегнул куртку. Богеме понравилось, как он себя ведет: с достоинством, загадочный, словно мессия. Так и надо, так и надо, молодец! А уж он-то, Витя, вокруг этой важной, непостижимой персоны повьётся, посуетится. Сидоров вопросительно посмотрел на Богему – Вадим Иванович, продолжая говорить по телефону, за заборчиком стоял к нему спиной.
– Вадим Иванович, – позвал Богема. – Просьба к нам лицом повернуться.
Олигарх повернулся.
– Костя, помогай, – сказал Богема.
Вдвоем они разом подняли обширный, пружинящий лист, заслоняя Сидорова от ветра.
– Начали! – крикнул Богема, будто кинорежиссер на съемочной площадке.
Сидоров замер, вглядываясь в олигарха. Вадим Иванович с мобильником у уха смотрел с ироничной усмешкой на развернувшийся перед ним сомнительный спектакль. Богема с волнением ждал, когда все закончится. Если ничего не получится, его бывшая супруга Райка будет права – ему прямая дорога в дурдом. А Костю запросто турнут с работы за изощренное издевательство над руководством.
Раздалось звонкое журчание. Впервые Богема мог наблюдать, как работает художник Сидоров. Прямая тонкая струя, подобно лучу лазера, насквозь прожигала снег, уверенно чертя на нем портрет, словно запрограммированный в компьютере сложный геометрический узор.
– Всё! – выдохнул Сидоров и, на ходу застёгиваясь, не сказав больше ни слова, быстро утопал к машине.
Выпустив из рук громыхнувший лист, Богема и Костя шагнули к «холсту». Подошел Вадим Иванович. И охранники подтянулись. Сгрудившись, в наступившей тишине, пятеро мужиков оцепенело разглядывали портрет, с которого на них с ироничной усмешкой взирал олигарх.
* * *
На другой день Богема отнес флэшку со снимком портрета на снегу в типографию, где фотографию, увеличив, вывели широкоформатным принтером на белый холст – уже настоящий, плотный, водостойкий. Холст натянули на подрамник, покрыли текстурным гелем от выгорания и влаги, и заключили в красивую, резную багетную раму размером метр на полтора. Всё это обошлось Вите в немалую для его бюджета копеечку, но он не мог не довести дело до конца.
Картину Богема вручил Косте для передачи шефу, а сам внезапно захандрил. Ему стало казаться, что он затеял несусветную чушь, никчемную авантюру. Вспоминал устремленные на него одинаково насмешливо-изумленные глаза бывшей супруги и олигарха с охранниками, и ему становилось стыдно и горько за свои легкомысленные слова и горячие речи, за свою самоуверенную убежденность в правоте, за свою никудышную жизнь. А какие были планы! Какие были достижения! Сейчас никто не вспоминает, что он еще совсем пацаном был выдвинут на премию Ленинского комсомола за цикл акварелей «Сибирские просторы». Был выдвинут и тут же задвинут – так же, как к тому времени и сам комсомол. Когда-то у него была пусть и тесноватая, но собственная художественная мастерская, увешенная и заставленная набросками, эскизами, законченными картинами. Там он, молодой и перспективный, провел несколько счастливых лет, наполненных творческим вдохновением и разгульной свободой. Мастерской он лишился. Конечно, если бы не его гражданская жена Вера и ее обувной бизнес, он, скорее всего, сдох бы где-нибудь под забором от беспробудной пьянки и затянувшейся депрессии. Но сколько можно таскаться с клетчатыми баулами, набитыми под завязку мужскими штиблетами, женскими сапогами на рыбьем меху и домашними тапочками, которые неустанно варганят трудолюбивые, как муравьи, китайцы. Как ни крути, на обуви не заработаешь ни на новую машину, ни на более просторное жилье. Да и творческая струя дяди Толи – это на уровне анекдота или шутки-прибаутки. Надо браться за что-то более серьезное. Вот пробурить бы артезианскую скважину глубиной метров в сто пятьдесят, попасть бы на хорошую, вкусную воду и продавать ее в пластиковых бутылках. Вот с такой струей можно было бы делать бизнес!
Так рассуждал Витя-Богема. А у Сидорова был другой настрой. То, с какой легкостью он заработал целых пятнадцать тысяч рублей, потрясло его до глубины души. Чтобы получить такие деньги на заводе, он должен был в течение месяца каждый день, кроме выходных, спозаранку приходить в цех, надевать промасленную спецовку, получать у бригадира задание, загружать тележку заготовками, каждая весом в сорок килограммов, и выгружать их у станка. Его радиально-сверлильный станок 2М-65 – огромный, как слон. Помнится, Сидоров, когда еще только начинал на нем работать, даже побаивался к нему подходить, чувствуя себя рядом с ним маленьким, хрупким человечком. Но постепенно отношения наладились. Станок – он как автомобиль, который, если будешь к нему по-свински относиться, матеря и попинывая, в отместку подведет тебя в самый ответственный момент, к примеру, заглохнув намертво вечером в глубине безлюдного грибного леса. И со станком тоже лучше дружить – заботливо его отлаживать и обслуживать, выбирать правильную скорость сверления, вовремя смазывать и точить резцы. Иначе, если будешь хамить, то или металлическая стружка залетит под защитные очки, или чугунная деталь непонятным образом на ногу упадет. Радиально-сверлильный станок тем хорош, что на нем можно в очень больших и очень тяжелых заготовках делать поочередно сразу несколько отверстий. При этом эти увесистые чугунины ворочать лишний раз не надо, а просто передвигай сам шпиндель с закрепленным в нем инструментом, и сверли на здоровье. Сидоров за рабочую смену столько раз напередвигает этот самый шпиндель, столько раз поднимет и опустит заготовки, что сил остается только на то, чтобы дома давить диван и кнопки телевизионного пульта. Обильным пóтом давались ему на заводе эти пятнадцать тысяч. В месяц! А тут помахал пару минут своим причиндалом в свое удовольствие и – на, получи. А что, Сидоров согласен. И миллионы мужиков согласились бы вот так помахивать.
Прождав несколько дней, поистратив деньги, он не выдержал и позвонил племяннику:
– Ты куда запропал? Где заказы? У художника-то простой получается. Этак и разучиться можно. Навык-то теряется. Я на заводе после отпуска к станку неделю заново привыкал.
– Да я чё, – как-то вяло откликнулся Витя. – От меня мало что зависит.
– Ну, как же, ты ведь у меня продюсер. Или режиссер. Ты же умелец спектакли устраивать.
– Спасибо за доверие, дядя Толя. – засмеялся Богема. – Но ты лучше своего Костю потряси. Он рядом с олигархом трётся.
Позвонил Сидоров и сыну.
– Тебе еще три тысячи надо? – спросил сразу в лоб.
– Не откажусь, давай.
– Ага, давай. Ты сначала заказ на портрет организуй.
Тут Костя начал хохотать.
– Чего ржешь? – спросил отец.
– Пап, забавно получается. Сначала я тебя кое-как уломал, а теперь наоборот, ты меня уламываешь.
– Вы, два придурка, втянули меня в эту хрень, а теперь в сторону? Учти, ты меня знаешь, потом у меня не допросишься, я плюну и разотру.
– Пап, а что я могу сделать? Это дело деликатное, людей силой не заставишь, – сказал Костя.
– Шевели мозгой! Зря тебя, что ли в институте учили? Хоть ты и не доучился, балбес. Запомни, под лежачий камень вода не течет.
Потом, в течение нескольких дней Сидоров не раз при каждом удобном случае напоминал племяннику и сыну про этот лежачий камень. Но в ответ они только ухмылялись и пожимали плечами. И Сидоров махнул рукой. Надо было устраиваться на работу, не сидеть же сиднем всю оставшуюся жизнь на шее у жены. В детском саду по соседству предлагали должность ночного сторожа. Зарплата, конечно, копеечная, но все-таки какой-никакой, а прибыток в семью.
* * *
Отгуляли Новый год. Где-то под конец новогодних каникул позвонил Костя, чтобы объявить дрожащим от волнения голосом:
– Папа, есть заказы! Целых три!
Сидоров хотел было заартачиться и для приличия послать куда подальше эти заказы, но сразу передумал.
– Надо Витьке сообщить, – деловито сказал он.
– Да он уже знает. Предлагает нам втроем встретиться и всё обмозговать.
– Я не против. Приходите ко мне обмозговывать.
Вскоре они сидели у Сидорова на кухне. Маруся тоже хотела поучаствовать в совещании, но ее не пустили, закрыв перед носом дверь.
– В общем, тема такая, – докладывал Костя. – Позвонил шеф из Италии. Он там с Настей отдыхает.
– Кто такая? – спросил Сидоров.
– Жена, вроде бы. – Костя при этом вопросительно взглянул на Богему, тот согласно кивнул. – Да, жена. Так вот, они на днях возвращаются домой и везут с собой итальянских друзей, семейную пару. Естественно, иностранцев надо чем-то развлекать, в культурную программу включили написание их портретов. И портрет Насти заодно. Получается три заказа по той же цене.
– Можно предположить, как это произошло, – взял слово Богема. – Твой Вадим Иванович похвастался там, в Италии, фотографией своего портрета. Итальянцы сначала восприняли это как шутку, как розыгрыш. Вадим Иванович стал божиться, доказывать и пообещал им тоже портреты, когда они приедут в гости. Наверное, примерно так.
– Что будем делать? – озабоченно морщил лоб Сидоров, глубоко затягиваясь сигаретой. – Опять на дачу повезем?
– Не нравится мне этот вариант, – признался Богема. – Очень рискованно. Ветер посильнее дунет, и никакой ГВЛ не поможет. Один раз облажаемся, да еще перед иностранцами, и капец нашему бизнесу. Да и зима когда-то ведь закончится. Надо перебираться под крышу, в нормальные, спокойные условия и для тебя, дядя Толя, и для клиентов. А то я в прошлый раз на даче думал, что от переживаний поседею, стану белым, как лунь.
– И куда под крышу? В нашу квартиру? – спросил Сидоров.
– Нет. Надо что-то навроде мастерской художника, чтобы антураж был соответствующий: мольберт, этюдник, краски, растворители, палитра, кисти, картины на стенах, этюды. Водка, пиво, папиросы тоже обычно присутствуют, но мы их уберем.
– Снег летом с Северного полюса будем возить? – спросил Костя.
– Вы задолбали своими шуточками! – вскипел Сидоров. – Давайте без клоунады. Со снегом вопрос серьезный.
– Снегу надо найти замену. Что-то тоже белое, хорошо впитывающее, – сказал Богема. – Надо искать опытным путем: мука, а может крахмал, или еще что-нибудь.
Все надолго замолчали. Сигаретный дым стелился под потолком, неохотно уползая на мороз через полуоткрытую форточку.
– Витька, давай ты будешь главным, – наконец сказал Сидоров. – Ты у нас самый умный. И художник ты настоящий, не то, что я. Давай, командуй.
– Правильно, – поддержал Костя. – Конечно, мы все вместе будем советоваться. Но без командира бардак начнется.
Богема помолчал, задумчиво изучая потертый линолеум на полу. Аккуратно вдавил окурок в пепельницу.
– Ладно, – сказал он. – Мастерскую беру на себя. Есть у меня знакомый художник, попробую уговорить сдать нам на денек помещение в аренду. Ты, Костя, займись заменителем снега. Поэкспериментируй, прояви смекалку. Еще надо сделать из досок что-то типа короба или песочницы полтора на полтора метра, куда будем засыпать заменитель снега. Дядя Толя, может, ты возьмешься?
– А чё, возьмусь, дело нехитрое.
– Надо, чтобы эта коробка была разборная. Принесли, собрали, потом быстро разобрали, унесли. Заменитель снега – обратно в мешок, пол подмели, и будто нас и не было. И еще, дядя Толя, один важный вопрос надо решить.
– Какой?
– Финансовый. То, чем мы сейчас занимаемся, – это же бизнес, а значит, каждый из нас хочет заработать. Так ведь?
Сидоров нахмурился, засопел в раздумье.
– Ну, и как ты это видишь? – спросил он.
– Я не настаиваю, но это как один из вариантов. От всех доходов нам с Костей причитается одна треть. Остальное – твоё, дядя Толя. Арифметика простая: с пятнашки за заказ тебе – червонец, нам с Костей – пятерка на двоих.
Сидоров потянулся за новой сигаретой.
– Я хочу, чтобы всё было по справедливости, – сказал он. – Мне целый червонец, а вам всего по две с полтиной. Разрыв большой, это как-то нехорошо.
– Мы-то у тебя на подхвате, – разъяснил Богема. – А ты у нас – коренной.
– Пусть вам будет хотя бы по трешке, – предложил Сидоров.
– Ладно, тогда нам по одной пятой с дохода, – согласился Богема. – Костя, ты-то как?
– Очень даже не возражаю, – сказал Костя.
– Еще надо учитывать общие расходы, – продолжил Богема. – Вот, к примеру, портреты с фотографий придется печатать в типографии за наш счет, а это денег стоит.
– Погоди, а кто оплачивал в типографии портрет олигарха? – спросил Сидоров.
– Я, – ответил Богема. – Да ладно, чего там.
Сидоров нахмурился.
– Нет-нет, сделаем всё по уму, – сказал он. – Потом разбросаем на всех и тебе твоё вернём.
На том и порешили.
* * *
Костя затягивать с выполнением задания не стал, и в тот же вечер, призвав на помощь беременную жену Ксюшу, приступил на кухне к экспериментам. Жена была в курсе событий, но никак не могла воспринять их серьезно, будучи уверена, что все это дурь, глупость, а, может, просто розыгрыш. Но почему бы не помочь Костику, пусть позабавится. На столе они расставили неглубокие тарелки, в которые было насыпано все белое и порошкообразное, что было найдено в кухонных шкафах: крахмал, мука, сахар, соль, сахарная пудра, пищевая сода.
– У нас еще есть в кладовке сухая штукатурка, после ремонта осталась, – вспомнила жена.
– Тащи, – велел Костя.
Встал вопрос, чем делать пробные рисунки. И здесь тоже погодилась находчивая Ксюша, предложив десятикубовый шприц без иголки.
– Вода-то должна быть, наверное, желтоватая? – посмеиваясь, спросила она.
– Да, желательно. Ты молодец, Ксюха, быстро врубаешься, – сказал муж. – Чем подкрасим?
Ксюша развела в пол-литровой банке таблетку фуразолидона, и вода из-под крана в банке приобрела ярко-желтый цвет. Костя втягивал в шприц это раствор и на содержимом каждой тарелки тонкой струйкой рисовал солнышко с радостной рожицей и лучами-косичками. Ксюша взяла ручку и лист бумаги.
– Итак, крахмал, – начал диктовать Костя. – Впитывает плохо, очень медленно, вон даже капли катаются. Мука – еще хуже впитывает. Сахарный песок впитывает хорошо, моментально. Соль – тоже впитывает сразу, но рисунок почему-то бледный, на сахаре рисунок гораздо ярче. Сухая штукатурка, вроде бы, впитывает неплохо, но требует много краски. Сахарная пудра впитывает почему-то хуже, чем даже крахмал. Сода впитывает хуже, чем сахар. Получается, что лучшие варианты – это сахар и соль. Но учитывая то, что на сахаре цвет рисунка более яркий и отчетливый, приходим к выводу, что сахар – лучший заменитель снега. Так и доложим.
– Зато соль намного дешевле, – заметила Ксюша.
– Мешок сахара купить не такие уж большие деньги, – сказал Костя. – Качество важнее.
– Ой, я не могу, боюсь смеяться, а то живот заболит, – сказал Ксюша, уходя из кухни, держась за беременный живот. – Ты посмотри на себя в зеркало, с каким серьезным видом ты занимаешься этой ерундой. Просто умора.
– Зря ты так, Ксюха, – бодро крикнул ей вслед Костя. – Все великие дела всегда сначала кажутся ерундой.
Тем временем Богема думал-гадал, как ему решить вопрос с художественной мастерской. Со своей он давно расстался и скандальным образом, это была дикая, безобразная история. Он в то время переживал творческий и моральный кризис. В результате катаклизмов, разразившихся в родной стране, Союз художников превратили в обыкновенное общественное объединение. А самим художникам, членам Союза, показали большой, запашистый кукиш насчет гарантированной ежегодной закупки их произведений за государственные деньги, халявных творческих командировок по городам и весям, бесплатного отдыха в домах творчества и санаториях и прочих привилегий, позволяющих не думать каждодневно о хлебе насущном, а творить, творить, творить. Витя тогда был молод и глуп, будучи уверен, что его всеми признанный талант служит великой, благородной цели – сеять в людях разумное, чистое, светлое, делать их добрыми, культурными, просвещенными. И когда Вите дали понять, что, оказывается, на самом деле он был всего лишь мелким винтиком в огромной, жуткой идеологической машине для оболванивания народных масс, а его картины на самом деле никому, кроме этой машины, не нужны, его тонкая, творческая натура не выдержала голой правды. Для него эта правда была намного страшней лишения привилегий. Если его картины никому не нужны, то зачем их создавать? А если их не создавать, то вся жизнь его, все благородные устремления теряли смысл. Витя перестал участвовать в выставках, вместо этого он усердно стал искать пропавшую истину в вине. Поскольку художественные мастерские всегда были в дефиците, а к власти в местном Союзе пришли люди тёртые и прагматичные, напринимавшие в Союз таких же тертых и прагматичных бездарей, то затянувшаяся депрессия Вити удачно вписалась в борьбу с «нецеленаправленным использованием художественных мастерских». Сначала попытались договориться мирно. К Вите в мастерскую заявилась делегация с документом – решением Правления о выдворении. Но пьяный Витя разбушевался и умудрился одному товарищу даже в морду дать – давно хотел, а тут случай подвернулся. Тогда применили силовой метод: пришли два крепких хлопца в компании с участковым, и Витя был выдворен классически – кубарем вниз по лестнице.
Сейчас Богема направлялся к человеку, с которым подобное не могло произойти даже в дурном сне – к художнику Вове Климачёву, с которым был дружен в молодые годы. Витя позвонил в детскую школу искусств, где Климачёв преподавал, и договорился о встрече в его мастерской. Журналисты любили художника Климачёва, Богема читал в Интернете интервью с ним, видел там его работы – старые, уже известные ему, и последние, незнакомые. Вова не стеснялся говорить о Боге, утверждал, что цель искусства – славить Бога и нести людям радость. По воскресеньям он пел тенором на клиросе в храме Александра Невского. Это умиляло. И внешне он был такой большой, такой русоволосый и русобородый интеллигентный богатырь с добродушным, улыбчивым лицом. От картин Климачева веяло русской патриархальной стариной. Вот русский городок, непонятно в каком времени, – деревянные дома, белая церквушка на пригорке, утопающая в яблоневом цвету, полнотелые пёстрые коровы пасутся на зелёных лугах. А вот зимний морозный день, мохнатый куржак на деревьях, девушка в накинутом пальтишке торопится развешать только что постиранное белье, и опять это на фоне деревянной избы. Да избы убогой какой-то, по окошки вросшей в землю, с покосившимся пьяным забором. А вот заснеженная улица из крепких бревенчатых изб, а у ворот понуро стоят заиндевевшие лошади, запряженные в пустые сани-розвальни, ждут кого-то. Кого? И почему розвальни? Откуда Вова их сегодня взял? И хотя насмешливые языки коллег-художников обзывали творчество Климачёва «стилизацией под передвижников», была в его картинах особая прелесть, этакая ностальгия по ушедшей навеки Руси, и кто-то из журналистов назвал его «хранителем великих русских традиций, не растратившим Богом данного таланта на авангард и прочее псевдоискусство». Эта фраза кочевала с сайта на сайт. Картины же на современные темы с автомобилями и поездами получались у Вовы обыкновенными и невыразительными, поэтому их было совсем немного.
В мастерской Климачёва Витя с удовольствием вдыхал знакомый острый запах масляных красок.
– Какими судьбами? Что привело тебя в мою скромную обитель? – спрашивал Климачёв, обнимая и похлопывая Витю по спине широкой ладонью. – Может, по рюмке?
– Нет, я не пью.
– Совсем-совсем? – Вова недоверчиво прищурился.
– Давно уже. И не тянет.
– Жаль, душевно бы поговорили.
– Мы и так поговорим.
Богема подошел к натянутому на подрамник холсту, на котором опять пасутся коровы в густом разнотравье, речушка несет свои синие воды, в дали на взгорье теснятся покатые крыши сельских домов, еще выше из-за белой монастырской стены видны золотой купол храма и белая колоколенка, а еще выше раскинулось огромное, безграничное небесное море с причудливыми островами облаков. И непонятно, какое это время, какой век? Безвременье. Вечность. У Вити шевельнулось чувство зависти.
– Хорошо, – сказал он. – Аж дух захватывает.
– Не закончил еще, – произнес за его спиной Вова. – Не дают работать, то одно, то другое.
– Кто не дает?
– Семейные дела, да и школа эта долбанная времени много отнимает.
– Платят-то нормально? – спросил Богема.
– Какое там нормально… Ты же знаешь, какие в наших школах зарплаты.
Они уселись в кресла – приземистые, простенькие, с потертой матерчатой обивкой.
– Надо же, живые еще кресла! – воскликнул Богема. – Это же я тебе их когда-то давно подарил, от родителей остались.
– А что с ними сделается, – засмеялся Климачёв. – Я мебель берегу, не ломаю.
– Почитал я интервью, статьи о тебе в Интернете, – сказал Витя. – Фраза запомнилась: Владимир Климачёв – достойный продолжатель традиций великих русских художников. И действительно, это так. Я бы тоже под этой фразой подписался. Рад за тебя.
Вова усмехнулся.
– Да чему радоваться? Писать они все мастаки. Конечно, я им благодарен, доброе слово и кошке приятно. Еще бы картины покупали, чтобы мне жить было на что-то.
– Не покупают? – спросил Витя.
– Последний раз полгода назад японцы какие-то заезжие купили у меня сразу три картины. Я на эти деньги дома капитальный ремонт сделал. А наши жмутся, так, иногда купят кому-нибудь на юбилей. Ну да ладно, на всё воля Божья. Ты-то как? Как твой бизнес?
– Верчусь-кручусь, на хлеб с маслом хватает и еще остается, – ответил Богема, оглядывая стены, увешанные картинами. – Ты молодец, Вова. Скажу честно, я тебе завидую. Сам я дал слабину, не смог устоять, как говорится, перед искушением золотым тельцом. Не могу я вот так, как ты, трудиться, трудиться и ждать у моря погоды, когда кто-нибудь снизойдет купить картину. У художников, как у писателей: если можешь не писать – не пиши. Я могу не писать. И после меня останется только пшик, а после тебя вот это богатство. – Витя повел рукой вокруг себя.
– А я тебе завидую, – сказал вдруг серьезно Климачёв, и в его голосе мелькнула нотка горечи. – Ты сумел приспособиться к новому времени. А я живу по старинке и по-другому не умею, не научился. Старший сын, он у меня компьютерщик-программист, говорит: папа, если деньги не платят, значит это никому не нужно. Ты, говорит, своим творчеством прикрываешь бездельников, которые за культуру отвечают, чтобы они могли наверх доложить, что вот, мол, и у нас есть таланты. Я не хочу с ним соглашаться, потому что так не должно быть. Но ведь он прав, подлец.
Богеме подумалось, что если он, Витя, сейчас начнет рассказывать о волшебной струе художника Сидорова, его слова в стенах мастерской Климачёва будут звучать цинично и неуместно. И вообще, Вова по натуре добрый-то добрый, однако если его разозлить, он может и по матушке послать, и в челюсть заехать. Но Богема с удовлетворением смекнул, что разговор пошел по нужной колее, и поспешил этим воспользоваться.
– Твой сын не прав, – сказал он. – Когда-то я думал так же, как он, и глубоко заблуждался. На самом деле всё гораздо сложнее. Люди вокруг занимаются никчемной суетой. Они озабочены только сегодняшним днем, как бы урвать кусок пожирнее. Думаешь, у меня жизнь – сахар? Думаешь, я просто так болтанул, что тебе завидую? Ты делаешь большое дело, а я по мелочам размениваюсь.
– Вообще не пишешь? – с сочувствием спросил Климачёв.
– Иногда нахлынет. Есть у меня несколько работ. Ну, и на заказ вкалываю. Я и пришел к тебе по такому случаю. – Наконец-то Богема мог говорить о главном. – К моим знакомым приезжают друзья из Италии, семейная пара. Хотят, чтобы я непременно сделал с них портреты. Я так-то работаю дома, но меня представили как известного, маститого художника, и не солидно иностранцев в свою квартирку тащить. Хотел у тебя попросить мастерскую в аренду на денек. За тысячу рублей. Устроит?
Климачёв долго не думал.
– Устроит, – сказал он. – Пусть они и мои картины посмотрят. Вдруг что-нибудь понравится.
К этому времени Сидоров уже выполнил данное ему поручение. Из тайных закромов дачной сарайки он извлек заныку – несколько гладеньких фугованных досок-дюймовок. Сначала он намеревался сделать раму полтора на полтора метра, как советовал племянник, но подумал, прикинул еще раз и увеличил длину каждой из сторон на пятьдесят сантиметров – пусть «холст» будет попросторней, чтобы было над чем размахнуться. Доски он скрепил широкими стальными уголками и болтами – на каждый уголок по два болта. Собрать-разобрать такую конструкцию было пустяшным делом. Человек рабочий, у которого руки не из попы растут, он проявил смекалку, придумав сделать к раме дно, – квадрат из пластика крепился четырьмя саморезами к ребрам досок с одной стороны рамы. Теперь, если заменитель снега пропустит сквозь себя сколько-то «краски», на чужом полу не останется ни следа, ни запаха.
* * *
Итальянцы приехали в конце января. О том, как они участвуют в культурных мероприятиях согласно плану, утвержденному Вадимом Ивановичем, регулярно информировал Костя. Он возил гостей на «крузаке» и был в курсе всех их приключений. Сначала их повезли на охоту. Там, на лесной заимке, их крепко пропарили в русской баньке с последующим восстановлением водного баланса в организмах. Габриэлю понравилась русская поговорка «Пиво без водки – деньги на ветер». Он не сразу понял, почему деньги на ветер, а когда ему растолковали, решил проверить на себе, насколько экономично чередовать эти два напитка. Как жена Беатрис его не отговаривала, он довел испытание до логического конца. Утром у него болела голова, и, когда их повезли на снегоходах выслеживать лося, Габриэль отказался брать в руки ружье. В сохатого стреляла Беатрис. Она промазала, и зверя убил егерь, но представили дело так, будто она лося смертельно ранила, а егерь просто его добил. Пообещали им отдать лосиные рога, которые оказались большие и ветвистые, но Габриэль отнесся к этому с суеверным предубеждением и категорически отказался от подарка. Костя понял так, что Габриэль не хочет быть рогатым. А Беатрис назвала мужа дураком. После охоты итальянцы какое-то время будут отдыхать, придут в себя, а потом их повезут к казаху, у которого много овец и табун лошадей – кушать бешбармак и пить кумыс. В общем, сплошная экзотика.
– Когда они к нам собираются? – озабоченно спрашивал по телефону Богема. – Ты сам-то учти, что к нам просто так с бодуна, с бухты-барахты нагрянуть никак нельзя. Мы должны подготовиться.
Он поручил Косте деликатно намекнуть Вадиму Ивановичу, что художник ждет гостей в конкретный день и конкретный час, не раньше и не позже, потому что художник – человек занятой, у него расписана каждая минута и, к тому же, сразу после сеанса он уезжает в творческую командировку в Карелию.
– Почему в Карелию? – спросил Костя.
– Звучит красиво. И для солидности.
Имидж художника Сидорова крайне заботил Богему. Если выпустить Сидорова на международную арену таким, какой он есть, можно весь бизнес загубить. Дядя Толя никаким местом не походил на вальяжного, маститого, эстетически утонченного деятеля изящных искусств, каким Витя хотел его видеть. Нос картошкой, глаза-буравчики на безбровом лице, волосы торчат ёжиком, лопоухий, низкорослый, и речь типичного работяги – между косноязычными фразами матерки сами лезут для связки. Богема договорился с Сидоровым, что он с итальянцами будет придерживаться такой же линии поведения, как и во время сеанса с олигархом на даче: минимум слов, сделал своё дело и без промедления удалился. Теперь Витя ломал голову, как правильно одеть Сидорова. В ходе подготовки к встрече с иностранцами он пришел к Сидоровым домой и для начала попросил дядю Толю надеть обычный костюм, который Сидоров надевал исключительно редко и обычно на выход – на свадьбы, дни рождения, новогодние торжества и прочие мероприятия. Витя сам повязал на дядю галстук, отошел на два шага, осмотрел, прищурившись. Нет, в официальном пиджаке Сидоров больше походил на председателя колхоза типа «20 лет без урожая». Богема спросил, есть ли в доме темные очки. Маруся пошарила по шкафчикам и нашла – черные, непроницаемые, времен ее молодости. В темных очках Сидоров сразу стал похож на киллера из какого-то американского боевика. Костюм не пойдет, а очки можно оставить – для таинственности, для загадочности. Витя вспомнил, что когда-то уже давно видел дядю в белом джемпере, довольно-таки элегантном. «Толя его не любит, – сказала Маруся. – Он колючим оказался». «Ничего страшного, надо пододеть рубашку поплотнее» – посоветовал Витя. В белом джемпере и темных очках Сидоров, с послушной, терпеливой доверчивостью выполнявший команды по переодеванию, выглядел более интеллигентно.
– Дядя Толя, хорошо бы тебе еще волосы покрасить в оранжевый цвет или хотя бы обесцветить, – предложил Витя то ли в шутку, то ли всерьёз. – Для оригинальности.
– Давай лучше для оригинальности я просто штаны сниму и буду без них ходить, – откликнулся Сидоров.
– Вы совсем сдурели, что ли? – спросила очумело Маруся.
После таких её слов она была интернирована в другую комнату, а Сидоров продемонстрировал перед племянником сборку и разборку «холста». Племянник конструкцию одобрил.
* * *
Наконец в назначенный день, в назначенный час итальянцы появились в мастерской. Габриэль, сухощавый мужчина средних лет с проседью в курчавой шапке волос, имел доброжелательный, но скучающий вид. В компании с женой Беатрис он был явно не главный, взирая вокруг себя с настороженным любопытством, будто в ожидании, какую еще хохму отчебучат эти забавные русские. Беатрис, полноватая, черноглазая, говорливая, излучала неукротимую энергию, ей было всё интересно. Сопровождала гостей Настя, молодая красивая женщина, она была и переводчицей, общаясь с итальянцами на английском языке. Костя тоже был с ними, он прошел в угол и там тихо сидел на краешке стула.
Богема галантно помог женщинам снять с себя шикарные, запорошенные снегом шубки. Он представился, как Виктор, помощник мастера, «подмастерье, так сказать».
– Сам мастер будет с минуты на минуту, а пока можно ознакомиться с его работами, – предложил он.
– Grazie, – с улыбкой произнесла Беатрис. Итальянцы, и Настя с ними, принялись обходить развешенные по стенам картины, внимательно в них всматриваясь.
– Многие работы мастера находятся в частных коллекциях России, США, Англии, Франции, Китая. В Италии тоже есть, – тоном заправского музейного экскурсовода говорил Богема, учтиво следуя за ними. Настя переводила. – Буквально на днях Анатолий Петрович планирует отъехать в Карелию в творческую командировку, в места, одни из самых живописных в России.
Габриэль сказал что-то по-итальянски, вроде как вопрос задал. Беатрис громко расхохоталась и, озорно сверкнув черными очами на Богему, обратилась на английском к Насте.
– Они спрашивают: если картины выполнены не красками, то как художник добился такого разнообразия в цвете? – сказала Настя. И добавила, в ироничной многозначительности прищурив прекрасные глаза. – Виктор, здесь какая-то мистификация?
– Никакой мистификации, – ответил Богема, разглядывая ее красивое лицо и отмечая, что у олигарха, конечно, губа не дура. И, видимо, оттого, что отвлекся, не сразу сообразил. – Я не понял, почему они решили, что картины выполнены не красками?
– Насколько нам известно, ваш мастер является художником, так скажем… своеобразным? – ответила Настя с некоторым недоумением. – Не так ли?
– Ах, вот оно что! – воскликнул Богема. – Нет, нет, нет! Все эти картины написаны красками. Дело в том, что Анатолий Петрович освоил новую, абсолютно новую, никому, кроме него, не известную технику рисунка. Еще один шаг вперед в его творчестве. В этой новой технике он и намерен делать ваши портреты. Кстати, кто из вас будет первым?
– А это не больно? – спросила Беатрис игриво.
– Нет, так, маленький укольчик, как будто комар укусит, – ответил Богема ей в тон. Однако, видя, как вытягиваются лица Насти и итальянцев, поспешил заверить с улыбкой: – Шучу, конечно. Всё будет культурно.
Очередность гости установили следующую: первая – отважная Беатрис, за ней – Габриэль, последняя – Настя.
– Как это будет происходить? – спросила Настя.
– Объясняю. Сеанс занимает буквально минуту или чуть больше. Вы, Беатрис, встанете здесь. – Витя указал на место в трех шагах от мольберта, подножье которого было заставлено подрамниками с эскизами, образующими подобие ширмы. – Теперь пройдемте сюда.
Богема завел гостей за мольберт. Там, на полу, серое покрывало прятало что-то под собой. Витя, словно фокусник, разом сдернул покрывало, и гости увидели квадратную конструкцию Сидорова, внутри которой ровным, аккуратным слоем был насыпан сахарный песок.
– Непосредственно здесь будет происходить великое творческое таинство, – сказал Богема.
– Мы сможем увидеть, как это всё… случится? – спросила Настя.
– К сожалению, нет. Мастер не любит, когда за ним подглядывают. Да вы и сами понимаете, насколько интимный это процесс.
Гости спорить не стали.
Богема, извинившись, достал телефон и набрал Сидорова:
– Анатолий Петрович, мы все в сборе. Ах, вы уже рядом!
Поскольку Сидоров ждал его звонка в соседнем подъезде, спасаясь от январского холода, в мастерскую он вошел уже через две минуты.
– Добрый день! – громогласно и небрежно провозгласил он, снимая и бросая на руки подоспевшему Богеме длинное черное драповое пальто и меховой берет, которые Витя раздобыл именно для такого вальяжного явления художника Сидорова народу. – Так, ну что, у нас всё готово?
– Готово, Анатолий Петрович, – подобострастно подтвердил Богема.
– Давайте начнем, да я дальше побегу, – сказал Сидоров, потирая ладони и проходя за мольберт.
– Сейчас, Анатолий Петрович! – Богема взял за локоток итальянку и вполголоса, чуть не шепотом распорядился: – Беатрис, встаем на это место, как договаривались, стоим, не шевелимся, смотрим на Анатолия Петровича. – И обращаясь к Насте и Габриэлю: – А мы с вами подождем в сторонке, вот сюда, вот сюда… Мы готовы, Анатолий Петрович! – крикнул он.
Из-за мольберта Богеме и присмиревшим гостям была видна только голова Сидорова. Темные очки делали его лицо похожим на маску.
– Так, хорошо, – бодро произнес Сидоров и неожиданно продолжил не по сценарию: – Света бы добавить.
– Свет включен на полную, Анатолий Петрович, – откликнулся Богема. У него ёкнуло в груди. Опять, как тогда на даче, он испугался, что у дяди Толи произойдет непредвиденная, необъяснимая осечка, и всё закончится позором на всю Ивановскую.
Быстрым шагом он подошел к Сидорову, который в это время деловито расстёгивал брюки, и шепнул на ухо:
– Может, тебе очки-то снять, если хреново видно?
– Не боись, – так же тихо буркнул Сидоров. – Иди, не сбивай меня с толку. Я вообще кое-как терплю.
Богема вернулся к гостям.
– Так, стоим, ждём, – сказал он тихо, по-заговорщески.
– Уже началось? – перевела Настя вопрос Беатрис, которая беспокойно переминалась на пятачке перед мольбертом.
– Беатрис, просьба смотреть на Анатолия Петровича, – попросил Витя.
– Си, си. – Она вытянула шею, всматриваясь в бесстрастный лик Сидорова.
В напряженной тишине послышалось характерное, понятное всем журчание. Настя не выдержала, с ней случилась истерика. Она стала хохотать, отвернулась, зажала ладонью рот, но не могла удержаться. Габриэль, глядя на нее, тоже начал посмеиваться. Беатрис оглянулась на них, белозубо улыбаясь во весь рот.
– Туда смотреть, туда! – замахал руками Богема.
Но гостей уже было не остановить. Их обуял неудержимый, исступленный общий припадок хохота. Настя утирала слезы, Габриэль согнулся в три погибели, Беатрис ухахатывалась, запрокинув голову к стеклянному потолку. В этом припадке они не увидели, как художник вышел из-за мольберта, как Богема помог Сидорову надеть непривычное для него пальто, как у порога они оба оглянулись разом и посмотрели на гостей, как смотрят на постояльцев сумасшедшего дома его случайные посетители – с любопытством и опаской.
Проводив Сидорова подождав, когда гости немного утихомирятся, Богема предложил:
– Ну что, пойдем принимать работу?
Он провел их за мольберт. Они смотрели на веселое лицо Беатрис, выписанное на «холсте», и молчали. Витя фотографировал портрет.
– А где художник? – наконец спросила Настя, озираясь. – Теперь очередь Габриэля.
– Мастеру нужна пауза. Естественная. Сами понимаете, – многозначительно сказал Богема. – Так что ждем вас снова у нас через три часа. Но я вас убедительно прошу, Настя, чтобы не было никого из посторонних.
Беатрис стала что-то быстро и горячо говорить Насте, отчаянно жестикулируя. Габриэль согласно кивал кудрявой головой, иронично изогнув бровь.
– Они не верят, что такое возможно, – сказала Настя. – Беатрис подозревает, что это делается с помощью какого-то точного прибора. Она не знает, как это делается, но уверена, что ее обманывают. Если вы утверждаете, что здесь нет обмана, она хочет увидеть своими глазами, как работает художник.
– Настя, если вы можете представить, как Анатолий Петрович стоит перед Беатрис со спущенными штанами, то я не могу, – сказал Богема. – Это исключено, мастер не допустит такого унижения.
– Пусть тогда Габриэль посмотрит. Мужику-то мужика чего стесняться?
– Нет. Не всё так просто, как кажется. Творческий процесс требует огромной концентрации внимания. А если выразиться еще проще: Анатолию Петровичу надо очень сосредоточиться, чтобы у него получилось произведение искусства. – Богема лихорадочно соображал, какое решение принять, уж больно напористые оказались итальянцы. – Ладно, мы сделаем так. Я постараюсь уговорить Анатолия Петровича, чтобы мы засняли сам процесс и вам показали. Даже в суде видеодоказательство имеет силу.
Беатрис сощурила черные глаза в недоверчивом раздумье и неохотно согласилась.
Как только Костя увез гостей, Витя позвал Сидорова. Вместе они убрали из короба заменитель снега, аккуратно совковой лопатой сложив сахар обратно в мешок, распечатали новый десятикилограммовый мешок, заполнили короб, разровняли. Богема, попрыскав вокруг из баллончика освежителем воздуха, рассказал о сложившейся ситуации.
– Придется заснять процесс, – сказал он. – В будущем тоже пригодится: засомневается еще какой-нибудь Фома неверующий, а мы ему видеозапись под нос – на, мол, убедись. Ты не против, дядя Толя?
– Кто будет снимать?
– У меня есть штатив, поставим на него цифровик, включим режим видео. И тебя никто не будет отвлекать.
– Конечно, так лучше, чем чужая баба будет на меня глазеть, – сказал Сидоров. – А итальянскому мужику тем более не надо этого делать. Я ему не пидорас какой-нибудь.
Через три часа гости вновь вошли в мастерскую. Вернее, они не вошли, а ввалились. Видимо, обед удался на славу и угощали их от души, потому что Габриэль с усилием держался на ватных ногах, а Беатрис говорила не останавливаясь и громче обычного.
– Where is my master? – вопрошала она. – I have fallen in love with him. Where is he? I want to see him.
– Она хочет видеть художника, – перевела Настя, которая в отличие от итальянцев была трезва и несколько смущена. – Беатрис в него влюбилась.
Возмущенный Габриэль молча полез душить супругу, но Беатрис легко его оттолкнула.
– Где видеозапись? Вы обещали мне её показать, – перевела Настя её вопрос Богеме.
– Какая видеозапись, ёлы-палы? Мы же еще не снимали, – обалдело отвечал Витя. – Сейчас будем делать портрет Габриэля и заснимем.
Беатрис схватила мужа в охапку и принялась устанавливать его на пятачок для позирования. Габриэль заартачился. Супруги сцепились, как в нанайской борцовской схватке.
– Да пусть он пока посидит, отдохнет. Анатолий Петрович уже на подходе. – Богема в совершенном недоумении топтался возле них, не зная, что предпринять.
Беатрис повлекла мужа к креслу, но Габриэль, ни в чем не желая ей подчиняться, упирался и брыкался, словно жеребец, которого ведут на кастрацию. Богема подозвал Костю, вместе они помогли Беатрис усадить Габриэля. В сидячем положении Габриэль неожиданно успокоился, перестал бормотать итальянские проклятья, он обратил внимание на картины, висящие перед ним на стене, и впал в глубокую задумчивость, оттопырив нижнюю губу. Богема понял, что итальянца или еще больше развезет или он уснет, и заторопился набирать Сидорова:
– Анатолий Петрович, народ в полной боевой готовности! Прошу срочно! Да, срочно приходите!
Сидоров не заставил себя долго ждать. После того, как Богема у дверей вновь помог ему раздеться, шепотом обрисовав ситуацию, он поспешил к мольберту.
Теперь Габриэля надо было водворить обратно на пятачок для позирования. Беатрис попыталась извлечь его из кресла, но Габриэль вцепился в подлокотники и отбивался ногами.
– Может быть, его нарисовать прямо в кресле? – предложила Настя.
– Не получится. Анатолий Петрович его не увидит, у нас тут каждый миллиметр просчитан, – объяснил Богема.
Он подумал, что если сейчас сеанс с Габриэлем сорвется, то шансов его повторить может вообще не быть, и плакали тогда пятнадцать тысяч.
– Виктор, я готов, – раздался голос Сидорова из-за мольберта. И потише, словно сам с собой: – Я уже на пределе.
– Костя, иди сюда! – решительно позвал Богема.
Костя подошел.
– Хватай кресло с той стороны, я с этой, – скомандовал Витя. – Поднимаем и несем на пятачок. Пару минут продержимся.
Они поднатужились, подняли кресло вместе с итальянцем и понесли. Беатрис радостно захохотала и захлопала в ладоши. Габриэль, обнаружив себя воспарившим в пространстве, артистически воодушевился и, выбросив вперед руки с растопыренными пальцами, провозгласил:
– Calamitas virtutis occasion! Calcanda semel via leti! (Бедствие даёт повод к мужеству! Дорогу к смерти проходят только однажды! (лат).)
Богема, пыхтя от неимоверного напряжения, выкрикнул отчаянно:
– Анатолий Петрович, блин, давай понужай!
– Arte cessa di essere arte, proprio come le nostre menti iniziano a percepire come arte. (Искусство перестает быть искусством, как только наше сознание начинает воспринимать его как искусство), – воодушевленно декламировал Габриэль наверху. – Tu es amplius, sicut ars senserit animos coepit. (С тех пор как завелись у нас знатоки искусства, само искусство пошло к черту. (лат.)
– Настя, чего он там городит? – спросил Богема.
– Я не понимаю, он, кажется, вообще на латинском говорит, – сказала Настя.
– Как только Петрович закончит рисовать, мы этого макаронника бросим к чертовой матери, – пообещал Витя.
– Не вздумайте! – вроде как даже испугалась Настя. – Они наши гости, они не виноваты, их напоили.
– Да я пошутил, – сказал Богема. – Кстати, а где Беатрис?
Он вдруг осознал, что потерял шуструю итальянку из вида, и это ему не понравилось.
– Она подглядывает, – шепотом сообщила Настя.
– Готово! – крикнул Сидоров.
Они с облегчением опустили кресло на пол. Габриэль остался сидеть, а они пошли смотреть рисунок. К ним присоединилась подозрительно притихшая Беатрис, которая со значением взглянув на Настю, закатила глаза и покачала головой, показывая этим, как она потрясена или очарована.
Сидоров незаметно смылся, согласно сценарию. Богема снял цифровик со штатива – в суматохе с пьяным итальянцем он начисто забыл включить видеозапись. Но сейчас, судя по удовлетворенному (словно после секса) виду Беатрис, эта тема стала уже неактуальной. Габриэль на «холсте» улыбался во весь рот. Беатрис восторженно что-то выкрикнула, в экзальтации прижав ладони к пышной груди.
– Она в восхищении, – сказала Настя, внимательно разглядывая рисунок. – А я не понимаю, как такое возможно. Такая точность линий, и даже оттенки есть.
– Милости просим к нам через три часа, – сказал Богема. – И желательно, Настя, в гордом одиночестве. Чтобы без катаклизмов.
В условленное время Настя явилась в мастерскую, оставив подуставших итальянских друзей в гостинице. Творческий акт осуществился быстро и уже буднично – без лишних слов и телодвижений. Витя подробно заснял манипуляции Сидорова, причем, сделал так, чтобы в кадр не попало главное орудие творческого акта, поскольку изощренный художественный нюх Богемы чутко улавливал самое тонкое пошловатое амбре.
Спокойное, наедине, общение с Настей Витя постарался использовать на полную катушку. После того, как он вновь проводил Сидорова, учтиво раскланявшись в дверях и выражая всем своим видом уважительную смиренность ученика перед мастером, он обратился к Насте за советом. Новая техника рисунка, освоенная Анатолием Петровичем, еще мало кому известна, и Богема считает, что ее надо популяризировать. Надо устроить презентацию этому своеобразному, уникальному явлению мирового масштаба. В каком формате? В формате выставки. И теперь вопрос: где провести эту выставку? Беда в том, что часть публики, а в особенности чиновничий люд, который всего боится, воспринимает новое направление в искусстве крайне негативно. Это и понятно: новое всегда с трудом пробивает себе дорогу. Если проводить презентацию здесь, в мастерской, управление культуры непременно выразит неудовольствие подневольному Союзу художников, на балансе которого находятся мастерские, и Союз, конечно же, наложит запрет – у Анатолия Петровича там хватает врагов и завистников. Поэтому самый оптимальный вариант – это устроить так называемый «квартирник» – выставку на дому, на квартире. Здесь уж никто не запретит, тем более, если презентацию устроит такой известный, уважаемый человек, как Вадим Иванович.
– Даже так? – вскинула брови Настя.
– А почему бы и нет? Очень легко будет объяснить, почему именно Вадим Иванович. Да потому что на выставке будет представлен его портрет, а также портреты его друзей из Италии, выполненные в новой технике. И ваш портрет будет. Пригласим СМИ, прибегут, как миленькие. Дело благородное. Настя, давайте поддержим незаурядного художника! Таких больше нет в природе. Он один на весь белый свет, уверяю вас.
– Идея интересная, – улыбнулась Настя, принимая от Богемы шубку. – Хорошо, я поговорю с Вадимом Ивановичем.
Прощаясь, по просьбе Богемы, исключительно в интересах предстоящего благородного дела, они обменялись телефонными номерами.
Окрыленный, Богема предложил Сидорову сегодня же сделать портрет Кости.
– У нас будет в наличии семь портретов. Этого достаточно, чтобы презентация состоялась.
* * *
После того, как Сидорова выпнули с завода, у него появилось много свободного времени, и он стал много думать. Даже когда он устроился ночным сторожем в детский сад, он не перестал много думать, потому что сторожу особенно-то мозгой шевелить не надо, отвлекаться не на что. Сидоров просто менял свое месторасположение и думал, лежа не дома на диване, а лежа в детсаду на провисшей раскладушке. Поначалу он часто думал о том, как несправедливо с ним обошлись, уволив без оглашения какого-либо маломальского благодарственного слова перед цеховым коллективом, без обыкновенного «спасибо». Он вспоминал, как его вызвали в отдел кадров, и незнакомый мужик (прежнего главного кадровика новые хозяева выставили за ворота одним из первых) будничным тоном, словно о чем-то пустяшном, сообщил, что Сидоров уволен в связи с сокращением штатов и ему следует взять обходной лист в соседнем кабинете. Потерявший дар речи, Сидоров встал и, глупо улыбаясь, обреченно пошел, словно на расстрел. А зря, теперь думал Сидоров. Надо было в ответ презрительно усмехнуться, смачно плюнуть на пол и растереть. Нет, надо было спокойно подняться со стула, с размаху пнуть этот стул и неторопливо удалиться. Чтобы запомнили, гады, рабочего человека Толю Сидорова. Так, на разные лады он проигрывал унизительный, обидный момент в его жизни, и ему становилось легче. Однако, когда племянник-баламут открыл в нем удивительный, необъяснимый дар, с помощью которого, оказывается, можно зарабатывать неплохие деньги, ход мыслей Сидорова постепенно изменил направление. Теперь он думал с сожалением о напрасно потраченном времени. Он обнаруживал в себе лютую неприязнь к заводу, к его полутемным цехам, к привычному запаху горелого металла, к опостылевшему станку-кормильцу, и признавался, что работал много лет сверловщиком лишь только потому, что это получалось у него лучше всего остального и деваться ему было некуда, а на самом деле он всю жизнь мечтал иметь много денег и ничего не делать. Вернее, делать то, что нравится, и не делать то, что не нравится, и при этом не заботиться о хлебе насущном. Заветная мечта казалась близкой. Он ловил себя на том, что ему нравится писать портреты. Каждый раз, завершая рисунок, он испытывал непонятную радость. Как у него получаются портреты, он не понимал.
Однажды Сидоров ладил полочки в домашней кладовке, карандашом размечая доски, чтобы правильно отпилить. Маруся, водрузив на нос очки, замерла перед телевизором, отслеживая очередную многосерийную тягомотину. Сидоров подумал, почему бы ему не нарисовать Марусю карандашом. Почему-то племянника совершенно не интересовало, умеет ли Сидоров рисовать, как умеют рисовать другие нормальные люди. А вдруг у него талант обыкновенного великого художника? Если он умеет рисовать противоестественным образом, то почему бы ему не попробовать естественным? Он взял кусок обоев, хранившийся в кладовке, развернул его на столе внутренней стороной кверху, на мгновение сосредоточился на профиле супруги, словно сфотографировал, и принялся карандашом быстро набрасывать на бумагу запечатленные в памяти черты, стараясь воссоздать в себе то ощущение веселой бесшабашности и хохмы, которое возникало у него, когда он рисовал не карандашом.
Но ничего, кроме детских каракулей, не получилось.
Сидорову захотелось почитать о великих художниках. Интересно, они сразу родились гениями или научились создавать шедевры постепенно? Он спросил у Кости, где бы достать книжек о художниках. В библиотеку, что ли, записаться?
– Папа, какая библиотека? – засмеялся сын. – Мы в двадцать первом веке живем. Мы же тебе не зря ноутбук подарили. Давай проведем к вам домой Интернет, и читай, что хочешь.
Раньше Сидоров даже бравировал тем, что ничего не знает про Интернет и знать не хочет. Непонятно было ему, зачем платить деньги за какой-то Интернет, если по радио и телевизору можно бесплатно всё услышать и увидеть, а в копеечной газетке прочитать. А тут он уцепился за предложение сына, попросил помочь. Костя пригласил специалистов, молодые парнишки просверлили стену, протянули в квартиру кабель, установили вай-фай, настроили ноутбук. Сидоров так и не узнал, во сколько услуга обошлась, Костя взял расходы на себя, мол, это тоже планировалось в подарок.
С ноутбуком совладать Сидоров особенно не затруднился. Уж радиально-сверлильный станок-то был посложнее. Костя показал ему главные кнопки, как мышкой пользоваться, а остальное Сидоров своей головой дотумкал. Поначалу, конечно, поматерился, однако постепенно дело пошло, и теперь ему доставляло удовольствие лечь на диван, положить ноутбук на живот и погрузиться в безграничный интернетовский мир, который оказался занятной штукой. Естественно, безобразия там хватает, чего только не насмотришься. Особенно Сидорова поразила порнушка. Спору нет, мужиков она стимулирует на подвиги. Но это ж надо же сколько на свете баб бесстыжих! Мужика-то кто осудит, если он, тем более, холостой. А ты-то, дура, завтра по улице пойдешь, как ты соседям или знакомым в глаза будешь смотреть? Да и замуж после таких кульбитов кто тебя возьмет? А из новостей интернетовских начерпаешь столько информации, что голова кругом идет, и хрен разберешь, кто врет, а кто привирает. «Партию и правительство» костерят на все лады, раньше за это можно было бы по-серьезному схлопотать, а теперь все д’Артаньяны, что хотят, то и творят, не боятся. Но Сидоров в политику не лезет. Ну ее, политику, все равно там правды не найдешь.
Он забил в поисковик два слова «великие художники», и Интернет выдал ему три миллиона ссылок. Прочитав несколько кратких биографий, Сидоров уяснил, что жизнь у художников складывалась по-разному – у кого удачно, у кого не очень, жизненный срок выпал кому долгий, а кто и пожить толком не успел. Но одно было общее: художественное дарование проявилось у каждого из них с юных лет, и успеха они добились в результате каждодневного упорного труда. А Сидоров как не умел в детстве ни петь, ни рисовать, так и сейчас не умеет. Какой же он к едрене-фене художник? Какая презентация вообще может быть? Что за чушь!
Поздно вечером весь в смятении, Сидоров позвонил племяннику:
– Витька, мне надо с тобой поговорить. Приезжай, иначе я не усну.
Обеспокоенный Богема, и без того озабоченный предстоящей презентацией, прилетел как на крыльях. Маруся, открывшая ему дверь, махнула в сторону кухни: «Всю душу вымотал, паразит!». На кухонном столе перед Сидоровым стояла початая бутылка водки, он сосредоточенно курил.
– Понимаешь, Витька, здесь что-то не так, – начал он сразу без предисловий. – Вот ты хочешь устроить какую-то там презентацию, придут люди, будут смотреть, слушать, и я буду там как бы герой, как бы художник. А ведь я не художник. Понимаешь?
– Понимаю, хотя не согласен. Но ты говори, говори, – сказал Богема, присаживаясь.
– Ишь ты, не согласен он. – Сидоров неодобрительно на него взглянул. – А если я не художник, зачем народ обманывать? Заводские мужики узнают, скажут: ого, Толик-то Сидоров в художники заделался! Цирк! Позор! Да я со стыда сгорю и пепла не останется!
Он потянулся к бутылке, но племянник его остановил:
– Погоди, дядя Толя, давай договорим, потом выпьешь. Ты всё сказал?
– Всё! – раздраженно бросил Сидоров.
– Теперь дай мне свое мнение высказать. Кто сказал, что ты не художник?
– Никто, я сам знаю! – крикнул Сидоров.
Заглянула Маруся:
– Что тут у вас?
– Закрой дверь! – рявкнул Сидоров.
Маруся исчезла.
Богема, вздохнув, налил в рюмку водку.
– Ладно, дядя Толя, выпей, успокойся, и я все объясню.
Сидоров выпил.
– Объясняй, – буркнул он, закусывая соленым огурцом.
– Знаешь, в чем твоя ошибка, дядя Толя? Тебе непременно хочется смешаться с серой массой, – сказал Богема. – Тебе хочется, чтобы тобой управляли. Работай, Толик, вкалывай на износ, а мы, хозяева жизни, будем платить тебе столько, сколько тебе надо, чтобы ты только с голоду не помер. А если ты нам не понравишься, или просто так нам захочется, мы тебя уволим. Мы – короли, а ты – чмо болотное. Ага, тебе важно, что скажут заводские мужики. А кто-нибудь тебя защитил, когда тебя, заслуженного рабочего человека, вытолкали в шею с завода? Кто-нибудь хотя бы слово вякнул? Нет! Все засунули свои языки сам знаешь куда. И вот ты хочешь остаться одним из многих в этой запуганной толпе, а тобой будут командовать. Ты будешь пахать, как проклятый, за гроши, а они, твои хозяева, будут на Канарах отдыхать. Ты этого хочешь? Да тебе любой мужик готов позавидовать. У тебя у одного есть уникальная возможность вытащить свой дрын и сказать: а вот нате вам, уроды!
– Да какой там дрын? Чего ты мелешь? – встрепенулся Сидоров.
– Ну, это я утрирую, фигурально выражаюсь, – уточнил Богема. – Почему ты вдруг решил, что ты не художник? Я видел твои рисунки, да и не только я, и никто не сказал плохого слова.
Видимо, страстная речь Богемы и его слова о фигуральном дрыне пришлись Сидорову по душе, он расслабился, и сопение его стало не такое уж сердитое.
– Да я тут залез в Интернет, почитал о художниках, русских классиках. Ну, как их там: Репин, Суриков, Поленов, Саврасов, кто там еще, много же их было, и, короче, плохо мне стало, – с печалью признался Сидоров. – Это же гении! Я их пальца, я их ногтя не стою! По сравнению с ними я – никто! Понимаешь, я – никто и звать меня никак!
– Погоди, давай разберемся, – прервал его Богема. – Ты хочешь сказать, что ты не умеешь писать такие же, как у них, картины?
– Конечно! – возмущенно подтвердил Сидоров.
– А они разве умеют, вернее, умели писать такие портреты, какие ты пишешь? – спросил Богема. – И вообще, ты думаешь, что кто-нибудь умеет это делать, кроме тебя? Нет, никто не умеет! Их много таких было и есть, которые возьмут карандаш или кисть и пишут картины, соревнуются между собой, у кого лучше получается, у кого хуже. А тебе, дядя Толя, и соревноваться-то не с кем! Ты один такой, тебя не с кем даже сравнить! Так что давай успокоимся и продолжим идти верной дорогой. Кстати, ты почему на своей «шестерке» зимой не ездишь?
– Ее на морозе хрен заведешь, – вяло отозвался Сидоров. – И зимняя резина уже старая, покупать надо. Причем тут моя «шестерка»?
– Да ты скоро купишь себе новую хорошую машину. Такую же, на какой твой Костя шефа катает, или даже лучше. В любую погоду с полуоборота р-раз – и поехал. И никакой гололед не страшен. И по фигу мороз.
– Да иди ты, – сказал Сидоров.
– И машину, и все, что захочешь, купишь, дядя Толя. Но только если мы пойдем правильным путем, верный мой товарищ.
И Богема ободряюще похлопал обмякшего Сидорова по плечу.
* * *
Душевные метания Сидорова совсем не вписывались в планы Богемы. Накануне ему позвонила Настя и передала просьбу Вадима Ивановича посетить их загородный дом для обсуждения вопросов по квартирнику. Звонок был неожиданным. Богема, конечно, о нем мечтал, но, особенно не надеясь, готовился, выждав время, позвонить сам, чтобы напомнить о себе. А тут такая удача!
Темным зимним вечером он приехал по указанному адресу. Светящийся двухэтажный особняк был обнесен трехметровым кирпичным забором. Такие кирпичные заборы тянулись по всему микрорайону здесь и там, своей неприступностью предполагая за собой роскошь и богатство. Мужик в валенках, в полушубке с высоко поднятым воротником и лохматой шапке открыл в глухих, железных воротах калитку и повел Богему по очищенной от снега широкой аллее, вдоль которой громоздились сугробы с торчащими из них голыми деревьями. Под белым светом фонарей детская снежная горка блестела ледяной дорожкой. Мужик молча довел Богему до крыльца и остался стоять у ступенек в ожидании, когда гость войдет в дом. В просторной, теплой прихожей Богему встретила Настя в красивом, ярко-голубом спортивном костюме. Витя разулся, снял куртку и вошел в круглую гостиную, в которой вокруг круглого, полированного стола стояли кожаные кресла. В одном из них сидел Вадим Иванович, красная футболка обтягивала его мощные плечи, руки, пухлый живот. Он привстал и пожал Богеме руку:
– Вадим.
– Виктор.
– Чай, кофе? – спросил Вадим Иванович. И добавил: – Пиво, водка?
– Спасибо, ничего не надо. – Богема, присаживаясь в кресло напротив, улыбкой дал понять, что шутку оценил. – Я бы сразу к сути дела.
– Годится, – сказал хозяин. – Настя рассказала мне о мероприятии, которое вы предлагаете. Идея неплохая, и я, в принципе, не против. Но хотел бы кое-что скорректировать.
Витя был весь во внимании. Настя тоже села в кресло. Богема заметил, что она беспокойно поглядывала на Вадима Ивановича, была серьезна и резка в движениях.
– Я вижу это таким образом, – продолжал Вадим Иванович. – У нас будет скоро праздник, а именно – у Насти день рождения.
– Да причем тут мой день рождения? – недоуменно спросила Настя, и видимо, уже не первый раз.
– Погоди, Настасья. – Вадим Иванович предостерегающе выставил перед ней свою ладонь. – Давай сначала я скажу, а потом будем обсуждать. Итак, на день рождения, естественно, съедутся гости, друзья-товарищи. Будет застолье, посидим, выпьем, закусим, поговорим, а потом все поднимутся в зал. Теперь пойдемте со мной.
По широкой лестнице, застеленной ковровой дорожкой, они втроем поднялись на второй этаж. Вадим Иванович распахнул двухстворчатые резные двери, защелкал где-то в темноте выключателями, и перед Богемой озарился яркими огнями великолепный паркетный зал с необъятной театральной люстрой под высоким потолком, картинами на стенах и классическим черным роялем. «Для презентации лучше места не найти», – подумалось Богеме.
– Да у вас тут целый музей! – воскликнул он.
– Ага, музей, – небрежно согласился Вадим Иванович. – Так вот, в этом углу мы картины уберем, а развешаем ваши, ну, которые написаны в буквальном смысле этого слова. А в другом углу мы поставим ширмочку, там будет находиться наготове ваш художник. Сначала мы представим гостям портреты и расскажем, каким образом они выполнены. Гости, конечно, не поверят, а мы им: не верите, ребята? Желаете убедиться? Пожалуйста! Заводим гостя за ширму, а там художник делает его портрет. Уверяю вас, это будет очень прикольно.
– Вадим, ты предлагаешь ерунду. И это не смешно, – сказал Настя.
– Ну вот, конечно, я предлагаю ерунду. А вы что предлагаете? Научно-практическую конференцию на тему «Мочеиспускательная живопись: новый художественный метод, вопросы и проблемы»? Да еще хотите и журналистов пригласить? Настя, я – бизнесмен, меня в городе и области каждая собака знает. Я – депутат, в конце концов. Ты что, меня опозорить хочешь?
– Вадик, о каком позоре ты говоришь? – недоумевала Настя. – Речь идет о настоящем искусстве. Ты же сам удивлялся и восторгался нашими портретами. Они же тебе понравились! Помнишь? Или уже забыл?
– Допустим, понравились, – неохотно подтвердил Вадим Иванович. – Мне многое, что нравится. Например, ты нравишься, но я же не устраиваю в связи с этим пресс-конференцию.
– Значит, еще мало нравлюсь, – засмеялась Настя. – Ладно, мы тебя выслушали, теперь послушаем Виктора, как он это всё видит. Но давайте спустимся в гостиную, там теплее.
«Всё-таки миром правят женщины, и это иногда хорошо!», – подумал Витя.
Они вернулись в гостиную и вновь уселись в кресла.
– Всё-таки горячий чай нам не помешает, – сказала, поёживаясь, Настя.
Вадим Иванович тут же взял со стола мобильник.
– Марина, организуй-ка нам чаю на троих, – распорядился он в трубку и обратился к Богеме: – Рассказывайте, Виктор, что там у вас на уме.
– Не знаю, с чего начинать, – сказал Богема, борясь с волнением. – Но опыт подсказывает, что если не знаешь, с чего начать, или не знаешь, что говорить, говори только правду. А правда моя такая. Художник Сидоров – мой родственник, он приходится мне дядей по материнской линии. Причем, художником он стал буквально недавно, а до этого был обыкновенным работягой на заводе. О его способностях я узнал совершенно случайно. Поскольку я сам тоже имею отношение к художественному творчеству – участвовал в свое время во многих выставках, в моем активе около двухсот завершенных картин, выполненных в масле и акварели, – то я сразу понял, что дядя владеет исключительным, бесценным даром. И чтобы этот дар не угас в безвестности, решил ему помогать. Но вы сами понимаете, что дар этот экстраординарный и своей специфичностью вызывает всевозможные насмешки. Почему-то люди в первую очередь обращают пристальное внимание на то, что ниже пояса, а не на результат творения. Вернее, поначалу они положительно оценивают результат, но узнав, что это сотворено тем, что находится ниже пояса, они подвергают новую художественную технику осмеянию.
– Только что мы были свидетелями подобного осмеяния! – с шутливой торжественностью объявила Настя. – Хорошее слово «осмеяние».
– Дело не в этом. Не надо передергивать, – сказал ей Вадим Иванович.
– В общем, я уже потерял всякую надежду, как вдруг вы заказали портреты, и теперь появилась возможность представить уникальное творчество Сидорова публике, – продолжал Богема. – Нужно только правильно это сделать.
– Что значит правильно сделать? Поподробнее, пожалуйста, – нетерпеливо попросил Вадим Иванович.
– Сценарий презентации вижу таким. На мой взгляд, ничего глобального придумывать не надо. Развешаем портреты, как вы и планировали. Пригласим друзей, знакомых на ваше усмотрение. Обязательно нужно позвать журналистов, ради них всё и делается, но надо подумать, кого именно звать. Уместным будет присутствие кого-то из искусствоведов. Никаких стульев не потребуется, народ будет прогуливаться по залу, разглядывать картины. Пусть звучит рояль, раз он там стоит, можно пригласить какого-нибудь хорошего музыканта. Не помешает шампанское или другое вино, разлитое по бокалам, для придания мероприятию праздничности. Потом ведущий, которым можете быть вы, Вадим, или Настя, на правах хозяев, созывает всех к месту, где развешаны портреты.
– Ведущего нужно тоже нанять, как и музыканта, – сказала Настя. – Чтобы всё было достойно и на высоком уровне.
В гостиную тихо вошла женщина в белоснежном фартучке, катя перед собой сервировочный столик. Пока она разливала по чашкам чай, все задумчиво молчали. Когда она ушла, Вадим Иванович первым подал голос:
– Вам не кажется, господа, что мы сейчас с серьезным видом обсуждаем какую-то несусветную чушь, как будто нам больше абсолютно нечем заняться?
– Та-ак, опять осмеяние, – сказала Настя, разворачивая фантик на конфетке. – То дикий восторг, то дикий сарказм.
– Нет, я понимаю, Настя, если в узком кругу посмотреть эти портреты, чтобы поржать, поприкалываться. Но когда это выносится для обозрения на весь белый свет, получается другая ситуация.
– Какая ситуация? Что меняется?
– Очень многое меняется! – Вадим Иванович усмехнулся. – Наши лица каким веществом нарисованы?
– Ну и что? – Настя сделала глоток из чашки.
– Ах, это тебя не смущает? Ладно, тогда другой деликатный вопрос, возьмем повыше. Каким орудием труда изображены наши лица?
– Вадик, тебе же объяснили, что это новая техника рисунка. И ничего страшного в этой технике нет. Один мудрый человек сказал, что настоящее искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном. Кстати, я бы тоже хотела тебя кое-что спросить. Весь город знает, что у нас здесь чуть ли не царские хоромы. А о нашем частном художественном салоне, расположенном здесь, в нашем доме, кто-нибудь знает?
– Знает, все наши друзья знают, – насупился Вадим Иванович.
– Несколько человек. А я хочу, чтобы знали все. И чтобы людям было интересно сюда придти и заплатить деньги. А заманить посетителей можно только чем-то неординарным.
Богема сосредоточенно пил чай вприкуску с печенюшкой, не вмешиваясь в полемику и понимая, что в эту минуту решается судьба его проекта.
Вадим Иванович вдруг зевнул.
– Делай, что хочешь, Настасья, – сказал он равнодушно. – Только мое имя не поминайте всуе, мне еще много дел предстоит сделать.
Он встал и пошел.
– Даже не попрощался! – возмущенно бросила Настя ему в спину.
– До свидания, – сказал Вадим Иванович в дверях.
– Всего доброго! – с готовностью откликнулся Богема.
– Что ж, сделаем, как хотим, – уверенно сказала Настя, когда дверь закрылась, и бросила смятый фантик на стол.
* * *
Вообще-то Богема хотел на презентации заработать. Он предполагал, что Вадим Иванович и Настя пригласят своих друзей – богатеньких буратин, и тех не затруднит заплатить за вход по пять тысяч благотворительных рублей за персону. Однако при таких мрачных, скептических настроениях Вадима Ивановича Витя о платных входных билетах не рискнул даже заикнуться. Теперь дай Бог, чтобы презентация вообще состоялась, а СМИ не постеснялись дать о событии хоть какую-то информацию.
В городе функционировали три электронных информационных агентства, которые выкладывали новости на своих сайтах, и две бумажные газеты – областная и городская, – тоже имеющие сайты. Главное, считал Богема, – просочиться в Интернет, а дальше уж как получится.
Вместе с Настей они составили список лиц, которым планировали направить официальные именные приглашения. В список вошли друзья-знакомые Вадима Ивановича и главные редакторы местных СМИ. Еще Витя добавил туда двух журналистов, когда-то писавших о нем, как о художнике, хвалебные статьи. С ними он был знаком лично и не раз выпивал. Первый, Черепанов, трудился в городской газете, другой, Куролесин, бывший искусствовед и критик, – в информагентстве. На флегму Черепанова у Вити надежды было немного: придти-то на презентацию он, возможно, и придет, но руководство чиновничьей газеты запросто может зарубить его материал, он и не вякнет. А вот на Куролесина Богема мало-мальски рассчитывал. В молодости Куролесин, филфаковский МГУшный выпускник, приехал в провинцию из Москвы, чтобы вылечить у знаменитого хирурга покалеченную от рождения ногу, да так здесь и прижился, женившись на медсестре. В густых глубинных дебрях искусствоведческих наук он плавал как рыба в воде, умел говорить речи гладко, как по-писаному, и писать статьи об искусстве хлестко, метафорично и убедительно. Его слово было весомым и по сей день в местной творческой тусовке, порой определяя коммерческую судьбу художественных работ. Цены бы не было этому Куролесину, если бы не его скверный, скандальный характер. Художники побаивались этого крикливого, хромоногого человека. А теперь, когда жизнь заставила его зарабатывать на хлеб в желтоватой электронной газете, падкой на разного рода политические дрязги и разборки, его норовили обойти стороной и не только художники.
В полиграфической конторе по заказу Богемы изготовили пригласительные билеты – солидные, цветные, с тисненными текстом и вензелями на плотном картоне. Денег Витя не жалел, все расходы на организацию мероприятия взяла на себя Настя. Текст на билете гласил после обращения к приглашаемому по имени-отчеству: «Частный художественный салон „Квартирник“ приглашает Вас принять участие в презентации выставки „Уринальный рисунок. Инновационный художественный метод“. Адрес. Дата. Время. Оргкомитет». В левом углу билета Богема разместил портрет Беатрис, выполненный Сидоровым. Сначала Витя предлагал Насте поставить там ее портрет, но она засмеялась и сказала: «Не смешите меня». «Ага, опять осмеяние?» – с шутливой укоризной прищурился Богема. «Нет, просто смешно», – сказала она.
Пригласительные билеты для друзей-знакомых развез Костя по указанным Настей адресам, а Богема взял на себя СМИ. Главным редакторам оставил приглашения у секретарей в приёмных, Черепанову и Куролесину вручил лично.
– Уринальный, говоришь? – Черепанов задумчиво пожевал пухлыми губами, поправил очки на багряном носу, воззрился на Витю сквозь толстые стекла изумленными дальнозоркими глазами. – Это как у Энди Уорхолла, что ли?
– А что у него? – не понял Богема.
– Он приглашал знаменитых мужиков к себе в студию и просил их… ну, побрызгать уриной на холсты. Потом выставлял как картины на всеобщее обозрение.
– Серьезно? – Витя даже обрадовался. Почему-то этот факт он упустил, надо будет его использовать на полную катушку. – Но ты ошибаешься. Здесь круче. Видишь портрет на приглашении? Это известная итальянская актриса Беатрис, фамилия у нее, кажется, Капулетти. Это в Америке брызгают, а у нас русский художник создает шедевры.
– Что за художник?
– Анатолий Сидоров. Гений, другого слова не найду!
– Странно, но чё-то не знаю такого. – Черепанов почесал лысину, напрягая память.
– Еще узнаешь, какие твои годы, – пообещал Витя.
– Кстати, в продолжение темы, – сказал Черепанов. – Я тут недавно отдыхал в Чехии, в Карловых Варах. Там есть фонтан очень оригинальный. Представляешь, стоят несколько мужиков, в полный рост отлитых из бронзы, и, понимаешь, прилюдно делают свое дело. Как живые, даже невдобняк за них. Звон струй, как в конюшне. Народу много собирается поглазеть. И почему-то бабы в основном.
– Это не в тему, – сказал Богема, прощаясь. – Я тебе про настоящее искусство, а ты мне про конюшню.
У Черепанова Витя раздобыл телефонный номер Куролесина. Затягивать не стал, сразу позвонил. Голос в трубке был сух и неприветлив. Куролесин мрачно удивился звонку Богемы, но от встречи не отказался, предложил зайти к нему в офис. Витя обнаружил его там в взвинченном состоянии. Они давно не виделись, Курлесин заметно постарел, добавилось седых волос. Он был старше Богемы, и Витя всегда обращался к нему по имени-отчеству.
– Сто лет тебя не видел, – настороженно сказал Куролесин. – Для чего это я вдруг понадобился?
– Уважаемый Вячеслав Григорьевич, позвольте вас пригласить на презентацию одной очень интересной выставки, – с шутливой торжественностью провозгласил Витя.
Куролесин вскинул густые брови.
– Не твоя ли выставка?
– Нет. Другой художник, я ему помогаю. Вот для вас официальное приглашение.
Куролесин пригласительный билет взял, но лицо обратил к окну, в раздумьях разглядывая заснеженную улицу.
– Это значит, я должен рассказывать, как хорошо трудится наше управление культуры, петь им хвалебные песни, – наконец произнес он. – А ты знаешь, что сегодня меня не пустили на заседание правительства? Я пришел, как обычно, а меня охрана: стоп! Вам, говорят, не положено. Как не положено? А вас, мол, нет в списках, вы не аккредитованы. Бред! И меня раз – от ворот поворот!
Он встал и зашагал по кабинету, припадая на покалеченную ногу.
– Испугались! – Он коротко хохотнул. – Боятся! Мне один из тех, кто там заседает – нормальный, в общем-то, мужик – по секрету признался: ты, говорит, так смешно и тонко над нами издеваешься, что я сам угораю, когда читаю твои материалы. Но ты, мол, это зря делаешь. Зря! Конечно, они хотят тихо и мирно делать свои глупые и темные делишки, и чтобы никто им не мешал. Я им мешаю! Мой шеф мне звонит: вы бы, Вячеслав Григорьевич, как-нибудь уладили отношения. А сам знает, что наш сайт читают во многом исключительно из-за моих материалов. Потому что они трогают за живое, народ не обманешь, после моих репортажей – кучи комментариев! Но на редактора давят, я его понимаю. А ты хочешь, чтобы я рекламировал их управление культуры?
– Нет, управление культуры не имеет к выставке никакого отношения, Вячеслав Григорьевич, – поспешил заверить Богема. – Выставка будет проходить в частном художественном салоне.
– Что? У нас появились такие салоны? Впервые слышу.
Куролесин уселся за стол, вчитался в пригласительный билет, и брови его опять полезли вверх.
– Уринальный рисунок? Это что-то новенькое. Я слышал про уринальную живопись.
– Да, это у Энди Уорхолла такая была, – небрежно вставил Витя.
– Да, была. Там только громкое название, а на самом деле – пошлятина, фуфло и профанация. Как и многое у него. А это что за женское лицо? Твой художник – женщина? Тогда я вообще ничего не понимаю. Но могу представить, что ее уринальный рисунок гораздо примитивнее, чем уринальная живопись у Уорхолла. В силу физиологических особенностей.
– Нет, художник – мужчина. А женское лицо – это портрет, который он, так сказать, уринально нарисовал, – сказал Витя.
Куролесин откинулся на спинку кресла, внимательно вгляделся в Богему.
– Витя, тебе не кажется, что кто-то один из нас двоих сумасшедший? – спросил он. – Кстати, я давно тебя не видел и совершенно не знаю, чем ты занимаешься.
– Не беспокойтесь, Вячеслав Григорьевич, я не сбежал из дурдома, – улыбнулся Богема. – У меня свой небольшой бизнес, мольберт не забросил, помаленьку занимаюсь творчеством для души. И пытаюсь помогать молодым художникам. Выставку организует Вадим Иванович Потапов, личность вам известная. Я у него на подхвате. Выполняя его поручение, принес вам приглашение.
– Потапов? – удивился Куролесин. – Владелец заводов, газет, пароходов? Ему-то это зачем?
– Вадим Иванович человек просвещенный, увлекается искусством. Наш местный Третьяков. Или Савва Морозов. Меценат, одним словом. У него в доме на Увале своя картинная галерея. Там и состоится презентация. Приходите, Вячеслав Григорьевич.
Куролесин помолчал, что-то думая.
– Информационный повод для материала хороший, Потапов в новом качестве, – сказал он. – Одно меня смущает – эта хрень с уринальным рисунком. Ведь явная фальсификация.
– Посмотрите на женский портрет. Вы сомневаетесь, что он уринальный? Я вам покажу, как это делается.
– Боже упаси. – Куролесин насторожился. – Что ты хочешь мне показать?
– Не волнуйтесь, Вячеслав Григорьевич, всего лишь видеосъемку. Творческий акт длится чуть больше минуты.
– Акт, – повторил брезгливо Куролесин. – Уж не порнография ли это?
– Нет, конечно. Все прилично и пристойно.
Богема достал из сумки подготовленный заранее планшетник, ткнул пальцем нужные кнопки, положил перед Куролесиным. Терпеливо ждал, когда тот посмотрит.
– Любопытно, конечно. – Куролесин вновь коротко хохотнул. – Даже не хочется верить глазам своим. Но с другой стороны… – Он отложил планшетник. – Ну и что, Витя? Ну и что? Это же из области курьёзов.
– Курьёз – это когда пытаются сделать что-то оригинальное, а получается глупость и несуразица. А здесь полноценный портрет, – сказал Богема.
– Портрет самый обычный, похожий на карандашный рисунок, только несколько размытый. Но обычный! – воскликнул Куролесин. – Единственное, чем он отличается от других таких же посредственных портретов, это тем, что он сделан не карандашом, не кистью, и даже не руками…
– Руки участвуют в творческом процессе, – возразил Витя.
– Тьфу ты! Да я не об этом. Мне плевать, чем написал Леонардо да Винчи свою Мону Лизу. Хоть ногами! Главное, что он создал шедевр на все времена.
– Уверяю вас, Вячеслав Григорьевич, что если бы он написал Мону Лизу ногами, очереди к ее портрету были бы длиннее в сотни раз, – сказал Богема.
– Уверяю вас, молодой человек, что если бы Леонардо да Винчи рисовал ногами, а его работы получались бы такого же качества, как вот этот ваш женский портрет, то имя его нам сегодня ничего бы не говорило. Современники высмеяли бы его, оборжали, и он как художник был бы забыт.
– Да сколько же можно восторгаться средневековой Моной Лизой? Жизнь далеко ушла вперед, рождаются новые художники, новые течения, появляются новые техники художественного творчества. Я удивляюсь вам, Вячеслав Григорьевич. Насколько помню, вы всегда умели подметить оригинальное, непохожее, всегда умели определить талант. Художник, на презентацию работ которого я приглашаю, это уникум! Аналогов вы не найдете. Не верю, что вы этого не понимаете.
– Витя, я прекрасно вижу, что это уникум, – уже спокойнее и миролюбивее заговорил Куролесин. – Но почему это связано опять с какой-то похабщиной? Она, эта похабщина, лезет из Интернета, из телевизора, молодежь разучилась читать книги, грамотно писать, о высоком искусстве вообще понятия не имеет. Наше общество неумолимо деградирует. У нас нет культуры, у нас есть культурка! И ты тут еще лезешь со своей писяниной.
– Полностью согласен с вами про деградацию, – подхватил Богема. – И чтобы её предотвратить, надо использовать все методы. Уринальный художественный метод, сочетание низменного и высокого, может служить средством для привлечения нашего молодняка к настоящему искусству. Какой-нибудь гопник в лампасных трениках придет поглазеть на уринальные рисунки, чтобы погоготать над ними, а там, глядишь, в нем что-то останется, что-то зацепит его неразвитую, незрелую душу.
– Сильно сомневаюсь, – сказал Куролесин.
Тут у него запиликал телефон, и Вячеслав Григорьевич долго и нудно объяснял кому-то, почему необходимо подавать непременно в арбитражный суд и почему никакие другие инстанции не помогут. Когда он закончил разговор, Витя сказал, вставая:
– В общем, приходите, Вячеслав Григорьевич, не пожалеете. Кстати, для всех журналистов, освещающих презентацию, предусмотрено материальное поощрение.
– Приду, приду, куда от тебя денешься. – Куролесин вышел из-за стола, чтобы на прощание пожать ему руку. – Как зовут твоего художника?
– Сидоров, Анатолий.
– Впервые слышу.
* * *
Настя договорилась со знакомым педагогом-пианистом из музыкального колледжа, что он помузицирует на презентации. Она пригласила его в картинный зал, чтобы он осмотрелся и продиагностировал рояль. Богему она тоже нашла нужным позвать. Несмотря на свою красоту, она была женщина серьезная и ответственная, что Витю несколько удивляло.
Педагог, субтильный мужчина с русой, интеллигентной бородкой, взял пробные аккорды, пробежал гамму, потом вдруг сильно ударил по клавишам, и картинный зал наполнился звуками бурного, революционного шопеновского этюда. Странное чувство посетило Богему. Играл педагог хорошо, и музыка казалась волшебной, она словно озарила зал благородным, живительным светом: картины замерцали яркими красками, паркет засиял теплым блеском, гигантская люстра сверкала радостными огнями. Но как только Витя попытался мысленно соотнести эту музыку с предстоящей уринальной выставкой, музыка приобретала игривый, карикатурный, издевательский характер.
– Будьте добры теперь что-нибудь спокойное, неторопливое, – попросила Настя.
Педагог заиграл первую часть «Лунной сонаты». Прекрасная, чарующая музыка показалась Богеме комичной и двусмысленной. Наверное, что-то подобное почувствовала и Настя, потому что, когда музыкант ушел, она с растерянной улыбкой призналась:
– Иногда мне кажется, что мы затеяли неслыханную по наглости авантюру, даже страшно становится.
– Настя, нам нечего бояться, мы делаем правое дело, – сказал Богема, борясь с терзающими его сомнениями. – На Западе, да и в Москве, моментально бы раскрутили уринального художника Сидорова по полной программе. А у нас в провинции, как всегда, опасаются, как бы чего не вышло, мол, лучше не высовываться. К тому же, сравните, или ваш художественный салон будет известен, как собиратель пусть хороших, но обычных работ, которые мало кого удивят, или вы представите всему свету новое направление в искусстве. Есть разница?
– Есть, – согласилась Настя.
Со сценарием они определились. Ведущего решили не приглашать, откроет презентация на правах хозяйки сама Настя. Она поприветствует гостей и даст слово Богеме, как организатору и идейному вдохновителю выставки. Богема представит художника Сидорова, расскажет о его творческом пути, о его значении (да чего мелочиться?) в мировом искусстве. Затем скажет речь искусствовед Куролесин. О чем он будет говорить, неизвестно, но это не важно, главное, чтобы он выступил. Потом гости могут задавать вопросы. После торжественной части – обход экспозиции, в завершение – небольшой фуршет, неформальное общение.
Через два дня всё было готово – уринальные портреты развешаны, организационные вопросы решены, как вдруг накануне презентации Настя по телефону сообщила Богеме, что дело принимает непростой оборот. Ей позвонили из управления культуры и предложили помощь. Когда Настя стала вежливо благодарить и отказываться, её уведомили, что есть поручение губернатора оказать всемерную поддержку в открытии первого в области частного художественного салона. «Меценатство в сфере искусства надо возрождать. Вадим Иванович подает хороший пример», – заявила Насте начальник управления культуры Раиса Степановна. Эта дама заявилась к Насте в картинный зал собственной персоной вместе со своими заместителями для ознакомления с экспозицией и с серьезным намерением сделать всё, чтобы презентация прошла на самом высоком уровне – возможно, окажет честь поприсутствовать сам губернатор. Настя не может ей просто так взять и отказать, поскольку Вадим Иванович дружен с губернатором.
– Зачем отказывать? – воскликнул Богема. – Удача сама рвется к нам в руки.
Они продолжили разговор у детского сада, куда Настя подъехала за дочуркой, договорившись с Витей о встрече.
– Присутствие губернатора означает, что на презентацию уже наверняка сбегутся все СМИ, какие только есть в области – и местные, и федеральные, – рассуждал Богема. – Нам останется только претворить в жизнь наш сценарий, а они чего-нибудь да напишут.
– Дело в том, что эта дама из культуры настоятельно просит убрать на время уринальную экспозицию, – сказала Настя. – Она хочет сделать презентацию художественного салона, а не наших портретов. Видимо, опасается причинить вред целомудрию губернатора. Сценарий она предлагает свой, намерена подключить филармонию с профессиональным ведущим и струнным квартетом. Кто-то из Союза художников выступит. Вашего Куролесина она вообще не воспринимает. Короче, всё будет как обычно, типа: непонятно что, но бодрит.
В своей раздраженности и язвительности Настя была прелестна. Богема разглядывал ее и улыбался.
– Чего так смотрите? У меня тушь размазана? – спросила она встревожено.
– Нет. Впервые вижу вас такой разозленной.
– Да как же тут не злиться, все наши труды насмарку.
Они помолчали, раздумывая. Вокруг в вечернем синем воздухе падал мягкий снежок. За оградой детского сада галдела ребятня.
– Вполне вероятно, что губернатор не в курсе уринальных портретов, – сказал Богема. – Он велел своим подчиненным помочь Вадиму Ивановичу, и они проявляют инициативу, кто во что горазд. Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Как вы считаете?
– Даже не знаю. – Она пнула сапожком ледышку. – Они всё испортят. У меня вообще настроение под каким-нибудь предлогом отложить презентацию. Потом, когда всё уляжется и забудется, спокойно ее провести.
– Напрасно. Считаю, нам рановато отчаиваться, – сказал Богема. – Почему-то кажется мне, что если бы губернатор узнал подробнее, что там у нас за уринальные портреты, он бы чисто по-мужски проявил бы любопытство. Может быть, Вадиму Ивановичу с ним поговорить, попытаться убедить в том, что тётки от культуры не должны вмешиваться не в своё дело? Если же губернатор упрётся, если инициатива убрать уринальные портреты действительно идет от него, в чем я сомневаюсь, то тогда другое дело, действуйте по своему усмотрению, я диктовать не могу. Но будет жаль, если мы упустим такой обалденный шанс из-за чьего-то дурного вкуса.
– Хорошо, я посоветуюсь с Вадимом, – сказала Настя.
* * *
Богема и Сидоров добрались до особняка Потаповых за пятнадцать минут до начала презентации. Хотели пораньше, да припозднились из-за парикмахерской, куда Вите пришлось срочно тащить дядю – спохватились в последний момент, что он безобразно оброс. Уже по количеству припаркованных автомашин они поняли, что народу понаехало гораздо больше, чем предполагалось. В небольшой гардеробной комнате, куда они сдали верхнюю одежду, получив взамен, как в филармонии, бирки с номерами, почти все вешалки были заняты. Они поднялись по лестнице навстречу фортепьянной россыпи. Картинный зал был заполнен людьми. Возле рояля сгрудились девчонки, наверное, студентки. Педагог вдохновенно музицировал, зажмурившись и покачиваясь в экстазе, это был его звездный час. Здесь и там мелькали знакомые лица: художники, писатели, музыканты, работники управления культуры. И журналисты. Откуда-то выплыл Черепанов, долго тряс Богеме руку, шепнул в ухо: «Здесь вся наша редакция, бабы увязались за мной все, как один». Кое-кто из художников с Витей поздоровался, Вова Климачёв даже душевно приобнял, кто-то прошел мимо, как мимо пустого места, ну и черт с ними. Особенно многолюдно было перед уринальной экспозицией. В зале слышался смех. Богема отметил, что кое-кто из знакомых творческих личностей перед тем, как сюда придти, явно не постеснялся замахнуть рюмку-другую. Куролесин, окруженный женщинами, что-то увлеченно доказывал, одной рукой опершись на трость, другой – активно жестикулируя. Телевизионщик ставил камеру на штатив.
Сидоров повлек Богему в угол.
– Блин, я чё-то коню́, Витя, – сказал он. – Как хорошо, что я в темных очках, не так стыдно.
Богема окинул его критическим взглядом. Аккуратно подстриженный, в белом пуловере, в отутюженных Марусей брюках и надраенных до блеска ботинках Сидоров выглядел, вроде бы, неплохо.
– Ты, дядя Толя, главное, молчи. Улыбайся и молчи. Ну-ка, улыбнись.
Сидоров широко осклабился, обнажив желтые прокуренные зубы.
– По-американски не надо, – попросил Богема. – Помнишь, я тебе портрет Джоконды показывал? Попробуй улыбнуться, как она: улыбка тонкая, едва уловимая, даже снисходительная.
– Иди ты, Витька, в баню со своей Джокондой, – сказал Сидоров. – Мы с тобой ошибку сделали.
– Какую?
– Надо было тяпнуть грамм по сто.
– Тебе хорошо, а мне здесь еще речь толкать. – Богема нервно зевнул.
В это время к ним подошла Настя. В черном брючном костюме, ладно облегающем ее стройную фигуру, с шикарной перламутровой брошью на лацкане пиджачка она была восхитительна.
– Это какой-то кошмар! – Она округлила глаза в радостном возбуждении. – Виктор, мы же с вами задумывали скромный квартирник на несколько человек, а народу собралось – не протолкнуться.
– Чем больше народу, тем лучше, – сказал Богема. – Хотя признаюсь, мандраж немножко бьет.
– Значит так, губернатора не будет, он куда-то уехал, вместо него поприсутствует его первый заместитель, – сообщила Настя. – Сценарий удалось отстоять, он остается прежним с одним добавлением: придется дать слово начальнику управления культуры.
– Настя, у вас есть водка? – спросил Сидоров, уставившись на нее непроницаемо черными стеклами очков.
– Водка? – удивилась задумчиво Настя. – Кстати, Виктор, мы закупили шампанского, наняли официанта, чтобы он на подносе разносил по залу наполненные бокалы, но народу так много, причем, совершенно незнакомого, что я решила отказаться от этой идеи. У нас получается не светский раут, а что-то наподобие митинга или демонстрации.
– И правильно, что отказались, – сказал Богема. – Здесь некоторые несознательные товарищи и без вашего шампанского уже, как говорится, на кочерге.
– Шампанское я не люблю, мне бы водочки, – настаивал Сидоров.
– Хорошо, спуститесь в банкетный зал, скажите, что я разрешила, – сказала Настя. – Только не опаздывайте, с минуты на минуту должен подъехать замгубернатора, и мы сразу начинаем.
Когда они вернулись, рояль уже умолк, а публика сгруппировалась напротив уринальной экспозиции. В толпе своим официальным видом заметно выделялись новые персоны. Рядом с заместителем губернатора – невысоким, грузным мужчиной – стоял Вадим Иванович, возле них – Раиса Степановна, еще какие-то чиновные люди. В зале висел несмолкаемый, многоголосый гул, слышались смешки, хохот. Люди как будто пришли на открытие не художественной выставки, а пивного ресторана.
Настя вышла вперед, повернулась к публике лицом, чуть подождала, дожидаясь тишины, и сказала звонким, бесстрашным голосом:
– Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас видеть в нашем художественном салоне. Честно говоря, мы не ожидали, что принять участие в открытии салона будет так много желающих. Мы дали ему имя «Квартирник», предполагая, что это будет местом общения узкого круга людей, но, возможно, мы ошибались, и кто знает, может быть, в недалеком будущем он будет переименован. В нашем салоне собрана достаточно обширная и разнообразная коллекция, которая дает возможность ознакомиться с самыми выдающимися, на наш взгляд, работами художников родного края. Наша цель – помочь творческим людям, поддержать их в непростое для них время, дать им уверенность в том, что их творчество, их талант нужны людям. Наверное, мы могли открыть салон и раньше, но хотелось связать это событие с чем-то экстраординарным, с чем-то особенным и ни на что не похожим. Подчеркиваю, что речь, конечно же, идет об искусстве. Мы уже начали терять надежду, полагая, что наши запросы запредельны, и нам не найти то, что привлекло бы всеобщее внимание. Однако наш максимализм был оправдан, и мы приурочили открытие «Квартирника» к презентации уникальной экспозиции художника Анатолия Сидорова…
– А можно хоть одним глазком посмотреть на этого Анатолия Сидорова? – спросил из толпы под общий смех развязный голос, наверное, кого-то из поддатых художников.
– Можно, но всему свое время, – ответила Настя, мило улыбаясь. – О творчестве Сидорова подробнее мы еще расскажем, а пока я предоставляю слово начальнику областного управления культуры Раисе Степановне Тышук.
Твердо и громко ступая каблуками по паркету, перед публикой явилась Раиса Степановна.
– Уважаемые товарищи! Друзья! Сегодня у нас радостный, праздничный день, – провозгласила она. – Впервые в нашем городе, в нашей области, а может и во всем федеральном округе открывается частный художественный салон. Нередко нам с вами приходится слышать, что меценатство и благотворительность в России погибли, что выродились у нас Третьяковы, Мамонтовы, Щукины, Морозовы. Но жизнь показывает, что это не так, и поныне есть продолжатели славных традиций купеческих династий. А самый свежий пример – это деятельность нашего земляка, замечательного человека Вадима Ивановича Потапова.
Раиса Степановна захлопала в ладоши, публика подхватила.
– Существует расхожее мнение, что благотворительность должна быть тихой и незаметной, – продолжала напористо Раиса Степановна. – Однако, я думаю, на этот вопрос в наши дни надо смотреть гораздо шире. Сегодня, благодаря бизнесменам и предпринимателям, строятся и реставрируются церкви, восстанавливаются памятники архитектуры и зодчества, возвращаются на родину шедевры искусства. И я считаю, что мы с вами, и, прежде всего, средства массовой информации, должны делать всё, чтобы популяризировать деятельность наших филантропов и благотворителей, тратящих время, силы и средства для утверждения и развития наших культурных и духовных традиций. И пусть в стенах этого славного зала находятся работы самых разных художественных направлений – и традиционные, и абстракционизм, и кубизм, и… – она оглянулась на уринальные портреты и не смогла скрыть невольную брезгливость, это не ускользнуло от публики, по толпе пробежал смешок, – и другие направления. А мы от имени губернатора, – тут ее голос приобрел металлический отблеск, – от имени правительства области и управления культуры дарим художественному салону произведения местных авторов, отражающих в своих работах живописную красоту родного края.
Раиса Степановна кому-то кивнула, из толпы стали выносить картины и ставить вдоль стены. Засверкали фотовспышки. Следующим выступать Богеме, а он никак не мог определиться по одному очень важному вопросу. Он поглядывал на Сидорова. Тот, после ста граммов расслабившись, повеселев, стоял, руки в карманах, покачиваясь на каблуках. В глазах Богемы дядя Толя, как хамелеон, постоянно меняя обличие, теперь походил на приблатнённого уркагана, не хватало только в губах замусоленной папиросины. «Они его морально растопчут. А вот хрена им лысого», – подумал Витя.
Сидоров вдруг толкнул его в плечо:
– Тебя, тебя зовут! Ты чего?
– Виктор! – услышал он голос Насти.
Он вышел вперед, словно сквозь туман, Настя сразу куда-то пропала, и он остался один на один с многоглазой толпой, разнообразные лица которой слились в одно – насмешливое, недоверчивое, настороженное.
– Уважаемые первые посетители частного художественного салона «Квартирник»! – начал Богема. – Абсолютно согласен с Раисой Степановной. Да, сегодня мы с вами стали свидетелями огромных, я бы сказал, грандиозных событий в культурной жизни нашего города, нашего региона. Первое событие – это, конечно же, открытие салона. Второе – это то, что вы имеете возможность ознакомиться с рисунками, выполненными в совершенно новой, еще никем не повторенной технике самобытного художника Анатолия Сидорова. В далекие шестидесятые годы в этом направлении делал робкие попытки знаменитый американец Энди Уорхолл. Но у него ничего не получилось, а у нас уринальный рисунок стал фактом, который уже никому не опровергнуть и осознание важности которого, видимо, придет позднее. Я прекрасно понимаю, что уринальный рисунок в силу… природных особенностей его исполнения, что ли, воспринимается нами с некоторым комизмом, несерьезностью, даже насмешкой. Это вполне естественно. В свое время художников-абстракционистов тоже повсеместно высмеивали, а в журнале «Крокодил» публиковали на них карикатуры, однако абстракционизм остался в искусстве целым направлением, о котором написаны тома искусствоведческих исследований и монографий. И здесь я хотел бы сказать несколько слов о современном изобразительном искусстве. На одном из выставочных мероприятий была озвучена интересная цифра: всего три процента населения нашей страны считают себя компетентными в сфере изобразительного искусства. То есть в литературе, поэзии, музыке, театре, бисероплетении мы что-то понимаем, а вот история изобразительного искусства для большинства из нас остановилась на репинских «Бурлаках на Волге» или саврасовских «Грачи прилетели» из школьной программы. Но с тех пор были созданы тысячи гениальных произведений! Что мы знаем о них? А современных художников снова и снова укоряют уже набившей оскомину Моной Лизой: вот, мол, как надо рисовать. Мы уже давно не ездим на телегах, уже слушаем не битлов, а шансон и попсу, мы уже давно лечимся антибиотиками, а не заклинаниями, за годы, за века многое, что поменялось, а нас продолжают отсылать к средневековому Леонардо…
– Браво! – в толпе кто-то размашисто зашлепал ладошами, вызвав волну смеха.
– Искусство для большинства из нас – это убогое подобие храма, в котором давно нет божества, вместо него там лежат пыльные, музейные мощи, – продолжал Богема. – А настоящее искусство – это движение, это развитие, это риск, это постоянный эксперимент, может, иногда и на грани фола. Искусство – это живое творческое дело, оно заставляет по-новому чувствовать, думать, смотреть на мир, а вовсе не любоваться на красивые картинки на стенке. Но для того, чтобы художественный салон стал пристанищем изобразительного искусства как отражения нашей кипучей жизни, необходима определенная смелость. Спасибо Вадиму Ивановичу и Анастасии Сергеевне за эту смелость, пусть им сопутствует удача в их благородном деле.
Интонацией Богема поставил в выступлении точку, и сразу молодой женский голос спросил:
– А что вы можете сказать об уринальном рисунке? Что это? И вообще, разве такое возможно?
– Да, возможно. В этом вы можете убедиться, взглянув на портреты за моей спиной, – ответил Богема.
– В чем заключается техника исполнения? Можно поподробнее?
Народ затих, все ждали. Но у Вити на подобный вопрос был заготовлен встречный вопрос:
– А вы сами разве не догадываетесь?
По картинному залу пронесся вихрь смеха.
– Автора! Просим автора! – зычно гаркнул кто-то из мужчин.
– К сожалению, автор сегодня приболел и на презентации своих работ присутствовать не в состоянии, – неожиданно объявил Богема.
– Как так? – К нему подошла удивленная Настя. – Что случилось?
– Переволновался Петрович, – тихо объяснил Витя. – Заплохело ему вдруг. Взял да и ушел.
– Беда не большая, не в авторе дело, – громко сказал Куролесин, ковыляя к ним. – Анастасия Сергеевна, разрешите слово молвить. Кажется, теперь моя очередь?
Богема поспешил покинуть «сцену». Он вернулся на место у колонны, где они стояли с Сидоровым. Сидоров тотчас развернулся и быстро зашагал к выходу, на ходу сняв и засунув в карман темные очки. По его решительной походке и напряженной спине Богема понял, что дядя Толя недоволен. Они спустились к раздевалке, в напряженном молчании оделись, вышли на улицу, сели в машину.
– Ты меня за клоуна держишь? – спросил Сидоров закуривая.
– Рано тебе появляться на публике, дядя Толя. Рано! – сказал Богема.
– Почему это? Рожа не та?
– Ты разве не чувствуешь, какой дурацкий настрой у этой толпы? Им лишь бы поржать, погоготать. Они сделали бы из тебя посмешище. Тебе это надо? Ты мне еще спасибо скажешь, что этого не произошло.
– Хрен тебя поймешь, Витька, – задумчиво сказал Сидоров. – То ты наряжаешь меня, как новогоднюю ёлку, я уже настроился, перепсиховался на сто рядов, то, оказывается, рано.
– Вы меня с Костей выбрали главным? – спросил Богема.
– Ну.
– Баранки гну. Вот и выполняйте мои указания. Не так все просто, дядя Толя. Но ничего, мы их еще научим родину любить.
* * *
Через неделю Богема подвел итог. По телевидению, по двум местным каналам, выдали сюжеты об открытии художественного салона: показали кусок выступления Раисы Степановны, несколько фраз пробурчал на камеру заместитель губернатора, взяли интервью у Насти, как директора салона, члены Союза художников поделились своими положительными впечатлениями – но уринальная экспозиция осталась за кадром. В печатных и электронных изданиях тоже в честь открытия салона пропели дифирамбы бизнесмену Потапову, однако, кроме Куролесина, ни словом не обмолвились об уринальной презентации. Правда, в черепановской статье в подборку фотографий с выставки каким-то макаром затесался один уринальный рисунок с подписью «Художник А. Сидоров. Портрет В. И. Потапова». Богема тут же позвонил Черепанову и поблагодарил его.
– Витя, ты не представляешь, какой бой я выдержал ради тебя, – сказал Черепанов. – Я целый абзац посвятил твоим уринальным рисункам…
– Не моим, – поправил его Богема.
– Да? А наши бабы решили, что Сидоров – это твой псевдоним. Ну, да ладно. В общем, несмотря на мои уговоры, главред зачеркнул этот абзац и прямым текстом мне заявил, что, мол, мы работаем в газете города, а не дурдома. Но один рисунок я все-таки пропихнул, рискуя головой, так что с тебя пузырь коньяка.
А вот Куролесин оказался молодцом, хотя, наверное, он об этом и не догадывался, озвучивая сугубо собственные помыслы и соображения. На свой сайт об открытии «Квартирника» он выставил короткий, бесстрастный репортаж о том, кто там был и кто что сказал о благородном поступке Вадима Ивановича, в котором Куролесин усмотрел начало возрождение меценатства в России и даже ростки частно-государственного партнерства в сфере изобразительного искусства. Упомянуть об уринальной экспозиции он не удосужился. Зато в интервью Молодежному агентству, на сайт которого Богема наткнулся случайно, набрав в поисковике «уринальный рисунок», Куролесин на эту тему выговорился на полную катушку:
«– Вячеслав Григорьевич, на открытии частного художественного салона, на котором была представлена так называемая уринальная экспозиция, вы заявили, что современное изобразительное искусство деградирует. Ваше высказывание прозвучало диссонансом на фоне торжественных речей и многим показалось очень спорным.
Искусство – оно ведь разное, а вы, получается, мазнули всех современных художников одной черной краской.
– Молодой человек, ничего не поделаешь, слово „современное“ в контексте изобразительного искусства стало словом ругательным, и, как сказал знакомый профессор, „скоро за это слово будут бить по морде, не отходя от кассы“. Вообще, я бы грубо разделил изобразительное искусство на два течения: первое – традиционное, классическое, где перенимается, сохраняется, впитывается богатейшее наследие великих художников прошлых времен, второе – современное, где это наследие отвергается, на первый план выходит желание во что бы то ни стало эпатировать, удивить, шокировать малообразованную публику, например, нарисовать огромный, величиной с дом фаллос или устроить перформанс, прибивая гвоздем-стодвадцаточкой мошонку к асфальту. Уринальная экспозиция – типичный образец современного искусства. Не удивлюсь, если через какое-то время нас с вами пригласят на презентацию экспозиции фекальной.
– Чем же вам не приглянулись эти симпатичные уринальные портреты? Если бы нам не сказали, что они выполнены с помощью человеческой урины, мы бы разглядывали их, как обыкновенные рисунки.
– В том-то и дело, что вы бы мимоходом на них взглянули или вообще бы не обратили внимание, потому что они, вы правы, самые обыкновенные, не представляющие никакой художественной ценности. Но когда вы узнаёте, что они уринальные, вы начинаете их считать высоким искусством.
– А причем здесь деградация? Разве художник не имеет права на эксперимент?
– Эксперимент затянулся. Из творчества уходит душа, а из произведений какой-либо смысл. Популярность приобретают картины психически больных людей. Общество, особенно более молодая его часть, уже не в состоянии воспринимать искусство сложное, а вот если нарисовать две отрезанные головы в двух стоящих рядом трехлитровых банках, то это будет прикольно, хотя и не понятно, что этим хотелось выразить современному художнику, вернее, его нездоровой психике. Красота почему-то перестала цениться. На первое место вылезло удовлетворение меркантильных потребностей и примитивных желаний. Искусство всегда, как зеркало, отражало душу общества, и сегодня видно невооруженным глазом, как она загнивает и эволюционирует в непотребные, уродливые формы.
– Откуда же свалилась на нашу голову такая напасть?
– Случилось это не сегодня и не вчера. В перестроечные времена, когда рухнул „железный занавес“, мы безоглядно бросились перенимать и копировать западные ценности не только в экономике, но и в культуре. У нас прижилось много низкопробного в кинематографе, на телевидении, в литературе, изобразительное искусство не стало исключением. Беда еще в том, что эта, как вы выразились, напасть просочилась и в сферу образования. Там тоже строят невразумительные, авангардистские конструкции – в школах сокращают уроки русского языка и литературы, ввели новую самоубийственную для отечественной системы образования форму экзаменов. И теперь мы пожинаем плоды: с каждым новым поколением возрастает интеллектуальная деградация. Общаясь с молодыми людьми, я замечаю, что они с трудом облекают в слова свои мысли, плохо знают искусство, историю, географию, литературу. Школьники читают не книги, а хрестоматии по книгам, а потом пишут сочинения о том, чего не читали. Они не осмысливают знания, а научились добывать их из сети и компилировать, на что большого ума не надо. Вот вам готовая публика и одновременно питательная среда для современного изобразительного искусства, в том числе и для уринального.
– Вячеслав Григорьевич, исходя из ваших рассуждений, получается, что уринальные рисунки заслуживают места, извините, чуть ли не на помойке. Однако устроители выставки-салона, видимо, так не думают, поскольку разместили их на своих стенах?
– Полагаю, это был хорошо продуманный маркетинговый ход, который, кстати, себя оправдал: народу набежало немало.
Иногда ради настоящего искусства приходится идти на жертвы.
– Спасибо за интервью».
Вместе с интервью на сайте Молодежного агентства с молодецким задором были выложены все семь уринальных портретов Сидорова.
«Ай да Вячеслав Григорьевич! Ай да Куролесин! – ликовал Богема. – Надо бы лучше да некуда!»
Он, словно заядлый, фанатичный рыболов, испытывал радостное удовлетворение от того, что всё сделал правильно: наживку на крючок насадил, подкормку в воду сыпанул, удочку закинул, и теперь с трепетным волнением поглядывал на неподвижный пока поплавок, на спокойную гладь воды, гадая, что таится в глубинах этого спокойствия – продолжает струиться равнодушная тишина или зарождается сильное, упругое, хищное движение?
Часть II
После утреннего совещания губернатор попросил остаться своего помощника Николая Ивановича Бестужева. Помощник, бывший милиционер, был человек надежный, проверенный в ожесточенных предвыборных боях и выполнении самых разных деликатных поручений, поэтому губернатор мог говорить без стеснений.
– К нам планирует приехать Карнаухов Владислав Евгеньевич, сам знаешь, кто это и какое значение он для нас имеет, – сказал озабоченно губернатор. Бестужев почтительно кивнул, никак не выразив своего удивления. – Цель визита, вроде бы, понятная: едет человек развеяться, отдохнуть, поохотиться на кабана, в баньке попариться, шашлыков покушать. Это нам не впервой. Но кое-что меня настораживает. Как мне сообщил его референт, ко всему прочему Владислав Евгеньевич желает, чтобы его непременно нарисовал, сделал с него портрет какой-то художник Сидоров. Что за Сидоров? У нас есть Жеребятников, заслуженный художник, ну, еще Климачёв, на худой конец. Остальных я знаю плохо, тем более какого-то Сидорова. Интересно то, что Карнаухова в наши края обычно калачом не заманишь. Сколько я его не агитировал к нам в гости, он всё отнекивался, а тут вдруг сам инициативу проявил. Причем, он не первый, кому вот так с бухты-барахты полюбилась наша область. Вот какого рожна приезжал к нам депутат Госдумы Похабцев? Официальная версия, что простым зрителем на юношеские соревнования по боксу. А на самом деле? По слухам, тоже к какому-то художнику. Что за мода такая? А жена главного монополиста к нам недавно ради чего наведалась? Понятно, чтобы денег с области содрать в свой сомнительный фонд, я соглашение подписал, куда деваться. Но она, ведь, говорят, тоже втихаря к какому-то художнику ездила. И закрадывается у меня подозрение, что едут они из Москвы не ко мне, а к кому-то другому, а мы с тобой тут у них так, сбоку припёка, на обслуге. Мне это не нравится.
– Раиса Степановна в курсе? – спросил Бестужев, пока губернатор закуривал.
– Вот ты, Коля, и выясни, в курсе она или нет. Я к ней напрямую не хочу обращаться. Ты же знаешь нашу Райку. Чего-нибудь неправильно поймет, болтанет где-нибудь. В общем надо разобраться, с какого это перепугу наши художники стали такими популярными, ну, и организовать встречу Карнаухова с этим Сидоровым, раз уж так приспичило.
* * *
Бестужев по обыкновению не стал откладывать в долгий ящик поручение губернатора. В этот же день он позвонил начальнику управления культуры и попросил найти время, чтобы зайти к нему на чашку чая. Статус Бестужева в правительственной иерархии, наработанный рука об руку с губернатором за многие годы, заставлял не брезговать чаепитием в его кабинете и персон более высокого полета. В условленный час Раиса Степановна сидела на краешке стула и помешивала сахар в чашке, вся в почтительном внимании – Николай Иванович попусту к себе не приглашал.
Ведя неспешный разговор о том, о сём, о погоде и всякой всячине, Бестужев наконец поинтересовался, знает ли она такого художника Сидорова. Хотя смешно сомневаться, уж управлению-то культуры наверняка известны все местные художники наперечет. Выяснилось, что Раиса Степановна услышала об этом человеке совсем недавно, и ни разу не видела его в лицо, а работы его можно увидеть в художественном салоне Потаповых. «Чем же он знаменит, этот Сидоров?» – спросил Бестужев. Раиса Степановна отвечала не сразу, делая глоток из чашки.
– Николай Иванович, в связи с чем такой интерес? – спросила она.
– Да так, проверяем информацию.
– А, понятно. Я не считаю, что этот Сидоров знаменит. И вовсе он не художник, а, говорят, обычный работяга. В свободное время от нечего делать рисует портреты, причем, по-дурацки, по-ненормальному. Как говорится, в семье не без урода.
– То есть он художник не профессиональный, любитель, – уточнил Бестужев. – В чем же его ненормальность? Берите печенюшку, Раиса Степановна.
– Спасибо, Николай Иванович, я мучного стараюсь поменьше есть… Как вы считаете, нормально ли это и художник ли человек, если он рисует не карандашом и не кисточкой. А кое-чем другим.
– Чем же? Вы меня интригуете, Раиса Степановна.
– Как бы поделикатнее выразиться… В общем, уриной он рисует, уриной. А по-русски – мочой! Не к столу будет сказано, уж простите меня.
– Разбавляет краску, что ли? – удивился Бестужев. – Да разве так бывает? Это же извращение какое-то.
– В том-то и дело: какой он художник? Извращенец он, а не художник. Но вы еще не до конца поняли, Николай Иванович. Я же говорю, он рисует не карандашом и не кисточкой.
– А чем?
– Гениталией своей, вот чем. Мне стыдно и противно это произносить.
Бестужев пытливо на нее посмотрел.
– Я в своем уме, Николай Иванович, не беспокойтесь. – Раиса Степановна коротким, смущенным смехом попробовала сгладить неловкость.
– Мне нужно взглянуть на картины Сидорова, – сказал Бестужев. – Пожалуйста, предупредите художественный салон, что я завтра к ним приеду. Впрочем, предлагаю поехать вместе.
* * *
Линии рисунков были чуть размыты, словно чернила на промокашке, но если отойти подальше, портреты смотрелись вполне натурально и прилично. Один из семи портретов в особенности притягивал к себе – лицо молодой, красивой женщины застыло в ироничной, недоверчивой улыбке. И эта женщина, хозяйка художественного салона, сейчас стояла рядом с Бестужевым. В зале прохаживались редкие посетители.
– Откуда такая уверенность, что портреты выполнены… извращенным образом, – с недоумением задал вопрос Бестужев, как будто самому себе.
– Да вот же Анастасия Сергеевна прямой этому свидетель, – с готовностью откликнулась Раиса Степановна.
– Неужели? Вы видели, как это делается? – обратился Бестужев к хозяйке салона. – Наблюдали за процессом?
– Нет, сам процесс был культурно прикрыт. – Анастасия Сергеевна звонко рассмеялась. – Но почему-то я опять слышу разговоры про какую-то извращенность. Разве портреты не прелестны? Ну, скажите, Николай Иванович. Разве не так?
– Портреты как портреты, я потому и удивляюсь.
– Правильно. Неужели так важно, каким образом они выполнены? Важен результат. И вы не представляете, какой громадный интерес у посетителей вызывает уринальная выставка. Это сейчас здесь пока затишье, а буквально через полчаса подойдет одна группа, потом другая…
– Нет уж, все-таки лично я предпочитаю классику, – осуждающе вставила Раиса Степановна.
– Классику у нас тоже любят смотреть. Экспозиция салона самая разнообразная, на любой вкус, – подхватила Анастасия Сергеевна.
– Погодите, погодите. – Бестужев постарался сразу пресечь нежелательную полемику. – Я далеко не специалист в изобразительном искусстве, но насколько понимаю, это же снимки? То есть портреты сначала делают, а потом фотографируют. А на чем непосредственно рисуют, Анастасия Сергеевна?
– Вадима Ивановича нарисовали на снегу под открытым небом. А меня – у художника в мастерской. Но какой материал использовали, затрудняюсь сказать – соль, сахар, а может сода.
– Сода, говорите? – Губы Бестужева сами по себе растянулись в широкую, хитроватую улыбку. – Вы меня извините, но у меня со вчерашнего дня какое-то странное впечатление, что меня разыгрывают, словно первого апреля, и день этот затянулся. Разводят, извините, как последнего лоха. А, Раиса Степановна?
– Да Боже упаси, Николай Иванович. Как вы могли так подумать? – отпрянула она. – Но вообще-то я вполне допускаю, что и меня разводят. Я за что купила, за то и продаю. Сама я ничего не видела.
– А вы, Анастасия Сергеевна? Вы же тоже ничего не видели, поскольку сам процесс, как вы выразились, от вас культурно прикрывали, – сказал Бестужев.
– Процесс я не видела да и не хочу видеть, но результат наблюдала тотчас после завершения процесса, – уверенно утверждала хозяйка салона.
– А фотошоп в этом процессе случайно не участвовал? – Бестужев опять хитровато улыбнулся.
– Нет. Например, мой портрет каким был перед моими глазами в первый раз, таким он сейчас и висит здесь на стене.
– Ничего не поделаешь, бизнес есть бизнес, – зачем-то, печально вздохнув, сказала Раиса Степановна.
– Анастасия Сергеевна, можно с вами пошептаться? Надеюсь, Раиса Степановна на нас не обидится. – Бестужев деликатно взял красавицу под локоток и отвел в сторонку. – Как найти этого необычного художника? Можете дать его координаты?
– Я так и знала. Вы не первый, кто обращается ко мне с такой просьбой. И всем мне приходится говорить одно и то же: сам Анатолий Петрович Сидоров лично никогда ни с кем не общается. Все контакты – через его ученика Виктора Алексеевича Рюмина.
– Что из себя представляет этот Рюмин?
– Он тоже художник, как бы подмастерье у Анатолия Петровича.
– Телефончик его можно?
Они уткнулись в мобильники. Бестужев забил номер, продиктованный хозяйкой салона.
– Вы говорите, многие интересуются этим Сидоровым? – спросил он.
– Да, звонят постоянно.
– А зачем?
– Журналисты звонят понятно зачем, а вот другие… Наверное, хотят пообщаться с уникальным человеком.
– Может, и портрет заказать?
– Не исключаю.
– Передавайте от меня привет Вадиму Ивановичу. Мы как-то с губернатором у него на заимке отлично на снегоходах погоняли.
* * *
Бестужев позвонил Рюмину.
– Здравствуйте, ваш номер мне дала Анастасия Сергеевна.
– Слушаю вас, – отозвался спокойный мужской голос.
– Мне бы хотелось увидеться с Анатолием Петровичем Сидоровым.
– К сожалению, это не получится. Может быть, я на что сгожусь? В чем вопрос?
– Мне хотелось бы заказать у Анатолия Петровича портрет, – сказал Бестужев. – Что нужно сделать для этого?
– Прежде всего, заплатить гонорар. Стопроцентная предоплата наличными.
– Сколько?
– Семьдесят тысяч.
На языке у Бестужева завертелось «Вы там очумели совсем?», но он сдержался и даже пошутил:
– Надеюсь, не в долларах?
– В рублях. После предоплаты мы вам назначим день и время, когда Анатолий Петрович будет готов сделать с вас портрет.
– Но согласитесь… э-э-э… Виктор Алексеевич, цена слишком высокая, нереальная. Заоблачная какая-то.
– Как хотите. Мы вас не заставляем.
Возникла пауза. Бестужев понял, что разговор сейчас оборвется.
– Хорошо, – поспешил он прервать молчание. – Что входит в стоимость портрета?
– Как обычно, непосредственно изображение, его печать на холсте, покрытие холста лаком, натяжка на подрамник, оформление в раму.
– Мне нужно взглянуть на место, где будет творить художник.
– Всё будет происходить в художественной мастерской. Место вполне приличное, – успокоил Виктор Алексеевич.
– Тем не менее, мне надо обязательно посмотреть. Дело в том, что портрет нужен не с меня, а с другого человека. А мне надо доложить руководству: сколько, где и как.
Рюмин не стал возражать.
Они встретились у торгового центра «Юбилейный», прошагали через арку во двор, вошли в один из подъездов, поднялись на последний шестой этаж и очутились в просторной художественной мастерской, залитой веселым весенним солнечным светом через огромные окна и стеклянный потолок. Рюмин оказался мужиком интеллигентного вида, вежливым и деликатным, лет немного за сорок, может, чуть помладше Бестужева. Не тратя времени даром, Рюмин объяснил Николаю Ивановичу, где здесь монтируется короб с заменителем снега, куда встает портретируемый, сколько времени займет творческий акт – одна, от силы две минуты.
– Всё замечательно и понятно, вот только цена не радует, – посетовал Бестужев. – Почему так дорого-то? Это же грабеж средь бела дня.
– К сожалению, ничего не могу поделать. Анатолий Петрович высоко ценит свой талант и на меньшее не согласен, – развел руками Рюмин. – Поищите дешевле, не вижу проблемы.
«Издевается», – констатировал Бестужев. Он перебирал варианты воздействия на наглеца, чтобы тот был сговорчивее, но никак не мог ни за что зацепиться. Применить административный ресурс? Однако этих орлов и ухватить-то не за что ни налоговой, ни полиции. Пугануть братвой? Но попробуй братве растолковать, что требуется, они тебя за придурка примут.
– Как насчет качества? Вдруг нам не понравится? – спросил он.
– Качество гарантируем, недовольных еще ни разу не было. Заключим трудовой договор на создание живописных работ. У нас всё по-честному.
– Ладно, сбросьте мне на электронную почту договор. – Бестужев протянул ему визитку. – С деньгами порешаем.
* * *
Бестужев подготовился к докладу и собирался уже было идти к шефу, как тот вдруг сам его срочно вызвал. В кабинете за длинным столом сидели несколько человек из «близкого круга» губернатора. Обсуждался предстоящий неофициальный визит Карнаухова, который буквально на днях должен был прилететь. За каждым из сидящих была закреплена своя зона ответственности: кто-то отвечал за охоту и рыбалку, кто-то за баню и застолье, кто-то за транспорт и гостиничные апартаменты. Людям это дело было не в диковинку, но губернатору хотелось исключить малейшие накладки.
– Как у тебя с художником? – спросил он Бестужева.
Николай Иванович чуть помедлил с ответом.
– Всё нормально, – сказал он. – Но разрешите о деталях доложить отдельно.
Когда совещание закончилось, и они остались вдвоем, Бестужев подробно изложил ситуацию.
– Семьдесят тысяч? – поразился губернатор. – Портрет из золота, что ли? Хорошо ребята устроились. Мне бы такую работёнку. Тут порою ночами не спишь, весь в заботах, а этот крендель не сеет, не пашет, елдой помахивает и горя не знает. Коля, им надо укорот сделать, пусть не борзеют.
– Думал я уже, с какого боку их прихватить, – сказал Бестужев. – Но проблематично. Как бы вообще всё дело не запортачить. У них ведь на все мои уговоры один ответ: не хотите, как хотите. А ведь мы хотим. Да и что с них взять. Я справки навел. Сам художник работает сторожем в детском садике, а его напарник вместе с женой торгует обувью на базаре. Конечно, художника из сторожей можно уволить, но его этим вряд ли напугаешь, если он свои картины за такие бешеные бабки рисует. Напарника можно проверкой по налогам напрячь. Но опять же, что это даст? Они ведь могут психануть, и тогда не видать Карнаухову своего портрета.
– А он что, этот Сидоров, такой незаменимый? – спросил губернатор.
– В том-то и дело, что он один такой уродился. Этим они, паразиты, и пользуются.
– Расстраиваешь ты меня, Коля, – сказал губернатор, закуривая. – Нам никак нельзя допустить, чтобы художник психанул. Выходит, что придется платить.
– Деваться некуда, – подтвердил Бестужев. – Потом с ними разберемся.
– Ты бы дал мне взглянуть на эти чудо-портреты. Сфотографировал бы их, что ли.
– Зачем фотографировать? Они же есть в Интернете. – Бестужев придвинул к себе губернаторский ноутбук и через минуту вернул его обратно. – Вот, полюбуйтесь.
«Листая» портреты, губернатор задумчиво произнес:
– Странно, в Интернете они есть, значит, всем всё известно. Но непонятная тишина вокруг, будто тайна какая-то.
– И у меня похожее ощущение, – подхватил Бестужев. – Я почему не стал сегодня при всех докладывать? Стыдно мне! Не хочется позориться. Кажется, что если начнешь при людях всерьез обсуждать эту хрень, тебя посчитают дебилом. Возможно, такие мысли не только у меня.
– Да, возможно, – согласился губернатор. – Но ты можешь мне объяснить, на кой ляд Владиславу Евгеньевичу, обласканному на самом высоком уровне, человеку, от которого зависит судьба многих уважаемых людей и который не привык заниматься ерундой, зачем ему этот уринальный портрет?
– Сам не могу взять в толк, – признался Бестужев.
* * *
Сначала прилетел референт Карнаухова. На первой же встрече с губернатором он сообщил, что всякие там охоты, рыбалки и прочие увеселения отменяются в связи с недостатком времени у Владислава Евгеньевича. В представленной губернатором программе были вычеркнуты все пункты, кроме одного – «Встреча с художником Анатолием Сидоровым».
Референту вместе с двумя прилетевшими с ним высокими, статными молодцами требовалось непременно осмотреть мастерскую художника на предмет безопасности. Бестужев немедленно вызвонил Рюмина, изъявил готовность передать деньги и обговорить назавтра время сеанса, для чего необходимо встретиться в мастерской.
– Да зачем именно в мастерской? Давайте где-нибудь пересечёмся, – предложил Рюмин.
– Нет, только там, – твердо сказал Бестужев. – Мне нужно еще кое-что там посмотреть. И очень прошу обеспечить присутствие Анатолия Петровича.
– А это зачем?
– Я отдаю немалую сумму и хочу наконец-то увидеть того, кому деньги предназначены. Договорились?
– Постараюсь его уговорить, но не гарантирую, – недовольно промямлили в трубке.
Когда они вшестером нагрянули в мастерскую (к москвичам присоединились товарищ из местных органов и участковый), Бестужев с удовлетворением наблюдал на лице Рюмина удивление и замешательство. Но ни тени испуга, негодяй, не выказал. Москвичи рассредоточились по помещению, исследуя его закоулки, а товарищ из органов попросил у Рюмина документики.
– Паспорт с собой не ношу, водительские права – пожалуйста, – сказал Рюмин. И спросил у Бестужева: – А в чем дело-то?
– Ничего страшного, так, необходимые формальности, – ответил Бестужев. – Что-то Анатолия Петровича не вижу. Где он?
– Его не будет сегодня.
– Виктор Алексеевич, почему вы здесь и что делаете? Где настоящие хозяева мастерской? – поинтересовался товарищ из органов.
– Мастерская принадлежит моему другу Володе Климачёву. Он сейчас в отъезде. Иногда дает мне ключи, чтобы я мог здесь поработать, – спокойно объяснил Рюмин. Обращаясь к Бестужеву, он сказал, всем своим видом выражая сожаление: – Наверное, зря весь этот… кипиш. Анатолий Петрович неважно себя чувствует.
– Вы решили нас шантажировать? – не выдержал Бестужев.
– Ну вот, сразу шантаж. Любой из нас может заболеть, все под Богом ходим, – заскучал Рюмин.
– Ладно, ладно, не обижайтесь, Виктор Алексеевич, уж и пошутить нельзя. – Обеспокоенный Бестужев выдавил из себя улыбку. – Давайте пройдем в укромное местечко, потолковать надо.
Они вдвоем переместились в кухонный закуток.
– Поймите, Виктор Алексеевич, это очень важная персона, поэтому приходится предпринимать все необходимые предосторожности согласно регламенту, – тихо и значительно произнес Бестужев.
– Неужели это президент Соединенных Штатов? – спросил Рюмин.
– Очень прошу вас отнестись со всей ответственностью к завтрашнему мероприятию, – продолжал Бестужев, стараясь не обращать внимание на зубоскальство наглеца. – Лукавить не буду, от этого зависит, насколько спокойно мы с вами будем жить дальше. Бывают в жизни моменты, которые определяют судьбу. Вы понимаете?
– Нам бояться нечего, мы свое дело знаем. И деньги отрабатываем на совесть, – уверенно сказал Рюмин.
– Вот и славно. Но мое дело предупредить.
На кухонном столе был подписан договор в двух экземплярах. Бестужев отдал деньги, и они расстались до завтра.
* * *
Самолет с Карнауховым приземлился к о б ед у.
Бестужев присутствовал в губернаторской свите, встречающей высокого гостя в аэропорту. Он не раз видел Карнаухова по телевизору, восседающего на важных правительственных совещаниях рядом с первыми лицами, но сейчас, в живую, молодость Владислава Евгеньевича, одетого в пуховичок, в джинсики, особенно бросалась в глаза. Пацан! Какой-то белобрысый пацан спускался почти бегом по трапу навстречу солидным, серьезным мужикам, спешащим пожать ему руку.
Бестужев знал от губернатора, что первоначально Карнаухов сразу из аэропорта хотел ехать к художнику, а от него обратно в аэропорт. Однако губернатор, калач тёртый, никак не мог такое допустить. Во-первых, это было бы проявлением оскорбительного неуважения по отношению к нему лично и его унижением в глазах подчиненных. Во-вторых, был у губернатора свой отдельный интерес к неформальному общению с молодым московским сановником: очень он надеялся заручиться у Карнаухова поддержкой в получении из федерального бюджета денег на региональные инвестиционные проекты. Поэтому он велел Бестужеву договориться с художником на шесть часов вечера, чтобы пока Карнаухов ждет, пока то да сё, можно было бы ввести его в курс экономического положения, сложившегося в регионе, и обосновать крайнюю необходимость в федеральной поддержке.
В ожидании шести часов Бестужев не находил себе места. Ответственность, возложенная на него, была огромная, а у него не получалось, как он привык, контролировать ситуацию. Его бесило то, что художник и его напарник совершенно от него не зависели. В любое время Рюмин мог ему позвонить и сказать: ой, извините, мол, ничего не получается, Анатолий Петрович недомогает, типа, струя ослабла, деньги готовы вернуть. И всё, с них как с гуся вода, ничем их не прижмешь. И как тогда ему в глаза губернатору смотреть? Это будет катастрофа!
Бестужев сам позвонил Рюмину, постаравшись, насколько мог, окрасить голос нотками теплоты и доверительности:
– Как готовность, Виктор Алексеевич? Всё нормально?
– У нас всё по плану, – отозвался невозмутимо Рюмин. – Еще раз напоминаю, что опаздывать категорически нельзя, у нас выверена каждая минута. Творческий акт завязан на физиологии, а у нее, сами понимаете, свои законы. Лучше приезжайте пораньше, но никак не позже.
– Уж за нас-то не беспокойтесь, – заверил Бестужев, а сам забеспокоился, как бы губернатор с Карнауховым не поменяли планы и не забухали. На памяти Николая Ивановича случалось и такое.
Убивая время, весь как на иголках, Бестужев то и дело наведывался в губернаторскую приемную, где секретарши докладывали ему обстановку. После обеда губернатор с Карнауховым уединились в кабинете. Потом туда были вызваны заместитель по экономическому развитию и заместитель по инвестициям. Двадцать минут шестого Бестужев зашел к губернатору и сообщил, что пора выдвигаться. Как он и рассчитывал, минут десять они завершали разговор и одевались. В художественную мастерскую выехали вовремя, Бестужев перевел дыхание. Теперь ему оставалось сделать всё, чтобы «творческий акт» прошел благополучно.
Поехали на двух машинах. Референт с охраной – на одной впереди, губернатор, Карнаухов и Бестужев на бронированном джипе – за ними. Шеф пребывал в приподнятом настроении, да и гость не скупился на улыбку. Всё-таки они замахнули по маленькой, догадался Бестужев. На заднем сидении за его спиной губернатор делился с гостем премудростями выслеживания кабана и настоятельно рекомендовал в следующий приезд поохотиться в здешних лесах: «Владислав Евгеньевич, это будет сказка, уверяю вас!».
В мастерской их встретил Рюмин – энергичный, обаятельный, пахнущий дорогим одеколоном, одетый в ярко-желтую, цвета яичного желтка, толстовку. «Артист, блин», – с неприязнью подумал Бестужев. Отвечая на рукопожатия, Рюмин извинился и предложил немного подождать.
– Всё нормально? – испытующе вглядываясь в него, спросил губернатор.
– Сделаем, как надо. Вы пока присядьте или можете картины посмотреть.
– Покажите, где и как всё это будет происходить, – попросил Бестужев.
– Пожалуйста. – Рюмин завел их в угол зала, отгороженный мольбертом и установленной под ним ширмой. На полу было сооружено нечто квадратное в виде детской песочницы, заполненной каким-то белым порошком.
– Что там насыпано? – спросил Бестужев.
– Это заменитель снега, – коротко ответил Рюмин, не вдаваясь в подробности. – Ко всем огромная просьба во время творческого акта сюда не заходить и вообще не заглядывать. У нас был случай, когда это правило было нарушено, и Анатолий Петрович взял и просто ушел, неловко получилось. В общем, в каждой избушке свои погремушки, уж извините.
«Ох, погоди, я покажу тебе кузькину мать, дай только гостя в самолет посадить», – подумал Бестужев.
– Ишь ты, как тут всё серьезно, – произнес губернатор с несвойственной ему дурашливой ухмылкой. – Творческий акт, говоришь? Ну-ну, хорошо еще, что акт творческий, а не какой-нибудь другой.
Вместе с Карнауховым они на пару громко рассмеялись и двинулись смотреть картины, развешанные по стенам. Карнаухов был немногословен и взирал вокруг себя со снисходительной невозмутимостью. «Вот гад московский, – крутилось в голове у Бестужева. – Исключительно из-за него мы этой чушью занимаемся. А ведь это дело личное, частное. Хочешь свой портрет? Иди к художнику и заказывай, плати из своего кармана. Нет, ему надо обязательно через нас, лишь бы на халяву».
Рюмин в это время уже говорил по телефону:
– Вы где? Поднимаетесь? Хорошо, Анатолий Петрович. Не беспокойтесь, мы уже готовы.
Он сунул мобильник в карман и быстрым шагом подошел к лежащему на паркете перед мольбертом полосатому коврику, предназначение которого Бестужев понял только теперь.
– Прошу вас встать на этот пятачок, – обратился он к Карнаухову, указав обеими руками, словно стрелами, на коврик. – Смотреть надо в сторону мольберта. И огромная ко всем просьба во время сеанса воздержаться от разговоров.
Карнаухов неторопливо, сохраняя достоинство, встал на коврик.
– Что дальше? – спросил он.
Запиликал дверной звонок. Рюмин бросился открывать. В мастерскую вошел мужичок невысокого роста. Бросив всем короткое, деловитое «здрасте», на ходу снимая куртку, он прошагал мимо настороженного охранника в отгороженный угол.
– Анатолий Петрович, можно приступать, – объявил Рюмин.
– Погоди чуток, – отозвались за ширмой.
Все замерли в ожидании.
– Сейчас раздастся барабанная дробь, – сказал Карнаухов, переминаясь на коврике.
– И начнется цирковое представление, – подхватил губернатор.
Над мольбертом возникла физиономия Анатолия Петровича – простецкая, даже совсем не имеющая каких-либо следов вдохновения и творческой отрешенности, подобающих художнику. Он был похож на слесаря, который на днях менял дома у Бестужева кухонный смеситель.
– Ничего не поделаешь, процесс приходится организовывать, как любое мероприятие, без этого никак, – рассуждал Рюмин. Он встал возле мольберта перед Карнауховым. – Вы, главное, смотрите в мою сторону, пожалуйста. Вообще творческий акт напоминает обычное фотографирование, только несколько замедленное. Больше времени занимает подготовка, но это уж наши проблемы.
– А это не больно? – спросил губернатор под общий смех.
– Готово! – раздалось громко за ширмой.
– Всё, спасибо, пойдемте посмотрим, – сказал Рюмин.
– Уже? – удивился Карнаухов. Он вдруг посерьезнел и порозовел от волнения.
Они прошли в отгороженный угол и склонились над «песочницей». Рюмин попрыскал над собой освежителем воздуха, запахло сиренью.
– Владислав Евгеньевич, а ведь вы здесь как две капли, один к одному, очень даже похожи, – сказал губернатор.
«Действительно, никакой фотошоп не нужен», – подумал Бестужев, глядя на изящный, четко выведенный рисунок.
– Да, похож, – согласился Карнаухов. – Когда будет готов окончательный вариант?
– Завтра, – ответил Рюмин.
– Завтра же портрет вам и отправим, – сказал губернатор. – Николай, оформи всё, как надо.
– Сделаем, – откликнулся за его спиной Бестужев.
– А где художник? – спросил Карнаухов. – Хотел его поблагодарить.
– Анатолий Петрович ушел. Он человек скромный и занятой, – сказал Рюмин.
– Догнать его, Владислав Евгеньевич? – подался было к дверям референт.
– Не надо. – Карнаухов протянул руку Рюмину. – Передайте ему моё огромное спасибо.
– Обязательно.
* * *
Карнаухова благополучно проводили в аэропорт.
На другой день Бестужев обратился к Рюмину с настоятельной просьбой дать возможность присутствовать при выборе портретной рамы. «А то подсунете что-нибудь из пенопласта, за такие-то деньги», – пошутил при этом он. В багетной мастерской, куда Рюмин сделал заказ на изготовление портрета, Бестужев выбрал раму самую дорогую, из натурального дерева редкой тропической породы, с золотой лепниной. Забирать готовую картину он приехал лично, чтобы сразу на месте подправить, если что-то не понравится. Однако остался доволен: печать на холсте, покрытом лаком, была четкая, рама сама по себе выглядела произведением искусства, придавая портрету солидность и шик.
Губернатор дал добро, и картина вечерним самолетом улетела в Москву.
Вроде бы, гора – с плеч долой, поручение губернатора успешно выполнено, надо бы перекреститься и забыть, однако Бестужев никак не мог успокоиться. Он чувствовал себя оскорбленным, словно его ни за что ни про что ударили, а он не дал сдачи. Нет, он не привык к такому обхождению. И он не позволит этому прохвосту Рюмину и его подельнику, недоделанному живописцу, так неуважительно к нему относиться и так нагло, беспардонно разводить на деньги порядочных людей. И когда губернатор вызвал его к себе и поинтересовался, «как там поживает наш уринальный художник», Бестужев поделился наболевшим:
– Помню, вы сказали, что этим друзьям надо укорот сделать. Я с вами полностью согласен. Они же плюют на нас! Власть мы или не власть? Руки чешутся по шеям им надавать.
Губернатор помолчал, подумал, потянулся за сигаретой. Рабочий день был завершен, за окнами густели сумерки, шеф сидел без пиджака, без галстука.
– Как сказал классик: «Руки чешутся – чешите в другом месте». – Он добродушно хмыкнул. – Прекрасно понимаю тебя, Николай. И в другое время мы бы так и поступили – заставили бы этих гавриков власть уважать. Но сейчас ситуация диктует другие решения. Заковыка в том, что этот наш художник-писюн Сидоров, оказывается, имеет дикую, ненормальную популярность среди людей, прямо скажем, очень солидных. Причем, популярность скрытую, потому что люди стесняются. Так же, как и мы с тобой. Ты заметил, как Карнаухов затрясся, когда увидел свое изображение? Почему такое восприятие? Почему такая заинтересованность? А фиг его знает. Может быть, мода такая? Мода – это ведь явление стихийное, не поймешь, откуда она берется. Но самое интересное, что Владислав Евгеньевич проникся к нам с тобой нешуточной благодарностью, и это уже дает результаты. Времени прошло всего ничего, а вопрос по индустриальным паркам, над которым я бьюсь не один год, уже сдвинулся с мертвой точки. Завтра я лечу в Москву, поеду по министерствам, и не в роли просителя, а меня там везде ждут. Представляешь? И благодаря чему? Кому? – Губернатор ткнул в пепельницу недокуренную сигарету. – Давай-ка, Коля, по восемь капель примем на грудь. Возьми там в шкафу коньяк.
Бестужев нашел коньяк, рюмки, коробку конфет, пока ставил на стол, пока наполнял рюмки, соображал, пытаясь понять, куда шеф клонит. Чокнулись, выпили.
– Так вот, Коля, хочу тебе дать ответственное боевое задание, – продолжал губернатор, жуя конфету. – Надо с художником и его шустрым приятелем установить тесный и желательно дружеский контакт. Я уверен, что к ним постоянно кто-нибудь приезжает позировать, а мы ничего не знаем. Какие персоны и какого уровня заказывают портреты? Может, они могли бы принести пользу нашей родной области, как Карнаухов. А мы профукиваем этот момент, губами шлепаем. Необходимо взять ситуацию под контроль.
– Сам художник не пойдет на контакт, – сказал Бестужев. – Он во всем доверился племяннику и не вмешивается ни в какие переговоры.
– Тогда надо с племянником отношения налаживать. Расположить к себе. Заинтересовать. Чтобы у него был какой-нибудь стимул для сотрудничества с нами. Нам нужна от него только информация. Что, ему трудно тебе позвонить и сказать, что, мол, такого-то числа к нам приезжает такой-то? И пусть рисуют портреты, мы не будем мешать.
– Поперёшный он, этот Рюмин. Мне ведь не зря хочется ему шею намылить, – сказал Бестужев.
– Да, нагловато себя держит хлопец, – согласился губернатор. – Тем не менее, он нам сегодня нужен, и придется как-то найти с ним общий язык. Здесь важно выбрать правильную линию поведения, чтобы их не вспугнуть. Надо выяснить, не собираются ли они уехать из нашей области. Для нас это крайне нежелательно.
– Допустим, они согласятся нас информировать. Какие наши дальнейшие действия? – спросил Бестужев.
– Если какая-то персона нас заинтересует, мы найдем возможность во время ее пребывания здесь попросить нанести визит руководству области. А там мы что-нибудь придумаем. Ты только представь, что Карнаухов приехал бы к художнику частным порядком, а не через нас. Тогда бы с индустриальными парками был бы полный облом, это точно. А сейчас появилась надежда, что всё срастется, и инвесторы будут выстраиваться к нам в очередь. А это, Коля, означает создание новых производств, увеличение в разы количества рабочих мест, совершенно другой, более высокий уровень жизни людей. Мы будем сами зарабатывать деньги, а не жировать, как некоторые, на дармовых нефти и газе. Давай, наливай еще по рюмашке да по домам поедем, мне завтра рано вставать.
* * *
Что же, ситуация поменяла ракурс. Но Бестужеву не привыкать – приходилось решать задачки и посложнее. И всегда предварительную подготовку он разбивал на три этапа: сбор информации, ее кропотливый анализ и принятие решения. А потом уже непосредственное исполнение, которое никем и ничем не остановить – напролом, волевое, «прочь с дороги, куриные ноги!», с применением всех необходимых средств.
Первое, что он сделал – пообщался с Раисой Степановной, затем вместе с ней наведался в местный Союз художников, к председателю. Многое узнал о Рюмине, даже то, что Раиса Степановна, оказывается, была когда-то его женой. Чего только в жизни не бывает. Следующий день ушел на то, чтобы обмозговать услышанное. Еще день он ждал возвращения губернатора из Москвы. Шеф вернулся довольный, крайне заинтересованно ознакомился с планами Бестужева и одобрил их. Только после этого Николай Иванович позвонил Рюмину.
– Слушаю вас, – раздался в трубке громкий, развязный голос, от которого Бестужева передернуло.
– Добрый день, Виктор Алексеевич. Это вас беспокоят из правительства области, помощник губернатора Бестужев Николай Иванович, – задушевно запел Бестужев, смиряя гордыню. – Дело в том, что у меня к вам есть очень серьезный разговор, и если вас не затруднит, я бы попросил вас ко мне зайти. Хорошо бы завтра. Мы бы договорились о времени, и я бы вас встретил на входе.
В ответ Рюмин захохотал – как-то радостно, издевательски.
– К сожалению, затруднит, – сквозь смех услышал Бестужев. – Дело в том, уважаемый Николай Иванович, что в данный момент я сижу в шезлонге под полосатым тентом на берегу Атлантического океана в Майями-Бич, и в руке у меня запотевшая баночка прекрасного, холодного пива.
– Вот как? – вырвалось у Бестужева, холодок тревоги шевельнулся в его душе. – А что вы там делаете?
– Мы с Анатолием Петровичем в творческой командировке. Боюсь, роуминг съест изрядно денег на моем телефоне. Прилетайте лучше вы к нам во Флориду.
– Надолго вы там?
– Еще пару дней здесь потусуемся. А что случилось?
– Ничего особенного. Просто надо поговорить. Я дождусь вашего приезда.
– Как вам будет угодно, – сказал Рюмин и первым бесцеремонно отключил свой телефон. Денег пожалел, подлец, денег у него мало.
Через три дня он неожиданно позвонил сам.
– Николай Иванович, мы уже дома. Вы хотели поговорить. Наверное, опять заказ? Я слушаю вас.
– Нет, нет, это не телефонный разговор, – ответил Бестужев, а сам подумал: «Ишь ты, опять с нас денег надеется содрать».
Они условились о встрече. В назначенный час Бестужев встретил Рюмина в вестибюле здания областного Правительства и провел в свой кабинет.
– Чай? Кофе? – спросил он.
– Спасибо, к сожалению, некогда мне чаи распивать, работа ждет, – сказал Рюмин. – Вы хотели что-то сказать?
– Хотел сказать, что вам идет атлантический загар.
– Благодарю.
Бестужев уселся за стол в чиновничье кресло, жестом приглашая Рюмина сесть на стул напротив. Рюмин сел и оказался, как бы, в роли просителя или подчиненного, что ему явно не понравилось. Он закинул ногу на ногу и спросил:
– Курить-то можно?
– Курите, я потом проветрю, – сказал некурящий Бестужев. – Виктор Алексеевич, давайте сразу договоримся, наш разговор строго конфиденциальный. Пусть каждое слово останется между нами. Хорошо?
– Мне уже страшно, Николай Иванович.
Что у вас приключилось?
– Договорились?
– Ладно, я умею хранить тайны. Выкладывайте, – сказал Рюмин, закуривая.
Бестужев вдруг засмеялся, сокрушенно качая головой.
– Я сказал что-то смешное? – удивился Рюмин.
– Нет, я так. Просто любуюсь вами.
– Да что вы говорите! – Рюмин иронично выпустил в потолок струю дыма и демонстративно взглянул на часы.
– А если серьезно, – и Бестужев разом посерьезнел, нахмурил брови, – то скажите, Виктор Алексеевич, вы ведь родились в этом городе?
– Да, здесь я родился, крестился, закончил школу, женился, потом уехал учиться в Суриковское, потом вернулся и живу здесь по сей день. А что?
– Надеюсь, вы патриот своей малой родины? – поинтересовался Бестужев.
Рюмин молча курил, пытливо поглядывая на него. Потом спросил:
– У вас пепельница есть?
Бестужев достал из ящика стола целомудренно чистую хрустальную пепельницу.
– Как метко выразился один великий классик: «На патриотизм стали напирать…», – сказал Рюмин и замолчал, загадочно улыбаясь.
– …Видимо, проворовались, – закончил за него Бестужев. – Не только вам доводилось читать Салтыкова-Щедрина. Зачем цитировать больного, желчного, озлобленного на весь белый свет человека, который видел вокруг себя только плохое? Виктор Алексеевич, давайте о хорошем. Вы ведь прекрасный художник, насколько я знаю?
– Не мне судить, – с некоторым удивлением ответил Рюмин. – Вы разве видели мои картины?
– Представьте себе – да, видел. Я ознакомился с альбомами «Город на холсте» и «Художники родного края в собрании художественного музея». Да вот же они. – Бестужев встал, взял с полки альбомы и положил перед Рюминым. – Из всех представленных здесь картин, ваши работы, на мой субъективный взгляд, да и не только мой, самые яркие и талантливые.
Рюмин затушил сигарету.
– Бог ты мой, когда это было! – произнес он с ноткой грусти, перелистывая цветные, глянцевые страницы. Заметно было, что он тронут. – Где вы их откопали?
– Места надо знать, – засмеялся Бестужев. – И я подумал… Вернее, мы подумали, поскольку я говорю не только от своего имени: а что, если вам провести персональную выставку своих работ? Так сказать, подведение итогов двадцатилетней творческой деятельности. Или тридцатилетней. Вывеску можно придумать.
– Да кто ж мне это позволит? – Рюмин усмехнулся. – Там, как говорится, свои да наши в очередь стоят.
– Не вопрос. Поможем, – заверил Бестужев, в упор глядя на него. – А чтобы хорошенько подготовиться к персональной выставке, вам нужна своя художественная мастерская. Так?
– Ну, это уже на грани фантастики.
– Для нас не фантастика. Решим и это. Не против?
С минуту они безмолвно смотрели друг на друга.
– Николай Иванович, никак не могу объяснить вашу внезапную щедрость, – нарушил молчание Рюмин.
– Легко объяснить. Государство определило культуру приоритетным направлением, поставлена задача поднять, разбудить культуру в регионах. Вот мы и рассчитываем на плодотворное сотрудничество с вами, как человеком творческим, талантливым. Необходимо встряхнуть творческие союзы, в том числе и Союз художников. Нужна, как говорится, свежая, молодая кровь. Чего таить, обленились некоторые руководители, забронзовели. Нам нужны личности, способные создать условия для креативных людей. Очень на вас надеемся.
Рюмин в задумчивости почесал затылок.
– Прекрасно вас понимаю, Николай Иванович. Я эту тему уже сто раз думал-передумал. Очень хорошо, что у нас конфиденциальный разговор, и можем говорить откровенно. Вот скажите мне: мы ведь живем при капитализме?
– Получается, что при капитализме, – согласился Бестужев. – И что?
– Капитализм – это такая безжалостная система, которая ориентирована на деньги. Чем больше у меня денег, тем больше шансов выкрутиться из всяких жизненных передряг да и вообще физически выжить. Согласны?
– Есть логика, – кивнул Бестужев. – И что?
– А вы мне предлагаете работу за копеечную зарплату.
– Да какая это работа, это скорее общественная нагрузка. В свободное время пишите на здоровье свои картины, – сказал Бестужев.
– Писать картины, которые никому не нужны? Сводить концы с концами? Нет, это не по мне.
– И мастерскую вам не надо? – спросил Бестужев.
– Если надо будет, я её просто куплю. И никому не буду чем-то обязан.
– Да уж, Виктор Алексеевич, избаловал вас уринальный художник Сидоров. Хорошо ли на чужой шее сидеть?
– Это бизнес, Николай Иванович. Мы же при капитализме живем.
Бестужев помолчал, барабаня пальцами по с толу.
– Ладно, не хотите, как хотите, – сказал он. – Но вы же видите, что мы к вам со всей душой и желаем только добра. Надеемся, что и вы на нас зла не держите?
Рюмин пожал плечами:
– Мне, вроде бы, нечего с вами делить.
– Ну и славненько. У нас к вам небольшая просьба, Виктор Алексеевич. Насколько нам известно, к Анатолию Петровичу на сеанс приезжают самые разные люди. Некоторые из них могут быть очень известными, и мы можем попасть в неловкое положение, когда обнаружится, что какая-то знаменитость побывала в нашем хлебосольном крае, а мы не оказали должный прием. Я был бы вам чрезвычайно благодарен, если бы вы, Виктор Алексеевич, звонили мне и сообщали, кто там у вас уринальный портрет заказал, чтобы мы вовремя отреагировали. Не за себя прошу, за нашу родную область.
Часть III
Сидоров не сразу привык к большим деньгам. Он любил приговаривать: «Не жили богато и не хрен начинать». Ему непременно хотелось реанимировать свою убитёхонькую «шестёрку». Он считал, что если перебрать движок, расточить цилиндры, заменить «поршня» и шлифонуть коленвал, то машина перестанет дымить и еще поездит не один год. Богема чуть ли не за руку притащил его в автосалон и чуть ли не под дулом пистолета заставил купить недорогую иномарку. «Шестёрка» некоторое время пылилась во дворе, пока Сидоров по пьяни не раздухарился и не отдал ее соседу за литр водки.
Маруся, напротив, мигом заценила внезапное, сумасшедшее пополнение семейного бюджета и была охвачена шопинговой лихорадкой. Она заставляла мужа возить ее по магазинам, ходила, высматривала и покупала, по мнению Сидорова, всякую ерунду. Например, купила мужу кучу трусов. Зачем ему столько? Всегда хватало двух: одни на нем, другие в стирке. Нет, Марусе обязательно надо, чтобы трусов у него было много, да и стирать их удобнее все скопом. И вообще она решила мужа приодеть, чтобы он выглядел приличным, культурным человеком, поскольку он сейчас, как-никак, известный художник и общаться ему приходится с людьми непростыми. Она купила ему шикарный костюм-тройку, несколько галстуков.
– Зачем это мне? Художники не носят костюмов, – возмущался Сидоров.
– А вдруг тебе пригласят на банкет или фуршет? – рассуждала Маруся. – Ты что у меня, хуже людей?
Еще она купила ему две штуки джинсов, несколько модных рубашек, три ветровки, десяток пар носков, новую электробритву, дорогой одеколон.
Исходя из своих представлений о художниках, она упросила мужа отрастить длинные волосы. Подумывала о бороде, но потом отказалась от этой мысли, решив, что с бородой Сидоров будет похож на бомжа.
Предположив, что к ним домой могут нагрянуть солидные гости, Маруся задумала сделать в их обветшалой хрущёвке основательный ремонт. Сидоров был не против взяться за дело. В девяностые, когда на заводе не платили зарплату, он зарабатывал на жизнь ремонтом чужих квартир, и умел штукатурить стены, клеить обои, класть плитку. Он уже было засучил рукава, но Витя-племянник поднял его на смех. И Маруся тут как тут, барыней стала. Зачем самому, мол, ковыряться месяц, а то и больше, если можно элементарно заплатить, и наемная бригада всё сделает быстро и качественно? И действительно. Сидоров ходил курить на балкон мимо мужиков, старательно делающих работу, которую раньше делал бы он. «Всё правильно, каждый должен выполнять в обществе свою функцию: я – помахиваю, они – штукатурят», – философствовал он, лениво поплевывая с пятого этажа.
Работа сторожем в детском саду нисколько его не тяготила, хотя он мог ее запросто бросить без финансового для себя ущерба. Однако вновь оказаться официально безработным Сидорову было бы унизительно и неуютно.
По сравнению с «доуринальным» периодом теперешняя жизнь Сидорова приобрела расслабленный, праздный характер. Он никуда не торопился, после обеда взял за привычку полчасика подремать. Маруся его вкусно кормила, она прониклась к мужу уважением, ни в чем ему не перечила, старалась угодить.
В безмятежном времяпрепровождении любимым занятием Сидорова оставалось бродить по извилистым и бесконечным паутинным коридорам Интернета. Часами он мог сидеть перед ноутбуком. Вокруг было тихо и спокойно, люди размеренно день и ночь занимались своими скучными делами в то время, как в Интернете ежесекундно пульсировала, грохотала, била неиссякаемым ключом яркая, насыщенная событиями жизнь. Сидоров словно погружался в гигантский, непостижимо сложный космический мозг, ощущая себя частицей этого мозга.
А Витя с некоторых пор начал подмечать, что на Сидорова временами накатывало сумрачное настроение, и он становился хмурым, неприветливым и даже озлобленным каким-то. Поначалу Богема особого значения этому не придавал: мало ли какие бывают семейные неурядицы, или, может, приболел дядя, не такой уж он и молоденький. Хотя в материальном плане, вроде бы, жить стало лучше, жить стало веселее – жена должна быть довольна, а лекарства можно любые купить, пусть и самые дорогие.
И всё бы ничего, и всё бы можно было понять и объяснить, но внешний вид и поведение Сидорова во время творческих актов перестали соответствовать так удачно срежиссированному Богемой спектаклю, в котором перед клиентом-зрителем действовали два героя. Один – помоложе, активный, общительный, обаятельный, ученик, почитающий своего мудрого учителя, преклоняющий голову перед его талантом. Второй – матёрый, седовласый, немногословный, а то и вообще бессловесный, снисходительный к почитанию, добродушный и очень занятой, ему всегда некогда, он всегда спешит куда-нибудь в Карелию или на Занзибар. Теперь же, когда Богема отыгрывал свою роль, создавая в «зрительном зале» атмосферу мандража в ожидании явления Мастера народу, на сцену выходил насупленный, глядящий исподлобья нагловатый мужик с презрительной усмешкой на угрюмом лице. Но мало этого, в некоторых портретах появились черты карикатурности – Сидоров удлинял носы, утяжелял подбородки, лохматил брови, утолщал губы. Это был совсем другой жанр. И хотя нареканий со стороны клиентов пока не случалось, Богема ловил в глазах некоторых из них отсвет недоумения. А это был дурной знак.
Богема наведался к Марусе в магазин. Купил сигарет, то да сё, и как бы между прочим спросил, чем дядя Толя занимается в свободное от трудов время.
– Чем занимается? Сидит весь день, как сыч, в Интернете. Мочёным колом его из-за ноутбука не выгонишь, – ответила Маруся. – И разговоры всё о политике, это ему не так да то ему не этак, жулики, мол, одни вокруг, разворовали матушку Россию. Да еще ничего ему не скажи, сердится, я уж его и не трогаю от греха подальше. И кто придумал этот Интернет дурацкий, ноутбуком бы его по башке.
Картина прояснялась. И когда однажды они остались одни в мастерской, Богема спросил:
– Дядя Толя, что с тобой происходит? Случилось что-то?
– В смысле? Ты о чем? – не понял Сидоров.
– Как там у поэта Некрасова: «Суров ты был, ты в молодые годы умел рассудку страсти подчинять…».
– Чего-чего?
– Посуровел ты в последнее время. Бычишься на клиентов. Они уже боятся тебя.
Ситуацию для разговора по душам Богема выбрал самую подходящую. Они как раз закончили считать деньги. У них сложилась добрая традиция – вместе их считать-пересчитывать. Сначала Витя, потом Сидоров.
– Пусть боятся, – сказал Сидоров, засовывая свою увесистую долю в карман.
– Нет, погоди, дядя Толя, я серьезно. Почему такой настрой? Что произошло?
Сидоров задумался, на его лице отразилась внутренняя борьба: говорить – не говорить?
– Без бутылки здесь трудно разобраться, – наконец произнес он. – Вот были бы мы не за рулями, Витька, хлопнули бы по стакану коньяка, и ты бы меня с полуслова понял.
– Вообще-то я не пью, ты же знаешь. Да ты так скажи, без коньяка. Я пойму, – настаивал Богема.
– Сам я в толк не возьму, что происходит, не могу себя перебороть, – нехотя признался Сидоров. – Есть вопросы, на которые не могу ответить, хоть убей. Почему, например, я раньше на заводе занимался нужным, полезным делом и получал копейки, а сейчас занимаюсь какой-то фигнёй и гребу деньги лопатой? Ну почему?
– Если эта фигня кому-то нужна, то это не фигня, – сказал Богема.
– Да кому нужна-то? – воскликнул Сидоров. – Простой рабочий человек к нам не ходит. Только толстосумам это надо. Они же с жиру бесятся, Витя!
– Пусть бесятся на здоровье. Тебе-то плохо от этого?
– Жаба меня душит! Не могу спокойно на их рожи смотреть.
– Что значит жаба! – возмутился Богема. – Раздави ее каблуком, эту поганую жабу! Это твоя работа, за нее тебе деньги платят. Врач тоже не выбирает, кого ему лечить, а кого не лечить: молодую, красивую девушку или противную каргу-старуху. Он лечит всех без исключения! Или представь, ты приходишь в супер-маркет, набираешь полную тележку продуктов, подкатываешь к кассе, а тебе говорят: «Извините, мы вас обслуживать не будем», Ты, естественно, удивляешься: «Почему это?» А тебе отвечают: «Видите ли, в чем дело, дорогой товарищ, нам рожа ваша не нравится». Или взять, к примеру, проститутку. Думаешь, она только с красавцами любовью занимается? Нет, к ней приходят всякие слюнявые старики, уроды и больные извращенцы…
– Ага, молодец, хороший пример. Меня с проституткой сравнил. Спасибо. – Сидоров скривился в язвительной усмешке.
– А что? Это тоже работа, требующая профессионализма. Да ты не обижайся, дядя Толя! Я же это к тому, что настоящий мастер своего дела всегда выполняет свою работу качественно и с хорошим настроением, не взирая ни на какие рожи. Вот тебе еще один пример. Когда в театре настоящий артист выходит на сцену, он забывает обо всем, что творится за его спиной в повседневной жизни: о том, что жена его дома пилит, что у него сегодня утром зуб болел, что машину поцарапали на парковке или что у него вскочил чирий на заднице. Он живет, он дышит спектаклем! Вот и ты, дядя Толя, должен быть артистом. Кстати, в переводе с английского артист – это и художник, и актер. Англичане далеко не дураки, они понимают, как близки эти профессии. В общем, дядя Толя, давай все наши эмоции и переживания будем оставлять дома, а здесь, на работе, мы должны сиять ярким, радостным светом, как лампочка, как прожектор, как солнце! Договорились? Иначе мы всех клиентов распугаем. Тебе хочется опять без денег сидеть? Ты же хотел, вроде бы, дом в деревне купить, свое хозяйство завести. Уже передумал?
Сидоров, нахмурившись, сопел, думал.
– Тебе легко говорить, а у меня творческий процесс напрямую зависит от моего душевного состояния, – сказал он. – Для меня важно, кого я рисую.
– Опять он за рыбу деньги! – Богема всплеснул руками. – Запомни, для тебя не должно быть важно, кого ты рисуешь! Понятно? Еще раз повторяю: это твоя работа! Думаешь, мне легко языком молоть перед всякими чмороедами? Но я себя пересиливаю. Вот и ты пересиливай себя. Или, может, закроем эту нашу шарашкину контору по производству уринальных портретов, чтобы душу не терзать?
Сидоров молчал, глядя в пол.
– Давай разбежимся. Я готов хоть с завтрашнего дня, – сказал Богема. – Зачем мне стараться, суетиться, ночами не спать, если, оказывается, это всё никому не надо. Прекратим эту, как ты выразился, фигню и горя знать не будем. Давай?
– Ладно, понял я, – произнес Сидоров, тяжело вздыхая.
– Что понял?
– Буду пересиливать себя.
– Ну, наконец-то. Надеюсь, больше к этому разговору возвращаться не будем. И пожалуйста, дядя Толя, умоляю, карикатуры больше не рисуй. Не надо людей обижать.
* * *
Понимая, что с властью лучше не ссориться, поскольку она всегда найдет возможность с изощренной изобретательностью испортить человеку жизнь, Богема, соблюдая договоренность, каждый раз по-честному информировал по телефону губернаторского помощника о том, кто и когда приезжает на сеанс к художнику Сидорову. Бестужев обычно вежливо его благодарил, а что там дальше с гостями делалось, Богеме было неведомо да и совсем его не интересовало. Главное, чтобы не мешали.
Но вот однажды Бестужев позвонил сам и сообщил, что в область едет всем известная Анюта Тульчак. Она планирует заполучить уринальный портрет и попутно взять у художника Сидорова телеинтервью.
– Анатолий Петрович не дает интервью, – твердо сказал Богема. – А с портретом, конечно, никаких проблем.
– Виктор Алексеевич, я надеюсь найти понимание. Это же сама Анюта Тульчак! Вы же знаете, кто у нее был отец.
– Николай Иванович, я бы рад вам помочь, но с Анатолием Петровичем на эту тему бесполезно даже заикаться. Он не будет ничего говорить, а то и просто пошлет подальше, я его знаю.
– Вам что, бесплатная реклама не нужна?
– Не нужна. Нам бы и без рекламы с работой управиться.
– А если я очень попрошу?
– Николай Иванович, это нереально! Вы зря думаете, что я всесилен. Я знаю Анатолия Петровича как облупленного. Если на него давить, Анюта может и без портрета остаться.
Вскоре Богеме позвонил мужчина, который представился продюсером телепрограммы с участием Анюты Тульчак:
– Мне дали ваш номер телефона и заверили, что только с вами можно решить вопрос об интервью с художником Сидоровым. Мы готовы прилететь на следующей неделе.
– Извините, но интервью невозможно. Вы напрасно потратите деньги на самолет, – ответил Богема.
– Мы вам хорошо заплатим.
– Нет, это исключено. – Богема прервал связь.
Отказать-то он отказал, но сердце его оставалось неспокойным. Анюту Тульчак, эту языкастую и нагловатую теледевицу, знала вся страна, и над головой ее была такая крыша, выше которой и не было ничего. Того и гляди, нагрянет со своей телевизионной шоблой, еще и Бестужев будет дышать над ухом, запортачат на хрен весь бизнес.
Через несколько дней вновь позвонил телепродюсер (Богема узнал его по густому баритону) и, теперь уже не представившись, поинтересовался, что нужно сделать, чтобы заказать портрет. Богема объяснил: нужно сбросить по электронной почте заявку в произвольной форме и копии четырех страниц паспорта для заключения трудового договора, после чего назначается конкретный день, в который заказчик является в мастерскую, подписывает договор, платит деньги, позирует перед художником, на следующий день получает готовый портрет на холсте. Если заказчик торопится уехать, портрет высылается экспресс-почтой по указанному адресу.
В этот же день на электронную почту Богемы поступила заявка с паспортными данными от Анны Леонидовны Тульчак.
– Вот до чего мы дожили, дядя Толя, сама Анюта Тульчак к нам едет, – поделился Богема с Сидоровым.
– Не знаю такую, – сказал Сидоров. – Мне что Тульчак, что Стульчак, без разницы.
Зато в его семействе это известие произвело ажиотаж. Маруся, а за ней Костя с женой просили Богему дать им шанс посмотреть на Анюту.
– Как вы этот представляете? – смеялся Богема. – Поставить ряды стульев, как в зрительном зале? С дядей Толей попробуйте договориться.
Но все знали, что с дядей Толей договариваться бесполезно.
Богема ждал приезда телезвезды с нарастающим беспокойством и был готов к разного рода провокациям. Когда Бестужев ему позвонил и Богема по его настоятельной просьбе зашел в его кабинет, он ничуть не удивился, увидев Анюту собственной персоной. Кроме нее, там еще сидели трое парней. Видеокамера, водруженная на штатив, может быть, уже снимала. Богема вежливо поздоровался и сразу попросил Николая Ивановича выйти с ним на минутку. За дверью он сказал:
– Там так много народа. Говорите, что вы хотели.
– Это не я, это Анна Леонидовна хотела с вами пообщаться.
– Николай Иванович, при всем моем к вам уважении, если вы считаете, что я буду участвовать в каких-то съемках, то вы глубоко ошибаетесь. Ваша Анна Леонидовна для меня не более, чем обычный клиент, и мне не о чем с ней говорить.
– Виктор Алексеевич, напрасно вы так нервничаете. Вы хотя бы узнайте, что ей надо. Нехорошо может получиться. Это же не какая-нибудь прохожая с улицы.
– Пусть уберут камеру.
Бестужев помедлил, испытующе разглядывая Богему. Поняв, что тот настроен решительно, произнес с чувством:
– Как же вы мне все надоели, писюканцы несчастные! Стойте здесь и ждите, – и вернулся в кабинет. Через пару минут распахнул дверь: – Милости просим!
Богема вошел и, отметив, что со штатива камера убрана и поставлена на подоконник объективом к окну, уселся на предложенный Бестужевым стул. Перед ним через столик для посетителей, установленный перпендикулярно и впритык к большому столу Бестужева, сидела – нога на ногу – Анюта.
Она протянула руку:
– Анюта.
– Витя. – Он осторожно пожал мягкую, теплую ладошку. – Уж и не знаю, чем могу быть вам полезен. Анатолий Петрович ждет вас завтра, согласно договоренности.
– Виктор, вы меня боитесь? – спросила она, глядя на него смеющимися глазами сквозь очки в синей оправе.
– Боже упаси! – сказал Богема. – Наоборот, я вам радуюсь. Родные и близкие не поверят, что я вот так запросто сижу с вами и беседую.
– Отлично. Начистоту будем беседовать?
– Будем, – легко согласился он.
Парни за его спиной встали.
– Мы, пожалуй, пойдем покурим, – сказал один из них густым баритоном.
Они остались в кабинете втроем. Повисла неловкая тишина.
Бестужев заерзал в кресле.
– Ладно, я тоже пойду якобы покурю, – сказал он, поднимаясь. И шутливо погрозил пальцем: – Но ненадолго!
Когда за ним закрылась дверь, Анюта спросила:
– Виктор, вы ведь по профессии художник, не так ли?
– Да.
– Тогда вы, как профессионал, должны понимать, что художник Сидоров – явление уникальное, неповторимое, я бы сказала, сногсшибательное. Я видела несколько его работ и была потрясена. Даже не верится… Нет, действительно, Виктор, есть серьезные подозрения, и не только у меня, что это – фальсификация.
– Для сомневающихся у нас есть видео, – сказал Богема.
– Но и видео можно сфабриковать.
– Могу предположить, Анюта, что если даже вы увидите художника Сидорова непосредственно в работе, вы не поверите и будете утверждать, что вам подсунули по-хитрому запрограммированного робота.
Анюта рассмеялась. Богема заметил на ее носу легкомысленные детские веснушки.
– Я поверю! Покажите мне художника Сидорова в работе, Виктор, – жалобно попросила она. – Ну, пожалуйста, очень прошу, я поверю. И потом буду всем рассказывать, что это правда.
– Да не надо нам никому ничего доказывать, – сказал Богема. – Кто не хочет верить, пусть не верит, дело личное. Анюта, ну зачем вам это? Разве нет других тем для передачи, более возвышенных, эстетически благородных? Надо людей просвещать, чтобы они обогащали свой духовный мир, стремились к красоте, а вы хотите рассказывать о каком-то мужике, умеющим оригинальным манером справлять нужду. Это же моветон, это неприлично, это не подобает тем более женщине, тем более такой обаятельной и интеллигентной, как вы.
– Ах, вот как? – воскликнула Анюта. – Интересно. Тогда у меня, Виктор, к вам встречный вопрос. Почему вы, профессиональный художник, не несете высокое искусство и культуру в народные массы, а вместо этого занимаетесь, извините, писающим мужиком?
– Легко объясняется, – ответил Богема. – Творчество творчеством, а жить-то на что-то надо. Это – обычный бизнес. Спрос рождает предложение. Вы заказали нам портрет, мы его вам сделаем.
– В таком случае мне придется объяснить более подробно мой интерес к художнику Сидорову. – Веснушки на носу Анюты потемнели. – Вы тут нарисовали образ чуть ли не патологически извращенной женщины, алчущей посмотреть с низменным сладострастием на писающего мужика. Так вот, раз уж разговор наш откровенный, то сообщаю вам, что я представляю коммерческий телеканал, и мой интерес – чисто коммерческий. Есть такое понятие, как телевизионный рейтинг, от которого зависят расценки на рекламу и вообще количество рекламы.
– Вот почему сегодня телевидение забито всякой дребеденью, – усмехнулся Богема. – Ориентируетесь на низменные вкусы толпы.
– Так же, как и вы в своем бизнесе, Виктор. Поэтому мы должны понять друг друга.
– Понять-то поймем, но хорошо бы еще не мешать друг другу, – сказал Богема. Он соображал, как ему дипломатично выйти из этого малоприятного разговора. Он чувствовал, что односложное и категоричное «нет» прозвучало бы оскорбительно для избалованной, отвязной девицы, а наживать врага в ее лице ему не хотелось. И, похоже, он нашел решение. – Анюта, а что если нам не гнать лошадей? В таком архисложном вопросе вам вот непременно ответ вынь да положь. Вы не представляете, какой сложный характер у Анатолия Петровича. Вот именно сейчас он пребывает в глобальном творческом кризисе. Он уже извелся весь. Я сам-то боюсь к нему подходить, а вы со своим интервью вообще рискуете.
– Что вы предлагаете? – спросила Анюта, сверкнув очками.
– Предлагаю подождать, интервью взять позднее.
– Когда позднее? Мне сейчас надо, Виктор! Дорога ложка к обеду.
– Есть и другая пословица: поспешишь – людей насмешишь. Пару месяцев надо выждать, а там постараемся что-нибудь придумать. Как раз, я надеюсь, Анатолий Петрович придет в норму.
Зеленые глаза Анюты смотрели на него, не мигая.
– Вы мне отказываете? – спросила она.
– Нет, не отказываю, а советую, как правильно поступить в данной ситуации. Итак, ровно через два месяца мы с вами созвонимся. Договорились?
– Вы меня огорчаете. – Она сняла очки, чтобы платочком протереть стекла, и лицо ее стало беззащитным и обиженным. – В таком случае, Виктор, интервью мы возьмем у вас. Вы, я вижу, в отличной форме, говорить умеете. Вот и расскажите о своем учителе художнике Сидорове, о том, чему у него научились.
– Анюта, это не серьезно. Уж не знаю, что вы хотели услышать от Анатолия Петровича, но у меня язык не повернется говорить на эту тему. Завтра вас в мастерской ждать?
– Ждите. – Она встала и отвернулась к окну.
* * *
Богему обуревали сомнения. Не нравилась ему эта Анюта с ее друзьями. Как бы они чего-нибудь не отчебучили во время сеанса. Уже бывали случаи, когда или клиент оказывался неспокойным или его окружение дурковало – лезли с разговорами к Сидорову, порывались с ним сфотографироваться, а то и подглядеть за процессом. Богема подсуетился, своевременно принял меры, и теперь в договоре прописывались и правила поведения на сеансе, среди которых главные: не опаздывать, соблюдать тишину, сопровождающих оставлять за входной дверью. Чтобы самому не ввязываться в какие-либо разбирательства и чтобы клиент чувствовал над собой контроль, Богема обеспечил в мастерской присутствие смотрящего за порядком, как бы охранника. Его роль выполнял иногда Костя, иногда Петя, коллега Богемы по обувному бизнесу, – молодой, большой мужчина со звероподобной внешностью и мягким, добрым характером, если, конечно, Петю не злить.
Однако Богема опасался, что с оголтелой телевизионной братией никакой Петя не справится. Интервью с дядей Толей нельзя было допускать ни в коем случае. Тот порядок, который сложился естественным образом, когда вокруг творчества Сидорова царила атмосфера стыдливой таинственности, а работы его обрели дикую, необъяснимую востребованность, мог быть нарушен. Забавная хохма превратилась в серьезный рыночный, элитарный продукт. Если убрать таинственность, закрытость этого продукта и выставить подробности его происхождения на всеобщее обозрение, высмеяв и опошлив, он потеряет свою ценность. Богема был уверен, что необходимо оберегать хрупкую конструкцию построенного им бизнеса от внешних (да и от внутренних) влияний, иначе она не выдержит и рассыплется.
Наутро он позвонил Бестужеву и трагическим голосом сообщил, что Анатолий Петрович подхватил ангину, жестко затемпературил и к творческому труду в ближайшие дни совершенно не расположен. Надо бы уведомить Анюту Тульчак, чтобы она не теряла зря время.
– Вот вы сами и уведомьте. – Бестужев был недоволен. – Я догадываюсь, что у вас там за ангина. Хорошо еще, что не гангрена. Зря вы, Виктор Алексеевич, затеяли этот цирк.
– Странно вы рассуждаете, Николай Иванович, словно речь идет о каком-то бездушном стальном агрегате, оснащенным пожарным брандспойтом. Все мы люди, все мы человеки, и Анатолий Петрович, так же, как и мы, имеет право заболеть.
– Ну-ну. – Бестужев заговорил тише. – Учтите, Виктор Алексеевич, может случиться так, что даже я не смогу вас защитить. Не мой уровень.
– Не надо нас защищать. Мы никому ничего плохого не делаем.
– Это вам так кажется. В общем, я вас предупредил.
– Да вы нас уже достали! Мы вам чем-то обязаны, что ли? Хозяева жизни, блин. Идите вы на фиг! – очень хотелось крикнуть Богеме, но вместо этого он вежливо и спокойно произнес: – Даже и не знаю, что и делать. Ладно, попробую подлечить Анатолия Петровича. Может, таблетками собьем температуру. Хотя он вообще никакой, лежит пластом.
Богема нашел в заявке Анюты Тульчак номер контактного телефона, позвонил и, извинившись, выразил ответившему знакомому густому баритону сожаление о том, что художник Сидоров внезапно заболел и сеанс отменяется.
Дядя Толя и тетя Маруся, взяв отпуск, жили на даче – погода стояла теплая, в огороде всё росло и колосилось. Богема к ним приехал и объявил, что Анюта отказалась от портрета, ей некогда, возникли какие-то срочные дела. Сидоров отнесся к известию равнодушно и продолжил усердно полоть картошку. Маруся с сожалением повздыхала: эх, не повезло, уж очень хотелось на живую Анюту хоть одним глазком взглянуть. Богема попросил их в случае, если кто-нибудь чужой – да и не только чужой, хоть кто – появится в здешних местах и будет зачем-то искать дядю Толю, тотчас звонить ему, Богеме.
Минуло несколько дней – никто никого не искал. Богема перевел дух: кажется, обошлось, и можно тихо, спокойно, без суеты продолжать зарабатывать деньги. Спрос на уринальные портреты оставался стабильным, заявки поступали регулярно. Вот и хорошо, вот и не надо дергаться, не надо никаких интервью, не надо будить лихо, пока оно тихо.
Однако слова Бестужева о том, что художника Сидорова потребуется от кого-то защищать, запали Богеме в душу и тревожили его. Бестужев – калач тёртый, зря трепаться не будет. «А с другой стороны, что они нам могут сделать? – размышлял Богема. – Мы ведь никому не навязываемся. Не хотите, ну и не надо. А если захотите, то мы не против». И хотя он приходил к выводу, что осторожный Бестужев, скорее всего, перегибает палку, и вряд ли им что-нибудь грозит, тревога его не покидала. Он стал более внимательно всматриваться в новых клиентов, всегда теперь был настороже и в полной боевой готовности к провокациям, скандалам и черт знает еще каким пакостям.
На сеанс приехал молодой мужик, по повадкам бизнесмен и, возможно, с криминальным уклоном, что подтверждала синяя наколка «Урал» на фоне пунктирных солнечных лучей на тыльной стороне его ладони. Он был сверх меры жизнерадостный – все время, не переставая, смеялся. Богема пригляделся: нет, вроде бы, не пьяный, может быть, покурил чего-нибудь? Каких только клоунов здесь не насмотришься. Когда Сидоров закончил свое дело, бизнесмен, качая в восхищении бритой головой, посмеиваясь и подёргиваясь, сказал:
– Ну, вы, конечно, молодцы, это ж надо же такое придумать! А я тут на днях был в гостях у товарища моего, человек он видный, при должностях, заходим к нему в кабинет, а на стене весит его портрет. Он мне говорит: думаешь, это обычный портрет? Нет, мол, это портрет особый. И когда рассказал, мы с ним уржались. Я, говорит, потом, когда-нибудь продам его за бешеные бабки, как картину Пикассо или Ван Гога. А что, в этом есть какая-то сермяжная правда. Я тоже не хочу оставаться в стороне. – И он залился безудержным, счастливым смехом. Нет, этот гусь оказался безвредным. Попрощавшись с ним, Богема облегченно вздохнул.
Следующий клиент – мужчина внушительной комплекции, с двойным подбородком и большим отвисшим животом, которого он ничуть не стеснялся, а носил с благородным достоинством – был погружен всем своим грузным существом в ай-фон. Он держал телефон перед глазами и все время что-то там набирал, реагируя на происходящее вокруг с полным равнодушием. Все вопросы за него решали его ретивые помощники, а он им лишь рассеяно кивал. Богема не раз видел этого товарища по телевизору, и там он, участвуя в каких-то дебатах, был совсем другой – многословный, красноречивый, а лицо его выражало гамму разнообразных эмоций. Здесь ему было явно скучно, но приходилось подчиняться обстоятельствам: раз надо, так надо, деваться некуда, не возражаю, но только не лезьте ко мне со всякой ерундой. Так и ушел он, уткнувшись в телефонный дисплей, – ни здрасте, ни до свидания. Ну и попутного ветра тебе, товарищ! «Побольше бы таких клиентов – митингуйте где-нибудь в другом месте, а у нас оставайтесь тихими, спокойными, безобидными пофигистами», – подумал Богема.
Потом заявилась дама, похожая на директора школы. Или на министра здравоохранения. Она была строга и серьезна, ни тени иронии на гладком, ухоженном лице, над которым искусно потрудился косметолог, а возможно и пластический хирург. Поскольку Богему постоянно терзал червячок сомнения и опасения, что однажды у кого-нибудь из клиентов вдруг спадет с глаз пелена наваждения и прозревший человек, озаренный внезапной догадкой, возопит: «Караул! Это чего вы тут удумали? Это чего вы тут делаете? Вы вообще чем тут занимаетесь? Вы нас за идиотов держите?», при появлении строгой женщины мнительный Богема невольно по-школьному оробел, словно в ожидании нагоняя. Но дама и не думала проявлять какое-то недовольство. Она и любопытства не проявила, будто пришла на мероприятие, забитое в годовой план, которое необходимо непременно выполнить, поставить галочку и закрыть вопрос. Дама внимательно, сосредоточенно слушала всё, что говорил ей Богема, и четко выполняла все его указания. Подписать договор? Без лишнего слова – размашистая, командирская подпись. Оплатить заказ? Девочка-помощница выложила на стол договорную сумму. Лишние за дверь? Сопровождающих лиц под ее взглядом точно волной смыло. Встать здесь? Встала, сосредоточенно кивнув. Единственное, с чем она обратилась к Богеме, это нарисовать ее в полупрофиль.
– Понимаете, я в какой-то картинной галерее видела портрет женщины, который запал мне в душу, – сказала она. – Автор Илья Глазунов. Знаете такого?
– Конечно, еще бы.
– Что меня поразило в этом портрете – это глаза. Женщина как женщина, нарисована в полупрофиль, в общем-то, как бы ничего особенного. Но ее глаза передают ее сложный внутренний мир, видно, что она переживает из-за чего-то, или кто-то ее обидел, или что-то произошло. Понимаете, особый блеск в глазах. Вот если бы у вас так же получилось, я была бы вам очень благодарна.
– Обещать трудно, – сказал Богема. – Не так просто повторить один к одному за гением. Да и творческий почерк, техника у Анатолия Петровича совсем другие. Но мы постараемся обязательно учесть ваши пожелания.
Дама не вспомнила о блеске глаз, когда, после завершения сеанса зайдя за мольберт, увидела на сахарном песке свежевыполненный свой портрет. Она была так шокирована, что не сразу смогла говорить.
– Ну как? – обеспокоенный ее молчанием, пытливо спросил Богема, привычно прыская над головой «сиренью».
– Это потрясающе. Как говорят немцы: «дас ист фантастиш», – произнесла она заторможено.
Придерживая за локоток, Богема проводил ее до дверей и передал «на руки» сопровождающим лицам, надеясь, что они не дадут ей упасть.
* * *
Затем паренёк какой-то сделал заявку на портрет. Приехал, подписал договор, заплатил деньги и попросил устроить сеанс на завтра. Так и решили. Вечером позвонил Бестужев, он был взволнован.
– Виктор Алексеевич, не хорошо получается, – сразу строго заявил он. – Не выполняете наших договоренностей.
– Как это не выполняю? – не понял Богема. – У меня без обмана. В чем дело?
– Почему вы не известили меня, что приезжает Кржижановский Эдуард Бенедиктович?
– Первый раз слышу, Николай Иванович. Честное слово! Это, скорее всего, не к нам.
Бестужев помолчал.
– Очень хочется верить, что не обманываете, – наконец сказал он. – В общем, по неподтвержденным данным, он направляется именно к вам. Но информация проверяется. Если она подтвердится, ждите завтра гостей и меня с ними.
– У меня назавтра уже есть клиент, – поспешил сообщить Богема. – Давайте уж тогда Кржижановского на послезавтра.
– Ну, вы даете! Эдуард Бенедиктович уже в самолете летит над просторами нашей родины. Лучше и для нас, и для вас, Виктор Алексеевич, я подчеркиваю, именно для вас, сделать так, чтобы все были довольны. Зачем нам с вами какие-то проблемы, ведь правда? – возбужденно говорил Бестужев. – Перенесите встречу с вашим клиентом на послезавтра.
– В таком случае мне надо знать точно, что Кржижановский летит к нам, – угрюмо согласился Богема.
– Как только уточним, сразу вам позвоню.
«Только припадочного нам и не хватало», – подумал Богема. Кржижановский, известный общественный деятель, был неуравновешенным психопатом, но это полбеды – «переморщимся и нарисуем». Главная заморочка была в том, что дядя Толя жутко не любил Кржижановского, считая его провокатором, вредителем и «засланным казачком» из зарубежья.
Через час вновь позвонил Бестужев: информация подтвердилась, завтра Эдуард Бенедиктович планирует посетить художника Сидорова.
– Виктор Алексеевич, убедительно прошу всё сделать на самом высоком уровне, это очень серьезно, – добавил Бестужев.
Богеме пришлось звонить закзачику-пареньку. Тот, услышав, что сеанс откладывается в связи с недомоганием художника, проявил неожиданную неуступчивость.
– Что вы такое говорите? – возмутился он. – У нас с вами подписан договор, прошу выполнять его условия.
– Это форс-мажор, – объяснил Богема.
– Нет, нет, не принимается. Сейчас вам позвонят.
Через минуту на телефоне высветился опять Бестужев.
– Виктор Алексеевич, мы же с вами договорились! – кричал он. – Какие могут быть у мужика недомогания? Вы бросьте эти ваши выкрутасы!
– В чем дело? Вы же сами посоветовали дать отлуп клиенту ради вашего Кржижановского, – разозлился Богема. – Я же должен найти какую-то причину, по которой сеанс для клиента откладывается.
– Да этот ваш клиент – из команды Эдуарда Бенедиктовича, свой там человек.
– Так бы сразу и сказали. Тогда, если ваш Кржижановский едет к нам делать портрет, а не на экскурсию, надо с ним заключить договор, – сказал Богема.
– Какой договор, ёлы-палы? Откуда у вас этот бюрократизм?
– Если ваш Кржижановский начнет нарушать условия, может ничего не получиться. Вам это надо, Николай Иванович? В договоре все прописано. Если он нарушит договор, значит, мы снимаем с себя ответственность, – сказал Богема.
В ответ раздались короткие гудки. Но вскоре позвонил паренек-кржижановец:
– Я вам сбросил на почту данные Эдуарда Бенедиктовича для договора. Деньги вам я уже заплатил. Так что мы сделали всё, как надо, теперь мяч на вашей стороне.
– Просьба завтра не опаздывать, – сказал хмуро Богема. – Опоздание хотя бы на минуту влечет за собой отмену всего мероприятия, в договоре это прописано.
– Строгие у вас порядки. – Паренек засмеялся. – А деньги-то в таком случае возвращаете?
– Возвращаем… Послушайте, если у вас там такой несерьезный, балдёжный настрой, может, мне вам прямо сейчас деньги вернуть? – спросил Богема раздраженно.
– Нет, что вы, не надо возвращать. До завтра.
* * *
Богема поехал к Сидоровым на дачу.
Под вечерним летним солнцем, зависшим над недалекой темной стеной соснового леса, дядя Толя и тетя Маруся трудились на огороде – она полола морковную грядку, ползая на коленях, он поливал из шланга увядшие под зноем кусты картошки. Наверстывали время, упущенное из-за дневной жары.
Богема присел на скамейку, закурил.
– Дядя Толя, чего ты из года в год мучаешься со своей картошкой? Она все равно у тебя не уродится, здесь почва для нее плохая.
– В этом году уродится, – уверенно сказал Сидоров. Он чуть поджимал пальцем отверстие шланга, струя фонтаном разбивалась на мелкие брызги и падала на землю радужным дождем. – Я хорошее удобрение нашел.
– Проще по осени купить на базаре несколько мешков отборной картошки да и не париться.
– Я могу и самосвал картошки купить, но здесь дело принципа, – сказал Сидоров – Вот увидишь, я докажу, что здесь дело не в плохой почве, а в умении сделать ее плодородной. А ты чего приехал?
– Завтра нам работа предстоит.
– Знаю я, мы же всё обговорили. Первый раз, что ли.
– А что, Анюта Тульчак передумала и вернулась? Покажешь ее? – закричала Маруся от грядки.
– Нет, не вернулась, – крикнул в ответ Богема. – Приехала другая знаменитость, еще похлеще.
– Кто это?
– Кржижановский.
Маруся, забыв про морковку, так и застыла на корячках.
– Шутишь, что ли? – спросил Сидоров.
– Серьезно. Век воли не видать. – Богема шлепнул себя по лбу, убивая комара. – А нам-то что с того? Мы же говорили с тобой на эту тему. Главное, клиент платит деньги, а кто он там – хоть папа римский – нам по барабану.
Сидоров молчал. Он потуже натянул на лоб козырек бейсболки, спасая глаза от назойливого солнца. Фонтан из шланга брызнул еще выше. Подошла Маруся, присела рядом с Богемой.
– И что ему надо? – спросила она, отряхивая землю с колен.
– Кржижановскому? Того же, что и другим. Хочешь на него живого посмотреть? – улыбнулся Богема.
– Вот еще! Он мне в телевизоре надоел. Ох, совсем люди сдурели. Летят к нам в такую даль из Москвы. Как говорится, коту делать нечего, так он яйца лижет.
Сидоров бросил шланг в ботву.
– Иди, мать, занимайся своими делами, – сказал он, подходя к скамейке. – Дай нам поговорить.
– Чего иди? Опять иди? Я тоже хочу про Кржижановского послушать, – зароптала Маруся.
– Потом Витька тебе про этого упыря расскажет. Иди, Маша, у нас чисто мужской разговор.
Маруся ушла допалывать грядку. Сидоров, усевшись на скамейку, тоже закурил. Богема вкратце рассказал, откуда взялся Кржижановский.
– Ага, понятно, – задумчиво произнес Сидоров. – Витя, вот послушай меня, только спокойно послушай и постарайся меня понять. Скажи, я – художник?
– Художник, – обреченно кивнул Богема.
– Я свободный художник?
– Свободный. Дядя Толя, ты опять заводишь старую волынку. Уже ведь обговорили это вопрос и решили к нему не возвращаться.
– Нет, погоди. Есть вещи, о которых просто так не отмахнешься, – упрямо продолжал Сидоров. – Вот этот Кржижановский, он ведь явная мразь. Он корчит из себя этакого борца за интересы народа и вроде бы правду говорит, и простой народ ему верит, а на самом деле он людей обдуривает. За то, что он мелет своим поганым языком, его давно надо в тюрягу посадить. Ты согласен?
– Пусть даже и согласен. Дядя Толя, есть еще и такое понятие – бизнес.
– Погоди пока про бизнес… И вот я, свободный художник, не хочу рисовать подлеца, а ты меня заставляешь. Где же моя свобода? Причем, я ведь не отказываю всем подряд. Витя, почему я не могу сделать свой выбор?
– Да потому что надо ловить момент, дядя Толя! Понимаешь? Ловить момент! – Богема вскочил, притоптал окурок, не в силах унять раздражение. – Ты думаешь, интерес к твоему творчеству будет вечным? Нет! Сегодня идет пруха непонятная какая-то. Мода, что ли. А завтра – раз и всё, никому ты не нужен! Это же не хлеб, который всегда, каждый день был и будет востребован. Поэтому надо успевать! Забудь пока о свободе! Забудь! Вот когда у тебя не будет работы, тогда ты будешь по-настоящему свободным. А пока надо деньги зарабатывать, и плевать, кто их тебе будет платить. Это первое. А второе – это то, что если мы сейчас откажем этому уроду Кржижановскому, нам могут вообще перекрыть кислород, запретить рисовать.
– Как это мне можно запретить рисовать? – иронично удивился Сидоров. – Я могу этим и дома заниматься.
– Обвинят в мошенничестве, припаяют статью, и попробуй докажи, что ты не верблюд. Вот и выбирай, что лучше: помахивать своим причиндалом перед носом у таких, как Кржижановский, и иметь пачку денег в кармане, или остаться свободным художником и гордо ходить с голым задом.
– Толя, я домик в деревне хочу! – издали жалобно крикнула Маруся, понуро склонившись над грядкой.
– Тьфу ты, эта еще уши греет, подслушивает, – в сердцах сплюнул Сидоров. – Витька, ты мне скажи, я разве чего-то должен Кржижановскому? Да на хрен он мне сдался!
– Должен, не должен, считай, что это издержки твоей популярности. Не все гладко в жизни бывает, не мне тебя учить. В общем, будем работать, невзирая на личности. Хорошо?
Сидоров молчал.
– Так, всё, как говорится, я умываю руки, – решительно сказал Богема. – Уговаривать больше не буду. Мне что, больше всех надо? Не хотите, как хотите. С сегодняшнего дня все заказы отменяются, я выхожу из дела. Не хочу больше нервы мотать, здоровье дороже. Всё, прощевайте. – И он быстро пошел через огород, через двор, бормоча ругательства.
– Витька, постой! Не дури, Витька! – слышал он за спиной голос Сидорова.
Маруся догнала его за воротами возле автомобиля. Ухватила за руку.
– Назад! – сказал она строго и почему-то басом. – Назад, кому говорю!
– Чего тебе? – с досадой оглянулся Богема.
– Вернись, Он согласен.
– Да ну его. Сейчас согласен, завтра опять будет голову морочить. Смотрите, какие мы тонкие натуры! Интеллигент паршивый.
– Перестань. Вы обсуждали, он просто поделился своими сомнениями. – Она потянула его за руку.
В воротах появился Сидоров.
– Чего психовать-то? – произнес он. – Ты хочешь, чтобы я перед тобой «чего изволите»? – И он сделал фигуру что-то навроде книксена. – Чтобы я тебе честь отдавал? – И он неожиданно стал вышагивать вдоль ворот туда-сюда строевым шагом, приложив руку «к козырьку» и приговаривая: – Ать-два! Ать-два! Есть, товарищ командир! Слушаюсь, товарищ командир! Будет сделано, товарищ командир! Чего изволите, товарищ командир!
– Толя, не пугай соседей. – Маруся едва сдерживала смех. – Подумают, что ты с ума сошел.
Богема тоже невольно улыбнулся.
– Ты этого хочешь? – Сидоров остановился и ударил себя кулаком в грудь. – А я человек, Витя! Понимаешь? Человек!
* * *
Кржижановский явился вовремя. За пару часов до сеанса к Богеме приехал юный кржижановец, забрал договор и скоренько вернул с подписью шефа. И даже печать какую-то свою шлепнули.
Сначала в мастерскую вошли парни, в костюмах и при галстуках. Потом за порог зашагнул Кржижановский. Бросил вялое «всем привет», неторопливо огляделся и, зафиксировав на стенах обилие живописных полотен, принялся их разглядывать. Закинув руки за спину, он медленно передвигался, а за ним мелкими шажками, храня молчаливую солидность, двигалась свита, среди которой Богема увидел и Бестужева.
Несмотря на летнюю жару, Кржижановский был в пиджаке. Ворот рубахи расстегнут, узел галстука неряшливо приспущен. Пословица «… идёт, как корове седло» идеально подходила к его очкам, которые были ему малы, словно он занял их у кого-то временно поносить, и которые смотрелись на его одутловатом лице инородным, несуразным предметом. Не хватало только, чтобы дужка была сломана и перемотана синей изолентой. Богеме подумалось: неужели некому подсказать, что необходимо подобрать оправу посолиднее и поприличнее? Молодые мужики из свиты вряд ли на это сподобятся – они робеют и заискивают перед шефом, но есть же у него какая-то женщина – жена или еще кто-нибудь.
– И что, всё это нарисовал ваш художник? – наконец нарушил затянувшееся напряженное молчание Кржижановский, обращаясь к Бестужеву. – Своим этим… уникальным методом?
– Нет, Эдуард Бенедиктович, это совсем другой художник, – откликнулся Бестужев. – Да вот, Виктор Алексеевич всё вам и расскажет, – и махнул рукой в сторону Богемы.
Маленькие, пронзительные глазки сквозь толстые стекла очков уставились на Богему.
– Да, другой, – подтвердил Богема, чувствуя себя кроликом перед распахнутой змеиной пастью. – Кстати, он свои картины продает. Выбирайте любую.
– Антураж, значит? – саркастически осклабился Кржижановский. – Создали соответствующую обстановочку?
Богема понял, что ничего хорошего не предвидится.
– Нет, так получилось. Не специально, – мило улыбнулся он и взглянул на часы. – Сейчас должен подойти Анатолий Петрович, надо успеть подготовиться. Прошу вас встать на этот коврик, а остальных подождать за дверью.
– А вы кто такой? – спросил Кржижановский.
– Я? Организатор процесса, если коротко, – ответил Богема.
– Послушай, организатор, массовик-затейник, охрана останется со мной. Понял? – набычился Кржижановский. – Вдруг вы тут захотите меня придушить. – И он выразительно посмотрел на Петю, который, будучи в этот день ответственным за порядок, тихо и скромно замер возле мольберта, скрестив на животе большие, волосатые руки.
Свита издала подобострастный смешок.
Богема пару секунд подумал и решил не заморачиваться насчет охраны Кржижановского. Хотелось как можно скорее закруглить общение с общественным деятелем.
– Хорошо, пусть охрана будет при вас. Остальных прошу удалиться. Николай Иванович, а вы бы не уходили, а то вдруг… – У Богемы вертелось на языке «а то вдруг кому-нибудь захочется нас тоже придушить», но он сдержался.
Бестужев и двое молодых людей остались. Богема позвонил Сидорову, который сидел в машине у подъезда.
– Анатолий Петрович, всё готово. Вы скоро к нам?
– Витя, растудыть тебя в коромысло, сколько можно тянуть? Это же издевательство над моим организмом! А если однажды он не выдержит? Смотри, дождешься.
– И мы вас ждем с нетерпением, Анатолий Петрович, – радушно заверил его Богема.
– «С нетерпением», – передразнил его Кржижановский. – Что у вас тут за балаган? Где шляется этот Петрович? Почему я должен его ждать?
– Встаньте на коврик, пожалуйста, – снова попросил Богема.
– Почему именно на коврик? А рядом нельзя? А здесь? А тут? – Кржижановский, придуриваясь, стал переступать вокруг коврика. – Разве нельзя? Шаг в сторону – расстрел?
Вошел Сидоров.
– Здравствуйте! – бодро провозгласил он и быстрым шагом прошел за мольберт.
– Ага, еще один массовик-затейник нарисовался, – прокомментировал Кржижановски и, обращаясь к Бестужеву и охранникам, добавил с ухмылкой: – У меня складывается впечатление, что меня принимают за идиота.
– Эдуард Бенедиктович, вы действительно хотите, чтобы сделали ваш портрет? – учтиво спросил Богема.
– Портрет? Да! Конечно! Делайте, делайте, а я посмотрю, что у вас получится.
– Тогда, чтобы хорошо получилось, вам нужно встать на коврик и всего лишь минуту постараться не шевелиться, – сказал Богема.
– Ладно, – неожиданно согласился Кржижановский и встал на коврик. – Вот я стою, уже не шевелюсь. Где там ваш художник?
– Он уже работает.
– Работает? – Кржижановский громко, по-театральному расхохотался, хлопнул ладонями по коленям и закричал: – Это ж надо же, что творится. Он работает! Нет, о чем мы говорим? Люди, опомнитесь! Что мы делаем? У меня в голове не укладывается! Вот вам наглядный пример, как надо дебилизировать общество! Они хотят меня сделать дебилом! Понимаете? Дебилом! Не выйдет! Ну-ка, что он там наваял? – он решительно двинулся в обход мольберта и ширмы, но на его пути встал Петя. – Убери руки! – рявкнул Кржижановский, хотя его никто и пальцем не тронул.
Охрана подскочила к шефу, но пребывала в некотором замешательстве.
– Петя, уйди, – попросил Богема, плечом отпихивая его в сторону.
– Зови всех сюда, – скомандовал Кржижановский охраннику.
Он бесцеремонно вошел в закуток, где Сидоров в это время застегивал штаны.
– Ну что, художник, ждешь миллион алых роз? Сейчас оформим, – произнес Кржижановский. – И чего ты тут наделал в буквальном смысле слова?
Богема встал между ними.
– Эдуард Бенедиктович, что вы в самом-то деле? – жалобным, примирительным голосом сказал он. – Так ведь не делается. Мы же вас не заставляли делать портрет. Мы никого не заставляем. Вы сами пришли. В чем же дело? Николай Иванович, повлияйте на Эдуарда Бенедиктовича, у нас всё по-честному, мы никого не заставляем.
– Да всё нормально. – Бестужев протиснулся к ним, нервно посмеиваясь. – Эдуард Бенедиктович хочет посмотреть свой портрет, только и всего. Всё нормально.
– Прочь с дороги, подлец! – крикнул Кржижановский Богеме, брызнув слюной.
Богема отступил, заслоняя собой Сидорова. Кржижановский обратил внимание на короб, шагнул к нему.
– Ну-ка, ну-ка, поглядим, чего он тут нахудожничал, – зловеще изрек он.
Из короба на него смотрела искаженным отражением отвратительная рожа – позорные очёчки на мясистом носу, оскаленный в крике рот, всклоченные волосы. Карикатура была выполнена в духе Кукрыниксов, изображавших с такими рожами проклятых злобных и пузатых буржуинов, которые пытаются обхватить длинными обезьянными руками беззащитный земной шар. Богема успел подумать: «Дядя Толя, конечно, гений, но как же это всё не во время!».
– Ах ты, гнида! – заорал Кржижановский.
Он ступил в короб и стал неистово и безжалостно топтать уникальное художественное произведение.
Богема неожиданно услышал за спиной странный, болезненный вопль. Он оглянулся и увидел Сидорова в тот момент, когда он, размахнувшись совковой лопатой, опускал ее на голову Кржижановского. Совковую лопату они держали в хозяйстве, потому что ею было удобно разравнивать сахар в «песочнице» и по завершению сеанса грузить его, уже использованный, обратно в мешок. Но лопата не долетела до головы общественного деятеля – охранник подставил руку, а потом ловко двинул Сидорова ногой, и дядя Толя улетел в угол.
– Что? – Кржижановский замер в высочайшей степени изумления. – Ты меня хотел ударить? Меня? Да я тебя на зоне сгною! Будешь жить у параши!
– Что же это такое? – запричитал Богема, всего ожидавший, но только не подобного развития событий. – Почему вы к нам пришли и безобразничаете? Вы же не у себя дома, в конце концов. Это же элементарное хулиганство, и Анатолий Петрович, естественно, вынужден оказывать сопротивление. Николай Иванович, помогите! Надо полицию вызывать!
– Полицию? – пуще прежнего вызверился Кржижановский. – Я тебе покажу полицию! Мошенники! Пидорасы! Я вас выведу на чистую воду!
Он кинулся на Богему, целясь кулаком ему в лицо. Однако люди из свиты удержали его от рукоприкладства, мягко, но настойчиво оттеснив в сторону.
– Ну их, Эдуард Бенедиктович! – уговаривали они шефа. – Не связывайтесь с ними, Эдуард Бенедиктович! Посудите сами: кто вы и кто они. К тому же, вас народ ждет, уже опаздываем. Пора ехать, Эдуард Бенедиктович.
Кржижановский сбил ногой мольберт, повалил ширму.
– Я им покажу! Они у меня увидят небо в клеточку!
На пороге он обернулся и погрозил пальцем:
– Вы хотели полицию? Считайте, что она уже к вам спешит. Вы ко мне еще на коленях приползете, подонки.
* * *
До дачи добрались вдвоем на машине Богемы. Сидоров за рулем ехать отказался, его авто осталось ночевать у мастерской, и не потому, что у Сидорова болели ребра, а из-за морального состояния. Боялся в кого-нибудь врезаться. Маруся, когда увидела их серые, трагические лица, бутылку водки в руке у мужа и не увидела своей машины, так сразу и подумала: авария!
– Ты почему безлошадный? – с тревогой спросила она. – Что случилось?
– Ничего не случилось. Неси быстро рюмку и занюхать чего-нибудь, – мрачно ответил Сидоров.
– Что с машиной?
– Нормально всё с машиной. Неси быстро, говорю.
– Дядя Толя чуть Кржижановского не убил. Лопатой, – сообщил Богема, нервно ухмыляясь.
– Ох ты, господи! – Маруся побежала в дом.
Они сели за столик под навесом. Закурили.
– И что теперь? Нас повяжут? Здесь тоже найдут? – спросил Сидоров.
– Везде найдут, хоть под землей, – сказал Богема. – Чего ты за лопату-то схватился?
– Сам не пойму. Ведь не пьяный был. Понимаешь, когда он начал топтать рисунок, у меня такое чувство появилось, как будто… это… – Сидоров чуть подумал. – Как будто моего родного ребенка убивают, что ли. Ну, что-то вроде этого. Вроде бы как защитить надо. Причем, не то, чтобы я психанул, нет. А именно защитить. Сейчас удивляюсь даже, как это я. В общем, наломал дров.
Прибежала Маруся – с рюмкой, с тарелкой, на которой зеленый лучок, нарезанные редиска, хлеб, сало. Сидоров торопливо налил в рюмку водку, выпил, крякнул.
– Витька, жаль, что ты не пьешь, – сказал он, зажёвывая луком.
– Да, уж я свою дозу выпил, – заторможенно откликнулся Богема.
– Ну, и чего он учудил-то? – спросила Маруся.
– Если коротко, то этот Кржижановский вел себя по обыкновению как последняя свинья, и дядя Толя захотел огреть его лопатой, и уж совсем было огрел, но охрана помешала, – сказал Богема.
– Ой, батюшки, – покачала головой Маруся. – И что теперь будет?
Мужики промолчали.
– Эх, а все-таки жаль, что я чуток его не достал, – сказал Сидоров. – Даже обидно. Этого гада давно надо проучить. И, кстати, зря мы видеонаблюдение в мастерской не устанавливаем. Сейчас бы разместили в Интернете, как я его… пытаюсь лупануть. А то когда Кржижановский кого-нибудь за волосы таскает, по всем каналам показывают, а как ему самому морду бьют, я ни разу не видел.
– Ты гляди, чтобы тебя не посадили, герой кверху дырой, – сказала Маруся. – Витька, что ему будет?
– Не знаю, – ответил Богема. – Они должны были бы сразу вызвать полицию, составить протокол, то да сё, как положено, но они этого не сделали. С другой стороны, они и задним числом могут оформить так, что мало не покажется.
– Его самого надо оформить, – мстительно произнес Сидоров, наливая вторую рюмку. – Он же, тварь, у нас там всё порушил. Его надо самого садить на пятнадцать суток.
– Ага, его посадишь, – сказала Маруся. – Ты зачем водку-то пьешь? Она тебе поможет, что ли?
– Маша, я стресс снимаю. Думаешь, легко мне сейчас? – Он опрокинул рюмку в горло, понюхал хлеб и продолжил: – Слушай, Витька, хочу признаться тебе. Сегодня у меня получился, наверное, самый лучший портрет. Я никогда не испытывал такого огромного вдохновения. Я всю душу вложил.
– Да? – удивился Богема. – Почему, интересно?
– Кажется, я сделал для себя открытие, – сказал Сидоров, накладывая розовый ломтик сала на кусок хлеба и с удовольствием откусывая. – Чтобы получилось настоящее произведение искусства, надо знаешь что?
– Что?
– Надо любить или ненавидеть, презирать или обожать, желать зла или добра, в общем, испытывать какие-то настоящие, искренние чувства, а не просто так взял и помахал. Тогда может получиться что-то стоящее. Тогда я сам удивляюсь, откуда это взялось, как будто это не я сделал. В этот раз так и вышло, Я проникся насквозь этой противной харей, мною управляла какая-то торжествующая ненависть, я ощущал себя всесильным волшебником, типа: ах ты, так? Так на ж тебе! Вот и получилось! Потому-то когда он узнал свое истинное лицо, он и закуролесил, шибко ему оно не понравилось. Ну, а мне, конечно, жалко стало моего труда, я всю душу вложил, а он ногами… До сих пор дрожь по телу.
– Ишь ты, слов-то каких поднабрался. – Маруся бесцеремонно взяла со стола бутылку. – Хватит пить! Думаешь приятно на тебя смотреть, как ты напиваешься.
– Да я только начал, а ты уже «напиваешься». – Сидоров погрустнел. – И здесь нет свободы, не разбежишься. А свобода должна быть. Понимаешь, Витька? Я хочу творить свободно, от души, чтобы я свои чувства выражал, а не просто раз-два, получите, распишитесь. Эх! Маша, ты хотя бы третью налей для ровного счета, а потом забирай. Не издевайся над человеком, и так тошно.
Маруся налила ему еще рюмку и унесла бутылку в дом.
У Богемы заиграл мобильник. Звонил юный кржижановец. Ему было велено забрать обратно деньги, уплаченные за портрет.
– Хорошо, буду в мастерской через час, – сказал Богема.
– Ох, и веселые же вы ребята, – заметил кржижановец, посмеиваясь.
– Вы тоже не промах, приятно было познакомиться, – сказал Богема.
* * *
Миновал день, другой, третий, никто не приходил их арестовывать. Дважды пытался дозвониться Бестужев, но Богема каждый раз сбрасывал, не в силах побороть обиду и неприязнь. Тем временем заявки поступали. Они обслужили залётного клиента – нефтяного начальника с Северов, еще наклёвывалась супружеская пара из Германии, и целая делегация швейцарских уфологов, путешествуя по России, планировала заглянуть на огонек к художнику Сидорову.
Бестужев с чужого телефона всё-таки дозвонился и, пока Богема соображал, нажать отбой или нет, быстро проговорил:
– Виктор Алексеевич, зря вы на меня обижаетесь. Наоборот, вы должны мне спасибо сказать.
– За что это?
– За что? Вы могли бы загреметь под фанфары за хулиганское нападение на видного общественного деятеля. Не хочу хвастать, но ваш покорный слуга сделал всё – подключил все свои связи, нажал все рычаги, чтобы этого не произошло и вас оставили в покое. Так что можете спокойно продолжать трудиться в том же духе.
– Уж и не знаю, сможем ли после таких потрясений, – сказал Богема. – Интересно, если бы нас начали убивать, вы бы также нас успокаивали, типа, всё нормально, не волнуйтесь, потерпите, этот не больно?
– Напрасно драматизируете, Виктор Алексеевич. Жизнь не бывает постоянно ровной и гладкой. Да, случилась неприятная история. Но и с вашей стороны реакция была неадекватной. Причем здесь лопата? Ваш уважаемый Анатолий Петрович своим поступком, мягко говоря, всех удивил. И вам повезло, что я там был, всё видел и потом сумел конфликт уладить. Анатолию Петровичу и вам, как подельнику, могли впаять кое-что и посерьезнее. Вы понимаете? Я вообще-то ожидал от вас услышать слова благодарности.
– Николай Иванович, когда мы работали сами по себе, без вашей помощи, у нас не случались подобные кошмарные инциденты, – сказал Богема.
– Непременно случились бы, уверяю вас. В общем, Виктор Алексеевич, предлагаю забыть обиды, как дурной сон. Жизнь продолжается, наши договоренности соблюдаются. Жду от вас информацию. Хорошо?
– Мы подумаем, – сказал Богема.
– А тут и думать не надо. Это в ваших интересах. – И Бестужев положил трубку.
Богема погрузился в размышления, испытывая противоречивые чувства. С одной стороны, ему надоело бояться, нервы стали ни к черту, он по-дурацки пугался дверных звонков, ночами плохо спал, и теперь, узнав, что всё благополучно обошлось, словно сбросил с плеч свинцовый груз. А с другой, как же достал его этот назойливый чиновник! Почему они с Сидоровым должны кого-то информировать, как будто обязанные отсчитываться о проделанной работе? Чушь какая-то! Кроме того, Богема был уверен, что если бы не Бестужев, он бы нашел возможность сразу же, как и хотел, отбояриться от Кржижановского, элементарно отказать ему в портрете.
Он позвонил дяде Толе, который последние дни тоже жил неспокойно, с оглядкой, и сообщил, что с Кржижановским дело уладили, опасаться нечего, можно спокойно работать.
– Мне вчера приснилось, что я его все-таки лопатой-то отоварил. И почему-то по спине, но зато несколько раз, – сказал Сидоров. – Оскорбил он меня до глубины души, сволочь.
Богема решил больше не информировать Бестужева. Если уж тот сам позвонит, то тогда Богема, ладно уж, ему что-нибудь скажет, а так – ну его на фиг.
Через неделю Сидорова арестовали.
* * *
Вечером позвонила Маруся и, встревоженная, чуть не плача, рассказала, что к ним в квартиру нагрянули участковый и еще какие-то непонятные мужики. Оказывается, на мужа составлено заявление, он подозревается в административном нарушении, ему светит статья «за хулиганку». Его куда-то увезли, и Маруся не знает, что делать.
Богема тут же набрал Бестужева, но тот не отвечал. Длинные гудки бесили. Богема сбросил ему sms: «Николай Иванович, вы нас обманули? Почему полиция арестовала Анатолия Петровича? У нас срывается важная международная встреча». Бестужев молчал. Богема провел ночь, как на иголках. Наутро, спозаранку, отбросив церемонии, он вновь начал набирать, и опять без толку. Дождался восьми часов, когда чиновник обязан быть на рабочем месте, и позвонил на городской телефон. Бестужев взял трубку. Мобильник он забыл на даче, сейчас ему его должны привезти. На то, что Сидорова загребли а полицию, он отреагировал как-то слишком вяло, почти не удивился, и Богеме это показалось подозрительным.
– Будем разбираться, – сказал Бестужев. – Как только, так сразу отзвоню.
Богема поехал к Марусе домой. Они сидели в комнате оба понурые, как будто в сборах на похороны. Маруся плакала. Она рассказала в подробностях, как Сидорова забирали. Мужики, которые были вместе с участковым, удивили ее вежливостью: будьте добры, спасибо да пожалуйста. Они даже почему-то спросили, где можно посмотреть картины мужа. А вот Сидоров поразил ее своей наглостью: ухмылялся, смотрел на всех волком, ничего не боится, как дурак. Он вообще последнее время изменился. Богема, как мог, ее успокаивал.
Наконец позвонил Бестужев. Голос его был непривычно суров и надменен. Он назвал адрес, куда ровно через час Богема должен подъехать.
Богема залез в ДубльГИС, набрал название улицы, номер дома: да, по этому адресу находилось Управление. Но не внутренних дел. «Кажется, влипли, и очень основательно, по самое не хочу», – подумал он.
Подъехав к Управлению, он позвонил Бестужеву и, увидев через пару минут, как тот вышел из здания, пошел ему навстречу. Поручкались.
– Вот что, Виктор Алексеевич, я сейчас кое-что вам скажу, вы выслушаете, и прошу не задавать мне вопросов, – тихо сказал Бестужев, глядя в глаза Богеме жестко и пытливо. – Всё можно исправить, если вы с Анатолием Петровичем выполните обычную свою работу, но никаких ошибок, тем более никаких инцидентов не допускается, потому что это касается персоны, важность и значимость которой мало с кем сравнима. Понимаете? – Бестужев глазами показал на небо. – Уточняю: Кржижановский по сравнению с этой персоной – шошка-ерошка. Сегодня он есть, завтра от него пшик. Теперь понимаете?
– Вы меня пугаете, – сказал Богема, холодея и не веря догадке.
– Я не пугаю, но поберечься вам с Анатолием Петровичем надо бы. И советую оставить вашу иронию. Вы не представляете, в какую передрягу можете попасть.
– А где Анатолий Петрович? – спросил Богема.
– Он здесь. Переночевал, применительно к ситуации, в общем-то в нормальных условиях. Условия могли быть намного хуже. Сейчас с вами побеседуют люди, ответственные за мероприятие. Советую быть немногословным, внимательным и разумным.
Они зашли в здание, тут же на первом этаже Бестужев постучал в дверь, в ответ донеслось «Войдите!», и они очутились в просторной комнате, в которой ничего не было, кроме стола и стульев. Мужчина средних лет в белой рубашке пригласил Богему сесть за стол напротив себя. Еще один, седовласый, стоял у окна и курил, дымя в открытую форточку. Бестужев скромно устроился на стуле возле выхода.
– Виктор Алексеевич, разговор у нас с вами будет недолгим, – сказал мужчина в белой рубашке. – Насколько понимаю, вы в курсе ситуации в общих чертах? – и он покосился на Бестужева.
– Да, в общих чертах, – подтвердил Богема.
– Тогда не будем попусту тратить время и слова. Первое, мы знаем о вас и вашем родственнике абсолютно всё. Второе, ваш дядя, Анатолий Петрович, совершил преступление, подпадающее под статью Федерального закона, которая гласит… – Человек в белой рубашке взял листок со стола и зачитал: – «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью». – Он сделал паузу, последние два слова повисли в воздухе неотвратимой гильотиной. – Третье. Обвинение будет снято, дела никакого не будет, и ваш родственник сегодня же отправится домой, если мы получим от вас стопроцентную, тысячепроцентную гарантию, что портрет будет выполнен на высшем уровне.
– И без всяких выкрутасов и провокаций, – подал голос седовласый у окна. – Естественно, всё, что мы вам говорим сейчас и что будет потом, не для чужих ушей. Вы подпишите соглашение о неразглашении.
– Что от меня требуется? – спросил Богема.
– Насколько нам известно, в вашем творческом тандеме все организационные вопросы решаете вы, – сказала белая рубашка. – Мы пытались пообщаться с Анатолием Петровичем, но, к сожалению, он не идет на контакт. Просим вас повлиять на него, ведь речь идет о его дальнейшей судьбе. Да и о вашей тоже.
– Когда я могу это сделать?
– Да прямо сейчас.
Военный с погонами капитана повел Богему по коридору, по лестнице, потом опять по коридору, короткий подъем в лифте, лязгнул замок в массивной, железной двери, и вот он, дядя Толя в спортивном костюме, словно санаторный отдыхающий, сидит одиноко на топчане, смотрит вопрошающе и молчит.
Капитан закрыл за Богемой дверь, повернул ключ, прошел в соседнюю комнату и надел наушники.
… поэтому будем говорить только шепотом. Дядя Толя, объясняю ситуацию, только ты шибко не удивляйся. Твоя популярность как художника достигла вершины, у тебя хочет заказать портрет (неразборчиво).
– Они там совсем (неразборчиво)? Ему-то это зачем?
– (неразборчиво) видимо, тоже ничто человеческое не чуждо. Но чтобы ты не кочевряжился и чтобы качественно сделал работу, они тебя подводят под статью очень серьезную, вплоть до смертной казни, за покушение на Кржижановского.
– У нас смертную казнь отменили.
– Если пожизненное дадут, тоже ничего хорошего. Да о чем мы говорим? На хрена нам это надо? В общем, они коня́т, боятся ответственности, и поэтому тебя шантажируют: типа, или садись в тюрьму или пообещай сделать всё красиво и тогда можешь сразу топать домой.
Повисло молчание. Капитан напряг уши.
– Чего думаешь, дядя Толя? Я им сейчас скажу, что ты сделаешь портрет по высшему пилотажу, и пусть они тебя выпускают.
– Витя, пошли они на (неразборчиво). Я свободный художник и не собираюсь перед ними ходить на цырлах.
– Не понял. Ты отказываешься писать портрет?
– Не отказываюсь. Но у меня есть условие.
– Какое?
– Я сам им скажу. Это мое личное условие. Ты здесь не при чём. Так им и передай.
– Рискуешь, дядя Толя! Не кажется тебе, что перегибаешь палку? Тут не до жиру, быть бы живу, а ты с какими-то условиями.
– Пошли они на (неразборчиво). Они меня еще не знают. И ты не знаешь.
Раздался стук. Капитан снял наушники и пошел открывать дверь.
Богема шагал с капитаном по коридорным хитросплетениям, и его потряхивало от волнения и страха. Дядя совсем отбился от рук. Возомнил себя гением. Вот наглядный пример, как слава меняет человека. Осмелел до безумства. Получается, что он, Богема, взрастил монстра на свою беду. Хотел было уговорить его не делать глупостей, но понял, что бесполезно. «Если ему на себя наплевать, обо мне хотя бы подумал. Если он заартчится, могут ведь и меня больно прихватить за одно место», – мелькнуло в голове.
В кабинете за время его отсутствия ничего не изменилось, только седовласый уже сидел на стуле рядом с Бестужевым.
– Ну, и как? – нетерпеливо спросила белая рубашка, как только Богема вошел.
– Он не отказывается, но у него есть условие, хочет сам его огласить. Не могу ничего с ним поделать, мужик он упёртый. – Богема тяжело вздохнул, давая всем своим видом понять, что хотел бы помочь, но не в силах.
– Надо его привести, – властно произнес седовласый.
Пока ждали Сидорова, Бестужев травил обычную, предназначенную для важных заезжих гостей байку о том, какая прекрасная рыбалка в здешних краях: озёра – красота, щуки – во! карпы – во! – И он манипулировал руками, по обыкновению, как водится у заядлых рыболовов, утраивая размеры рыбы. Седовласый слушал рассеяно. Думая о своем, он опять отошел к форточке и закурил.
Ввели Сидорова – руки за спиной, глаза по сторонам нагло – зырк, зырк, вид независимый, как у зэка-рецидивиста, сам весь какой-то нервный, дерганый. «Ну, дядя Толя, тебя и не узнать. Неужели ты всегда был такой? Или за ночь так изменился?», – озадаченно подумал Богема.
С Сидорова сняли наручники, усадили за стол, а Богема теперь сидел у стены на стуле.
– Давайте, Анатолий Петрович, выкладывайте, что там у вас за условие. – Голос у белой рубашки мягкий, доброжелательный, будто не говорил он только что с Богемой стальными, чеканными фразами.
– Мужики, я сделаю всё, как надо, даже не сомневайтесь, – сказал Сидоров, потирая запястья. – Прошу только об одном: пусть бесноватый извинится.
– Кто? – переспросила белая рубашка.
– Бесноватый. Ну, тот, из-за которого началась вся эта буча. Ну, из-за которого вы меня в тюрьму хотите посадить.
Никто не ожидал такого поворота. С минуту все молчали, переваривая услышанное.
– Зачем вам это? – спросил седовласый.
– Как бы вам объяснить, чтобы вы правильно поняли… – Сидоров мучительно подбирал слова. – В общем, надорвал он меня, что ли, когда свой портрет топтал, а это был шедевр, я всю душу вложил… И, наверное, из-за этого я морально расклеился. Ну, то есть пропал кураж! Нету куража! Я чувствую, что не то, не то! Последний портрет был в браке.
Седовласый и белая рубашка повернули головы к Богеме за подтверждением. Тот глубокомысленно кивнул, скорбно поджав губы. Но сам, припоминая последнюю работу Сидорова – портрет нефтяника, никак не мог согласиться, что он был плох.
– Вот если бы вы разрешили мне дать ему в морду, я бы моментально восстановился, – продолжал Сидоров. – Но вы ведь не разрешите. Тогда пусть извинится. И больше ничего не надо. Пусть извинится.
– А вы уверены, что это поможет? – настороженно спросил седовласый. – А если не поможет, что тогда?
– Тогда рубите голову. Но я уверен, что поможет. Чем угодно, могу поклясться. Я сразу воспряну. Я хочу сделать прекрасный портрет. Но пусть бесноватый извинится. И мне надо домой. Домой хочу! Чего я здесь сижу? Убегать никуда не собираюсь. Для меня высокая честь сделать портрет, о котором мне племяш сказал. Один раз в жизни такое выпадает. Я не сумасшедший, чтобы упустить такую возможность.
Седовласый задумчиво его разглядывал.
– Тем более, мне надо восстановиться физиологически, – добавил Сидоров. – Мне нужны нормальные условия для жизни. Чтобы творить. Иначе может не получиться. А кому это надо? Никому не надо.
* * *
Они ехали по малолюдным вечерним улицам.
– Дядя Толя, скоро в городе кипиш начнется, начальство на ушах будет стоять, – сказал Богема. – Благодаря тебе, на нашу депрессивную дыру обращают внимание. Глядишь, в этот раз дороги отремонтируют, больницу новую построят, зарплату людям поднимут. Всё-таки большой ты у нас человек.
– Я вот не знаю, Витька, деньги-то надо брать сейчас за портрет? – спросил Сидоров.
– А как же! За бесплатно только птички поют! Заключим договор, как положено. У нас с тобой не какая-то там шарашкина контора.
Въехали во двор.
– Пойду к жене, она у меня хорошая, – кротко сказал Сидоров.
Он взял сумку из багажника и ушел, а Богема еще долго сидел в машине, не уезжал, курил, думал.


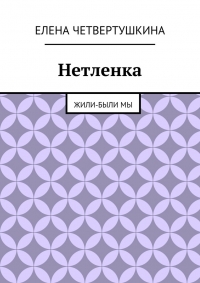





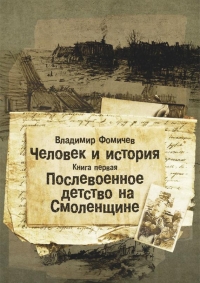
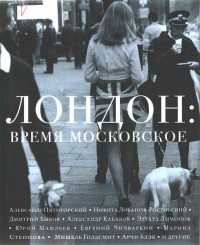

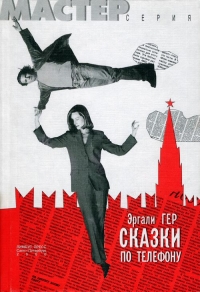
Комментарии к книге «Золотая струя. Роман-комедия», Сергей Жмакин
Всего 0 комментариев