Натан Дубовицкий Машинка и Велик Или Упрощение Дублина [gaga saga]
Обращение к писателям
Писатели мои! что за скука читать романы! И что за наказание, что за напасть писать их! Вот бы не писать! Но как? если, как говорили Беня Крик и Алекс. Пушкин, рука сама тянется к перу. Тянется, впрочем, или не тянется, а времени на писанину все одно нет, а главное — лень. А самое главное — мысль обгоняет слово: весь уже сложен роман в голове, все удовольствие от его сложения автором уже получено, так что физическое написание превращается в несвежий пересказ, нетворческую рутинную канитель.
И, наконец, что еще и поглавнее самого главного — незадачливый подвижник, героически одолевший дремучие заросли лени, вырастающей в нашем климате выше крапивы и цен на нефть, дописавший таки свою книжищу, обнаруживает, что читать его буквы решительно некому. А ведь еще в прошлом веке Борхес предупреждал: читателей больше нет, есть одни только писатели. Потому что — все образованные стали, гордые, себе на уме. Никто не хочет знать свое место и смиренно внимать поэтам и прозаикам. Никто не хочет, чтобы какие-то незнакомые неопрятные люди жгли ему глаголом сердце или какую другую часть тела.
Если в прошлом человек с идеей был диковиной, вроде бабы с бородой, которую всей ярмаркой сбегались посмотреть и послушать, то в наши дни небольшие, удобные и дешевые, как зубные щетки, идеи есть у каждого брокера, блогера и корпоративного евангелиста. Обожествленная было в XIX–XX в.в. литература стала ныне делом простонародным, общедоступным наподобие поедания сибасов или вождения авто. Все умеют, все писатели.
Читают же писатели, как известно, только то, что пишут. Не свои же тексты, если заметят, просматривают по-писательски, то есть — с презрением, невнимательно и не до конца. Для того лишь, чтобы написать (или произнести) рецензию, краткую, невнимательную, презрительную. Чтобы потом читать (или повторять) уже только эту свою рецензию с наслаждением и уважением. И перечитывать (пересказывать) неоднократно с уважением неубывающим. И хвалить себя, обзываясь нежно айдапушкиным, айдасукинсыном.
Не вспомню, сам ли Борхес обнаружил перерождение массового читателя в массового же писателя или по обыкновению своему процитировал кого-то, но он, кажется, был первым гениальным литератором, даже не пытавшимся писать романы, а так прямо и сделавшим литературной классикой рецензирование книг, в том числе и несуществующих. То есть он научился судить о текстах, которые никогда не читал (по той причине, что и написаны они никогда не были). Отзыв, отклик, коммент, твит по поводу какого-либо произведения стали, таким образом, понемногу важнее самого произведения, а затем возможны сами по себе, без произведения, и теперь превратились в самодостаточный жанр новейшей литературы.
Итак, на смену обитавшему в XX веке читателю, человеку-с-книгой-в-метро, человеку-с-книгой-в-бухгалтерии, человеку-с-книгой-на-иконе, человеку-с-книгой-на-костре, человеку-с-книгой — в XXI веке явился особенный, ни на что не похожий писатель нового типа, человек-без-книги, но готовый, кажется, в любую минуту всех изумить, написать какую угодно книгу по какому угодно случаю. Писатель этот высококультурен, а стало быть, ленив. Ненищ и оттого заносчив. Он чувствует в себе силу необъятную и написал бы сам не хуже любого (отчего и не читает ничего), но все недосуг.
Современный писатель водится, как и старинный читатель, и в бухгалтерии, и в метро, и, хвала демократии, в майбахе. Но на иконах и кострах не замечен. Тем и отличается.
Будучи одним из таких писателей, я обращаюсь ко всем таким писателям со следующим предложением.
(Взываю к вам через РПионер, первый зашагавший в ногу со временем журнал, у которого читателей почти столько же, сколько писателей.) Слушайте меня, писатели. Давайте вместе сделаем хороший роман.
Каждый из нас: 1) может писать книгу, но пишет твит и sms; 2) хочет прославиться, но не может выкроить в своем распорядке необходимые для этого пятнадцать минут; 3) страстный поклонник всего своего и желчный критик всего другого.
А ведь нас, таких, тьма. Если каждый пришлет хотя бы по sms на заданную тему и уделит общему делу по пять минут, то ведь это будет вещь потолще фауста гете и минимум полувек великой славы. И если каждый из нас, писателей, купит потом эту нашу вещь, то ведь это будут неслыханные тиражи. А если еще и прочитает, хотя бы не все, хотя бы свой фрагмент, то к нам не зарастет народная тропа.
Воодушевленный не то успехом, не то провалом, чем-то неопределенным, но очевидно бурным своего «Околоноля [gangsta fiction]», вознамерился я наговорить новое сочинение. На этот раз в жанре «gaga saga» под названием «Машинка и Велик». Или «Упрощение Дублина».
«Околоноля» был назван одним известным критиком «книгой о подонках и для подонков». Хотя, как мне казалось, я пытался рассказать про обычных людей. И даже про хороших. Видимо, не получилось. Будем считать «Упрощение…» второй попыткой сделать книгу о хороших (их еще иногда называют простыми и бедными) людях для хороших людей.
Приступив к осуществлению своего дерзкого замысла, я быстро обнаружил, что «не в силах рассуждать», что выдохся еще там, «около ноля», а здесь, на «машинке и велике», продвигаюсь очень медленно и едва ли справлюсь. По причинам, указанным в первом абзаце моего обращения.
Вспомнив, что многие очень вроде бы неглупые и даже известные люди выражали уверенность, что я не один человек, а сразу несколько, что «gangsta fiction» писался целой бригадой литературных таджиков, я подумал себе: почему бы нет! Почему бы в этот раз и вправду не попробовать? Сразу скажу, таджики взялись было, но отступились — мудрено!
Тогда я вспомнил о более прогрессивном методе — crowd sourcing, или, как раньше говорили, народная стройка. Обращаетесь через интернет или прессу к кому попало: помогите сделать убыточную ртутную шахту рентабельной, разработать новую вакцину от гриппа, изготовить soft для управления свинофермой, сетью звероферм, подготовить новый градостроительный кодекс… Тут же сбегается тридцать пять тысяч добровольцев — и готово дело!
Так, по крайней мере, утверждают пророки wikiвека. Давайте попробуем, правда ли. Напишем роман всей толпой, методом crowd writing.
Вот я выкладываю в РПионере начало романа, все, что смог пока сделать. Пусть этот текст будет открытой платформой, на которой каждый желающий волен построить любой сюжет. Вы можете отказаться от заданной в начале тональности, перетащить действие в иные сколь угодно отдаленные места, погрузить выведенных на сцену персонажей в автобус и столкнуть его чавкающим оползнем с дороги в пропасть.
Каждый может внести посильный вклад, сколько не жалко — реплику, диалог, описание природы, замечание, целый роман, целых два, три, четыре романа, сноску, стишок, твит, просто идею, подсказку… Все пойдет в дело.
Каждый соавтор будет назван при публикации. А то, что не вклеится в коллективный коллаж, будет издано приложением к будущей книге и явится неотъемлемой ее частию. Гонорар будет поделен по-братски между всеми писателями. Убытки же, если таковые обнаружатся, не волнуйтесь, возьму на себя я. Или Андрей Иваныч Колесников, что было бы даже и лучше.
Писатели! Толпы писателей! Делайте первый в России wikiроман, присоединяйтесь к хорошему делу.
Пишите роман по адресу: ruspioner@ruspioner.ru (с пометкой wikiроман).
Принимаются тексты любого объема, присланные до 1 октября 2010 г. и позже.
Ваш Натан Дубовицкий
P.S. Роман будет посвящен русской милиции и издан в ее поддержку. Кто не согласный, просьба не беспокоить.
I did the dragon’s will untill you came.
§ 1
Сквозь дребезжащее от ветра, в нескольких местах треснувшее грязное рязанское небо глазел на пустой и звонкий, как предутренняя улица, космос отставной милиции майор Евгений Человечников по прозвищу Человек. В космосе не было ни души, только чирикал одинокий ушастый спутник, и зияла посреди несияющих сизых звёзд заледенелого млечного пути безымянная чёрная дыра.
Человек стоял на крыльце своего бревенчатого офиса, задравши собачью, как у св. Христофора, голову. На усталом туловище развевалась старая форменная куртка без погон, пальцы рук перебирали искрящуюся сигарету, пачку сигарет, горелую спичку, спичечный коробок. Пальцы ног шевелились от холода в простывших шерстяных носках и войлочных тапочках, — Человек ходил в офисе по-домашнему. Он вышел было на воздух перекурить, да увидел наверху космос и принялся его рассматривать. Так случалось с ним почти всегда во время утренних перекуров: выйдет на минуту, а задержится на час, а то и два, три. Благо, спешить было особенно некуда. Хотя бизнес у него был теоретически круглосуточный, заняться было на работе решительно нечем.
Когда-то Человечников был начальником милиции. Ждал перевода с повышением в город поприличнее нашего, вроде Воркуты или Нарьян-Мара. Но когда из центра поступило указание ругать советскую власть, становиться всем поголовно негодяями и повсеместно внедрять капитализм, капитан Человечников, будучи дисциплинированным и очень тогда партийным товарищем, сразу, как полагается, стал капиталистом. Попробовал и негодяем, но как-то не сложилось. Справив себе на прощание звание майора, он уволился из государства и первым в стране занялся частным сыском. Звал за собой и подчинённых, но те только потупляли взоры, тупо потели и ритмично поскрипывали портупеями.
«Ну и дежурьте здесь за копейки деревянные, — надсмехнулся над ними майор и вышел вон из отдела на волю. — А я буду сколько хочу получать, у частников зарплаты беспредельные».
Он выпросил у жены домик только что усопшей тёщи в пригородной деревеньке Рязань, прибил на этот домик фанерный лист с надписью «Частный детектив 24 часа» и уселся у печки ждать заказчиков.
Года два подождал, не дождался, насовал в старый холодильник дешёвого пива, прибил к домику ещё один лист фанеры с надписью «И пиво» и опять уселся у печки.
Дело, шедшее до сих пор ни шатко, ни валко, пошло теперь довольно шатко. По некоторым понедельникам из барака напротив забредали трагическим способом отдохнувшие за выходные синие и зелёные от вина и драки граждане. Они брали взаймы пива, пили его тут же у холодильника, избивали себя с помощью друг друга, крали что-нибудь неважное — ручку ли дверную, авторучку ли — у детектива и шли на комбинат починать трудовую неделю. Так что, если раньше не было ни доходов, ни расходов, то есть никакого бизнеса, то теперь бизнес был определённо — убыточный, но настоящий.
Но если пивной торг приносил если и не прибыль, то хотя бы убыток, то есть всё-таки более, чем ничего, то сыскной промысел не давал никакой отдачи. И это было Человеку обидно, ведь он считал себя профи и столько криминалов наловил пока служил милицаем, что кабы платили бы ему червонец старыми за голову, давно имел бы он солидный капитал. Но тогда не платили, не платили и теперь, хоть и по разным причинам. Не шёл косный клиент к частнику искать пропащее авто, ловить гуляющую жену, просить защиты от лихих людей.
Однажды лишь явились к нему бабка с внуком семидесяти/пятнадцати лет, наперебой вереща про обувной магазин и шиномонтажную мастерскую. Мол, владеет ими их сын/папа, который несправедлив и вреден, и пьян. И держит свирепых любовниц, разлучающих его с роднёю и поглощающих весь шиномонтажный дивиденд и туфельный, ботиночный и сапожный навары почти полностью тоже. Так вот и не остаётся на мати его, и на жену его, и чадо его ни цента, ни евроцента, ни пыня, ни полушки, ни какой иной денежки.
Только на в десятый раз заданный майором вопрос «Чего, собственно, от меня изволите?» внук, наконец, взял со стола бумажку и карандаш, записал что-то и протянул детективу. Человечников прочитал: «У… папу». «Что папу?» — не понял он. Внук взял бумажку обратно и, поспешно дочеркав несколько слов, вернул. Теперь в ней было: «Убить папу. Две тыс. у.е. Оплата после». Майор удивлённо уставился на посетителей. Тогда внук выхватил записку у него из рук и, дописав чего-то ещё, опять протянул ему. Дописано было: «после убийства. Кэш. Сразу. Как понял?» Детектив не понял. Тогда внук опять отобрал бумажку и засунул её себе в карман. Человек посмотрел на внука тонко-претонко. Внук переложил бумажку в другой карман. «Не понял», — сказал Человек. Внук вынул бумажку из другого кармана и тщательно изорвал. «Я частный детектив, а не», — заявил Евгений Михайлович. Юный заказчик выбросил скомканные обрывки в форточку. И убежал. Бабка ринулась за ним с воплем «Забыли, начальник! Ничего не было!» Начальник матернулся им вослед и посмотрел в окно, убрались ли. Бабка была уже далече, внук же ещё здесь, прямо под окном собирал с травы и луж разлетевшиеся клочья своей записки и поедал их. Заметив в окне майора, не доел и был таков. На том коммерческий сыск и заглох.
Жена Человечникова Человечникова любила и во всём поддерживала, но намедни не выдержала и стала выговаривать: «А у сержанта фон Павелецца мерседес. А Нинка Акипова детей в Швейцарию учиться отправила. А муж её самым глупым из твоих замов был, ты сам говорил. А лейтенант Кривцов теперь генерал, а дом у него в Червонцеве трёхэтажный. А у нас масла даже нет. А менты теперь самый богатый народ в городе. А ты бы тоже мог, если бы остался. А ты ушёл. А что с того, что ты частный?» Муж молчал, ссориться ленился, а просто возразить нечего было. Жена же продолжила: «А их скоро всех из милиции в полицию переименуют. Совсем тогда словно люди заживут. Словно самые натуральные копы. А ты? А мы?» Тут Человек не выдержал, попурпурнел весь, надулся стыдом и будто лопнул, разлетевшись по комнате омерзительными ругательствами: «Воры они, воры. Мздоимцы, мудозвоны, удоды. Грабят, пытают, убивают, хуже любых бандитов. Бандитам при том и прислуживают. Какие они копы? Жопы! Жопы они! А я хоть и частный, зато честный. Не нравится, скажи — уйду. Мне ничего не надо. Кто ж знал, что так обернётся? Что при нашем капитализме милицай будет богаче капиталиста. Как наш социализм был когда-то для самых ленивых и злых идиотов наилучшим образом приспособлен, а для нормальных и путёвых людей непролазен и ядовит, так и капитализм наш таким же оказался — для злых и ленивых. Только им и хорошо. А нормальным…». Далеко хватил Евгений Михайлович, тут и Ангелина Борисовна (ибо так звали жену Евгения Михайловича) надулась и зашипела: «Фон Павелецц из горящего дома престарелых двух старушек вытащил и директора ихнего. Он удод, он жопа? А у сержанта Подгорячеева, по радио сказали, после командировки в Ингушетию на две ноги меньше стало. Он злой? Он ленивый? А насчёт социализма… При социализме ты повышения ждал. А сейчас чего ждёшь? Повешения? Пока мы все околеем тут при тебе? Социализм, капитализм… Развёл философию! Ксюхе в школу через год, Ирке замуж тогда же, самое время философией заняться! Философ нашёлся, тоже мне! Спиноза ты хуева, бляцкая Сковорода! — и без перехода. — Вернись, любимый, вернись в менты. Не губи невинное своё семейство».
Удрал любимый, не дообедав, в родимый офис, протосковал в нём до ночи, да всю ночь проторчал у него на крыльце, пялясь на дырявый космос, доторчал до утра и уже собрался было идти в отделение проситься назад в милицию, и уже посмотрел на часы, и увидел там восемь, и решил «пора!», и небо уже подёрнулось белыми и серыми пеленами — взошло на него утреннее, вместо солнца, скучное кучевое облако, как вдруг…
Как вдруг ущелье между сугробами улицы наполнилось светом фары, бормотанием мотора, скрипом об убитый снег узорчатых покрышек, ароматом сгоревшего в моторе бензина, тихим грохотом крепкого рэпа поверх не по-зимнему приспущенного бокового стекла — и возле Человечникова остановился автомобиль, судя по облепившей его нездешней, высококачественной, возможно, даже импортной грязи, прикативший из прекрасного какого-то далека, из мест куда лучших, чем эти, как минимум из Москвы.
Из автомобиля вышел рослый молодой тунгус в недорогом, но добротном пальто и щегольских чёрных очках, поднятых на лоб. И лоб, и нос, и глаза, и самое лицо его были, как и у всех почти тунгусов, плоски и желты и казались мягкими, масляными. Таким же мягким и масляным показался и его голос.
— Майор Человечников? — спросил приезжий.
— Так точно. В отставке, — ответил майор.
— Я майор Майер, — тунгус подал Человеку руку, тёплую, мягкую, жирную, как круассан.
— Рука у него, как… кракассон, — подумал Человек.
Это была его последняя мысль, последнее, что он подумал в первой, незначительной и незамечательной части своей жизни, которая завершилась. Ибо сразу после этой куриозной, неграмотной фразы, с той самой секунды, как Майер стал излагать цель своего прибытия, началась вторая жизнь Человека, замечательная жизнь, раскрывшая его высокое предназначение, жизнь страшная и славная.
Люди, люди, для чего вы все? Бывает баба, дура дурой, даром что смазлива, да и то на любителя, голова полая, душа наподобие небольшой коровы. Пройти бы такой бабе по миру мирно, родить бы ей детей, и мужа бы ей бояться, и щи ему варить, ему и детям — и все дела. Но нет, глядите, влюбился в неё какой-то важный гость, забрал себе, и звать его Парис, и начинается Троянская война, и Гомер пишет Илиаду, Вергилий Энеиду, и Эней бежит из Трои к берегам Тибра, и вот — строится уже Рим, сначала один, а за ним второй и третий, нашенский. А бабы той давно нет, и даже не поняла она полою её головой, причиной каких величайших свершений она явилась. И наоборот, бывает полководец, проживший на свете лет девяносто, из них семьдесят пять провоевавший, победоносный, поразивший всех умом, силой, красотой, красноречием, дерзостью, отвагой, хитростью, добротой, щедростью и прочими штуками. Написавший мемуар, изучаемый в школах и университетах. Блестящая судьба, загромождённая великолепными событиями. А между тем, провидение послало этого, положим, хоть и Велизария, или того же Августа, или Буонапарте, или Конева не для всех этих Рубиконов, Прохоровок и св. Елен. А за тем лишь, чтобы великий полководец ещё в детстве, до величия своего задолго, лет будучи, к примеру, шести от роду, упал бы, допустим, в саду и ободрал коленку. И сорвал бы лист подорожника и залепил бы им царапины. И вот чтобы этот-то лист-то вот этого самого подорожника-то и сорвать в эту самую, а не в другую какую минуту, и послал бох упомянутого Августа на землю. Потому что для достижения высшей, неведомой нам, а ведомой только богу цели не обойтись без этого листочка, без того, чтобы его не сорвать. А вся полководцева жизнь после листочка, после того, как он, сорвав его, исполнил своё предназначение и послужил, не ведая того, неведомой высшей цели, вся жизнь его со всеми незабвенными фермопилами и бостонскими чаепитиями, катилась просто по инерции и не имела уже ни малейшего смысла с точки зрения истинной истории.
Не фермопил надо было истории от неутомимого героя, листочка подорожника надобно было ей от него. И получив своё, воля божия устремилась выше, к горним целям своим, по цепям отборных причин и следствий, позабыв об исполнившем долг и бросив его бестолково возиться с громко гремящими стальными пустяками посюстороннего величия — властию и войной.
Вот и в то утро, по известной склонности к сатирическим поступкам, пришла богу охота сделать исповедником пути своего и жезлом гнева своего, и словом закона своего, и мерой суда своего ничтожнейшую из тварей, дрожащую на морозе возле нищей хибарки напротив барака, кормящуюся презреннейшим ремеслом ищейки у самого дна ненавидимого и грозного сословия силовиков — Евгения Человечникова. Бох воззвал к нему гласом майора Майера и явил его городу и миру, говоря «вот ваш спаситель».
Впрочем, ни один из майоров не понимал — по крайней мере, в то утро — что они уже не сами по себе, что сделались орудиями творца. Между ними, по их разумению, всего лишь состоялся, что называется, деловой разговор, пускай и важный, но вполне от мира сего. Что же делать? — хоть и призван, а всё туп и глух раб божий, как обух топора, которым приколачивает судьба вещи вселенной к отведённым для них местам.
О том, для чего жил наш спаситель, о недавних, свежих в каждой памяти славных и страшных событиях, в которых он столь деятельно участвовал, о трудах и ранах этого незаурядного существа, о нём, о Человеке — сказывается предстоящее сказание, печальная повесть с неясным пока финалом.
§ 2
С утра сыграли угрюмую свадьбу. Выдали Жанну за Мехмета. Жених и невеста, опухшие от недосыпания, расписались в минут девять девятого примерно. Зачем так рано, никто не понял. Зимнее солнце взошло, или нет — нельзя было разобрать из-под могучих куч мёрзлого пара, заваливших пригородное небо и самый город, и горожан в нём. Гости наполовину опоздали, наполовину же столпились молча, помятые, почти неумытые, тупые спозаранку. Спросонья не способные растормошить стоящий на тормозе мозг.
Со стороны жениха, откуда-то с гор на корейских приземистых кривобоких машинках съехали строгие люди какой-то южной нации, каких в здешних краях не видано было никогда. С виду — вроде наших евреев, из тех, что нет-нет, да и встретятся понемногу в неприветливом нашем регионе то в виде учителя физики, то маркшейдера, гинеколога, а то вдруг военкома. Такие же чернявые и некурносые. Только у евреев взгляды, как известно, добрые, насмешливые. А у этих глаза были жёлтые, злые, острые, как зубы.
Расписавшись, отнесли пучок импортных ромашек к изваянию неизвестного поэта, в дальний левый угол главной площади, куда все свадьбы заворачивали перед тем, как загулять. Потом пошли в больницу попитаться спиртом, попить воды, закусить в госпитальной столовой. Жанна работала медсестрой, и коллектив учёл её стеснённые обстоятельства, не позволявшие устроить брачный пир ни дома (9 кв. м.), ни в кафе (никак не менее десяти тыс. руб.). И хотя столовая была предоставлена аккуратно в промежутке между завтраком и обедом, несколько тяжело жующих больных всё-таки не успели до свадьбы доесть и возились ещё то тут, то там со своими полбами и воблами.
Один хлебал из миски прохудившейся сломанной челюстью, скреплённой кое-как медной проволокой. Другая, терзаемая как электротоком свирепым тиком, не могла, не могла, никак не могла попасть ложкой в огромную тарелку. Было ещё некто с гипсовой головой, как у фальшивого Адониса из школы рисования. Спереди имелась в гипсе булькающая дырка для подачи полбы внутрь, в настоящую голову, помятую грузовиком и припрятанную по-матрёшечьи от греха подалее в голову внешнюю, искусственную.
Были и прочие разные, кто в бинтах и пластырях, кто без бинтов и даже без рук; и пылал кумачово в гриппозном жару сбежавший из инфекционного отделения очумелый сорокаградусный старичок.
Жаннины родственники и приятели, и сама ставшая женой Жанна стремглав напились, зауважали больных, закружили их в лихом вальсе, загалдели с ними про всякие Собчаки и Канделаки. И про проигранный футбол. И про глобальное потепление. От которого, бох даст, затопит всю низменную европу океанами и морями, и побегут, станут карабкаться к нам на среднерусскую возвышенность, словно ноевы твари на новый арарат — англичаны, французы и голландцы; и станут нам прислуживать заместо таджиков на оттаявших многоурожайных полях, усеянных манго, виноградом и тучными поросятами. Спор был о том, разъедятся ли широко в глобальном тепле наши собственные худосочные пока подсвинки, или же прибудут беглые с запада, уже жирные, вслед за англичанами. Из гипсовой головы нетренированный треснувший тенор исполнил шлягеры давних эпох, несколько вскриков «горько» и просто вскриков.
Жанна была красива той незабываемой, ни на что не похожей отчасти идиотической красотой, которой отличаются женские портреты фрисландской школы XVI века. Мехмета она увидела месяц назад на рынке, где тот по обычаю своего племени торговал уругвайским хреном. Она что там делала, хрен ли искала, или не искала хрен, а чего другого домогалась, это точно теперь сказать нельзя. Поскольку пошла за чем-то, а когда до рынка дошла, забыла за чем. Получается, за Мехметом сходила. И вот любовь, вот свадьба, вот судьба.
Жених, Мехмет неустановленной национальности, был и по специальности неведомо кто, но точно далеко не мехмат и оттого молчал, мало соображая по-русски; да и по-своему понимая едва ли, кажется, более. Молчали и гости с гор, правоверно уклонялись от спиртного; с кафирами и гяурами не разговаривали. От нечестивого сала отводили взоры к югу, молились полувслух, заполняя больничные закуты глухим благочестивым гулом.
К десяти а.м. спирты были попиты, песни попеты, побиты были два-три лица, как положено; и сверх того — одна какая-то харя. Праздник опустел, иссяк. Жених и его южане уехали, забрали Жанну, увезли её к себе на горы. Прихватили и старика из инфекционного, как-то там оказавшегося родом с одной из этих гор.
Гости из местных либо разбрелись спать по больничным палатам, либо улеглись здесь же, в столовой, кто на столах, а кто попроще под столами. Не так уставшие направились на работу. На улице и в дверях сталкивались с опоздавшими, спешащими попить и ужасающимися от известий о шапочном разборе, закрытии свадьбы и отсутствии напитков. От ужаса гости опоздавшие, трезвые и по причине трезвости злобные, дрались с успевшими и оттого успешными, заслуженно пьяными гостями. Пьяные же широко отмахивались, зычно поучая неудачников: «А ты не спи, не спи; кто рано встаёт, тому бох подаёт», — и увлекали их за собой на горнорудный комбинат забыться вместе горячим камнедробильным трудом, от которого голова дурела не хуже, чем от водки.
Глеб Дублин был из опоздавших. Он попрыгал по больничному двору, поборолся с перемахнувшим через бетонный забор вертлявым ветерком, увернулся кое-как от него, отбежал за гараж, чуть не упал и спросил у прислонённой к гаражу жанниной матери, правда ли, что всё кончилось. От шума его вопрошания заколыхалась большая и старая, как атомная бомба, баба, и на поверхность её обширного лица всплыли из хмельного тумана разноразмерные зрачки, похожие на тусклые пузыри пустоты. «Ну, тут толку не будет, — догадался Глеб. — И так видно, что всё. Кончилось, кончилось… И так видно…».
И будто нарочно образуя собой эмблему безысходности, стая молчаливых чёрных всепогодных птиц, гнездившихся в вентиляционных трубах корпуса общей хирургии, взлетела вдруг и скрутилась в бешеный смерч над уходящей свадьбой, над больницей, над больной его головой. Он осмотрел долгим ноющим взглядом распростёртый перед ним как бы в обмороке бескрайний, однообразный, плоский, как голодная чёрствая степь, четверг, на котором не было видно ни единой живой души, хоть сколько-нибудь пригодной для выдачи взаймы пусть самых скудных средств ради самых простых нужд. Ни малейших денег, ни капли спасительной аквавиты вокруг — только бесплодное, ни на что не годное местное время. Девать это глупое время было решительно некуда, некуда было и податься. Раньше на такой крайний случай можно было пойти на работу, но уже две недели как Глеб был безработен. Ввиду же того, что изгнан он был с горнорудного комбината за прогул в нетрезвом состоянии, устроиться куда-либо было затруднительно, ибо комбинат был мстителен и всесилен, контролировал практически все учреждения города. Самый город, в сущности, прилагался к комбинату, зависел от него полностью.
Засекреченный наглухо ещё в бывалой загадочной стране Ссср и до сих пор толком не рассекреченный, комбинат этот вынимал из глубоких шахт серый колючий камень, многозначительно называвшийся изделие-сорок-четыре. Затем камень этот дробился, делался щебнем, точнее, изделием-сорок-четыре-один. И уже потом стирался в мощных мельницах в окончательный готовой продукт — изделие-сорок-четыре-один-эм, то есть, в серую колючую пыль. Для чего получалась пыль, знать было запрещено. Она засыпалась в вагоны с надписью почему-то «сахар» и оттаскивалась куда-то на северо-северо-восток, как говорится, куда следует.
§ 3
Город назвался Константинопыль, поскольку пыли этой нашёл какое-то таинственное и наиважнейшее применение академик Константинов. Уроженец, к слову, здешний, из пригородной теперь деревеньки Рязань родом. По результату его открытия после второй мировой и от предчувствия третьей и вырос из-под Рязани могучий промышленный гигант, обзавёлся городом и железной дорогой, и даже взлётной полосой. Отросло у гиганта сбоку даже кое-какое шоссе, но дотянувшись за полвека с перерывами и перебоями как-то там почти до безымянного посёлка, где сегодня добывает болотный газ совместное немецко-ненецкое предприятие, а раньше ничего, кажется, никто не добывал, — закончилось кучей древнерусских дров, из которой торчит указатель на Москву, повёрнутый, впрочем, ветрами и хулиганами совсем не в ту сторону.
Константинопыльцы собой весьма гордились, поскольку считалось, что без продукции их комбината отечеству нашему и дня не простоять. Шептались: то ли шла секретная пыль на удобрение, без которого ничего, кроме плесени, не произвела бы земля в докучливом нашем климате, так что не видать бы нам ни ржи, ни репы, ни опят; то ли на начинку грозных пыльных бомб, наводящих страх на коварные истеблишменты супостатических держав и удерживающих их от нападения на нас, а так ведь напали бы, юроды, давно ведь зарятся да завидуют. Но что бы там ни было, бомбы ли, удобрения ли, все сходились на том, что без пыли никак нельзя. И что в администрации у Президента имеется особенный чиновник, исполняющий всего одну, зато очень почётную и хлопотливую обязанность, — нощно и денно крепко задумываться и тщательно раздумывать о Константинопыле и его обывателях.
Город привольно раскинулся в семи оврагах на пологом берегу легендарного Средиземного болота, самого большого болота в мире, площадью четырнадцать с четвертью квадратных австрий; на тех благословенных широтах, где не нужно постоянно уворачиваться от теплового удара. Где не тратятся счастливые люди на солнцезащитные кремы, кепи и очки. Не носят нелепые шорты и бермуды, не надуваются прохладительными напитками до шарообразного состояния. Напротив, предпочитают питьё горячее и горячительное и состояния соответствующие.
Тутошнее лето величиной примерно в полтора-два обычных месяца напоминало Дублину ад, каким он представлялся знатному ересиарху псевдоФокию Альбигойскому. В его не самом главном, но ставшем популярным в XIX веке труде «Плоть, ставшая словом, или Молот папы и папистов» пишется: «В преисподней же нет никакого огня, о котором толкуют глупцы и гвельфы. Там не жарко, а только душно и влажно. Там всегда идёт дождь и некуда укрыться, ибо всё промокло насквозь и на века. Грешники там не горят, но гниют заживо, предаваясь не пламени негасимому, но неутолимой скуке». Родимая земля, непрерывно поливаемая всеми видами дождей, обращалась в грязь. В краткие междождевые паузы встревали и набивались тьмы комаров и мошкары, носились за разбегавшимися людьми и скотами, настигая же, отпивали у них кровь. Миллионы лет плохой погоды направили эволюцию всех без исключения живых существ в одном направлении. Суслики и воробьи, лоси и люди, грибы и травы научились жить на сжиженных почвах под моросящей водой и оттого были какие-то прибитые на вид, селились и стелились все где-то понизу, а цвета стали поголовно серого. В тот же защитный цвет грязи красились и плавучие танки и боевые баржи охранявшей комбинат Первой болотной флотилии.
На такое лето уходили горожане в запой, либо играли в подкидных, переводных и прочих дураков, шлёпая по столам отсыревшими липкими бубнами и червями. Либо с утра до вечера глазели кто в окно, кто в телевизор, кто в интернет, и там, и там, и там наблюдая одно и то же развлекательное отражение и подмигивание, подёргивание и подпрыгивание сутулой своей судьбы. От этих зрелищ становилось на душе как-то неумно, нескладно. Привязывалось к сердцу изматывающее, как хроническая простуда, недоброе веселье. Непосильной странной радостью исполнялись дни. Граждан тянуло озоровать, куролесить и бедокурить, так что они прятались друг от друга кто куда.
Небо над гражданами бывало рябым, серым, как лужа на асфальте, и до того мелким, что аэробусы повместительнее и привередливые дримлайнеры не могли в нём летать. И созвездия не все в нём помещались, только левые какие-то, бледные, будто поддельные. И луна не вся, а только краем, не больше восьмушки. Журавли и соколы облетали эти воздушные мели, сторонились этого нелётного неба. Ходили только по нему мохнатые мухи да порхали на ветре верхом похожие на мух ушлые пухлые вороны, называемые в народе голубями.
Но иногда кончалось и это нелёгкое лето. И зима наступала столь быстро, что едва успевали проскочить перед ней, как резвые дети за сверкающим мячом перед неотвратимым камазом, три недолгих недели осени. Зато какой осени, какие недели!
Тучи дождей и мошек задвигались за горизонт. Застенчивое солнце просушивало души и прогревало сердца. Дни прояснялись, а иные ночи получались и пояснее дней: на ослепительно серебрящиеся и серебрящие всё окрест луны и венеры таких ночей больно и сладко было глядеть.
Листья на деревах и под ними становились мягкие, шуршавые, разноцветные, как деньги. Они пестрели и падали; и первыми облетали ольхи, за ними оголялись осины, гладкоствольная черемша и черёмуха. Зато зацветали вершень, поздняя жимолость и кудрявая чепушина, и цвели хоть и не долго, но избыточно, бешено, нахальными охапками кричащих цветов. Калина пышными грузными гроздями ягод гордо алела в аллеях и огородах, но не как бордо, или костёр, или закат и кровь, а просто как бох знает что. Нежное, нежаркое солнце бродило, как янтарная брага, среди рыжих полупрозрачных клёнов, грелось возле тлеющих их крон, куталось в истончающиеся сады, в осыпающиеся рваные парки. Сады и парки были желты, красны, коричневы, пламенны. Осень сияла, как праздничная галлюцинация. Темнели только тёмнозелёными верхушками взлетающие из уцелевших среди города дремучих лесов высоченные, тонкие корабельные ели, из которых сколачивали живавшие тут до прихода руси чухонцы свои толстозадые быстротонущие еловые корабли. Чухонцы носились на тех судах туда и сюда, по рекам, озёрам, порой морям не для торговли, войны и рыбной ловли, а так, по бестолочи своей чухонской и зряшной удали. Острые, похожие на пики ёлки смотрелись как на фресках италийские пинии на фоне писаной прямо по сухому небу утренней (с утра до вечера — всё утренней) синевы.
Люди от этой синевы ходили счастливые, влюблённые, загорелые. Суслики ликовали. Ворковали воробьи. По указанию генштаба два дембелеватых ефрейтора покрывали пузатые танки по сезону сусальным золотом и багряной крапиной. Так что неугомонный враг, случись ему напасть по осени, ни за что не отличил бы, где наша армия, а где в багрец и золото одетые леса, растерялся бы и отступил в смущении.
Дублин подумал, а думал он не словами, предназначенными отделять и отдалять человека от любви и боли, а прямо так, поверх слов, сразу острой, торопливой тоской, заменявшей ему рассудок. Подумал, почувствовал: за давящей далью данного дня ещё одна длинная даль такого же дня, и потом ещё такого же, и много таких же. Сто, тысяча, миллион, целая зима таких дней. Из-под зимы же выход один — в несветлую, неспешную, несвежую, неверную весну. А кому и весну по силам претерпеть, тому опять-таки не воля выходит, а тучами затянутое известно уже какое лето. И лишь затем, и лишь для тех, кто довременил, дотерпел — прекрасная, наконец, осень. «Вот ведь нескоро же осень будет», — подумал Дублин. И жалобно зевнул. И додумал: «Вот ведь и выпить нечего». Он был пьяница.
Из тех, впрочем, пьяниц, каких надобно желать побольше, то есть человек тихий, в некоторых случаях работящий, всегда уступчивый. Пил не то, чтобы очень много, но постоянно бывал либо на взводе — перед тем, как выпьет; либо навеселе — после того, как. В таком отчасти угорелом, приподнятом настроении он и парил по-над реальностью. Как многие наши соотечественники, жил не в жизни, хотя и недалеко от неё, из виду её не терял, но всё же не в ней, а чуть в стороне. Ходил на воздухе, то во хмелю, то с похмелья, ни одной мыслью, ни одним своим мигом не касаясь земли. Такие люди не падают, не пропадают не потому, что умеют летать и знают, как не пропасть, и планируют, как попарить и не пропасть, а именно наоборот: как раз потому, что ничего не понимают, слышат не то, говорят не о том, выводы делают неадекватные, желания имеют неуместные, возможности свои оценивают неправильно. Оттого и живы, что от жизни отстали. А жизнь, как гружёная краденым барахлом цыганская кибитка, не укачала, не утрясла их до смерти, а умчалась без них, прыгая на ухабах, к обетованному обрыву.
Тут нельзя не заметить кстати, что и в целом наше племя, именуемое в исторических хрониках святой русью, как-то в обычной жизни не помещается. И залезть как в неё, не знает, а если и залезет, не приложит ума, чем в ней заняться, имея об устройстве действительности и об её практических законах какие-то не идущие к делу, часто фантастические представления. То возьмёт, за это возьмётся, заведётся вроде, загорится, заживёт; да вдруг и заскучает, и замрёт. Присядет перекурить, посидит, посидит, да и выпьет. Взят Париж, и Берлин взят; натружено, намолено из шестой части суши полуглобальное имперское имение, и вдруг роздано даром в порыве стыда и покаяния; заведены вместо империи парламенты на аглицкий манер и липосакции на американский; украдены у любезного отечества миллиарды долларов и успешно уложены в инобанк. Улыбается святорусский гражданин, поёт, гордится. А глаза всё грустные, всё неймётся ему, не можется, всё кажется — не то, вздор, и весь этот вздор зря.
— Пошли отсюда, — нежно сказал Глеб мальчику лет десяти, одетому в красную шапочку, невпопад синее пальтишко и довольно новые угги, на которых сверкали самодеятельно вышитые осы, цветы и драконы. У мальчика были такие же, как у Глеба, огромные светлоосеннего цвета глаза, делавшие его несколько похожим на мага огня из японского комикса, и такого же цвета волосы, густые, тяжёлые, словно золото. Изо рта его торчал черенок чупачупса.
— Пап, ты же сказал, что будет торт, — удивился мальчик.
— Ну вот видишь ли, нам с тобой не досталось. Всё уже съели. И выпили.
— Это я виноват? Потому что долго собирался?
— Нет, нет, это не мы опоздали. Они поторопились.
— Куда же мы пойдём, па?
— Куда хочешь.
— К Жанне.
— Её нет.
— Где она?
— Далеко уже. Замужем. Вышла. Ушла замуж. Уехала.
— Тогда к дяде Саше. У него сахар есть.
— Дяди Саши нет дома.
— Опять забрали?
— Опять.
— Опять подрался с тётей Сашей?
— Опять. И с Колупаевым. И с Алёшей Сироповым, братом Петрушки из твоего класса. И с дирижёром. С пианисткой, с тремя скрипачами. И вообще со всеми, кто там был. В филармонии. На Нетребке. И с Нетребкой. И с милиционером, которого вызвали.
— Ты же, пап, говорил ему на новый год, чтобы он не запивал коньяк шампанским.
— Говорил.
— А он?
— Запил, надо думать.
— Ну надо же, — замолчал мальчик, не понимая, к чему игнорировать дельные советы.
Глеб почесал правое покрытое инеем ухо собачьей ушанки, после своё левое, предложил:
— К отцу Абраму? Ему богомольцы конфеты иногда дарят.
— А богородица?
— Отвернётся, не бойся.
— Тогда можно, — согласился сын. — Хотя конфеты редко. Чаще вино дарят. Ты много, пап, не пей.
— Нет, нет, Велик, я чуть-чуть, только для бодрости. Да может, и нет у него сегодня вина.
— И конфет, может быть, нет. Пошли.
Глеб и маленький Велик направились от больницы к болоту, на отшиб, где проживал их приятель монах Абрам. Отлучённый от церкви, расстриженный и рассерженный, он тем не менее продолжал самовольно монашествовать и вёл настолько подвижнический образ жизни, что был заметно популярнее среди местных провославных, чем иные потомственные карьерные попы.
Он был мастером произносить незначительные слова с каким-то духоподъёмным благоударением; сообщить своей, в сущности, штангистской физиономии необщее выражение засахаренной надмирности. Богомольцы так и липли к нему, богомолки же в особенности. Приводили к нему исцеляться расслабленных, нищих духом, бесноватых. Таскали иной раз даже покойников для оживления. Полагали, что город спасся от истребления птичьим и свиным гриппами исключительно потому, что приютил сего праведника. Правда, исцелился ли кто, ожил ли, об этом отзывались нечётко, больше междометиями; но к отцу Абраму ходили охотно. Не так полечиться и поучиться, как послушаться ловких слов. Посмотреться в бугристое, глянцевое, круглое, словно сладкий пирог с бородой, отцово лицо. Умилялись и оставляли на подоконнике кто бутылку вина и пива, кто конфету, десяток яиц, триста рублей, пятьдесят рублей, визитку, открытку, шерстяные носки, отпугивающий комаров дезодорант, кто что, расценок установлено не было. Кроме спиртного и кондитерского, остальное отче раздавал соседям. Конфеты приберегал для посещавших детей. Алкоголем же спасался сам, ибо держал особый пост, очень понятный для рядовых людей и среди них его прославивший так, что многие пытались повторить. Только вино да водка, в крайнем случае самогон и пиво, да жаркая непрекращающаяся молитва, да часа два в сутки не сна даже, а видениями овеянной полудрёмы. Когда же происходили заминки с горячительными подношениями, позволял себе немного расслабиться, вкушал мочёные крупы и яблоки, колбасу из чернослива, зато и молился жарче, и спал меньше.
О. Абрам, как и Дублины, был неместный. Изверженный из некоего монастыря, по его словам, дрейфующего на льдине в Северном океане, он пешком пересёк Карское море, выбрался на южный его берег и двинулся было посуху ещё южнее, в св. землю за правдой, но в первом же на суше встреченном городе, конкретно — в Константинопыле, нахлестался до положения риз джинтоника из банки, уснул и осел надолго.
Причина изгнания о. Абрама из обители и отлучения была до известной степени чудесна. Глеб и Велик знали, что рассказ о чуде им придётся выслушать снова, в бесчисленный уже раз. Если, конечно, дома чернец. Чего нельзя было знать заранее, так как о. не употреблял ничего электрического. Не то, чтобы бесовским почитал, или там брезговал телефонией и интерсетью, как местами общего пользования, а так, отвык просто за годы пребывания в дрейфующем монастыре, где было, как он выражался, всё светло и всё известно без проводов, антенн, чипов и гаджетов.
§ 4
Дублин и сын покатились на пожилом хромом джипе, который шёл как-то боком, какой-то одышливой трусцой, с приседаниями и присвистываниями. Название его стёрлось с капота и с памяти, как и имя фирмы-производителя, обанкротившейся, когда ещё Дублина-мл. на свете не было, а был полный экономический рост. А фирму всё равно как-то грохнуться угораздило.
Покатились по улицам, похожим то на пустоши, то на огороды, кое-где на свалки. Кое-где вместо улиц были энергично нарыты канавы, от которых шёл пар. Попадались и такие, от которых пар не шёл, но тоже глубокие. Канав было много, не намного меньше, чем каналов в Венеции. Но всё же город был не без своеобычного обаяния, отдалённо напоминал не то, чтобы Венецию, а даже Париж. Главным образом, благодаря тому, что то там, то сям выпирали из него опоры высоковольтных электролиний, очень похожие на эйфелевые башни.
Дома, впрочем, даже и в дождь несколько не дотягивали до дожьих дворцов, да и до парижских тоже. Преобладали двухэтажные бараки в стиле барокко эпохи послевоенного возрождения, украшенные звёздами, снопами, таинственными аллегорическими завитками, фигурами грациозных шахтёров, кое-где чудом сохранившимися пятнами античной землистого цвета штукатурки. Покосившиеся стены и колонны, вздувшиеся крыши, потрескавшиеся снопы и завитки, и самые шахтёры этих удивительных зданий были слеплены пленными румынами из какой-то трофейной трухи. Из какой-то великогерманской дряни, вывезенной по репарациям из поверженного рейха: из обломков фюрербункера, содранного с прусского автобана асфальта, аушвицкой колючей проволоки, шлаков силезской металлургии, лейпцигских головешек и обугленных кирпичей. С годами к этим импортным домам пристроились произведения национальной индустрии. Люди стали располагаться выше и удобнее, в отдельных квартирах, в панельном жилье о четырёх и пяти этажах. Случались и девятиэтажки.
На первых порах дома были как дома, ничего лишнего, никаких колонн и шлаковых шахтёров, только щели, швы да окна. Но где-то потом обыватели начали проявлять нежданную жажду остекления и расширения балконов и лоджий. Стеклили чем попало, и стеклом листовым, и стеклоблоками, и откуда-то попёртыми витражами, и плексигласом, рубероидом, масксетками, фанерой, фольгой. Расширялись тоже кто куда горазд. Высовывались из домов какие-то металлические клети и клетушки, набитые лыжами и велосипедами. Нависали над подъездами и дворами висячие жестяные дачи и целлофановые теплицы. Ответвлялись от шестиметровых кухонь сколоченные на манер нужников дощатые кладовки, из которых протекало иногда в тротуар смородиновое варение. Вывешивались из форточек, когда мороз, сумки со строганиной, салом и впрок сварганенными пельменями, привлекавшие стаи бродячих ворон, отлетавших, кстати, всегда без добычи ввиду крепости сумок и упаковок. Все эти надомные наросты, пристройки и достройки окручены были всякими кабелями и бельевыми верёвками; повсюду развевались штаны, лифы, наволочки.
Новое время, которое войдёт в историю русской архитектуры как век больших, небольших и очень больших ларьков, дополнило городское пространство витринами торговых точек, в которых торчали всё те же, везде известные и везде одинаковые баночный джинтоник, марсианский шоколад, небритый какой-нибудь Али или Мехмет и просроченные сигареты. Был ещё подгулявшими рейдерами и брокерами оплаченный новодельный храм, похожий на ларёк с колоколами. И неизбежный элитный посёлок за северной границей города из перестроенных и недостроенных краснокирпичных «коттеджей» с видом на болото и омываемый его вялыми волнами широкий городской пляж.
К этому околоболотному посёлку, на отшиб, в предместие и вёл машину Глеб. Там о. Абрам квартировал в богатом доме соломенной купчихи Сироповой, эксцентрической миллионщицы, собирательницы редкостей и несуразностей, балерины-самоучки, искательницы чего-то духовного, чуть не иллюминатки.
На повороте Червонцевского проспекта к пляжу и посёлку Червонцево кривился растрёпанный рекламный щит с улыбнувшимся лицом капитана Арктика, зазывавший двенадцатого января посетить его шоу. Сегодня было января одиннадцатое, и Дублины давно собирались обязательно посетить, но знали, что не посетят. Поскольку реклама была прошлогодняя, зависевшаяся с той поры, когда объявленная было гастроль знаменитого капитана в последний момент отменилась. Отец и сын посмотрели на щит, друг на друга, вздохнули.
Пока ехали, Глеб всё думал и заставлял себя думать, как люди, словами, чтобы хоть какой толк от думания вышел. Слова к мыслям он подбирал с трудом; житейская логика была так проста и однотонна на его слух, что он не умел как следует уловить её и различить среди путаницы в голове. И всё же приходилось напрягаться, поскольку проблема того стоила.
Не от одной мечты о выпивке темнела у него под теменем печаль. Была тема и потемнее, и поподлее, позлее: на его счёт перестали поступать деньги. Вот уже полтора месяца прошло с первого четверга декабря — и ничего.
В первые четверги мартов, июлей, сентябрей, декабрей — четырежды в год — ему перечислялись проценты с вклада. Впервые за все эти годы произошёл сбой. И самое страшное — телефон Шейлока молчал. Тоже впервые за все эти годы. До вчерашнего вечера. Вчера же ответил — дамским голосом автоответчика, твердившего сердито по-французски и, кажется, про массаж. А ведь Шейлок был британец, адвокат, а не француз и не массажёр.
Что теперь делать? Ждать? Может, конечно, и найдётся, сам на связь выйдет Шейлок, но вот ведь не выходит же и денег не платит. И какая-то автоматическая дама на его месте в телефонной сети образовалась, будто и не существовало его никогда.
Ехать искать адвоката? На билет денег нет. Занять? У кого же? У о. столько нет. Дарью просить неудобно, да и чем она богаче о. Абрама? Крокодильцев и Крахмалер в отпуске на Сахалине. Валькирия Валерьевна накопила, вроде бы, много, но не даст, потому что копит дальше, скупа. Серёжа, Юрьич, жаннина мама, — если всё, что у них, знакомых его, имеется, отобрать взаймы, а их самих распродать в рабство, то и тогда выручки достанет на билет разве что до Салехарда или Сыктывкара, но никак не на остров Буайан, где теснятся несколько карликовых королевств, живущих продажей почтовых марок и монет с портретами корон и королей, лепкой роскошных молочных шоколадов и полнейшей непроницаемостью накопительных банковских счетов.
§ 5
В городе нашем известно было, что Глеб из Москвы родом. Выходец из небольшой семьи текстильщицких учителей, замученных, запрессованных до состояния почти полной одервенелости, переходящей местами в окаменелость, полчищами агрессивных и неистребимых, в каждом новом поколении неустанно возрождающихся тупейших троечников. Выбившийся как бы в награду за труды и беды смиренных родителей в самые настоящие учёные. В двадцать пять лет он стал видным математиком, гордостью академического Института нетривиальных структур. Его вклад в размышления о фрактальных объектах, о самоподобных фантомах с дробной мерностью был изряден, работы публиковались в Антиполисе и Санта-Фе. Он был даже выдвинут на престижную Пригожинскую премию за догадку о каскаде каких-то там топологических что ли преобразований чего-то такого невразумительного. Смолоду туго задумавшийся и затихший, казалось, навсегда среди своих странных аттракторов и жутковатых множеств Жюлиа, он бы точно эту премию получил, поскольку наукой был поглощён вполне и совсем не разбирался в тех двух вещах, которые только и способны отвлечь человека от высшей математики и без которых, пропади они вдруг, все, пожалуй, стали бы высшими математиками — в деньгах и в сексе.
О последнем Глебу были на тот момент известны только разрозненные комические кошмары — падающие полые башни и долгие голые впалые площади снящихся к дождю и простуде призрачных петербургов. Перепутанных во сне немного с Текстильщиками и учебником Лобачевской геометрии, и с репродукцией картины де Кирико из папиной из спальни. Эти петербурги, что ни сон, то новые, мало, впрочем, чего общего имели с натуральным СПб, городом на Неве, который, к слову, Глеб никогда и не посещал. Они были из разряда тех особенных городов, которые нагромождаются нашим воображением на границах обитаемой реальности в упорном стремлении к колонизации хаоса и грезятся нам, когда мы этих границ достигаем.
Улицы и площади здесь пустынны, невыносимо прямы, гулки. В них тычутся узкие бездны переулков, в тревожной слепоте которых роятся бледные безглазые звуки — чьих-то сбивчивых дыханий, неосторожных шагов, прячущихся плачей и недобрых смехов. Лестницы здесь витиеваты и бесконечно бессмысленны. Полуоткрытые двери и полуоколдованные комнаты неисчислимы. Ничего не выражающие карие окна смуглых зданий обозревают закатный свет невидимого солнца.
Эти города с виду безлюдны, как луны. Но все, кто хоть однажды бродил по ним, знают — здесь всегда кто-то есть. Некто, преследующий нас, обгоняющий параллельными маршрутами, караулящий за всяким углом. Либо, напротив, от нас убегающий, кого мы ищем-ищем и не находим. Мелькающий вдали и вновь исчезающий; внезапно обнаруживающийся совсем близко. И из жадных наших, сомкнувшихся было рук скользящий вдруг вон, в сторону — с характерным, напоминающим неслышный взрыв сердца в глубинах тоски, инфразвуком, с каким ещё разбиваются самые дорогие, из отборного, наичистейшего хрусталя и фарфора сработанные мечты.
От Глеба убегала какая-то тень. По самой таинственной и меланхолической улице сна. В развевающемся платье тёмного цвета. С расправленными, как тёмный флаг на остановившемся ветру, тёмными волосами. Некто не его, другого, неизвестного ему пола. Тень катила пред собой тонкой тростинкой вроде смычка нулевидное продолговатое колесо. Глеб Фрейда не читал и сны свои, даже такие незамысловатые, истолковать не мог. Запоминались они смутно, наутро от них покалывало и пружинило в паху, и слегка кружилось нутро.
Что до денег, то он получал их из институтской бухгалтерии, не задумываясь, можно ли их получить из чего-либо ещё, и относил маме/папе, разваливающейся на некрасивые части пожилой паре пенсионеров, с которой дружно ютился в двухкомнатной разваливающейся квартире в московском районе Текстильщики.
Не то, чтобы он не замечал женщин и не догадывался о роли рублей в человеческой комедии. Замечал, конечно, и догадывался. Но сосредоточиться на них не умел. Мешали наваждения фрактальной геометрии. Изнурительная привычка мысленно перемещать все попадающиеся на глаза предметы в различные нетрёхмерные пространства. Как и прочие проявления тяжёлых форм таланта и профессионализма, эта привычка не давала видеть вещи как таковые, подчиняла их одному интересу, искажала по необходимости. Так, например, фанатичный нефролог прежде, чем влюбиться в девушку, чисто машинально определит по оттенку её кожи еле уловимые признаки лёгкой почечной недостаточности. Запнётся о них, унесётся мыслями бох знает куда, в какие-то медицинские справочники и порталы. И вот уже собран и гудит в голове его целый консилиум мировых светил-почковедов, и каждый лезет со своим — кто с таблетками, кто с оптимистическим «само пройдёт», кто с диетой или санаторией. И мерещится ему, что в объятиях у него уже не та или иная юная полина трепещет, а что прижимает он к себе густо напудренную долгоногую томноокую недостаточную почку, которую надобно не столько любить, сколько страстно и беззаветно лечить.
Если уж нефрологу так тяжело, каково должно быть специалисту по предмету и вовсе невообразимому. Пятимерную девушку не только полюбить или даже полечить, её представить-то не каждый может. А Глеб представлял, растягивал на пять гиперпространственных измерений молодую лаборантку, сворачивал в двухсполовиноймерное гипопространство секретаршу Айзеназера. Но всё это были занятия невинные, только упражнения, мысленные эксперименты, которые Глебов мозг самопроизвольно ставил не только над женщинами, но и над всем, что окружало его: автомобилями, домами, людьми, мебелью, деньгами, деревьями. Даже едой, так что и есть иногда Глеб забывал. Уставится, бывало, в тарелку и начинает моделировать про себя то гипокотлету, то гиперкартошку. И возится, и возится с ними, а обычные, съедобные трёхмерные вещи тем временем и простынут, и станут невкусны, так что, очнувшись, он и есть их не захочет.
Таким образом ни чревоугодие, ни блуд, ни стяжательство не могли отвратить Дублина от премии им. И. Пригожина, дошло бы наверняка в свой черёд и до им. А. Нобеля, но тут среди ночи нагрянул к нему домой академик Айзеназер Леонид Леонидович. Дальнейшее в нашем городе до поры было неизвестно, и вот что это было.
Этот Леонид Леонидович являлся директором Института нетривиальных структур. И ещё он был ректор университета прикладной проктографии. И проректор по хозчасти Национальной Академии духовной духовой музыки. И председатель попсовета Фонда инновационных проектов. И предправления оао «Химия-инвест». И так далее, и тому подобное. Он был Дублину покровитель и продюсер с юных лет, когда приметил в одной из школ, куда наведывался в поисках гениев геометрии, мальчика по имени Глеб, лепившего из бумаги, пластилина, или просто рисовавшего сверхсложные изображения сверхъестественных фигур. Мальчик всё время подслеповато щурился, считалось, что плохо видел, и Леонид Леонидович вмиг догадался, что видит Глеб на самом деле скверно, но не по близорукости и дальнозоркости. А оттого, что всё в его глазах усложняется и запутывается до предела, превращается в бесконечные самоповторяющиеся абстракции, воспроизводящие себя во всех возможных маштабах, во всех немыслимых системах координат, на всех уровнях растяжения, искривления, сжатия и запутывания пространства. Вот и видит он все эти лучшие из возможных миров миры пульсирующими, пенящимися, пестрящими, растекающимися и стекающими друг по другу бесконечно подробными, бездонно глубокими — с клубящимися, извивающимися в лучистых глубинах радужными фракталами.
Леонид Леонидович вывел подслеповатого вундеркинда в учёные и собирался, сверх того, вывести его и в люди. Сам же пришёл в науку откуда-то со стороны деревни Чмаровки, из пункта приёма стеклотары, точнее, из исправительного учреждения нестрогого режима, куда попал за хитроумнейшие манипуляции пустыми бутылками и порожними ящиками. До академического звания от стеклянных дел дошёл непрямо, своим умом, поторговав по пути купатами и тюльпанами, разобравшись не враз, но навсегда, что наука дело верное и может давать не меньшую отдачу, чем мясокомбинат или сеть цветочных магазинов. Разумеется, если геометриями и химиями заниматься с душой, креативным, так сказать, образом.
— Леонид Леонидович? — глядя сквозь Айзеназера себе в мозг, как по нему бегают членистоногие формулы с мигающими крылышками переменных и звонкими костяшками констант, пробормотал, открывая дверь, Глеб. — Вы что?
— Здравствуйте, Глеб Глебович, — академик был некошерно похожий на седого кабана шестидесятилетний еврей, губастый, клыкастый, бровастый, с покатыми мощными плечами, с тупыми черноволосыми ворсистыми и когтистыми пальцами на концах коротких крюковидных рук. — Можете себе представить — брёл тут неподалёку. Извините, что поздно и без звонка. Без приглашения, незваный еврей… Кто может быть хуже? Тут рядом. У знакомых. Крестили Марика. Теперь многие крестят. Не моё дело, но как-то… Русских что ли им мало? И что скажет Б-г? А вдруг как даст серой?! Или саранчой!?! Что тогда? Оно нам надо? Наживём проблему на пустом месте! Не хватает, что ли, евреям и так проблем? Обрезание, конечно, тоже не мёд. Но раз положено… А впрочем, что это я! Вы же, Глеб Глебович, в Б-га не веруете. Ни в нашего, ни в вашего. А я про серу, про обрезание. Не в них же дело. А в том, что оказался на Сиреневой, на вашей то есть, улице, и адрес ваш вспомнил. Дай, думаю зайду, вдруг не спит.
— Не сплю, — сказал Глеб.
— И я думаю — не спит, зайду.
— Да.
— Так я зайду?
— Ах, да, — как будто очнулся Глеб. — Простите… Заходите… В мою комнату… Вот здесь мама лежит. А тут папа встаёт. Иногда. А моя комната вот сюда, налево…
Комнатой Глеба оказалась кухня, заброшенная до потолка книгами, рукописями, кастрюлями, сковородами и использованными чайными пакетиками, длинные хвостики которых с жёлтыми и красными бумажками свешивались отовсюду.
— Чаю? — спросил Глеб.
— Да. Если нетрудно.
— Присаживайтесь.
Леонид Леонидович поблагодарил, но куда сесть, осмотревшись, не понял. На единственном треногом табурете развалилась многотомная «Теория хаоса», а на теории лежал большой бубен с бубенцами, на бубне же — скукоженный бублик, гнутый тюбик дермовейта и укушенный в бок бутерброд с чем-то буробордовым.
Дублин протянул гостю раскалённый тонкого стекла стакан, пятнистый от отпечатков папиных и маминых пальцев. Обжёгшись о стекло и оглядев плавающие по жёлтому чаю клочья какой-то горелой каши, гость поставил стакан на бутерброд и сказал:
— Говорят, вы хорошо на бубне играете.
— Играю, — сказал Глеб. — Помогает отвлечься. Когда бью по бубну, вижу лучше. То есть, проще.
— Как все, в трёх измерениях, — зачем-то уточнил Айзеназер.
— Не считая времени, — уточнил Дублин.
Помолчали, посмотрели в окно и в хорошо видное в нём другое окно — в доме напротив — в котором некто худой, длинный, в пижаме хлебал бликующим половником прямо из холодильника что-то наподобие щей. Потом помолчали ещё.
— Пусть пока у вас полежит, — сказал, наконец, академик, протягивая Глебу большой белый конверт.
— Статья? — поинтересовался Глеб.
— Статья? Это вы хорошо сказали. Точно — статья! — усмехнулся Леонид Леонидович.
— Пусть полежит.
— Только пожалуйста, храните в сухом месте. Где потемнее. Не на виду, — попросил Айзеназер, с сомнением обозревая заляпанные стены и мебель. — Может, у папы?
— Можно и у папы.
— Через пару месяцев заберу. Просто мне ещё на рынок зайти надо. Будет много покупок. Боюсь, не помялась бы. Статья-то то есть… — неубедительно комментировал гость. — Только… Не обижайтесь… Не открывайте. Там личное.
— Я не обижаюсь, — не обиделся Глеб.
— Заберу на днях. Или через месяц, — продолжал запутываться академик. — Через полгода, может быть. До свидания, — он помедлил, опять осмотрелся с нарастающим сомнением и повторил. — Всё-таки на днях. Заберу. До завтра, Глеб Глебович. На службе увидимся. Кстати, в университете Санта-Фе обсуждали вашу последнюю работу. Ругали сильно. Сам профессор Престон браниться изволил. Вы становитесь знаменитостью. Пока.
— Пока-пока. Чаю не успели. Возьмите с собой. Дома допьёте.
— Спасибо. Выпейте сами, — ушёл Леонид Леонидович.
Как он и посоветовал, Глеб выпил его чай и отнёс конверт в папину комнату, самое сухое и тёмное место в квартире.
В институте в понедельник они не встретились. Так случилось, что и во вторник тоже. А в среду вечером Айзеназер снова нагрянул к Дублину на дом.
— Это опять я, — академик улыбнулся с таким трудом, что аж посинел от натуги. — Неожиданно. Понимаю. И просьба у меня такая же. Неожиданная… Переночевать бы мне у вас, Глеб Глебович. Одну только ночь. Ну, может, день ещё переждать. И ещё ночь. Или хотя бы одну.
— Да, да-да, Леонид Леонидович, вы это очень вовремя, очень кстати, — отвечал Глеб. — Как раз папа умер. Комната освободилась. Увезли час назад.
— !!! — оторопел Айзеназер. — А мама?
— Мама не умерла, — сообщил Глеб. — Но сказала, что умрёт обязательно. Потому что без папы не жизнь.
— То есть, вы не так, Глеб Глебович, поняли. Я хотел спросить, как она? А впрочем, понятно, как… Как же ещё?.. Простите меня, дурака. Я пойду. Примите соболезнования. Пойду я.
— Нет, что вы! Оставайтесь, ночуйте. Я только у мамы спрошу разрешения. Уверен, она согласиться. Она наслышана, уважает… О вас, — Глеб, жестами удерживая академика, попятился в комнату матери и минуты через три вернулся. — Мама всё-таки тоже умерла. Как и обещала. Теперь точно переночевать можно.
§ 6
От соседей Айзеназер вызвонил врача, милиционера, глебову злую какую-то тётку. Хлопоты растянулись до утра, так что фактически Леонид Леонидович, хоть и бессонно, а всё-таки у Дублина заночевал. Тётке от вида мёртвой сестры стало плохо, насилу её откачали врач с милиционером, откачав же, поругались между собой про то, как лучше надо было откачивать — так, как откачали, или как врач советовал. Поругавшись, передали тётку Глебу, мамино же тело дружно унесли куда-то для дальнейшего оформления. Айзеназер, наговорив тонизирующих комплиментов оклемавшейся тётке и пообещав Глебу зайти на неделе за конвертом, также ушёл.
На улице его уже ждала машина. Крупный, тяжеловооружённый водитель с ненаучным лицом, завидев шефа издалека, приветливо скорчился. Леонид Леонидович по пути помог опять забранившимся врачу и сержанту дотащить маму Дублину до кареты скорой помощи. Скорая не завелась. Зато завелись милиционер с врачом, и без того неспокойные. Они заспорили, как лучше заводить и разругались уже совсем вдрызг, при этом сидевший за рулём скорой хилый юноша беспробудно уснул и дрых неприятно зияя на прохожих отверстым зевом. Айзеназер с помощью своего водителя поймал им всем такси. Милиционера с мёртвой мамой и врачом разместил на заднем сиденье, неразбуженного же юношу вынул из-за руля, посадил вперёд, прислонив к таксисту. [Прислонить его к себе таксист разрешил за extra pay в сто долларов.] Чувствуя утомление, подошёл к ларьку возле овощного рынка, сказал, пригнувшись, в окошко «пломбир и мальборо»; и тут ему в округлённый слогом «ро» рот влетела пуля, за ней другая. Падая, испуганно отразившим безмерную муку, словно окно в ад, правым оком, вспученным и взмокшим, он успел поймать и третью, разрывную, бесполезную (ибо и без неё всё было плохо, хватило бы и одной, первой, чтобы хуже уже некуда было). Леонид Леонидович упал. В гущу забрызганных его академическим мозгом прохожих. Он стал в основном недвижим. Только кивал и вертел по сторонам фонтаном крови ярко-красного цвета, всклокоченным и клокочущим на месте головы на широкой и жилистой, как пень от молнией сломанного толстого тополя, вые.
Ассасин вышел из ларька с колой и кольтом, обогнул торговую точку, подошёл к усопшему, придирчиво и гордо поразглядывал его, как удачно отсёкший всё лишнее скульптор свою скульптуру, или лучше, как плотник лихо, от души сколоченную табуретку. Оставшись, видимо, доволен, побрёл к автобусной остановке, симпатичный парень лет двадцати пяти, в чёрных очках и чёрных ботинках и очень обычных штанах и т-рубашке. Пока толпа толкалась, топала, гогоча и клича милицию и скача подле трупа, он погутарил на остановке с каким-то никуда не спешащим любознательным дедушкой о разрывных, трассирующих и со смещённым центром тяжести пулях, почитал пейджер, послал ответы, сел на сто шестой автобус и отправился домой, поскольку заказов на тот день больше не было.
Успевшие уже порядочно отъехать врач с милиционером, возвращённые новым вызовом, вышли из такси и, расспросив свидетелей, погнались было за сто шестым, но было уже поздно. Они опрометчиво ввязались в беседу с неспешащим дедушкой и, потратив попусту четверть часа, вспомнили об Леониде Леонидовиче. Таксист, правда, наотрез отказался везти Леонида Леонидовича в морг, поскольку, в отличие от глебовой мамы, глебов наставник был буквально безмозгл и очень брызгался и пачкался. Они все переругались, так что таксист вывалил из машины прямо на лотки овощного рынка и маму, и отчасти проснувшегося водителя скорой. Водитель же Леонида Леонидовича сбежал, умчался, бряцая оружием, вместе со служебной машиной шефа, вот и пришлось шефу лежать неприбранным посреди прекрасных утренних Текстильщиков.
Так, почти в одночасье, лишился Г. Г. Дублин мамы, папы и директора. Стал сидеть на папином диване. Вспомнил, как когда-то — лет семь ему было, восемь тогда — заманили его папа/мама к тётке, тёте Вере, посулив пастилы и птичьего молока. А заманив (птичьего молока оказалось мало, капля всего; пастилы же много, но лежалой, высохшей, по вкусу похожей на штукатурку с сахарином), сбежали на цыпочках, с сыном не попрощавшись (знали — не отпустит), в отпуск. На целый месяц — оставили у тёти Веры, маминой сестры. «Где мама?» — спросил Глеб, ломая пастилу. «Скоро придёт», — соврала тётя. «Где мама? Сейчас придёт», — повторилось через час. Ещё через полчаса: «где мама? сейчас придёт». И потом опять, и опять, когда покрошил всю пастилу. И захотел помыть липкие руки. И захотел домой. И захотел пить и плакать. Тётя Вера была бездетной, сдержанно злобной, напряжённо терпеливой дамою. Никогда не повышала недоброго своего голоса. Она уложила Глеба спать непривычно рано, когда темнеть только начинало, просто оттого, что не знала, о чём с ним говорить и как избавиться от его нытья.
Прижатый к шаткой раскладушке пудовым колючим наэлектризованным одеялом мальчик сквозь слёзы следил за тем, как тысячекратно оттиснутые на обоях линялые полулиловые лилии сливались в суровые лики бармалеев и разъярённых львов. Эти грозные видения обступали висевшую на стене чёрно-белую фотографию, на которой среди чёрной листвы сирени белели очень ещё молодые физиогномии тёти, мамы и папы. Тётя была в фате, папа также в чём-то свадебном, жениховском; мама же в наряде попроще. Все трое, сгрудившись далеко не в фокусе, таращились на Глеба весело закрытыми глазами. Папин папа вызвался экономии ради быть брачным фотографом, но оказался слепцом и пьяницей. Этот идиотский снимок только и успел сделать, потом надрался и остальную плёнку истратил на, как он выражался, вакхические натюрморты, с диким хохотом бегая вокруг стола и фотографируя пронзённые окурками недоеденные холодцы, куриные скелеты на тарелках и салаты на стульях.
Глеб тогда не знал, что папа женился сначала на тёте, а уж потом на маме. Дело в том, что тётя Вера, будучи до крайности, до последней степени вероятия медицинским работником, измучила папу очень скоро постоянными разговорами за столом о стуле. Он ушёл от неё к её сестре. И то сказать, внешность, в общем-то, та же, зато не медик, а, как и папа, учитель математики. Сестра родила папе Глеба и обсуждала за столом только школьные сплетни.
Ребёнок смотрел, как сумерки, львы и бармалеи поглощают фото родителей, раздавленный, словно пыльным дохлым медведем, косматым одеялом. Увитый и удушаемый, как отбившийся от рощи трепещущий детёныш берёзы приставучей повиликой и вспыльчивым вихрастым ветром, — влажной и властной тоской. Рана на душе, на том её месте, откудова вырвали родительское тепло, была огромной и казалась неисцелимой. Из неё хлестали слёзы и — как из стигматов — горячий свет. От потери света мальчик тускнел и холодел, но при этом чувствовал — всё поправимо. Жизни впереди много-много. Мама приедет. И папа вернётся. А слёзы эти — не от утраты, горя или стыда. Они — от непрерывности любви, летящей по рваной равнине времени, впервые споткнувшейся на нежданной яме, ударившейся пребольно, но всё ещё шальной, всё удалой, всё дальше летящей.
Сейчас же было всё иначе. Не придут мама/папа. И дядя Лёня не придёт. Никто никогда не придёт. Никто никогда.
§ 7
Жёлтый медведь скачет по скользкому, как бескрайний каток, ледовитому океану. Своими стремительностью и задорной улыбкой он скорее похож на лихого вороного коня, нежели на бегового белого медведя, каковым является на самом деле. Справа от него то галопом, то рысью мчится заиндевелый радостный волк, слева — метель. Именем Жёлтый он прозван за лёгкий светлоосенний отлив густой и тяжёлой, как белое золото, шерсти.
Он стремится на полюс, курсом норд-норд-норд, вверх по гулкому куполу арктики, к самому сердцу севера, в ноль долготы, ноль широты, ноль всего. Спешит, ибо уже через неделю и всего на неделю только — там расступятся непроходимые бури и тьмы, и по чистому синему льду, по чистому синему воздуху освободится дорога до плавучей льдины Арарат, размерами, формой и отчасти назначением повторяющей одноимённую библейскую гору.
На вершине льдины, словно семь солнц на хрустальном облаке, сияют семь золотых куполов дрейфующего полярного монастыря. Семь сказочных монахов, спасающихся в нём, величают себя скитерами, обитель свою зовут Семисолнечный скит. Стены скита отлиты из отличного православного сплава звонкой меди и чистого снега; келии срублены из доброго донного дуба, благородного подводного дерева, растущего просторными рощами под толщей студёного моря, на ветвях у которого вьёт ажурные гнёзда из морской капусты крылатая певчая рыба Банан. А в келиях иноки да иконы; а от иноков да икон — тянутся вверх, до самого Бога сладкий дым ладана, слава начальному Слову и белокаменный храм Спаса-на-Краю.
Здесь, на краю неба и моря, один раз в сто лет случается неделя, на которой ни пятниц, ни вторников, а все дни воскресные. И в эту неделю семи воскресений, здесь, на полюсе, на льдине Арарат — совершаются семь чудес. Исправляются семь ошибок, отпускаются семь грехов. Исполняются семь желаний.
Медведь и метель, и волк блед спешат не сами по себе. Они указывают путь несущемуся следом, в полумиле за ними колоссальному кораблю. Это парусный ледокол Арктик, сокрушающий с ужасающим грохотом и треском упорную твердь обмороженного океана. Поднимающий гигантские клубы ледяной крошки и снежной пыли, мощно и огромно клубящиеся позади корабля, взмывающие в страшную высь и переливающиеся, словно взрыв бриллиантовой фабрики. Солнце многократно отражается в этой искрящейся пене, в этих зеркальных дымах и туманах; и вот — в небе над кораблём сверкают семь солнц, одно настоящее, шесть отражённых; и по отношению друг к другу расположены они так же, как звёзды Большой Медведицы, и очерчены кругом невероятно ярой радуги.
Паруса ледокола прозрачны и переполнены свежим светом. Его капитан уверенно держит штурвал в своих крепких, загорелых, обветренных мыслях. Плавным смещением смыслов он приводит в движение чувствительнейший телекинетический рулевой механизм. И громада корабля отзывается, поворачивает вправо и влево, иногда замедляясь, а потом нападая по-новому — с новой радостью, яростью и быстротой — на нескончаемую ледяную стену высотой в два человеческих роста, толщиной в пять тысяч миль.
Капитан Арктика знаменит: мореход и мастер церемоний; шпион и миллиардер; иллюзионист и филантроп, и экстрасенс-целитель. Его обожают женщины, обожают и любят. Мужчины подражают ему, завидуют, восхищаются; некоторые тоже любят — не хуже женщин. Системы мужчин и женщин, организованное человечество, бесполая бюрократия — ненавидят его, живущего как не все. Криминальные полиции десяти добропорядочных государств остервенело разыскивают его несколько уже лет, и всё не находят, хотя он не прячется. В разосланных по аэропортам и вокзалам категорических требованиях о его немедленном задержании в графе «особые приметы» значится: «Он — великолепен».
Он — держит штурвал. Он — в капитанской рубке. Перед ним — шесть миллиардов мониторов, небольших, айпадовского размера, на каждом из которых видно, что происходит с каждым человеком на планете в каждую данную секунду. Происходит, понятно, разное: рождение и смерть; радость и старость; секс и секс, война, смех, секс; пытки; получение наград, получение представлений о, получение в рыло поленом, коленом, колом, колотушкой, кулаком, дрелью, дверью, рылом, двумя рылами, молнией, мотоциклом, подушкой; пьянство, чванство; поедание еды и обратные процессы; сепсис, воспаление среднего уха, вич, воспаление рыла, опухание рыла, гриппы, раки, лимфогрануломатоз; отрезание голов воинами аллаха, отрезание голов (декапитация) воинам аллаха; танцы, любовь, любовь, много любви, печаль, светлая печаль, прекрасная грусть, простая радость, непростая радость — происходит жизнь. Шесть миллиардов жизней в режиме live. 6•109 экранов — столько же судеб, свершающихся здесь и сейчас. Зрелище неоднозначное, на любителя, так сказать. Или для тех, кому надо по службе, по долгу, по работе.
Поэтому в рубку, где установлен этот уникальный прибор вечного всевидения, матросы и пассажиры, даже те немногие, кому это вообще разрешено, стараются без особой надобности не входить. Обычно здесь — только сам капитан, молодой ещё, в сущности, человек вышиной метр девяносто, тонкой кости, с лицом из тех, о которых почти нечего сказать, как почти обо всех поразительно красивых лицах; и у капитана на плече — немногословный говорящий попугай. Птица редкой охотничьей породы, какие водятся только в пойме реки Таз, окаймляющей заповедную Малоземельную тундру. Почти насовсем истреблённая из-за нежнейшего, теплейшего и легчайшего меха, заменяющего ей пух и перья.
Не мехом, однако, единым, птицы эти ценны тоже и своими удивительными, почти собачьими верностью, смелостью и смекалкой в помощь человеку на охоте. Бесполезные, впрочем, для добычи всех иных обитателей тундры, малоземельские охотничьи попугаи абсолютно незаменимы для выманивания из ягелевых чащ, преследования и поимки малоземельских охотничьих попугаев. Так их, бедолаг, и используют для охоты друг на друга. Остаётся их особей пятьдесят-пятьдесят пять всего на сегодняшний день на всю планету.
Капитан Арктика держит попугая, впрочем, не для охоты, а по дружбе. Попугай сидит у него на правом погоне, по погонам же видно, что чин на капитане большой, никак не ниже архангельского — или там фельдмаршальского что ли, если по обычному счёту.
Архангел спрашивает не попугая: «Как спала госпожа?» В ответ в приоткрывающуюся дверь суётся голова юнги и, глядя в пол, чтобы не видеть мониторы, докладывает: «Госпожа проснулась и приглашает вас на завтрак. Каша, fresh, хорошее настроение. Как всегда. Как вчера и позавчера, и послезавтра». «К чему эти подробности? — добродушно хмурится капитан Арктика. — Я спросил лишь о том, как она спала». «Для придания банальному сообщению метафизического оттенка. Плоской новости — экзистенциального, как говорится, объёма. Для красоты, а спала сладко, во сне видела вас», — докладывает юнга. «А меня ты для красоты что ли попугеем обзываешь?» — встревает с плеча попугай. Юнга забирает голову обратно. Попугаю хочется каши.
Капитан переводит корабль на самый малый самоход и уходит завтракать. Рубка пустеет, только перемигиваются и шепчутся многочисленные мониторы. На одном из них, в правом верхнем углу виден Велик, рядом с ним Глеб. На другом соседнем — Глеб, рядом Велик. Видно, как они входят в дом купчихи Сироповой. Видна и то витающая, то зависающая над ними бледная, как лёд и беда, тень дракона.
***
Братья и сестры, с некоторым трепетом обратился я к вам недавно, предложив общими усилиями смастерить wikiроман под названием «Машинка и Велик, или Упрощение Дублина». Трепетал оттого, что все-таки wikiкультура как самоорганизуемое пространство общего дела требует необходимым образом отзывчивости, доверия, бескорыстия, кооперабельности, доброжелательности. Всего того, чего, по мнению нашей публики о себе самой, у нас далеко не в избытке.
Принято думать, что у нас человек человеку и не брат, и не волк, а так — брут или вор, и больше ничего. И если кто от чистого сердца начинает скликать народ на доброе какое-нибудь совместное предприятие, всем тут же чуется в таком начинании лукавство и подвох. И все отворачиваются, вяло бранясь и неспешно посмеиваясь.
Тем дороже внимание и любопытство, проявленное вами к моей затее вопреки дурным ожиданиям. Я и всегда подозревал, что вышеизложенное представление наше о себе есть оговор и самооговор, что мы на самом-то деле быстрее, выше, сильнее. Лучше. Так и есть, теперь это ясно — лучше.
Самое радостное, что из среды внимательных и любопытных выделяется уже передовой отряд соавторов, пишущих и на полях романа, и внутри у него, и над ним, и под, и вслед ему, и в обгон. Книга наша (а она уже наша с вами), как и положено открытой wikiкниге, начинает становиться другой по глубине и на вкус. Русло ее искривляется и расщепляется на множество новых намечаемых вами русл. Куда потекут ее буквы, в какие стороны понесутся вновь образуемыми течениями сделанные из этих букв герои, деревья, дома, рассуждения и звезды? Каков будет ход истории Машинки и Велика? Бог весть! Как писал В. Маяковский в статье «Чешский пионер» — «у нас страна свободная. Как хотим, так и ходим».
Соавторы, как состоявшиеся, так и потенциальные, задают вопросы и технического, так сказать, характера. Такие, в основном: что писать? В каких объеме и стиле? Здесь ответы просты: что угодно. В любых.
Спрашивают, куда посылать слова. Все адреса указаны после этого текста. Интересуются, как будет происходить отбор предложений и монтаж фрагментов. Кто и как будет обрабатывать общий текст? Здесь, пожалуй, не обойтись без подробностей.
Еще раз хочу сказать, что в дело пойдет все, кроме разве что чего-то совсем нецензурного, чего я и представить себе не могу. Под цензурой я, разумеется, понимаю лишь свое усмотрение, а в дальнейшем, если хоть небольшое сообщество соавторов сложится, — их (ваш) коллегиальный отбор.
Ясно, что лучше развивать начатый текст, но не хотелось бы сразу вводить ограничения. Границы постепенно определятся сами, с вашей помощью. А пока годится все — любая идея, любой чертеж, любой строительный материал. Вы можете продолжать текст, предлагать изменения в уже существующий. Присылать новых персонажей, деформировать старых; дать варианты финала, любой ненаписанной еще главы и написанной тоже; дать просто совет со стороны для влияния на текст, а не для включения в него; а для включения дать реплику, шутку, диалог, триалог, пейзаж, что хотите. Все, все пригодится. Что-то будет браться полностью. От чего-то попадут в книгу одно-два слова. Какие-то фрагменты будут трансформированы, адаптированы стилистически к общему тексту. Искажены, исправлены, сокращены, чтобы вместиться и плотно лечь среди других элементов конструкции. Этот неизбежный процесс подгонки и шлифовки ради целостности и гармонии конечного продукта, возможно, будет неприятен многим соавторам, но он именно — неизбежен. Иначе выйдет не сага, а свалка. Увы, соавторское самолюбие не может не страдать в данном случае, так как wikiмир — это кибуц, колхоз, что попало в него, то пропало для личного, стало общим.
Впрочем, уверен, достаточное число ваших посылок войдет в роман без правки и купюр. Монтажом базового текста из своих и ваших узлов и частей буду заниматься я сам, по крайней мере, до тех пор, пока не сложится устойчивый wikiактив вокруг этого проекта. Произвольная правка каждым желающим нашей общей работы, как это происходит в наиболее радикальных wikiсистемах, вряд ли пока допустима, поскольку неокрепший и неструктурированный текст может быть разрушен, так и не состоявшись, wikiвандалами, которых везде хватает и которые, конечно, будут осаждать наш проект и сильно мусорить.
Соавторские предложения, которые никакими силами не удастся ввести в базовый текст, будут напечатаны в том же томе, что и он, и будут считаться неотъемлемой частью романа. Если же кто окажет нам честь и допишет роман полностью самостоятельно, то эта вторая (третья, четвертая…) версия будет издана вторым (третьим, четвертым…) томом в общей серии с базовым текстом.
Каждый, кто даст «Упрощению…» хоть одну букву в речь, хоть одну синкопу в сюжет, будет считаться полным соавтором наравне с теми, кто напишет сто, двести… страниц (кибуц! wikiбуц!) или отредактирует всю махину «Машинки…». Имя каждого будет вписано заглавными (вар. — золотыми) литерами в историю отечественной wikiкультуры.
Но, коллеги! мы ждем от вас не только тексты. Инновационное повествование третьего миллениума требует небывалых форм. Wikiцивилизация произрастает в интермедийном, синтетическом, многоликом, всеядном полиинструментальном мультиверсуме интернета. Поэтому, как и мировая паутина, wikiроман многомерен и мастерится далеко не одними лишь литературными средствами. Сверх литературы, он может существовать еще и во многих других измерениях.
Gaga saga — это развлекательное гиперпространство, где всякие художества возможны и важны: и текст, и контекст, и все виды визуализации, озвучивания и овеществления. Так что, помимо букв, в дело годятся и рисунки, и фотки, и мультики, и музыки по теме.
Вот как минимум восемь измерений wikiкниги, восемь векторов, определяющих способы, которыми может рассказываться наша история, наш роман либо какие-то его части:
gaga text — проза, поэзия, литература;
gaga context — критика, отзывы, хула и хвала;
gaga tube — ролики, кино, видео, анимация;
gaga sound — музыка, декламация, чтение вслух;
gaga object — скульптура, readymade, инсталляция;
gaga art — живопись, рисунок, фото, коллаж;
gaga stage — драма, танец, пантомима, цирк;
gaga plus — прочее, что угодно.
На этой стадии развития проекта, когда писатели уже включились в игру, призываю и мастеров иных, вышеозначенных искусств также присоединяться к массовому движению гениальных соавторов wikiшедевра.
Куда присылать соответствующие произведения — см. ниже.
Роман будет издан как на бумаге, так и виртуально. В бумажный вариант будут вклеены диск и флэш-карта, содержащие, помимо текста, всю восьмимерную сверхлитературную хайтек-конструкцию саги. Виртуальный вариант, размещенный прямо в сети, будет, само собой, также восьмимерным.
Ролики, рисунки, танцы, инсталляции должны быть не просто иллюстрациями к тексту, они должны создавать новые языки, на которые переходило бы повествование время от времени, отодвигая на задний план литературную составляющую, когда сам текст становился бы иллюстрацией — к ролику, рисунку, танцу…
Если наши чаяния сбудутся вполне, система заработает и число соавторов будет расти, нам потребуется wikiдвижок, чтобы каждый мог легко войти в наше общее пространство и преображать его вместе с нами. Среди хакеров и инженеров-программистов найдутся желающие сделать этот движок, и их работа будет оплачена журналом «РП». Хотя это и противоречит священным принципам wikiаскезы. Будем считать, что не отказываемся от этих принципов, но творчески развиваем их. Развивая же последовательно, сообщаем, что лучшие артпродукты для романа будут также материально поощряться. Один раз в два месяца будут присуждаться одна большая премия и пять грантов. Они будут считаться авансовыми выплатами в счет предстоящих гонораров.
Хочу с волнением и гордостью назвать пионеров нашего движения, людей, уже причисленных к сонму первозванных соавторов романа.
Соавтор № 1 — знаменитый создатель бестселлера «Гастарбайтер» Эдуард Багиров, чей блестящий отзыв на начальные параграфы романа становится сноской к предложению «К десяти а.м. спирты были попиты, песни попеты, побиты были два-три лица, как положено; и сверх того — одна какая-то харя» из § 2 нашей книги. Звучит эта сноска так: «Ну не пиздец? Это хрестоматийный образец самой лютейшей графомании. Текст — полная хуйня, хуйня хуйней, хуета на рыбьем жире».
Спасибо, Эдуард. Ваша фамилия будет напечатана на обложке «Машинки и Велика» непосредственно рядом с моей.
Второй соавтор Александр Спиридонов. Он прислал целую книгу, никакого, правда, отношения к моему началу не имеющую. Из книги этой я беру одно только имя «Уммка» и назову так питбультерьера, обитающего в доме генерала Кривцова, когда, в свой черед, дойдем до его описания. Господину Спиридонову также обеспечено место в титрах романа.
Таким образом, соавторы уже изменили написанное и повлияли на ненаписанное, лишь только предстоящее. Спасибо, спасибо, коллеги.
Кандидатами в соавторы на сегодня являются также господа Яснополянский и Рыльский, Вячеслав Шушурихин, Маран Бруйский и госпожа Елена Shanti007. Идет работа по приспосабливанию присланных ими вещей к общей конструкции. Уверен, всем им и многим другим найдется место в строю создателей удивительного романа Дубовицкого, Багирова, Спиридонова…
Присоединяйтесь, братья и сестры. Будет весело. Мы сочиним отличную и отменно мрачную историю. You're welcome, masters!
Ваш Натан Дубовицкий.
Пишите роман по адресу: ruspioner@ruspioner.ru (с пометкой wikiроман).
Принимаются тексты любого объема, присланные до 1 октября 2010 г. и позже.
§ 8
Глеб и Велик вошли в дом купчихи Сироповой.
Дом этот был по местным меркам громадный, второй по величине из частных домов города. Первый же стоял тут же рядом, справа — это было жилище милицеймейстера Кривцова, трёхэтажное сооружение почти без окон из того неприятного на вид кирпича, из которого строили в старое время овощные магазины и трансформаторные будки. А по левую сторону от сироповских владений за забором из листовой стали по-сталинградски чернел подгоревший, исцарапанный пулями коттедж Кетчупа, верховного бандита региона, личного врага генерала Кривцова.
Они бились уже не первый год, бывшие партнёры по бизнесу и охране порядка, и их усталая вражда, кажется, не стремилась уже к победе, измученная розыгрышами и насмешками вертлявой фортуны. То один брал верх, то другой, но ни тот, ни другой не могли победить окончательно, в двух шагах от цели каждый раз — оступались, выдыхались, промахивались. Банковские счета и сбытовые структуры комбината, рынки, автопарки, ларьки и электросети города переходили из рук в руки так часто, что нельзя было успеть определить, кто же всё-таки лучше всем этим управляет — милиция или банда. Справлялись, видимо, более/менее и та, и другая, потому что функционирование городских служб и предприятий было бесперебойным, граждане ни на что не жаловались, а может быть, и радовались, ибо знали из телепередач о живительной силе конкурентной борьбы.
Самые крепкие, умные и смелые парни города и окрестностей шли служить то в банду, то в милицию, смотря по настроению и выгодам. Вечером к вам мог постучаться участковый с просьбой не то чтобы не петь по ночам, петь хотя бы потише и другие какие-нибудь песни, а если уж именно эти песни непременно надо петь, то хотя бы заменить в них некоторые слова, а то соседи жалуются, и, в общем-то, хрен бы с ними, с этими соседями, но у них дети совсем маленькие, да и с детьми-то ихними тоже, может быть, хрен, но могут написать куда подальше, в блог какому-нибудь начальству, и тогда что. А наутро тот же самый человек, с тем же самым пистолетом мог прийти к вам опять, но уже не в милицейской форме, похожей на вещмешок с погонами, а в свежекупленном бандитском спортивном костюме, и совсем по другому вопросу, куда более сложному и для вас неприятному, а именно, что пьёте вы и поёте на занятые у Сулика деньги, а Сулик сам Кетчупу должен, так что деньги надо вернуть — и не через месяц, как с Суликом договаривались, а завтра, сутки есть, и не Сулику, а прямо Кетчупу, а не вернёте, сами знаете что тогда. И вы мучились и маялись, и не пели, и принимали трудное решение заявить в милицию, и шли в неё, и заявляли, и к вам выходил принять это заявление тот же самый человек с тем же самым пистолетом, что и вчера, только опять в форме милиционера, и говорил вам: «Зря вы так волнуетесь».
Месяц назад котировки государства пошли вверх, и больше половины кетчупов переметнулось на сторону закона. Обещался завоз в гувд новых пистолетов и детекторов лжи. Когда его полку прибыло, Кривцов решился на штурм Кетчупова дома. Но тот, хоть и в меньшинстве остался, отразил несколько приступов, нанеся нападающим значительный урон.
Сейчас он выглядывал из щербатого окна, оскалившегося осколками недобитого гранатой стекла — краснощёкий, в красной майке с надписью Igor Butman band, одной рукой (с красного золота циклопическими, почти настенными наручными часами и бокалом красного вина) отмахиваясь от назойливых, рой за роем налетавших в разбитое окно и жаливших его в шею и глаза мелких злобных снежинок, а другой обнимая красноволосую, красноротую девушку в красном халате. Всё это радостно краснело среди послепожарной пороховой копоти. Кетчуп приветливо помахал бокалом Глебу и Велику — что-то им доброе крикнул, но они не расслышали, поскольку у него за спиной на полной громкости телевизор надрывно передавал «Дядю Ваню» в постановке Товстоногова 82-го года. Дублин и сын вежливо покивали в ответ.
«Я работал как вол!» — оглушительно наорал на них чеховским классическим текстом телевизор. Кетчуп смеялся беззвучно, беззаботно.
Сироповой дома не было, она увезла детей на каникулы на юг, в тёплые края, в Череповец.
Не толпились перед её дачей паломники, чернец по четвергам не чудодействовал.
Дверь открыл нелегальный молдаванин Толя Негру, управдом, повар, подметальщик и гувернёр в одном лице.
— К отцу, — догадался с лёгким бессарабским акцентом Толя.
— Да, — ответил Глеб. — Дома ли?
— Где же ещё, — работящий атеист Негру недолюбливал о. Абрама, почитал пронырой и лодырем. — Никуда не ходит, лежит, всё лежит, даже молится лёжа. Вот и хозяйка говорила ему: сходил бы ты, отец, хоть в огород. Или в церковь. В кино хоть. А он — сама иди, а меня тебе бох послал и сказал: вот моё добро, пусть пока у тебя полежит, потом заберу. Бухает — и то лёжа…
— Молчи, дракула трансильванская, чортова чаушеска, грубый румын! — по деревянной морёной лестнице откуда-то с потолка грузно катился о. Абрам. — Не слушай его, Глеб, ибо сказано: так гнали и пророков, бывших прежде нас, — голосом звонким и сладким, как трель и щебет из райской птицы или волшебной свирели и лютни, свидетельствовал схимник. — Не слушайте его, проходите поскорее ко мне наверх.
— Киздамама, — вздохнул румын, — пойду в контору, электричество что-то скачет, — зачем-то пояснил он.
— Пропала жизнь! — проревел в открытую Толей дверь Дядя Ваня.
Негру ушёл, дверь закрылась, стало тихо и слышно, как пышет винными парами дородный монах.
— Здравствуйте, дядя отец, — сказал Велик.
— Здравствуй, сыне, — отвечал о., одетый в мирское, в какую-то вельветовую ветошь, расстёгнутую вольготно на волосатом пузе, из-под которой свисал причудливо отражающий лица гостей, вешалку и люстру здоровенный хромированный крест, — здравствуй и ты, брат, — он троекратно обмакнул нос и губы Глеба в своей горячей солоноватой бороде.
Из большой прихожей, стены которой были благоразумно обиты дорогим испанским паркетом (не ходить же по нему, в самом деле, за такие-то деньги), гости не раздеваясь поднялись вслед за о. во второй этаж, в самое высокое помещение обширного дома, в крошечную келию, как бы светёлку, вроде той, где повесился знаменитый гражданин кантона Ури Н. Ставрогин. Здесь расстрига жил, пил и молился, принимал страждущих, алчущих и любопытствующих, беседовал с друзьями.
На допотопном тонконогом телевизоре стояли утюг и чудотворная икона, на которой изображена была дева Мария, старая, седая, строгая богоматерь без младенца, то ли схоронившая уже великого сына своего, то ли так его и не родившая. Зная, что Велик не выносит её горького взгляда, монах, торопливо перекрестившись и пробормотав «прости, господи», повернул её ликом к узенькому крошечному окошечку, из которого сочился в светёлку кое-какой свет цвета нечистого городского снега. За икону эту, тёмную, то и дело плачущую, он бывал и порицаем, и бит ревнителями традиций и канонов, ибо предание о её обретениях, и первом, и втором, было полуапокрифическим и не всеми верующими признаваемым.
— Конфет полно, сыне, а вина, брат, нет совсем, — ложась на диван и указывая на подоконник, заваленный сладостями, сразу же разъяснил чернец.
— Пап, не огорчайся, что-нибудь придумаем, — чуть не заплакал от жалости к папе мальчик, припавший, впрочем, без малейшего промедления к заветному подоконнику и шелестя уже фантиками.
— Сними пальто и шапку, разуйся, малыш, — растерянно и будто автоматически ответил Глеб.
Диван у монаха был неудобный, как вериги, отшельничий, грязный, исполненный клопов, ухабистый, покатый, с такими крутыми, почти отвесными склонами, что обычный несвятой человек ни за что не смог бы лежать на нём, скатился бы, не удержался, упал. Монах же, не без божией, вероятно, помощи, как-то умудрялся вскарабкаться на него, повозиться, поворочаться, помолиться, покряхтеть — и вдруг пристать к его сальным покровам, прильнуть, встрять и зависнуть. Удачно зависнув и теперь, он стал увещевать Глеба:
— Ничего, Глеб Глебыч, потерпим. Пришёл бы минут на сорок раньше! Оставалось ещё. Немного белой. Знал бы, что приидешь — не стал бы пить. А тут, веришь ли, чорт мне явился…
— Формозъ? Агапитъ? Анаклетъ? — спросил Глеб. Он довольно давно уже собутыльничал с о. Абрамом и знал поимённо и даже в лицо всех бесов, мерещившихся с перепою товарищу его. Поскольку, хоть сам и не был столь благочестив, чтобы стать духовидцем, и духов не видел, но часто бывал свидетелем и невольным участником бурных диспутов чернеца с чертями. Отец относился к бесам либерально, спорил с ними, читал им Писание, пробовал даже (безуспешно) обращать, черти же от такого обхождения, натурально, борзели и, когда уж очень доставали, отец давил их утюгом. Этот способ усмирения, не такой изящный, как в Европе, где, как известно, в чертей принято метать изящные чернильницы, был очень действенным и не давал лукавым одолеть душу.
— Да нет, не Формозъ, не Агапитъ… Агапитъ, кстати, давно не заходил что-то, не случилось ли чего? — продолжил о. Абрам. — Другой, конопатый, вот чорт, забыл, как звать, надо же, ну ты знаешь, горбатенький такой, ты ещё на новый год ему стакан проспорил…
— Бонифаций, — вспомнил Дублин.
— Точно, Бонифаций, он! Ну ты ж его знаешь, мёртвого уговорит. Выпьем, говорит, да выпьем, по одной, говорит, всего, ну по две. Уговорил. Всё выпили. По четыре на каждого получилось. И обдурил же меня лукавый! Я-то, дурак, пил как честный человек. А он только слушал, выуживал из меня все мои мысли, а сам не пил, пропускал, притворялся, рыжий горбыль. Споил меня, как жид хохла. Когда ушёл, рюмка его полная так и стояла, нетронутая.
— Нетронутая, — вздрогнул Глеб. — Где?
— Да допил я её. Извини, не знал, что ты придёшь, — нахмурился виновато отче. — Да ты садись, а то вот так натощак, да ещё на ногах целый день.
Дублин присел на один из стульев, снял шапку и стал, чтоб не так кисло было, глядеть на весело жующего шоколадки и карамельки сына.
Велик и чужому человеку показался бы ангелом, а уж для родного отца он был целый рай. Глебово сердце обдало от сына нежным теплом, словно от первой утренней рюмки. Это было счастие, почти могущее заменить алкоголь, но не вполне, однако, заменяющее.
§ 9
Видя терпящего бедствие брата Дублина, человеколюбивый Абрам произнёс ему назидательную речь, которая крепостию и забористостию почти не уступала вину, хотя немного всё-таки уступала.
— Горе, брат Глеб, горе, горше которого и выговорить нельзя — когда выпить надо, а нечего. Кому, как не мне, и понять тебя. Я ведь не простым алкоголизмом страдаю, а врождённым. Пьян, стало быть, с рождения. Ну что страдаю, это так врачи говорят, а по мне алкоголизмом этим я живу и радуюсь, посему и утешить тебя не берусь, нет муки туже твоей, но скажу о второй по тяжести муке — о несправедливости. Ибо испытал. И — превозмог.
Родился я в глухомани, в большом русском лесу, у истоков трёх святых рек — Цны, Пры и Прони. Деревня наша была большая, забубённая, бухая. Батя мой был инкогнито, nomen nescio, как говорится, одно о нём известно — алкаш был круглосуточный, хронический бухарест. А маманю помню — доярка, пропойца. Мне, инвалиду с детства, по инвалидности моей как урождённому алкоголику во младенчестве прописывали разбавленный медицинский спирт. В утробе ещё спившийся, помер бы я без него, как обычные дети без молока. Маманя мою дозу похищала и делила с фельдшером, а я страдал от недолива. Была она бабкой моей разоблачена и лишена родительских прав. Стал я человеком свободным и пил уже беспрепятственно, хотя недоливы случались много раз ещё. Кочевал из интерната в интернат, отовсюду изгоняемый за пьянку.
Оттого ли, что житие в интернатах отчасти напоминает монастырское, или потому, что лет с четырнадцати начали на пьяную голову докучать мне ангелы и черти (черти чаще) и что вино вынимало из меня мозг и силу, стал я задумываться об уходе из мира. Прослышал от одного странствующего самогонщика о Семисолнечном Ските и айсберге Арарат; купил св. Евангелие, читаю, пью, жду, что будет. И се — в сельце Ебеково, возле городка Скопин явился мне некто, облечённый в сирень и сияние, и дал мне вот эту икону, и сказал: «встань, недочеловек (я валялся упитый в дровах подле почты), и иди на север, к скитерам в Скит, там просохнешь, там спасёшься и, спасённый, неспасённых спасать будешь».
Встать я, конечно, не встал, подремал ещё, обождал, пока голова отболит. Отболела, лежу дальше, чтобы в животе улеглось. Тут опять явление, тот же, в сиянии — чего, мол, медлишь, скотина, чего поручение не выполняешь. Ну, встал я, пошёл.
А надо сказать, скитеров всего, включая самого схиигумена, только семь братьев. И не потому, что Скит невелик, — велик. И не то чтобы далеко слишком, хотя — далеко. И не то что берут не всех, а лишь достойнейших, хотя берут не всех. А потому, что никто особо туда и не рвётся.
Порядки там строгие страшно. Не спят никогда, ибо сказано «бодрствуйте, дабы, пришед внезапно, не нашёл бы вас спящими»; не пьют, ибо ещё и на эту тему где-то что-то сказано. Вкушают только воздухи, да и то не любые. Те, что с юга, с земли, подгнившие, скоромные — не ядят. Жесть! Кому надо? Кто пойдёт?
Добрался я до Скита, когда он вдоль берегов Новой Земли дрейфовал. Дождался на военной базе, где спирт для нужд авиации сторожили офицер, прапорщик и офицерская жена, сбежавшая к прапорщику, душевные люди, приютили меня, читал я им св. Евангелие; увидел, как мимо плывёт льдина Арарат, догнал.
Схиигумен, преподобный Фефил, у ворот встретил, вопрошает, кто я есть и куда гряду. Я ему про явление рассказал. «Не геолог ли ты, чадо, не пьян ли?» — усомнился в сердце своём настоятель. Показал я ему икону. Обомлел Фефил.
«Она, — кричит, — снова обретённая, бакинская! Сбылось пророчество!»
А было, оказывается, как. Лет двести-триста тому в городе Бакы торговал на базаре урюком какой-то мусульманец по имени Ибрагим. Поторговал-поторговал, побазарил-побазарил, хорошо в тот день урюк шёл, полмешка уже разбазарил, вдруг что-то твёрдое, деревяшка будто какая-то в мешке. Достаёт — икона православная! Вахх! Вот эта самая, — о. Абрам показал бородой и пальцем на образ на телевизоре, — а это дело мусульманину хуже свинины.
Хотел было бросить на землю и растоптать, как змею или колбасу краковскую, но тут у богородицы из глаз брызнули свет и слёзы, и был ему голос: «Где, где сын мой возлюбленный? Что вы, чурки, с ним сделали?» Ну там вежливее было, по-божески, это я своими словами, чтобы понятнее. Ибрагим напугался, отвечает: «Это не мы, это всё евреи!» А богородица плачет и плачет, не унимается.
Тут не выдержал Ибрагим, порвал на себе одежду, взъерошил лицо и бороду, вскочил на прилавок и закричал на весь базар: «Правоверные, аллах послал матушку Мариам (Марию по-нашему) спросить, где сын её Иса (т. е. Иисус). Целуйте образ, правоверные, кайтесь, ибо наступают последние времена». Сбежались правоверные мусульмане, стали всем базаром разбираться с оглашенным Ибрагимом и, разобравшись, порубили и его, и икону на куски.
Так стал Ибрагим мучеником за веру Христову, а православному миру было пророчество о втором обретении иконы бакинской богоматери, о возвращении её людям для всяческих чудес.
Вот Фефил и обомлел — сбылось пророчество! С таким-то приданым взяли меня, ясно, в монастырь, постригли в скитеры и нарекли Абрамом в честь Ибрагима-мученика. Одного из братии услали с докладом о чуде в Москву, так и келья освободилась, и стал я одним из семерых.
Недели две спасался. Ну, воздухами наедаться тяжело, но в принципе терпимо. Не спать тоже понемногу привык. Но без вина-то как? А у них даже кагора нет. Сначала думал, — притворяются, разводят мирян, а сами по секрету хоть рыбу или горох с перловкой жуют и по праздникам позволяют себе по стопке хотя бы. Какое там! Всё по-честному, дурные совсем! По всей обители — шаром кати, стены белые да образа. Не то что гороха и рыб, посуды-то нет. Скамеек всего две, для гостей. Кроватей нет, из мебели только гробы да сундук платяной для ряс. Воистину, жесть!
Ну, загрустил я. Вот ведь как — бох есть, а радости нет. Взлез на колокольню, чтоб от трезвости отвлечься, трезвоню, душу отвожу. Звенят колокола, как бокалы, и на том спасибо.
Кругом бело. Снег белый, лёд белый, небо белое, солнце — и то белое, и храм белый. И летят в этой белизне золотые купола, как воздушные шары, несущие к богу звон о славе его. Красота! Спрыгнуть, думаю, что ли, без вина всё равно не жить.
Тут вижу, пятнышко будто какое вдалеке. Ближе, ближе, вот уже люди, лыжи, сани видны. Экспедиция!
Ну я вниз, к ним. Встретились в километре от Скита. Человек пятнадцать. Геологи, океанографы, по льду, по ветру специалисты. Слово за слово, познакомились. Делают привал, выпиваем, закусываем. Аллилуйя! Исполать!
Сначала пили спирт, потом тоже спирт, но другой. Хотим ещё, как положено. Спирт кончился. Нашли ещё что-то в жёлтой канистре без этикетки, прозрачное, запах резкий. Спросили друг у друга, чья канистра, что в ней, никто не вспомнил. Возможно, радист знал, но он ещё после первого спирта уснул.
Стали пробовать из жёлтой канистры по глотку, осторожно. Вроде забирает. Выждали, потерпели минут пять. Вроде не помер никто — можно, значит. Выпили всё. Потом стали слепнуть. Ослепли. Начали глохнуть. Не успели до конца оглохнуть — напала немота, потом ноги отказали. И руки. И прочее. Полный выкл.
Лежим мёртвые. Все, кроме радиста, он живой лежит. К утру очнулся, бегом в монастырь. А там иноки уже спохватились, навстречу ему бегут. Перенесли тела в монастырь, отпели. Радиста и трупы приятелей его флотская вертушка забрала. А моё тело предали льду и снегу в катакомбах под храмом, где почившие схимники покоятся.
Покоюсь и я; день покоюсь, другой, а на третий будто холод чувствую. Стук какой-то. Прислушался — зубы стучат. Мои. Замерзаю, думаю. А потом думаю, как же я, мёртвый, мёрзнуть могу и думать? Открываю глаза — сверху потолок ледяной, вокруг мощи нетленные с умными лицами. Поднимаюсь, выхожу из катакомб, иду к себе в келью. Вижу братьев Петра и Зосиму. Пётр как заорёт: «Абрам воскресе!» А Зосима: «Воистину воскресе!» Настоятель на крик явился: «Кто здесь богохульствует? Что ты здесь делаешь, новопреставленный отче Абраме?» «Да вот, — отвечаю, — воскрес только что». «Этого не может быть!» — вопиет Фефил. «Как не может? — возражаю. — А Христос?» «Что говоришь, опомнись, бес ли обуял тебя?» — взвился окончательно преподобный. Ну а я, хоть и три дни пропокоился, а всё же с похмелья, раздражён, завёлся тоже: «Христу, значит, можно, а мне нельзя! Зачем же он тогда позор и казнь лютую принял и воскрес? Не затем ли, чтобы нам пример показать? Не затем ли, чтобы сказать нам, ничтожнейшим рабам своим, — вот и вы воскреснете, как я теперь. Воскресайте все, не бойтесь!» А он мне: «Пьянь, пьянь, сгинь, пьянь!»
Короче, извергли меня. Выгнали, как был, в одной рясе, в открытый океан как собаку. Мало того, в Москву написали, будто я в состоянии антифризного опьянения избил веригами океанографа и монастырскую утварь поломал, и образ чудотворный украл. И что не умер я, а, проблевавшись, уснул; и не воскрес, а, проспавшись, возвестил, поражённый гордыней, о своём лжевоскресении, самозванно и богохульно равняя себя с Иисусом. О враги, клеветники мои!
Я, конечно, не всё помню, врать не буду. Но чтобы веригами и чтоб океанографа? Этот океанограф женского пола был. А вериги я снял, ещё когда с колокольни за экспедицией побежал, дабы легче бежалось. На мне только обруч железный на шее остался, не такой уж и тяжёлый. А образ бакинский взял, взял, так ведь он мой и был, мне явлен, не Фефилу этому.
И вот я здесь, перед вами, униженный и оскорблённый. Где справедливость? За что Иисус прославлен, преображён и на небеса вознесён, за то я оклеветан и обращен в прах. Мне, не поверишь, брат, тридцать пять всего, а плешив и сед, и тучен, и одышлив…
— Это от вина, дядя отец, — прокомментировал Велик, наевшийся сладкого и даже поместивший в кармашек небольшой запас.
— От вина, сыне, от вина, а вино от чего? От неправды вино, от несправедливости, — ответил отец Абрам.
— А вдруг Варвара Эльдаровна погреб запереть забыла, — предположил Глеб.
Варвара Эльдаровна Сиропова, хозяйка дома, зная пристрастия о. и его дружков, сама почти трезвенница, принудившая к трезвости и мужа, вина в доме держала не много, для гостей только, самого лёгкого, и прятала его в погребке рядом с котельной, запирала на ключ. Дверь в погребок была крепка, отцу же дозволялось напиваться только подаянием.
— Никогда не забывает, — отозвался монах.
— А вдруг, вдруг сегодня? — настаивал Глеб.
— Ну поди проверь, чего гадать?
Глеб спустился в гостиную — у камина бестолково толпилась мохнатая, пахучая, тучная, как стадо баранов, мебель; из гостиной — ниже, в подвал, там веяло луком и стиркой; дёрнул заветную дверь. Она подалась, так что Глеб воскликнул было «ура», но оказалась не той, не туда дверью. Та, туда была следующая и — закрыта, неприступна. Глеб обнял её, как сирота холодную могильную плиту, под которой скрыто навек самое любимое, самое дорогое, невозвратно утраченное. В шаге от него мерцали отражённой подвальной тьмой желанные бутылки, мерцали и были недостижимы. Глеб подумал, что надо бы сегодня не полениться, найти наконец время и повеситься. Или вот там, на болоте, полынья есть, проезжали — видели, в неё, в неё и сразу под лёд, и плыть подо льдом прочь от полыньи, пока весь воздух не кончится в лёгких, чтоб на обратную дорогу не осталось.
— Пап, пошли домой. Я тебе тут четыре конфеты нашёл, две с ликёром, две с коньяком. Я такие не люблю, а тебе пригодятся, на, — Велик протянул папе мягкие подтаявшие шоколадные конфеты в серебристой фольге.
— Спасибо, — прослезился Глеб и судорожно выпил конфету за конфетой. Коньяка с ликёром набралось на четверть небольшого глотка. Такая доза подействовать не могла, но желанные вкусовые ощущения немного успокоили, — спасибо, малыш, спасибо, солныш. Ты иди в машину, а я ещё к отцу загляну на минуту, и поедем.
Мальчик ушёл ждать. Глеб вознёсся в светёлку.
— Заперто, вижу, — констатировал Абрам, — я же говорил.
— Отче, мне деньги нужны, — сказал Дублин.
— А мне нет. Значит, подружимся.
— Я серьёзно.
— Сколько? Двести, пятьсот? Сейчас нет, приходи через неделю, богомольцы нанесут.
— Да мне бы две тысячи надо, — смутился Глеб дерзостью своей просьбы.
— Сложно, — задумался отче, — недели три ждать придётся. Но может, и повезёт, олигарх какой уездный заглянет судьбу узнать, тогда и десять за раз может получиться. Так что заходи.
— Долларов бы мне, — прошептал Дублин.
— Долларов? Целых две тысячи самих долларов? Это в рублях сколько же? Пятьдесят тысяч? А то и все семьдесят? В нашем приходе, брат, таких денег не видел никто.
— А у хозяйки, у Варвары Эльдаровны, должно ж быть. Она ведь миллионерша. Солому на экспорт гонит.
— Гонит, гонит. Лучше бы самогон на импорт гнала, внутрь народа, — пробурчал инок. — У неё на счету в Сбере миллионов… два рублей лежит, сам выписку видел. И в сейфе в её спальне, Толя говорил, ещё миллиона три. Рублей, не долларов. Могла бы дать, только не даст.
— Умоли её. Она женщина добрая. Пустила же тебя жить, — взмолился Глеб.
— Не даст, потому что никогда не даёт взаймы тому, кто вернуть не может. По доброте своей не хочет ставить человека в неловкое положение, когда он долг не выплатит и оттого переживать будет.
— Я не буду, — заверил Дублин, — или пусть не взаймы даст, а так, даром, тогда и проблемы нет.
— Так тем более не даст. Она же бизнес, купчиха.
— А я верну, — поменял тактику Глеб.
— Ты? — засмеялся Абрам.
— Я. Слушай, расскажу.
— Под рассказ надо бы по сто грамм, — озаботился монах, — и вот что я вспомнил. В холодильнике кефир есть. А в кефире — алкоголь.
— Да, — согласился Глеб, — я читал, что до полутора градусов бывает. И даже больше, если несвежий.
— Ну вот! Дойди, брат, до кухни, неси нам по пакету.
Кефира в холодильнике оказалась уйма по случаю новой какой-то жестокой кисломолочной диеты, на которую Варвара Эльдаровна посадила перед отъездом своего мужа, бывшего сейчас на службе. Служил он жене, упорным трудом и покорностью дослужившийся до заместителя главного бухгалтера соломенного её бизнеса.
Глеб принёс четыре литровых пакета. Выпили залпами по первому.
— Первая колом, — булькнул о., — не закусываем! — отказался от протянутой Глебом пустой конфеты из-под ликёра.
Глеб не закусил. Помолчали.
— Что, забирает? — послушав себя, спросил монах.
— Да нет как будто, — ответил Глеб, — кажется, свежий кефир попался.
— Ну, давай ещё по одной.
Выпили ещё по литру. На сей раз оба почувствовали изрядное внутреннее вздутие, а вскоре и брожение. Опьянением такое состояние назвать было ещё нельзя, но и обычным оно уже не было.
— Рассказывай, брат, — настроился Абрам.
— Я миллионер, — рассказал Дублин.
— Милиционер? — удивился несколько оглушённый бурлением в своём пузе схимник.
— Миллионер, — повторил Глеб.
— Вот как, — попытался ещё, но из-за тяжести в брюхе больше не смог удивиться о., — у тебя, стало быть, есть миллион.
— Есть.
— Миллион чего? Тараканов в твоей халупе на улице Заднезаводская?
— Не тараканов, брат. Долларов, брат. Не в халупе. В офшоре, брат. В Великом Княжестве Метценгерштейн.
§ 10
Сын миллионера дожидался миллионера-ст. в джипе. Он умел включать отопление в машине, умел быть терпеливым и занять себя, и развлечь, не имея подчас ни единой игрушки, ничего другого, что можно было бы для игры приспособить. Он умел ждать, поскольку ждал часто, пока Глеб пил. Обходился подолгу без еды, легко терпел жажду, будто маленький бедуин, который влачится по пустыне и знает, что хоть страдай, хоть не страдай, а вода и ночлег далеко и от страдания ближе не станут, так что лучше не страдать. Бреди себе дальше, думай свою бедуинскую думу, бедствуй бедуинскую беду, только спокойно, без напряжения, без напряжения.
Он уже знал, что боль и беда, и скука, и тоска бывают разные, от разных причин и из разных веществ сделанные. Но что в любой из них всегда примешана резиновая кислота времени. Без времени и боль не боль, и скука не скука. Вот он и научился не считать минуты, четвертьчасы и часы и не думать, когда это или то, другое кончится, или не кончится ни то, ни это никогда. А когда тоска не считается, то и не так саднит, не так печёт, не так колет, крутит и ломит.
В джипе, похожем изнутри на старый сарай, куда сложен битый хлам, кресла, железки, сумки с чем-то ненужным, где всё слишком было знакомо, глядеть было не на что, поэтому Велик разглядывал прошедшую половину дня и находил её довольно красивой и удачной. Прекрасно было, что у о. Абрама накопилось столько сладостей, и удачно было, что вина не накопилось у него вовсе. Ему нравилось и то, как он позаботился о папе и облегчил его страдания, великодушно подарив ему конфеты с коньяком. Разглядев же день и увидев, что это хорошо, мальчик взялся мечтать.
Велик любил папу и нельзя сказать, чтобы сильно осуждал или боялся его за пьянство. Нетрезвый Глеб давно уже был небуйный. Он как-то размякал, размокал весь, когда набирался, роптал и лопотал жалобно, прел, слезился. Но вот эта-то мякоть вместо мужчины, слёзы и мокрое место там, где по-хорошему должен был бы находиться отец, крепкий, сильный, весёлый, надёжный, это-то и смущало Велика, наводило на мысль, что папаша некондиционный какой-то. И всё же он не осуждал его. С одной стороны, потому что почти все, а может, и просто все, за исключением капитана Арктика, известные ему взрослые были заметно выпивающие. А с другой, потому что, стоя перед жизнью и входя уже в неё понемногу с окраины, со света, начиная движение в первых попавшихся, ещё негустых, ещё негромадных тяготах её и темнотах и догадываясь наперёд, что дальше и гуще, и громаднее станут они, и чем дальше, тем тяжелее и темнее; и видя, какие диковинные звери и люди уже перебегают ему дорогу, и слыша их рык и рёв, доносящийся из ночных зарослей жизни сплошным шквалом как бы пения свирепых хищных цикад, чувствовал он — не перейти ему это дикое поле напролом, а только галсом преодолеть, иноходью, в обход; и со многим смириться придётся, многого не осудить, уступить многому. Вот он и уступил папу болезни его и слабости, да и что же он мог ещё. Зато не умаялся, не взялся за неподъёмный груз, не надорвался, сохранился. Он был как кораблик на гербе Парижа — спокоен среди бурь. И весел.
Хотя бывало ему и страшно, и очень страшно, как любому ребёнку. Тут бы и приткнуться кораблику к берегу, к родителю какому-никакому, но — берега кисельные были, топкие, желе, жижа, а не земля. И пахло от берегов перегаром.
Тогда жался Велик к себе, не к кому больше было. Кутался в своё одиночество, как кутался бы в мамино тепло, если бы была у него мама. Одиночество это было ему велико, недетского размера, большое, просторное, тяжёлое; как на взрослого, словно с чужого плеча на вырост ему отдано.
У кого были родители алкоголики, тот поймёт, каково ему приходилось, какой он чувствовал грозный простор, какую свободу ужасную, непереносимую для неумелой детской души, ещё не обособившейся. Не научившейся рыскать на холоде и скакать по головам, улавливать, хватать ближних своих и, усевшись им на шею, примостившись у них в мозгу, высасывать из них все соки, отжимать тепло, выгрызать радость. Существо его ещё не выпало в осадок, не окаменело в форме какого-нибудь дундука или долбоёба, а должно было быть ещё рассеянным, ясным, прозрачным, растворённым, как свет и любовь, в крови и воле кого-то старшего. Но в крови старшего было вино, а воли вовсе не видно. Оттого растворялся Велик в своих вымыслах и ещё — в вере своей в знаменитого капитана Арктика, героя и волшебника, весёлого, сильного, крепкого, надёжного.
Самыми счастливыми минутами его жизни были такие, как теперь. На улице ветер; роится за стеклом мелкий, надоедливый и кусачий, как мошкара, снег, а в машине уютно, тепло и мягко, никто не мешает мечтать о полёте к блуждающей планете Уау. Эта уютная, тёплая планета летает в космосе свободно, сама по себе, греясь то у одной звезды, то у другой. А во время долгих межзвёздных и межгалактических перелётов освещается кружащимся вокруг неё вместо луны собственным небольшим солнцем. Во главе экспедиции капитан Арктика. Велик — его правая рука, командир взвода биониклов. Велик мечтал, он любил такие минуты, он часто ждал Глеба, у него были целые часы таких счастливых минут. Он был счастлив.
Обычно Глеб помнил о сыне первые час/полтора от начала злоупотребления спиртными напитками. Злоупотребив же триста и более миллилитров водки, терял его из виду. До трёхсот он рассказывал о Велике своим бесстрашным товарищам, знавшим, что сегодня будет жарко, что по две тысячи миллилитров в каждого должно попасть, не меньше, плюс портвейн. И товарищи смотрели бесстрашно, как выставляются против них бутылки, и знали, что не отступят, и что не все сегодня вернутся домой. Некоторые падут прямо здесь, ещё на тысячной отметке. Иные, дойдя до двух тысяч и даже портвейна, уже на финише испытают острую сердечную недостаточность. Но каждый надеялся выжить и, разгоняясь потихоньку, слушал сентиментальные рассказы Дублина о Велике. Расчувствовавшись, посылали кого помоложе отнести сыну математика в джип огрызок колбасы или солёный огурец, яблоко, леденец. Звали иногда и за стол и даже наливали. Но Велик не пил, а за стол шёл редко, потому что за столом и собирались-то нечасто. Больше в подъезде, на подоконнике накрывали, или на ящиках позади магазина, или просто на весу, посреди улицы, где стояли — один держит огурцы и леденцы, другой рвёт мускулистыми пальцами плотный пластик упаковки импортного сыра, третий крутит голову бутылке, четвёртый, исполняющий роль буфета, блестит торчащими из всех карманов шестью непочатыми пузырями и отирает от волнения и нетерпения выступивший на лбу пот общим, одним на всех припасённым скомканным бумажным стаканчиком.
Потом, увлекаясь, о Велике забывали, и он несколько часов проводил в джипе и его окрестностях. Чаще один, как теперь, иногда — играя со случайно встреченными ребятами. Звонил, бывало, Машинке, но она приходила редко, а когда приходила, становилось весело. Раз как-то побили его, но раз только или два, и не сильно. Располагал он к себе почти всякого, сходился легко и со сверстниками, и с малышнёй, и с теми, кто постарше.
А у взрослых вызывал чувство не то чтобы уважения, а какой-то внезапной осторожности, робости даже. Как будто нечаянно попадали они, ошибившись дверью, не в винно-булочный магазин, куда маршировали по-домашнему, прямо в чём были (в страшных обшарпанных штанах нараспашку, в будничной низости мысли, в настроении, напоминающем первую фазу холеры), а в красивое, торжественное какое-то место. В музей, что ли, где сверкает Вермеер и мерцает Клее, или в свежеотремонтированную, свежепозолоченную администрацию с высоченными потолками, под которыми гремят, как громы под небесами, государственные голоса губернатора и прокурора. Попадали сюда вдруг — и терялись, ростом становились короче, речью реже. Втягивали смущённо в живот костлявые нелепые ноги в страшных штанах и позорных ботинках. И не решались бросить на зеркальный пол докуренную уже было сигаретку со вкусом жжёной перловки, и хоронили её угольком внутрь в заскорузлом своём кулаке, другим же кулаком размахивали, пытаясь выгнать поганый дым из красивого этого места. И пятились, и шли вон из торжественного оцепенения красоты, захватывающей дух, обратно на вонючую волю, в привычную свою прозванную жизнью возню. И долго ещё потом, сидя у себя в бельэтаже кривопанельной хрущёвки, уткнувшись в тарелку с бульоном магги или в телевизор с ним же среди похожих на мусор мебели и одежды, вспоминали Великовы глаза, через которые смотрит великий свет. Тот же, что через картины Вермеера и Клее и через осеннее ветреное солнце, тот же, что через миг бескорыстной неразделённой влюблённости в девушку, прошедшую мимо, незнакомую, не оглянувшуюся, никогда больше не встреченную, тот же, что через Сутру подсолнуха и Молитву стали смотрит на нас; великий свет, великий свет, и тьма не объяла его. Тут осеняла их догадка, что есть иные края, иные бульоны, хотелось подойти к окну, но не подходили, потому что знали: если подойдут — выбросятся.
Правда, правда — очень выделялся Велик; сразу видно было — чужой. Не неземной, конечно, но нездешней внешности. Он был как заблудившийся принц среди нищих, и нищие чуяли в нём королевскую кровь и смущались.
Нетрудно, честно говоря, в этой местности было и выделиться. Земляки наши народ добрый, но в большинстве своём снаружи простой. Осанкой, запахами и малохаризматическими харями напоминали сколоченные кое-как из серых сырых досок сараи, гаражи и нужники. А порой и кислое, рябое, тусклое тесто, сбежавшее из кастрюли в пепельницу. Ещё бывали граждане типа выкипевших чайников. Но не все, конечно, были таковы. Встречались и женщины наподобие красавиц. Например, Машинка и мать её Надежда Кривцова.
Парни тоже попадались видные. Родом из наших был даже один знаменитый фотомодель, Серж Биркин, сын двух комбинацких рабочих, А. и Н. Пробиркиных, увезённый в Питер заезжим балетом. А уж из Питера как-то там хотениями и похотями пожилых порочных портных и танцоров вознесённый аж до самого миланского подиума.
Но то были, однако же, исключения. Преобладали, однако же, как и сказано выше, граждане, похожие на ржавые гаражи.
Подождав долго ли, коротко ли, Велик либо засыпал на заднем сидении, либо шёл вызволять отца из хмельных компаний. Разными бывали те компании, всевозможными: скорбящие инженеры, хохочущие учителя, спящие солдаты, поющие чиновники, танцующие пролетарии, дерущиеся промеж себя железнодорожники; учителя, бьющие железнодорожников; чиновники, бранящие инженеров; библиотекари, восхваляющие солдат; блюющие пенсионеры; хохочущие инженеры, спящие между собой учителя, танцующие лётчики…
Из одних компаний Глеб Глебович извлекался легко, по первому великову велению, из других часами приходилось его выскабливать и выковыривать. С кем только не пил Дублин-ст., со всеми пил, хотя необщителен был, кажется, и молчалив, и задумчив. А люди к нему тянулись, поили порой за так, за компанию только. И неясно, какой толк за так его было поить: сидит себе, слезится, не спляшет, как все, не подпоёт взбодрившемуся от сивухи случайному приятелю, не подерётся, если даже ударят его, если даже подраться по-приятельски сам бох велит, ведь как не подраться, если красное, а сверху белое, а потом опять красное. Но эти отчуждённость и нечувствительность прощали ему при том, что никому другому не простили бы. Чувствовали, что они — из глубины, в которую никто, кроме него, не погружался и погрузиться бы не смог, ни блюющие железнодорожники, ни дерущиеся ветеринары, ни спящие асфальтоукладчики, никто из пьющих с ним. Но молчание этого математика привносило в пьянку и в драку, и в пьяный пляс какую-то, если не осмысленность, то как минимум неоднозначность; вот, дескать, пьём, но ведь не просто пьём, а непросто пьём, сложно; как бы и не только пьём, а и что-то ещё ощущаем, сами не знаем что. Не то что другие, какие нажрутся и ржут, и режут друг друга. Один слесарь, вторая токарь, третьи библиотекари — низкий народ, серый. А тут дураки не с дураками квасят, здесь с математиком напиваются. Народ, он везде и всякий одинаковый — и серый, и белый, и низкий, и высокопоставленный: любые люди любят иметь смысл и тянутся к непроглядным явлениям, надеясь добыть его в них, ибо в том, что видимо — его не видно.
Выпросив отца у всех этих сборищ, выпростав его из них (иногда получив у них ещё и конфетку в придачу, а иногда и обруганный, а бывало, и битый ими), Велик вёл его к машине. И тот садился, в особо же тяжёлых случаях практически ложился за руль. И вёл машину к дому, бормоча и раскачиваясь, случалось, с закрытыми даже глазами. Странно, но обычно добирались живьём до родного подъезда. Однажды лишь упали с моста, но мост не высокий был, и под ним не река и не улица текла, а какая-то тёплая, мягкая, кислая грязь из-под молокозавода. Так что всё обошлось, упали не больно; да ещё как-то раз сбили кого-то, в темноте не разглядели кого, так и не узнали, кто это был. Вроде там даже два кого-то было, только проулок был такой, что до ближайшего фонаря ещё полчаса ходу, ни зги не видно, а фары от удара разбились, от удара о сбитых. Всего света осталось — оконце в конце долгого деревянного дома, а в оконце этом горела не лампа, не люстра, а свечка у старика какого-то в руке, читающего газету. Велик из джипа выбежал, вокруг джипа обежал, пошарил впотьмах руками-ногами, не нашёл под колёса попавших, воротился ни с чем и плакал, плакал. Глеб же и не вспомнил потом ничего, рулил, не приходя в сознание; так и доехали.
Впрочем, сегодня должно было быть всё попроще. Вина у о. Абрама нет, компания самая малая у них там и знакомая, так что будет мир, и ждать долго не придётся.
§ 11
Рассмотрев прошедшие полдня, Велик стал разглядывать забор и дом генерала Кривцова. Он был уже лет пять влюблён в генеральскую дочь Машу Кривцову, девятилетнюю красивую девочку из его школы. Влюблён не любовью ещё, но тревожным, нежным и чистым предчувствием любви. Как будто первый утренний ветер тихо трогал цветы и листья, трогал и затихал. А цветы и листва покачивались и пели, не ведая, что этот слабый ветер — лишь первое движение несущейся сюда ревущей бури, несущей сюда поднятую со всей земли пыль, сорванный с неприбранной жизни сор и надёрганную из неё разную дрянь. Что буря быстро здесь будет, оборвёт листья, ударит по цветам горячим пыльным воздухом, задушит, ошеломит, закружит. И придёт настоящая взрослая любовь с её счастьями и несчастьями, неслыханной радостью и бестолочью, и враньём, скукой.
Машу в школе звали Машинкой, об их с Великом взаимной нежности знали все, знал и генерал Кривцов и не одобрял. Мало что сын пьющего математика (а математик — это что? это же ниже инженера, это типа медсестры, что ли, или таджика?) не пара генеральской дочке, так ещё и новые чрезвычайные ужасы только что обнаружились. Поэтому Велик и не постучался в кривцовский дом, знал — не пустят к нему Машинку поиграть. Но подумал — вдруг она из какого-нибудь окна смотрит на него, и помахал наудачу рукой.
Но не смотрела на него Машинка, а смотрел на него Сергей Михайлович Кривцов, генерал милиции, смотрел, невидимый за серой занавеской в неосвещённой комнате. Смотрел, стоя при узком, как бойница, оконце, и яростно, матерно, надрывно молчал. И было от чего взяться ярости и надрыву.
Два часа назад выслушал он отчёт лейтенанта Подколесина о некотором частном расследовании, неофициальном, но с использованием спецсредств.
— Не может быть, — сказал Кривцов Подколесину.
— Но ведь вы же сами заподозрили что-то. Значит, допускали, что — может быть. Иначе зачем дали указание за ней следить? — сказал Подколесин Кривцову.
— Да ничего не заподозрил. Просто подумал — двенадцать лет вместе живём, не завела ли она себе кого. Я-то ведь завёл.
— Вот и она завела, — сочувственно хихикнул лейтенант.
— Да нет, не может быть.
— Вот диски, вот распечатки, вот фотографии. Вот она входит в его дом. Вот опять. Вот целуются. Вот он руку суёт смотрите куда, товарищ генерал. А вот этот диск не смотрите. Там прямо секс. Не надо смотреть, расстраиваться.
— И где она успевала? Когда?
— Да в школе, товарищ генерал. Он за сыном придёт, сын с Машинкой играют в спортзале или в учительской, а они в медпункт. Там чисто, кушетка есть, все условия. Вот этот, кстати, диск из медпункта.
— А ты рад как будто! Так и смакуешь, блять! — заорал вдруг Кривцов.
— Никак нет, товарищ генерал. Не рад. Очень огорчён, как положено. А ещё к нему домой ходили. А ещё к Дарье Масловой, знакомой его. А ещё…
— Всё, иди, — скомандовал генерал.
— Есть, — отвечал лейтенант, исчезая.
— Надя, скажи честно, ты мне изменяешь с математиком Дублиным? — проревел куда-то в низ дома рёвом падающего истребителя Сергей Михайлович.
— Нет, я с олениной пельмени готовлю, — откуда-то с другого этажа, из очень далеко бушующей кухни донёсся слабый голос Нади, Кривцовой жены, видно, не расслышавшей как следует мужа.
— Ну вот я и говорю: не может быть, — подумал Кривцов и устало уставился на диски, распечатки и фотографии.
Он был крупный, но некрепкий мужик лет сорока пяти. По молодости когда-то был тонок, строен и румян, повзрослев же и ухнув в мутный омут служебной жизни — посинел, распух и разбух, как утопленник. Он всё время болел чем-нибудь несмертельным. Хвори были мелкие, едкие, гадкие, сами будто хворые и недомогающие, не способные сбить с ног и свалить в постель, тем паче в могилу, а годные лишь на то, чтобы испортить настроение, утомить, достать и навеять чёрную меланхолию. Есть в таких болезнях что-то унизительное, будто бох, чтобы извести вас, даже и недуга солидного пожалел и гасит вас всякой копеечной подручной самодельной чепухой типа насморка или метеоризма.
Генерала боялись и сторонились не потому, что он был большой и толстый. А потому, что он злился и раздражался постоянно и от любой мелочи, и толщина его как раз не мощью поражала, а рыхлостью, желейностью какой-то. Так что казалось, что от раздражения и злобы он вовсе не бросится на вас и не прибьёт, а только раздуется, распухнет и разбухнет ещё больше и — лопнет, забрызгав вас чем-то очень неприятным.
Сегодня Кривцов болел угревой болезнью. Целая россыпь отвратительных красных бугорков покрыла его правый висок и правую сторону носа. Они обнаружились утром, когда Сергей Михайлович собирался уже было обрадоваться тому, что прошла ангина, терзавшая его целую неделю и сменившая в своё время трёхдневную беспричинную сердечную аритмию. Сердечной же аритмии предшествовала трёхдневная же тошнота, тошноте — приступы радикулита, радикулиту — опять ангина и т. д., и т. п. В общем, так и не обрадовался Сергей Михайлович.
Он, как и все успешные люди на Руси, жил тяжело. Успех в наших местах дело тёмное и опасное. Добывший денег добывает их почти всегда преступным образом или полупреступным, или четвертьпреступным. Потом он старается сберечь добытые преступным путём деньги и сберегает их также преступными методами — уходя от налогов, отстреливаясь направо и налево, ввязываясь в новые бизнесы через какие-то полулегальные схемы. Кроме того, преступления, полупреступления и четвертьпреступления, с помощью которых добывались деньги, периодически всплывают, вскрываются и беспокоят. Являются какие-то рассерженные люди из прошлого, кружат невдалеке следователи, в прессу вдруг вываливается скелет из шкафа, о котором и сам уже забыл. И начинается изматывающий и бесконечный, почти сизифов труд по сокрытию нечистого прошлого и закрытию тут и там открывающихся дел, и все силы тратятся на то, чтобы не стать обвиняемым, а как-нибудь перекантоваться в свидетелях. И опять в кого-то приходится стрелять, кого-то подкупать, и добытые деньги кончаются, израсходованные на сохранение самих себя. И нужно добывать новые. А тут заводятся шикарные любовницы, друзья-артисты и подрастают дочери, и все они требуют новых денег. И масть надо держать, и марку. И это тоже денег стоит. И опять совершаются преступления и полупреступления, ради сокрытия которых приходится опять совершать преступления и полупреступления, и четвертьпреступления…
Так и жил генерал Кривцов. Кроме Кетчупа, врагов у него было много. Многих он обидел, столь многих, что из дома своего, похожего на цитадель, года два уже не выходил, знал — убьют. Не Кетчуп, так Аслан, не Аслан, так свой же мент полковник фон Павелецц, не он, так другой, пятый-десятый… Сначала скучно было дома сидеть, но потом привык. Командовал милицией через лейтенанта Подколесина, которого одного на дому ежедневно принимал. С прочими общался по телефону. Целый день муштровал и строил личную охрану, человек двадцать отборных ребят, не давал им покоя, чтобы времени у них не оставалось на предательство. Особенно тосковал он первое время по охоте, без которой жить не мог. Но и тут приноровился. Раз в месяц по всей стране налавливали ему зверья и живьём привозили на дом — пару лосей, медведя, олениху там или кабаниху с поросятами, всякий раз зайцев, гусей штук по тридцать. Выстраивали во дворе. Сергей Михайлович выходил во двор и расстреливал их всех из Калашникова. Потом разводил между мёртвых туш костерок и жарил вынутые из них потроха и в обществе своего питбультерьера Уммки поедал.
Со скуки завёл генерал и любовницу, хотя придерживался взглядов на брак весьма умеренных, даже несколько старинных. Не то чтобы стремился быть верным супругом, но понимал так, что если есть уже баба, зачем же ещё одна. Лишние траты и хлопоты, да и ни к чему, всё равно что два телевизора в одной комнате. Да и не принято как-то, а принято, что жена одна. У всех одна. Ну у чеченов две, три. У Аслана три и у шестёрки его Магомеда две. Так то ж чехи, что с них взять. Аслан как-то говорил, что у русских лицемерие сплошное. Живут почти все на две, а то и три семьи, врут и там, и там, да ещё в баню с девками ходят, а по закону — жена одна. Значит, закон неверный. Зато у мусульман всё по-честному. Вот жена и вот жена, и вон та, что через двор с казаном бежит — и та тоже жена. И ещё четвёртую можно будет поиметь, но это позже, к старости ближе, напоследок. Надо, Аслан говорил, чтобы русские закон о многожёнстве приняли. Но тут милиционер Кривцов возражал, что ведь у русских мужчины и женщины равны. Тогда ведь и многомужество придётся вводить. И представь, у тебя, Аслан, три жены, а у каждой из твоих жён ещё кроме тебя по два-три мужа. Это же что получится. Смеялся Аслан, качал головой, менял тему. Теперь уж так с ним не поговорить. Поссорились Аслан Андарбекович и Сергей Михайлович. И зря, если честно, поссорились. Аслан даже не местный был, в Константинопыле бывал так, наездами, а шайка его чеченская орудовала в Сольвычегодске. Но мнительный Кривцов стал на всякий случай на Аслана накатывать и в конце концов запретил ему и его абрекам в город наш наведываться, заподозрив их в желании разведать и умыкнуть несметные здешние богатства. Абреки же, как водится, оскорбились и нарочно приехали целой компанией во главе с Магомедом и Зией. На вокзале повстречались с константинопыльской милицией: привет, привет, слово за слово, разговорились. Застрелили менты Магомеда, а асланова брата Зию заточили в исправительное учреждение на долгих тринадцать лет. И Аслан через местную газету обратился с открытым письмом к начальнику милиции, предупреждая, что «суровая кара постигнет тебя, Сергей Михайлович, не уйти тебе, свинья, от меня, уже едут из Дуба-Юрта готовые на всё сыны гор» и пр., пр., в таком духе. Вдобавок выяснилось, что кривцовский зам полковник Данила фон Павелецц давно на зарплате у Аслана, а война чеченцев с эскимосами, отвлёкшая Аслана от мести Кривцову, близится к взаимовыгодному перемирию. А тут ещё Кетчуп этот треклятый. Тогда-то и заперся генерал, укрылся.
Жена его Надежда Петровна, учительница (из той школы, где Велик и Машинка учились), была моложе мужа на десять лет и приобретена была им, когда уж он понял милицейскую службу, узнал что почём и откуда что берётся, с первых денег, отобранных у какого-то торговавшего хурмой хмурого хмыря на рынке.
Она была почти красавица, как если бы бох задумал сотворить новую Надю Ауэрман; творил, творил, уже почти доделал, но тут подлетел к нему серафим и загрузил текущими вопросами, вот бох и бросил заготовку, наполовину только исполнив намеченное — Надя получилась, а вот Ауэрман — нет. Чего-то не хватало в ней, чтобы быть красивой. И ноги вроде длинные, и зубы. И глаза большие, и груди, но всё такое какое-то — как будто не посолили, не поперчили, если бы сравнить её, скажем, с пельменями. Как русская машина — и бампер есть, и двери, и даже руль с мотором, а всё ж таки не то. Хотя, в принципе, сойдёт.
Надя была женщина мягкая, несмотря на некоторую костлявость. Готовила не слишком вкусно, но много и охотно. Мамой хорошей была. Да и женой неплохой — на секс не напрашивалась, от секса не отказывалась. Но и она, тихая, стала злиться от торчания постоянного Сергея Михайловича в доме. Стала на него даже покрикивать.
Тут кстати и заметил генерал дородную садовницу, по четвергам стригшую морковь на огороде. Познакомились, нашлось много общего — садовница, как и генерал, отменно и страстно играла в бильярд. Пошли в подвал, в бильярдную. Огромный, как кровать, зелёный стол с толстыми полированными ляжками, стремление быстрых киев к трепещущим лузам, горячее дыхание склонившегося для удара соперника — от всего этого воспламенились их чувства и чресла; и оне наперебой засовокуплялись, пока Надежда Петровна в школе учила ребятишек ботанике и арифметике. И, как теперь выяснилось, — тоже увы! совокуплялась.
Сергей Михайлович, прогнав Подколесина, почувствовал себя как выключенный холодильник, в котором разлагается что-то невкусное и некрасивое.
— Ну не может быть, но вот случилось же, не может быть, а есть, — думал он с каким-то неожиданным безразличием, словно речь не о его жене шла. Он перебирал свои эмоции и не находил для этого случая подходящей. Вот гнев, нет, не то. Вот тоска — нет, звучит не так. Разочарование? Ревность? Злоба? Отчаяние? Ненависть? Любовь? Смирение? Рассмеяться? Заплакать? Убить? Простить? Не то, не то, не то. — Она значит так. А я-то? Ведь и я так. Она с этим Дублиным, и Машка с сыном его связалась, а! Во семейка! Донжуаны, блять, сплошные! Что она в уроде этом нашла? А сам я что в садовнице? А вдруг и садовница мне изменяет, тогда что? Как же тогда жить? Что, совсем, что ли, правды нет никакой ни капли нигде?
Тут в комнату вошла Машинка и спросила:
— Пап, ты вор?
Это была замечательной внешности девочка, в которой бох вознамерился довоплотить ту настоящую красоту, которую не завершил, работая над её матерью. Совсем ещё ребёнок, желавшая во всём походить на Велика, который был чуть старше её, желавшая даже быть мальчишкой, чтобы быть как он, она уже светилась, уже привлекала всеобщее внимание среди неказистых наших природы и публики, как будто ангел летела впереди будущей своей неотразимой прелести, предвещая пришествие в мир прекраснейшей из женщин.
— Ты что, Маш, совсем, что ли? Ты что такое говоришь? — тем же тоном, что Подколесину говорил «не может быть», отозвался папа.
— Говорят, что ты вор. Деньги у людей отнимаешь и взятки берёшь.
— Доченька, бох с тобой, кто наплёл тебе?.. — недоумевал Кривцов.
— Говорят, на твою и мамину зарплату такой дом не построишь и таких машин не купишь, и мне таких игрушек… — настаивала Машинка, видимо, по-детски не вполне понимая, что говорит.
— Я не вор, — вскрикнул Кривцов.
— Ты же правду мне всегда говоришь. Чтоб я тоже всегда правду говорила…
— Ну, хорошо, правду говорить нужно, — у генерала по некоторым вопросам были действительно старинные представления. — Так что ты хочешь знать?
— Ты вор?
— Я деньги не ворую.
— Отбираешь?
— Не отбираю. Хотя, конечно, беру.
— У кого?
— Ну… у всяких людей. У бизнесменов разных, — взялся разъяснять Сергей Михайлович.
— А почему? Это же их деньги, — любопытствовала дочь.
— Ты должна знать, доченька, все, все деньги берут. Кто много, кто мало. Берут, воруют, отнимают друг у друга. Такова жизнь. Это как… игра в пиратов. Но я вот, к примеру, взятки беру почему? Потому что право имею.
— Какое право?
— А я, Маш, родину люблю. Россию нашу. Я, Маш, за неё, матушку, жизнь отдам. Ты же знаешь, я в Афгане и в Чечне воевал. А эти все — министры там, в Москве и Сыктывкаре да все эти при них прощелыги олигархи, они родину нашу грабят, а случись чего — первые убегут. По заграницам рассосутся. Они воевать не пойдут.
Я, Машенька, конечно, деньги у таких, как они, получаю. Ведь не всё же иудам отдавать, надо же и патриотам что-то оставить. Мы, конечно, взятки берём. Но пусть они там перестанут брать и воровать, тогда и мы тут перестанем.
Они не имеют права страну грабить, потому что не любят её. А я имею, потому что люблю. Понятно?
— Понятно, пап, — Машинка, кажется, была удовлетворена объяснениями.
— А кто тебе, Маш, сказал, что я вор — только честно? — спросил Кривцов.
— Велик Дублин.
— Велик… Вот как! Опять Дублин. Всё дружишь с ним?
— Дружу.
— А ему кто сказал? Не папаша его?
— Он в интернете прочитал. Я пойду, пап, там мультики начинаются.
— Ну ладно, ступай, — ответил Сергей Михайлович и подумал с внезапно выступившей на душе яростью. — Опять эти Дублины. И сюда залезли. И интернет это хренов опять.
Генерал много лет уже слышал о каком-то интернете, слышал о нём много плохого, но всё руки не доходили взять необходимые меры. Теперь, получается, и до него интернет этот добрался. Кривцов позвал Машинку:
— Постой, Машенька, насмотришься ещё мультиков. Научи меня интернетом пользоваться.
Через час он позвонил лейтенанту Подколесину в полностью разъярённом виде:
— Слушай, Подколесин, ты интернет читал? И чего? Не пошёл? Не осилил? Акунин лучше? Какой Акунин? Куй с ним, с Акуниным, не до него… Ты интернета-то сколько прочитал? Страниц десять? И чего? Не понравилось? Чего молчал-то? Я вот сейчас одним махом весь от корки до корки одолел. И что думаешь? Там, оказывается, такое, блять, пишут. Про кого, про кого… Про меня. Да ладно бы только про меня. Там и про министра Н-ва такое… Какое, какое… Да такое — ебуками его и по матушке кроют так… Да ладно бы только его. Там про самого П-на такое! И даже про сам знаешь кого… Про кого, про кого… Да про него… Да нет, ты не понял. Не по телефону… Ну да, да, и про М-ва тоже. Как ну и что? Да пропала страна, ты чего, не понял, что ль? Ну хер бы с ней, со страной. Начальству виднее. Если надо, чтоб страна пропала, значит, есть на то серьёзные причины, значит, для чего-то это всё делается, не просто так…
Я о другом, меня, блин, эти ублюдки Дублины достали. Все до одного. Ты понял? Достали! Чтоб я их больше в городе не видел! Понял? И алкаша этого, и сынка его! Понял? Сначала с маленьким гадёнышем разберись и выжди неделю-другую, чтоб старый гад помучился. А потом и старого… Понял? Тогда с богом! За дело!
Выключив телефон, генерал подошёл к окну и сквозь серую занавеску увидел перед домом соседей Сироповых дублинский джип и мальчишку в нём, и идущего к машине Глеба и свирепо подумал:
— Допрыгались, твари. Допрыгались, твари, твари… твари…
§ 12
Глеб Глебович вышел от о. Абрама жестоко упитый, почти убитый чудовищной передозировкой диетического кефира. Как это обыкновенно получается после всякой неудачной пьянки, он клялся себе не пить более никогда. «Никогда более не буду пить, — думал он, — кефира, никогда».
К радости Велика, он был совсем трезв, к огорчению — от трезвости этой и кефирного перепоя раздражён и хмур. Он сел за руль, джип захромал домой, провожаемый тяжёлым и чёрным-чёрным, как тень дракона, взглядом синих глаз генерала Кривцова.
Уже настал вечер, некоторыми своими самыми тёмными и холодными местами напоминавший вечность. От домов виднелись только окна и редкие рекламы. В окнах барахтались человеки с ужинами в зубах; переливались, как открытые ларцы, полные сокровищ, телевизоры; пылились шторы.
[Окна, окна! Как я называл вас тогда — маяками покоя? царствиями небесными? — когда бродил, коротая зимнюю ночь, по Москве, молодой и бездомный, два квартала назад получивший по морде от троих заплутавших на суше моряков, четыре часа назад отчисленный из института справедливым начальством; прижимавший к разбитой губе за неимением бинта содранную с забора завода «Пролетарий» афишку планетария; истекавший понемногу кровью, смертельно замёрзший. Как хотелось мне, окна, оказаться там, у вас за стеклом, на стороне тепла, в укромных комнатах, где готовился на газовом пламени приветливо засвистать большой эмалированный чайник. И щепотка душистого чая брошена уже была в фарфоровый чайник поменьше, и нарезаны сыр и хлеб, а добрые люди за столом ласково спорили, выпить им или нет до чая водки, совсем помалу, не для разгула, только для разогрева разговора. Одна из них, ласковая девушка в тонком домашнем халате, в которую все мужчины в этих комнатах были влюблены, разрешала спор, говоря, что если помалу, то можно, и все влюблялись в неё ещё крепче. Доставалась ледяная бутылка, загустевшая водка разливалась по рюмкам. По русскому обычаю, не велящему пить молча, но только под слова, произносились разнообразные краткие заклинания — «ну давай», «будем», «не последняя» и пр. Потом шёл чай, а с ним и тихая, как русская вечерняя песня, беседа — поначалу о том, о сём; позже о Менатепе и Америке; дальше о Бродском, Хокинге и капитане Арктика; ближе же к утру, к заре, к свету — о боге… Окна мои, как я хотел пить этот воображаемый чай и сидеть рядом с этой тёплой девушкой и быть одним из этих добрых людей. Но я шёл один по вымершей вымерзшей улице и не знал, где преклонить главу, одежда на мне была как изо льда, я не был добрым человеком, был злым. Вокруг меня лунно желтели и толпились, теплились, отражаясь в моём треснувшем лице, — вы, московские окна… окна…]
Дублины жили в пятиэтажном доме номер шесть без лифта посередине короткой и широкой Заднезаводской улицы. В первом этаже располагался торговый центр «Уфицци», специализировавшийся на дешёвых распродажах просроченных консервов и пива и обменный пункт Северного Народного банка. Банк, слышно было, обанкротился, но обменник продолжал почему-то беспечно и пребойко обменивать.
Оставив машину, как обычно, во дворе, отец и сын двинулись к родному подъезду.
На ступенях лестницы стояла белобрысая худощавая невысокая толпа в тяжёлых зимних полусапогах, с арматурой в татуированных лапах.
Крут и обширен русский народ. Далеко и вольготно расселился он вдоль берегов Северного океана, сильными боками своими задевая и попирая бесчисленные племена инородцев, зачерпнув своими окраинами много чужих кровей и характеров. Смешиваясь где с чем: где с чухной, чудью и водью, где с черемисой, где с Чечнёй, где с мордвой и чукчею. И стал от этого смешения наш народ многообразен и разнолик. В одних местах — черняв и кучеряв, в других рыж и жирен, в третьих бел и рус, где-то узок лицом, где-то, напротив, широк, там лупоглаз, там вдруг роскос, то статен станом, то крив и кос, не разберёшь. Встанут рядом два человека, и покажется — вот немец, а вот черкес, но не тут-то было: заговорили, задвигались, и сейчас видно — оба русские.
Толпа, топтавшаяся на лестнице и закрывавшая Дублиным проход, состояла из такой разновидности русского человека, при взгляде на которую не Гагарин, Толстой и Пётр Великий припоминались. А мерещились ноябрьское мрачное поле и брошенная в нём ржаветь сеялка (или веялка?), накрытые сверху тяжёлым ноябрьским небом с застрявшим в раскисшем от ливней облаке ржавым вертолётом. Между полем этим и небом кто-то будто бы бежит сюда, к вам, издали, собака ли, волк или человек, приближается так быстро, что вы не успеваете разглядеть, кто это, равняется с вами и ранит то ли клыком, то ли клинком финским. И бежит себе дальше — не волк, не собака, не человек, существо из промозглого, как ноябрь, кошмара, а вы так и остаётесь торчать посреди этого мрачного поля один, шарите рукой у себя в огромной ране и среди внутренностей своих не находите сердца и кричите во сне громко, как можно громче, чтоб разбудить себя и проснуться. Ещё думалось при взгляде на эту толпу: «Господи, за что я русский? Неужели и я — некто из них и называюсь, как они? Не меньше ли у меня общего с ними, нежели с волками и псами? Не называй их русскими, господи! Или не называй русским меня. Дай отдохнуть, господи, от русской суровой судьбы, дай побыть хоть немного тихим швейцарцем или шведом, успокоенным швабом или хотя бы каракалпаком!» — поскольку даже и по местным далеко не классическим канонам нравственности и красоты эти люди представлялись поистине ужасными.
Впрочем, для Глеба и Велика в толпе этой ничего несусветного не было. Такие толпы были на Заднезаводской и прилегающих улицах делом обычным, водились в каждой подворотне наравне с крысами, нищенствующими котами и собачьими стаями. В тёплое время года они обитали на детских площадках, на зиму перебирались в подъезды. Питались отнятыми у прохожих колбасами и рыбами, развлекались избиением прохожих же и порчей всего хорошего.
Толпа не пошевелилась, лишь вытаращилась на вошедших вараньими, тараньими и бараньими своими глазами. По их взгляду опытные Дублины поняли, что на этот раз их шансы дойти до квартиры целыми довольно высоки. Во-первых, сами Дублины были местные, жили на самой бедовой в городе улице (Глеб Глебович снял здесь квартиру ввиду её экстравагантной дешевизны, жильё здесь почти ничего не стоило, поскольку жить в этом районе было невозможно), и это добавляло им некоторого авторитета; во-вторых, у них была особая харизма, так что их как-то не трогал драчливый наш народ, о чём уже говорилось выше, хотя иногда всё-таки и им попадало, не всякий в харизме разбирается, много и таких, кому ведь и всё равно, так по харизме надают, как будто это не харизма, а обычная харя, о чём тоже говорилось; в-третьих, и в данном случае это было важнее всего, толпа, очевидно, только что вернулась с охоты и собиралась разобраться с трофеем. Под ногами у неё трепыхалась и жалобно попискивала прижатая намертво к ступеням достаточно дорого одетая пожилая женщина.
Добыча была знатная, поблёскивало даже кое-где на ней золото, что-то блестящее просыпалось и из сумки, обещая поживу, какой, может быть, давно не было. Не до Дублиных было явно. Толпа помешкала немного — не прихватить ли ещё и этих, но после мгновенного размышления несколько сдвинулась к стене, давая пройти.
Отец и сын поднялись домой. Жилище их было однокомнатным. Тесноты, заменяющей нашему народу в наших домах уют, было здесь в избытке. Прихожая в полтора квадратных шага, таких же размеров ванная, обе забиты одеждой, сухой и мокрой, верхней и нижней. Дальше находилась собственно та самая одна комната, из-за которой вся квартира звалась однокомнатной. Её занимал Велик. Здесь он играл, делал уроки, спал. Диван, компьютер, телевизор, игрушки, по стенам — постеры с портретами могучих биониклов. Налево была кухня, где отец и сын ели по очереди из-за чрезвычайной её малости. Прямо — дверь на лоджию, остеклённую и утеплённую по уже упоминавшемуся здешнему обычаю. Тут была математическая мастерская Глеба Глебовича — всё та же многотомная Теория хаоса; книги по фрактальной, начертательной и ещё какой-то геометрии; тетрадки, исписанные Дублиным (он приготовлял полное уничтожение математики своим революционным трактатом «Тотальная симплификация — метод и результат»); раскладушка, стул и вместо стола подоконник; чтоб лучше писался трактат — электрические чайник и лампа.
Из мастерской и кухни открывался вид на прижавшийся к обочине города седой лысоватый сгорбленный лес, в котором росли, точнее, давно перестали расти и сохли, ломались редкие сухие ломкие ели, старые сорные сосны, сутулые дубы, трубы каких-то пустующих срубов; увязшие в снегу покосившиеся осины, заборы, вязы; тоска, тоска.
Зато в квартире обстановка была добротная, опрятная, даже радостная, не то что когда-то на Сиреневой. С тех пор Глеб успел совсем спиться и, казалось, должен был бы зажить совершенною свиньёй. Но Велик, не по годам чистоплотный, своим присутствием как-то скрасил быт семьи. Удерживал отца, который всё норовил оскотиниться, опуститься на пару ступенек ниже по лестнице эволюции, уставая стоять наверху. Впрочем, кто же из нас, добрых людей, иногда даже и не пьяниц, не уставал стоять, не испытывал время от времени дикого утомления от всего в себе человеческого, слишком человеческого. От обязанности ходить прямо, на двух ногах (а это, если честно, не так уж и удобно), хорошо пахнуть (трудно, трудно!); учтиво мрачнеть на похоронах, острить и гоготать на вечеринках, любить детей; уважать жён и бывших жён, и бывших жён, вышедших замуж за каких-то мудаков, и бывших жен, подавших на вас в суд; и говорить в суде «ваша честь», думая про себя «о, мудило»; и потом возвращаться к себе полудомой, потому что полдома отгрызла у вас «вашачесть» в пользу вашей бывшей жены; и потом ехать на работу, где вас поджидал начальник, похожий на «вашучесть», к которому два года назад ушла от вас ваша предпоследняя бывшая жена и от которого она просилась теперь обратно, так что приходилось выкручиваться и придумывать несуществующие причины, почему вы не могли её принять… Кто же из нас не хотел (то есть хотя бы раз в жизни) вдруг остановить машину в незнакомом квартале, выйти, на вопрос «куда ты?» ответить «щас, Кристина, я щас»; свернуть с проспекта в улицу, а с улицы в переулок потише и победнее; найти под забором лужу поглубже, почище и потеплее, лечь в неё, хрюкнуть радостно; отправить смс «Кристосик, поужинай и потрахайся без меня». На вопрос прохожего «вам плохо?» ответить «хорошо»; утопить мобильный, повернуться к забору грязным улыбчивым рылом и спать, спать…
§ 13
Велик приготовил себе горячий напиток из остатков купленного к лечению прошлогоднего его бронхита чабреца и, поджав ноги, уселся на полу с драгоценным своим айпадом. Папа подарил сыну этот экземпляр из первых полупиратских партий, доставленных в нашу тьмутаракань, на ошибочно полученную на комбинате (когда работал ещё там) премию. Премия полагалась какому-то старшему оператору камнедробильной установки, но чудесная цепь опечаток и компьютерных глюков довела её до младшего программиста отдела обеспечения суперкомпьютера Г. Г. Дублина. Она была бы всенепременно пропита, но начальник отдела, подрабатывавший на чёрном рынке гаджетов, продемонстрировал коллективу новое достижение С. Джобса, и Г. Дублин решил, что не может не порадовать сына. Бох, прослышав об этом, был тронут такой отцовской любовью и самоотдачей и устроил так, что премии достало и на айпад, и на небольшую, но вместительную бутылку ядрёнейшего гренландского вина. Получился настоящий семейный праздник, воспоминание о котором не было омрачено разоблачением, поскольку никакой вины Глеба в ошибке бухгалтерии не было. Начальство, намекнувшее было, что хорошо бы, благородно бы, похвально бы премию вернуть тому, кому она причиталась, сразу же своих слов устыдилось, не стало упорствовать, как-то там поощрив пострадавшего старшего оператора ценным подарком в виде завалявшейся у начальства в комнате отдыха когда-то начальству подаренной делегацией подшефной школы уродливейшей вазы из котласского фаянса.
Велик взялся играть в свои любимые игры, Глеб же вперился в телевизор, терпеливо пережидая рекламные перерывы и не столько вникая в кино про доктора Хауса, сколько переживая и сожалея, что раскрыл свою тайну о. Абраму. То есть отцу-то он доверял, но ведь рассказал ему для того, чтобы тот убедил купчиху Сиропову в его, Дублина, платёжеспособности. Теперь же понимал, что Сиропова в его миллионерство всё равно не поверит и денег взаймы всё равно не даст; а если и поверит в Глебов миллион, то денег не даст опять-таки, а по всему городу разнесёт, а там дойдёт до милиции или до Кетчупа — отберут миллион, точно отберут, как же так, как можно было так разболтаться. Глеб хотел было поехать обратно к о. и уговорить его не сказывать ничего купчихе и денег у неё отнюдь не просить. Но он знал монаха, знал упрямство его, знал, что тот уж если решил для него денег у хозяйки выпросить, то выпрашивать будет непременно. Да если и не скажет он ничего Сироповой, так скажет же кому-нибудь непременно, какой-нибудь просительнице своей всё раструбит случайной, так только, чтоб для нравственности, из жизни чтоб поучительный пример привести. А уж что узнает эта просительница из тех полоумных баб, какие таскаются по целителям, гипнотизёрам, звездочётам, таким вот монахам, по монастырям, церквям и циркам, то уже не только весь город узнает, а и вся Россия.
Что же такого рассказал Глеб схимнику, что так теперь жалел? Да вот что. По рассказу Дублина выходило, что по погибели Айзеназера Институт нетривиальных структур мгновенно разорился и стал банкрот. Бухгалтерия впервые не выдала Глебу денег. То есть никаких, буквально ни копейки. Иностранные журналы, словно по команде, отказались публиковать три последние работы Дублина. Университет Феникса отменил международную дискуссию по его гипотезе о возможности непространственной геометрии и принципах расчёта объёма куба, моделируемого не в пространстве, а во времени. И не просто отменил, но отменил как «попытку бреда по вздорной теме».
Не одному Дублину солоно пришлось. Профессора и академики стали понемногу разбегаться из Института.
Было ясно, что всё, державшееся на Айзеназере, обрушилось. Наука оказалась чем-то вроде группы «Сливки» — ничто без хорошего продюсера. А продюсер из академика Айзеназера был отменный: шустрый, обаятельный, неутомимый. Заступивший же на место Леонида Леонидовича сын его Леонид был настоящим учёным, иными словами рохлей, растяпой, которому ни украсть ни покараулить поручить нельзя. Сразу ясно стало, что делать бизнес на ахинее, поставляемой безумными провидцами с экстремальных высот высшей математики, он не умеет. Что ничего он не смыслит в финансах, жкх и обхождении со значительными лицами.
Государственные субсидии внезапно иссякли. Куда-то сразу делись и иностранные гранты. Торопливая торговля садовым инвентарём на первом этаже Института вдруг замерла. Вместо Умара Хакимовича, доброго дородного дербентца, арендовавшего этот этаж, по магазину бродила теперь сухая, тихо злящаяся чему-то своему судебный пристав.
В кабинете директора, где раньше шумели умным шумом головастые гости из Новосибирска, Питера, Сорбонны и Беркли, начали что-то подолгу и негромко выговаривать Леониду Леонидовичу-мл. худощавые нервные личности в кожаных куртках. Они говорили «лавэ», «подстава», «япончик»; иногда «хуй». Их бурые лица и речи имели тамбовское какое-то выражение; а длинные свои пистолеты они носили не в кобурах, а в модных барсетках из натуральной кожи.
Совсем по безденежью оголодавший, Дублин зашёл однажды к директору спросить, где деньги. Леонид Леонидович-мл. жутко смутился. Нервные личности занервничали: «Ты чей? Если от Ктитора, то Ктитору передай — это Японца точка». «Это мой, — промямлил директор, — учёный, Глеб Глебович». «Учёный», — повторил кто-то из личностей раздумчиво, словно припоминая значение редкого слова. «Зайдите, Глеб Глебович, в следующем месяце, обещали денег завезти, — сказал Айзеназер. — Ну а если не завезут, — тут он покосился на гостей с барсетками, — будем выдавать заработную плату институтскими книгами и мебелью». «А едой нельзя?» — поинтересовался Дублин. Тогда к нему обратилась та самая раздумчивая личность, сказавшая «учёный», говоря: «Слышь ты, доцент? Ком цум мир». Глеб не понял, но почему-то подошёл к личности, которая была вислоуса и оттого похожа на песняра. Расстегнувши барсетку, песняр вытянул из-под стечкина сколько-то долларов и рублей и протянул «учёному»: «На, доцент, похавай чего-нибудь». «Спасибо, — сказал песняру не Глеб, а Леонид Леонидович, — до свидания, Глеб Глебович, до свидания». Дублин, всю жизнь до сего дня прообитавший в математике, провитавший во фрактальных радужных облаках, где несть ни гордости, ни предубеждения, молча вышел, впервые почувствовав себя униженным. Он расслышал, как Леонид Леонидович продолжил: «Вы же видите, денег нет… О, я, конечно же, уважаю товарища Япончика, о, как я его уважаю, если бы вы только знали, но денег… Нет, нет, не нужно, что вы… Ещё раз повторяю — я не знал, что папа вам должен… Я ничего не знаю о «Тресте Д. Е.»… Нет, нет, уберите, не нужно, не нужно… Я расплачусь… Дайте ещё хоть день… Как говорится, будет день, будут деньги…» и пр., пр.
Глеб купил каких-то мороженых птиц и пицц, фанты, «похавал» их и поплакал, повспоминал дядю Лёню, без которого так круто развернулась наоборот его жизнь. Он плакал и вспоминал, вспоминал весь вечер и к ночи вспомнил о белом конверте: «Надо вернуть Леониду Леонидовичу имущество Леонида Леонидовича-ст.».
Глеб извлёк из самого сухого и тёмного угла папиной спальни загадочный пакет и наутро понёс его Айзеназеру. Перед Институтом стоял, подбоченясь, толстый мерседес, нагло оглядывавший прохожих немигающими, как глаза дракона, фарами, красноватыми от недосыпа, от всенощного рыскания по всей Москве в поисках разных добыч. Худощавые нервные личности — всё те же — уговаривали Айзеназера сесть в него, директор же в ответ просил «ещё три дня, или хотя бы два, поймите правильно…» Личности отвечали учтиво: «Да ладно, ничего, садись…» Глеб подошёл к компании, держа конверт перед собой как икону. «А, доцент, — признал его милосердный песняр, — похавал?» — и довольно куртуазно, как-то даже любя, что ли, ударил директора по голове барсеткою. Леонид Леонидович враз весь смягчился и, мягкий, неслышно, неспешно стёк по жилистым рукам нервных личностей внутрь авто. «Бывай, учёный», — попрощался усатый, впрыгнул в мерседес, за ним и прочие семеро (!); мерседес вместил всех до странности легко, даже не крякнув, рванул с места в карьер и был таков; уехали.
Глеб, будто сила удара срикошетила и, убывая, задела и его, остался стоять на площади перед Институтом как бы оглушённый.
— Ты что, туда, на работу, что ль? Я там был. Её там нет, — забубнил на Дублина вышедший из здания Дылдин.
Этот Дылдин, Саша Дылдин, был единственным школьным товарищем Глеба. С третьего по седьмой класс они очень дружили, потом пути их резко разошлись — Глеб провалился с головой в гиперпространство и почти не отзывался оттуда, Саша же стал отменным ватерполистом и, непостижимым образом, в то же самое время лютым пьяницей. Он напивался накануне матчей и сразу после, но играл прекрасно. В качестве восходящей спортстар свёл знакомство со многими уважаемыми ворами и воротилами. Выиграл даже что-то такое золотое в Европе, но потом (государь алкоголь своё взял) начал терять форму. Запропускал матчи, матч за матчем, а когда не пропускал — забивал своим, или пел в бассейне песню «В Таганроге солучилася бяда», а однажды лёг на дно вместе с мячом и не хотел всплывать. Был списан на берег и ударился в бурные и сумбурные бизнесы и пьянки.
Удивительно, но через несколько лет шедшие столь разными путями молодые люди опять сошлись, встретившись в Институте нетривиальных структур. Зачем нужен Институту Дублин, было понятно, зачем ему нужен был Дылдин — решительно неизвестно. Пристроили его, изгнанного из ватерполо, сюда, кажется, дальние какие-то родственники сердобольного дылдинского тренера, пожалевшего забулдыгу за былые его заслуги.
Дылдина пристроили по противопожарной части, но он быстро забыл, кем работает, бродил по этажам, мешал учёным умствовать и напивался в гуще научного пролетариата — лаборантов, уборщиц, электриков и пр. При том, однако же, и к академикам был вхож.
Встретившись, Глеб и Саша не начали снова дружить, но всё-таки отнеслись друг к другу как нечужие люди. Общались редко, но тепло.
— Хотел вернуть Леониду Леонидовичу документы его отца, — тепло ответил Глеб, — а он уехал, не выслушал даже…
— Уехал, навсегда уехал Директор Директорович наш ненаглядный, — подтвердил Саша, — да ты не обижайся на него, не до того ему сейчас, не до чего. А в конверте-то что?
— Не знаю, — Глеб вкратце разъяснил, откуда конверт.
— Интересно бы заглянуть, что там за статья такая личного характера, — полюбопытствовал Дылдин.
— Неудобно.
— А чего неудобно? Сын его уехал, а ему ты и сам вроде сына был, даже лучше. Давай, давай, мистер Ай одобрил бы.
Они зашли в пивной бар «Кишка» и уселись среди клубов табачного чада и куч креветочной шелухи.
— Накатишь? — спросил Дылдин и, не дождавшись ответа, залпом, как рюмку водки, махнул кружку студёного пива, запив тут же для красоты чем-то красным, ликёром смородиновым, не иначе.
Непьющий (в ту далёкую пору) Дублин осторожно вскрыл конверт и покраснел, как креветка. Внутри нашлись две бумажки. Одна простая с английскими буквами. Вторая напоминала большой лотерейный билет со сверкающей золотой печатью в нижнем правом углу.
Глеб не знал, что это такое. Зато сразу узнал Саша. Он слыл крупным бизнесменом, хотя и не нажил ни копейки. Был убедителен речью, победителен взглядом, грациозен движениями. Рассуждал о клиринге и нетинге, показывал необычайную осведомлённость в вопросах золотодобычи, нефтяной логистики, доходности венчурных фондов. Был вхож в кабинеты финансистов, депутатов, помощников министров, владельцев моднейших клубов. То есть вертелся среди тех счастливцев, что обращают деньги во власть, власть опять в деньги и деньги снова во власть по десять раз на дню. Его принимали всякие директора — исполнительные, финансовые, коммерческие, обычные и даже генеральные, приглашали порой нарочно, выслушивали с неподдельным интересом, даже совершали при нём по его просьбе какие-то звонки; слали куда-то по его совету имейлы; дивились дерзости дылдинских идей и тут же — верности вариантов их капитализации и ясности ответов на уточняющие вопросы; думали себе: чорт возьми! не новый ли Цукерберг, раздвигатель горизонтов, явился? не сподобилась ли Фортуна прислать такое море эксклюзива и вернейшего профита в одни руки? а что? а ведь и аксиос, достойны-с, заслужили-с, деньги к деньгам; догадывались — что-то определённо есть в этих проектах посталгоритмического компьютинга, не стали бы ребята из Гарварда даром париться, правильно Дылдин говорил, а если эти Хьюитты силиконовские два доллара на наш один дают, то ведь с такими ребятами рискнуть можно, и если Дылдин взял бы на себя минфины России, Японии и США, а он взял… возбуждаясь, скликали партнёров, партнёры сбегались со всего этажа и через полчаса общения бывали просто очарованы Дылдиным. Лихорадочно понастроив планов, условившись с утра уже пораньше, в десять ноль-ноль, а лучше в восемь сорок пять переговоры продолжить за деловым завтраком в «Алмазном» (или в «Турандот»? в «Пушкине»? в «Алмазном» всё-таки, там омлет с трюфелями и латте, и круассаны такие…) и позвать ещё Левиева, толстого сиио из «Татс энд татарс финанс», — партнёры всем гуртом шли провожать Дылдина до машины. Которой у него не было. И верили, что он — чудак! — ездит на метро, как король Уолл-стрита Джош Герш, по странности своей, а не по бедности.
Но как только Дылдин уходил и поднятая его обаянием золотая пыль оседала на вынесенных мозгах партнёров, остывала и тускнела — проявлялась вдруг полнейшая несуразность наговоренного. Всё показавшееся увлекательным и убедительным при критическом и холодном разборе смотрелось откровенной и даже грубой бредятиной.
Кто-то вдруг прозревал — да ведь этот Дылдин был, кажется, просто пьян и больше ничего; и пришёл, видно, навеселе, а по ходу переговоров полтора литра арманьяку выдул.
Партнёрам становилось неловко, они слали Дылдину смс о нежданных форсмажорах и необходимости перенести деловой завтрак на неопределённый срок. А заваривший всю кашу и скликавший всех на Дылдина сконфуженный гендиректор вёл теперь всех отпаивать за свой счёт в «Алмазный» (в «Турандот»? или в «Джикью бар»? в «Алмазный» всё-таки).
Дылдин не был лжец. Он был, действительно, почти бизнесмен, хорошо осведомлённый и отлично комбинировавший. Но он так увлекался внешней, так сказать, стороной дела, эстетикой, что ли, процесса, что как-то позабывал о довольно существенном звене любой деловой комбинации — о деньгах. На какой именно стадии занимательной схемы должна возникнуть прибыль и как её извлечь — он никогда не умел понять. То он приходил за своими барышами слишком рано, то слишком поздно, то вовремя, но не к тому человеку. Дылдин вёл жизнь блестящую, но безденежную. Был со связями, был даже лицом влиятельным, влиял сильно и на многих, но каким-то бессмысленным, ни к чему не ведущим влиянием. Словом, русский делец — делец с умом, энергией, харизмой и даже планом, но — без цели.
— Ну, Глебушка, это она, — разглядев бумажки, сказал Саша.
— Кто?
— Удача!
— ? — вопросительно взглянул Глеб.
— Это сертификат акции офшорной компании. И главное — сертификат на предъявителя. Кто предъявил, тот и хозяин. Того и компания, того и деньги. Так, так… Компания «Трест Д. Е. Лтд». Прописана на острове Буайан. Княжество Метценгерштейн. Налоговая гавань. Там все голливудские звёзды гонорары прячут. Слышал? Вот имя адвоката, который всем этим управляет в интересах бенефициара. То есть в наших с тобой интересах. Потому что мы с тобой теперь кто? Предъявители! Вот телефон. Вот пароль доступа к счёту.
— ? — не очень понимал Глеб.
— Такие компании обычно открывают, чтобы анонимно или под чужим именем отложить на её счёт деньги на чёрный день. Или дом на неё оформить, виллу на Лазурном… Там может быть гора долларов, Глебыч! Но может, конечно, и ни хрена не быть, — Дылдин запереживал и помрачнел от собственных рассуждений, — а может быть, на ней и долги… — он выпил ещё пива и бодрость духа вернулась к нему. — А вдруг всё-таки не долги, а деньги. Деньги, деньги… Вот мы сейчас и проверим. Нужно по этому телефону адвокату этому позвонить. Только не засекли чтоб и чтоб за международный разговор не платить. Из дома нельзя, из автомата нельзя, из Института нельзя. А откуда можно?
— ? — всё ещё ошеломлённо молчал Дублин.
— Что бы ты без меня делал, счетовод! Пошли!
Они галопом дотопали через три квартала до магазина «Колбасы», зашли за прилавок. В подсобных помещениях шёл ремонт. Шёл он и в кабинете товароведа. По причине ремонта вместо товароведа в кабинете сидел маляр с пёстрым лицом.
— Привет, Марлинский, — приветил маляра Дылдин.
— Ты где был, брат? — спросил Марлинский.
— Ты же помнишь, за пивом я пошёл, — ответил Дылдин.
— Так три дня уж как, — без настроения уточнил маляр. — Ребята разошлись давно.
— Жаль, — попытался вздохнуть Саша.
— А пиво-то где? — не унимался дотошный Марлинский.
— В «Кишке». Только они на вынос не торгуют. Пришлось там выпить, скажи, Глеб, — выпутывался Дылдин.
— А-а-а, — сказал Марлинский и крепко задумался.
— Позвонить можно? — спросил Саша.
— Звони, — глухо, из глубины своей задумчивости отозвался маляр.
Дылдин вцепился в свежевыкрашенный телефон на товароведческом столе. Набрал заграничный номер по бумажке из белого конверта.
— Кен ай спик виз мистер Хольмс? Шейлок Хольмс? Мистер Хольмс? Кен ай спик виз ю? Хау мач мани он… Как счёт по-ихнему? Он май компани… Трест Д.Е.Л.т.д. Элтэдэ… да… йес… Ай ноу пассворд. Пассворд из Лимпопоу. Йес. Лимпопоу. Ривер ин Африка. Вот ю сей? Вот? Я не очень понял, он говорит, надо лично, что ли, явиться. И показать этот херов сертификат. Сеньк ю. Си ю. Си ю сун, мистер Шейлок Хольмс. Ехать, блять, придётся. Марлинский, можно я ещё позвоню? Так. Так. Здрасьте, Ирочка. Андрей Марленович на месте? Будет к одиннадцати? Окей.
— А пиво-то где? — как следует поразмыслив, спросил маляр Марлинский.
— Сейчас к Марленычу сгоняем и привезём тебе пива. Сколько хочешь. Мы мигом. Погнали, Глебушка!
Гнали минут сорок на метро, оказались на улице Донаторов, где в половине бывшего детского сада банковал расторопный начинающий частный банк. Заметно было, Дылдина здесь знали, охрана почтительно пропустила его и «этого со мной» Дублина в крошечную приёмную, где ещё пахло детскими завтраками и горшками. Одиннадцати, а стало быть, и «Марленыча» ещё не было. Друзья решили прогуляться вокруг банка и повстречали рассевшуюся на изогнутой ржавой железной балке, торчащей из клумбы, небольшую армию пьянствующих солдат. Дылдин быстро взял командование на себя, обаяние его сработало и здесь — ему охотно подчинились. Выпив на правах старшего большую часть военного самогона и рассмешив служивых парой дебильных дембельских анекдотцев, сказал Глебу:
— Ехать надо, брат. В Метценгерштейн. Я сейчас денег займу у Юдина. Давай так — должны будем поровну. Штуки три зелени всего. Ты полторы и я. Риск, конечно, есть. Вдруг нет на этой фирме ни хрена. Или Хольмс этот дурака включит типа «зайдите завтра». Тогда да. Попали тогда. А вдруг нет? Вдруг не попали? Вдруг лимон там?
— Нехорошо, — сказал Глеб. — Это не наше имущество. Вернуть надо.
— Кому? Грохнули же Айзеназера!
— Да, да, но сын-то его…
— Так я про сына-то и говорю. Ты чего, не понял что ли? Поздно, брат. Когда мы его видели? В девять ноль. А сейчас сколько? Десять сорок пять. А сколько на машине до кольцевой от Института? Ну час — в пределе. Там они уже давно. И сделали всё.
— Где там? — спросил Глеб.
— В роще, на Домодедовской, возле крематория. Ты не понял! Они же наша крыша. Ну те, из мерса.
— Чья крыша?
— Института нашего. И, кажется, всей академии, кроме сибирского отделения, тех ногайцы держат. И астрофизики особняком стоят, у них в обсерватории ингуш один завхозом, серьёзный мужик, сам себе крыша. А у нас — эти. Наши, русские. Ватиканские. Главный у них — Витя Ватикан. Вор неподкупный, честный, принципиальный. А старый Лёня напортачил там чего-то, не поделился, что ли, чем-то. Или ещё чего. Вот они его и помножили на ноль и за молодого Лёню взялись. Но и он не смог чего-то там сделать, чего они от его папаши хотели. Они таких, которые не делают, чего они хотят, отвозят в рощу. Там очень удобно всё устроено. В кустах пристреливают, потом в крематории сжигают. А пыльцу оставшуюся по погребальным урнам плановых клиентов расфасовывают. В тот прах грамм двести досыпали, в тот другой — триста подмешали, так и разойдётся чел без следа, будто и не было его. А раз тела нет, то и дела нет. Такая вот юриспруденция. Так что смешали уже, небось, нашего Директора Директоровича в пропорции два к трём с какой-нибудь Антониной Павловной двадцать девятого года рождения и отнесли к её дочери на Елецкую и спрятали на антресоли, где старый видак и оставшиеся от ремонта лишние обои, чтоб дети не путались.
— Так, может, они этот конверт и ищут? — предположил Глеб.
— Вычислил наконец-то. Математик, сразу видно. Пока, солдаты, сержанты и старшины, нам пора. В случае натовского вторжения сдавайтесь американским или немецким частям, избегайте польских захватчиков и румынских ополченцев, особенно же латышских стрелков — сущие звери. Чао, пехота! Вольно, можно курить и блевать… Скорее всего, так и есть — конверт этот они ищут. Иначе чего старый Ай стал бы его у тебя ныкать? Значит, важный конверт. Значит, есть там деньги, на счетах этого Треста. Не бойся, Глеб, я много не возьму. Я ж понимаю — вещь твоя. А я посредник и консультант. Давай так: 10 % от того, что там на счетах найдётся или в другом каком ликвидном виде — моё, за работу. Честно ведь?
— Это честная часть нечестного дела.
— Ладно, ладно, не углубляйся. Ты что, святой? Чип? Дейл? Капитан Арктика? Представь, ты хоть наукой спокойно, в удовольствие займёшься. Не отвлекаясь на вопрос, чего пожрать. Думай себе сколько хочешь и ни о чём не думай. Жить станешь на доходы с капитала. Институт наш теперь банкрот, просто сарай. Бросишь его. Захочешь, в Санта-Фе поедешь, или в Гейдельберг, в Кембридж, а! Это как Нобеля получить. Сам посуди. Не этим же двоечникам с барсетками всё отдавать!
От Марленыча Юдина Дылдин вышел задравши голову и почти не касаясь земли, как гусь, начинающий разбег, чтобы взмыть в небо.
— Летим, — восклицал он, — летим, — восклицал он, — в Метценгерштейн, в Метценгерштейн… — и показывал Глебу свежие деньги, гордо расправляя их, словно крылья, у него перед глазами. Дублин разглядел на банкнотах одноокую пирамиду и что-то по-английски о боге и тресте.
§ 14
На острове Буайан в безымянном слабосоленом море верстах в ста от Сеуты процветали четыре офшорных монархии (размерами примерно по четыре кв. версты каждая) — княжество Метценгерштейн, герцогство Берлифитциг, королевства Мерсия и Нагония. Это были наитишайшие государства с очень большим уважением и очень, очень небольшим любопытством относящиеся к чужим деньгам и обожающие хранить их в полной тайне.
Тишине и сохранности не мешало даже то обстоятельство, что Метценгерштейн и Берлифитциг находились в состоянии войны вот уже пять веков. Потому что — воевали они довольно мирно. Пушечный и мушкетный дымы, висевшие когда-то над островом из-за их вражды, давно рассеялись. Примыкавшие то к одной, то к другой стороне ветреные трусливые рулеры Мерсии и Нагонии устали метаться и стали нейтральны, ленивы.
Война же княжества с герцогством происходила теперь только по пятницам, ровно в полдень, когда при великом скоплении туристов пять пушек родового замка Метценгерштейнов производили холостой залп по цитадели Берлифитцигов; а четыре мортиры герцога Берлифитцига так же холосто и невинно палили в сторону метценгерштейновых владений. Затем гвардейцы обоих правителей трубили отбой и на рыночной площади между двух столиц начиналась бойкая торговля почтовыми марками и майками, раскрашенными в цвета боевых знамён бранящихся армий.
В деловом пригороде Метценгерштейна, в небольшом, под стать стране, небоскрёбе квартировала адвокатская контора «Шейлок Хольмс, бразерс, систерз, френдз», помогавшая скрытным людям скрывать капиталы от налоговых служб и полиций.
Дублин и Дылдин притащились сюда со своими бумажками из белого конверта. Даже и конверт с собой принесли на всякий случай — вдруг и он силу документа имеет. Оба были впервые за границей, но не замечали вокруг ничего особенного, как будто всё шагали по Москве. Саша был слишком деловой и оттого невпечатлительный, а Глеб, как всегда, разглядывал свои миражи, на которые распадалась и расползалась реальность, и не очень отличал респектабельный остров, населённый молчаливыми адвокатами, хорошо откормленными пальмами и холёными хвалёными банкирами, от родных сиволапых Текстильщиков.
Приятели поднялись в пентхаус, занятый Хольмсом и его братьями, сёстрами и друзьями. Из лифта попали сразу в некую залу ожидания, аскетически меблированную, светлую и вместительную, в центре которой громко шептались два, судя по внешности, латиноса — усатый великан в костюме наркобарона и плешивый коротышка в диктаторском мундире. В зале было ещё человек сорок (построенных в три очереди, которые вели к трём дверям), и все они были русские. Соотечественники, сдержанные северяне, в отличие от экстравертивных латиносов, в основном помалкивали. Лишь изредка то из того, то из другого угла комнаты слышались краткое сопение, подавленные зевки или невнятное веяние еле уловимого лёгкого матерка.
За тремя дверями, куда по очереди заходили посетители, кипела работа. Учреждались трастовые фонды, открывались секретные счета, офшорные компании разлетались как горячие пирожки. Хольмс и его подручные сами выступали в роли подставных лиц. И текли в их надёжные, добрые, честные руки детские пособия, украденные из казны солидным руководителем, с честным, добрым и надёжным лицом вещавшим с трибун и телеэкранов о бедственном положении детей и многодетных семей. Текли откаты с оборонзаказа — 40 % суммы на федеральном уровне, 40 % на региональном, 20 % растаскивалось инженерами, начальниками цехов и наиболее передовыми рабочими; на остальное строилась подводная лодка. Текли поступления от продажи героина и анаши школьникам Шумихи и Куртамыша школьниками Шуи и Кинешмы.
Текли наследства истреблённых компанионов и родственников; прибыли убыточных медиахолдингов, выручка рухнувших торговых сетей, дивиденды однодневных акционерных обществ; доходы от разорившихся шахт, незаконного лова краба, от невыполненных за три цены строительных работ, бюджетных переплат за лекарства и оргтехнику, от контрабанды телефонов и телевизоров, купленной у самих себя нефти, импорта просроченного мяса, от поставленных на поток заказных убийств, от имевшего оглушительный успех пиратского альбома Джорджа Майкла, от неожиданных банковских услуг, состоявших в том, что деньги вкладчика неожиданно прикарманивались банкиром, и банкир бежал, бежал что есть мочи, мчался с оттопыренными карманами прочь от владчиков, на свободу, на запад и просил, и получал там политическое убежище, и выводили его на видное место в эфире прямо в чём был, с оттопыренными карманами, и строго говорили на иностранном языке — вот гонимый вами предприниматель, а где же ваша демократия? в ответ же слышали скрежет зубовный того или иного вкладчика: а где же мои деньги? не мои ли деньги у гонимого из оттопыренных карманов торчат? на что вкладчику только громче кричали про демократию.
Текли, словом, к старине Шейлоку русские деньги, нажитые тем единственным делом, которое одно только и способно всегда тягучих, вязких и отчасти угрюмых людей рф преобразить хоть на короткое время в озорных, лёгких, весёлых, смекалистых, искромётных энтузиастов. Делом этим любой эрэфовец занимается охотно и всегда пребойко и преумело, словно рождён для него, подобно тому, как японец для изготовления панасоников, нигга для танцевания хипхопа. С этим делом каждый нормальный эрэфовец справляется в каком угодно возрасте, на какой угодно должности и в какой угодно местности; в равной степени хорошо справляется и в трезвом, и в пьяном положении. Дело это — воровство.
Вот сидит, скажем, Иван или Магомед, или иной какой обитатель рф, и на призывы пойти куда-нибудь, добыть чего-нибудь в поте лица или изобрести что-либо полезное не реагирует. Потому что думает про себя, какой он всё-таки классный и непревзойдённый богоносец. И не любит, когда его от этих дум отвлекают. Воевать не идёт, пахать не идёт, плясать не идёт, любить не идёт. Лежит, смотрит сквозь всё на ему лишь видимую точку, поставленную в конце всего того, в начале чего было Слово; смотрит на точку, лежит, бога несёт, бороду отращивает. И дивятся толпящиеся вокруг Ивана народы: вот, говорят, лежит человек, нейдёт никуда; загадочная евразийская душа, сколько же в ней глубины, сколько величия и ни на что непохожести, сколько в ней мыслей о любви и смерти, о слезинке ребёнка, о Пушкине, о воскресении отцов. «А мы, — говорят народы, — бегаем, суетимся; станем же тоже лежать и мудрствовать, как эта великая нация достоевских, раскольниковых, бронштейнов и коллонтаев!» Но тут подходит Магомед и говорит: «Иван, а Иван! Пошли воровать». И что же? Идёт Иван, бежит даже, рвётся. Проступает на лице его румянец, сходит с чела напряженье вселенской скорби, загораются холодным болотным огнём оба глаза, и вместо народа-богоносца, народа-страстотерпца обнаруживается стосорокамиллионная многонациональная и многоконфессиональная шайка разбойников. И начинают красть и грабить. И не то что другие народы, которые похитрее, которые у чужих крадут, а эти, наши-то, крадут у своих, у нас, да и более того, у себя самих. И крадут-то как-то простодушно, не как те, что похитрее, которые то от золотого стандарта откажутся, то дерривативов настругают, то пузырей финансовых понадувают, то МВФ создадут, то Всемирный банк. Которые организуют ограбление по высшему разряду, усадят вип-потерпевшего в кресло, дадут ему кофею, буклетов с картинками и диаграммами разнообразных обманов с расценками на туфту, спросят, как бы потерпевший хотел обмануться и быть ограбленным, и так точно и ограбят, как хочет потерпевший. Так это сделают душевно, учтиво и с выгодой для випа, что вип просит, чтобы его ещё пограбили.
Наши не так, наши воруют без выкрутасов и хитростей, открыто, честно воруют. Продать государству томограф втридорога, построить ему дорогу вчетыредорога — тут дерривативы и сложные маркетинговые расчёты ни к чему. Лихой наш человек и в воровстве своём, как и в богоискательстве, доходит до края, до самой сути, до самозабвения, до отчаяния. Он продаёт авиакомпании старые запчасти вместо новых и сам же потом, ничтоже сумняшеся, летает её рейсами, мчится вместе с тремя детьми, женой и двумя мамами (своей и жены) на лайнере, в правом крыле которого истончается готовый оборваться поношенный просроченный топливный тросик. Не досыпает цемент в строительный раствор и строит аквапарк, которому не простоять зимы, который рухнет от первого снега, и сам же плещется в этом аквапарке, так же без задней мысли, да ещё и жену в нём плещет и троих детей, и всё тех же двух старых мам.
Конечно, нельзя сказать, чтобы только у нас было воровство. Воровали изрядно во всех частях света. Воровал беспечный грек, воровал сдержанный швед; остроумный француз, оборотистый италианец, и педантичный немец тоже воровал. И турок воровал, и китаец, о евреях нечего и говорить. Но грек ещё, кроме этого, придумал демократию, швед изобрёл спички, француз наделал вина, итальянец пасты, немец сочинил оду к радости, турок взял Царьград, китаец воздвиг новый Шанхай, еврей написал послание к коринфянам. Только многонациональный богоносец просто воровал, чисто, не отвлекаясь. И дивились толпящиеся вокруг народы, и расступались, давая дорогу загадочным людям рф, выбегающим из родной страны, как из ограбленного склада, с оттопыренными карманами и прижимаемыми к грудям и животам охапками денег. И кричали все народы — и те, что похитрее, и которые потупее — упс! И разводили руками.
— Смотри, это же Чистотелов, а вон Базаров. Они за науку в правительстве отвечают, — прозрел вдруг Глеб и, как ребёнок, стал показывать пальцем на известных людей, которых видел по телевизору и в Институте на каком-то собрании. Базаров даже вручал Дублину грамоту и значок.
— Да, а вон главный борец с коррупцией депутат Назимзянов. И генерал Меринов здесь. Наворовали, прячут, — подхватил Дылдин.
Зала действительно была полна знаменитостей.
— Кто тут к Хольмсу крайний? — спросил он у очередей.
Назимзянов поднял руку.
— Я за вами, товарищ депутат, — зафиксировался Саша.
— Я вам не товарищ. Я вам господин, молодой человек. У нас демократия, а не совок, — торжественно прогудел депутат.
— О да, мой господин, — огрызнулся Дылдин.
Шейлок Хольмс оказался хроменьким, сухоньким, зелёненьким, маленьким, почти мёртвеньким старикашей. Он уже знал несколько русских слов, да и Дылдин с его очень энергичным почти английским в обиду себя не дал, так что сговорились скоро. Сертификат был правда на предъявителя. Хотя и оформлялся для другого человека. Но если этот человек теперь не владеет сертификатом, Хольмса ли это дело знать, почему так получилось и как он оказался у Дылдина. Юридически всё корректно. Чья бумажка, того и «Трест Д. Е.» И пароль правильно назвали. Чего же боле? Господа предъявители пожелали узнать, сколько на счету «Треста Д. Е.» денег.
— Джаст э минит, — сказал мистер Хольмс.
— Отче наш, сущий на небесех, — взмолился Дылдин. Дублин разглядывал репродукцию Поллока на серой стенке хольмсовской комнатки. Адвокат зарылся в какие-то папки и тетрадки.
— Да святится имя твое, да приидет царствие твое, — повысил голос Дылдин. Старичок посмотрел в тетрадку, потом в папку, потом в монитор компьютера.
— Хлеб наш насущный…
Шейлоковы пальцы, похожие на ватагу бодреньких, хроменьких, сухоньких, зелёненьких старичков, бегущих с утра по парку, поскакали по клавиатуре; экран погримасничал…
— Даждь нам днесь…
Уан пойнт уан мильон далларс, — сказал Хольмс, протягивая Дылдину выписку со счёта.
— Миллион сто! Долларов! — заорал Саша Глебу.
Министр Чистотелов и его зам Базаров, беседовавшие в приёмной, где очень хорошо был слышен экстатический ор Дылдина, криво усмехнулись.
У них было по семьсот. Миллионов. Долларов. И миллиард на подходе с последней негоции, прокрученной по поручению вице-премьера.
— Понаехали тут. Лимита, — сказал замминистра, человек ещё молодой и потому немного несдержанный.
— В моём присутствии о простом народе попрошу так не выражаться, — возмутился за Дылдина и Дублина заполнявший какую-то анкету депутат Назимзянов. — У нас демократия, и эти бедняки, получившие первый и, возможно, увы, последний в своей жизни миллион и так искренне радующиеся — такие же граждане России, как вы и я. А разрыв в доходах беднейшего и богатейшего слоёв нашего общества опасно огромен. Он колоссальный, дикий. Такого в Европе нигде уже нет, чтоб у одних миллион, от силы два, а у других — миллиарды! Десятки миллиардов. Вдумайтесь — разница в тысячу, десять тысяч раз! Где же справедливость? А ведь мы по конституции — социальное государство… Надо возрождать традиции благотворительности, милосердия… Вот вы пробовали прожить на миллион? А с семьёй? На один-единственный миллион? То-то же…
Дылдин сразу открыл себе отдельный счёт, на который тут же были переведены его комиссионные — десять процентов, сто десять тысяч долларов. У Глеба на счету «Треста Д. Е.», который теперь вроде как ему принадлежал, оставалось девятьсот девяносто тысяч. Так он стал, если округлить, миллионером. Шейлок Хольмс оформил ему пластиковую карточку и обещал четыре раза в год переводить на неё набегающие проценты. За вычетом, впрочем, каких-то усушек, утрусок, удержаний и цены хольмсовских услуг и ещё каких-то изъятий, смысла которых Глеб не понимал. Наверняка сметливый Хольмс мгновенно распознал в своих гостях людей неискушённых и наверняка не преминул их ободрать как липок, но друзья и тому были рады, что им дали, получив более, чем мечталось. Вышло, в общем, что Дублину причитается тысяча с небольшим долларов в месяц. Если, конечно, он не соизволит снять разом всю сумму или часть. Не соизволил, потому что куда же её деть.
— Ну вот живи же теперь! — напутствовал его Дылдин. — Не парься, рантье, не тужься. Не думай о завтрашнем дне, ибо отец наш небесный питает нас… — всё не мог сойти с литургического тона Саша, — отдайся науке. Ты богат, как лорд Кавендиш.
Глеб обещал отдаться. Он наконец осознал, что обстоятельства складываются, кажется, и вправду наилучшим образом.
В аэропорту Дылдин в ожидании вылета в Шереметьево выпил виски, водки, порто, граппы и егермейстера вместе с депутатом Назимзяновым.
— Зяма, зачем мы отсюда улетаем? Давай здесь останемся! Откроем своё дело. Ты, Глеб, Шейлок… — вопил Дылдин депутату. — Вот Глеб откроет какую-нибудь геометрическую фирму, будет теоремами торговать. Тебя, Зям, в кнессет местный изберём, чтоб жизнь им тут мёдом не казалась, а то ишь… А я гостиничным бизнесом займусь. Понравилась мне гостиница, где мы ночевали. Биде, мини-бар, мыло. Пахнет хорошо. У нас так нигде не пахнет. У нас даже в Большом театре буфетом слегка тянет.
— А как же Россия? Родина, мать сыра земля? Где ещё мы найдём эти речушки, берёзки, нефтяные вышки, поля, огороды, леса-кругляки? — возмутился Назимзянов. — Ты почему, Саня, родину не любишь? Не хочешь?
— Люблю, люблю, полетели, — испугался Дылдин.
И полетели.
§ 15
Вот так всё и было, по словам Глеба Глебовича, эту именно историю поведал он о. Абраму, другим, конечно, языком и без эпических отступлений о народе-богоносце, но в целом эту; и очень не хотел теперь её широкой огласки.
Несколько лет Дублин и сын жили на хольмсовы проценты, жили, как видим, скромно, не бох весть что набегало с неполного миллиона, да ещё и с поправкой на бухгалтерские шалости шельмы Шейлока и глебово пьянство взахлёб. Но всё же хватало, плюс перепадало кое-что от комбината, так и набиралось на водку и конфеты, а что ещё нужно для семейного благополучия. Теперь, уволенный комбинатом и забытый трестом, отец семейства почувствовал нечто, что впивалось в его мозг как шкворень или шершень, чему он названия не мог подобрать, потому что чувство это в наши счастливые дни редкость, а слово, которым оно называется, давно вышло из обихода — кручина. Он не знал, что делать.
Он смотрел, как Велик пьёт отвар чабреца. Он любил смотреть, как его малыш пьёт и ест. Любил кормить его с тех пор, как впервые развёл для тогда ещё совсем крошечного Велика молочную смесь в бутылочке. И понял, что нет ничего в делах человеческих на свете нежнее, нужнее и величавее, чем кормление ребёнка. Каждый раз, протягивая детёнышу ложку каши или леденец, вспоминал — как в школе когда-то ходили вполкласса в поход с ночёвкой в подмосковные борщевичные рощи.
Темнело; остановились; Глебу выпало быть костровым. Только от его спички покатилась по сложенным для розжига сухим травинкам первая капля пламени, как сверху, с восходящей темноты подул душный ветер. И тут же, ветру вслед, повалил чёрный густой долгий дождь.
Все полкласса полностью попрятались по палаткам.
Один Глеб не сбежал, видя, как, заляпываемый холодными кляксами ливня, дрожит его новорожденный огонёк. Он склонился над ним, прикрыл ладонью и протянул спасительную, не успевшую ещё промокнуть соломинку. Огонёк ухватился и выкарабкался. Припал к заботливо придвинутым свежим спичкам и старым трамвайным билетам, нашедшимся в кармане; бодро подпрыгнул.
Глеб тонул в бездонном дожде, вдыхал вместо воздуха его тяжёлую воду и задыхался, кашлял, слабел. Но продолжал почему-то хлопотать, решив обязательно спасти свою рукотворную звезду.
Он скормил ей несколько не слишком влажных листьев и веток. Пламя подросло, повеселело. Можно было уже добавить немного валежника. Костёр выжил, вытянулся и окреп. Стало так светло и жарко, что Глеб убрал ладонь, выпрямился и разглядел вокруг загашенные ливнем цветы клевера и цикуты. В ход теперь пошли грузные узловатые сучья и даже размякшие от дождя осьминогие пни. Изрядно подымив, они быстро просыхали и поглощались набравшим молодую силу ловким огнём.
Вместе с палками и щепками в пламени шипели, плавились и пропадали неровные хрустящие, как хворост, дождевые струи.
Резвый, резкий, рослый костёр встал посреди тьмы неба и тьмы земли единственным солнцем во вселенной. Школьник Дублин, вырастивший его, гордо летал кругом; и обе тьмы, и ливень расступались перед ним.
И всякий раз, подавая Велику леденец или хлебец, глядя, как нежно и красиво ест его сынок, Глеб представлял, что он, укрывая ладонью, кормит робкого, лёгонького, как золотой оленёнок, огонька в чёрной бушующей чаще того подмосковного ливня.
Но сейчас не было у отца для сына ни каши, ни леденца, ни хлебца, ни соломинки. Он не знал, чем будет кормить Велика. Он плакал — по-мужски, слезами внутрь. Слёзы текли по обратной стороне лица и капали на сердце, как на затухающий костёр.
— Чем я буду кормить Велика? — спросил Глеб у доктора Хауса, смотревшего с экрана ласково и насмешливо, будто Христос с иконы.
— Кеджибелинг экстра, три раза в день по две капсулы. Супракс четыреста миллиграмм, одну в день. Если не поможет… если не поможет… что ж… придётся… будем резать, — ответил доктор, отвернулся и сменился рекламой.
В дверь хрипло позвонили.
— Пап, откроешь? — откуда-то с недосягаемого уровня виртуальной игры взмолился Велик. Пап, конечно, покорно поплёлся в прихожую, благо до неё было рукой подать.
За удивлённо цокнувшей замочным языком дряблой древней дверью открылся изящный и хрупкий, как принц Фортинбрас, молодой, очень молодой, лет двадцати-восемнадцати человек. Одетый в ладно сидящий приталенный чёрный пиджак, узкие чёрные брюки, шёлковую бликующую белую рубашку, узкий красный галстук с отливом и узконосые туфли цвета мокрого торфа. Того же цвета кашемировое пальто и кожаный чемодан держащий в левой руке. Правую протягивающий для рукопожатия. Протягивающий для знакомства красивое черноглазое лицо с двумя улыбками, поминутно сменяющими друг друга, вежливой и восторженной. Наговаривающий прямо с порога много чего не очень ясного, но чрезвычайно куртуазного:
— Глеб Глебович Дублин. Это вы. Таким я вас, признаться, и представлял. По рассказам, весьма подробным и трогательным рассказам. Плюс моя знаменитая интуиция, отмеченная ещё в школе учителем географии, ведущая меня по жизни до сих пор.
Вам, разумеется, не терпится узнать, кто этот успешный молодой человек в дорогом итальянском костюме и галстуке от Пола Смита. Что делает этот гордый метросексуал, то есть я что делаю в этой дыре. Ведь Константинопыль, всем это ясно, — дыра. А эта ваша Заднемоторная… да, Заднезаводская — это просто дыра в дыре. И всё-таки я здесь, среди вас. Бриллиант в грязи. Миклухо среди папуасов. Что ж, не буду томить. Аркадий. Не Дворкович, хотя и сопоставим. Что до моей фамилии, то как раз её-то я и приехал с вами обсудить. Вы не по-научному крепко жмёте руку. То есть не так, как ждёшь от учёного, чуждого спортивных утех. Но так-то и лучше: наука должна быть с кулаками, верно?
Я к вам из Каира. Не подумайте, что я там работаю или отдыхаю. Город в высшей степени негигиеничный, арабы, кишмиш, кускус, улицы революционны, стало быть, грязны — и всё такое. Не в моём вкусе. Мой офис в Лондоне. «Сити системз». Слышали? Я там старший вице-президент и младший партнёр. Неплохо для начала, как говорит мой босс и старший партнёр Том Джерри. Слышали? Девять ярдов. Не в длину, девять миллиардов. Не долларов каких-то там. Фунтов. Стерлингов. Вот чего. Великий человек. Он попросил меня слетать в Каир, нажать на старину Аль Файеда. Не Доди, Доди с Дианой погибли, слышали? А на папашу его, который магазин Харрод’с на Найтсбридж прикупил. Харрод’с — лучший английский магазин. Слышали? Вот патриотически настроенные джентри хотят его выкупить обратно. Это же гордость нации, символ Британии, им обидно. А Аль Файед не продаёт. А он египтянин, вот я и летал. Дожал, кстати, можете меня поздравить. Не исключено, что я теперь даже заполучу от благодарного Альбиона орден рыцаря империи. Слыхали о таком?
Впрочем, к делу, к делу. Дело моё покажется вам… О, кто это там из комнаты выглядывает, что за крутой юный мужик? Велик? По-взрослому Велимир. Да, понимаю, что-то вроде Хлебникова. Смело, необычно. Но почему не пошли решительно до конца? Зинзивером надо было назвать. Побоялись переборщить, показаться смешными? Вот что нас сгубит — компромиссы, компромиссы. Как там сказал Шекспир? Слышали? Так размышление делает нас трусами. Так настоящий цвет решимости слабеет в бледном отсвете мысли. Вы, как математик, знающий о бесконечности не понаслышке, подтвердите — Шекспир бесконечен. Точнее, не весь Шекспир, а его Хамлет. Хамлет, согласитесь, — это дырка в Шекспире, сквозь которую виднеется космос.
Впрочем, и Шекспира в сторону. Я вот зачем к вам. Лет двенадцать назад вы оставили работу в Институте нетривиальных структур, верно? До этого вы там отработали лет, скажем, шесть. А до этого, в конце восьмидесятых/начале девяностых прошлого века (как быстро летит время, верно) вы учились в МГУ, верно. Дору Бутберг, толстую добрую дуру из Выборга, на вашем курсе училась, помните, верно. Хорошо училась, верно, глупые девочки отчего-то всегда хорошо учатся.
Как-то раз она пригласила вас на свой день рождения. Праздновали в общежитии на Ленинских — ныне — Воробьёвых горах, в её комнате. Было несколько девушек, но девушек в сторону. Поговорим о парнях. В празднике участвовали — проживавшие в этой же общаге этажом выше Паша Прошкурин из Нижней Пышмы и Орасио Оливейра из Буэнос-Айреса, студенты с мехмата; вы, москвич, студент с мехмата; Веня Эйнштейн, москвич, студент из физтеха; Валерий Александрович Аллегров, аспирант, философ, верно.
Не знаю, как сейчас, а тогда вы были непьющий. Но тут выпили, за компанию. Плохо вам стало, до того, что вы потом долго избегали алкоголя. До сей поры избегаете или нет? Не моё, впрочем, дело. Не только вы, все выпили. А народ всё молодой, настойчивый. Паша из Пышмы увёл к себе дориных подружек. А Эйнштейн, Оливейра, вы и Валерий Александрович оставались у Доры всю ночь. Что там такое было, никто потом толком припомнить не мог. Секс, правда, точно был, и вермут, на этом все стояли твёрдо. Но вот чистый ли вермут или с водкой/пивом, и сколько именно вермута, и кого с кем был секс, и как часто — тут мнения решительно не совпадали, воспоминания разминулись. Отмечу особенно, нота, как говорится, бене, что и Веня, и Орасио, и Валерий Александрович, и вы утверждали, что были в ту ночь близки с Дорой, врозь ли, и если так, то в какой последовательности, или же совокупно, разом, в общем и целом — оставалось неясно. Нельзя ведь исключать и обычного мальчишеского бахвальства, свойственных этому возрасту извечных преувеличений. Может, ничего и не было. Хотя что-то, конечно, было, потому что дура Дора через два месяца догадалась, что беременна. Отцом вызвался быть некто Боря Быков, бармен из Выборга. Видимо, что-то было не только в ту ночь в общежитии МГУ, но и несколько ранее, на каникулах, в «Буреломе». Это бар. То есть по документам бар «Буревестник»; народ-языкотворец, согласимся, удачно доработал имя, довёл до совершенства. «Нажрались в «Буреломе» звучит выразительней, чем «посидели в «Буревестнике».
Толстая Дора по беременности раздобрела ещё больше, до того больше, что даже видавший виды и везде бывавший Боря Быков как-то погрустнел. Как бы то ни было, в положенный срок госпожа Бутберг-Быкова родила здорового, умного, очень талантливого и обаятельного сына. Назвали Аркадием в честь счастливой страны. Эт ин Аркадиа эго… Слышали? Дора доучилась в университете, вернулась в Выборг, преподаёт математику в судоремонтном техникуме. Бармен по-прежнему любит её, по-прежнему работает в «Буреломе», но уже охранником. Потому что коктейли пошли не те, что раньше — всего-то там было: «Отвёртка» да «Тройка», да «Блади Мери», да и всё, — а какие-то многочисленные, сложносоставные, затейливые, так что и запомнить без подготовки нельзя, не то что смешать. Смешивать выписали в «Бурелом» чухонца молодого какого-то из Пярну, а Борю Быкова поставили у дверей. Охранять, вышибать. Ну и заодно пальто принять/подать, дверь открыть, порог обмести. Не вписался Боря в новую эру барного искусства.
К чему, спросите вы, я всё это рассказываю? Что вам в Боре и Доре? И что мне в вас? А то, что я есть тот самый Аркадий, сын Доры. Выбившийся в люди, не просто в люди, а в британцы из нищеты и низости, гордый вип и неотразимый метросексуал. Ну и что, опять-таки спросите вы, ну сын ты Доры и Бори, так что же с того? А то, скажу я, что сын-то Доры я точно, а вот сын ли я при этом Бори? — тут тайна. Позвала меня мама — залетел я к ней по дороге из Йокогамы в Кейптаун — и говорит: «Сын Аркадий! Слушай. Не может быть, чтобы я, Дора Бутберг, имела красный диплом МГУ, а счастья не имела. Посмотри на Борю Быкова, этого нечеловеческого существа. Он работает вешателем ветошей и рубищ в притоне для грубых подонков. Его ли безмозглыми ручищами марать мои чресельные места, его ли неграмотным языком целовать мои эрогенные зоны! Жизнь моя прошла было зря, но она не пройдёт зря! Не дам! Не может быть, чтобы этот мужлан был моим мужем и твоим отцом. Чем дольше я живу с ним, тем больше понимаю, что не ему предназначена. Не муж он мне и тебе не отец. А муж мне и отец тебе один или два из четырёх: Эйнштейн, Оливейра, Дублин или Аллегров. Твои отцы физики, математики, философы, а не лакеи». И она рассказала мне про тот далёкий день рождения, точнее, таинственную волшебную ночь в общежитии. И велела разыскать всех и показать всем вот это. Обыкновенная с виду тетрадка, а в тетрадке-то клад. То есть для знатока, конечно, для мастера, способного оценить.
Вы помните, мама увлекалась математическим моделированием компактных экосистем, ограниченных популяций и малых нестабильных социальных групп. Так что ей несложно было рассчитать вероятность отцовства каждого из четырёх её гостей. Каждого из вас. Прочитайте, оцените.
Всё это время Аркадий вещал с лестничной клетки, так и не приглашённый в квартиру. Тетрадку с кладом он извлёк из кармана пальто, Глеб тетрадку взял, Дору он обрывочно вспомнил; вспомнил, пусть и смутно, и ту ночь, когда первый раз попробовал любви и водки. И та, и другая оказались тёплыми, липкими, невкусными. Водка вроде застревала в горле, Дора вроде кричала. И тискала его, чувствовавшего, что делает не то, что от него требуется. Секс, кажется, был с треском провален, но на какой стадии, нельзя было разобрать из-за острого опьянения. Словом, не ладилось. Тошнило. Утром он проснулся на даче у Эйнштейнов. «Доброе утро, а где Веня?» — спросила Бенина мама, приготовившая хлеб с маслом и обнаружившая в спальне сына чужого мальчика, разящего перегаром небритого подкидыша. Дублин хотел наблевать в ответ, но промолчал. Он пытался понять, когда и как на него сбросили водородную бомбу. Иначе он не мог объяснить, отчего ему так плохо. Так, что после той ночи он несколько лет не прикасался ни к чему спиртному и женскому. Давно, давно это было. Веню нашли в неисправном автобусе возле ремонтного парка; он просидел в нём всю ночь, думал, что едет.
— Проходите, пожалуйста, — сказал Велик, которому Аркадий очень понравился.
Гость втиснулся в теснейшую гостиную и, застряв, как в тисках, между вязанкой берёзовых лыж и читающим мамины выкладки Дублиным, принялся беседовать с выглядывавшим из комнаты Великом.
— Вижу, увлекаешься биониклами. Сколько их у тебя? Всего четыре? А что так? Верно, верно, игрушка не дешёвая. О, Ворокс, узнаю старого вояку. А это Тарикс? Тарикс. И храбрый Тума здесь, и безрассудный Мата Нуи. Что ж, отряд невелик, но продержаться до прихода основных сил можно. Дня два, верно. У меня в Лондоне два магазина биониклов. Один на Риджент-стрит, рядом с Хамлей’с. Второй на Стренде. В том, что на Стренде, как раз недавно освободилось место директора. Хороший был директор, но устарел. Всё-таки тридцать лет — многовато для торговли игрушками. Надеюсь, ты хорошо учишься? Так я и думал. Если сдашь экзамен на знание технических характеристик и истории биониклов — назначу директором тебя. Английский свободно? Ну, подтянешь. Ещё полгода подождать, пока старый директор доработает. Попроси маму нанять хорошего репетитора по языку. А может быть, я и сам тебя подучу, если задержусь в вашем городе…
Велик был ошеломлён, не расколдованный ли Жёлтый медведь перед ним — избавленный от собственных чар и вернувший себе человеческое обличие знаменитый друг и помощник капитана Арктика принц Казираги.
— Расчёты замечательные. Ваша мама далеко не дура. Столько факторов учтено. Столько остроумия в выборе алгоритмов. Аксиоматический аппарат, используемый для описания эмоциональных флуктуаций, конечно, очень спорен, но смел, ярок. Вот эти статистические ряды я бы распределил по-другому, но ведь можно и так. Если верить этим расчётам, а как им не верить, если они верны? — из всех вероятных ваших, Аркадий, отцов я наименее вероятен. Но вероятность моего отцовства далеко не нулевая. Семь процентов, — заговорил дочитавший Глеб Глебович.
— Семь целых двести пять стотысячных, — уточнил Аркадий.
— Точно, — согласился Глеб, — то есть полностью отрицать моё отцовство не могу.
— Не можете. Интеллектуальная честность — вот что отличает настоящего учёного. Так я войду?
— Точно. Входите, — пригласил наконец Глеб, пятясь в комнату и открывая гостю дорогу в дом.
Молодой человек повесил пальто на лыжи, уселся рядом с Великом на кровати и часа полтора кряду проговорил. О Дублине, дуре Доре, о биониклах, Томе Джерри, экономическом кризисе, семантических особенностях миссурийского английского, о фрактальной геометрии, теории диссипативных систем, о Велимире Хлебникове, Анне Чапман, Шекспире и Фортинбрасе. Его бесперебойная, бесшовная болеутоляющая и галлюциногенная болтовня плавно сглаживала зазубрины и заминки нашего опасного, наспех заминированного мира. Она обворожила и довела Дублиных до полного обалдения. Необъятным обаянием гость напоминал Дылдина.
— Аркадий, а среди ваших возможных отцов случайно не числится Александр Дылдин? — спросил Глеб.
— Нет, мама ни о каком Дылдине никогда не говорила. Кстати, папка, а ужинать мы сегодня будем? — ответил Аркадий.
— Ты назвали… Вы назвал… меня папкой, — умилился Глеб и в порыве умиления поведал своему семипроцентному старшему сыну о постигшей его внезапной нищете и о настоятельнейшей потребности в паре тысяч долларов для поездки на Буайан, расследования там и улаживания всех недоумений и возобновления прежних поступлений.
— Ты богат, сынок, не займёшь ли отцу денег, дней на пять максимум, я верну сразу, как вернусь, неудобно начинать семейную жизнь с таких просьб, но… — догадался обратиться к старшему вице-президенту «Сити системз» несчастный отец.
Богач, правда, рассмотренный за время разговора в комнате гораздо пристальнее, чем через порог, теперь несколько побледнел и победнел на вид. Пиджак его оказался вблизи не таким уж и чёрным, скорее какого-то мутномятого свойства, не столько притален был, сколько маловат, весь покрыт катышками, пятнышками, пушинками; одна из трёх чёрных пуговиц была почему-то коричневая и пришита зелёными нитками; из подмышки торчала какая-то пакля. Сорочка, видимо, была не из шёлка всё-таки, а из полиэстера, нейлона, может быть; ворот её был заношен и в одном месте даже неумело заштопан всё теми же зелёными нитками. На красном галстуке виднелись хотя и тоже красные, но всё же различимые брызги какой-то аджики. Туфли сморщились, не по сезону лёгкие, чуть ли не картонные, измазанные мокрым торфом. А через самое лицо старшего вице-президента бледно-лиловыми ромбами и квадратами тянулся свежий след тяжёлого всепогодного вездеходного ботинка марки «Катерпиллер». Такое отчасти регрессивное развитие образа не затронуло, однако, прелестных речей, которые высказывались из Аркадия всё так же обильно и гладко, катились и скользили ласково по душе — словно сладкие вина и тёплые бархаты.
— Не займу, — тепло и бархатно произнёс Аркадий. — Я не знаю, сколько во мне подлости, но точно меньше семи процентов. Никаких взаймы! Сколько надо? Две тысячи? Бери десять. Просто бери. Просто так даю. Что я, ростовщик? Для предполагаемого родного отца каких-то денег пожалею?
Он достал из-за пазухи похожий на торфяную морщинистую туфлю бумажник, в котором нашлось много чего бумажного, как то: целая пачка полуистлевших каких-то записок, записанных невероятно густо, до предела, почти до сплошной черноты одним и тем же плотным почерком; карманный календарь на 011 год с портретом ухоловского мэра (какого-то Ф. Шпыняева) и надписью «я наведу порядок»; карманный календарь на 010 год с надписью «старый мэр лучше новых двух» и портретом Шпыняева же; карманный календарь на 010 год с видом на Найтсбридж (что в Лондоне); фотокарточка толстого лица Доры Бутберг; зачитанная до дыр брошюра «Так говорил Таратута. Диета для тех, кто хочет похудеть и разбогатеть»; вчетверо сложенная программа гастролей капитана Арктика в Мордовии; два рецепта на что-то, содержащее эфедрин; разные визитные карточки, среди них ночного клуба «Пассион» с непристойным рисунком и ухоловского мэра с надписью «Аркадию на добрую память. Шпы»; карточки были перехвачены, как деньги, резинкой. Всякие, словом, бумаги слежались в бумажнике, но бумаги в виде денег не было ни кусочка.
Перебрав всю эту мелкую макулатурку, Аркадий покачал головой и, как давеча дверь, удивлённо цокнул языком:
— Чорт, наличных совсем нет. Говорю себе каждый раз — едешь в Россию, возьми побольше наличных! Но забываю, отвык! На Западе же наличными приличные люди практически не пользуются. Только мафия и румыны…
— Румыны… — как эхо, печально и бессмысленно отозвался предполагаемый отец, обнадёженный было и вдруг опять жестоко опешившийся.
— Ну, кредиток-то у меня полно, — сказал Аркадий, показывая Глебу Глебовичу почему-то не кредитку, а визитку Шпыняева, — но что толку…
— Внизу в банке есть банкомат, можно снять наличные. Или завтра по карточке оплатить дешёвый тур на Буайан, так папа и доедет куда надо, — подсказал Велик.
— Весь в отца. И в Хлебникова. Гений, — оценил Аркадий. — До завтра ждать не будем. Я мигом, до банкомата и обратно. Заодно и поесть чего-нибудь куплю, там что-то круглое съедобное пахло скумбрией из витрины, что бы это могло быть, интересно…
И предполагаемый сын, накинув пальто, ушёл.
§ 16
Вернулся он через четверть часа без пальто, без коричневой пуговицы, без правого глаза, заплывшего напрочь ласково глазевшего на Глеба и Велика подслеповатым карим синяком, — с тремя тысячами долларов, с тремя бутылками челябинского коньяка, с бубликом краковской колбасы, кульком баранок, банкой килек и пахнущим скумбрией магазинным грузчиком Колькой по кличке Грузовик. Гражданином, несколько Глебу знакомым, иной раз выпивавшим с ним во дворе.
— Только сегодня, только для вас, — весело объявил Аркадий, выкладывая дары на стол, кровать, подоконник, повсюду, украшая ими дом, будто на праздник.
Глеб и Велик были счастливы, а Велик ещё и горд, что придумал такое простое решение всех проблем.
— Сынок, сынок, — говорил Глеб Аркадию, — если бога нет, то кто же тебя мне послал?! Спасибо, спасибо, спасибо…
Выпили, закусили, выпили, закусили, неоднократно выпили и закусили. Хвалили друг друга, хвалили бога и президента, хвалили могучую русь, хвалили Надежду Кривцову, Григория Лепса и Владимира Зворыкина. Хвалили капитана Арктика, хотя мнения о нём единого не имели. Начал о нём Велик:
— Аркадий, вот я у тебя видел программку выступлений капитана Арктика. Ты с ним знаком? — мальчик, кажется, окончательно утвердился в мысли, что гипотетический его полубрат — полубох и чудесной силой обладает.
— Да, знаком, хорошо знаком, — отвечал полубох, крепко, как уже выяснилось, друживший и с Лепсом, и даже непостижимым образом со Зворыкиным, что уж там о капитане говорить.
— Какой он? — давно готовый к чуду, но всё-таки потрясённый, спросил Велик.
— Держится просто. Никакой звёздности, понимает и любит людей, — нежно, как телевизор о Путине, заговорил Аркадий.
— Мы с папой мечтаем пойти на его шоу! — воскликнул Велик.
— Нет ничего проще! — воскликнул Аркадий; и после его эффектного выхода к банкомату что же, воистину, могло быть проще. — Готов это устроить в любой момент, но… — он улыбнулся, — если вы хотите настоящих чудес, то на шоу идти не стоит. Шоу — это для обычных людей, только то, что способен понять и перенести, не повредившись рассудком, среднестатистический провинциальный профан. Рассасывание рубцов, гипноз, снятие головной боли, карточные фокусы, лечение фригидности. Жёлтый медведь предсказывает судьбу и прочий ширпотреб.
Но для друзей, для своих, для посвящённых капитан Арктика такое выделывает, я вам доложу…
— Например? — встрял Колька.
— Сидим мы как-то с ним у меня на лондонской квартире, — привёл пример Аркадий, — он тогда приезжал проконсультироваться насчёт того, как отбить потери от краха Фэнни Мэй. Оказалось, он все средства одного из своих благотворительных фондов в их бумаги вбухал — ужас! Замечательная, кстати, его черта: в сочетании с абсолютной гениальностью — абсолютная непрактичность. Все кому не лень обирают его, обманывают — продюсеры, консультанты, даже, честно говоря, кое-кто из ближнего круга. Юнга Юнг, возможно, не так искренен, как хочет казаться; да и Госпожа, сдаётся мне, живёт с ним ну не то чтобы только ради денег его и славы, но в значительной мере и из-за них тоже. Не от мира сего человек, пропал бы без меня совсем… Ну да это в сторону… Так вот…
— Но ведь по крайней мере Жёлтый медведь — настоящий верный друг капитана, — испугался за своего кумира младший Дублин; а юнга и у него был давно на подозрении: нетвёрдая, вьющаяся личность.
— Жёлтый чист, — подтвердил рассказчик и продолжил: — Так вот. Сидим, значит, выпиваем…
— А капитан Арктика разве тоже пьющий? — опять испугался Велик.
— Ни на йоту! Ни капли! Калахари и Каракумы! Сухо, ни капли! Он святой; он чист; они все чисты, не только Жёлтый. И Юнг, и Госпожа, и оборотень Волхов, не слушай, сынок, никого, кто утверждает обратное, — врезался острым ответом в беседу Глеб Глебович.
— Я, вспомните-ка, и не настаивал, что юнга и Госпожа плохие, а лишь предположил, что не очень хорошие, но может статься, что и хорошие, — уточнил Аркадий; мальчик облегчённо улыбнулся. — Пьём чай. Уайт ти, как говорят местные, с молоком то есть; ну, одеты, как положено к файвоклоку — уайт тай, запонки и всё такое… Кстати, Глеб Глебович, откуда у вас такой постер замечательный? Я лучшей визуализации кривой Хартера не встречал, — показал Аркадий рюмкой на простенок между кухней и комнатой, где висел глянцевый плакат с красочным изображением популярного фрактала; Дублин в очередной раз поразился бесконечной эрудиции старшего сына. — А, ну да, в «Сайенс туморроу» отличные художники и фотографы. Пожалуй, это лучший научный журнал в мире, верно…
В общем, сидим, скучаем. Я как хозяин должен гостя развлекать. Говорю: капитан, пойдёмте в Элбертхолл, там сегодня Эминем, отличное зрелище.
Что вы, отвечает капитан, мы неплохо сидим. Чай вкусный. Я, говорит, как товарищу готов вам такое зрелище показать, какое глаза человеческие не видели.
Как, что такое? — спрашиваю.
А вот что такое, отвечает, — будущее; хотите будущее увидеть? так, запросто, за чаем? и ходить, говорит, никуда не нужно.
Э-э, говорю, не верю, но хочу.
Он и говорит: смотрите на чайник, будущее там.
Сидим, смотрим на чайник. Он, кстати, у меня серебряный. Смотрим минуту, другую, пятую, десятую. Сначала ничего, только наши расплывающиеся лица видны, но потом по чуть-чуть стало наплывать каких-то других отражений, постепенно всё более ясных, определённых.
Видим на серебряном чайнике семь золотых светильников, а среди них некто в подире, довольно шумным голосом отдающий приказ семи ангелам: идите и вылейте семь чаш на землю. Те идут, выливают. Из чаш, надо сказать, льётся всякая дрянь: вирусы, бактерии тлетворные, паразиты, генномодифицированные продукты, повышенный холестерин, либеральные журналисты, напалм. От этого всего земля помирает. Ни львов рыкающих, ни крылышкующих золотописьмом кузнечиков, ни валяющих дурака людей. Без горячего дыхания живых существ земля замерзает. Покрывается сплошь льдом. Ужас!
— И всё? — в отчаянии не выдержал Велик.
— Думали — всё. Смотрели на чайник как в цилиндрический телевизор, видя конец света. Жаль, говорю. И как-то особенно мне жаль не красоты жизни почему-то, а её убожества. Не львов и кузнечиков благородных, не красивых людей. А именно жальче всего — людей некрасивых, которые ни дня не гордились собой, на которых ни разу никто не позарился. Этих несчастных, бедных, обиженных. Красивые люди, они хоть и пропали вместе со всеми, а всё-таки хоть день, хоть минуту, но ведь были же счастливы. А чем минута от вечности отличается? Да ничем, длиной только, а остальное — такое же. Так что для них и помереть не страшно, потому что они были. Значит, по божьему счёту, — есть, всегда есть и пребудут, ибо времени у бога нет, оно только у людей вроде хвоста болтается на душе, атавизм, признак недобожественности человека. Жалко же тех, которые и не были, не жили, не осуществились. Которые не взошли над миром, как звёзды и радуги, а пролежали в каких-то недрах и пазухах. Не проросли, не расцвели и богу на глаза не попались. Не заметил их господь, и прожили они без него, как картошки без света — еле-еле протлели. Этих, не доросших до образа божия, корявеньких, тупеньких, грязненьких, прыщавеньких жалко. Поманило их только солнце, а к себе не подняло, жить не дало. Не вышли они из их малости в его небеса.
Жалко кривоногих пузатых баб, жалко сухогубых, сутулых злых девок; мужиков жалко никаких, измученных простатитом и безденежьем и презрением от своих пузатых кривоногих жён и упыреватых детёнышей; жалко и упыреватых детёнышей, радующихся жалкой радостию дешёвым игрушкам и лишней конфете; жалко всех этих неважных людей, их непородистых собак и невпечатляющих кошек, их неумных друзей из непрестижных районов, их невзрачного бога, прозябающего в мелочных разбирательствах их копеечных грехов. Жалко, о, бедные! Бедные люди, кошки, собаки! Бедные пауки и мокрицы! Бедные гиены, гамадрилы и индейские петухи! Бедные черви, гонококки, мухи и тараканы! Бедные жабы, бараны, козлы! О, козлы — особенно бедные! Бедные свиньи! Самые жирные, самые тупые и грязные из свиней — трижды бедные! Бедные крысы, всеми презираемые, изгоняемые с лица земли, запертые в канализации крысы! Бедные комары, клопы, бородавочники, медузы! Бедные мерзкие, уродливейшие гады морские! Бедные, бедные — все-все погибли! — почти зарыдал Аркадий, а Колька так и зарыдал:
— Бедный я! Бедный!
— И ты, Колька, и ты бедный, — поддержал Глеб Глебович.
— Неужели так всё и кончилось? И всё?! — опять воскликнул тоже плачущий Велик.
— Неужели так всё и кончилось? И всё? — спросил я, плача, у капитана Арктика, — ответил Аркадий. — Сиди и смотри, ответил он. Сидим, смотрим. Видим — опять появляется некто над всем этим льдом. И в руках у него семь крестообразных звёзд. И говорит: смотрите и скажите всем о держащем семь звёзд.
И начинают эти звёзды в его руках разгораться, как солнца, и источать жар. Становится светло и видно белый храм, на котором эти семь солнц горят куполами, а на них семь золотых крестов. Становится ещё жарче и светлее, и видно, что храм на хрустальной горе Арарат, а вокруг горы тает лёд и образуется тёплое море. И лёд растопляется от куполов храма, и по талой воде отовсюду плывут к храму кто на лодке, кто на бревне, кто на яхте, кто на эсминце, кто на плоту, а кто и просто баттерфляем — все, все, все, всё, что есть на земле живаго. Оттаявшие, воскресшие. И впереди всех — бедные, самые бедные, за кем недосмотрел бох, кого недолюбил, кого обидел, кем пренебрёг.
И выходит бох к бедным своим и видит, что это жалко. И говорит им, увечным человекам своим, мокрицам своим и уродам своим, гиенам и крокодилам своим, ехиднам своим и змиям, и крысам своим: бедные мои, бедные! Простите меня. И возрадуйтесь. Ибо ваше есть царствие небесное.
И, повернувшись ко мне, бох говорил со мной из чайника и сказал: скажи всем о грядущем покаянии держащего семь звёзд. Возвести всем бедным — придёт день, и господь ваш попросит у вас прощения. И искупит свою вину. Ибо во искупление своей вины перед вами за страдания ваши, а не ваших грехов перед ним, бох распял себя на кресте. И если вы, бедные, любите вашего бога — смягчите сердца ваши. Ибо иначе как вы простите его? За ваше уродство, за ваши болезни, за голод, мор и войну, за слезинку ребёнка — простите, господа, вашего господа.
— Значит, всё будет хорошо, — обрадовался Велик.
— Конечно, даже лучше, чем хорошо, — сказал старший брат.
— Херня всё это, — вытирая слёзы баранкой, заявил Колька.
— Поясни, — вскинулся Аркадий.
— Жулик этот твой капитан Арктика. Проходимец вроде Кашпировского или колдуна Лонго, — пояснил Колька.
— В моём доме об этом выдающемся человеке попрошу дурно не отзываться, — вежливо, но твёрдо сказал Дублин-ст.
— И в моём доме тоже, — присоединился к отцу Велик.
— Кашпировский, что ли, выдающийся? — съязвил Колька.
— Капитана Арктика нельзя равнять с этим шарлатаном, — всё с той же грубо выставленной вежливостью парировал Глеб Глебович.
— То, что капитан показал Аркаше в чайнике, — это же Семисолнечный скит, о котором Абрам сегодня рассказывал, пап, скит на айсберге Арарат! Значит, всё правда, а вы про какого-то Кашпировского, — восторженно выложил аргумент Дублин-мл.
— Солидные люди, а говорите херню, — упорствовал Колька. — Вы сами-то видели этот айсберг? А у капитана на представлении бывали? Я ведь не рассказывал вам, Глеб Глебович, никогда. А ведь я не вечно мороженую рыбу и памперсы грузил. Видел и я, Колька Грузовик, другую жизнь, другие грузы. Я ведь в «Уффици» из шоубиза пришёл. Рабочим сцены был, знаете, у кого? Знаете, чей реквизит таскал?
— Кашпировского?
— Почти угадал, Аркадий-возможно-Глебович; работал я у самого капитана Арктика, вот о котором ты столько чудесного сейчас рассказал.
— Слушай, сынок, а где твоё пальто? И что у тебя сглазом? — спохватился вдруг Глеб Глебович.
— Да ладно, пап, давай лучше Кольку послушаем, — отмахнулся Аркадий.
— Послушайте, послушайте, — продолжил Колька. — Этот ваш капитан Арктика — пустышка, порожняк, пузырь пиара. Впаривают его лохам за деньги…
— Его шоу бесплатное… Он сам деньги бедным раздаёт… — встрепенулся Велик.
— Бесплатное, только от кассы до буфета волонтёры побираются — на операцию мальчику, на голодающих манекенщиц, на погорельцев нижегородских, пьяниц вологодских, туда-сюда. Одних бедных оберёт, другим отдаст. Только не всё отдаст, что собрал, а из каждой тысячи рубль. Зато уж растрезвонит про этот благородный и бескорыстный рубль, так распиарит его, как будто это не обычный мелкий рублишка, каких много, а какой-нибудь редкостный, неслыханный долларовый миллиард. А всё, кроме этого дутого рубля, — себе в карман и братве своей, Юнгу, Госпоже. Яхты, виллы, бриллианты… Хотя братва-то поважней капитана будет. А капитан так — двухметровая внешность только с синими глазами на пустой голове.
Вместо мозга у него юнга Юнг. Точнее, он у Юнга вместо сахарной ваты. Юнг ведь в пермском цирке сахарной ватой в антрактах торговал. А теперь капитаном Арктика торгует. Зовут юнгу не Юнг, а на самом деле Лёвка Блевнов…
— Ну так уж сразу и Блевнов? — усомнился в существовании такой неприятной фамилии Глеб.
— Конечно, плохой человек из шайки бандитов не может быть просто Ивановым или Вайсманом. Он, конечно, Блевнов. А подельники у него Подлюкин и Злодеев — классическая драма! — подхватил Аркадий.
— Блевнов. Лёвка, — спокойно настоял на своём Грузовик. — Лёвка и сколотил, как ты верно выразился, шайку. Ты ведь верно догадался, Аркаша, тёмные это всё личности. Двоих Лёвка из цирка взял, Жёлтого медведя и Госпожу. Ну медведь, понятно, он и в Африке медведь. Никакой он не проклятый принц Казираги. Обычный тупой топтыгин. Там на самокате ездил по арене, а тут теперь судьбу типа предсказывает. А Госпожа — Верка…
— Подлюкина? — перебил Аркадий.
— Хренова, — не смутился Колька.
— Ты ничего не путаешь? Не Херова? Не Хуева? — ёрничал старший сын.
— Не надо при ребёнке-то, не расходись, — с достоинством сделал замечание разоблачитель. — Хренова она…
— Не может быть! Такая сволочь и такой благородной фамилии…
— Верка Хренова, она у фокусника Вайсмана бабой для распиливания подрабатывала.
— А! Вайсман всё-таки был! Цирк не без добрых людей! — ввернул Аркадий.
— Ты мне дашь рассказать или нет? — начал невозмутимо выходить из себя Колька. — Пилили её. Пилой. Ножовкой и двуручной. И бензопилой. И так. Просто пилили. Вайсманы, их два было, Вайсмана-то. Отец и дед, а сына у них не было. Была дочь. Вот её, казалось бы, бери и пили сколько влезет. Но нет, своё-то жалко. Вот и стали наше пилить, русское… Наших русских красавиц… Вайсманы…
— Э-э, Колян, «Майн кампф» мы и без тебя читали, ты давай дело говори…
— Я не читал, — сконфуженно взглянул на брата Велик.
— Да и не стоит. Что там написано, всем и так известно… К делу, Коля, к делу…
— …Вайсманы наших русских красавиц. А Госпожа — красавица. Хитрая, властная, только Юнга боится, и то не так уж сильно, а остальных вот так держит, — показал Колька на трепетавшую на вилке кильку. — Она и охмурила капиташку этого. Собрали они всего по чуть-чуть: из цирка пару фокусов; от Кашпировского приёмчики кое-какие, ну там взгляд сурьёзный, голос зычный; медведя научили из коробки записки про судьбу вытаскивать; астрологии подмешали, хиромантии, гипноза — так своё шоу и сварганили, начали людей дурить. Массово будущее разъяснять и лечить от всех без разбору болезней. Денег на раскрутку у Вити Ватикана заняли, между прочим, бандит такой, и пошло-поехало: гастроли, тэвэ, полные стадионы лохов.
— У Ватикана? — что-то как бы припомнилось вдруг Дублину-ст.
— Навыдумывали про капитана Арктика всяких сказок, — не расслышал Колька. — Что родился в Царском селе, что знаком с Вэвэпэ. Что мореход и мастер церемоний; шпион и миллиардер; иллюзионист и филантроп, и экстрасенс-целитель… И что под парусом до полюса доходит… бред…
— А в действительности он некто Еропегов, работавший санитаром в пермском дурдоме, набравшийся там разных опытов воздействия на психику. Потом в Госпожу Хренову влюбился, спелся через неё с Юнгом и сделался фронтменом шарлатанской труппы психотерапевтов. Когда он договорился до того, что мёртвых может воскрешать, его вызвали куда надо и пригрозили посадить. Аферист, связанный с криминалитетом… — вдруг бьющим, как оголённый провод током, голосом, как бы дразня Грузовика, в тон ему вроде бы и вдогонку, но в то же время и в пику как будто — продолжил Глеб Глебович.
— Ну правильно, правильно, — сбился Колька, — а ты откуда знаешь?
— А оттуда же, из газеты «Московский день», из статьи, которую ты дословно пересказываешь, клеветнической, подлой, проплаченной, лживой от начала до конца, — загневался, обличая и вскрывая обман, Глеб, — из статьи, заказанной завистниками и бездарями. Был большой скандал, капитан Арктика выиграл суд, клеветники были наказаны, кто-то даже из редакции уволен. И как тебе, Николай, не стыдно повторять эту дрянь, да ещё в моём доме. И при Велике. Нехорошо. Капитан Арктика — великий человек, единственный в нашей стране человек, кому можно верить.
У него дар пророчества и целительства несомненный. Это я вам как учёный говорю. И воскресение мёртвых не такая чепуха, как кому-то кажется… Это я тоже как учёный… Он — луч среди куч… то есть, туч…
— Браво, папа, — закричали Велик и Аркаша; Аркаша ещё и добавил: — Так ты, Коль, работал у капитана или совсем всё выдумал?
— Работал, — сник и принялся долго пить из рюмки последнюю каплю Колька.
— А почему ушли? — спросил Велик, которому жалко Кольку стало.
— Платили мало.
— Или выгнали тебя? А? — пристал Аркадий.
— Да ну вас. Не верите, не надо, — промямлил Грузовик.
— А? — не отставал Аркадий.
— Ну выгнали, — сознался Колька.
— За пьянку?
— Нет.
— А?
— За… ну… спёр я там… софит… у них…
— Софит? Зачем?
— За красоту. Красивый, сука, был. Горит, бывало, светит, ну прям солнце. Не удержался. До сих пор храню. Дома лежит. Включаю по праздникам. Приглашаю посмотреть. Не пожалеете.
— Ну, Колька, ты неправ. Ограбил человека, да на него же и злишься и клевещешь. Пей за это штрафную, — засмеялся Аркадий и торжественно возгласил: — Капитан Арктика, мореход и мастер церемоний, защитник слабых и податель помощи гибнущим — полностью оправдан и реабилитирован. За это надо выпить. Ура!
— Ура! — закричали все, не исключая и Кольки, расплакавшегося опять, кающегося.
§ 17
Раскалённый спором Аркаша расстегнул сорочку донизу. На груди его объявилась татуировка, мастерски исполненная в лучших традициях фресковой живописи. Охра, умбра, марс, кобальт, голубец, киноварь. 20 смх20 см. Изображалось чудо св. Георгия о змие, но, кажется, с изменённым и отчасти несчастливым концом. По замыслу неизвестного автора выходил конфуз, дракон явно легендарного воина одолевал и доедал его вместе с конём. Из пасти торжествующей крылатой рептилии торчали огрызок копья, огузок и последнее копыто коня, надкушенные нимб и лик великого подвижника. Он как бы говорил «извиняйте» растерянной неподалёку дочери правителя Гебала, которая как бы отвечала «ничего, бывает…»
— Зачем это? Это нехорошо, застегнись, — попросил Глеб Глебович, смущённый кощунственным сюжетом наколки.
— Ошибки молодости, — застегнулся Аркадий. — Знаю, что зря, но теперь не выведешь. Да и красиво, согласитесь. Это не хохлома какая-нибудь — тут искусство, ферапонтовская школа, вершина православного дизайна. Мастер один известный делал, реставратор.
— Ты на бога за что-то в обиде, сынок? — печально предположил Глеб.
— Да нет, чего на него обижаться, он мне всё дал.
— Взаймы, — сказал Грузовик.
— Что взаймы? — спросил Аркадий.
— Всё. Бог ничего так не даёт. Всё взаймы. Потом обратно забирает.
— Ты, Коля, часом не Екклезиаст? — скривился Аркадий.
— Нет, я в ГИТИСе учился.
— На грузчика?
— На критика.
— Вот как. А что ж по специальности не работаешь? Зачёт по злобе и зависти не сдал?
— Ты хоть и издеваешься, но мысль глубокую высказал. Я всё думал… почему… я не за пазухой… а под каблуком у Христа… притих. Думал, думал, а ты ответил, надо же, — после паузы восхитился Колька.
— Что мы всё, ребята, про Христа, Екклезиаста, про Георгия Победоносца, про капитана Арктика? Всё всуе как-то, как-то не так, как надо бы. Они же бох, а мы как блогеры о них болтаем, глупо, злобно, торопливо, не так, не так, — поморщился Глеб Глебович.
— Может, и глупо, но не злобно, просто с юмором, — возразил Аркадий. — Да и вам-то, учёному, что за дело до бога-то этого и до всех его эманаций и воплощений? Бох ведь штука антинаучная.
— Бох не штука. Не так, не так. Ньютон в бога веровал. И Эйнштейн; не тот, который, как я, твой вероятный отец, а другой, настоящий. И Хокинг до сих пор его по вселенной ищет, — Дублин-ст. открыл последнюю бутылку. — Наука не от отрицания бога возникла, а от веры в него. От веры в единый всеобщий закон, а это ведь бох и есть.
— Вот как, — подставил рюмку Аркадий. — Всемирный закон тяготения, второй закон термодинамики, закон бутерброда… — кто же из них бох?
— Не так, не так… Закон законов. Всеобщий. Простой и ясный. Он ещё не сформулирован. Я работаю…
— Дерзко! — оценил Колька.
— …Разрабатываю метод симплификации. Упрощения то есть. Математический язык усложнился до такой степени, что на нём нельзя сказать ничего понятного и полезного, — несколько лихорадочно зашептал Глеб. — Сложность помогла нам добраться до вершины. Но теперь она мешает нам видеть, что вокруг. Нынешняя наука — как строительные леса, надо её разобрать, чтобы понять, что построено. А то уже она становится самоцелью. Как если бы архитектура и строительное дело служили бы только возведению лесов — всё более затейливых, надёжных, красивых. И все бы строили леса, а не здания.
Мой метод упрощения математического языка призван выявить, что выношено сложностью, что созрело в её путанице. Как выглядит вершина, куда мы взошли, и какой вид с неё открывается.
— Вокруг чего настроены леса, — понял Колька.
— Верно. Найти понятную всем формулу, в которой будет всё, ради чего было всё, что было. Общий знаменатель. Единый закон, — подтвердил математик.
— Ну и что там просматривается, за лесами? — полюбопытствовал Аркадий.
— Не торговый ли центр? — спросил Колька. — Не яма ли?
— Не так, не так. В том-то и дело, что… хотя расчёты ещё не завершены… но там что-то такое… божественное… должно быть…
— Значит, всё будет хорошо? — спросил Велик.
— Конечно, — ответил за отца Аркадий. — Под такую крупную тему предлагаю по стакану. Не по рюмке, а именно по стакану, нечего тут мельчить. Есть стаканы-то? Чайные кружки? Ещё лучше. Подойдут. Спасибо, Велик. Наливай, Глеб Глебович, по полной. До дна. За бога. Чтоб был здоров и всё чтоб у него было хорошо.
— Не так, не так, — качал головой Глеб, но пил, однако, до дна.
§ 18
Потом Велик уснул; Дублин-ст. сыграл на бубне что-то из Шуберта; Колька поплакал по конченному коньяку, вызвался было сбегать за новым, был решительно остановлен неожиданно трезвым рассуждением Быкова-Бутберга о том, что «так не остановимся до утра и к рассвету всё подчистую пропьём, на Буайан не останется», поплакал тогда ещё, теперь уже без повода, и ушёл спать к себе на склад; Аркадий попел немного под папин бубен, поплясал под собственное пение, поотпрашивался в гостиницу, но был отговорен Глебом и ненадолго проснувшимся Великом и оставлен ночевать на Заднезаводской. Лёг на полу в комнате, умиротворённый, усыновлённый, уставший доброй усталостью осчастливившего всех волшебника.
Старший Дублин засыпал трудно, бурно, всё думал разболевшимся от радости и благодарности лбом о Доре Бутберг, пославшей ему доброго ангела Аркадия с коньяком и деньгами. И минувший четверг, начинавшийся так страшно в безнадёжной бездне безденежья и жажды, оказался вдруг на высоте, с которой видны были путеводные звёзды и попутные ветры.
Младшему снилось, будто он, эсквайр, сэр, мистер, директор, — ходит с важным лицом по десятиэтажному магазину биониклов на Стренде в таком же, как у Аркадия, модном галстуке, с таким же, как у Аркадия, быстрым и насмешливым взглядом.
По улице осторожно, никого не разбудив, оставшись незамеченным, прошёл не по-зимнему нежный дождик. Как все январские дожди, порой проливающиеся в наши суровые зимы, как всё не в своё время случившееся, он был недолог, неловок и бесплоден. Едва явившись, тут же отступил вместе с минутной ночной оттепелью. Словно неуместные слёзы, подкатившие было к глазам в самый важный момент какой-нибудь большой борьбы, в двух шагах от победы, когда все глядят на героя, ожидая и требуя твёрдости, решимости, грозы; а герой в ужасе чувствует жжение под веками, в горле ком, слабость в мышцах и в мыслях нежность; он бы рад уже отречься от борьбы и победы, расплакаться как мальчик, сбежать и спрятаться, но толпа требует бури, знакомые дамы готовятся аплодировать; и вот — герой напрягся, и слёзы, сверкнувшие было возле зрачков, схлынули, силы вернулись, снова пришёл успех. Но невнимательно выслушал герой привычные овации, рассеянно жал руки пришедшим поздравить и еле дождался окончания празднеств. Как только разбрелась ликующая толпа, бросился куда-то в погреб, забился в самый безлюдный угол дома и, обратив очи внутрь, прямо в душу, взялся рассматривать место, откуда сочились слёзы и слабость. Увидел, что душа его полузадушена запущенным, неизлечимым уже отчаянием, что она от болезни этой отёчна, сыра и дрябла. Понял, что поправить ничего уже нельзя, можно только доигрывать роль героя в ожидании разоблачения и позора, слушая, как тает ледяная воля, претворяясь в пресные слёзы, непрошенные, нелепые, как дождь в январе.
Дрыхнувшего на складе на мешке с просроченным просом Кольку на рассвете растолкал прокуренный шофёр, подогнавший под разгрузку фуру просроченных книг. Оказалось, в торговом центре собирались открыть книжный магазин, вот и подвезли первый товар. Как всегда, подвезли в «Уффици» то, что не купилось, не разошлось в столичных городах и долежалось до полураспада, до невозможной дешевизны. Не успевший проспаться и протрезветь Грузовик разгружал кое-как, во все стороны, мимо поддонов; в итоге навалил какую-то кучу и упал на неё досыпать. Книги были затхлые, рыхлые, пухлые. Одну из них, потолще и попушистей, он раскрыл, взбил как подушку, положил себе под голову и захрапел, уткнувшись верхними зубами в сто седьмую страницу, в набранное пышным шрифтом пророчество «для зла есть будущность — придёт время, когда народятся большие драконы».
Храпел Колька довольно приятным, чистым, октавы в две с лишним высотой тенором, которым и в Ла Скала похрапеть было бы не стыдно, и вошедшие в помещение жених и невеста поначалу замешкались, заслушавшись.
Жених был в смокинге, в обильно пузырящихся на руках и за ушами мускулах. У невесты под головой лежали в белых подвенечных кружевах груди размером с голову. Она склонилась над грузчиком, сказала «он», дёрнула его за волосы, сказала «подъём». Колька мгновенно восстал из книжной кучи, вылупился невменяемо на врачующихся, как на нежданное сновидение, и, не пришедши ещё в полной мере в себя, решив спросонья, что кругом брак и свадьба, прохрапел громкое «горько». Молодые машинально поцеловались и попросили Грузовика проследовать с ними.
— Во дворец бракосочетания, — догадался Колька.
— В шестое отделение, — возразил жених.
— В шестое отделение дворца бракосочетания, — не хотел расставаться со свадебным настроем Колька.
— Милиции, — конкретизировал жених.
— А что там?
— Что может быть в отделении милиции? Милиция, естественно, что же ещё, — проговорила невеста, слегка загремев вдруг наручниками.
— Опа! — пробудился окончательно Грузовик. — Вы кто, ребята?
— Прапорщики мы, — отвечали жених и невеста. — Прапорщики Пантелеевы.
— А чего одеты так? Для конспирации, что ли? — показал на белое платье скованными уже руками Колька.
— Женимся, — пояснил прапорщик Пантелеев.
— Ехали из загса через ваш грёбаный район, вот начальство и попросило заодно и тебя задержать и доставить, у них тут наряда поблизости не было; нет, блять, покоя ни днём, ни ночью, замуж выйти некогда; они ещё и ночью позвонят, как пить дать, у них ума хватит и в брачную ночь отправить за какими-нибудь мудаками гоняться, — проворчала прапорщик Пантелеева.
— Доставим тебя в лучшем виде, тут недалеко. Мы всё равно к родителям едем. Это по дороге, — сказал новобрачный милиционер, показывая задержанному удостоверение.
— А что я сделал-то? — спросил Колька.
— Там объяснят, давай садись в машину, десять уже, опаздываем, нас родители ждут, да и дел ещё до чорта, насчёт ресторана на вечер не всё ещё решено, про холодец много неясного и про танцы, — заспешил, взглянув на айфон, жених, заталкивая арестанта в белосиний автомобиль с мигалкой на крыше и надписью «милиция» на борту, украшенный от кормы до носа белосиними лентами, а на носу ещё и двумя великанскими обручальными кольцами из пластмассового золота.
— Совет да любовь, — подумал Колька в ужасе. Увезли Кольку.
Куда счастливее шли тем временем дела у Дублиных. Они весело и невкусно позавтракали в кафе «Русский кофеин» и отправились всей семьёю хлопотать об отъезде отца. Причём Аркадий проявил прыть, расторопность и рвение, в наших прохладных и медленных землях невиданные. Велик взирал на него с восхищением, Глеб — с надеждой. Быстрота и услужливость, с которой обделывал он дела, были не только невиданные, но и не вполне, если так можно выразиться, нормальные, как бы нездоровые даже, что-то уж слишком выходящие наружу, не всегда вынужденные, часто избыточные. На трезвый взгляд была бы заметна и странность, и подозрительность, но никто в их компании не взглядывал трезво — Велик по малолетству и простодушию, папаша — по причине употреблённого в «Кофеине» бокала искристой «белуги». За пятницу и субботу были куплены билеты на Буайан и обратно через Пулково, оплачена гостиница в Метценгерштейне, профинансированы прочие расходы по поездке. С офшорным княжеством очень кстати действовал безвизовый режим, но загранпаспорт потребовался новый, с ним пришлось повозиться, и если б не Аркашина ловкость, не вышло бы ничего, но даже и паспорт к ночи на воскресенье был справлен. Второпях, правда, в нём случилась опечатка, и Дублин стал Дублон. Но так было даже солиднее и иностраннее, как пояснил Аркадий. Из экономии Глеба Глебовича отправляли за рубеж одного и на два только дня; Велика же на семейном совете решили оставить дома на попечении у Аркадия, этого столь полезного и любезного, хотя и очень недавнего и неочевидного брата. На жизнь и хранение Глеб оставлял им почти половину наличных, хотя Аркадий горделиво отказывался, уверяя, что куры не клюют у него кредиток, но отец настоял, мол, и ему столько денег в двухдневном туре без надобности.
Дублин-ст. позвонил Надежде Кривцовой, попросил пару раз проведать сыновей, пока его не будет. Надя захотела его проводить.
В воскресенье вечером в ожидании рейса Глеб, Велик, Надя и Аркадий столпились в буфете аэродрома.
Глеб держал Велика на руках, прижимая его к себе, как богородец маленького драгоценного господа, жалел, что не берёт его с собой, хотел заговорить с Аркадием об отсрочке на день, за это время чтоб оформить документы и на Велика и взять его, но — не заговорил, неудобно было, очень уж много сил потратил Аркадий, чтобы всё устроить. И продолжал тратить, шмыгал от буфета до кассы, сновал между таможней и буфетом, шептал что-то пограничникам и Наде, успевал потормошить официантов и посмешить младшего Дублина. Велик был счастлив, что остаётся с Аркадием, у него впервые в жизни появился старший брат, да не просто брат, а какой ещё! каких поискать! — знавший толк в биониклах, взрослый, но не старый, неунывающий, красивый, добрый.
Надя, то и дело озираясь, нет ли поблизости подчинённых её мужа, говорила нежно любовнику:
— Глебик, скажи что-нибудь.
— Что же? — спрашивал Глеб.
— Что-нибудь хорошее.
— Что же хорошее?
— Скажи формулу, Глебик.
— Какую же, душа моя, формулу тебе сказать? Все уж переговорил.
— Ну хоть ту, про гамильтониана…
— Аш равно аш ноль плюс лямбда вэ, — продекламировал Дублин.
— Как хорошо! Лямбда вэ… Как ты это делаешь! Скажи ещё, — умилилась и задышала чаще Надежда.
— Интеграл дэ икс жэ икс сигма икс минус икс ноль равно жэ икс ноль, — сказал Глеб.
— Ой, не могу, — Надя обожала Глеба за математику, за то, что знал он такие непостижимые, великие вещи, за то, что так не похож был на Кривцова. Генерал не постиг и постичь не хотел ничего высокого, даже мечты у него были толстые, низкие — вот как бы, к примеру, пристрелить и сожрать кабана пожирнее. Надя, конечно, в Глебовых формулах ничего не понимала, но чуяла бездну, из которой они звучали. Была, была в Глебике бездна, а в Кривцове был один только жареный кабан. Надя стояла перед Глебом в страхе, любви и смущении, как стоит на берегу океана обычная туристка из наших мелких мест, не сведущая в загадках течений, планктонов и подводных вулканов, ничего про океан не знающая, ощущающая только душой неизмеримую мощь, глубину и тайну и, ошеломлённая, шепчущая «ну надо же, бля…»
Пока женщина справлялась с волнением, математик, усадив Велика за стол перед мороженым, отошёл с Быковым-Бутбергом в сторону.
— Аркаш, а капитан Арктика лечит неизлечимые болезни? Это ведь правда? — спросил он.
— Ты же знаешь, что правда, — подтвердил сын.
— Можешь договориться, чтоб одного моего знакомого вылечил?
— А что у него?
— … хронический алкоголизм, — не сразу ответил отец.
— Странно, что этим болеет только один твой знакомый, а не десять твоих знакомых, не все твои знакомые. Посмотри вокруг — разве все эти люди не хотят выпить?
— Не шути. Мой знакомый тяжело больной человек. А ему болеть нельзя. У него ребёнок.
— Ребёнку-то не десять ли лет? Не Великом ли зовут? — предположил Аркадий, но, увидев, как смутился отец, извинился: — Извини. Договорюсь. Вылечит он твоего знакомого. Обязательно вылечит.
— Спасибо. Вернусь — обсудим детали. А где всё-таки твоё пальто? — сказал Глеб, оглядев свою старую пуховку в которой ходил теперь Аркадий.
— А где мать Велика? И кто она? — ответил Аркадий.
— Как-нибудь потом расскажу.
— И про пальто как-нибудь потом.
— Договорились.
— Пора.
Глеб поцеловал Велика, смотревшего на Аркадия, и Надежду, смотревшуюся в настенное зеркало, пожал руку Аркадию, улыбнулся и убыл.
§ 19
Гигантский парусный ледокол Арктик имеет в длину целых триста(!!!) локтей, пятьдесят(!!) локтей в ширину, высота же его локтей тридцать(!); сделан он из дерева гофер и назначен для спасения. Капитан входит в одну из бесчисленных кают, трапезную. По утрам здесь собирается весь весьма немногочисленный экипаж корабля. И два его молчаливых пассажира братья Сличенки — полярные цыгане, напросившиеся в плавание, чтобы догнать свой табор, кочующий по обыкновению где-то возле восемьдесят пятой широты вдоль хребта Ломоносова и впадины Амундсена. Чтобы рассесться опять по родным своим пёстрым кибиткам из разношёрстных шкур и рассеяться по глянцевым ледяным лугам. Чтобы видеть из тех кибиток подросших за время разлуки сыновей, скачущих впереди на краденых у робких эвенков лохматых белых конях. Чтобы обнимать своих жён, блистающих золотыми монистами и чёрными очами с золотым отливом. И — петь, петь, напеться допьяна на радостях, на воле, потому что здесь они терпят, стесняются, молчат. А песни так и бьются в сердцах, так и рвутся вверх, к звонкому небу, куда никогда не добраться людям, но куда долетают от людей мелодичные звуки их боли.
Табор однажды в три года посылает Сличенок на континент, в портовые городки Гыда, Ныда и Караул за шурупами, тушёнкой, чаем, прочей полезной всячиной, которую выдают суровые таймырские евреи в обмен на привозимые цыганами ценнейшие чешуи полярных рыб и сведения о границах нефтеносного шельфа. Кроме этих двух, людей на корабле нет. Остальные — ангелы.
Остальные — это, собственно, и есть экипаж ледокола: капитан — архангел, ангелы Госпожа, Жёлтый, Волхов, унтер-ангел Юнг. Заведено капитаном и животное попугай, для дружбы, сдержанных бесед и для особого моряцкого шика.
Об ангелах, как и об цыганах, довольно сказано сказаний и писано писаний. Так что теперь любому современному человеку отлично хорошо известно, что это за существа. Стоит лишь вкратце уточнить их род занятий в данном случае.
Капитан Арктика один из семи старших ангелов, посланных на Землю Богом наблюдать человечество и разбирать его молитвы. Этих старших ангелов семь по числу сторон света, ибо Бог именно на столько сторон разворачивает вселенную, а не на четыре, как узко думают смотрящие вокруг, будто сквозь мутное стекло, люди, львы, орлы и куропатки. Каждый архангел путешествует в своей стороне целый год, всматриваясь с помощью приборов вечного всевидения в судьбы всех людей и особливо различая беды и жалобы живущих на вверенном ему участке. Он выслушивает и выглядывает своих подопечных, а видеть не своих, прочих должен для сравнения и в напоминание о том, что не только своим плохо бывает, а и многим другим, из других сторон света тоже тяжело.
Архангелы наслушиваются всяких стонов и молений, насматриваются ужасов и трагедий и выбирают какое-нибудь одно дело для разрешения. Это может быть просьба любого человека или нескольких, или многих людей о чём угодно. С этими семью просьбами архангелы раз в году направляются к полюсу, прибывают туда каждый в свою пятницу семипятничной недели и через семерых праведников Семисолнечного скита передают избранные воззвания Богу, ибо молиться за человека должен человек. Скитеры выходят навстречу очередному архангелу под колокольный звон в белых одеждах, светясь и благоухая, словно преображённый Христос. Они вопрошают архангела нараспев: «Кому ныне Бог? Кому спасение?»; архангел же возражает: «Ныне рабе Светлане Бог и спасение?» — «Отчего же ей?» — «Мама у неё болеет, кости у неё болят, просит Светлана боль мамину унять» — «Сколько же маме лет?» — любопытствуют монахи. «Восемьдесят два, братие», — ответствует архангел. «Отчего же ты, архангел Божий, просишь за неё, а не за других? У Бога людей много. Отчего не просишь за больных детей? Разве их боль не больнее? Отчего не просишь за бедных? Ведь они бедны. За тупых? Ведь они тупы. Отчего не просишь за вдову, плачущую по погибшему мужу? За акционерное общество «Сефард», обанкротившееся на прошлой неделе? За пропавшего в пещере спелеолога? За разрушенный землетрясением город? За мир в Дагестане? Разве их боль не больнее?» — допытываются благозвучные иноки. Архангел поясняет: «Перед Богом всякая боль боль, и нет боли, кроме боли, и нет боли больнее боли. Ребёнку, потерявшему любимую игрушку так же больно, как через пятнадцать лет выросшему из ребёнка сержанту, сгорающему заживо в подбитом танке». «Аминь», — поют скитеры и поднимаются обратно на айсберг Арарат и молятся за маму рабы Божьей Светланы. И мамины ноги больше не болят. К вящей славе Господней! Хотя, конечно, чаще отмаливаются большие боли, спасаются города и толпы, а не отдельные старушки. Ибо архангелы обитают среди людей и от них научились по-человечьи судить о грехах и страданиях. То есть подразделять грехи и страдания на большие и маленькие, как будто это деньги или пироги.
Капитан Арктика опекает ту сторону света, в которой располагается наше богоспасаемое отечество.
Вот уж скоро три вечности будет, как он здесь, колесит по России и окрестностям, с каждым днём понемногу русея, печалясь и улыбаясь печально, предстоя перед Господом и указывая ему на замызганных нас — «се человеки».
Капитан влюблён в Госпожу, но это только игра, чтобы занять как-то время, к которому ангелы непривычны. Ибо там, откуда они, времени почти не бывает; редко когда донесётся оно из нижнего неба, ослабленное расстоянием, выдохшееся, покружит, как усталый дракон, помедлит, остановится и исчезнет, ничего не сокрушив, никого не отняв. Нам, замерзающим ниже нижнего неба в краях, где могучее неодолимое время всегда грозно штормит, такое представить трудно, но это так.
Последователи катарского епископа Никиты утверждают, что ангелы суть мягкие ткани человеческой души. Св. Ибрагим, являясь во сне по большим праздникам некоторому старцу …ской пустыни, учит, что они — свет, которым Бог прикасается к людям. Кроме этих основных есть множество других гипотез, но все сходятся на некоторой неопределённости окончательного суждения. Соглашаются также в том, что ангелы бесполы, бесконечны, бесформенны, но при этом общительны и деятельны и для общения с людьми принимают разные удобные людям обличья.
Госпожа — красавица, умная и властная. У неё волосы пламенного цвета, а глаза ледяного; на носу у неё бледные, почти незаметные веснушки, которые часто снятся капитану вперемешку с утренними звёздами.
Жёлтый медведь по происхождению знатный прусс на русской службе принц Ульрих Конрад Максимилиан Казираги. В XVIII веке служит при дворе кроткой императрицы Елизаветы Петровны предсказателем грядущего, магом и парфюмером. Однажды на каком-то очередном августейшем гулянии под звуки лютневой музыки и деликатный смех благородного шляхетства в целях утешения Ея скучающего Величества сворой остервенелых собак насмерть затравлен редкий белый медведь, доставленный для такого случая из далёкой Гыды. Принц становится невольным свидетелем мучительной агонии прекрасного зверя, хочет вмешаться, остановить идиотскую забаву, спасти терзаемого и погибающего, но не решается (Петровна хлопает в ладоши, хвалит и подбадривает отважных псов…) и потом не может себе простить своего бездействия. Постепенно он внушает себе, что виновен в этом варварстве и наказывает себя, заколдовывает сам себя, превращаясь в тучного и одышливого медведя с условием, что сам уже не сможет снять с себя наложенные чары, что расколдовать его и вернуть ему человеческий облик может только влюблённая в него невинная девушка. Суровое наказание! Конечно, в сказках барышни то и дело влюбляются в медведей, щелкунчиков, чудищ лесных и во что ещё похуже. Но в реальной нашей жизни расколдоваться таким способом совсем не пара пустяков. Хоть мы и видим вокруг чудеса толерантности и сексуальной свободы, но всё-таки девицы, готовые влюбиться в медведей, даже и в наш просвещённый век исключительно трудно отыскиваются. Так что до сей поры Жёлтый подолгу одиноко скитается в тяжёлой медвежьей шкуре по торосам и настам севморпути, проповедуя морякам и корякам идеи ненасилия и неядения мяса. На корабле он навигатор и пророк, первый помощник и советник капитана.
С остальными мореплавателями всё не так сложно. Белый волк, бегущий обычно впереди парусника, хоть и называет себя для солидности оборотнем, на самом деле является самым простым волком по фамилии Волхов. Также и юнга Юнг не более как только юнга.
Конец весны и целое лето ангелы проводят на суше. Они разъезжают под видом целителей и экстрасенсов по России с очень популярным благотворительным шоу. Показывают простодушным провинциалам классические фокусы, проводят сеансы гипноза. Исцеляют некоторых наиболее здоровых больных, предвещают опрятное малобюджетное будущее небольшим нетщеславным людям; принимают жалобы на жизнь. Такие турне позволяют познакомиться с огромными массами российского человечества; лучше знать и понимать, и жалеть простых русских смертных. На осень ангелы разбредаются кто куда, существуют раздельно, растворяясь полностью среди людей, в людях.
А в первых числах января собираются на берегу Печорского моря, поднимаются на стоящий на якоре ледокол Арктик и делятся впечатлениями; и каждый предлагает свой рассказ о человеческом страдании, повествует о поразившем его случае несправедливости или беды и просит, чтобы именно по этому случаю капитан обратился к Богу через монахов на айсберге Арарат. Капитан выслушивает всех и себя самого и принимает решение, за кого молиться на сей раз монахам. После чего корабль снимается с якоря и, круша льды, поднимая искристую снежную пыль, устремляется к Семисолнечному скиту, к полюсу, к Богу…
Госпожа встречает капитана на пороге трапезной каюты. Она протягивает ему свежий апельсиновый сок в стакане из тонкого богемского льда.
— Доброе утро? — спрашивает капитан. Он пьёт сок, хотя, как известно, питьё и еда и рядовым-то ангелам без особой надобности, а уж архангелу тем паче. Но время, время! оно повсюду, хлещет из всех щелей как едкая щёлочь, разъедая бренное тело и вещую душу, и вечность в душе, и тленные вещи в руках. И если не тратить его на работу и отдых, на совещания и диспуты, на приготовление завтраков и ужинов, затем на их поедание и на танцы после них, на рыбалку, твиттер и преферанс; если не сливать его, не отводить из переполненной им жизни куда-нибудь на сторону, на чепуху, на что попало — то, пожалуй, затопит оно мозг, словно бурлящее безумие, и закроет солнце плотной тоской; таково оно, время! Человеку не выжить в нём точно, ангел же здесь, на Земле, вязнет в его длиннотах и избытках и, подобно человеку, стремится избавиться от него.
— Доброе, — говорит Госпожа, — определённо доброе. А как ты? Как на работе?
— Как обычно, ангел мой. Рутина. Льды и люди. Я, кажется, устаю видеть их. Честно говоря, не понимаю, почему я, способный одним взглядом охватить всю вселенную разом, послан в это захолустье таращиться на какого-нибудь засранца из Саранска, чешущего яйца в задумчивости о том, что бы такое замороженное выломать из морозильной камеры, разморозить и сожрать.
— Мой рыцарь, ты раздражён. Будь осторожен. С таких речей начиналось падение Денницы, — Госпожа целует капитана в губы. Капитан улыбается; попугай с его плеча тянется к Госпоже, надеясь тоже получить поцелуй. Он делает скорбное лицо (у этого — непростого — попугая есть лицо), показывая всем своим видом, что он тоже устал от льдов и людей, что столько лет службы не шутка, что он одинок и отважен, и прекрасен, и дважды одинок, и достоин поцелуя. Госпожа, впрочем, не замечает его порыва, она уже у стола, наливает капитану кофе с молоком, кладёт на тарелку горячие булочки с корицей, его любимые. Попугай зевает, хлопает крыльями, как бы говоря, что не очень-то и надо. Сличенки, не смеющие приближаться к архангелу, кланяются из дальнего угла трапезной, где завтракают на цыганский манер — едят крепчайший варёный азербайджанский чай и курят сигареты Партагас.
— Возможно, он был прав, — говорит капитан.
— Кто? — спрашивает Госпожа.
— Денница.
— И это говоришь ты, воин Света! Ты, по приказу Бога сбросивший отступника с неба в ад! — Госпожа встревожена. — Тебе надо отдохнуть, милый.
— There’s no discharge in the war, — печально усмехается капитан в ответ. — Зачем мы здесь? Зачем это место вообще существует? Зачем здесь убивают, угнетают, унижают друг друга все эти так называемые люди? Зачем обманывают? Детей обижают зачем? Вот про детей-то я особенно не понимаю. Зачем Он создал людей? Зачем допустил их жить так? Зачем Ему их ложь? Зачем их срам, смрад и страх? Зачем Ему слёзы детей? Чего Он хочет?
— Остановись, Он всё слышит!
— Ты полагаешь, Бог — шпион?
— Опомнись, замолчи. Опомнись! Замолчи! — Госпожа садится рядом с капитаном, обнимает его за плечи. Попугай, смущённый невероятной сценой, благоразумно улетает к цыганам. — Вспомни, сколько добрых, благородных, красивых, умных, честных, талантливых людей мы встречаем в наших странствиях. Они ведь не только воюют, убивают и крадут. Они ещё и защищают, примиряют, лечат, заботятся, любят… Бог благ!
— Всё, всё, что сделали они хорошего и доброго, не стоит одной слезинки ребёнка, — упрямится капитан. — И всё, что сделано, уже заранее неправедно, неправильно. Потому что слезинка эта уже пролилась. Их будущее обессмыслено! Зачем? Я ведь не их не понимаю! Я Его не понимаю! Ему-то это зачем?
— Ты и не должен Его понимать. Он непостижим.
— Как можно служить Тому, кого не знаешь? Не понимаешь?
— Ты что, Достоевского начитался? Нельзя так. Что люди скажут? — Госпожа показывает на копошащихся в углу Сличенок. — Не теряй лицо. Ты же архангел! Ты ближе к Богу, чем мы все, а хнычешь, как засранец из Саранска. Делай, что должен… Не надо ничего понимать… Делай добро…
— И будь что будет, — машинально договаривает девиз капитан. — Ты права. Вздор! Это я от людей нахватался. Заразился. Жалко мне их. И вот детей ихних ну так жалко, прямо не могу… Чорт! Сейчас Волхов и Жёлтый придут, а я тут расклеился совсем… Надо перевода попросить куда-нибудь, где людей нет. На Юпитер, что ли…
— Я там служил, — вдруг высовывается из примыкающего к трапезной камбуза юнга, — место весёлое. Бури, газы… Кометы падают… Скучно не будет. Если добьётесь перевода, возьмите с собой.
— Обязательно, — несколько удивлённо оборачивается к нему капитан.
— Ты что, всё слышал? — очаровательно покраснев, вскидывается на юнгу Госпожа.
— Я… — начинает думать, что ответить, Юнг.
— Ты ничего не слышал, юнга, — приказывает Госпожа.
— Я ничего не слышал, Госпожа, — говорит ей Юнг и потом обращается к капитану. — Ещё булочек, сэр?
— Булочек? — не понимает архангел и глядит в тарелку. — А где все булочки? Их было три…
— Пять, если быть точным, — улыбается Госпожа. — Ты их все съел. И даже не заметил. От волнения.
— Это… — теперь уже краснеет капитан, — я… автоматически… Пока говорил. Как же я говорил? И ел при этом? Одновременно говорил о Боге и слезинке ребёнка и жевал булочки! Бог и булка! Как это совместно? С корицей! Ералаш!
— Ты на Земле. Здесь так. Здесь даже Бога едят. В виде булки. Им так понятнее. Бог понятнее. А посему — делай, что должен…
— И будь что будет, — окончательно приходит в себя капитан.
В трапезную вваливаются Жёлтый медведь и волк Волхов.
— Корабль на автопилоте. Можете перекусить, — приглашает архангел.
Медведь и волк, соря узорчатыми мягкими снежинами, рассаживаются по своим стульям.
— Архистратиг, — обращается к капитану волк, — у нас тут спор вышел. Зачем Бог терпит зло?
— И эти о том же, — невольно проговаривается Юнг.
— Он не терпит его, — отвечает солидно капитан. — Он отвергает его, преследует и побеждает.
— Это богомильство, — умничает Юнг.
— Бог творит добро, — продолжает капитан.
— Но он же знает, что люди в жопе. Почему не извлечёт их оттуда? — настаивает волк.
— Он помогает им. Слышит их молитвы и спасает, — с достоинством поучает капитан, как будто сам никогда не сомневается.
— Это раз-то в год и семь только кейсов! Негусто! Отчего бы всех не спасти? Что мешает? Лукавый так силён, что ли? А мы на что? Ужель не смеют командиры чужие изорвать мундиры?.. Ты только скажи — уж мы пойдём ломить стеною… — рычит волк.
— А этот Лермонтова… — замечает Госпожа.
— Что Лермонтова? — огрызается Волхов.
— Начитался.
— Богомил, — цедит сквозь зубы юнга.
— Что ты сказал? — вострит уши волк.
— Что слышал.
— Кто богомил?
— Ну уж во всяком случае не я, — повышает голос Юнг.
— Да ты просто салага, — шерсть на волке дыбится.
— Товарищ капитан, матрос Волхов обзывается, — незамедлительно ябедничает юнга.
— Точно! Пора на Юпитер. Измельчали вы тут. Слов дурацких назапоминали. Ругаетесь, материтесь, как… как люди какие-нибудь… Да и сам я хорош… Чертыхаюсь, ною — а ещё архангел Господень! Измельчали. Всё! Дойдём до скита, отмолим избранных — и на Юпитер! — гневается капитан. — А что до спора вашего… Делай, что должен, и будь, что будет. Делай, как я — делай добро. Вот мой ответ. Мой приказ.
— Вот и я ему толкую — служи и не суди, — ворчит медведь.
— Люби и не парься, — добавляет юнга.
— Слушаюсь и повинуюсь, — смиряется волк. — Кстати, о Лермонтове, — меняет он тему. — Русская поэзия страсть как хороша. Так хороша, что я даже в пед подумываю поступить. Буду русских русской словесности учить, чтоб не унывали.
— Перед экзаменом побриться не забудь, — жалит Юнг.
— Измельчали, факт! — парирует Волхов, не глядя на юнгу. — Но кроме русской много и другой классной словесности имеется. Вот, к примеру, — и он громко декламирует какие-то обрывистые, как лай, слова.
— Никак по-китайски? — вслушивается попугай.
— Не иначе, — кивают цыгане.
— Это были стихи китайского поэта Мао Сю-пу, — поясняет, додекламировав, чтец.
— Знаем, слышали. «Погребальные песни «Курску» называются. Цзян Фэй-ни лучше читает, — произносит юнга.
— Какой ещё Цзян? — обижается волк.
— Фэй-ни. Знаменитый китайский актёр. В «Красной скале» играл, — торжествует сноб Юнг.
— Умник. Ты, небось, и по-китайски-то ни бельмеса не знаешь, — отвечает волк.
— Если говорю я языками ангельскими и человеческими, а любви не имею, то я медь звенящая и больше ничего, — цитирует Юнг.
— Ну всё, хватит! — капитан встаёт во весь свой великий рост. Его глаза сверкают, как на иконе, где он изображён низвергающим в ад Люцифера — в латах из чистого солнца, с копьём в руке и Божией правдой в сердце. — Внемлите мне, солдаты любви, воины Света!
Солдаты и воины вытягиваются по стойке «смирно»: медведь — дожёвывая малиновый пирог; волк — жалея, что весь завтрак проболтал и пробранился с юнгой, а к миске с Педигри так и не притронулся; Госпожа — радуясь, что архангел снова в форме.
Цыгане, хоть и не воины Света, но перестают шептаться и гасят окурки о подошвы резиновых тапочек, в которых обычно слоняются по ковчегу.
— Я знаю, почему все мы нервничаем. Знаю, почему суетимся, хоть и не пристало нам! — говорит архистратиг. — Мы задумали неслыханное. И опасаемся, что Бог откажет нам. Некоторые из нас до сих пор убеждены, что мы затеяли пустое и опасное дело, — капитан грозно смотрит на юнгу.
— Пустое и опасное, — визжит вдруг Юнг, — пустое и опасное, так и есть. Убеждены некоторые из нас! Убеждены! Потому что не просто пустое дело, было бы пустое — полбеды, а тут самая натуральная провокация. Ещё раз! Последний раз! Заклинаю вас! Не искушайте Господа вашего! Не просите Бога воскресить умерших. Рано! Не время! Не пришёл ещё час суда!
— Молчи, маловер, порождение ехиднино! Что значит не время? — ревёт медведь. — А когда время? Когда насытится зло? Когда сожрёт всех, или раньше? Чего ждать? Пора начинать. Вот тут Волхов говорит — сразу всех спасти и точка. Ну всех-то, может, и не время, тут уж точно часа обетованного надо ждать. Ну а не всех? Не всех-то можно? Хотя бы этих. Сто восемнадцать человек всего! Мучительно погибших. Мучительно! И потому нет утешения их вдовам и сиротам, их родителям и любимым. Что, если они воскреснут, кому-то хуже станет? Пусть воскреснут и пусть живут опять, они заслужили. Муками и мужеством заслужили.
— Аминь, — поддерживает волк.
— Молчать! Смирно! — наводит порядок капитан. — Говорю я. Вот мой приказ. Да, нам известно, что за всю историю человечества лишь однажды воскрес сын человеческий, и это был Иисус из Назарета. Ходят слухи о некоем русском иноке Абраме, но восстал ли он из мёртвых или всё-таки из пьяных, до сих пор не вполне ясно. Поэтому в наличии факт единственный, и в его единственности некоторые видят знак Божий. Я же тут никакого знака не усматриваю. И мне неизвестно никаких заповедей на сей счёт. Нигде не указано, что факт этот должен быть единственным до скончания века, что все остальные усопшие должны ждать Страшного суда. Ибо время вымышлено людьми, а значит и суд не в грядущем, а в вечном настоящем. Сейчас. А тогда и смерть — сейчас, и второе пришествие — сейчас, и армагеддон — сейчас, и суд, и прощение — сейчас. И воскресение из мёртвых, Христом Богом обещанное, — сейчас. Я не знаю, таков ли промысел Божий, но я буду просить его воскресить экипаж подводной лодки «Курск». И будь что будет. Это решение принято мной и вами ещё на стоянке на Печорском море. И пересмотрено оно не будет. Поэтому я требую от всех — успокойтесь. И несите службу без колебаний. Исполняйте!
— Есть, — отвечают все.
И расходятся по местам. Юнга не выдерживает, убирая чашки и тарелки со стола, бормочет:
— А если Бог откажет? Не воскресит? Кому же он будет тогда нужен такой… чёрствый… А если не откажет? Исполнит? Тогда ведь все захотят. И что — всех воскрешать? Сколько ж их будет? Куда их всех тогда девать? Тогда от них и на Юпитере не спрячешься. А если за Гитлера кто-нибудь помолится? Он воскреснет? Он ведь тоже мучился. И Ежов страдал, и Берия переживал. Релятивизм какой-то получается… И та тварь, которая в Будённовске в больнице девочку изнасиловала… Нет, нет, этого в ад, точно в ад, в топку, в топку…
Одна из тарелок упала, разбилась.
— К счастью, — думает Госпожа, поднимаясь вместе с капитаном на верхнюю палубу. Здесь рушатся ветер и лёд; семь солнц пылают под радугой, и от похожей на крест высочайшей мачты разлетаются на все стороны света семь серебряных теней, семь трепетных крылатых крестов.
§ 20
Сперва самолёт подпрыгивал, трясся и скрыпел на рытвинах и колдобинах ведущего на запад старого русского неба. В иллюминаторе виднелись вдоль него растрёпанные вчерашним ветром покрытые снегом облака, города, рощи и горизонты. Солнце землистого, как Луна, цвета свисало с вечной мерзлоты сурового космоса. Глеб, и в привычной обстановке легко и охотно унывающий, от этих дорожных видов впал в меланхолию. Удручала его к тому же разлука с сыном и осознанная необходимость не напиваться, покуда все дела не уладятся. Не напиваться было сугубо тяжело из-за того, что сосед справа, сидящий ближе к проходу, как раз именно, как нарочно, напивался. Казалось, он оформил визу и купил билет не затем, чтобы долететь куда бы то ни было, а только для пьянства в располагающей лётной обстановке. Он пил так лихо, что было очевидно — по прибытии он никуда не собирался, дел у него в пункте назначения не было никаких; ни работать, ни отдыхать, ни даже лечиться в таком состоянии точно не будет никакой возможности. Покидать воздушное судно, кажется, не планировалось никогда. По крайней мере сейчас, в начале полёта, настрой был именно такой. Собутыльник лысого (сосед справа был лыс) сидел в кресле прямо перед ним. Общение между ними было затруднено тем, что один смотрел в затылок другому, но этот другой говорил так громко, что слышал весь салон, а стало быть, и лысый. Он говорил не оборачиваясь, глядя вперёд, в перегородку салона экономкласса. Со стороны могло показаться, что он сумасшедший. Лысый отвечал ему тихо, шептал ему какие-то нежные матюки в макушку, как в микрофон.
Глеб ёрзал и пыхтел. Чтоб отвлечься, заглядывал в книжку соседке слева. Книжка была французская, в ней было написано примерно следующее:
«Je suis vivant et nous sommes hier
Par Frédéric Beigbeder
24 janvier 2011. Le monde est né d’une explosion. Les étoiles sont des boules de feu, l’univers a commencé par un big bang. Ca signifie quoi? Que chaque bombe qui pète est le début de la création? Mon cul. L’aéroport de Moscou est jonché de cadavres déchiquetés, une femme rampe pour récupérer sa jambe gauche arrachée, sur le sol elle laisse une large traînée marron comme une limace. Les cris des businessmen défigurés. Une pile de cadavres atrocement brûlés. Se faire sauter au milieu des gens n’a rien de créatif. Small bang. Aucun intérêt. Poussière tu es, poudre tu demeures. J’avais une mission à accomplir: supprimer deux terroristes. Je ne dormirais pas avant d’avoir éliminé le père et le fils Dublin. J’ai enjambé les cadavres, j’avais autre chose à faire, je suis passé au travers de l’attentat, la chance fait partie de mon job. Je suis le lieutenant Podkolyosin, tueur professionnel, et je viens d’atterrir à Moscou. C’est bizarre: partout où je passe, il y a un nuage de fumée.
— Je t’aime, Mashinka, même si tu es trop jeune pour comprendre ce que veut dire ce verbe: aimer. Tu es parfaite, tu seras toujours parfaite. J’embrasse tes petits pieds, on dirait deux colombes.
— Tais-toi Velik, mon père sait tout, ils vont te tuer.
— Je n’ai pas peur du général Krivtsov. Je n’ai rien fait de mal. Depuis quand est-il criminel d’aimer un enfant?
— Ton père a couché avec ma mère!
— Et alors? Gleb aime Nadia, Nadia aime Gleb, et Velik aime Mashinka, quelle merveille, on n’assassine plus les gens pour si peu!
— Tu ne comprends donc pas… J’ai vu ses yeux changer de couleur quand je lui ai répété ce que tu m’avais dit sur lui.
— Que c’est un voleur? It’s all over the net, baby. Je n’ai pas peur de la vérité. C’est le général qui a peur d’elle. S’il doit tuer tous ceux qui savent… Ca fait du monde à supprimer.
Je roule à tombeau ouvert vers Riazan. Aucune neige ne m’arrête. J’y serai ce soir. Je prendrai une chambre dans un hôtel discret. Je dinerai tôt. Je ne boirai pas. Je suis un robot. Je suis un militaire. Je suis la mort. Je sonnerai à sa porte. Le mathématicien Gleb Dublin viendra m’ouvrir en titubant car il sera ivre comme tous les soirs. Il ne sentira rien. J’agis vite. Je suis propre. Je ne laisse pas de traces. Je suis invisible. Ensuite je m’occuperai de son fils. A vos ordres, mon général.
— Tu ne comprends pas, Velik… Peut-être que je t’aime aussi, peut-être que je ne veux pas qu’il t’arrive malheur. Il faut te cacher. Il faut avertir ton père. J’ai envie de vous protéger. Si vous disparaissez, je ne m’en remettrai jamais.
— Tu voudras bien m’épouser plus tard, quand tu seras majeure?
— Oh arrête de rire! C’est très sérieux. Dans l’armée russe, avoir le sens de l’humour est une faute professionnelle. Pourquoi ne m’écoutes-tu pas?
— Regarde… Cette enveloppe a été remise à mon père par l’académicien Leonid Ayzenazer le jour de son assassinat. Je sais de quoi ils sont capables.
— Qu’y a-t-il dans l’enveloppe?
— Notre assurance-vie, ma chérie. Cette enveloppe me protège bien plus que toi. Ta maman ne t’a jamais parlé des travaux de mon père?
Riazan est ensevelie sous deux mètres de glace et d’ennui. Il est vrai qu’un attentat ici créerait un peu d’animation; mais pourquoi se faire exploser ici? Personne n’en parlerait. Le suicide est un des sports préférés des habitants de cette région. Nul ne s’en plaint. La mort est une délivrance, comme je le dis souvent à mes cibles. Je viens vous débarrasser d’un sacré poids: vous-même. Vous devriez me remercier, au lieu de tomber à genoux dans la neige et de supplier en vain. Je me suis garé devant la maison de Gleb Dublin: un gros glaçon carré. La lumière du salon était allumée. Ma mission — et sa vie — étaient sur le point de s’achever, simultanément.
— Il avait découvert quelque chose ce vieux savant?
— Eh bien…C’est difficile à expliquer à une fillette de neuf ans.
— Essaie toujours.
— L’hyper-espace, ça évoque quelque chose pour toi?
— Euh… Dans «Star wars», les vaisseaux spatiaux qui volent à la vitesse de la lumière?
— Au contraire. Ca n’a rien à voir. L’hyperspace est une autre dimension. L’idée n’est pas de téléporter la matière mais de la dématérialiser. Par exemple, ça permet de remonter dans le temps. Ou d’être immortel. Mais en restant au même endroit. Et ailleurs en même temps. Tu piges?
— Rien du tout.
— Ah, tu vois. La physique quantique, ma fille, c’est compliqué. Nous sommes constitués d’atomes. Tu as entendu parlé de la bombe atomique?
— Ouais.
— Eh bien nous sommes tous des bombes atomiques en puissance. Il suffirait de nous secouer un peu et nous dégagerions assez d’énergie pour détruire la planète…ou la sauver.
— Ton père expliquerait mieux.
— Sûrement.
— S’il est toujours en vie.
— Très drôle.
Quand j’ai sonné à la porte, la lumière du salon est devenue blanche. Je me suis dit que Dublin regardait la télévision ou qu’il prenait des photos avec un flash. Je ne pouvais pas imaginer… J’ai gazé à travers les bouches d’aération, envoyé le Fentanyl à haute dose pressurisée par toutes les ouvertures: conduits d’évacuation, serrures, air conditionné, chauffage, et même par les chiottes. Ensuite j’ai enfilé mon masque à gaz et enfoncé la porte. Il n’y avait personne. La suite… Je sais que personne ne me croira. J’ai prêté serment sur la Bible, pourtant. J’aimerais y comprendre quelque chose, mon général. Une minute après l’éclair blanc, je me suis retrouvé à l’aéroport de Moscou, le 24 janvier, juste avant l’explosion. Je vous jure que c’est la vérité. Je cours vers les arrivées. J’ai toujours mon masque à gaz, un tchétchène crie qu’il a une bombe, je ne sais même pas ce que je dis, les gens paniquent autour de moi, je le plaque au sol. Et la bombe n’explose pas. L’attentat n’a pas eu lieu. Je suis vivant, et nous sommes hier.
— Waooooow. Comment a-t-il fait?
— C’est simple: il suffit de croire.
— Croire quoi?
— Croire au pouvoir de la fiction. Il est fort possible que tu ne sois qu’un personnage né dans l’imagination d’un fou. Ca ne t’empêche pas d’exister.
— Quel charabia…
— Toute notre histoire est peut-être inventée.
— N’importe quoi.
— Ne te vexe pas pour si peu. La réalité est surnaturelle. Parce que nous sommes Russes, nous sommes différents des autres: nous rêvons davantage. Nous avons inventé cette arme de destruction massive: le roman. Tu comprendras plus tard. Cela n’enlève rien à l’éternité de notre amour, ni à l’immortelle beauté de tes yeux, qui sont profonds comme le lac Baïkal.
FB»
— Это кто? Кокто? — поинтересовался Дублин, назвав единственное вспомнившееся галльское литературное имя.
— Но, месье, — обиделась француженка («Француженка?» — подумал Дублин) и пояснила почти по-пилатски: — Се — Бегбедер!
— Какой на хер Бегбедер? Он разве играл? Не помню такого, — невпопад отозвался собутыльник лысого. — Я ж тебе говорю, штрафной Павич бил, а если бы не этому дураку бить доверили, а тому же Кутзее, то барсы точно выиграли бы…
— Ну не пизди, братан, это не я про Бегбедера сказал, — уткнулся ему в макушку лысый. — А Кутзее твой такое же хуйло, не пизди… Челси чемпион, Челси, братан…
— Да в этом твоём Челси, кроме Честертона, все тюфяки безногие. Это им Абрамович кубок купил, все знают, у арабов купил… — всему самолёту поведал братан.
— Не пизди, братан. Сам знаешь, кроме Честертона, у них Кэролл, Уайльд и этот, как его, третий номер…
— Джойс что ли? Да он не ихний, не родной. Купил его им Абрамович, у арабов купил…
— Ну играет-то за них…
— Почему во всех фильмах попутчицами главных героев оказываются ослепительно красивые девушки? Почему рядом со мной расселась эта носатая ушастая орлеанская баба? — подумал Глеб. — Видимо, я не главный герой.
Самолёт трясло часа полтора; потом влетели в Европу, небо выпрямилось, стало похожим на автобан, ровным, гладким. Вместо скрывшегося за поворотом отечественного солнца пассажирам в окна и в очи брызнули сочные звёзды заграницы. Трясти перестало, распогодилось, повеселело, полегчало. Пахнуло вековой волей.
— Полегчало, — обратился к лысому Глеб, как-то вдруг, в каком-то порыве, почувствовав себя стремительно выздоравливающим от изнурительной заразной мысли. Эта мысль была подхвачена там, в четверг, во дворе больницы, она сопровождалась тошнотой, головокружением, слабостью и сердечной аритмией. Эта мысль была о пропавшем Хольмсе, пропавших деньгах, пропавшей жизни. Даже появление Аркадия не излечило её, а лишь заглушило. И вдруг теперь — полегчало.
— Не пизди, — ответил лысый. — Ну этот-то понятно, чего пиздит, — кивнул он на макушку сидевшего впереди приятеля, — но ты-то? Ты-то какого хуя пиздишь? — и он налил Глебу полный стакан виски. — Я тебя умоляю, не пизди. Ну хоть ты-то можешь не пиздеть? Хоть один человек в мире может не пиздеть, а?
Глеб засмеялся и — немедленно выпил.
— Ты выпил? Без меня? — провозгласил поклонник Кутзее и — немедленно выпил.
— Не пизди, братан, ну хватит уже… — возразил ему лысый и немедленно выпил.
Дальше уже летели по-братски. Литры и километры неслись быстро, часто. Дружными, слаженными усилиями поменяли местами читательницу Бегбедера и братана. Братан оказался довольно толстым и горделивым — хоть и сидел теперь рядом, но говорил, по-прежнему глядя высоко перед собой, ни к кому головы не поворачивая. К концу полёта Глеба мощно развезло, он стал мягок и вял. На лысого же и братана алкоголь действовал обратным образом. Они будто стекленели, отвердевали, человеку несведущему могло показаться, что даже трезвели как будто. Их жесты и слова становились обрывистее, чётче, приобрели постепенно абсолютно ирреальную чёткость.
По прибытии чётко обрисовалась и утерянная было из виду цель поездки — решено было, нимало не медля, сразу в аэропорту найти бар. Глебу уже верилось, что ровно для этого он и прилетел. Всё прочее выглядело теперь ерундой и ненужностью. Твёрдые друзья чётко понесли его к выходу.
Государство Метценгерштейн встретило их улыбками своих шикарных пограничников. Но улыбки эти показались братану недостаточно искренними. Он сказал об этом одному из молодых сержантов. И, когда тот не понял по-русски, толкнул его. У братана в одной руке был Дублин, в другой бутылка. Он толкнул сержанта бутылкой. В ухо, то есть — практически в голову. Сержант упал, воскликнув что-то воинственное. Уцелевшие сержанты (а их на паспортном контроле было немало) набросились на братана.
— Хорош пиздить, — то ли братану, то ли пограничникам прокричал лысый и начал чётко драться со всеми. Дублина уронили, затоптали и положили в тюрьму ночевать. Странно, но братан и лысый были как-то скоро отпущены, видимо, по причине их сюрреальной твёрдости. Дублин же пролежал в тюрьме до утра. Спалось ему мало, болели какие-то отбитые почки и печени в глубине живота и шумели нелегальные беженцы из Джамахирии. На рассвете, впрочем, отпустили и его, правда, обязав явиться вечером в суд.
Глеб сгорал от стыда за слабость свою и легкомыслие. Прежде чем идти в хольмсову лавку, решил заселиться в отель, где заранее бронировал номер. Было очень рано, ни автобусов, ни такси не имелось на спящих ещё улочках. Болела голова, трескалось от жажды горло, полупустой немодный чемодан бился о ноги. По счастью, столичный городок Метценгерштейн, как и всё на Буайане, был невелик. Так что и в таком состоянии Глебу удалось добрести до гостиницы. Но кое-что о похождениях нового постояльца полиция успела-таки раззвонить по отелям страны. Заказ Дублина был аннулирован. Ему даже не позволили посидеть на диване в лобби.
Он вышел на улицу, переоделся в кустах развесистой папайи в свежие штаны и рубашку из чемодана и попробовал связаться с Великом. Роуминга не было, обо всём позаботился добрый Аркаша, а вот о роуминге забыл. Зашёл Глеб тогда в телефонную будку, но то ли набирал что-то там неправильно, то ли и вправду занято было у сыновей, но так и не удалось ему с ними поговорить. Пошёл к Хольмсу.
Тот же невысокий небоскрёб, тот же лифт. Поднялся в пентхаус, зашёл в знакомый офис. Возле двери вместо «Шейлок Хольмс, бразерс, систерс, френдз» висела теперь табличка с надписями по-английски и более-менее по-русски: «Управленее по борбе протиф руской мафии». Глеб удивился и, удивлённый, вошёл.
В приёмной было не как тогда, а совсем немноголюдно. Одна женщина в штатском ела палочками лапшу из бумажной кубышки. Вторая листала айпад. Важный негр в льняном пиджаке слушал кого-то по телефону, иногда деловито факая вполголоса «фак… фак…»
Глеб подошёл к женщине с айпадом. Как мог, объяснил, что ему нужен Хольмс, что он бенефициар и вкладчик, что у него вопросы к Хольмсу. Пока он говорил, к ним приблизилась, явно заинтересовавшись, женщина с лапшой. Потом подтянулся негр, схлопывая телефон и вынимая из кармана полицейский жетон. Глеб увидел на стене плакат с фотографией Шейлока и большими красными буквами WANTED. Ниже буквами помельче сообщалось что-то об отмывании денег.
Негр на более-менее русском языке допросил Дублина. Женщина с лапшой стояла сзади, женщина без лапши с айпадом разглядывала Глебов паспорт и копалась в базах данных Интерпола. Среди клиентов Хольмса значились Дубин, Дубинин, Дублин и Дубовицкий, человек по фамилии Дублон там не фигурировал. Глеб, запутавшись в показаниях, с похмелья несколько придурковатый, неважно владеющий английским, в каких-нибудь полтора часа вымотал негра полностью, а опечатка в его паспорте окончательно спасла его. Узнав из сводок городской полиции, что допрашиваемый под судом за мелкое хулиганство, негр брезгливо выпроводил его из офиса — мелкая сошка, не его клиент. Он-то, охотник за крупными коррупционерами и мафиози, был раздосадован, что потратил столько времени на пустышку. Раскрыл телефон и деловито зафакал. Женщина с лапшой доставила Глеба к подъезду, выбросила кубышку и палочки в урну и ушла обратно. «Как изменился город», — покачал головой Глеб. И то сказать — Хольмс в розыске за отмывание денег, в его лавке заседает полиция, значит, денег нет и не будет, всё пропало, всё пропало. До суда оставалось три часа. Глеб поплёлся в ресторан через дорогу. В дверях он столкнулся с двумя соотечественниками, бодрыми туристами очень профессиональной внешности в одинаковых шёлковых рубахах навыпуск. Встречные вежливо посторонились, пропуская Дублина в заведение, но прошагав метров десять, обернулись, сначала один, за ним другой.
— Ты понял, Бур? — выдохнул тот, что обернулся первым.
— Чего?
— Чего-чего! Это же тот математик, шизик-теоретик.
— Перельман что ли? — не понимал Бур.
— Ну какой Перельман, ты чего, Бур. Я ж тебе фотку показывал… Дублин!
— Это который у Вити Ватикана «Трест Д. Е.» спёр?
— Ну!
— Да ну!
— Ну я тебя говорю. Точно он.
— Десять лет уже прячется. Хитёр. А ведь не скажешь по нему. На вид так — тряпка какая-то. И алкоголик. Не, не он, наверное, обознался ты, Щуп. Там на «Тресте» миллион был, а этот на миллионера не тянет.
— Он, он, точно тебе говорю.
— Ну если он, так пойдём грохнем его. Сколько Ватикан за него платит?
— Полтинник. А если деньги вернём, хоть часть — половина наша.
— Да нет давно там этих денег! — возбудился Бур. — Завалим его, пусть полтинник всего, зато верный, чем с долгами разбираться, пытать человека. А вдруг у него и нет ничего, давно пропил всё, а его пытают, несправедливо. А то — завалим, и человеку приятно, что не пытали. И нам копейка трудовая не помешает.
— Здесь нельзя, ты чего! — зашипел Щуп. — Не дай бох узнают, невъездными сюда станем, а они ещё и в Шенген настучат, так и в Шенген визу никогда не получим. Сгниём в совке.
— Да никто не узнает. Я быстро, одна нога здесь, вторая там. Шмальну и ходу. Ты жди в машине за углом. У нас же через час самолёт, пока хватятся, то, сё, мы уже в воздухе — и дома!
— Забудь, Бур, забудь, зря я тебе сказал, не заводись. У меня получше план. Здесь чехлить его не будем. Тут заграница, жизнь здесь хорошая, мирная, зачем же её портить. Мы же с тобой жить сюда скоро переедем. Зачем же повышать тут уровень преступности? Это в совке без разницы — трупом больше, трупом меньше. Там если «Курск» тонет — сто трупов, чечены вертушку сбивают — сто трупов, шахта горит — сто трупов… А здесь людей берегут, какому-нибудь дебилу-децепешнику такие почести и заботы, как будто он герой труда и обороны. Тут при любой чрезвычайке — один, три, пять, ну десять от силы погибнет человек. А у нас никак не меньше ста, беда всё спишет, хоть вон «Хромую лошадь» возьми… А тут не так, тут каждый чел на виду и на счету. Грохнем — заметят, обязательно заметят.
— Короче, Щуп, чего предлагаешь, — утомился слушать Бур.
— Вот мы сейчас в Москву летим. Этот Дублин в Константинопыле живёт. С сыном десятилетним. Души в нём не чает. Сына здесь чего-то не видно. Дома, стало быть, остался. Вот заберём мы сынка, пока папаши нет. Подержим пару недель, а потом папаше скажем — что? испугался? Хорошая новость — жив твой сынок. Пока. Плохая — деньги верни. Вернёт — хорошо, половина наша. Не вернёт — грохнем математика. Полтинник наш.
— А сынка грохнем?
— За сынка Ватикан не платит.
— Ну и слава богу. Не люблю детей… это самое…
— Чего?
— Убивать.
— Никто и не просит. Хотя, сам знаешь, в таких делах зарекаться нельзя, действовать будем по обстановке.
Туристы сели в арендованный Ситроен и поехали в аэропорт. Бур закурил и спросил:
— Щуп, а сколько ещё осталось?
— Трое, Бур. Математик этот. Ещё артист. И банкир.
— Кистин, что ли?
— Ну да, Кистин.
— А Френкель, по цементу который?
— Я же тебе говорил, Бур, он неделю назад сам помер. Инфаркт.
— Так давай Ватикану скажем, что это мы его. За него же стольник полагается, жалко стольника-то, а, Щуп.
— Да ты чего, Бур! А репутация? Нам заказчики верить перестанут.
— Плевать на них. Мы ведь завязываем после этих троих.
— Я подумаю. И кстати, когда вернёмся, с кого начнём?
— Ты же сам сказал, с математика. С сынка его, точнее. Он же один дома.
— Да это я только потому, что повстречали мы его. А по плану у нас Кистин следующий, за ним артист, а уж напоследок этот лох. За него меньше всего дают. И разобраться с ним легче всего. Ни охраны, ни ума, ни силы. Десерт! Что, по плану пойдём, или как?
— Как скажешь. Мне ведь и всё равно. Что так, что так.
— Ладно, по дороге обсудим, с кого начать.
Так Глеб остался жив. Он поел, вернее, попил жадно пива, тупо уставившись в тарелку с пиццей. Потом покорно явился в суд. Его приговорили к десяти суткам ареста, продержали со знакомыми джамахирийцами под замком только три дня и четыре ночи и выслали из княжества. Роуминга всё не было. Все деньги ушли на штраф и оплату тюремных сэндвичей.
В самолёте его попутчиками оказались опять братан и лысый, но они не узнали его (напились ведь тогда, на самом деле, до остекленения), познакомились заново и, как водится, знакомство отметили. Но Дублин совсем не пьянел, горе и страх были сильнее вина. Он только на Аркадия теперь надеялся — что поможет ему вылечиться от алкоголизма и денег ещё займёт до первой работы, хотя и неудобно это, не отдав прежнее, вновь занимать.
Он летел в родную страну, плотно населённую его врагами: генерал Кривцов, лейтенант Подколесин, Витя Ватикан и его лучшие киллеры Бурмистров и Рощупкин (Бур и Щуп), ещё какие-то неустановленные нечистые личности, чьи-то несуразные тени и мерзкие маски — обступили уже его и его мальчика, готовили им большую боль, таились, перешёптывались, перемигивались, подгадывая, как бы пострашнее напасть. Но Глеб и не ведал, что есть у него враги, тем паче — у его Велика. Не ведал, что в какой бы тихой судьбе ни прятал человек себя и своих близких, чтоб как-нибудь не разбудить какого лиха, злые люди всё равно найдут их и достанут, и сделают им своё зло (ибо злодеи чувствительны и чутки и сквозь любые стены способны расслышать слабое дыхание человеческой нежности).
Он, хоть и очень огорчённый итогами поездки, в то же время и очень радовался, что скоро увидит сына. Самолёт снижался к русской земле, правильнее сказать, к русскому снегу.
§ 21
В аэропорту Глеба встречала Надежда, чего он никак не ожидал. Она объяснила, что поскольку никак не могла дозвониться ему, уже второй день приезжает в аэропорт встречать все рейсы из Пулково и Домодедово.
— Как Велик? — спросил Глеб.
— И-и-и-и, — запищала в ответ Надя.
— Ты почему плачешь? — спросил Глеб.
— И-и-и…
— Надя! Что случилось?
— И-и…
— Наденька…
— Ве… и-и…
— Надя!
— Вели-и-к… Вели-и-и-и-и… Велииик… пропал, — выплакала, наконец, Надежда ужасающее известие.
Душа, смягчённая любовью, — отличный проводник боли. Страдание в такой душе (а именно такая была у Глеба, прозрачная от нежности к сыну) распространяется с невообразимой скоростью; невообразимой, но всё же небеспредельной. У Глеба ещё было несколько мигов, пока боль и ужас двумя бешеными бесшумными лавинами неслись на него, забивая глаза и мысли ярко-яростной ядовитой темнотой. Он ещё успел задать вопросы:
— Как пропал?
— Не знаю. Звонила им, не отвечали, пошла на квартиру к вам — их нет. День нет, два нет, беда…
— А где Аркадий?
— Тоже исчез, — пыталась не плакать Надя.
— Может, у знакомых где?.. — готовился расплакаться Дублин.
— Всех обзвонила, обошла я, Глебик, нету их нигде! Нету!
— Отъехали куда? В поход там, на лыжах там что ли? Или в Выборг к Доре погостить? Или гуляют… там, придут ещё?
— Да где ж им гулять? И какой поход, что ты, Глебик? К Доре зачем? Беда у нас, милый, беда, а не поход. И не Выборг.
— В милицию заявить… — догадался Дублин.
— Заявила уже, — сказала Надя.
— И что?
— Мужу заявила, попросила помочь, а он…
— А он?
— Он… — женщина сдвинула указательным пальцем чёлку; со лба в густые волосы уходила кровоточащая ссадина, — …он всё знает.
— Знает, где Велик?
— Нет, он про нас с тобой всё знает!
— Бедная моя, — обнял возлюбленную Глеб.
— Как заорёт, как кинется, твари, орёт, твари, твари, — зарыдала Надя.
— Твари, допрыгались, попались, твари, твари! — грянул внезапно генерал Кривцов над головами влюблённых, разразился… словно грубые громы покатились по потолку.
— Серёжа, ты? Как ты здесь?.. — обернулась, съёжившись, на грозный родной ор Надя.
И что же было тут ещё сказать, — ведь и правду чудно было видеть Сергея Михайловича на воле. Наинасущнейшие дела не могли выгнать его из дома-крепости, где прятался он от прытких кетчупов вот уже который год, где хоронился от пылких чеченов. А тут вдруг здесь, в аэропорту, в десяти верстах от спасительного забора, почти без оружия, под охраной одного только лейтенанта Подколесина и двадцати только рядовых милиционеров. Чего ради перестал он бояться Аслана Андарбековича, лютого врага своего? Крепок страх, цепок, окаянный; раз ухватив гражданина за живот или шиворот, ни за что не отпустит. Будет трясти гражданина, обливать его потом, прессовать ему сердце, стопорить мозг. Будить будет среди ночи, заставляя тащиться на кухню на подкошенных ногах и, чтоб унять дрожь в челюстях, обжираться там жареными жирами и копчёными углеводами. Заразит паранойей и нелюдимостью, загонит в укрытие под замки и засовы за железные двери, запрёт, замурует.
Но милостив бох и каждому гражданину дал он средство победить страх. Ибо если бы не было на страх управы, остановилась бы эволюция. Существовали бы граждане не в образе очаровательных прямоходящих героев, как ныне, а в доисторическом виде забившейся под корягу трусливой плесени.
У всякого, даже и самого робкого из нас, отыщется, чем превзойти робость. Посидит гражданин в укрытии, посидит за железными дверями, замками и запорами, посидит да и заскучает. И обнаружит в себе вдруг если и не мужество, то какой-нибудь иной талант, от которого трудно усидеть на месте. И начнёт понемногу пренебрегать опасностью и совершать вылазки из своей норы на свет божий. Соблазнит ли человека роскошь человеческого общения, желание на людей посмотреть и себя показать; или искусит его тщеславие, что вот, мол, сижу тут, прячусь, и никто не знает, что я тут сижу, так вот пусть же знают, а то что же вот так мне зря тут в безвестности весь век и просидеть и т. д.; доведут ли его до цугундера кабаки да бабы; или вот захочется ему в зоологический музей нестерпимо (бывает и так!) или на стадион, посмотреть живьём полуфинал, — и переборют в душе гражданина вот такие-то глупые суеты, пустяки и вздоры великую силу страха. И проявит вдруг гражданин незаурядную халатность, отчаянную беспечность и выберется из укрытия. И очень даже зря!
Знал, точно знал Сергей Михайлович, какая охота ведётся по его душу. Знал и кем, знал, что Аслан Андарбекович не шутник и что у Кетчупа руки по локоть не в кетчупе далеко, а в самой натуральной крови. Знал и боялся. Но сильнее боязни оказалась поразившая его болезнь, имя которой — ревность.
С прошлого четверга, как открыл ему про жену правду лейтенант Подколесин, не было покоя генералу. Что бы ни делал он — ревность жгла, и не было от неё спасения, ни лекарства. И что, казалось бы, такого! Что жена ему или он жене! Спали и разговаривали они давно раздельно. И ели вместе не всегда и не всё. Генерал не мог почему-то видеть, как генеральша жуёт квашеную капусту, грузди, сухари и вообще всё хрустящее. Надежду же тошнило от особенных каких-то хлюпания и хрюкания, с которыми Кривцов кушал чай. И любимый свой куриный суп хлебал он с бесившими её нечестивыми причитаниями «ах, ах…нах, нахххх…уй, уууй…ой…ням, ням, нямнямня…мня…бля…бляааа…ть…ть тьть…уй…ть…» Поэтому, если доходило дело до такого супа или капусты, расходились супруги ужинать по разным столовым. Да и без того давно жили они далеко друг от друга, на разных концах дома; виделись редко и не скучали от этой редкости. Да и садовница кстати тут пришлась; чего же, спрашивается, лучше!
Ну что ему опять-таки вся эта жена! Ну мало ли кто ходит по дому, дом-то большой. Есть же, кроме жены, к примеру, домработницы две и три таджика по хозяйству — не всё ли равно, с кем все они спариваются; так чем же жена важнее таджика? Ведь с сексуальной точки зрения что жена, что таджик — никакой разницы, никакого интереса. Пусть совокупляется с кем хочет.
Наплевать и забыть бы — но нет! Куда! Жжёт ревность, покоряет странная человеческая страсть не отдать другому то, что и самому давно не нужно. Генерал приказал продолжить слежку за Надей. А уж когда она пришла просить помощи для пропавшего Велика, рассвирепел Сергей Михайлович, стукнул её по лбу кобурой, сильно стукнул (впрочем, справедливости ради надо заметить, что кобура пуста была). И продолжил следить, мечтая накрыть изменницу с поличным любовником, и вот выследил и накрыл. И не выдержал, понесло его на место события, чтобы лично… чтобы… чтобы что? Сам не знал что. Вышел из дома, где просидел безвылазно полтора года, и припёрся аж на аэродром. И зря, зря он так погорячился! Но сильна ревность и слепа, тупа.
Оставался лишь миг, последний миг до полного осознания Глебом убийственной вести об исчезновении его малыша, которая наверняка убила бы его. Но тут на лицо ему обрушился кривцовский крик «… твари!..» и крутой удар. Дублин успел разглядеть мчащийся на него деревянного цвета кулак с наколотой надписью «Т-80», тяжёлую, похожую на ухмыляющийся кулак, голову генерала и сверкнувший, как слеза, качнувшийся от поднятой кулаком ударной волны бриллиантик в надиной серёжке. Потом он услышал треск своего ломающегося лица и отключился.
Кривцов начал было колотить упавшего Дублина, за которого попыталась заступиться Надя, сразу же, впрочем, арестованная Подколесиным. Кривцов был не в себе и решался уже на убийство и чего доброго решился бы, но тут сквозь него пролетела пуля.
— Кетчупы? — вопросительно провопил Подколесин. — Засада?
Кривцов свалился рядом с Дублиным.
— Серёженька, миленький! — заголосила Надя над павшим мужем (загадочность женской натуры изрядно преувеличена поэтами и дураками, но однако же следует признать, что иногда на самом деле выходки женщин определённо поразительны).
Рядовые милиционеры разбежались по аэропорту в поисках стрелявшего.
— Или чечены? — продолжал оглушительно размышлять вслух лейтенант.
Он присел на корточки возле начальника. Начальник, обнятый Надей, корчился, хрипел и задирал конечности, как раненый конь из фильма про Красную Армию.
— … А первая пуля, братцы, ранила коня, — вспомнилось Подколесину, и он завертел головой в ожидании второй пули. Но не летела никак ниоткуда вторая пуля, и стало страшно, и он закричал опять. — Или всё-таки Кетчуп? Засада? Или Аслан? А?
Со всего аэропорта сбежались пассажиры и мелкие служащие разных аэропортовых служб. Обступили любопытствуя, заморгали фотокамерами, захлопали глазками, уставились мобильниками на впечатляющую картину: Надежда, поочерёдно оплакивающая то мужа, то любовника, распростёртых, словно герои античности на поле брани, и лейтенант, спрашивающий у неизвестности: «Аслан? Кетчуп? Кто стрелял? Кто послал стрелка? Аслан? Кетчуп?» Ожидал ли он, что вдруг откуда-нибудь из багажного отделения выйдет сам Аслан Андарбекович собственной персоной и скажет: «Ну я, я… чего разорался-то?» Или просто слегка ненадолго помешался лейтенант от нахлынувших переживаний?
Как бы то ни было, колоритное это зрелище минут сорок будоражило интернет. Твиттереры, вконтакты, фейсбукинисты, жж-жители и другие сетевые толпы и сброды бурно рассмотрели и обсудили происшествие. Прославили потерпевших, пожалели их и посмеялись над ними, а потом заскучали и моментально забыли. И ринулись дальше в поисках новых приколов.
§ 22
«Эх, майор, майор! Что ж ты такой уебищный!» — корил себя майор Человечников, поправляя перед зеркалом выражение лица. Выражение было глуповатым, хоть щурься, как Коломбо, хоть улыбайся застенчиво, как Володя Шарапов, хоть шевели мозгами, как патер Браун. Майор страдал. Он понимал, что не может рассчитывать на взаимность.
Как-то он гулял с младшей дочерью, лет шесть назад, и вслед им прохожая старушка прошипела: «Совсем совести нет. Такую громадную псину ребёнок выгуливает, да ещё без поводка, без намордника! А если этот зверь нападёт на кого? Девчонка-то не удержит! Что тогда? Вон по радио передавали — одной пенсионерке откусили…» Что там такое откусили пенсионерке, Евгений Михайлович не расслышал, но про то, что иногда при определённом освещении бывал похож на коренастого кобеля, знал и сам. Справедливо было и то, что и при всяком другом освещении, и даже в темноте он тоже не очень-то хорошел.
Но неказистостью своей детектив никогда не тяготился — уже говорилось, что город наш населён был далеко не богинями и героями, а так, жмыхом и соломою рода человеческого.
Только ведь и с соломою может разное случиться. И случилось!
Неизвестно, все ли мы умрём когда-нибудь, но что когда-нибудь каждому из нас встретится, если уже не встретилась, главная женщина — это точно.
О главной женщине многое сказано, но многое из сказанного туманно, неверно. Говорили, что она красавица, но многие свидетельствуют об обратном и даже утверждают, что самая совершенная красота лишь отсвет её могучей власти. Она не всегда умна, часто и не умна вовсе; ну так что же с того: что за радость желать и ласкать доктора наук или топ-менеджера. Одних главная женщина настигает в нежном возрасте и не отпускает уже никогда, выращивая из ослеплённых и оглушённых первой любовью мальчиков поэтов и рыцарей. Других подстерегает в середине жизни, уводя от устоявшихся было привычек, от семьи, от любимых детей — в бездну, разверзшуюся по соседству, в которой плоть, воздух, вода и свет новы на вкус. Третьих забирает уже слабыми, перед самой старостью, кружит их напоследок по небу над прожитыми вещами, днями, деньгами и чувствами, показывая, какими они могли быть, но не были и никогда не будут.
Главная женщина не знает, что она главная, но каждый, кто встретил её, знает, что она главная. Потому что она выглядит, пахнет и любит лучше всех других женщин. Она главная, потому что другие женщины неглавные. И всё остальное тоже неглавное.
Радикальные романтики гласят, что главная женщина всего на всех одна и при том никому не доступна, что она идеал, а каждому из нас в реальности является лишь её охлаждённая реплика. Народ попроще и поциничнее полагает, что главных женщин полно, у каждого своя отдельная, а у кого и по две, три; бывает, что и одна на троих.
В любом случае, главная женщина ошеломляет, и любовь к ней возвышается в любой судьбе над всем, что в ней было, есть и будет.
Пришло время и Евгению Михайловичу Человечникову по прозвищу Человек встретить главную женщину. Его случай оказался очень тяжёлым. Ибо женщина эта оказалась умна, красива, богата. Причём не по константинопыльскому счёту, а прямо по гамбургскому. Не уступала, так сказать, зарубежным аналогам, сияла на уровне цивилизованных стран и развитых демократий. В разных местах находятся главные женщины. Эта сидела в автомобиле. «Deus aux mahina», — подумал бы Человек, будь он поначитаннее. Но он не был поначитаннее и ничего не подумал. Просто налетел на неё, как тупой Титаник, получил пробоину мозга и пошёл на хуй ко дну.
В то утро майор Мейер объяснил майору Человечникову, что привёз из Москвы лучшего следователя и что следователю этому нужна его, Человечникова, помощь.
— Ну так проходите, — радушно распахнул двери офиса Евгений Михайлович.
Тунгус прошёл, потоптался, пооглядывался.
Спросил:
— Чем здесь пахнет?
— Пахнет? — спросил Человек.
— Ну да. Воняет. Рыбой что ли? Рыбу жарили здесь? Или ботинки сушили?
— Ботинки? — спросил частный детектив.
— На батарее. Старые ботинки, — уточнил тунгус. — А там что на подоконнике?
— Гортензии, туберозы, — отвечал детектив.
— Пыль что ли? — спросил Мейер. — Не, она здесь разговаривать не будет.
— Она?
— Марго. Следователь. Маргарита Викторовна. Пошли в машину, там пообщаетесь.
Человечников шёл к автомобилю по крякающему снегу через унылый уличный воздух; он ещё не видел её, но вдруг великий страх стиснул его и стеснил, он стал замедлять шаги, стал даже подкрадываться, как будто машина была заминирована.
— Что замерли, Евгений Михайлович? — нетерпеливо позвал тунгус, приглашая садиться на левое заднее сиденье.
Евгений Михайлович смутился, хотел было вернуться в офис, обуть вместо тапочек туфли, но не вернулся. «Поздно», — стукнуло в голове почему-то. Застегнул куртку, про которую подумал: «Наверное, тоже пахнет жареной рыбой; или ботинками; блять, и пуговицы нижней нет; блять, и верхней». Отщипнул немного снега от придорожного сугроба, пожевал, чтоб отбить вкус сигареты; сел в машину. Заметил, что вкус сигареты не отбился, а стал ещё гаже. Посмотрел направо.
Так он и думал, так он и думал, так всё и было! Ярче тысячи лун сверкало в темноте её лицо, ярче тысячи солнц.
Он смотрел на неё и не мог толком рассмотреть: виднелась только её красота, черты же её в этой красоте растворялись.
Но кое-что он как опытный сыщик уяснил: «Рост около ста восьмидесяти, а у меня сто шестьдесят восемь… пальто чёрное, дорогое, воротник из меха дорогого какого-то… а у меня куртка без пуговиц, ботинками пахнет, а у неё духи какие-то такие… а шея у ней какая, а подбородок, а зубы вот какие… а у меня… пломба мне нужна, пломбы, много пломб… а шея у меня, ну разве это шея! — у меня… эх, майор, майор…»
— Маргарита, — представилась она.
[С Моисеем бох говорил раскатами грома. Если он хоть раз говорил со мной, то точно голосом женщины.]
— Можно просто Марго, — она протянула ему холодную узкую ладонь, вынув её из перчатки, как кинжал из ножен.
Он тоже протянул руку, но не посмел даже коснуться её пальцев. И всё же ему показалось, что он поранился: «двадцать семь лет? Может быть, двадцать пять, а мне…»
— Следственный комитет. Прокуратуры. Специальное управление. Отдел номер ноль. Сложные случаи. Засекреченные операции. И всё такое. Уже знакомый вам майор Мейер мой помощник. Можете не представляться. Я знаю, кто вы такой. А вы знаете, кто вы такой? — свет её голоса достигал его не сразу. Он доходил до него с безмерной высоты её недосягаемости, по пути остывал, замедлялся, обожествлялся.
— Кто такой, — повторил он за ней.
— Вы — последний в этом городе честный милиционер. Вот так. Единственный, да и тот в отставке. Что скажете?
— Нууу… это… — сказал майор.
— Я тоже честная. Только не милиционер. И не из этого города. Вы нам поможете?
— Поможет, — не дождавшись ответа окончательно впавшего в ступор Человека, отозвался за него с водительского места тунгус.
— Окей, — сказала Марго. — Вы были хорошим оперативником, уважаемым командиром. У вас есть дети. Вам нужны деньги. А нам нужны вы. Мы охотимся на одного ублюдка. Он называет себя Драконом. Вернее, мы называем его Драконом. Он похищает людей. По одному человеку каждые три месяца. Зимой, весной, летом, осенью. Уже восемь лет. Никто из похищенных не найден ни живым, ни мёртвым. Ни один.
Через какое-то время после исчезновения очередной жертвы на её доме появляется надпись. Или на тротуаре возле дома, на столбе. Иногда на отделении милиции, куда родственники обратились с заявлением о пропаже. Два иероглифа. Мелом или краской. Означающие «след дракона». По-китайски. Шутит он так. А может, хочет, чтоб мы его поймали. С такими и так ведь бывает.
Ничего вроде бы особенного. Но есть одно но. Все похищенные — дети. Мальчики десяти лет. Что он с ними делает? Или сделал? Подумать страшно! Каждые три месяца. Вот и посчитайте.
— Тридцать два, — наконец, заговорил, посчитал майор. — Слышал. Про него писали. И по телевизору было. Он в Москве орудовал.
— И в Подмосковье.
— А у нас что ищете?
— Его ищем. Он теперь здесь.
— Не слыхал.
— И никто не слыхал, кроме нас. Дети на окраине и в окрестностях вашего города уже два года, как исчезают. Один в три месяца. Зимой, весной, летом. Осенью. Иероглифы. Только милиция местная вначале вообще от дел этих отмахнулась. Ну пропали два мальчишки из бедных семей. Ну — пропали, ну и что! Есть ведь дела поважнее. С кетчупами дружить, потом с ними же воевать; торговые центры строить, дороги. В Жкх вот управляющие компании появились, надо ведь и ими кому-то управлять. До оперативно ли розыскной деятельности тут, до допросов ли, экспертиз, протоколов!
А когда поняли, что тема серьёзная, что сам Дракон в ваших краях объявился, побоялись показать, как первые случаи прозевали и элементарного не сделали, улик не собрали, свидетелей не искали, ничего не сделали, что должны были, — тут испугались. Стали дела эти замалчивать, вести врозь, хотя их, конечно, в одно надо объединять, в одно с московским делом. Думают, потянем пока, а там, глядишь, переберётся Дракон в другие места… и что противно, все силовики ведь под ними здесь — и мои коллеги, и Фсб, и суды, все под этими оборотнями. Не пробиться с правдой сквозь них.
— Зря вы так про нашу милицию, — перебил вдруг Евгений Михайлович. — Там и хорошие ребята есть. Чечню прошли, много дел раскрыли, многих спасли… Пашут…
— Ну да, мотыжат, понимаю. Но начальник над ними Кривцов…
— Так снимите Кривцова!
— Я из другого ведомства…
— Так посадите.
— Не имею поручения. А имею поручение поймать Дракона. И поскольку сотрудничество с хорошими милиционерами генерала Кривцова невозможно в силу отрицания ими версии о серийном убийце, мы хотим сотрудничать с вами.
— Чем я могу?..
— Вы знаете город. Вы хороший специалист. Вы поможете мне проводить независимое расследование как частный сыщик. Вы знаете почти всех местных милицейских начальников, потому что они были когда-то вашими подчинёнными. Вы поможете узнать то, что известно им на самом деле. Может быть, кто-то из них, из тех, что почестнее, тоже поможет нам. Неформально. Моё руководство пробовало работать с ними официально. Результат — полный саботаж, поэтому меня прислали сюда. Инкогнито. Никто из здешних чиновников не знает о нашей миссии. Мы с Мейером прибыли приватным образом. Как туристы. Сколько стоят ваши услуги?
— Рынка нет. Ничего не стоят. Не было прецедента. Пиво ещё как-то идёт, а сыск не котируется.
— Тысяча рублей в день, — предложил тунгус.
— Окей.
— Окей.
— Окей.
Все трое сказали окей. И Человек, хотя ему хотелось сказать, что для прекрасной Марго он готов сразиться с Драконом совершенно бесплатно.
— Вот мой телефон, — тунгус дал майору крохотную картонку с цифрами. — Постарайтесь что-то узнать в ближайшие дни у ваших бывших сослуживцев.
— Только аккуратно. Не спугните, — подсказала Марго. — И про нас ни слова.
— Вот задаток. Пять тысяч, — улыбнулся Мейер.
— Наступило время зимней жертвы. Дракон будет действовать. Когда и если в городе пропадёт ребёнок, немедленно сообщите нам. Важно перехватить расследование у ментов или хотя бы встрять в него с самого начала, чтоб они не успели его завалить и загадить так, что потом не разберёшься, — приказала Марго.
— Если вы понадобитесь, мы вас найдём. Будьте на связи круглосуточно, — добавил Мейер.
— Когда пропадёт мальчик, если действовать быстро, у нас будет шанс спасти его. До нас не был спасён ни один. Хотя в Москве следствие вели лучшие оперативники. Мы должны сделать то, что не получилось у них. Мы сможем. Мы лучше лучших! Скажи, тунгус, — произнесла Маргарита Викторовна.
— Лучше лучших! — воскликнул тунгус.
— Евгений Михайлович, я уже сказала, что меня нужно звать Марго. А можно ли вас как-то покороче? Женя слишком легкомысленно. Может быть, Че? Коротко, но в то же время солидно. По-боевому и романтично.
— Да, почему нет.
— Тогда пока, Че, — сказала Марго.
— Пока, Че, — сказал тунгус.
— Пока, — сказал Че.
— Ну, — выждав паузу, произнёс тунгус, обращаясь к Че.
— Что? — спросил тот.
— Пока. Мы сказали пока.
— А! — хлопнул себя по лбу майор, забывший выйти из машины. — Пока, — и вышел; не хотелось ему выходить.
Снаружи, где начинало было кое-как светать, опять почернело от наползших с болота мраков и туч. Машина уехала. Майор смотрел вслед и видел восход. Над его плоской судьбой, над его пониженной жизнью — восход сверкающей женщины, лучами которой впору было бы освещать игры богов, ристания ангелов и золотые россыпи, и самый Эдем. А освещаются: он в куртке без пуговиц, его грошовая детективная лавочка, его нелепый город, построенный угрюмыми людьми от нежелания жить.
Кто любил, тот знает, что любовь действует, как эфедрин: подкрашивает реальность праздничными тонами. Бревенчатый офис майора стал от любви довольно мраморным, а серая его куртка — ослепительно серой. Стало веселее и в то же время много страшнее на душе. Всё выше восходила Марго, всё яснее становилось вокруг, и всё яснее становилось майору, что не достичь ему, не дотянуться. Вот почему корил он теперь себя перед зеркалом.
§ 23
За несколько дней, минувших с того восхода, тунгус позвонил лишь раз. Поинтересовался, нет ли полезной информации. Не было, не было информации. А так хотелось поразить Марго своим профессионализмом, смекалкой. Увы, поговоривший по старой дружбе с Подколесиным, фон Павелеццом и ещё двумя офицерами, ничего не добился от них Че. То ли был уж слишком осторожен, начинал уж слишком издалека. То ли совсем погрязли менты в круговой поруке, то ли и вправду не знали ничего важного. Не было информации, не было повода для встречи с Маргаритой Викторовной. «Эх, майор, майор…»
Отошёл от зеркала, сел за стол, стал от нечего делать ковырять карандашом тетрадку, купленную когда-то для ведения бухгалтерии.
В дверь офиса постучали так тихо, что майор не услышал и не сказал «войдите».
Вошёл мужчина с немного разбитым лицом.
— Мне нужен майор Человечников.
— Это я.
— У меня нет денег.
— У меня тоже. Было пять тысяч, жене отдал.
— Я Глеб. Дублин Глеб, — мужчина говорил с трудом, — Глебович. У меня такой вопрос, с которым надо бы в милицию, но в милицию мне нельзя.
— Слушаю.
— Отец Абрам посоветовал к вам обратиться. Вчера я был у него, совета просил. Он выпивал, с чертями своими выпивал. Агапидъ сказал, что вы опытный и добрый.
— Агапидъ?
— Это чорт такой. Самый умный из отцовых чертей. Никогда плохого не посоветует. Вот и отец Абрам говорит: слушай его, иди, мол, к майору, он может и без денег. Привык, говорит, майор без денег жить, так теперь они ему вроде и не нужны.
— Ну это преувеличение, — возразил было майор.
— У меня денег-то нет, а горе, горе такое, прямо беда, — как бы не в себе бормотал Глеб Глебович. — И в милицию нельзя. Только к вам…
— Спасите! — словно подменили вдруг Дублина, голос его перешёл в другой регистр, стал резок, дёрнулся, срезался.
— Присаживайтесь, — Че проковырял в тетрадке большую дыру, сломал карандаш.
Посетитель присел, достал из кармана и поставил на стол лёгкие детские кедики.
— Это что? — майор взял новый карандаш.
— Когда Велику годика три было, мы ещё в Москве с ним жили, я возил его на море. В Биарицц. Почему в Биарицц, не знаю. Название где-то вычитал, понравилось. А зря ведь, глупо ведь, — Глеб внезапно рассмеялся прямо-таки весело, — там купаться толком нельзя, особенно с маленьким ребёнком, волны очень большие и течения сильные; зазеваешься, утащат в океан на всю жизнь. Зато красиво. И прибой шумит.
Вот я Велика посажу бывало на песке шагах в двадцати от прибоя. Он играет, а я им любуюсь. И волнами. Так и стоит пред глазами картина — Велик, волны. Огромные волны; с самой середины Атлантики катится такая волна и достигает берега и встаёт на дыбы в двадцати шагах от Велика. Он сидит играет, крошечный, а волна на него идёт трёхметровая, идёт, идёт. И вдруг раз! — обрушивается с грохотом и шипением. И отступает, уходит ни с чем. Возвращается в океан без добычи. Только брызги долетают до моего сыночка, и он смеётся, и я с ним засмеюсь, бывало.
А тут в Метценгерштейне на днях я в тюрьме сидел, — на этих словах майор встрепенулся. — Сон мне там приснился. Сидит Велик на берегу. Я к нему иду, несу воду, купил в пляжном баре, отлучился на минуту, но из виду не терял, никогда не терял, поверьте, я хороший отец и сыночка своего никогда одного не оставлял.
Но тут снится мне, что иду я к нему, а с океана волны к нему идут. Одна за одной. Вырастают и рушатся, и уходят, и брызгаются, а Велик смеётся от их брызг. Вдруг вижу — что-то будто не то. Вот ещё волна, обычная вроде бы, но тревожно мне почему-то становится. Иду быстрее. И волна быстрее. Я бегом. Волна нарастает. Я начинаю вязнуть в песке. Волна нарастает в полнеба. Я кричу Велику «беги». Он не слышит, играет, смеётся. Волна заслоняет солнце; темно сразу и холодно становится. Волна проходит линию, на которой рушились другие волны, пенится, гудит, не останавливается. Я падаю, тянусь к Велику. И волна рвётся прямо к нему. Нависает над ним; я поднимаюсь, бегу к сыну. Не успеваю. Волна быстрее. Не успеваю… Волна быстрее… Накрывает его, хватает, уносит. Я бегу за ней, но не угнаться. Зову на помощь, а вокруг вдруг ни души, куда-то пропали все купальщики, сёрферы, спасатели. Нет никого. Пустой пляж, и кедики моего малыша на песке. Вот они. Нашёл я их в старых его вещах. Семь лет, оказывается, хранились и вот — приснились и нашлись… Думал, ничего, я же учёный, в снах никакой загадки нет. А тут сбылось вдруг.
— Пропал мой Велик, — опять не своим каким-то новым, третьим уже голосом вскрикнул Глеб. — Вот, приложите к ушам.
— Зачем?
— Приложите, пожалуйста, — настаивал Глеб, протягивая майору кедики. — Другой стороной, не подошвами, да, так, правильно. Что слышите?
— Да ничего.
— Прислушайтесь, умоляю вас. Вот я выключу, — Глеб выключил телевизор, который, впрочем, работал без звука.
— Шум какой-то. Как в морских ракушках, из которых, как говорят, шум моря слышен.
— Верно, — почти обрадовался Дублин. — Я вчера плакал над этими кедиками, целовал их и случайно к ушам прижал. И услышал шум прибоя в Биарицце. Он там в этих кедиках бегал. Вот я слушаю их и плачу, слушаю и плачу. Я был, поверьте, хорошим отцом. Если и оставлял его одного, то только в машине. Всегда заботился о нём. И даже хотел бросить пить. А тут вдруг… Дело важное было… Уехал от него… Помогите! Спасите моего малыша! Я потом заплачу…
— Возьмите, — майор вернул кедики Глебу. — Вашему сыну десять лет?
— Да! Откуда вы знаете? Вы уже всё знаете? Вы знаете, где он?!
— Не знаю. Но я вам помогу. Не бесплатно. В долг. Потом отдадите. Давно пропал мальчик?
— Скорее всего, три дня назад. Может быть, четыре… два…
— Рассказывайте, — Че сломал карандаш. — Четыре дня!.. Рассказывайте! Срочно и как можно быстрее! Секунду! Ало! Товарищ майор! Это Че говорит. Скажите Марго, случилось то, что она предполагала. Что? Нет, милиция как раз ничего не знает. Да. Здесь отец ребёнка. Жду. Ждём.
— Это вы с кем? — спросил Глеб Глебович, показывая на майоров телефон.
— С хорошим человеком. Слушаю вас, Глеб Глебович. Расскажите, как всё было. Только не во сне, а наяву.
— Я сон вам рассказал, чтобы про кедики попонятнее было. А кедики принёс, чтоб пожалели вы моего мальчика. И меня. Чтоб без денег согласились…
— Я согласился. Теперь к делу.
§ 24
В тот же час того же дня в своём домовом подземном госпитале приходил в себя раненый генерал Кривцов. Расхаживал по операционной, расхаживался и расходился, разошёлся, наконец, до высшей степени бодрости, до злобного кашля и лицевых судорог. Подколесин ходил за начальством, носил за ним подставку с двумя капельницами и терпеливо воспринимал критику в свой адрес.
— Хуесос ты, Подколесин, — критиковал его генерал. — Отчего же у тебя такая дубовая голова? Сутки! Сутки прошли, мудоёбина ты чуркестанская! Чуть не убили меня, а ты до сих пор не можешь узнать кто! Кто стрелял? Отвечай!
— Не могу знать, товарищ генерал!
— Отвечай, опездол!
— Чеченцы.
— Откуда вывод такой?
— Злые они.
— Ты что, совсем ёбу дался? У тебя папа идиот был? Ты в папу уродился?
— Не могу знать, товарищ генерал.
— Какие ещё доказательства?
— Никаких, товарищ генерал.
— Чем тогда Слухоухов занимался? Ты ему сказал, чтоб он следствие вёл?
— Так точно, товарищ генерал.
— Так он вёл?
— Ведёт.
— И что говорит?
— Кетчупы, говорит. Скорее всего. Но точно не знает. Пока.
— О, долбоёбы! Ну вот, он на Кетчупа думает. А ты на Аслана почему показываешь?
— Имею собственное мнение, товарищ генерал.
— Ну, головы у тебя нет, это понятно. А жопа-то хоть есть?
— Так точно.
— Ну вот возьми же своё собственное мнение и засунь его в свою собственную жопу!
— Есть, товарищ генерал. Будет сделано.
— Засунул.
— Так точно.
— Хоть это у тебя получилось. А этот зам у Слухоухова… Как его? Холмогоров? Из новеньких.
— Хохломохов, товарищ генерал.
— Его подключили? Он толковый, кажется.
— Подключили. Говорит, что не Кетчуп и не Аслан… может быть… а кто-то третий. Потому что, говорит, уж очень на виду у всех война с Асланом и Кетчупом, не стали бы они так топорно…
— Какой на хуй третий?
— Он пытается логически вычислить. Одна из версий — Дублин, из ревности.
— Охуели! Какой Дублин, он же там стоял, я ж ему в рожу дал перед тем, как подранили меня!
— Хохломохов говорит: мог нанять кого-нибудь. Видимо, не профессионала, потому что, говорит, убить не смог. Хотя, говорит, и Кетчуп мог заказать. И Аслан. У них тоже промахи бывают. Но и Дублин, говорит, мог. И муж садовницы…
— Молчать! Скажи этому… Скажи… Слухоухову. И этому… новенькому… Охломонову…
— Хохломохову…
— Ну да, блять… Мохохло… Тьфу, блять, нарочно что ль кадровики охуярков подбирают с такими фамилиями, хер выговоришь! Сухохуев, Лохмолохов! А толку что! Ничего решить не могут. У одного ларьки, у другого маршрутки, у третьего банки… В милиции ментов нет, одни бизнесмены. Некому дело поручить… Кстати, о поручениях. Надька сказала, свинёныш дублинский пропал. Что ж, за это хвалю, — генерал смягчился. — Быстро сработал, Подколесин, очень быстро. Молодец…
— Я сразу прапорщику Пантелееву поручил, — просиял лейтенант. — Сам не ожидал, что он мгновенно исполнит.
— А как он с ним разобрался?
— Не успел спросить, товарищ генерал.
— А ты спроси. Он мужик исполнительный, но глубоко придурковатый. Надо вникнуть. А то сделает, как с Бахтияром.
— А как он сделал с Бахтияром?
— Да закопал его в сквере Победы. Хотя знал, мудило, что сквер отдали под застройку сыну мэра. Сам же оформлять землю помогал, горсовет кошмарил. И тут же, когда Бахтияра успокоил, ночью его в этом же сквере и зарыл. Да и зарыл-то неглубоко, небрежно. А через неделю, само собой, стройка началась. Туда экскаваторы подошли. Зачерпнули, подняли, а из ковша Бахтияр свешивается. Еле замяли тогда. Так что ты вникни, как он сделал, куда дел, чтоб не напортачили, как в тот раз.
— Так это он Бахтияра… А я и не знал, товарищ генерал. Думал, кетчупы его прибрали…
— И дальше так думай. А что там, Надька говорила, какой-то брат с этим сынком дублинским вместе пропал? Его тоже Пантелеев оприходовал?
— Брата я не поручал. Уточню. Доложу.
— Уточни, уточни. Брата я тоже не поручал. Если жив, найдите, на него всё и свалим. Если не жив, тем более. А кто папашей его, алкашом этим займётся, Глебом этим?
— Хотел тоже Пантелееву поручить, но позже, чтоб без сына напоследок папаша помучился. Как вы и ставили задачу. Но вот вчера вы же сами с ним разобраться захотели…
— Погорячился я. Выпил лишнего, сглупил… Пантелееву не надо. Поищи другого исполнителя. В таких вопросах нужно разнообразие. Базовый принцип конспирации. Распределение рисков, понимаешь?
— Никак нет.
Генерал Кривцов, путаясь в трубках капельниц, обернулся, посмотрел на лейтенанта Подколесина с величайшим сожалением и прошептал:
— А ведь ты у меня лучший! Остальные-то ещё хлеще! И на чём только держава держится?
— Не могу знать, товарищ генерал!
— Вот и я не могу знать…
В операционную вошёл увешанный оружьем пожилой слуга. Он ступал осторожно, неся на вытянутых руках глубокую тарелку, из которой валил пар и торчали в разные стороны рукодельная жёлтая лапша, серебряная ложка и варёная куриная ляжка.
— Вот, Сергей Михайлович, — сказал слуга. — Надежда Петровна супчик куриный сварила, велела вам передать, чтобы поправлялись поскорей. Куда поставить? Где кушать будете?
Старику очень хотелось куда-нибудь уже поставить этот супчик, тарелка была больно горячая, а нёс он её из далека, из кухни, давно нёс.
— Чего? Супчик сварила? Ишь, подлизывается! Всё равно денег не получит. Пусть ей математик этот деньги даёт, — ответил Сергей Михайлович. — Так ей и передай! Супчик! Пусть она этот супчик Дублину своему в жопу засунет! Так и передай!
— Слушаюсь, — морщась от боли, пошёл передавать слуга.
— Стой, куда? А суп-то куда потащил?! Вон туда, на тот столик поставь. А теперь иди. И передай ей всё, что я сказал. А что я сказал? Запомнил? Повтори! — потребовал генерал.
— Вы, Надежда Петровна, подлизываетесь. Денег вы, Надежда Петровна, всё равно не получите. Пусть вам, Надежда Петровна, математик этот деньги даёт, — повторил слуга. — Засуньте этот супчик, Надежда Петровна, Дублину своему в жопу.
— Молодец, ступай, — махнул руками генерал; трубки капельниц застучали как ветки от ветра. — И ещё, — генерал оглядел голые глухие стены подземного убежища. — Мне тут ещё долго отсиживаться. Пусть пару окон мне тут нарисуют. В одном окне пусть озеро изобразят и восходящее солнце. А в другом… Париж… Ну, или Лондон, чего-нибудь такое.
— Слушаюсь, — удалился слуга.
— А в озере бабы голые чтоб купались. У меня там журнал лежит на столе в кабинете «Русский пионер», пусть оттуда срисуют, там хорошие есть, — закончил, наконец, инструктаж Сергей Михайлович.
— Слушаюсь, — уже из некоторого отдаления донеслось напоследок.
Генерал принялся есть лапшу, говоря:
— Хорошо готовит. Сука. А ты чего, Подколесин? Иди тоже, чего тебе тут? Работай!
— Ещё две новости.
— Хорошая и плохая?
— Так точно.
— Плохая…
— Генерал Вархола из Москвы весточку передал.
— Ну?
— Послали к нам из Скп бабу одну вредную. По секрету. Расследовать те дела. Ну, которые детские. Типа тайно расследовать. Негласно. Независимо.
— Это какие такие детские дела?
— Да вот пацанов-то похищал кто-то.
— Это те дела, которые с иероглифами что ль?
— Да. С китайскими.
— Понятно, с китайскими. С какими же ещё. Я уж и забыл про херню эту. И чего? Зачем расследовать?
— Вархола говорит, не верят нам. Считают, плохо мы расследовали. А больше он не знает ничего. Иероглифы ещё японские бывают.
— Не умничай. А что за баба?
— Острогорская. По спецзаданиям работает. Лихая, говорит, бедовая. В интернете пишет. Под кличкой Марго Мегрэ.
— И что? Здесь она уже? Где?
— Должна быть здесь. Ищем.
— Найдите. А там посмотрим. А хорошая новость?
Подколесин сладко улыбнулся:
— Пока вы без сознания были, товарищ генерал, нас в полицию переименовали.
— И что? Что ж в этом хорошего? Чего лыбишься? Я думал, так, шутка, побалагурят, да и забудут. Не забыли! И что? Я теперь генерал полиции что ли?
— Так точно! — радостно гаркнул Подколесин.
— Хуйня какая-то, — раздумчиво произнёс генерал. — Хорошего-то в этом что? Понять не могу!
— Форму, товарищ генерал полиции, форму новую, слышал, обещают выдать, — лыбился лейтенант. — Чёрную на красной подкладке, с золотыми аксельбантами, и тут вот, по обшлагам — орлы, орлы, золотые орлы…
— Что они там, охренели? Это денег-то сколько надо! Лучше бы квартиры дали личному составу. А то — аксельбанты! Я что, вот этого-то вот старшину, к примеру, Бырыкина, этого битюга в мятой фураге, вот его-то — наряжу как пидора из балета? И пошлю в обшлагах и аксельбантах топтаться на рынок у вьетнамской точки? Где контрафактным мылом торгуют? И анашой? Его ж косоглазые засмеют, уважать перестанут! Его ж Верка домой не пустит, клоуна такого…
— А по-моему, красиво, товарищ генерал.
— Ладно. Всё. Иди.
— Приятного аппетита, товарищ генерал.
— Ах, ах… нах, наххх… уй…
§ 25
Фотографий и воспоминаний нашлось очень мало. И если немногочисленность и невыразительность первых была понятна (никто в их семье не был любителем снимать и сниматься), то скудость последних обескуражила, стала шокирующей неожиданностью.
Карточек было четыре. Недавняя, сделанная Надей: школьный спектакль; в глубине сцены Велик, Машинка и Васенька Смеян из великова класса — все трое в масках поросят; на переднем плане некий немаленький мальчик в колготах, изображающий волка. Последняя: неловко исполненный самим Великом на айпаде автопортрет, весь в темнотах и искажениях, как отражение в старом кривом зеркале. Самая ранняя: молодой отец с младенцем на руках, ещё в Москве; фотографировал уж и не вспомнить кто; почти полностью засвеченная; сын получился в виде ослепительной белой вспышки, залившей пол-Глеба; таких лучезарных детей иногда держат на коленях мадонны ренессансных времён. И, наконец, ещё одна, иностранной работы: в том самом Биарицце на знаменитом Пляже Безумных какой-то отдыхающий кадыкастый немец неустанно фотографировал своих розовую дородную дочь и пережжённую на жаре жену циклопическим Кодаком; в один из тысяч кадров попался случайно и Велик; был запечатлён слева от ликующе лижущих мороженое немок, чуть ли не спиной, не в фокусе, но всё же узнаваемый, если присмотреться потщательнее; хороший был немец — обнаружив на проявленных фото примелькавшегося мальчишку с пляжа, не поленился, нашёл его и Глеба и подарил этот самодельный сувенир. И это было всё!!
По бедственной бедности фотоархива Дублину-ст. оставалось только крепко надеяться на свою память, представляя её как бесконечный лабиринт, где за каждым поворотом хранятся всевозможные священные видения Велика. Он предвкушал погружения в долгие яркие воспоминания о сыне, в которых чаял укрыться от смертельной реальности. Вышло, однако, не так.
Математик пользовался памятью почти исключительно по научным надобностям. Он никогда не искал в ней образы сына — его любовь к нему была самой настоящей и потому не искала опоры в прошлом и не боялась будущего. Никогда не вспоминал он ни того, что было с этой любовью, ни того, что ей предстояло. Так что память свою знал он лишь со служебной, так сказать, стороны.
В личном же его горе она оказалась совершенно бесполезной: запутанная, тесная местность, где посреди чисел, бесконечностей, формул и геометрических фигур, чисел, фигур, формул и бесконечностей, и бесконечностей, бесконечностей — несколько старых, ни разу не реставрированных миражей о Велике, с которых от самого даже тихого взгляда осыпались краски и созвучия.
Припоминалась первая встреча с сыном. Посыльный в полосатой фуфайке с бородатым бородавчатым лицом цвета бордо на пороге ещё московской квартиры вручивший ему уведомление о заочном разводе и кулёк с Великом. «Это что?» — вопросил Дублин, принимая посылку. «Сын ваш, три месяца, здоров, вес в норме, тут и документы все, в пелёнках найдёте, — отвечал посыльный. — Варвара, жена ваша бывшая просила передать, что не на что ей его содержать, а вы, просила передать, миллионер; вот и растите себе на здоровье». «Ах, да, она что-то такое говорила, что будет ребёнок у нас, я думал, шутит, она ведь шутила всё время… Какой маленький…» «Там и инструкция есть, чем кормить, и бутылочка с кормом на первый раз. Распишитесь в получении. Вот ручка. Здесь. Нет, нет, здесь. И здесь. И ещё здесь», — бордовый бородач ушёл. Младенец мощно запищал. Жалость и страх оцепили отца. Неумолимый инстинкт, повелевающий растить тех, кто пришёл занять наше место, пригнул его к ребёнку, склонил перед сыном, подчинил ему. Хоть и не крещёный, Дублин всё же был довольно русским человеком, то есть принадлежал к народу, бох у которого — неразумное дитя, прижавшееся к богоматери. У которого вместо веры — жалость и страх.
И вот — Глеб держал в ладонях чуть тёплое свежее солнышко, прислушиваясь, словно к иностранной речи, к воинственному его писку и стрекотанью крошечного стремительного сердечка. Видевший после собственного детства детей только по телевизору, никогда про них не думавший, никогда их не замышлявший; не имевший никакого, ни отдалённого представления об отцовстве (отцовство его отца было не совсем в счёт — проверка ученических тетрадок, просмотр футбола и программы «Время», внезапные порывы шквального кашля, вопрос к сыну за ужином (в воскресенье — за завтраком) «что нового» и одобрительный кивок на глебово «ничего»… etc, etc, etc… всё это с тем же успехом мог бы проделывать и не отец, а любой забредший на кухню дядя, дед, деверь, хоть бы кто); не собиравшийся быть чьим бы то ни было отцом, — он вдруг почувствовал гигантскую ответственность. Ему так стало жалко этого нового своего писклявого знакомого, так страшно стало уронить беззащитного человечка, проворонить час его кормления, проспать ночную какую-нибудь беду или обязанность — что он только диву дался. «Закон природы что ли», — предположил он.
Чтобы сберечь сына, нежданный хрупкий дар, следовало как-то сосредоточиться. Дублин сразу понял, что надо избавиться от привычки перемещать обыденные вещи в гиперпространства, добавлять измерений и искривлений в окружающую среду. Что надо отогнать от себя фрактальных призраков, застилавших глаза и разум.
Чтобы смотреть за ребёнком, требовалось перестать видеть множество Мандельброта и неполные октаэдры Лобачевского-Нешвица.
К тому времени он опытным путём уже определил (спасибо Дылдину, слава ему), что призраки рассеиваются от небольших (и больших, впрочем, тоже) доз алкоголя. Он ещё не знал, что спивается; с появлением ребёнка стал выпивать чаще — чтобы сосредоточиться. Понимал при этом, что способ этот не то что негодный, но — недостаточный. И зашёл на проблему ещё и с научной стороны.
Давно брезжила у него посреди мозга одна дерзкая идея, до выделки которой всё не доходили мысли. Теперь дошли. Идея была в радикальном упрощении математического языка и через это — предельном прояснении математического, а с ним и философского, и мистического, и всякого иного знания. В свёртывании всех бесконечностей в один окончательный смысл. В отжиме из академического гипертекста заветного числа, или знака, или простейшей формулы — объясняющих всё. И при том, что было бы особенно необычно, — понятных всем. Что-то вроде «еравноэмцеквадрат», только про людей. При одном лишь взгляде на которое любой человек, даже родившийся по замыслу бога из каких-то там высших соображений круглым дураком и подонком, сразу воскликнул бы: «Аааа! Вот оно что! Так бы сразу и сказали! Теперь мне всё понятно. Теперь-то я спокоен, знаю, куда иду, знаю зачем. И надо же! — только что я был дурак и подонок, и больше ничего, а теперь одного ума у меня целая уйма, а уж доброты, великодушия, честности вообще некуда девать!» Таким образом, с математикой было бы покончено и можно было бы полностью посвятить себя воспитанию ребёнка.
Разработать метод симплификации, а потом с помощью этого метода, дорабатывая его по мере применения, пересчитывать заново всё, что было посчитано за века, было, конечно, сложнее, чем просто пьянствовать. Но Глеб взялся, хотя решение задачи требовало сложнейших вычислений, и потому дело шло медленно; куда скорее шли годы. По счастью, в своё время прокатилась по стране модернизация. Дублин узнал, что в далёком Константинопыле местный комбинат получил государственную субсидию на создание суперкомпьютера. Машину смонтировали и наладили, но считать на ней было решительно нечего. Специалистов не хватало, заказы не поступали. И правильно — к чему мудрить, к чему суперкомпьютер предпринимателю, к примеру, Овцоеву, чьи траулеры рыбачили в Баренцевом море и тащили краба прямо в Норвегию, минуя таможню и налоговую инспекцию; не говоря уже о том, что и права-то на вылов у них не было. Сколько евро ему норвежцы на Кипр перечислили, сколько надо вычесть для отдачи Кривцову и кое-кому ещё и сколько останется ему самому, предприниматель Овцоев мог и в столбик посчитать. А предприниматели Ахмедбаум и Магомедушкин, державшие торговлю просроченными продуктами «Уфицци», и вовсе ничего не считали; и зарабатывали, и тратили без счёта, наобум; но как-то у них при этом всё вертелось и сходилось само собой, хоть и немного вопреки экономической теории. Встретивши Ахмедбаума и Магомедушкина в Порто-Фино, Дубае, Лондоне или Монтрё, Овцоев по обыкновению кричал: «Зачем эти дебилы из Москвы нашим дебилам купили за госденьги суперкомпьютер? Скажи, Вань, объясни мне, может, я не понимаю чего?» — «И я не понимаю», — отвечал Магомедушкин. «Да понимаешь, Вань, понимаешь, в том-то и дело! Попилили, попилили бюджет, сволочи», — вопил Овцоев. «Сейчас вот Москву будут расширять, вот где попилят так попилят», — развивал тему Ахмедбаум. «А Прохорову «Правое дело» продали, ну это-то куда! Уже все корпорации продали, все регионы, все футбольные клубы, все должности; уж и не знают, чем ещё торгануть — до партий политических дошли!» — истошно верещал Овцоев. «Что у них там осталось-то теперь? Профсоюзы осталось продать и общество слепых», — грустно-мудро ухмылялся Ахмедбаум.
Словом, суперкомпьютеризация народной поддержки не получила. Начали было от нечего делать считать на суперкомпьютере производимую комбинатом пыль. Посчитали-посчитали, но занятие это оказалось скучным и быстро заглохло. Тогда дали объявление о приглашении на работу всех желающих что-нибудь посчитать учёных. И очень кстати! Дублин, после некоторых колебаний, вместе с Великом перебрался в Константинопыль и устроился на комбинате при суперкомпьютере, где его трактат «Тотальная симплификация — метод и результат» задвигался гораздо бойчее. Пьянствовать, правда, тоже приходилось больше и озорнее, но, конечно, не для баловства, а исключительно по погодным условиям; кто бывал в наших краях, тот поймёт. Зато перестали слепить бесконечные самоподобные геометрические сияния, кривые и ломаные лучи фракталов, ужасающие бездны нетривиальных структур. Из чокнутого учёного Глеб Глебович быстро превращался в обычного пьяницу, то есть явно шёл на поправку, приходил в норму, в нашу русскую норму.
Таково было первое воспоминание о Велике.
Припомнилось Дублину и как сын, засыпая под его чтение «…по улице длинной немытая свинка бежит совершенно одна. Бежит и бежит она, и вдруг неожиданно у неё зачесалась спина. Но нету ни конных, ни пеших! Ну кто же ей спинку почешет?..», глядя в стену и теребя угол подушки — спросил: «Пап, а почему у меня мамы нет?» Папа, несколько лет прождавший этого вопроса и заучивший несколько нечестных, или лучше сказать, сказочных ответов на него, запнулся, залистал книжку, заволновался, заходил по комнате и даже заговорил было, но тут заметил, что Велик, задав такой громадный вопрос, сразу же безмятежно заснул. И почему-то никогда впредь не интересовался, где и кто его мать. Отец, кстати, ничего о ней не слыхал с тех пор, как от неё явился бородавчатый бородач с Великом под мышкой. Он не имел понятия, где она теперь, да и кто она, нечего тут вилять, знал не слишком подробно.
Варвара обступила его на вечерине, устроенной Дылдиным по случаю триумфального их возвращения с острова Буайан. Она окружила его со всех сторон; куда бы он ни поворачивался, куда бы ни направлялся — она попадалась ему на глаза, говорила ему, улыбалась ему, нравилась ему. А то вдруг как запляшет на него, замашет на него руками, ногами и губами, кубарем закружится и боком пойдёт, и задом, и так, и эдак, и вприсядку — так что Дублину пришлось познакомиться и потоптаться с ней в медленном танце. Она была, как все тогдашние женщины, в клетчатых чулках и в плечистой блузе; на голове у неё были химически всклокоченные жёлтые волосы и пурпурные румяна там, где лицо. Она была неотличима от других дылдинских подружек, званых на вечерину. У Дылдина было много таких. Кроме трёх дюжин подружек, в празднике были задействованы двухпалубный речной теплоход, два лимузина, три ночных клуба (в одном коктейль, в другом ужин, в третьем танцы и завтрак), артисты театра, цирка, кино и просто артисты, многочисленные блины с икрой и тройки с бубенцами. Был слух, что в толпе ужинавших есть даже кто-то очень важный, ближайший друг кого-то чрезвычайно влиятельного, чуть ли не самого этого самого. Так или не так, а погуляли очень незабываемо. Саша скакал со стаканом по столам, порой канканировал и показывал гостям свою золотую кредитную карту. Девушки и артисты любознательно ощупывали её и говорили «о!» Кто попьянее и попытливее спрашивал: «А сколько на ней?» Дылдин в ответ всё скакал и гоготал.
Варвара уволокла Глеба к самому дальнему столу, отогнала от него других интересующихся девушек, заказала шампанского и принялась быстро и много пить и говорить. Жутко громко жужжала неживая музыка.
— Глеб, Глеб, я тебя люблю. Я сразу полюбила тебя, когда узнала, что у тебя есть миллион. У тебя ведь есть миллион? Ну вот видишь! Как же мне после этого не полюбить тебя? Вот говорят, за деньги нельзя любить. А за что же тогда? Деньги — это так сексуально… Мужик без миллиона это всё равно что без пениса мужик, — утверждала Варвара. — Миллион, он такой большой, сочный, твёрдый. Я как представлю, так с ума схожу, хочу взять его и весь облизать и засунуть в себя — весь, до последнего цента. И не выпускать, пока не кончится. Я читала, сейчас миллионы пошли уже не те. Раньше у мужиков большие миллионы были, а теперь так, средние. Вот Алькапон мог своим миллионом весь Чикаго перетрахать. А сегодня на миллион что купишь? Квартиру в Чертаново, да и всё. На всю жизнь не хватит. Но всё-таки лучше миллиона ничего нет на свете. Давай поженимся. Я тебе сына рожу. Представляешь, у тебя будет сын миллионера. А не какие-нибудь кухаркины дети. Сына, наследника как назовём? Давай — Велимир. В честь Хлебникова. Слышал о таком? Большой человек был, между прочим — директор Земного шара. Представляешь, сколько у него миллионов было! И каких!
Дублин, из-за музыки расслышавший только «…сразу полюбила…», «…пениса мужик…», «…весь облизать и засунуть…», «…своим миллионом весь…», «…на миллион…», «миллиона…», «…миллионера…», «…миллионов…», давно думавший о том, чего бы съесть, поскольку сильно проголодался, ответил:
— Пойду позову официанта, а то пропал куда-то, — и зашагал к бару.
— Официально, конечно официально, как же ещё, — сказала тоже не всё расслышавшая Варвара. — Завтра и распишемся. Чего тянуть?
Завтра расписались, а через неделю сыграли свадьбу. Продюсировал брачный пир всё тот же Саша Дылдин, задействовавший те же лимузины, тех же подружек и тот же теплоход. Жених под утро прогулялся по палубе и случайно заглянул в иллюминатор одной из кают и увидел Дылдина, вступившего в интимные отношения с невестой. Невеста, в свою очередь, увидела в иллюминаторе лицо Дублина, увидевшего Дылдина, и что-то закричала. После чего находившийся в интимных отношениях Дылдин тоже посмотрел на иллюминатор и тоже что-то закричал, но при этом интимных отношений не прервал.
Жених кричать не стал, но очень вдруг захотел уйти домой. Не тут-то, впрочем, было. Теплоход полз по середине реки. Глеб поднялся в рубку и приказал капитану причаливать. Но, во-первых, оказалось, что до ближайшей пристани ходу полчаса, а во-вторых, что «приказы на судне отдаёт Александр Виталиевич» (Дылдин то есть). Глеб забился куда-то под корму и протосковал там битый час. Тут-то его и нашли завершившие интимные отношения Варвара и Саша.
Варвара сказала:
— А как ты хотел? У тебя же не миллион оказался, а девятьсот с лишним тысяч. Сотни для ровного счёта не хватило. А вот у Саши-то сотня и есть. Без Сашки ты не миллионер. А мне миллионер нужен. То есть ты с Сашкой. Что тут непонятного-то?
Дылдин сказал:
— Да ладно тебе, Глебыч, не бери в голову. Пойдём выпьем. Подумаешь, с кем не бывает.
Глеб сказал:
— Мы разводимся.
Разводились потом целый год. Варвара всё хотела денег отсудить. Но деньги были у Шейлока — далеки и незримы; ничего Варваре не перепало.
[Старайтесь, братья, не быть гениальными. Сами видите, отчего с Глебом вместо чуда первой любви случилась какая-то дрянь с Дорой, а вместо радостей первого брака с Варварой — опять дрянь. От гениальности! Неча было всю юность блистать на научном поприще. А надо было быть пообычнее, поближе к людям, в том числе и к тем из них, которые женщины. Рассмотрел бы их получше, понял бы что-нибудь про секс с ними — не угораздило бы так.]
Было ещё у Глеба Глебовича воспоминанье о классической школьной постановке Трёх Поросят, где Велик занятно импровизировал в роли Наф-нафа, недавнее ещё воспоминанье, неплохо сохранившееся. Но на ту же тему имелась уже фотография, так что в зачёт этот сувенир не шёл.
И не было у Глеба Глебовича больше ничего. И этого было мало, на это нельзя было прожить. Он стал тогда подделывать воспоминания, вымышлять то, чего не было. Но сын на этих фальшивых картинах получался, как во сне, без лица и с тихой печалью вместо голоса.
Он пробовал перебирать вещи Велика, но только случайно уцелевшие кедики тронули его. Да и то: вызвали не извержение памяти, а лишь несколько холодных проливных плачей.
Он закрывал глаза, закрывал глаза надолго, чтоб разглядеть сына в затонах забвения, русло которого было устлано стоячей пустотой. И однажды его терпение было вроде бы вознаграждено — его мальчик вынырнул из молчаливой немигающей мглы. Судорожно откусил от воздуха крупный тяжёлый вдох, проглотил его, как утопающий, целиком, одним махом. По золотым волосам скатилась белая и сухая, словно вата, летейская вода. Позвал: «Папа!» И пропал.
Видение Велика мелькнуло так быстро, что папа не успел даже протянуть к ребёнку руки. «Солнышко моё!» — отозвался он с непоправимым опозданием. Напрасно, видение не повторилось.
«Так нельзя, солнышко, так нельзя. Ушёл, всё забрал. Ничего папе не оставил… Нехорошо», — стонал Глеб, перебирая неудачные снимки и убогие воспоминания, целуя тени сына на них.
Позвонил Человечников, напросился в гости. Приехал через десять минут с Марго и тунгусом.
§ 26
Без Велика дублинская квартирка пришла в упадок и запустение. «Зачем им столько грязи? — с содроганием подумала, осматриваясь, Острогорская. — Как будто нарочно собирают её отовсюду, извлекают из таких вещей, в которых и искать бы никто не додумался». Она отказалась присесть и прислонилась к относительно чистой части обоев. Мейер присел на относительно чистый край дивана. От чая, как и Марго, отказался. Человечников, местный житель, привычный к некоторой неопрятности родного быта, выросший и созревший среди архетипических отечественных нечистот, глубоко укоренённый в них, без колебаний расположился на предложенном Глебом немытом утлом стуле, бодро выдул поданный им мутный чай и хотел курить. Но не курил, подозревая, что Маргарите Викторовне могут не понравиться испускаемые им дымы. Что-то подсказывало ему: не этим куревом надо окуривать такую женщину; тут надобен ароматный туман от Филипа Мориса или Давидоффа, какой в клубе «Биллионер» пускают биллионеры томным модницам в очи, а не его моршанская копоть, купленная в магазине для бедных.
— Мы дали в прессу объявление о пропаже вашего сына, — сказала Марго. — Цели три. Первая — поиск свидетелей. Вторая — помощь в розыске. Может быть, кто-то откликнется. Может быть, кто-то видел вашего сына. Третья цель — не дать кривцовцам не заметить этого дела. А если заметят (а теперь заметят) — не дать замять. И ещё, Глеб Глебович, хотим проинформировать вас кое о чём. Аркадия вашего касается. Вот Че скажет. Че!
— Фон Павелецц звонил, — откликнулся Евгений Михайлович. — Сообщил, что Кривцов дал команду разыскать Аркадия во что бы то ни стало. О Велике при этом ни слова, никакой команды не было.
— И ничего, и то хорошо, что хоть Аркашу ищут, — обрадовался Дублин. — Его найдут, он скажет, где Велик.
— Об Аркадии это не всё ещё. Майор Мейер добавит, — произнесла Марго. — Думаю, вам тяжело будет услышать, но лучше, чтоб вы знали… Майор!
— Мы навели справки об Аркадии Борисовиче Быкове, — майор поёрзал и сдвинулся в грязный угол дивана. — Прежде всего: это его настоящее имя. И он действительно сын Доры Бутберг, вашей сокурсницы, всё это так. Род занятий несколько неопределённый: политтехнолог, абитуриент, сисадмин, всего понемногу. В Москве часто бывает, в Питере, в Ухоловском районе Рязанской области… Всё так. А вот дальше… Дальше не так. В Лондоне никогда не был, в Египте не был, наврал. Никаких магазинов у него нет. «Сити системз», Том Джерри — вымышлены. Но это пустяки. Главное — он дважды задерживался по подозрению… Правда, оба раза его отпускали ввиду недоказанности… Скверно, что подозревался он в таком правонарушении, которое…
В дверь одновременно забарабанили, зазвонили, застучали, заскреблись и заорали «откройте! полиция».
— Нескучно, — отметила Острогорская.
— Какие документы предъявим? — спросил у неё тунгус. — Настоящие?
— Настоящие рано, — ответила она. — Пока мы туристы. Репортёры в творческом отпуске. Пишем очерк о провинции… Не любовники, если дойдёт до деталей.
— Такой справки у меня нет, — усмехнулся Мейер, вытаскивая из кармана нужное удостоверение.
— Может, нашли сыночка моего? — отворял дверь Дублин.
Трое полицейских втолкнули в квартиру Кольку Грузовика.
— Кто хозяин? А вы кто? Предъявите!.. — орал на каждого по очереди командующий вторжением отважный лейтенант.
Какое-то время ушло у него на чтение документов. Потом он разорался опять:
— Что вы тут все делаете? Что собрались? Хотел бы я знать!
— На улице познакомились. Выпить зашли. Поболтать. Вот журналисты из Москвы интересуются, как мы тут пьём, по каким обычаям. Что и чем закусываем, — сказал Че.
— Чего ж не пьёте, раз всё так серьёзно? — доставал лейтенант.
— Решали, кого пошлём в магазин.
— А что ж, Глеб Глебович не знает, кого лучше послать? — напирал полицейский.
— Да я и сам могу сходить, — сказал Глеб Глебович.
— Зачем же сам? Аркадия лучше пошлите, сынка вашего. Такой шустрый парень, мигом добудет, что надо, да ещё и бесплатно!
— Аркадия нет дома, — проговорил тихо Дублин.
— Тогда вот его отправьте, — лейтенант ткнул в Кольку торчащими из-под влажного лба красивыми, карими, как мухоморы, глазами. — Его Аркадий научил, как и где взять. Знаете его, а, Глеб Глебович?
— Это Николай, грузчик, — сознался Глеб.
— Он же Колька Грузовик. Так точно, — согласился лейтенант. — Глеб Глебович правду говорит. А теперь ты, Коля, правду Глебу Глебовичу расскажи. Про сына его Аркадия и про тебя, злоумышленного соучастника вышеуказанного сына.
Колька был очень усталый: на лице у него висел совершенно безжизненный вялый синий нос, на плечах — вялые синие руки.
— Колись, Колян, колись, — призвал лейтенант.
— На той неделе, числа не помню, вечером, магазин как раз пора было закрывать, — вяло раскололся Грузовик, — поспорил я с продавцом Салаховой, в зале пусто уже было, она и я остались, покупатели ушли, уборщики не пришли ещё, а охранник куда-то отлучился. Салахова Чолпан Хаматовна, довольно недавнего года рождения, нерусская по национальности, незамужнего семейного положения, имела точку зрения о том, что я должен отнести коробку с мороженой барамундией обратно на склад. Я с гражданкой Салаховой в целом был согласен, но в частностях расходился во взглядах. То есть, что надо унести на склад, это было правильно, потому что уже подтаяла и был запах. А вот с тем, что унести должен я, тут у меня были другие убеждения, о чём я ей прямо и сообщил, имея право: «Сама неси!» Она в ответ обозвала меня грузчиком. У нас таким образом закрутилась дискуссия. Тут вошёл в магазин молодой человек, похожий на красивого интеллигента, ему Салахова сказала «закрыто», он ей: «Не волнуйтесь, отдыхайте, я сам всё сделаю». Потом схватил с полок три бутылки коньяка, колбасу, банку с килькой, печенье ещё, кажется, и — на выход. А нам подмигнул, пока, мол, ребята. Чолпан Хаматовна ему: «Вы куда». Он отвечает: «Взаймы, взаймы, завтра верну, честное слово, вот, говорит, моя визитка» Тут Салахова заорала и за ним. Он её оттолкнул вежливо. Она из коробки барамундию вытащила и ну его бить ею. Прямо по глазам и по спине, и по, простите, шее и другим местам. Молодой человек видит, что договориться не получается, покупки у кассы положил и стал Салахову взаимно бить. Тут барамундия у продавца сломалась, и продавец в пальто ему вцепилась. Он из пальто выскочил, сгрёб покупки и убежал. Я за ним. Он в обменник. А те тоже закрываются. Он им говорит: «Пять тысяч евро взаймы, быстро». Они испугались: «У нас, — говорят, — только доллары». Ну он взял, что дали, и убежал. Двое их там было, банкиров, охранник ихний тоже отлучился куда-то, потому что у них с магазином охранник был общий, один на всех. Вот, значит, убежал интеллигентный юноша, а я за ним. Спрашивает: «Чего за мной бежишь?» Говорю: «Да ничего, так просто, рабочий день закончился, куда хочу, туда и бегу». — «Как зовут?» — «Колька». — «А я Аркадий, пойдём выпьем». — «Пойдём!» Вот мы с ним сюда и пришли, в эту квартиру, а этот Аркадий вот этого Глеба Глебовича Дублина, не знаю какого года рождения, русской национальности, семейного, но не женатого человека, — сын.
— Так? — спросил полицейский у Дублина.
— Не совсем… То есть так, но тут скорее допущение… — отвечал было Глеб.
— Что такое «не совсем»? Пасынок что ли? — разозлился силовик.
— Да нет, не пасынок, сын, но сын неочевидный, предполагаемый…
— Отвечайте на вопрос: сын? Или не сын? — повысил голос лейтенант.
— Скорее не…
— Сын или не сын?
— Тогда сын.
— Когда сын? Что такое «тогда сын»? Последний раз спрашиваю, сын или не сын.
— Сын, — сдался Глеб, — а что такое барамундия?
— Здесь вопросы задаю я! — одёрнул его лейтенант. — Что такое барамундия?
— Рыба, — ответил Колька.
— Довольно вкусная, — добавил тунгус, — барамунди.
— А вас не спрашивают, свидетель, — прикрикнул полицейский на тунгуса, затем обратился к Глебу. — Где ваш сын?
— Не знаю.
— А кто знает?
— Не знаю.
— А вот я вас арестую…
Дублин рассказал всё, что знал об Аркадии.
— М-да, — разочарованно оценил его рассказ лейтенант. — Ладно, узнаете что — немедленно сообщите. Мы вас ещё вызовем. Если что-то скрываете — узнаем всё равно. И накажем. Счастливо! Покатили, Колька, в каталажку.
Колька отправился в каталажку, полиция за ним.
— Как же так… Получается, Аркадий самый настоящий бандит… Бьёт женщину, грабит банк… Врёт про Египет… — развёл в наступившей тишине руками Глеб Глебович.
— Признаюсь, даже меня впечатлила эта история, — грустно удивилась Маргарита. — Какой персонаж! Но самого противного… и, пожалуй, страшного — вы ещё не знаете, Глеб Глебович. Майор доскажет…
— Глеб Глебович, дорогой, — разволновался вдруг Мейер. — Должен… Я должен… Вы должны знать, что… Аркадий Быков дважды проходил по делам о… связанным… по делам о детской порнографии…
— О господи, — вырвалось у Дублина.
— Его отпускали. Подозревали всерьёз, но улик не хватало, не было прямых улик. Хотя наши коллеги, кто дела вёл, уверены, что он как минимум причастен. А может, и один из организаторов педофильских преступных сетей, — тунгус помолчал. — Вот так.
— Бедный мой Величек, Велинька мой, маленький мой, солнышко моё, — зашептал Глеб, опускаясь на пол, будто для молитвы.
— Но это ничего ещё не значит, — ритмично, словно зубы заговаривая, затараторил Евгений Михайлович. — Не доказали ничего, может, он и вовсе не виноват. Может, честный он человек, мало ли кого в чём подозревают…
— Честный человек, а про Египет-то как же, — пробормотал Глеб.
— Ну, врать — не преступление, а особенность характера. И может, врозь они пропали. Может, просто уехал он, а Велик где-то без него…
— Да-да! Не стоит с выводами торопиться. Отчаяние нам не поможет. И хотя полиция ищет не Велика, а Аркадия, Глеб Глебович прав, нам и это на пользу. Найдут Аркадия. Они найдут. Кривцов, когда надо ему было, и не таких сопляков, а куда посерьёзней деятелей из-под земли доставал, — успокаивающим тоном произнесла Острогорская. — Вам, Че, надо постараться, чтоб мы сразу узнали, когда они отловят Быкова.
— Фон Павелецц обещал сразу позвонить, — отозвался Че.
— А чего этот Павелецц сотрудничать взялся? — поинтересовалась Марго.
— Кривцова ненавидит. Завидует ему. На Аслана работает. Аслана чучмеком считает, от одной ненависти к Кривцову ему служит. Службой этой тяготится, отчего Кривцова ненавидит ещё больше. Думаю — поэтому. А что?
— Важно знать мотивы предателей. Тогда можно оценить качество поставляемой ими информации. И вообще их услуг.
— И как в данном случае?
— Если вы правы, если мотив такой, то — пять звёзд, — оценила Марго. — Не плачьте, Глеб Глебович.
— Я не плачу.
— Плачете. А вы не плачьте. Мы Велика найдём, — и спросила, По-видимому, чтобы отвлечь как-то Дублина: — Глеб Глебович, какая у вас тут висит замечательная репродукция! Это кто? Не Кандинский. Не Поллок, кто же?
— Это не живопись. Это геометрия. Фрактал Хартера-Хейтуэя. Может быть описан системой рекурсивных функций на комплексной плоскости… Господи, что это я! О чём я! Велик, мальчик мой, где ты? — не поднимая головы, заголосил математик.
§ 27
Юнга Юнг карабкается вверх по заиндевевшей Махатме. Так зовут мачту, одну из мачт, которых у корабля девяносто девять. Они разнорослые и расположены не в одну линию, как на обычных судах, а немного врассыпную. Имена им даны капитаном, и вот некоторые: Манна, Мага, Маха, Марья большая, Марья маленькая, Мамба, Мегера, Медея, Моравия, Москва, Марья-на-носу, МаксМара, Мара, Махатма… и всё в таком духе… Откуда капитан набрал таких имён, почему все на букву эм, зачем нарёк ими простые чисто технические корабельные сооружения — неизвестно. Мачта Махатма самая высокая. Юнга лезет на неё, потому что наступает Великое утро. Велико это утро по той причине, что именно этим утром удаётся впервые разглядеть с самой высокой мачты парусника заветную цель плавания — айсберг Арарат. Сегодня на горизонте появляется золотое сияние куполов Семисолнечного скита.
Юнга посылается на самый верх всматриваться вдаль. И когда вдали начинает виднеться Арарат, кричит что есть силы: «Вижу! Вижу! Вижу свет!» — «Свет во тьме светит? И тьма не объяла его?» — откликается с палубы капитан Арктика. «Так точно! Не объяла!» — подтверждает Юнга. Капитан командует: «Слава Богу!» И по этой команде выстроенный в полном составе экипаж запевает троекратное «ура!»; нестроевые пассажиры, стиснув до слёз от восторга глаза, выгнув дудой губы и распахнув души, истово крестятся; попугай неистово порхает над строем; ледокол салютует Господу миллионом дальнобойных молний — полмиллиона с правого борта, столько же с левого гремящих, изломанных огненных дуг разлетаются по-над зеркальными льдинами, гремят, сверкают, ударяются о море и небо.
Наступление Великого утра празднуется всякий год, каждый раз, когда паломничество ангелов на Арарат близится к завершению и до скита остаётся всего-то каких-нибудь четыре ветра пути. И эта, финальная часть плавания проходит уже без помех и волнений: лёд становится чистым и мягким, раздвигается бесшумно перед парусником; воздух бывает только попутным, синим, немного хмельным и на вкус как разбавленное светом вино; а вокруг, куда ни взгляни, ни единой бури, ни тьмы, всюду ясное, немеркнущее нескончаемое утро.
Высочайшая Махатма похожа на крест. Передохнув на её перекладине и подкрепившись постными щами из фляжки, юнга совершает последний рывок. На такой высоте атмосфера разрежена до почти нулевой плотности, и ангелу приходится дышать одним лишь св. духом. Конечности коченеют от морозов, источаемых северным океаном; лицо обдаёт жаром и копотью ближних звёзд нижнего неба (Солнце, Венера, Полынь, Тау Кита… до них здесь рукой подать). Парящая над головой комета задевает юнгу пыльным своим хвостом и тяжёлым изнурительным гулом. С пролетающего мимо скалистого астероида на него сердито каркают, крякают и кукарекают алконосты и гамаюны, вечно голодные хищные птицы открытого космоса, питающиеся орлами. Известны и случаи их нападений на ангелов. Двумя стоглавыми стаями сидят они на чёрных камнях, глядят на Юнга, что-то недоброе в умах держат; а когти у алконостов железные; у гамаюнов крики острей и быстрее стрелы.
Страшно юнге, сил нет, но он сегодня герой. По законам моря и справедливости однажды в год самый младший по званию становится на несколько часов самым старшим. Это честь — первым увидеть свет. Переполненный гордостью и надеждой — он совершает последний рывок. И вот — макушка Махатмы, на которой реет нетленная хоругвь с изображением истины; выше некуда. Юнга ещё крепче обхватывает мачту руками и ногами, прижимается к ней щекой, слышит скрип её натянутых, как тетива, допотопных древесных жил и незабываемый, давно уже не встречающийся в земных трухлявых лесах запах благородного гофера. Замирает. Смотрит вперёд. Горизонт ровен.
Теперь главное не ошибиться, не принять за божественный свет какую-нибудь разукрашенную темень или пустой блеск. Тогда позор, насмешки Госпожи, глумление Волхова, убийственное молчание капитана, десять нарядов вне очереди и никакого никогда повышения.
Час за часом вглядывается юнга в будущее; от напряжения рябит в глазах, их заливает пот с раскалённого звёздами лба; ноги покрываются инеем, примерзают к мачте; чешется мозг.
Что-то сверкает; сверкает опять, ещё и ещё, но что — непонятно. Вперёдсмотрящий ждёт, дожидается — нет, не то, просто восходит над океаном созвездие Гончих Псов.
Вот какая-то вспышка, длится несколько минут, увеличивается, повисает на Северном полюсе. Кажется, это оно. Юнга уже открывает рот, готовится крикнуть «свет!», но в последний момент понимает, что это блестит чешуя выпрыгнувшей из-подо льда резвящейся рыбы.
Час за часом проходит; в глазах темнеет; тело немеет, как мёртвое. «Я сейчас упаду», — думает юнга от усталости и онемения. «Не упадёшь», — думает ему в ответ некто незримый. «Это ты, Господи?» — узнаёт Юнг. «Закрой глаза, пусть отдохнут. И увидишь», — учит некто. «Как же я закрою глаза, Господи? Я ведь вперёдсмотрящий!» Но страшная сила наваливается на его веки, опускает их, закрывает ему глаза, как мёртвому.
«Мёртвые сраму не имут», — говорит про себя юнга, расслабляясь, уступая усталости, готовясь сорваться и прикидывая, сколько раз он успеет прочесть символ веры, пока будет падать, пока не треснется сердцем о палубу у ног Госпожи. Сказав это, с удивлением обнаруживает, что мышцы его снова свежи, тело бодро, голова умна, а закрытые глаза — прекрасно видят и океан, и небо. Не видят же они всё мелкое, несущественное, второстепенное. Не видят комет и алконостов, звёзд не видят, созвездий и прыгающих рыб. Только океан и небо, и там, где встречаются океан и небо, — семь золотых зарев. «Вижу! Как я мог перепутать! Свет», — понимает юнга и кричит вниз: «Свет! Свет! Вижу свет!»
А снизу голос капитана Арктика: «Свет во тьме светит? И тьма не объяла его?» — «Так точно! Не объяла!» — «Слава Богу!»
За заревами поднимаются над горизонтом семь крестами осиянных солнечных куполов скита, поднимается плавучая льдина Арарат. Теперь их видно и с палубы корабля.
Во всполохах молний и бурных, протяжных «урааа» спускается юнга на палубу. Капитан приветствует его, славит, хлопает по плечу, зовёт молодцом, подносит в награду стакан пунша. Юнга пьёт и пьянеет. Госпожа целует его, Жёлтый обнимает, оборотень, не придумав, чем угодить герою, скачет вокруг, попугай неистово порхает над ним, цыгане застенчиво предлагают ему закурить «чем Бог послал».
Тут по обычаю начинаются танцы. Все пьют пунш, играют туш на всех, каких только можно, инструментах и пляшут. Начиная с вальсов и менуэтов, доходят потом до твиста, брейка, ламбады, гопака.
Госпожа танцует с героем, медведем, рокнролл с первым цыганом, со вторым цыганом цыганочку, собирается потанцевать с капитаном, но не находит его среди празднующих. Она догадывается, где он, идёт в рубку.
Капитан Арктика, совсем один, без попугая, без фуражки стоит перед прибором вечного всевидения. «Он сутулится… С каких это пор? Что с ним? Бедный…» — думает Госпожа.
— Можно тебя обнять? — спрашивает она.
— Да, — отвечает он, не оборачиваясь.
Она обнимает его сзади, шепчет ему на ухо:
— Пойдём потанцуем.
— Мы уже танцуем, — он гладит её ладони.
— Что ты делаешь в рубке? Сегодня Великое утро. Значит — путь чист и прям. Дойдём на самоходе.
— Да так…
— Ну вот. Потанцевали. Теперь пойдём займёмся любовью. Так ведь принято у людей? Пунш, танцы, секс.
— Ты правда хочешь?
— Очень.
— Пошли.
Через три часа Госпожа просыпается в капитанской каюте. Архангела рядом нет.
— Где он опять? — она идёт его искать, завернувшись в плед. Находит. В рубке.
Теперь он сидит перед мониторами на раскладном стуле с загадочной надписью «Михалков». Этот стул Волхов выловил в прошлом году в полынье возле острова Голый. Высушил, отреставрировал и подарил капитану.
— Скажи, наконец, что происходит, — требует Госпожа.
— Там, — показывает архангел на правый верхний угол.
Госпожа смотрит.
— Вон там монитор видишь? Вон тот, рядом с двумя тёмными? — уточняет, тыча перстами вправо и вверх капитан.
— Вот этот? Толстяк на велосипеде? Негр с кошкой? — подходит к экранам Госпожа.
— Чуть дальше, правее и выше? — подсказывает капитан Арктика.
— Этот? Мальчик? Какой хорошенький! Грустный, как ты. Даже напуган, кажется.
— Велик. Мальчика зовут Велик. Велимир Глебович Дублин. Десять лет ему.
— И?
— Он похищен.
— Как жаль!
— Ему страшно.
— Бедный…
— По всему судя — ему не выжить…
— Ужасно, — голос Госпожи дрожит.
— Он просит спасти его.
— Ужасно…
— Просит меня…
— То есть как — тебя?
— Верит, что ли, что я существую. Что… всё могу. Молится как бы. Зовёт.
— Тебя?
— Меня. В том-то и дело. Персонально. Не Бога, не отца с матерью, а меня.
— К сожалению, у многих есть причина тебя звать. Ты популярен. Они несчастны. Вот и зовут. Вспомни, что творится на твоих гастролях…
— На наших…
— На наших гастролях. Они обожают тебя, требуют чуда. Но ты не всех можешь спасти. Не надо так переживать. Ты не Бог. Пошли спать. Я тебе мяты заварю.
— Смотри на Велика, ангел мой, смотри. Сейчас придёт похититель. Он будет… мучить… будет его…
Архангел встаёт, отворачивается от мониторов.
— Видишь? — спрашивает через какое-то время.
— К сожалению… О, несчастный, маленький…
Тянется тягостная пауза. Наконец Госпожа говорит:
— Капитан, ты видишь такие сцены каждый день, каждую ночь. Это твой долг — видеть всё и всех. Не теряй голову. Таких, как Велик, к несчастью… К несчастью, ужасно это, ужасно — но таких маленьких страдальцев и мучеников каждый миг ты видишь… тысячи… И многие из них зовут тебя на помощь. Ты делаешь всё, что должен и можешь. Но всех не спасти.
— О всех я и не говорю, хотя надо бы всех… Я Велика хочу спасти.
— Пока мы не дошли до Арарата, мы никому не можем помочь. У нас нет права даже позвонить в полицию или родителю мальчика. Все наши мысли должны быть только о тех, чьё спасение мы намерены вымолить у Господа. Все наши страсти и силы, вся доброта наша, вся воля и любовь потребуется для этого, и нам нельзя отвлекаться, ты знаешь. Всё для одной цели, иначе Бог не расслышит нас и не поймёт, увидит, что мы не цельны в своих желаниях, что мы рассеянны, суетны; не убеждены, а стало быть, и не убедительны. Добры вроде бы ко многим, а определённо — ни к кому. Ты же это знаешь, сам меня этому учил, зачем я это говорю? Вот воскресим подводников «Курска», вернёмся на берег и первым делом бросимся выручать Велика из беды.
— Что ты говоришь? Он же пропадёт за это время! Неужели не видишь! — раздражён капитан.
— А ты что говоришь! Что предлагаешь?
— Не знаю, — остывает капитан.
— Знаешь! Говори, договаривай до конца.
— Велика надо спасти. О Велике просить скитеров помолиться. А «Курск» подождёт. В следующем году воскресим их.
Госпожа не находит, что сказать, как бы обратившись в столб от изумления.
Архангел не даёт ей опомниться, развивает идею:
— Может быть, прав Юнг, не надо Господа искушать, может быть, не вправе мы просить Пантократора о воскресении моряков… Никто не воскрес, кроме Бога… Не посягаем ли мы тем самым на божественное?
— Так, — выходит из остолбенения Госпожа, — получается, что и в следующем году не воскресим…
— Жалко мне его, так жалко… — уже не знает, что сказать, капитан.
— А тех не жалко, а вот этого, а вот ещё без ноги, а вот там горит? Слышишь, как вопит? Возьми пульт, сделай погромче, а то ты, кажется, совсем не понимаешь ничего, — Госпожа заставляет капитана смотреть на разные мониторы. — Это всё дети, такие же дети, тех же десяти лет. А есть ещё девяти, восьми, двух, двенадцати… Их не жалко? Их когда будем спасать?
А вот смотри, этого кудрявенького мы уже не спасём! Поздно! Вот! И монитор погас! И что? Что нам с этими-то делать??
— Не знаю!
Архангел и Госпожа обнимают друг друга.
— Ты командир. Принимай решение, — вздыхает Госпожа.
— По уставу я решаю сам. Но по традиции мы важнейшие вопросы обсуждаем всей командой, — вздыхает капитан.
— Собери завтра команду. И решай.
— Ты меня поддержишь?
— Ты хочешь спасти именно его, потому что он молит о спасении именно тебя, а не Бога! Это гордыня!
— Ты меня поддержишь?
— Пошли спать.
Они идут спать. Расходятся по разным каютам, не спят. Госпожа размышляет о том, способна ли она последовать за любимым, когда его низринут в ад, как Денницу. Любимый тем временем думает, как бы уговорить Госпожу родить ребёнка.
Юнг бродит по палубе, смеясь и всё ещё приплясывая, посматривает на мачту Махатму и, вспоминая, на какой высоте сегодня побывал, смеётся и приплясывает.
§ 28
«Мама, мне холодно. Я мерзну, мама, остываю У тебя на руках оттого, Что твои руки и грудь холодны, Словно перистые волны северного неба. Ты выходишь из города, Несёшь меня тьме, Идёшь в сторону противоположную жизни. Я туда не хочу. Отпусти меня, мама, И пойми, наконец: ты — мертва. Отпусти, оставь меня на пороге Последнего дома на окраине, Где ревущее бурное поле Бьётся высокими ливнями О панельные скалы Спальных районов. Дальше иди без меня. Слышишь, я плачу от стужи У тебя на руках, сорокасемилетний, Небритый, нетрезвый, твой малыш, Свет твоих глаз. Пожалей же меня. Пусть я буду подкидышем, пусть Подберут меня добрые люди, Пусть они даже будут не слишком Добры, пусть будут злы, зато — живы. О, любимая, мёртвая, отпусти! Я так слаб, так люблю тебя, что Сам не выберусь из твоих Ледовитых объятий. Не пытайся доказать, что это ещё Не всё. Это — всё. Ты умерла — вся. Умерла: опрятная старушка, глуховатая, Просящаяся ко мне в Гости громким жалостливым Голосом и смиренно вздыхающая После вежливого отказа: Умерла: строгая учительница, Боящаяся выйти на пенсию, Потому что не Будет хватать денег для посылки Мне и сестре: Умерла: живучая, жёсткая женщина, Дважды разведённая, однажды Овдовевшая, плачущая От фильмов про любовь: Умерла: провинциальная Красавица, знакомящая Меня с отчимом, говорящая ему Моего сына могу наказывать только я; Умерла: весёлая девушка, Студентка, влюблённая в моего Отца, хохочущая с ним о чём-то. Набросившая на плечи его Лейтенантский китель: Умерла: шестилетняя деревенская Девочка, сфотографированная На берегу серенькой речки. Посередине сирени, недалеко от войны (Я в детстве бывал в этих местах, Гостил у бабушки, ты как-то Сфотографировала меня На другом берегу этой речки. Теперь мы оба стоим там вне времени, Ты на одном берегу, я на другом, Девочка и мальчик, разделённые Уездным Стиксом): Умерла: третья дочка рязанской Крестьянки и моего деда, плотника, Пасечника, солдата. Умерла: ты. Теперь — ты знаешь. Теперь — отпусти».Это стихотворение пришло несколькими смс от Макса. Марго прочитала и позвонила.
— Макс, что с Инессой Дмитриевной?
— Ничего такого, Марго, не волнуйся. Как стишок?
— С ней точно всё в порядке?
— В полном. Я ей тоже послал.
— Рехнулся! Она твоя мать, пожилой человек, а ты ей отправляешь… реквием… какой-то заупокой… про неё…
— Да не про неё, Марго, а вообще… Это же от имени лирического героя, мне же не сорок семь лет, сама посуди, и мать, значит, не моя, а лирического героя…
— Макс!
— Марго!
— Дважды разведена, однажды вдова, учительница, это же в точности про неё…
— Это в точности, а что-то не в точности. Она ведь не деревенская, и отец у неё не пасечник…
— Макс!
— Марго!
— Стишок неплохой. Но так нельзя. И, кстати, почему ты никогда ничего лёгкого не напишешь? Светлого или хотя бы смешного? Попробуй для детей что-нибудь сочинить. Пушкин для детей сочинял…
— Как у вас там дела, жена моя?
— Работаем.
— Поймаешь гада?
— Обязательно.
— Когда вернёшься?
— Гуляй, не скоро.
— Поаккуратней там, Марго, не прелюбодействуй.
— Постараюсь, но зарекаться не буду.
— Это не я какой-то там говорю, сам Христос говорит — не прелюбодействуй.
— Христос говорит — не клянись.
— Буду тебя ждать. Привези что-нибудь вкусненькое.
— Голова дракона подойдёт?
— Пожалуй. Будет интересно посмотреть в глаза этой твари.
— Сделаем.
— Как тунгус?
— Толстеет. Курит трубку и играет по ночам на скрипке.
— Чтобы похудеть?
— Нет, чтобы быть похожим на Шерлока Холмса.
— А похож, скорее, на Ивана Кириловича.
— Кто этот Иван Кирилович?
— Так. Один третьестепенный персонаж из «Ревизора». Тоже на скрипке играл. И толстел.
— Ну, Мейер, конечно, не Холмс, но сыщик далеко не третьестепенный.
— Скажи, Марго, он опиум не пробовал? Или кокаин?
— Чтобы похудеть?
— Нет, чтобы стать похожим на Шерлока Холмса. Тот был знатный торчок.
— Подскажу ему.
— Марго, кстати, ты меня любишь?
— Сложный вопрос, Макс.
— Издеваешься!
— Ты спросил таким тоном…
— Каким?
— Никаким. Прочитай что-нибудь новое. Только не про мёртвую маму, а про любовь.
— Про мёртвую маму — это тоже про любовь.
— Не спорь, читай.
— Мне хорошо с тобой. И без тебя. Я падаю в прозрачные просторы, отвергнутыми точками опоры заканчивая строфы сентября. И вот — к неперевёрнутой земле Я приближаюсь. И мирюсь. И гасну. Все хороши субботы в сентябре. С тобой и без тебя — они прекрасны.— Красиво. Хотя, скорее, о нелюбви. Давно сочинил?
— Сейчас, пока с тобой разговаривал.
— Гений! Хотя сейчас январь. А, ну да, у твоего лирического героя сентябрь…
— Вечный!
— Позвони маме, пока её удар не хватил.
— Немедленно приступаю. Прощай, о жена, облачённая в солнце.
— Прощай, невольник чести.
Муж Маргариты Максим Багданов был поэт, лодырь, личность развинченная и склонная к вину. Жил он на деньги матушки. Марго, заметим к слову, на папенькины деньги жила. Оба были из первого поколения повзрослевших детей первых русских скоробогачей. Матушка Багданова владела хлебозаводами и элеваторами, папа Острогорский — большими наличными, извлечёнными из ничего посредством давних каких-то клиринговых фокусов. Три его партнёра, работавшие фокусниками в Минфине, были изобличены и отправлены в неуютные остроги. Острогорский же затих на деньгах в глухом сельце на Сардинии, вёл жизнь почти пастушескую, разве что более праздную, якшался и в самом деле с пастухами, рыбаками, а также с местными добродушными и чрезвычайно небогатыми мафиози, по бедности иногда подрабатывавшими официантами и даже попрошайками и побирушками. Виктор Острогорский был русским пионером на острове; годы спустя за ним потянулись и прочие крупные русичи, озолотившие ныне этот райский край и всех пастухов его, и рыбаков его, и мафию его.
Детство и отрочество Маргариты были сплошь солнечные, спокойные, состоявшие из папиной и маминой любви, вкусной еды, нежного раболепия нянек и высокооплачиваемой учтивости домашних учителей, доставлявшихся к ученическому столу прямо из Антиполиса, Рима, Гейдельберга и Черноголовки. Дружелюбие окрестного крестьянства, включая и малых ребят, дополняло этот простой, тихий быт. Но долгое десятилетие столь негероических георгических и буколических будней не сделали Маргариту томной и медленной аграрной девой, по полдня клонящейся ко сну в тени коровы или оливы с открытым ртом, книжкой Коэльё и прихваченными из дома ломтями хлеба и батарги. Она не располнела, не влюбилась в пастушонка Джузеппе, даже в мафиозо Карло не влюбилась, хотя золотой крест у него поболе был, чем у её папы; оставил её равнодушным даже надомный продюсер Серпский, преподававший хип-хоп, модной наружности, не первой, но и далеко не последней молодости парень, бездомный из принципа, ходивший спать в спа и оттого лоснившийся так, что в его очень тонизированные отполированные щёки можно было смотреться как в зеркальный складень, гладкоглазый, мокроротый, яркочёрный — не человек, а какой-то чорт с сахаром, — совративший множество юниц, а вот юницу Острогорскую, однако же, не совративший. Маргаринчик, как звал её отец, понимала приятность и красивость родительской вечно дачной жизни, но не умела полюбить ни жизнь эту, ни сидящих в жизни этой Джузеппе, Карло, Серпского, ни даже стариков Острогорских, хотя и хорошо относилась к ним, презирала их нежно, со всей глубокой нежностью, на которую способны только умные насмешливые девочки.
Словом, как только в положенный срок вскипела в Маргарите крепкая русская кровь, заметалась она, запросилась с пляжного острова на большую землю. Тем паче, что и сардинская глушь пробудилась. Высадились на её пляжи со сверкающих яхт большие весёлые люди из России, понавезли денег, дорогих машин, громких песен, геройских замашек, удали, пьянства, обжорства, жён и нежён, вечеринок и всякого такого нашего национального особливого апломбца и колоритца. А главное, новостей навезли о подвигах и доблестях, о странных личностях, необычных поступках, несовместимых с жизнью карьерах, благородных чудачествах, прибыльных сумасшествиях. О бешеных необъезженных судьбах, несущих вцепившихся в них смельчаков куда-то, куда не надо бы им, встающих поминутно на дыбы, норовя сбросить вцепившихся, которые, кажется, и сами уже не рады, что вцепились, но держатся, отвечая — на вопрос идущего на вещевой рынок (купить спортивных штанов для удобства спортивного лежания на давно сломанной беговой электродорожке и смотрения спортивного телевидения) обывателя «как дела?», — «всё отлично, сам видишь».
Понаехавшие из России захаживали и к ним домой, папа был если и не вполне их круга, то во всяком случае их калибра персонаж. Бывали Назимзянов, Ахмедбаум, хоккеист Чума, бывали Шекельгруберы и сам Дылдин (?!). И миллиардщик Фетров собственной персоной, подаривший Маргаринчику уникальную конфету ручной работы шоколадного мастера Бругге из Брюсселя, отлитую в одном экземпляре по специальному рецепту из всего, что Маргаринчик любила (пралине, молочное мороженое, кокосовая крошка, гость справился у папы заранее), положивший её на стол перед зацветающей нимфеткой как футляр с драгоценным обручальным кольцом и через пять минут — увлечённый разговором, машинально, перепутав со своим канапе, не глядя — съевший эту выдающуюся конфету сам. Был конфуз, смех и присылка потом целой коробки таких конфет, впрочем, оказалось, совсем невкусных. Но даже Фетров и Чума не тронули её. Их жизнь тоже казалась ей не той, не той. Те же пастухи и рыбаки, только козы и караси у них потолще. Вот сидит этот Фетров, как какой-нибудь Джузеппе, и пялится на своё стадо, и ничего не делает; посмотрит на стадо, попасёт, пойдёт поест, попьёт, посовокупляется, опять попасёт, посмотрит, подумает «я крут и крупен» точно так же, как Джузеппе, только еда у него подороже, рубашка почище, но ни вида в нём, ни величия, ни ума, ни мужества. Так же, как Джузеппе, говорит о еде, футбольных клубах, кризисе, только козлятины у Фетрова на десять миллиардов евро (ну не козлятины, так акций, недвижимости, чиновников, предприятий по добыче норникеля и роснефти, какая разница), а у Джузеппе на пять тысяч.
Но есть же где-то люди, над которыми иногда смеются, попивая винцо, Джузеппе и Фетров (семь и семь тысяч евро за бутылку соответственно), — денатуралы и аномалы, маргиналы, фрики, разведывающие тёмные области на краю реальности бесстрашные краеведы. Где-то есть люди, летящие в Руанду спасать от спида людоедов, истребивших племя тутси: падающие в полдневной жар в долине Дагестана с свинцом в груди и поднимающиеся, чтобы защитить от нападения террористов мирный с виду аул, населённый, впрочем, тоже террористами; есть люди, у которых хризолитовые ноги, есть большие пассажиры мандариновой травы; есть люди, изобретающие твиттер, неувядающий огурец, суборбитальный самолёт; замечательно пляшущие балет и пишущие роман, и монтирующие инсталляцию. О которых шумит по ночам интернет, когда дневные людишки, как следует пропиарившись, устав от собственной никчёмности, обделав все свои делишки, засыпают и видят во сне повтор вечерних новостных эфиров, а на охрану земли заступают партизаны полной луны, аномалы и фрики, краеведы, придурки.
К таким-то людям тянуло дерзкую девственницу, такой-то и сама она желала стать. Кто отрочествовал, тот вспомнит, возможно, и себя таким же наивным и дерзким и поймёт, мудро улыбнувшись. [Улыбнусь ли я, трудно сказать, ибо лет с двенадцати, с первого же шевеления либидо, я разволновался и напился алкоголю. Первую рюмку хорошо помню, сильное было впечатление; помню и последнее похмелье, мощное, с дракой, инфарктом, рвотой и декламированием My sad self Алена Гинзберга. А между ними — чёрный провал памяти шириной в тридцать пять лет и глубины неизмеримой. Из этой ямы слышны порой какие-то далёкие сипы; доносятся изредка бледные какие-то пятна, но стёртые ли это временем лица, с которыми выпивали, или же просто тени блинов, которыми закусывали, или просто пятна, вылетающие иногда из головы у любого из нас без особого повода — не знаю. А тут ещё близится старость, когда, кроме воспоминаний, ничего, говорят, не останется. Приятели рады, даже мечтают о пенсии, как тогда поедем на автобусе в Суздаль (почему в Суздаль? на автобусе зачем?) и будем по дороге молодость вспоминать. Ну, они-то, может, и будут, Андрюша никогда не пьянел, а Серёжа, хоть и напивался в хлам, но всегда всё помнил. А я? Про пятна и сипы буду рассказывать? Все будут оживлённо болтать, хохотать, а я — одиноко сидеть в углу, несчастный изгой… Вообще, они как-то упрощают старость. Они представляют себя примерно такими же, как сейчас, только как бы в гриме — морщины наклеены, седые парики нахлобучены, губы синькой подкрашены. Только весь этот грим наложен на нынешнее, ещё довольно бодрое тело, которое куда угодно может ещё доскакать и ещё способно отжаться раз сорок хотя бы. Нет уж! Тела поизносятся, факт! Ещё неизвестно, не отшибёт ли и у приятелей моих память — от этой самой старости. А если и не отшибёт, хватит ли у них старческих их силёнок рассказать. А если и хватит, захочется ли другим-то слушать, если у других-то, может быть, суставы ломит, или глухота прогрессирует, или голова трясётся так, что задевает посуду на столе, и посуда-то падает и бьётся, бьётся, и ни черта от этого не слышно. Правда, я года два уже не пью (там, кроме Гинзберга, инфаркт был; поэтому), но, как назло, в эти годы как раз ровно ничего и не произошло. Не следует также исключать, что я опять запью, не успев накопить воспоминаний, есть такая опасность. Но если и не запью, кто знает, случится ли со мной хоть что-нибудь занятное в этом весьма консервативном возрасте, когда потрясения и потоки судьбы начинают обходить слабеющего у финиша жизни человека. Бох смотрит и поправляет ангелов своих и демонов своих, говоря: нет, нет, не на этого, этот уже не потянет, пусть отдыхает, оставьте его. И стоит человек в стороне от событий, и завороженно смотрит, как расползается по голове лысина, разрастается с боков, спереди и даже со спины невероятное какое-то брюхо, а нос набухает, бугрится, загибается к зубам и зубным протезам и даже слегка будто зеленеет. И становится человек с годами стопроцентно похож на свою бабушку по отцу, которой боялся, поскольку она была похожа на отца. И на Бастинду из мультика и пахла чем-то тревожным (корвалолом, узнал он впоследствии).
Так что вряд ли будет мне что вспомнить. Вряд ли мудро я улыбнусь, да и не мудро вряд ли, не знаю, были ли я или мои друзья такими же наивными и дерзкими, как Маргаринчик, отрочества своего не помню.] Мудро улыбнулись родители Марго, когда та занервничала, засобиралась, заспешила наружу, запросилась на материк учиться, работать, что угодно, лишь бы из дома прочь и подальше.
Улыбнулась мать, обрадовалась, потому что уже завидовала дочери, юности её и ангельской красоте, выпорхнувшей вдруг из её ребёнка и высветившей её собственное увядание. Улыбнулся отец, обожавший дочь, но не умевший никогда ничего подарить ей, кроме денег и исполнения любых прихотей. Вот и новая прихоть, пусть же уезжает, учиться и в самом деле пора, да и погулять не мешает, мальчики и всё такое.
Марго покинула родные пенаты тринадцати с малым лет от роду, чтобы всласть поучиться на воле, и превратила учёбу в бродяжничество на широкую ногу. Она была прекрасная смесь вагантки и вакханки. Заметим, что она действительно училась и училась блестяще. Но понемногу, понедолгу. Сначала частные школы Швейцарии, Мексики (?), Англии, одна престижнее другой, всюду — отличные отзывы, а потом вдруг исключение или внезапный самовольный отъезд. Потом университеты — Сорбонна, Нель, Массачусетский институт, оба Кембриджа. С теми же результатами. Потом волонтёрство в Африке (и до Руанды, заметим, добралась-таки), кураторство архиавангардистских арт-выставок, знаменитого фестиваля антикино в Секешфехерваре, игровой фильм без актёров собственного изготовления «Три осени из жизни двух механизмов» о взаимоотношениях подъёмного крана и муравейника; потом война в Африке, служба в Дарфуре на стороне правительственной армии; потом её приняли в моднейшее модельное агентство Нью-Йорка (две обложки Вога, по три Вэнити фэйр. Космополитен…), потом её оттуда выгнали, она написала книгу «Модель для разборки» (Model For Deconst ruction), ставшую бестселлером. Потом усталость, год депрессии, те же вечеринки, путешествия, кокаин, возлюбленные и мужья из поэтов и музыкантов, только уже не от избытка сил, а от их недостатка. Потом папа подослал к ней под видом непризнанного нищего режиссёра известнейшего психиатра, тот втёрся к ней в доверие, как-то уговорил полечиться в шикарном баварском дурдоме. Марго согласилась, но при условии, что будет там не только лечиться, но и лечить — врачей. На том и порешили. Врачей следовало исцелить, по мнению Марго, от безумия, признанного нормой. Они должны были оставить семьи, бросить идиотскую работу, бежать из дома, предварительно перебив все окна и тарелки. Врачи за немалые папины деньги согласились девушке подыграть. Разводиться повально, конечно, не стали, но посуду немного и по-немецки аккуратно побили, и на работе некоторые не появлялись. Так и поправилась Марго.
Потом прочитала книгу Идiотъ Достоевскаго прижизненного издания, купленную в лавке на берегу Сены, то есть выборочно вычитала из неё только то, что принято в наше время читать — наиболее смешные диалоги. И тут же придумала себе Россию, где не была с пяти лет, и решила немедленно отправиться туда, на великую свою родину, населённую идiотами, Достоевскими и аномалами.
Папа поотговаривал было, но ненастойчиво, и она вернулась к истокам. Остановившись в гигантском доме одного отцова знакомца, выстроенном в древнеегипетском стиле, и копаясь на сон грядущий в Сети, вычитала ужасающий репортаж об изнасиловании и убийстве где-то под Брянском семилетней девочки каким-то комбайнёром в отставке. От страха и отвращения просмотрела за ночь, не сомкнув глаз, около сотни похожих сообщений, нашла ещё тысячи. Детей похищали, насиловали, продавали насильникам, мучили, убивали, подстерегали в парках, подъездах, на улицах, даже на детских площадках и в летних лагерях. Жуткие рожи преступников, часто остававшихся безнаказанными; истерзанные мёртвые дети; выжившие с раздавленными душами, зовущими из распахнутых страхом глаз на помощь.
Всё это зверство и скотство то ли охватило весь мир в последние годы, то ли просто стало о нём больше известно, но в России именно всей этой мерзости было не больше, чем повсюду. Однако именно в России Марго заметила эту мерзость и подумала: вот зло, абсолютное зло! И решила восстать против зла и восстала! Ловить гадов и карать! Ей было двадцать пять лет, она была красива и богата, и умна. Папа непостижимым образом (фокусник!) устроил свою непутёвую дочь, далеко не юриста — в следственный комитет генеральной прокуратуры. Там она так умно и рьяно взялась трудиться, что за год раскрыла три безнадёжных висяка и упекла дюжину педофилов за решётку. Коллеги, всерьёз её поначалу не принявшие, так мол, стажёрка, — зауважали, начальство оценило, дали ей специальный отдел, куда полкомитета записалось, но взяли только десять лучших, главу тунгусского управления Мейера в том числе. Она вышла замуж, как всегда, за поэта.
И вот она оказалась в Константинопыле, здесь, и это было её десятое дело, юбилейное, дело Дракона. Девять она раскрыла, должна была раскрыть и это, но проявилась одна проблема. Очень уж переменчива была Марго, делала всё быстро, страстно и справно, но — недолго. Она стояла у окна в номере отеля «Атлантика» и смотрела на ночную, беспорядочно освещённую, бескрайнюю, переходящую в болото центральную площадь нашего города, уставленную до горизонта снеговиками и снежными бабами. Это отчасти дурацкое зрелище смутило её ум. Между тем ничего такого, никакого знамения в этом нашествии снеговиков не было. Просто мэр затеял ежегодный международный конкурс снежных баб ради престижа и привлечения туристов. Подумывал затащить как-нибудь сюда президента или хотя бы министра и выпросить под баб денег, а потом деньги эти пустить на ремонт детских садов, очень уж пообветшали они. Международным конкурс пока не получился, и президент с министром пока не приехали, но из Салехарда, Апатитов и Уфалея народ потянулся, налепили снеговиков целую дивизию, конкурс провели, призы получили, разъехались, а снежные истуканы остались и осыпались теперь на площади, обваливались, расстреливались снежками озорными прохожими, пинались ими, обзывались ими хуйнёй и ещё более обидными словами. Глупо, конечно, но не более того. Да не так уж, если разобраться, и глупо. И уж точно не страшно всё это было, но Острогорской скучно вдруг стало. Вдруг она поняла, что уже осточертела ей её работа, что больше не заводит её охота на Дракона и не доводят её до слёз, как раньше, мысли о неизъяснимых муках и страданиях детей. Что заодно надоел ей до смерти и её муж, и этот городишко, и страна эта вся заодно со всеми этими её городишками. Это был новый приступ её хронической хандры, неизлечимой скуки, подзабытой было; но ремиссия, видимо, заканчивалась, и тут спасти могло лишь только бегство, перемена места и времени. А значит, придётся менять работу, страну, климат, эпоху (да, и эпохи могла менять Марго, уезжая то в более отсталые, то в передовые регионы планеты). Приступ, впрочем, был первый, слабый. Позже, она знала, приступы начнут случаться чаще, всё чаще и длиться дольше, пока не спрессуются в монотонную многотонную тоску. И тогда — бежать!
Но до этой стадии — не меньше месяца, не больше трёх, по опыту.
Значит, у Велика имелся шанс быть спасённым лучшими детективами страны — Марго и тунгусом. Но шанс неверный, шаткий из-за причуд причудливой женщины. Не больше трёх месяцев на спасение, не больше трёх месяцев на то, чтобы найти мальчика и поймать Дракона. Иначе — умчится Маргарита Острогорская куда глаза глядят, и останутся в холодном и тёмном, как пещера, мире, в ужасной предсказуемости развязки одни, один на один: ребёнок и монстр.
Снеговики с мётлами и на лыжах, с флагами и с рекламными плакатами в руках, толстые и худые, белотелые, сделанные в чистом поле, и городские, катаные из грязного придорожного снега, с морковями и сосулями вместо носов, голые и ряженые, кое-где подтаявшие, покосившиеся, пострадавшие от снежков и пинков, числом до двух тысяч, радостные и угрюмые толпились под окнами номера. Между ними метался какой-то поздний прохожий, кажется, пьяненький и заплутавший, не разумевший, куда попал и как выбраться из этого скопища безмолвных холодных болванов. Марго понаблюдала, как он попетлял, поспотыкался среди них и трусцой, и шагом, и скоком, и фокстротом и упал. Поднялся минут через пять метрах в ста от места падения, всплеснул руками и снова свалился, скрывшись из виду под пузами и задами снежных баб.
Ночь прояснилась, проложив по серебристым лбам снеговиков мерцающую лунную дорожку. «Красиво», — подумала Марго и зашторила окно. Телефон взыграл полтора такта, выдернутые наобум откуда-то из Малера. Марго поняла, что и этот снобистский рингтон надоел и с ним весь вообще Малер, и раздражённо выпалила «да!»
Звонил Глеб Глебович, дрожа всем голосом, слово на слово не попадало у него от возбуждения.
«Слушаю вас Глеб Глебович. Говорите громче и медленнее. Так. Так. А теперь тише и быстрее. Так. Что? Кто в городе? Какие ещё варвары? Так. Так. Варвара? Ваша кто? Жена? Бывшая? Варвара, ваша жена. Так. Мать Велика. Так. Она в городе? Вы серьёзно? Она такая, что что? К ней тянутся? Говорите громче. Не так громко, вот так хорошо. Повторите. Медленнее. Она такая, что… с неё станется? Это что за оборот такой? То есть способна на такое, вы это хотите сказать? Где вы? Что вы там делаете? А она что делает? Бегу».
Дублин настучал зубами сообщение, что, прогуливаясь от грусти по улице Липовой, увидел возле стеклянной стены ночного ресторана «Магриб» свою бывшую жену Варвару, великову маму, слегка обрюзгшую, в растрёпанной шубе, но сразу Дублиным узнанную, всматривавшуюся пытливо в ресторанную полумглу, голодную, кажется, и бедную. Это она, осенило Дублина, похитила Велика. Теперь повсеместно родители другу друга детей похищают, так уж повелось. А она такая, с неё станется, никаких сомнений, она и своровала малыша. Глеб Глебович сообщил, что следит за ней из-под фонаря, просил скорее приехать и задержать её, допросить, дознаться, куда сына заныкала.
— Тунгус! — крикнула Марго, слышимость в отеле была безграничная.
— Я, — отозвался из соседнего номера Мейер хоть и очень сонно, но мгновенно.
— В «Магриб». Где это?
— Машина не нужна. Отсюда пять минут, если не спеша пройтись. А бегом от силы две. Оружие?
— Как обычно. Объект несложный.
— Есть!
— Где она? — закричали Марго и Мейер на Глеба, выскочив на Липовую перед «Магрибом».
— Ушла, — отвечал тот.
— Куда?
— В тот переулок.
— Когда?
— Только что.
— Тогда догоним.
— Я пытался, она только повернула, я за ней, а там никого. Как будто испарилась.
— Далеко уйти не могла, — выдохнул, убегая, Мейер. Марго обежала «Магриб» с другой стороны. Они стремительно прочесали окрестность и выловили несколько подходящих по возрасту женщин, но не Варвару.
— Обознаться вы, Глеб Глебович, не могли? — спросил Мейер.
— Она, она это была, точно, — не сомневался Глеб.
— Вот и версия. А куда же мы денем Аркашу? — усмехнулась Марго.
— Сообщники? Наняла его, одной ведь справиться трудно? — предположил выбиравшийся из таксомотора Человечников.
— И вас — здравствуйте — по тревоге поднял Глеб Глебович! — приветствовал его Мейер.
— И их… Я всех… простите… позвал… — подтвердил Дублин.
— Ничего. Так и надо. Жаль только, что столь внушительная ударная группа собрана попусту, добыча упущена, — сказала Острогорская.
— Может, зря я вас ждал; может, самому надо было… схватить её? — виновато пробормотал Глеб.
— Вы правильно поступили. Так и надо. И впредь — никакой самодеятельности, — ответила Маргарита.
— Задерживать или следить, как задерживать и как следить, должны решать профессионалы, — пояснил тунгус. — Вы всё очень правильно сделали.
— Очень по-математически, — зачем-то добавила вполголоса Марго. — А ваша, товарищ майор, гипотеза о возможном сговоре Варвары и Аркадия, — сказала она Человечникову, — недурна, отнюдь недурна.
От этих её похвальных слов даже не сердце заколотилось бешено у майора в груди, а просто всё подряд и везде у него заколотилось: сердце в груди, почки в боках и печень, кишечник в животе, ужин в желудке и мозг в голове. Нелепая надежда — а вдруг эта странная женщина не только оценит его достоинства, но и полюбит их, странная же она, странная, в разных уродов влюблялась, почему бы ей не полюбить нищего похожего на пса Человека, так просто, скуки одной ради, для странности, для смеха хотя бы! — явилась перед ним, расточая дармовую радость. Марго охотничьим своим слухом расслышала подспудное колочение его членов, но виду не подала, сказала ему:
— Дайте фон Павелеццу приметы Варвары, пусть озадачит патрульных и участковых, авось найдут.
Сказала Дублину:
— Веселее, Глеб Глебович. Уныние — смертный грех. Варвара — не по моей части. Но если это она увела Велика — открывайте шампанское, славьте господа. Варвара лучше Дракона. Ловится легче и ребёнку не так страшна, мать всё-таки, какая/никакая.
Сказала всем:
— По домам.
Вернулась в номер. Заказала чай, чтобы подумать. Номер был не грязный, а грязноватый, было в нём не то чтобы тесно и душно, но тесновато и душновато. Стены и перекрытия были тонкие, звучные, так что консьержу не обязательно было звонить по телефону, можно было, не вставая с кровати, без всяких технических приспособлений позвать его, и он бы услышал: «доброй ночи, чем могу помочь?» — ответил бы тоже не по телефону, а так, задрав рот кверху, к стороне, откуда звали. Комнаты были обжиты до предела, крепко насижены и залёжаны постояльцами, от каждого из которых осталось что-то особенное в обстановке. От одного трещина на зеркале, от другого винное пятно на диване, от прочих: масляное пятно на диване; сигаретные ожоги стола; укус на кожаном кресле: чернильное пятно на подушке в спальне; дыра в душевом шланге; русый волос на телевизоре; аппетитный запах, по вкусу напоминающий уху с уксусом, в платяном шкафу; под платяным же шкафом закатившийся туда и навеки укрывшийся от беспечных уборщиц пропуск какого-то Хмыкина Э. Э, в забойный цех Миусского мясокомбината.
В отеле «Атлантик» проходила бессрочная благотворительная акция по трудоустройству страдающей синдромом Дауна молодёжи. Чай принёс юноша с соответствующим выражением лица. На подносе Марго обнаружила чашки, лимон, сахар, мёд, чайные пакетики и даже непрошеный какой-то крендель, не было только воды. На её замечание юноша кивнул, рассмеялся и вышел. Вернулся он через сорок минут с бутылкой Ессентуков. Марго из вежливости бутылку взяла и дала официанту триста рублей чаевых — «пусть хоть сам чаю напьётся, если мне не дал». Решила не мучить беднягу, кипятка от него не добиваться.
За неимением густо заваренного Ассама Марго решила взбодрить себя кренделем, вспомнив кстати, что давно уже ничего не ела. Она подумала: «Давно я не ела… такой дряни… Итак… Допустим, Велика забрала Варвара. Тогда кого же забрал Дракон? Или вот-вот заберёт? Ведь дни зимней жертвы наступили.
§ 29
— Папа, Велик пропал. Папа, найди, пожалуйста, Велика. Я так скучаю по нему. Я не хочу ни с кем играть, кроме него. Найди Велика, папочка, ты же всё можешь, — умоляла Машинка генерала Кривцова.
— Не плачь, маленькая моя, я найду, я его спасу, обещаю тебе, — ответил Сергей Михайлович и проснулся.
Его подземный больничный бункер был пуст. Машинки не было, а ведь могла бы быть, если бы три дня назад, когда вот так же, только не во сне, а наяву она умоляла его найти Велика, он ответил бы ей, как только что во сне. Но не так ответил тогда генерал, наоборот, рассвирепел и оборал собственную дочь до полусмерти: «Тебя мать подослала? Она тебя подучила? Ты о Велике этом забудь. Он плохой мальчик! Плохой. У него отец пьяница, а сам он воришка, врунишка и двоечник. И не вздумай больше с матерью против меня сговариваться, а то получишь! Поняла? Смотри у меня!» Машинка от испуга перестала плакать и застыла на месте. Кривцов вытолкнул её за дверь и заперся. Он был очень зол, а к вечеру разозлился ещё пуще, убедив себя в том, что дочка всё знала про мать и Глеба, что у них там фактически сложилась вторая семья, подпольная семья, развлекавшаяся на его деньги и потешавшаяся над дойной коровой. Он почему-то решил, что они между собой называли его не по имени-отчеству, не по званию и фамилии, а по простоте его и доверчивости — дойной коровой, так! Он представлял, как они собирались всей незаконной семьёй у телевизора на тайной какой-нибудь явочной квартире, Глеб, Надя, Машинка и Велик, и объедались за его счёт, и дарили друг другу подарки за его счёт (Надька всё больше изводила денег с каждым годом! Вот, значит, почему!). И Надька говорила: «А чем, интересно, дойная корова сейчас занята?» И все смеялись. «Футбол смотрит». И все смеялись. «Скучает по жене и дочери». И все смеялись. «Чешет голову, он всегда так противно чешет голову, так сильно, как будто чесотка у него». Генерал воображал, как все смеялись, и злился. Взялся для разрядки звонить по очереди разным своим подчинённым и распекать. Слово за слово, увлёкся Кривцов, уволил Хохломохова, случайно поднявшего трубку в кабинете Сухоухова, и тут ворвалась в палату помолодевшая от гнева жена. Неожиданно сильная, она вырвала у него из руки телефон и впихнула ему в лицо бумажку с большими машинкиными буквами. «Мама, прости. Я просила папу найти Велика. Он не захотел и ругался. Я ушла искать Велика сама. Не волнуйся. Я оделась тепло. Хорошо поела. Взяла с собой Кроша, чтобы он без меня не скучал». Написано было со всеми отличиями детского правописания, то есть понятно далеко не сразу.
— Ы? — задал бессмысленный вопрос генерал.
— Ты, может быть, и родную дочь откажешься разыскивать? Она ушла, одна ушла, несколько часов назад, после обеда, совсем одна неизвестно куда! Понимаешь? Я обзвонила всех, кого можно, мы с нянями все улицы обошли в округе, на вокзал позвонили, в аэропорт, в полицию твою позвонили — нет её нигде! Нету! Понимаешь? Семь часов уже прошло! Понимаешь? — провопила в ответ Надежда и потом прошептала: — Найди её, Серёженька, найди нашу маленькую девочку, сделай что-нибудь, ты же можешь, ты всё можешь…
— Не плачь, я найду, обещаю, — генерал был человек более упрямый, чем смелый, знал про себя, что много чего перебоялся на своём тёмном и жестоком веку, всякого страху натерпелся, но тут одолел его страх нестерпимый, к которому он был не готов. Такой большой и ненасытный, он и не знал, что в нём и такой водится.
Прошло уже почти три дня, а Кривцов всё ещё не выполнил обещание: не нашлась Машинка. Он поднял лучших людей и не только своих, но и прокурорских, и Фсб, и Мчс: не нашлась Машинка. Генерал сидел на койке и, растопырив глаза и пальцы, рассматривал свои ладони. Вошёл Подколесин.
— Здравия желаю, товарищ генерал.
— Подойди, Подколесин. Посмотри, что у меня в руках, — приказал генерал.
— Есть, товарищ генерал, — Подколесин подошёл, посмотрел генералу в руки.
— Что видишь. Подколесин?
— Ногти, товарищ генерал.
— Что у меня в руках?
— Ничего.
— Правильно, Подколесин! Ничего!.. Я столько лет так сильно ворочался. Людей губил, копил деньги, до генеральских звёзд дотянулся, дом построил, все мне завидуют. А вот сам посмотри, что в итоге у меня есть, — генеральские ладони схлопнулись и опять раскрылись, как тяжёлый пустой сундук. — Ничего!
Лейтенанта не учили, как действовать в случае впадения начальства в меланхолию, поэтому он благоразумно принял положение «смирно», позволявшее ничего не делать, не двигаться и прятать голову в защитного цвета нейтрально тупое лицо.
— Я одеваюсь, Подколесин, — продолжил ошарашивать Кривцов. — В управление поедем, сам на месте руководить поисками Машинки буду. И эту, ту самую, лучшую-то, Острогорскую приведи ко мне. Туда, в управление. Попроси, чтоб помогла Машинку найти. Мы с ней вместе быстрее справимся.
— Она же против нас прислана, — очнулся было лейтенант.
— Но не против Машинки. Попроси. Приведи хотя бы. Сам попрошу. Что рот-то раскрыл?
— Говорить хочу, товарищ генерал.
— Говори.
— Есть! Поймали мы Аркадия Быкова. При попытке перехода карельской границы задержали в электричке. Доставлен в управление…
— Тем более, едем туда скорей… Что он?
— Даёт показания в точном соответствии с вашими установками. Рассказывает необходимую правду. Что Велимира Глебовича Дублина похитил для продажи педофилам; Аркадий Борисович Быков как раз и сам по этим статьям проходил пару раз… И на станции Кормовое продал за тысячу долларов этим самым педофилам, которые увезли Велимира Глебовича в неизвестном направлении и которых до этого никогда не встречал.
— Складно, — одобрил Кривцов.
— Служу России! — вскрикнул Подколесин.
Генерал поглядел на лейтенанта с сожалением, поглядел, но промолчал.
— Не надо бы вам выходить, товарищ генерал, — смутился Подколесин. — Кетчупы на улицах, нохчии всякие…
Кривцов вдруг часто замигал и по-солдатски грубо обнял верного оруженосца:
— Спасибо тебе, Подколесин. Хороший ты мужик. Один ты у меня и остался. Но ты пойми, надо мне. Сам посуди, что всё это значит, — он показал рукой на вселенную, — если я собственную дочку защитить не могу?
— Ничего? — догадался лейтенант.
— Ну вот и ты понял. За мной! В атаку!
§ 30
Управление внутренних дел слыло настоящим деловым центром города. С утра до ночи по его этажам и коридорам, уставленным отменной офисной утварью, носились энергичные молодые сотрудники в небрежно ослабленных модных галстуках и белых рубашках с расстёгнутой верхней пуговицей. Сновали долговязые секретарши с факсами и файлами в пляжных и вечерних платьях. Они курсировали между персональными кабинетами и служебными помещениями, в которых оседали полицейские постарше и посолиднее, начальствующие кто выше, кто ниже, а иные и вовсе не начальствующие, а просто напустившие на себя важности, чтобы не заставляли дежурить по выходным.
Дежурства, выезды по вызовам, корпение над отчётностью и прочая рутина отвращали многих от службы. Но интересной, творческой работы в любых количествах здесь, похоже, не боялся никто. Все говорили одновременно друг с другом и по телефону, прерываясь только для чтения и отправки срочных смс или скобления айпада. Из всех углов доносилось:
— На рынке пятый день фура из Минска стоит с кабачковой икрой, спросите Антона, почему не разгрузили до сих пор?
— Пиджаки китайские льняные летние Том Форд пятьсот штук, три штуки за штуку… Что значит один на пробу? Вы все берите, они не водка, чего их пробовать. Что значит денег нет? Я оптовик, нет, десять мало, всё, всё берите. Никакой рассрочки. Не возьмёте — к вам что, налоговая давно не заходила? Займите… У кого хотите… Вон хоть у Антона, у него нал всегда есть.
— Звоните срочно во Франкфурт, скажите Помидорычу, чтоб из евро уходил. Срочно! Куда куда? Хер его знает… Ну в доллар что ли пока, но не полностью. Юань пусть берёт. И золото. Потом разберёмся. Там эти бундесы небоскрёб этот обветшавший предлагали рядом с Рёмербергом. Может, его взять? Что? Какой торф? Торф скупать? На хера? Торф топливо будущего? Кто вам сказал? Пауль? Не слушайте его, он обманывает. Короче, пусть Помидорыч для начала из евро уйдёт, у него час времени, время пошло… а там поглядим…
— Нет, нет, не беспокойтесь, вы просто передайте вашу долю в Новотундринском месторождении Ивану Иванычу. Это мой водитель. Он к вам заедет завтра в девять утра. Нет, нет, не беспокойтесь, он сам все бумаги подготовит. Нет, нет, не беспокойтесь, нотариуса он с собой привезёт. На дому всё оформим… Да, у вас ведь и в Старотундринском блокирующий пакет. Откуда узнал? Ну я же в полиции работаю. Шутка. Вы и его заодно оформите. Да, да, на Ивана Ивановича. Как не было такого уговора? Был, был, вы запамятовали. Как же, позавчера, когда я уходил, помните, я вам анекдот рассказал про… Правильно… ну и до этого-то вспомните, в прихожей-то за посошком о чём говорили? Да нет, об этом раньше, а вот прямо перед анекдотом-то… Да как раз о Старотундринском. Да, вы согласились. Да, весь пакет целиком. Тоже бесплатно. За деньги-то мне не надо. Нет, нет, не беспокойтесь, он все бумаги оформит сам…
— Волатильность на европейских и азиатских рынках высокая, товарищ подполковник. Никкей закрылся в минусе; в Гонконге и Сингапуре отскок, но небольшой, после вчерашнего почти ничего не наверстали. Лондон в дауне, Париж стоит на месте… так точно, товарищ подполковник. Доу-Джонс и Насдак по полпроцентных пункта потеряли. Есть сбрасывать высокотехнологические и покупать сырьевые! Есть, товарищ подполковник! Разрешите исполнять! Есть!
Генерала Кривцова неприятно удивило то, что его никто буквально не узнавал. «Надо было форму надеть». Да и то сказать, давно уже Сергей Михайлович на службу не заходил, даже ветераны уже подзабыли о нём, а новички в лицо его никогда не видали, вот и не здоровались. Лишь выпивавшие в баре второго этажа по второму утреннему джину прокурор Двойкин, адвокат Куравлёв и обвиняемый/подзащитный Двойкин (брат прокурора), люди в сущности не свои, посторонние, вроде бы приметили генерала, да и то как-то невнятно, недружно.
— О! — сказал прокурор.
— Чё? — спросил Двойкин.
— Кривцов никак идёт! — сказал прокурор.
— Это который из районо? — равнодушно поинтересовался адвокат.
— Да нет! Который отсюда. Начальник милиции!
— Да ты чё!
— Полиции!
— Не может быть. Он же после обстрела в аэропорту вообще зарёкся из дому выходить. Убьют же его.
— До вечера, случись, к примеру сказать, доживёт? — спросил один Двойкин другого.
— Да доживёт, чего не дожить. А вот до утра вряд ли дотянет, — сказал другой Двойкин.
— И до вечера не доживёт, тут две трети управления на Кетчупа работают, а треть на Аслана. Вот те крест, к бабке не ходи — оба знают уже, что он из бункера вылез. Забьют прямо здесь, прямо щщас, к бабке не ходи, — возразил Куравлёв.
— Ну не две трети, и не треть, да и кто из их нукеров сюда сунется? Какая никакая, а всё ж полиция тут, — усумнился Двойкин.
— И совать сюда никого не надо. Они и так все здесь, нукеры эти, тут. Вот сам смотри. Видишь — Метелин, Плёнкин, Умоталов, Сморчко, сам знаешь — на сдельной у Кетчупа. А в этом коридоре, в кабинетах от 31 и 27А до 46-го и дальше все в той курилке и вплоть до этого бармена — аслановские.
— Ну в 43-й комнате, допустим, Репа сидит, он ничей, честный пацан, — проворчал второй Двойкин.
— Ничей, потому как никчёмный, он не мент даже, а судмедэксперт, патологоанатом, что с него взять, кому он нужен, — цинически прокомментировал адвокат.
— Брось, он хороший мужик, настоящий профессионал, так мне аппендикс удалил, я даже не почувствовал, золотые руки, — защитил Репу Двойкин.
— Тут ты прав, Репа крут, ничего не скажешь, он моей Таське такую пластику сделал, нос вот так приподнял и тут вот перед ушами убрал, как новая стала, — поддержал Двойкин.
— Слушай, у тебя этих Тасек три, кому из них он задрал — жене твоей, любовнице или дочери? — попросил уточнить Куравлёв.
— Жене, жене, дочери он гланды удалял. Тоже классно, руки, точно, золотые. А с той Таськой, которая любовница, я уж давно расстался. Он, кстати, и её лечил, уже только не вспомню, от чего.
— Конечно, медик он неплохой, тренируется на трупах каждый день… — не хотел оставлять цинического тона Куравлёв. — Кстати, о трупах. На что спорим, доживёт Кривцов или недоживёт…
Сергей Михайлович вошёл в свою приёмную, Подколесин вмаршировал в неё следом за ним. В приёмной за столом бдительно бездельничала, шурша тяжёлыми бархатами рубах и штанов, пожилая незнакомая секретарша с такими огромными круглыми и сверкающими глазами, что Кривцов принял их с первого взгляда за какие-то очки. У стола стоял дежурный офицер (генерал узнал старшего лейтенанта Прибаутова), слушая аудиокнигу из небольшого плеера. Офицер заканчивал полицейскую академию и писал изысканную дипломную работу под названием «Анализ особенностей следственных действий и уголовного розыска в середине XIX в. по роману Ф. М. Достоевского Преступление и Наказание». Теперь он изучал легендарный роман, но по ошибке купил диск не с Преступлением и Наказанием, а с Братьями Карамазовыми. Разницы он, впрочем, не уловил, поскольку вообще впервые слышал Достоевского, а уголовного розыска и в этом произведении вполне достаточно для самого глубокого анализа.
— Вот что, Алёша, быть русским человеком иногда вовсе не умно… — слышалось из плеера.
Прибаутов глядел на секретаршу, секретарша на Прибаутова, оба даже не заметили своего начальника. Кривцов прошёл быстро в свой кабинет, за ним, погрозив пальцем Прибаутову, проскочил Подколесин. Прибаутов глядел на секретаршу.
В кабинете генерал столкнулся с целой толпой людей, разом вдруг заговоривших с ним со всех сторон.
— Здравия желаю, товарищ генерал, — протянул руку фон Павелецц.
— Хорошо, что пришли, мы уже хотели за вами посылать, — сказал тунгус, внимательно разглядывая генерала. — У вас давление высокое, по лицу видно.
— Здорово, Михалыч, — улыбнулся сидевший на диване Человечников.
— Отпустите меня, я домой хочу, — воздыхал небрежно брошенный на стул Аркадий Быков.
— Вот моё удостоверение. Вот ещё бумага, смотрите, кем подписана. Вы, товарищ генерал, обязаны оказывать мне содействие. Моя фамилия Острогорская, — Маргарита приступила к Сергею Михайловичу. — Я нахожусь секретно в городе уже несколько дней. Но нет никакого смысла и никакой возможности скрывать нашу миссию ещё хотя бы одну минуту. Вы должны всё знать. Нам известно, что пропала ваша дочь. Нам также известно, что задержанный Быков оговорил себя, поскольку его били в камере, ему угрожали, его заставили взять на себя вину по делу об исчезновении Велимира Дублина.
— Павелецц, гнида, настучал, — подумал догадливо Кривцов. — Так вот ты какая, Острогорская… А тот узкоглазый тунгус, значит. А мне, значит, кирдык.
— Вы хотите, генерал, сами послушать, что говорит задержанный Быков? — посмотрела генералу в голову Острогорская.
— Да нет, зачем же, — застенчиво подумал Кривцов.
— Чего молчите? — впилась ему в мозг стальным голосом Маргарита.
— Да нет, зачем же, — застенчиво проговорил Кривцов.
— Конечно, Быков личность тёмная и, кажется, скверная, но он ли тут виноват? — спросила Маргарита генерала.
— … — уставился в пол генерал.
— Мы с Великом на рынке были, в палатку зашли пива попить. Ну это я пиво попить, а он мороженого поесть. Но мороженого в той палатке не оказалось. Это недетская палатка была, для взрослых, пиво только и плов. Ну я его отпустил за мороженым. Дал ему сто рублей, он ушёл. И не вернулся. Я искал, искал, бесполезно. Домой вернулся, ждал, ждал, нет его. И до утра нет, и утром нет. Я испугался — что отцу скажу? — и сбежал в Карелию, — воздыхал Аркаша.
— А чего вы верите-то ему! Нашли кому верить. Сами говорите — тёмная, скверная, а сами верите, — заверещал из-под генерала лейтенант Подколесин.
— Мы ему не верим. Но мы и вам не верим. Вы сколько дел о пропавших детях за последние годы не раскрыли и замотали? — ответил тунгус. — Мы идём в открытую. Вам не верим, но мы коллеги, вспомните об этом. И у вас есть предписание нам помогать. И мы вам готовы помочь — Машинку разыскать. Будем сотрудничать с вами. Делиться любой информацией. Но то же самое обязываем делать и вас. Не станете — пеняйте на себя. Найдём в ваших действиях или в вашем бездействии состав преступления — будете отвечать. Будете сотрудничать — наказание будет смягчено. Так что спешите искупить вину, потому как, сдаётся мне, вина на вас есть.
— Ты чё тут раскомандовался? Ты, чучмек безглазый! Ты с генералом как разговариваешь? Ты встань сначала, как положено, руки по швам, и спроси разрешения рот открыть, прежде чем вякать, жопа в галстуке! — вспылил генерал.
— Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей, — заявил из плеера Иван Фёдорович Карамазов.
— Михалыч, ты чего, успокойся, — Че втиснулся между опасно сблизившимися Мейером и Кривцовым.
— Нет, нет, нет! Не надо Михалычу успокаиваться. Надо, наоборот, Михалычу сильно беспокоиться, — подбросила горячих слов Острогорская, — Михалыч знает, что в его управлении принуждают людей к самооговору. Виновен ли Быков в похищении Велика? Возможно. Но — может быть, и нет. Есть ведь и другие версии. Возможно, в городе обосновался Дракон, неизвестный странствующий похититель детей. Может быть, Аркадий Быков и есть Дракон? Возможно. Но — возможно, и нет.
В городе видели Варвару, бывшую жену Дублина, мать Велика. Могла ли она похитить его? Спохватившись, раскаявшись через много лет — найти сына и вернуть себе? Могла. Почему не отрабатывается эта версия?
А вот сегодня мне сообщили из Москвы. Взяли Костю Мурзаева по кличке Мурза.
— Мурзу взяли? Того самого, из ватиканских?! — поразился Подколесин.
— Того самого, — подтвердила Маргарита. — Правая рука Вити Ватикана, большого бандита, почти вора, положенца на Марьиной Роще, Житомире и Женеве. Карающая рука Вити Ватикана. Мурза у него вроде шефа безопасности был, главный силовик. Взяли Мурзу со всей его библиотекой, датабазой, так сказать. Там все помечены были, кто враг, кто просто должен был, кто опасен, кого убить надо, за кем присмотреть, на кого нажать. Так вот, Глеб Глебович Дублин, отец Велика, у них должником числился. Документы будто бы у них выкрал на зарубежные счета. Около миллиона там было долларов. Они эти документы много лет искали и вот вышли на Дублина.
С ним должны разобраться известные коллекторы и киллеры Бурмистров и Рощупкин…
— Бур и Щуп! — воскликнул фон Павелецц.
— Именно! — сказала Маргарита. — И там они между собой. Мурза, Бур и Щуп, рассматривали и возможность похищения сына Дублина за выкуп в виде денег или документов.
— Интересно, — буркнул генерал.
— Интересно, — согласилась Марго, — но ещё интереснее, что ведь Дублин был любовником вашей жены, не так ли? А стало быть, мотив отомстить ему и наказать его таким жестоким способом, забрать у него любимого ребёнка, чтоб помучился… Такой мотив у вас ведь был. Михалыч…
— Я тебе не Михалыч! Я тебе товарищ генерал, соска московская! — совсем сорвался Кривцов, как будто стоэтажная пропасть разверзлась у него под сердцем, и сердце, грузное, тяжкое, каменное, полетело вниз, ко дну, к аду, увлекая за собой спутанную сеть из гудящих артерий, нервов и вен, в которой бился и запутывался и кричал о своём генеральстве маленький напуганный генерал.
— Ты мне не Михалыч, — закричала и Марго. — Ты мне преступник, скот, бездушная тварь, захватившая место, которое должен бы занимать добрый и сильный человек.
На тебя люди надеются, от тебя помощи, защиты, спасения ждут, а ты…
— … жестокие люди… иногда очень любят детей… Я знал одного разбойника в остроге, — повысил голос в приёмной Иван Карамазов, — ему случалось в свою карьеру, убивая целые семейства в домах, в которые забирался… для грабежа, зарезать заодно несколько и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на тюремном дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходить к нему под окно, и тот очень подружился с ним.
— А ты воруешь, отнимаешь, выбиваешь ложные показания… — перекрикивала брата Ивана Маргарита. — А пока ты деньги тут заколачиваешь, пока бизнесменствуешь, смотри, что вокруг творится, вот слушай, вот свежие новости: «19 апреля 11-го года. Минеральные воды. Восьмилетняя девочка ушла из дома с двумя знакомыми мальчиками, вместе с которыми продавала на улице цветы. К школьнице подошёл мужчина, который купил у неё букет, и с тех пор второклассницу никто не видел. На следующий день утром тело девочки с признаками удушения и сексуального насилия было обнаружено в пригороде подвешенным на дереве…»
— Но вот, однако, одна меня сильно заинтересовавшая картинка, — продолжал в открытую дверь Карамазов. — Представь: грудной младенчик на руках у трепещущей матери, кругом вошедшие турки. У них затеялась весёлая штучка: они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удаётся, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет… Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтобы схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему голову… Художественно, не правда ли?
— Прибаутов, выключи свою шарманку, — проорал генерал. Прибаутов смотрел на секретаршу.
— Ещё слушай, слушай, — зачитывала из блокнота Марго. — «Август 11-го. Москвич по имени Игорь систематически склонял детей сестры к интимной близости — мальчика четырёх лет, пятилетних двойняшек мальчика и девочку. После оргий подонок жестоко избивал их и приказывал молчать».
— Девчоночку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать, — продолжал Иван Фёдорович из невыключенной шарманки, — почтеннейшие и чиновные люди… Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали её ногами, не зная сами за что, обратили всё её тело в синяки… в холод, в мороз запирали её на ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью… — за это обмазывали ей всё лицо её калом и заставляли её есть этот кал, и это мать, мать заставляла!.. Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, ещё даже не умеющее осмыслить, что с ней делается, бьёт себя в подлом месте, в темноте, в холоде, крошечным кулачком в надорванную грудку и плачет… к «боженьке», чтоб тот защитил…
— Слушай, скот, — не унималась Острогорская. — «Апрель 11-го. Шереметьев ударил девочку кулаком в лицо, отчего она упала на пол, а затем продолжил избивать дочь ногами. Всё лицо у девочки было в крови. Отец отправил её умываться. Пятилетний ребёнок, у которой были разбиты губы, пожаловался, что у неё болят зубки. Шереметьев осмотрел рот девочки и обнаружил, что во время ударов повредил часть её зубов. Тогда он взял в руки плоскогубцы и безо всякой дезинфекции и анестезии выдернул дочери несколько передних зубов. Воронежская область. Сообщение агентства Regnum…»
— И вот дворовый мальчик, — перебил Маргариту Карамазов, — маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей… генерал велит мальчика раздеть, ребёночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пискнуть… «Гони его!» — командует генерал. «Беги, беги!» — кричат ему псари, мальчик бежит… «Ату его!» — вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак… и псы растерзали ребёночка в клочки!
— «Ежедневные новости Владивостока», — читала яростно по блокноту Острогорская, — сообщают, что «2 февраля 11-го года в правоохранительные органы города Лесозаводска обратилась мать семилетней девочки, которая заявила, что её дочь пропала. Незамедлительно были приняты меры, направленные на розыск дочери, в результате в лесном массиве в районе сопки Ружино обнаружен детский портфель. Оперативники пустили по следу собаку, которая вывела на прикопанное снегом тело…»
— Хватит! — Кривцов заткнул уши и закричал так громко, что: у плазмы Пионер, висевшей в кабинете, треснул экран, Аркадий упал со стула, а Прибаутов расслышал, наконец, кто пришёл, закатил очи и выключил плеер; и в то же время так жалобно, жалобно — Марго запнулась и удивлённо посмотрела на него.
— Хватит. Хватит. Хватит, — повторил генерал много, много раз, — хватит, — прошептал он под конец, похудел, осунулся, стал сер и сир и побрёл спотыкаясь к своему рабочему столу. Сел в кресло, съёжился, сморщился, сник.
— Не хватит, нате вот, дочитайте на сон грядущий, — положив перед ним страшный блокнот, тоже шёпотом и почти миролюбиво сказала Марго. — На кого надеяться этим несчастным, этим бедолажкам беспомощным? На кого? Кто их спасёт? Кто, кроме нас? А вместо этого вы…
Зазвонил телефон. Человечников вытащил его из кармана, сказал:
— Алло. Да. Как? Так. Да. Да. Да, — и обратился к Острогорской. — Маргарита Викторовна. Это Дублин звонил. Сказал, что Велик нашёлся.
— Как? Где он? — закричали все, особенно Подколесин.
— Дома, дома он, — обрадовал Человечников.
— Не может быть! — промямлил Кривцов, всматриваясь в Подколесина.
— Да точно, точно, Глеб Глебович только что сказал, — радовался отставной майор.
— Слава богу! — воскликнула Марго. — Едем туда, Че. А ты, тунгус, побудь здесь. Посторожи товарища генерала и гражданина Быкова, а то опять показания поменяются вдруг. Идёмте с нами, фон Павелецц, и вы, Подколесин. Будемте сотрудничать, так что ли?
Все умчались, особенно Подколесин: остались в комнате только Аркадий, майор Мейер и Сергей Михайлович.
Генерал продолжал худеть, съёживаться, сдуваться, издавая тонкий однотонный долгий стон, словно севший на гвоздь надувной мерин. Когда он умалился до прожиточного минимума, и Мейер хотел было уже вызвать неотложку, Кривцов вдруг встрепенулся, подался весь вперёд, протянул слабые руки к дверям и запоздало воззвал:
— Куда же вы, Маргарита Викторовна? А как же Машинка… Кто же мою Машинку теперь найдёт? Кто мне поможет? Кто спасёт мою маленькую девочку, ангела моего?
В дверях возникла фигура, но не Маргариты, а старшего лейтенанта Прибаутова.
— Вам пакет, товарищ генерал!
— Дай, — разочарованно скомандовал Кривцов, повозился с конвертом, пошелестел, поелозил по нему дрожащими спутанными пальцами, не справился, вернул Прибаутову. — Распечатай.
Старший лейтенант вынул из конверта тетрадный лист с какими-то закорючками.
— Что это? — уставился на лист генерал.
— Дайте взглянуть, — взял бумагу тунгус. — След Дракона!
— Что?
— Автограф похитителя детей. Подпись монстра. Кто пакет принёс. Прибаутов?
— Не знаю. На столе лежал. В приёмной. Напечатано: Кривцову лично срочно.
— Надо узнать, кто подбросил. Опросите всех. Проверьте регистрацию посетителей. Сухоухова ко мне. И Хохломохова… — вдруг взялся опять надуваться, расправляться и толстеть Кривцов. Глаза его включились, как фары, сердце затарахтело, как мотор. Он рванул, как старый полицейский мотоцикл, по следу, вперёд, в погоню.
— Хохломохова вы уволили… — доложил Прибаутов.
— Верните, он толковый.
— Есть, товарищ генерал.
Тунгус распорядился увести Аркашу и сам уже вовсю опрашивал, сверял, думал. Закрутилась с давно не виданной в управлении энергией уже подзабытая было работа, забегали следователи, засуетились патрульные, забросили на время торгово-промышленные свои хлопоты, взялись ловить Дракона.
Генерал же после внезапного взрыва активности опять обмяк и обвис, вперился глазами в окно. По стеклу водил ветками, как дворниками, счищая налипающий снег, серебристый лох. Этот лох возвестил Кривцову о быстротечности жизни. Восемь лет назад шёл Кривцов по улице по какому-то делу и отломил от какого-то куста веточку, и веточкой этой от нечего делать размахивал. Так с ней к управлению и вернулся после дела. И здесь показался на крыльце фон Павелецц и заржал: Михалыч, из роддома звонили. Надежда родила только что». Кривцов тут же помчался к машине и выбросил было веточку, но вдруг пожалел её, подобрал и воткнул у стены. Веточка та взяла да и прижилась, и вырос из неё пушистый раскидистый красавец лох. Он цвёл по весне серебристо-жёлтыми душистыми цветами, а по осени обильно плодоносил, собирая со всей округи весёлых разноцветных птиц. И вот дорос Кривцов до своего кабинета, и лох его вслед за ним до этого кабинета дотянулся и скрёбся теперь в его окно, просился к нему, как заскучавший ребёнок, дочери его сверстник, его малыш. Генерал подошёл к окну и тоже водил по нему руками, пытаясь погладить своего лоха сквозь стекло, и плакал.
§ 31
Надежда и Глеб любили друг друга мирно, скромно, несколько даже виновато. Потому что, хоть и возбуждало Надю звучание глебовых формул, она всё-таки ясно понимала, что никогда не уйдёт к математику от своего генерала по той простой причине, что генерал это генерал, а математик это не генерал. Да и Глеб не собирался звать Надю к себе навсегда, поскольку понимал же, хоть и пьющий был человек, — не по карману ему Надя, не по чину. Да и, честно сказать, побаивался он зверского надиного мужа.
Вот и была их любовь покойной, словно просёлок. [По которому давным-давно, когда ещё было у меня моё детство, бродил я из дома, из деревни Солнцево в деревню Зимарово и дальше, в Урусово, и потом обратно домой. В Урусове был пруд, в Зимарове церковь. Наудивши в пруду карасей и возвращаясь, заходил я иногда в церковь. Там была роспись о первозванных Андрее и Симоне. Новозаветные братья-рыбари были почему-то похожи на меня, и караси в их сетях были такие же худощавые и резвые, как мои урусовские. Что внушало смелую мысль, что вот ведь и мне может явиться некто и позвать за собой, и сделать меня ловцом человеков. Спаситель смотрел поверх Симона, меня и Андрея на открытую дверь храма. Он видел медленную просёлочную дорогу, над которой развевались на ветру два небольших шелковистых неба: одно слева от ветлы, бледно-белое, пустое; другое, справа — светлое, с пятнами синевы, облаками и летящим по следу самолёта ястребом.] И не было у них никаких особых тайных квартир, не было оргий, мерещившихся генералу, не обзывали они его в обиходе дойной коровой, как казалось ему. Они вообще о нём не разговаривали, да и ни о чём почти не разговаривали. Про формулы только и про житейские мелочи.
В сексе у них, как и у всех немолодых, было больше вежливости, чем страсти: «Давай помогу расстегнуть… Ой, извини, я жвачку забыла выплюнуть… Да ничего страшного… Тебе так удобно? Ты не против, если я сюда?.. Устал?.. Что ты сказала?.. Нет, ничего… А мне послышалось, ты сказала «пора бежать»… Нет, что ты… Тебе показалось… Тогда я продолжу… Да, да, конечно, не спеши… Извини… Спасибо…»
Им было хорошо вместе, нравилась эта экономичная любовь с чрезвычайно малым расходом душевных и физических сил. Такая любовь ничего особенного не достигает, но служит долго; смотришь — большие мощные страсти, взревев, взорвались и заглохли, и обратились в лом, а эта, слабая, приземистая, всё пыхтит, всё постукивает сердцами, работает, тащит.
Их дети общались друг с другом гораздо чаще, чем они. И уж разумеется, ничего не знали о характере их отношений. При детях никогда Глеб Глебович и Надежда не проявляли своих чувств, как навоображал себе мизантропический ревнивец Кривцов.
Когда пропал Велик, Надя старалась пробираться к Глебу домой каждый день, что было затруднительно и опасно из-за мужниных шпионов. И всё же почти всякий раз ей удавалось ускользнуть от них, её хитрость, бесстрашие и стремительность происходили из жалости и желания поддержать несчастного возлюбленного. Как в такой невысокой любви уместилось вдруг столько великодушия, столько громад и вершин человеческой природы, верности, смелости, самоотречения — нельзя понять, но ведь у бога бывают разные чудеса; да и сам он любит забираться во всякие невидные пустяки, таиться в них, а потом выскакивать ни с того, ни с сего и скакать по нашим головам то бурей, то войной, то разнузданным праздником.
Приходя, Надежда даже не заговаривала с Глебом, даже сторонилась его. Она готовила, ела сама, оставляла ему; смотрела телевизор, читала; стояла у окна, сидела на софе. Потом не прощаясь уходила. Она знала, что весь её Глеб теперь — сплошной ожог, что чёрный ад горит в нём, испепеляя его душу и тело, и весь его мир. И что прикосновение даже самых нежных губ и слов доставляет ему нестерпимую боль. И всё, всё, всё болит у него — сердце, мысли, голова, любовь, его страх и печень его, и кожа, и глаза его, и дом его, и пища его болит, и одежда, и небо его болят. Она слышала, как страшно он молчал, и испуганно молчала в ответ. Он не смотрел на неё, но чувствовал, объятый испепеляющей чернотой, что в черноте светит ему одинокая живая звезда цвета прохладной воды. И эта звезда была единственным, что отличало его от ничего, надежда.
Но когда пропала и Машинка, Надежда перестала приходить. Глеб не обижался и сам не искал встречи с любимой. Оба понимали, что, когда беда одна была, можно было как-то мыкать её вместе. Но когда у каждого стало по такой вот беде, уже нельзя было сходиться. Несчастья массивны и потому имеют свойство притягивать близлежащие судьбы и крепко удерживать их на долгих безысходных орбитах. Встретившись несчастьями, удвоив тяжесть на сердце, несчастные любовники не выдержали бы, навеки провалились бы в отчаяние, прилипли, привыкли бы к черноте, потеряв веру и человеческий облик. А это было нельзя — ради детей, которые могли (должны!) же быть ещё живы, могли ещё найтись и вернуться.
Дублин теперь принялся хмуро исхаживать каждый день по одному-два квартала, исхаживать подробно и тщательно — всё высматривал сына, вдруг найдётся. Дублин теперь совсем не пил, боялся рассредоточиться; нуждаясь в мудром слове отца Абрама, всё же избегал его, опасаясь неотвратимого в его обществе пьянства. Иногда с Глебом Глебовичем беседовала Марго — сухо, деловито, непонятно. Заходил пару раз на квартиру тунгус, копался в шкафах и по полкам, унёс чего-то с собой, сказал «для дела», тетрадки какие-то, игрушки, несколько одежд и великовы какие-то записи и рисунки. Хотел кедики унести, но Глеб не дал. Человечников звонил понемногу, разговаривал нежно, как с безнадёжно больным, и нежнее.
В первую же ночь после того, как на голову его обрушились страшная весть о пропаже сына и боксёрский удар кривцовской лапы, Глеб, едва уснув, проснулся от сильной жары в груди. Не понимая, в чём дело, он сел на кровати и долго задумчиво задыхался, пока не увидел, что из его разбитого сердца вылупилась адски жаркая и прожорливая тоска. В считанные часы она выклевала ему всю душу, на месте которой зазияло чёрное пустое пекло, и вымахала из голодного вертлявого гадёныша в толстого огнедышащего дракона. С той ночи эта толстая палящая тоска ни на миг не отпускала, разъедала его и таскала недоеденного между жизнью и смертию, не давая приткнуться ни к той, ни к другой.
Дублин не встретил, рыская по городу, ни Велика и никаких его следов, но совершенно неожиданно набрёл у Магриба на Варвару. Мгновенно догадавшись (обширного, тренированного, стремительного ума был человек, хоть и пьющий, но всё ж математик), что бывшая жена его тут неспроста, что, кроме как из-за Велика, ни отчего не могло занести её из Москвы сюда, на край тундры в городок, о котором мало кто слыхал, — он созвал всех знакомых сыщиков на поимку коварной похитительницы. И был остро огорчён, когда Варвара ускользнула. Тоска, остывшая было немного и отставшая, разгорелась снова и с новой силой стиснула его. Человечников сказал ему, что Варвара не бен Ладен, поймается быстро, но это как-то не помогло. Он каждый день теперь подкрадывался к Магрибу, но Варвара туда не возвращалась.
Дома он сидел с зашторенными окнами и без света — так не был виден жестокий, несправедливый, враждебный мир. Он лежал, терзаемый тоской, покорный, обезнадёженный, то ли на диване, то ли на полу, глядя на черноту выключенными глазами. В дверь постучали двумя одновременно разными стуками. Один стук был нервный, частый, нездешний. Другой, которым стучали пониже, звучал мягче и медленнее, анданте, легато и был будто бы знакомым каким-то.
Глеб не хотел подниматься, не хотел никого видеть. Он боялся покинуть своё оцепенение, свою знакомую тоску, выйти из горя, потому что, подобно Хамлету, страшился встреч с новым, незнакомым несчастьем, которое могло быть куда горше того, которое есть. Но тут послышался с нарастающей силой третий стук. Это был стук его раненого сердца, оно барабанило по рёбрам и вискам, просясь туда, к двери, к нежданным гостям.
— Ладно, ладно, — сказал сердито сердцу Глеб и встал. Он сделал пять шагов в привычном кромешном мраке, нащупал дверь, замок, открыл.
Хлынувшая в прихожую волна утреннего света внесла в дом и подняла прямо Глебу на руки звонкого, радостного золотоволосого мальчишку. Его волосы пахли хорошим золотом земли Хавила, из которого делались в первые дни творения цветы и звёзды, цветущие на берегах реки Фисон. Так в наше время ничто не пахнет, кроме его волос. Ещё ослеплённый, не успевший перенастроить глаза с тьмы на свет, жмурясь и морщась, Глеб по запаху признал:
— Велик, Велинька, солнышко моё!
— Папочка, папа, папа! — звенел в ответ сын, обнимая его руками и ногами.
На пороге смущённо улыбалась Варвара. Заметив, наконец, и её, Дублин воскликнул:
— Спасибо Варя, что вернула его, спасибо тебе…
Ошалевший, он стал целовать Велика, Варвару, варварину шубу, руки её и сапоги и — просто всё подряд, уже привыкая к свету, но, не привыкнув вполне и потому путаясь: дверную ручку, шапку на вешалке, выключатель и даже самый воздух, то есть предмет уж и вовсе отчасти бесплотный.
Нацеловавшись, окончательно прозрев и несколько успокоившись, Глеб засуетился:
— Велик, ты как себя чувствуешь? Хочешь покушать? Я мигом в магазин? Где ж ты был? Как же вы? Варвара, проходи, чай давайте пить, чай, я мигом.
Велик был румян и весел, одет в небогатые, но новые вещи, абсолютно цел и здоров. Он бросился к своим биониклам и айпаду, наспех поиграл, бросился обратно к отцу, помог ему собрать стол для скромного чаепития. Варвара, бросив шубу на диван, уселась на неё; чай не пила, но разговорилась охотно.
— Прости, Глеб. Я забрать его хотела, потому что счастья хочу. С мужиками не вышло. С тобой вот не вышло, с Дылдиным, с Грецким и Фундуковым… Подумала, вдруг с сыном счастливой стану, буду его воспитывать. Детей растить, конечно, не то что с мужиками трахаться, не так это весело, но тоже ведь женское счастье.
— А кто такие Грецкий и Фундуков? — поинтересовался Глеб, гладя Велика по голове.
— Грецкий певец такой. Начинающий. То есть начинавший, лет пять назад. Его по радио Шансон прокрутили. Не слышал? Шестого марта шестого года вечером два раза. Песня была про рябину. «Рябина гнётся как рабыня на, на, на, на ветрууу». Не слышал?
— Не слышал, — радовался Глеб. Велик пил чай с чудом сохранившимися, купленными задолго до его исчезновения любимыми его мармеладами.
— Этот Грецкий жить ко мне попросился и денег у меня занял на раскрутку. Я ему заняла, думала, талант у него, инвестиция хорошая, заработает себе миллион, вернёт. А он пожил у меня, поел, попил, поночевал, потрахался и сбежал. И ни слуху от него, ни духу с тех пор ни по радио, ни так. И деньги не вернул. А Фундуков — это такой бизнесмен известный…
— Миллионер?
— Да. Точнее, отрицательный миллионер.
— Плохой человек?
— Да нет, не плохой, просто он имел не миллионы, а минус миллионы, был должен. Миллионов десять разным банкам. Жил широко, любил меня крепко, жениться обещал, подарил часы и машину, и шубу вот эту, — Варвара подурнела, как-то опухла за прошедшие годы, но беседовала бойко, излагала ясно и напористо, как многая лета назад. — Арестовали его и часы арестовали за долги, и машину, и шубу вот эту. Ну шуба-то на мне была, а я на улице, так и спаслись, а Петро и Фундукова забрали…
— А кто такой Петро?
— Часы. Настольные. Восемнадцатый век. Забрали. Всё забрали менты…
— Кстати, о ментах, — спохватился радостно Глеб Глебович. — Замечательные люди. Если б ты знал, Велик, сколько людей ты заставил поволноваться, замечательных, прекрасных людей. Они так старались. Надо позвонить им, обрадовать. Пусть расслабятся. Хотя — без работы они не останутся, к сожалению, даже после твоего возвращения, — Глеб решил до завтра не говорить Велику о беде с Машинкой. — Алло, алло, Евгений Михайлович. Это Дублин беспокоит. Велик нашёлся. Нашёлся! Велик! Правда! Точно! Здесь, дома. Вот рядом сидит! Приезжайте!
— Пап, можно я Машинке позвоню? — спросил Велик.
— Она… уехала она… с мамой… на неделю отдохнуть… очень по тебе скучала. Расстраивалась. Вот Надя и решила её увезти… в… Казань… развеяться немного… Там телефон… не берёт…
— Жалко, — заскучал Велик, но ненадолго, на мгновение лишь. Папа, айпад, биониклы — слишком достаточно, чтоб не скучать.
— Так я и решила Велика разыскать, чтоб если уж не замужеством, так хотя бы материнством утешиться, — продолжала Варвара. — Дылдин твой новый адрес вычислил, меня с Аркадием Быковым познакомил. Тот и взялся к тебе в доверие войти и миром как-нибудь, хитростью Велика увести. Тупо похищать я не хотела, не дай бох напугали бы ребёнка, а то б и покалечили. А тут и ты в отъезд собрался, очень удобно всё сложилось.
Привёл ко мне Аркадий Велика, получил расчёт и был таков. Он, кстати, не врёт, что он твой маловероятный сын. Это правда. А остальное неправда.
Только вот и с Великом у меня не вышло. Уж я к нему и так, и этак. И подарки, и конфеты, и что хочешь. А он всё одно — к папе хочу, по Машинке скучаю, домой, домой. Здесь мы жили, недалеко на съёмной квартире. Ничего у меня не вышло. Вот, привела. Прости и забирай. Поздравляю, очень он тебя любит.
— И я его, — без тоски Глеб чувствовал себя легко и странно.
— Пил бы ты, впрочем, поменьше, — посоветовала заботливая Варвара. — И кому ты там звонил?
— Детективу. Он с товарищами своими дело Велика расследовал. Вот обрадуются.
— Попроси их Аркашу отпустить. Он не виноват, я его, балбеса, на это дело развела. А его взяли.
— Да, конечно, уж теперь-то точно отпустят его, всё же обошлось, — великодушничал Глеб.
— Как сказать, — покачала головой бывшая жена. — Пора, пожалуй, мне уходить. Твои детективы едут сюда, кажется?
— Так. Едут. Но не уходи. Они замечательные люди. Благодарить тебя будут.
— Как сказать… Пойду я. Прощай. Пока, Велик, — Варвара надела шубу и повернулась к выходу.
— Пока, — ответил Велик, глядя в айпад.
Из прихожей донёсся шум прибывающего Подколесина.
— О, да тут открыто, настежь тут всё, — шумел лейтенант. — После вас, Маргарита Викторовна, после вас.
В комнату вошла Марго, за ней Подколесин. Из прихожей тянули шеи фон Павелецц и Че.
Варвара смущённо улыбалась; Велик, поглощённый какой-то видеоигрой, едва кивнул вошедшим; Глеб бросился им навстречу:
— Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои. Простите, что заставил вас волноваться. Оказалось, понапрасну. Самое безобидное оказалось дело, самое семейное. Знакомьтесь, это Варвара. Вот, Варя, это знаменитая сыщица Маргарита Викторовна Острогорская. Это лейтенант Подколесин, скромный, мужественный… замечательный… Это тот самый бескорыстнейший, добрейший Евгений Михайлович Человечников. Он взялся помогать нам совершенно бесплатно… Это… извините, товарищ полицейский, запамятовал ваше…
— Здравствуйте, — смущённо улыбалась Варвара.
— Ну же, Велик, подойди поздоровайся со всеми. Они ночами не спали из-за тебя, столько работы, столько труда…
Велик послушался отца, отложил айпад, подошёл к каждому и поздоровался застенчиво, ласково; вернулся на своё место и продолжил игру.
— Вот молодец, сынок. Давайте, гости дорогие, пить чай. Но до чая прошу вас, требую от вас отпустить Аркадия и не предъявлять претензий моей супруге… Они ничего дурного не хотели сделать. В итоге и не сделали. Они не виноваты ни в чём. А если вы не пообещаете мне отпустить и не доставать их, то чаю не получите, — пошутил Глеб.
Никто не засмеялся, не ухмыльнулся даже. Че и фон Павелецц протиснулись в комнатку и вместе с Марго и лейтенантом окружили хозяина. Они, кажется, были очень удивлены, но не радостны. Варвара, оттёртая от выхода, вынуждена была опять усесться на диван.
— Что-то не так? — беззаботно спросил хозяин.
— Глеб Глебович, вы меня хорошо слышите? — ответила Маргарита.
— Да, очень хорошо, а что?
— Вы понимаете, что я говорю?
— Странный вопрос! К чему вы это? — засмеялся Глеб.
— Отвечайте чётко и ясно, где ваш сын? — отчеканила Острогорская.
— Вы шутите, Маргарита Викторовна? — не засмеялся Дублин.
— Я вас очень прошу, Глеб Глебович, ответить на мой вопрос, даже если вы находите его странным, шутливым или неуместным, — настаивала Марго.
— Он сидит перед вами за столом на стуле. Он пьёт чай и ест мармелад. Перед ним лежат айпад и два бионикла. Так называются его игрушки, — похолодевшим голосом отвечал Глеб Глебович.
— Найдите в себе мужество, дорогой, бедный мой Глеб Глебович, выслушать то, что я сейчас скажу. Мои слова подтвердят эти трое моих коллег, — Марго подержала паузу, повглядывалась в глаза Дублина и сказала: — Глеб Глебович, здесь нет вашего сына. И вашей бывшей жены здесь нет. Вы больны, Глеб Глебович, вы теперь больны. Мы поможем вам. Мы вызовем врачей. И главное — найдём Велика. Крепитесь, Глеб Глебович. Мужайтесь!
Дублин поразмахивал руками, поплакал, похватался за голову.
— Вы мне верите, Глеб Глебович? — твёрдо сказала Острогорская.
— …Я… — неохотно говорил Дублин. — …верю… Но кто тогда они? — он показал на женщину в шубе и золотоволосого мальчика.
— Плод расстроенного воображения, если выражаться классически, — объяснила Марго. — Галлюцинация. На этом стуле и том диване никого нет. Это не страшно. Надо просто отдохнуть.
— Это правда? — обратился Глеб к Велику.
— Правда, папа, — виновато ответил сын.
— Что ж ты мне сразу не сказал? — с укором спросил отец.
— Ты не спрашивал. Мне уйти?
— Как хочешь, сынок, — Глеб подошёл к ребёнку и поцеловал его в макушку.
— Бедолага, — подумала Марго, глядя, как Дублин целует пустоту.
— Всё ж таки прапор Пантелеев не подвёл, а то я уж и не знаю… — бормотал не вслух Подколесин.
— А как ты хочешь? — грустно улыбнулся отцу Велик.
— Останься, милый. Я не могу без тебя, — попросил Глеб. — Хоть ты и мираж, хоть ты и ненастоящий, но ты же мой сын. Я тебя и такого люблю. И всегда буду любить, каким бы ты ни был.
— Хорошо, папа, — мальчик встал из-за стола. — Пойду на кухню, чтоб вам не мешать, пережду там.
Глеб проводил сына взглядом и посмотрел на Варвару. Та как раз исчезала, таяла как столб пыли, рассеивалась. На её месте сидел Че и вызванивал дежурного психиатра.
Скоро приехали лекари и санитары, вкололи Глебу успокоительное, нашли его небуйным и потому оставили дома, уехали. Подколесин убежал ещё до лекарей, спешил доложить генералу Кривцову, что всё обошлось, Велика нет и быть не может, потому что то поручение выполнено было сразу быстро и точно. После лекарей Варвара улетучилась окончательно, без остатка; ушли Марго и фон Павелецц. Че посидел немного рядом с дремлющим на диване Глебом, задремал было и сам и, чтоб совсем не заснуть, отправился восвояси.
Глеб подождал, пока шаги детектива стихнут на лестнице, на всякий случай для верности подождал ещё минут десять. Потом встал, запер дверь, вернулся в комнату и позвал:
— Велик! Солнышко моё!
— Я здесь, папочка, — вышел из сумрака сын. Он был не так отчётлив, как утром, даже как бы размыт, зыбок и прозрачен, не так весел, но нежен и внимателен к отцу необыкновенно.
Весь вечер и всю ночь, и всё следующее утро они играли в монополию.
§ 32
— Eala eala Earendel, — поёт Жёлтый.
— Engla engla beorhtast, — подвывает Волхов.
— Ofer middangeard monnum sended, — двумя квинтами выше пищит юнга.
Они толпятся на носу парусника, глядят точно в цель. С лица медведя взлетают каждую минуту лёгкие резвые улыбки. В серебряном лице волка отражается близящийся Арарат. Из-под лица Юнга доносится благочестивый писк. Скоро финал, скоро скит и молитва. Скоро ли воскресение? Волк и медведь верят, юнга нет; нетерпение охватывает всех.
Цыгане плечом к плечу толпятся рядом, но глядят не вперёд, а вправо. Где-то там кочует их табор, и через час примерно они покидают корабль. Пока же глядят, перешёптываются помалу, вострят лыжи, на которых пойдут по льду на восток к родным, грубыми напильниками, невольно прислушиваясь к песне ангелов, на странном старосаксонском языке повествующей о восходе утренней звезды Эарендил. Эта звезда, сплетаемая из лучей семи апокалиптических звёзд, является над Спасом-на-Краю как знамение, когда Бог милует и принимает молитву, и исполняет её.
Лёд кругом уступчивый, рыхлый, расступается тихо, уже не грохочет, не трещит, не взрывается роями радужной пыли. Зато из долгой полыньи, оставляемой за ледоколом, взмывают огромными, как облака, косяками бесчисленные летучие рыбы. Они летят за и над, и перед парусником, миллиарды, миллиарды, миллиарды синих, алых, пурпурных, золотых чешуёю рыбин и рыбок. Мельтешат пурпурными, синими, алыми, золотыми крыльями. Иные молча, иные галдят, свистят, иные жужжат, смотря по породе. Обгоняющая корабль обширная, обильная стая крылатых певчих птиц Банаан поёт вместе с ангелами: «Радуйся, радуйся, Эарендил! Бог посылает тебя людям, о ярчайшая из звёзд!»
Семикратное солнце полыхает на этих летучих живых тучах, радуга перекатывается семью цветными волнами по их клубящимся склонам. «Красота какая! Много у Бога красоты», — восклицает схиигумен Фефил, взирая со стены Семисолнечного скита на идущий навстречу на всех парусах ледокол, на попутно парящих и порхающих рыб. Благоговеющий подле него схимонах Зосима кивает умильно головой. «Не Господь ли украшает Путь Посланного? Не знамение ли эта красота, как бы говорящая от Господа — се лучший из Посланных мной, возлюбленный мой, наибольший из архангелов моих, капитан Арктика?» — «Может и так, сын мой, — не вдруг отвечает преподобный отец Фефил. — Славит Господь Верного своего, сокрушителя Зла…» — «Скоро узрим вождя божиих воинств, великого, трижды величайшего…» — «Аминь!»
Трижды величайший между тем пребывает в некотором смятении. Он посылает попугая собрать команду, ждёт на корме, теряя терпение и расточая резкое, неспокойное сияние. Госпожа уже здесь, она знает, о чём готовится разговор, ей тоже — не по себе. Не без сожаления прерывая славную песнь, по зову попугая прибывают Жёлтый, оборотень и юнга. От нечего делать подходят и незваные Сличенки. Все строятся перед капитаном. Архистратиг долго рассматривает разноцветные глаза своих воинов, мешкает, мешкает, долго, долго не решается начать и потом вдруг спешит, спешит, заговаривает быстро, ошеломляюще:
— Солдаты любви! Воины Света! К вам обращаюсь я, друзья мои.
С некоторых пор мы спорим о добре и зле. О том, по праву ли собираемся просить Бога воскресить славных подводников «Курска». И видим, что даже нам, ангелам Господним, неведом Его промысел. Наш завет с Богом будто составлен на неясном нам языке. Мы знаем, что договор действует, но не знаем, каков его предмет, какова цель. Какие он предусматривает обязательства, права и пени.
Нас утешает мысль, что только одной стороне этого завета, то есть нам, ничего не понятно. Зато тот, с кем мы заключили его — наш Господь, — всё знает, а потому направляет нас и судит. Но иногда кажется мне, что и Он мало ведает, что мы должны Ему по этому договору. И ещё менее — что Он должен нам, — нарастающий ропот в строю. — Не ропщите, братья мои. Я это не к тому говорю, чтобы смутить вас и усомниться в благости Всевышнего. Наоборот, чтобы в непостижимости Его открылось нам Его величие. И действительно, разве не велик Тот, чьи чудеса поражают не только глиняных людей, не только воздушных серафимов и херувимов, не только вас, светлые ангелы, но и меня, архиангела, ближайшего к Нему. Велик, воистину велик.
— Ну не к добру это, — цедит сквозь зубы Юнг. — Щас огорошит. Раз завёл про величие, значит, натворил что-нибудь наш командир.
— Молчи, богомил, — не открывая рта, урчит чревом оборотень.
— И вот чем поразил меня Господь, — спешит дальше капитан. — Внушил он мне необыкновенную жалость к мальчику по имени Велик с монитора АТАТ4040ВВКУ764793. Мальчик этот, живущий в городке Константинопыль, попал в беду. Его похитил гнусный мучитель. Каждый день я принуждён Господом видеть, как бедствует чистое дитя. Вы знаете, как я силён, знает это и Бог, и Денница знает, но видеть эту беду я не в силах.
Многие люди страдают, многие среди них — дети. Отчего же так зациклился я на Велике? Отчего думаю только о нём? Не о миллионах других бедствующих. Не о моряках «Курска». А о нём. Только о нём.
Разве не чудо? Разве не поразительно божье принуждение? Не Его разве волей прикован я к этому малейшему существу? И зачем? Почему к этому именно? Непостижимо! Неисповедимо!
Капитан обрывается, словно споткнувшись, и затрудняется продолжить. Он молчит, молчит минуту, две, десять, потом опять молчит.
В строю начинают недоумевать и шептаться. Капитан закрывает глаза, не решаясь, — тяжело говорить то, что никто не готов услышать. Госпожа краснеет и, нарушая устав, произносит из строя:
— Да, капитан, действительно велик Господь и непостижим. Будут ли в связи с этим какие-то указания?
— Господь внушил мне великую любовь к человеческому детёнышу, — будто пробуждается капитан. — Я понимаю это как знак. Я покоряюсь божьей воле. Я полагаю, что Господь тем самым, жалостью этой говорит мне — спаси мальчика! И я возвещаю вам Его Слово — мы должны, достигнув Арарата, просить схимонахов молить Всевышнего о пощаде Велику. Об освобождении его…
— Неслыханно! — рычит медведь.
— Не могу поверить! — лает волк.
Попугай закрывает лицо крыльями.
— Не могу поверить, — Волхов выпрыгивает из строя, чуть ли не бросаясь на архангела. — Это предательство! Как мы можем предать моряков «Курска»? Их дома ждут такие же дети! Мы же решили! Мы обещали!
— Предательство — категория человеческая, — придирается Юнг. — Между ангелами не может быть ни предательства, ни преданности!
— А как же Денница? — возражает Жёлтый.
— Он не предал. Он просто зазнался. Да и для людей на самом деле предательство — благо.
— Как так? — удивляется Волхов.
— Так! Так! Предательство — двигатель прогресса. Без предательства нет развития.
Если бы Иуда не предал Христа, если бы Пётр не отрёкся трижды от него, не было бы ни Евангелия, ни христианства.
Если бы Цезарь не предал Республику, не перешёл бы Рубикон — не стоять бы Риму ещё пятнадцать веков.
Если бы Лютер не предал свою церковь, её закон и папу — не было бы величайшего взлёта человеческого духа, Реформации. И плода протестантской ереси — капитализма и демократии.
Если бы генералы не предали императора Николая, русская монархия, возможно, величественно гнила бы до сих пор.
Если Горбачёв не предал бы свою страну, кто бы рекламировал теперь гламурные баулы и пафосные авоськи Луи Виттона?
Если бы люди не предавали своих убеждений, не отрекались от вер, не изменяли идеалам, не нарушали присяг, не преступали клятв, они б до сих пор жили в пещерах и поклонялись идолам.
Предав идолов, пришли ко Христу, предав же Христа, обрели безбожие — мир, в котором надеяться можно только на себя. И, поняв это, принялись рьяно изобретать машины, лекарства, игры, всё новые хлеба, всё новые зрелища. Прогресс науки и техники заменяет доктрину Спасения через веру. Он сам и есть спасение. Всё, что сулит Бог — справедливость, любовь, свобода, бессмертие, — всё достижимо без Бога и решаемо как инженерная задача. Человечеству пришлось триста лет плевать на Бога, чтобы изобрести непригораемую сковородку и электрическую ловушку для комаров…
— Достал! — перебивает юнгу Волхов. — Капитан, — обращается он к архангелу, — ты нарушаешь устав и обычай. Никогда не менялась на ходу цель нашего паломничества. Господь не примет прошение от непостоянного, неверного, смятенного духа! Нельзя и помыслить этого! Решили просить о воскрешении подводников — так тому и быть! Опомнись, капитан! Тебе, конечно, решать, но — опомнись! Какой ещё Велик! Какой мальчик! При чём тут…
— Да, капитан, — говорит Жёлтый. — Не годится так…
— А воскрешать мёртвых годится? — пищит Юнг. — Не было такого уговору! Завету такого не было! Страшного суда надо ждать, а не канючить — этого, Господь, воскреси, да того ещё. Это не шутки — мёртвых воскрешать. Я всегда говорю — нельзя! Не об этом Бога просить надо, попроще чего-нибудь надо придумать, посмиреннее! А желать воскрешения до сокровенного часа, только Ему ведомого, — гордыня! Искушение диавола! И про предательство не дали дорассуждать, никогда меня дослушать никто не хочет, а я…
— Достал, — рявкает оборотень.
— Да, капитан, — басит примирительно медведь. — Успокоился бы ты, а? Почему ты передумал, почему сомневаешься?
— Не знаю, — отвечает тихо капитан.
— Почему Велик?
— Не знаю.
— Чем он важнее моряков?
— Не знаю. Не знаю ничего, — раздражается капитан. — Но на своём стою.
— Ты можешь приказать нам. По уставу.
— Но мы можем проголосовать. Таков обычай, — говорит архангел. — Голосуем. Кто за то, чтобы воскресить моряков «Курска»?
Лапы поднимают Волхов и Жёлтый.
— Двое, — считает попугай. — А вот люди, цыгане-то, пусть скажут, если по-человечески, то кого спасти лучше — сто больших или одного маленького.
— Маленького жальче, — произносят хором цыгане.
— Вот как! Ты, капитан, рассуждаешь как человек. Деградируешь! — язвит попугай, летая вокруг капитанской кокарды.
— Люди права голоса на корабле не имеют, — отгоняет рукой, как муху, саркастическую птицу архистратиг. — Голосуем. Кто за то, чтобы просить Господа вызволить Велимира Дублина? — и капитан решительно и высоко поднимает руку, словно отдавая честь, салютуя чему-то очень важному.
Помедлив, ещё краснее покраснев, поднимает ладонь к сердцу Госпожа.
— А ты что же? — обращается к Юнгу капитан. — Ты разве не за? Ты же против был воскресения экипажа субмарины. Почему ж не голосуешь? Воздерживаешься, что ли?
— Воздерживаюсь, — хамски улыбается юнга. — Именно что воздерживаюсь!
— Ты не хочешь ни моряков спасти, ни мальчика, — возмущается Госпожа. — Чего же ты хочешь?
— Воскрешать — плохое решение. И менять решение — тоже плохое решение, — глумится Юнг.
— Вот тебе раз, — давит Госпожа. — Ты же только что доказывал, что менять взгляды и убеждения — очень полезно, иначе бы прогресса не было.
— Для людей, сударыня, для людей предательство полезно, а не для Господа и ангелов его!
— А что же Господу-то полезно, — уже злится Госпожа.
— Непостижимо, что полезно Ему. Правильно говорит капитан! Завет наш с Господом хотя и крепок, но неясен. Чорт знает, что Богу нужно! — завирается Юнг.
— Ну, заврался ты совсем, — бормочет медведь.
— Двое за. Двое против. Один воздержался. Решение по обычаю не принято, — пресным голосом подводит итог архистратиг.
— Тогда решай по уставу, — требует Госпожа.
— Решу. Потом решу. Там решу, на Арарате, — отрешённо произносит капитан Арктика и уходит. Госпожа в отчаянии бежит за ним.
— Ты что ересь несёшь, салага?! — хватает юнгу за шиворот Волхов.
— Оставь его, — вступается Жёлтый. — Он так, погремушка. Капитан наш в смятении, духом сломлен, вот в чём проблема. Герой ведь был, а тут совсем чего-то ослаб, очеловечился. А этот так — видит, старший с ума сходит, вот и кривляется.
— Да, — отпускает юнгу оборотень. — Сдаётся мне, это последнее капитаново плавание. Сам весь в сомнениях и нас всех этими сомнениями заразит. Разлагаемся! Стали как труха, тьфу. Словно не из света сделаны, а из хлипкой скоропортящейся человечины.
— Ну ты за всех-то не говори, — отойдя на изрядное расстояние, дерзит юнга. — Кто из трухи, а кто из чего получше. По себе не суди, — и направляется к цыганам. — Пойдёмте, мужики, помогу вам на лёд спуститься. Домой вам пора.
Мужики идут за ним, кивая согласно головами «пора, пора»; и скоро уже виднеются далече, хлопая вострыми лыжами по мягкому льду и дымя партагасами по вольному ветру.
— Ну вот, ушли, — провожает их взглядом Юнг. — «Маленького жальче». И чего это я завёлся? Надо было капитана поддержать. Назло этому волчаре. Просто назло. «Ересь несёшь! Ересь!» Сам ты ересь несёшь! Самого тебя за шиворот надо да обратно за борт, за борт! Чтоб бежал за парусником как голодная собака. Тоже мне, волк нашёлся! Сука ты, а не волк! Эх, погорячился я! Теперь обидится капитан. И на Юпитер не возьмёт. А там бури, газы… кометы… Эх!
В одной из дальних укромных кают Госпожа читает капитану Арктика Евангелие: «…пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо их есть Царствие Небесное…» Её мерцающий голос переливается через громкий рыбий грай и рассеивается, негасимый, по всей вселенной. Достигает он и Волхова с Жёлтым, снова толпящихся на носу корабля.
— От Луки, что ли? — прислушивается Волхов.
— От Луки, — подтверждает Жёлтый.
— Пропал командир!
— Пропал. Истинно так.
— Всё одолел, Люцифера одолел, а человеческой жалости не превозмог.
— Не превозмог! Да и надо ли её превозмогать?
— И ты туда же!
— Все мы туда же. И всегда так было. Вспомни книгу Бытие: «…видя красоту дочерей человеческих, ангелы Божии брали их себе в жёны… а те рожали от них детей…» Так что не мы первые поддаёмся человеческой слабости. Жёны, дети… Засасывает эта земная канитель. Те ангелы не устояли, а уж на что были круты…
— Это уж точно так и есть. И в книге Еноха о том же… Пропали мы, брат, все пропали, не один только командир… Гиблое место… эта Земля!..
— Eala Earendel! — запевает Жёлтый от грусти и для бодрости.
— Engla beorhtast, — робко подпевает волк.
— Ofer middangeard, — отзывается с правого борта Юнг.
— Monnum sended, monnum sended, monnum sended, — поют они снова вместе, с каждым тактом всё громче и смелее. И заслышав их пение, скитеры на Арарате подхватывают священный гимн:
— …радуйся, радуйся, утренний Свет, посланный Господом…
И, отложив книгу, поёт Госпожа, и поёт капитан Арктика:
— …утренний Свет, светлейшая из звёзд, посланных людям…
В капитанской рубке попугай глядит в монитор АТАТ4040ВВКУ764793. «О капитан, мой капитан… чего ж ты-то распелся? Не решил ничего и поёшь, а тут такое… Боже, Боже, зачем ты нас оставил?! Жаль, что я как всякая земная тварь не имею голоса в совете ангелов… Бедный мальчик! С Юнгом поговорить? Обманет, из одной только вредности обманет. Вообще не понимаю, что он делает на ковчеге Спасения. По повадке, по масти — ну чистый ведь бес, натуральный. Капитана пристыдить? Да уж видно его, совсем разомлел, Хамлет да и всё тут, раскис, растяпа. Поэтому и не решился приказать, хотя мог, а по уставу — так даже должен. Но нет же! Быть/не быть… «Пусть решат за меня — голосованием, жребием, хоть как, лишь бы не моей собственной волей». Нет, не лечится такое беседами с любимым попугаем. Да и ни с кем. Тут пока сам с собой капитан не наговорится до одури, до отупения, до тошноты, сам себе не разъяснит всё и не придёт к простому какому-нибудь решению, из-за которого и мучиться-то столько не стоило, не от премудрости придёт, а от усталости только — до тех пор никто и ничто не поможет.
А вот с Жёлтым, пожалуй, пообщаться не мешает. Глядишь, переменит позицию. Он из них самый совестливый… может за мальчишку проголосовать…, а может и не проголосовать…»
§ 33
О бедных людях учтивость велит говорить, что живут они — скромно. Однако бедность лейтенанта Подколесина сама по себе была какой-то нескромной, почти вопиющей. Словно всем напоказ, нарочитой, непонятной, поскольку как может ближайший соратник и подручник могущего Кривцова так худо жить, не всякому уму уразуметь доступно.
Щеголял Подколесин в из шинельной шерсти пошитом пиджаке и в шинельного же цвета шестнадцатилетнем Шевролете. Ночевал уже шестнадцать лет в общежитии, не женат, не нужен никому, кроме генерала, не дружен ни с кем.
Кривцов, богатейший негоциант не только в городе, но, возможно, и на всём среднем севере, как-то всё забывал поделиться с верным слугой; всё собирался, справедливости ради надо сказать, всерьёз собирался, но — всё забывал. И звание не доходили руки ему повысить. Вроде и вспомнит иной раз, но как-то некстати, в бане, на охоте, так что ни ручки нет под рукой, ни бумаги для приказа.
Лейтенант был как бы частью генералова тела. Частью нужной, даже значительной, но из таких, о которых мало говорят, которых даже несколько стесняются и слабо помнят. Не почешут вовремя; моют редко и нетщательно; перед зеркалом красуясь — не выпятят, не будут разглядывать и разглаживать с удовольствием и заботой; в фитнесе не сделают укрепляющих эту часть упражнений. И только если заболит это место или, не приведи бох, отвалится — тут уж начнут ухать и кудахтать, но всуе, всуе. Потому что — раньше надо было думать.
Где-то, правда, в болоте, на живописном острове строился, по слухам, невероятной площади лейтенантский дом. Будто бы — с тремя бассейнами, будто бы — раззолоченный, будто бы — с мраморным гаражом и баобабами в кадках. Строился, говорили, давно, но по графику. Думал, говорили, лейтенант через два года достроить его и выйти в отставку. И зажить по новой, по-настоящему в этом новом настоящем доме с женой, друзьями. А пока — добирал деньги до суммы, которую полагал справедливой для вознаграждения своих многолетних трудов на государской службе. Вот с этой суммой и с домом он рассчитывал обрести покой и счастие. Впрочем, обо всём этом судачили да сплетничали. Ни баобабов, ни позолоченного мрамора никто не видел ни тогда, ни после.
Не в мраморном гараже, не в третьем бассейне коротал одинокие вечера лейтенант. Сидел он в общежитии в гулкой голой комнатке на нескладном табурете и возражал через стол поверх бумажных коробок с молоком:
— Вот ты говоришь — Путин, Медведев, Путин, Медведев… Ну читал я… и того и другого… И знаешь что — вроде правильно всё, умных слов вроде много… модернизация, глонасс, бандерлоги… Но, знаешь, не цепляет почему-то. Акунин лучше пишет.
Да ты сам-то прикинь: в полицию переименовали, а форму новую не выдали. А ведь обещали — с орлами золотыми, по два комплекта на год плюс носки по потребности. То есть никто эту форму и не просил. Сами ж пообещали. Не пообещали бы — никто бы не додумался. А если пообещали, никто за язык-то не тянул — так сделайте.
Или, вникни, — зарплату повысили. Что есть, то есть. Повысили, спорить не буду. Но у нас ведь работа какая? Скажи, какая? Правильно, опасная. Мы жизнью рискуем. А жизнь не продаётся. Жизнь моя дороже этих сорока штук стоит. Не знаю сколько, но точно дороже. И что — я пойду за эту повышенную зарплату в ноги им кланяться? Спасибо, типа, отцы! Да для нас, военных, зарплата не главное! Ты нас уважь, ты с нами сердцем будь. А денег хоть и вовсе не давай, только будь наш; накажи, брось, на смерть пошли верную — только подход к нам найди. Вот и будешь нам командир. А за деньги — ты нам не командир. Ты нам за деньги начфин. А начфины армиями не командуют…
Телевизор — а именно с ним беседовал Подколесин — в ответ пробормотал что-то про шторм в Шотландии и, явно не настроенный на содержательный разговор, принялся рекламировать пиво, которое лейтенант не любил.
— Да ну тебя, — засмеялся лейтенант. — Опять за своё!
Он выключил телевизор и подлил молока в свой опустевший стакан.
Вдруг из-за двери послышалось:
— Открой, лейтенант. Дело есть.
— Товарищ генерал, это вы? — не поверил ушам Подколесин.
— Я, кто же ещё.
— Вы ко мне?
— А к кому, по-твоему? К Ваенге, что ли? Она здесь, что ли, живёт?
— Я в том смысле, что так неожиданно… И такая честь… Молока не хотите?.. Полужирное, экологически…
— Ты мне сюда, что ль, молока вынесешь? Отопри уже, а?
— Ой, простите, — уже отпирал дверь Подколесин.
Генерал вошёл и застыл посреди комнатки. Оглядел потолок, поводил по нему пальцем, покачал вбитый в него крюк, на котором висела лампочка с несвежим серым светом.
— Слушай, Подколесин, ты можешь эту комнатку мне на время предоставить?
— Да, конечно, ночуйте, живите сколько надо. Я в отделении могу пока…
— Да мне не ночевать. Мне минут на десять. Ну на пятнадцать, если наверняка.
— А чего?
— Повеситься можно у тебя? Я дома хотел, уж и приладился было, но Надька проходу не даёт. Нечего тут, говорит, вешаться. Дом, говорит, не для этого. Вот так, Подколесин! Вот этими вот руками построил дом, а мне в нём даже помереть не дают…
— Зачем же? Так? — растерялся лейтенант. — Может, всё-таки переночуете… лучше?..
— И ты, Подколесин? И ты, сынок? Эх…
— Что вы, что вы, товарищ генерал…
— Слушай, Подколесин, мой последний приказ.
— Слушаю, товарищ генерал.
— Я жить так, Подколесин, не могу. Сам от себя не ожидал, но — не могу. Ты как сказал мне, что не вернулся мальчонка этот, что померещился он только этому сраному математику, так я понял — не могу. Всё надеялся, что выжил он, что не сделал Пантелеев то, что ты ему поручил, а я тебе… Но нет… Я поручил. Ты поручил… Пантелеев сделал. Ребёнка… ребёнка… — генерал оглядывал потолок, — я, значит, я… А его так Машинка любила… А я его… И дочку потерял… Не вернётся она, вот что, пока я не наказан. Чую, заплатить я должен. Собой. Тогда, может быть, и Машинка спасётся. А кто ж меня накажет? Я же крутой! Я их всех… Значит, сам себя я должен наказать. Приказываю — покинь помещение. Дай повеситься.
— Есть, товарищ генерал. Но один только вопрос — застрелиться не пробовали? Это как-то благороднее. По-нашему, по-военному…
— Нет, брат. Иуда повесился. И я, брат, Иуда и есть, а никакой не военный.
— Понял, товарищ генерал. А верёвочка у вас с собой? Не надо ли намылить, на крюк нацепить? Или записку для следствия — никого не винить… Как положено… Я мигом…
— О святая ты моя простота! Услужливость эту твою я люблю, Подколесин, — генерал обмахнул рукавом пальто свои старые потёртые глаза, — но сейчас… сам всё сделаю. Выйди. Вернёшься через пятнадцать минут.
— Есть, товарищ генерал.
Подколесин вышел в коридор. Постоял, почитал надписи на стенах. Добрался до каких-то «пенченеллы из Войвожа комната 23 за всё ответите крысы». Тут прошло пятнадцать минут, подождал ещё пять из уважения к начальнику, вернулся в комнатку.
Генерал так и стоял посередине, уставившись в потолок.
— Что-то ты рано, — не обернулся Кривцов.
— Никак нет. Извините.
— Пятнадцать минут прошло?
— Двадцать, товарищ генерал.
— Не могу… Не могу… Других, выходит, легче убивать, чем себя. Вот уж не думал. Слушай, лейтенант, у тебя пистолет с собой?
— Всегда, товарищ генерал.
— Будь другом, застрели меня, очень прошу. А я тебе записку оставлю, что ты не виноват, что это я сам тебя попросил…
— Нельзя так. Это ж чистая эвтаназия. Посадят меня, — испугался лейтенант и, надеясь, что остыл начальник, завёл было: — Молочка, товарищ генерал? Экологически чистое, живое, нежирное…
— А вот знаю же я, знаю, кто мне не откажет, — гнул своё генерал. — Пора мне, Подколесин. На вот держи, в хозяйстве пригодится, — он сунул лейтенанту в руки бельевую верёвку, шикарную, шёлковую, двухаршинную с жемчужным каким-то отливом.
— Что вы, товарищ генерал, такой ценный подарок… Заслужил ли я?.. — смутился лейтенант.
Сергей Михайлович зорко всмотрелся в него — не издевается ли? Или и вправду, что ли, всё-таки дурак? Или просто нехитрый добрый малый? Но не издевался Подколесин; верёвка эта, пожалуй, и точно была самой дорогой вещью в комнатке. Не считая пальто, ботинок и часов на генерале, который, впрочем, уже выходил, кряхтел по коридору, по лестнице топотал, выбегал на улицу. Час был почти ночной, улица удалённая, безлюдная. Генерал зашагал решительно, но не быстро по проезжей части, поминутно выкрикивая то вправо, то влево: «Аслан, я здесь! Здесь я, Аслан! Это генерал Кривцов говорит. Здесь я, слышишь? Эй, кто слышит — передайте Аслану. Тут я. Один. Без оружия. Пусть приходит. Здесь я-а, Асла-ан!»
Так прошагал Сергей Михайлович дюжины две улиц в надежде, что услышит его Аслан и застрелит — давно ведь собирался.
Но не видно было злого чечена, ещё дюжина улиц была одолена, но всё напрасно. А районы между тем становились всё безлюднее, темнее, снежнее. Тяжело было по ним шагать. Заплутал генерал, ослаб, присел на сугроб. Шепнул протухшим голосом:
— Аслан!
— Нет его, — весело ответил кто-то из подкатившего джипа.
— Где ж он?
— А хер его знает. Я тебе не подойду, раз его нет? — из машины высунулся радостный Кетчуп. Позади него виднелась девица с бокалом красного вина и, кажется, ещё одна — без бокала.
— Подойдёшь, если пушка с собой, — обрадовался генерал.
— А я думаю, шутят люди. Звонит один, другой, третий… Кривцов, говорят, по городу без охраны ходит, Аслана зовёт… Не поверил никому, но когда Парщиков подтвердил… Проверю, думаю… И правда ведь! — светился счастьем Кетчуп. — Гляди, Анжела, Ань, смотри, — две девицы как по команде уставились на Кривцова, Кетчуп показывал на него пальцем. — Тебе чего, мент, жить надоело?
— Надоело, Кетчуп. Грохни меня, — спокойно сказал Кривцов.
— Вот это да! Но пушки-то у меня с собой как раз и нет. Не готовился. Всё не верил… Не ожидал тебя всё-таки увидеть…
— Так сгоняй домой… за стволом-то…
— Это ни к чему. Ты на себя посмотри — руины! В чём только душа держится! Пугну её только слегка — и выскочит из тебя вон!
— Правда, что ль? — вздохнул Сергей Михайлович.
— Правда, правда, — влезла в разговор одна из девиц. — Выглядишь неважно…
— Помолчи, — оборвал её Кетчуп. — Не твоё дело, не суйся.
— Ну так пугни! — попросил генерал.
— Кто бы знал! Не поверит теперь никто — что я тебя вот так… бесконтактно… завалил, — засмеялся Кетчуп; потом махнул на Кривцова рукой, как машут на гусей или бестолковых голубей, отгоняя от чужого корма. — Кыш! Кыш! Брысь! Брысь! Пшла!
И действительно, из развалившегося на сугробе обмершего генерала вывалилась небольшая недоношенная душа. Испуганно вознеслась метра на три. И натужно полетела, заметно прихрамывая на левое заднее крыло, — на восток, на болото. Там, говорят, она и поныне таскается, неприкаянная, питаясь илом и трепеща, словно раненая птица.
Под утро, прознав о гибели товарища генерала, Подколесин вызвал к себе в общежитие прапорщика Пантелеева.
— Скажи, Пантелеев, как Велимира Глебовича Дублина убил? Генерал просил меня вникнуть, чтоб ты не накосячил, как тогда с Бахтияром, — спросил лейтенант, теребя дарёную верёвку.
— Так я его не убивал, — ответил Пантелеев.
— Как? А что ты с ним сделал?
— Да ничего. Не успел ничего сделать. Пропал он. Вы ж сами сказали, позвонили тогда.
— Я ж позвонил тебе спасибо сказать, что так быстро сработал. А ты мне — «пожалуйста, всегда рад, всегда можете на меня положиться, передайте товарищу генералу…» Не помнишь что ль?
— Ну.
— Что ну? Зачем же ты тогда так говорил, если на самом деле палец о палец не ударил?
— Ну вы так хвалили, — заулыбался Пантелеев. — Я думаю, чего отказываться. Всё в зачёт пойдёт. Если вы подумали, что это я такой шустрый молодец, так чего мне вас в этом разубеждать…
— Скотина…
— Да ладно вам.
— А что с ним?
— С кем?
— С Велимиром.
— Откуда же я знаю! Я его даже не видел никогда.
— Значит, мы с тобой его не убивали. Не похищали.
— Никак нет.
— Пошли.
— Куда?
— К Острогорской.
— Зачем?
— Скажем, что мы не убивали, хотя Кривцов и просил.
— А зачем, товарищ лейтенант, покойника впутывать? Ну сказал, ну погорячился, бывает. Всё равно же ничего не случилось. Так что Сергей Михайлович и не виноват, выходит.
— А затем, товарищ Пантелеев, что пока не отпала версия про Сергея Михайловича, мы с тобой тоже под подозрением.
— Тогда пошли.
Вскоре в лобби Атлантика они достаточно талантливо и подробнейшим образом письменно и устно, обстоятельно и наперебой описывали Маргарите и тунгусу детали несостоявшегося преступления.
«Или состоявшегося? — думала, выслушивая их, Марго. — Оба врут? Или только Пантелеев. Такой мог и убить. Лицо честное — сразу видно, подонок. А теперь испугался, когда своим самоубийством Кривцов себя практически выдал. А с собой и этих… знатоков… рождённых революцией… своих подручных…»
«Или всё же правду говорят? — думал, поглядывая в окно на очаровательное юное стройное утро, Мейер. — Такие-то, которые всю жизнь врут, от потрясения какого-нибудь вдруг столько правды разом наговорят, сколько и знать не захочешь. И по делу всё как есть расскажут, и не по делу, чего никто и не спрашивал — добавят от себя. Только успевай слушать, пока они в себя не пришли, пока не успокоились и опять врать не начали».
Утро было раннее, воскресное, не тронутое ещё людьми. И хотя солнце не проступало сквозь бежевую пелену, закрывшую небо, от окутанной только что выпавшим снегом земли исходили такая чистейшая ясность, такой легчайший, ласковый, освежающий, будто утренний свет, морозец, что казалось — земля сама светит себе лучами лучше солнечных.
§ 34
Утро было необычного цвета — сахарного какого-то. Человечников смотрел из офиса на тёщин огород удивлённо и гордо: красота на огороде была поразительная, редкая. Новый пуховый, казавшийся даже тёплым снег покрыл всё, сгладил все углы, сровнял неровности, скруглил выступы и обрывы, спрятал нечистое, глупое.
Сарайчик, в котором валялась всякая шанцевая дрянь, стал похож на ошитую шёлком и плюшем шкатулку с бох весть какими сокровищами.
Тупая ёлка под окном, двуствольные клёны вдоль изгороди, шершавый вершень, взъерошенные крыжовники и самая изгородь — вся эта небогатая среднерусская древесина осыпана была сверху донизу жемчужным серебром, серебристым золотом, инеем чистой воды, смирным свечением. Так любовницу увешивают перед любовью дорогими дарами, превращая в искристую царицу, хотя «царица» эта три дня всего как доставлена модельным агентством из Моршанска.
— Хорошо, как хорошо, — улыбался майор, недоумевая, чего это ему вдруг так похорошело. Ведь ничего хорошего как раз не происходило и не предвиделось.
Машинка и Велик не нашлись, и каждый день ослаблял надежду. Получаемый от участия в расследовании доход мог очень скоро прекратиться, поскольку теперь, когда не стало Кривцова, а с фон Павелеццом, Подколесиным и прочим личным составом Марго работала открыто и непосредственно, ценность майоровых услуг становилась околонолевой. Но, и не прекратившись ещё, доход этот уже внёс сумятицу Человечникову прямо в семью: жена его Ангелина Борисовна и дочери стали от этого дохода сварливы; когда не было денег, Ангелина, конечно, иногда беспокоилась, но — очень иногда; когда явились деньги, начались сравнения с другими деньгами, которые были у некоторых знакомых, и часто выходило, что у других деньги больше и твёрже; от этого получались огорчения и гомон. И всё же — гомонящую супругу и примкнувших к ней дочерей Евгений Михайлович угомонил бы, но как вылечить себя самого от Маргариты, он не понимал. Он впервые влюбился не в жену, и эта первая незаконная любовь настолько потрясла его примитивный организм, что он возомнил себя чуть не преступником, лжецом жене в лицо, предателем детям. А перед Марго дрожал, не мог к ней привыкнуть. Она каждый раз поднималась над ним неожиданная, сильная, яркая, жаркая, высокая, как взрыв, он пригибался к земле, она ослепляла, сбивала сердце с ритма, контузила.
Евгений Михайлович, намаявшись и намучившись незнакомыми муками, с непривычки написал два письма. Одно Ангелине Борисовне («Я виноват, потому что полюбил другую женщину. Я не сам, я не хотел, но ничего не могу с собой поделать. Ты должна это знать. Я буду перебираться в Москву на заработки, буду высылать деньги, но вместе нам уже нельзя…» и т. д.), второе Маргарите Викторовне («Уважаемая Маргарита Викторовна. Тунгус рассказал многое о вашей трудной личной жизни, о ваших непутёвых мужьях, которые вас не любили. Да и не могут они! Артисты и миллионеры, уважаемая Маргарита Викторовна, это не то что мы, простые труженики. Мы лучше…» и т. д.).
Письмо жене он оставил на кухонном столе, Маргарите же отдал в руки.
— Это что? Материалы к делу?
— Материалы. Лично в руки, — ответил ей контуженный и сконфуженный майор.
— Срочные?
— Нет. Нет. Вы лучше вечером. Лично.
Острогорская улыбнулась и своей прожигающей насквозь бесшумной насмешкой ещё раз контузила Че. Он попробовал думать о Великовом деле; сердце билось и рвалось; пролистал опросы находившихся в полицейском управлении на момент доставки туда конверта со «следом Дракона», начал было пить чай, не осилил и полчашки; вспотел; подпрыгнул к Маргарите и промямлил (сердце сбилось с ритма):
— Разрешите материалы… того… ну как его… обратно… мои…
— Чего это вы? — с прежней улыбкой рассердилась Марго.
— Ну надо мне… обратно…
— Доработать, что ли? — подсказала Острогорская.
— Доработать, — воспользовался подсказкой Че.
— Да поздно уже. Я уже прочитала.
— Нет, нет. Это ошибка… Это было не вам, — (сердце остановилось и стояло) умирал майор.
— Как не мне? А кому же? — всё улыбалась, улыбалась, улыбалась (красивая!!) Марго.
— Тут… одной… По работе… один… просил передать… Чтобы я передал от него… тут одной…
— Да ладно вам. Я пошутила. Не читала я вашу записку. Вот возьмите, видите — не распечатано даже.
Майор схватил письмо, пригнулся и почти по-пластунски выбежал вон. Он бегло дополз до дома, налетел в прихожей на жену, только вернувшуюся с рынка. Споткнувшись о пакет с мочёными яблоками, упал на кухню.
— Ты куда, — крикнула и пошла вслед ему Ангелина Борисовна.
— Надо… Тут… — послание жене ещё лежало — бох милостив — на столе и, кажется, нетронутое. «Я виноват, потому что полюбил…» — с трудом после контузий разбирая собственный почерк, в ужасе прочитал майор и сунул, смяв, проклятую бумажку в карман. Послание было длинное, смялось в довольно толстый ком, карман оттопырился.
— Что это у тебя там? — полюбопытствовала вошедшая на кухню с мочёными яблоками и сушёными рыбами жена.
— Материалы… Секретные… Забыл тут…
— А что так рано с работы?
«Боится, что работаю опять мало и мало зарабатывать буду», — обиделся про себя майор, вслух же сказал:
— Да вот вернулся за материалами, теперь обратно в управление.
— Позавтракаешь? Смотри, сколько всего принесла.
— Там поем.
— Где там? Возьми хоть с собой, возьми. Вот корюшка сушёная, бери к чаю. Ты же любишь чай с рыбой.
— К чаю можно. Да нет, столько не надо. Я одну, вот эту.
— Да бери три. Угостишь кого-нибудь.
— Кто ж её будет? Это я только с чаем её люблю.
— А другие без чая любят. Бери. Подколесина подкорми. Или Дублина своего.
Че взял рыбу и пошёл не в управление, а в свой офис. Здесь он сжёг обе трагические записки и теперь завтракал рыбой и чаем, и разглядывал в окно необычное утро, и говорил «хорошо».
— А что, собственно, хорошего? — сомневался он в то же самое время. Он был добрый следователь и очень переживал за пропавших детей. Ему было очень стыдно, что до сих пор он их не спас.
— Хорошо — что не отправил эти записки по почте, — ответил он себе. — А то по почте не вернуть бы… Разве что дежурить у почтового ящика… Перехватить сразу после почтальона… И чего это нашло на меня! Письма взялся рассылать… Совсем чумачечий…
Ему вспомнился злосчастный Глеб Глебович, день его страшного сошествия с ума. Он вспомнил, как безумец терпеливо ждал, когда же все уйдут из его квартиры. И все ушли, только Че всё медлил, жалел Дублина, хоть и понимал, что тому не терпится остаться одному. Вспомнил, как, неловко попрощавшись, наконец ушёл, спустился по лестнице и — вспомнил! — заметил краем глаза, задел правым боком широкого взгляда что-то выпиравшее из стены. Это был давно не опорожнявшийся, переполненный газетами, журналами, брошюрами, листовками и конвертами, раздувшийся до размеров почти шкафа зелёный почтовый ящик. Он бугрился над гладкими рядами таких же, но не настолько запущенных зелёных жестяных коробок с номерами квартир. На нём, впрочем, и номера почему-то не было. Че подумал, что это ящик, должно быть, Дублина, которому, понятно, не до газет и буклетов было все эти дни. Подумал и прошёл мимо, подумал слабо, краем головы и тут же забыл.
— Ало, я тут вот что вспомнил, — отложив рыбу, он взялся за телефон. — Ало, майор, ты хорошо меня слышишь? — он звонил Мейеру. — Ты почтовый ящик Дублина проверял? Где-где. Как у всех, в подъезде. Как не быть? Почему у него должно не быть почтового ящика? Вот и я чего-то забыл совсем. Как-то не подумали. Ну бывает… Какие же мы после этого опера? Ну чего, вместе посмотрим? Я у себя на Рязани… Да вот прямо сейчас и выхожу… Ну, через минут… через полчаса. Всё, там встречаемся.
Пока поднимались к Дублину в четвёртый этаж, тунгус пересказал Че недавно закончившийся допрос Пантелеева и Подколесина. Постучали и позвонили в дверь.
— Подколесин может наврать? — спрашивал Мейер.
— Пантелеев легко может. Подколесин только в крайнем случае, — отвечал майор.
— А их случай не крайний разве? Убить ребёнка собирались. А может, и убили…
— Нет, этот случай не крайний. У них таких много было.
— Значит, правду Подколесин говорит?
— Значит, правду.
— На сто процентов?
Че потянул с ответом:
— На девяносто.
— Тогда хоть это и не ложь, но всё-таки и не правда. Дома, что ли, его нет?
Дверь, действительно, не открывалась, и никаких человеческих шумов из-за неё не слышалось.
— Ушёл куда-то? Спит? Опять свихнулся?
— Или не хочет никого видеть?
— Или самоубийство?
— Ладно, ладно, не каркай. Пошли ящиком займёмся.
— Без спроса?
— Да ничего. Пустяки. Думаю, не найдём ничего.
Они вернулись на первый этаж. Распухший ящик и вправду оказался дублинским — на конвертах и счетах была его фамилия. Газеты были московские, журналы научные и детские. Письма — деловые: долги за газ, воду, тепло, электричество.
Сыщики разложили корреспонденцию на подоконнике, перекопали её тщательно, но — безрезультатно и стали запихивать обратно в ящик. И тут из складок толстой Комсомолки вывалился тонкий конверт без адресов и марок.
— Такой же, как тогда в управлении, — сказал тунгус.
— В котором «след Дракона» прислали?
— Да.
Мейер умело, почти не испортив, вскрыл конверт и извлёк из него тетрадный лист.
— Из такой же тетради, как и тот, — произнёс Че.
— Так и есть.
— И что на нём? Тоже иероглифы?
— Нет. Тут по-русски. Буквы наклеены — вырезанные из газет. Как в старом кино. Вот читай, — тунгус повернул листок к Человечникову.
«Ваш сын у нас Отпечаток его большого пальца на левой руке прилагается в углу записки Служит доказательством
Вы должны — все документы на фирму трест ДЕ собрать в один файл и положить в заброшенную котельную на берегу Новоленинградского оврага
Во вторую печь от входа
Тогда Велик будет жить Срок десять дней Тогда получите Велика
Не надо — снимать деньги с фирмы Трест ДЕ
Не надо говорить в полицию
Тогда не увидите Велика никогда», — было наклеено на листок.
— Бур, что ли? — предположил Мейер.
— И Щуп? Но при чём здесь Дракон? — усомнился Че.
— Заодно они?
— Или они и есть Дракон?
— Звоню Марго!
§ 35
— Лалалалалала всё будет хорошо, — прилипла к мозгу вылетевшая из телевизора юркая песенка, — лалалалалала куда бы ты ни шёл… — капитан Арктика тягостно улыбнулся и подумал: вот прилипла-то… как глупо! А ведь я всегда предчувствовал — что умру глупо. Что моя раздувшаяся от славы и денег жизнь разродится вот такой несообразно жалкой, как эта, смертью. Под аккомпанемент не военного марша и орудийного салюта, а вот такого привязчивого мотивчика. И склонится надо мной не друг со словами «thus cracks a noble heart; good night, sweet prince…», а вот такая злобная мразь… лалалалалала всё будет хорошо лалалалалала куда бы ты…
Капитан лежал, воткнувшись виском в пол. По гладкому и скользкому, как каток, линолеуму проскакал мимо его глаз жёлтый таракан, убегавший от растекавшейся по гостиничному номеру крови. Кровь, он знал, выливалась из его простреленного живота, быстро утекала от него к двери на балкон. Пытаясь остановить и вернуть её, он ухватился медленной рукой за её удаляющийся край. Но рука онемела, пальцы помимо воли разжались, и кровь устремилась дальше.
И юнга, и госпожа, все, все покинули его, как только прослышали, что Витя Ватикан послал к нему Бура и Щупа. И хотя все доходы от гастролей и расходы всегда контролировал Блевнов, отвечать теперь приходилось ему. Несправедливо, обидно, но такова расплата за успех. И чёрт ли их дёрнул тогда, в начале бизнеса, занять денег у ватиканских. То есть без этого они бы, наверное, не поднялись, но были, кажется, и другие варианты — у ореховских взять, у тамбовских; в банке каком-нибудь, наконец. Но опыта не хватило, вот и связались с Витей. Оказался Витя мрачным беспредельщиком; договор с ним заключён был, во-первых, только устный, а во-вторых, совсем неясный, да ещё и менявшийся Ватиканом в одностороннем порядке, когда вдруг деньги ему бывали нужны, или просто вдруг.
Он не установил срок возврата занятого, ни положенные проценты. Он решил, что капитан и его команда теперь всегда ему должны. Требовал с них деньги беспорядочно и помногу. Сперва бурно растущие прибыли позволяли мириться с произвольными вымогательствами. Но когда, достигнув высокого уровня, стабилизировались, а аппетиты Вити продолжали усиливаться, положение стало невозможным. Хитрый Блевнов, державший кассу, подсылал к Ватикану для переговоров капитана, говоря «ты человек знаменитый, не то что я, тебя он игнорировать не сможет, а пугать побоится». Вышло со временем, что капитан Арктика превратился в крайнего по всем щекотливым и опасным вопросам. Он говорил было Вите, что долг давно уже многократно отдан, что если это, по мнению Ватикана, не так, то надо уже зафиксировать окончательную сумму, после которой — «всё!»
Витя охотно сумму фиксировал, но, когда она была выплачена, заявил, что «не всё», что он передумал и что нужно ещё.
Шли, шли годы, годы, мучения продолжались. Капитан Арктика был популярен, его обожали миллионы. У него завелись большие связи — с политиками, нефтяниками, народными артистами. Он подумал, что уже готов послать Ватикана и — послал. Ватикан раз попросил денег, другой раз, третий. Не дождавшись требуемого, захотел объясниться, но капитан Арктика не захотел. Тогда Витя послал ему Бура и Щупа. Они настигли должника в городке Войвож, в одноэтажной гостинице, нетрезвого, ужаснувшегося, оставленного партнёрами. В наши дни публика начала от капитана уставать, так что приходилось гастролировать с сеансами исцелений, предсказаний и гражданских проповедей по невзрачным неизбалованным городишкам. В мегаполисах подавали уже не так.
Денег у капитана не было; всё, что было (если и было), прихватил с собой Блевнов, но Бур и Щуп не могли ждать, не хотели рассуждать. У них были простые инструкции. Они даже пытать капитана не стали. Просто прострелили живот; и смотрели.
— Артист, ты жив пока? — спросил стоявший у вешалки Щуп. — Чего молчишь, Еропегов?
— У, — простонал в ответ капитан Арктика.
— Ты, Еропегов, мне скажи, тебя дострелить или сам помрёшь?
— Сам, — прохрипел капитан. Он вспомнил, как после радиоэлектронного техникума пошёл работать санитаром в психоневрологический диспансер из страха стать нормальным. Он знал, что его место среди сумасшедших. Что душа его слаба и неупорна и потому непригодна для многолетнего карабкания по карьерным лестницам. Что если и суждено ему подняться, то лишь случайно, быстро, высоко и ненадолго — какой-нибудь краткий вихрь забавных обстоятельств, летящий мимо, подбросит, покрутит по верхам и выронит. Так и вышло. Покрутил. Выронил.
— Сам так сам. Пошли, Бур, пропьём сэкономленный патрон.
Сидевший на подоконнике Бур, приподнявшись на кривых руках с ладонями сорок пятого размера и слегка раскачавши на весу ноги, перепрыгнул капитана и его кровь, допрыгнул до вешалки, спросил Щупа:
— Ты уверен?
— Дверь запрём. Даже если кто узнает и начнёт спасать… Но это вряд ли, не будет этого, у него и кричать-то сил уже нет, телек всё равно его переорёт… Но даже если услышат — пока прибегут, дверь выбьют… Минут десять самое малое на это уйдёт. А ему и жить не больше осталось.
— Ну, десять или двадцать, тут тебе, конечно, виднее. Ты по части медицины авторитет, не спорю. Но если всё же выживет? — бурчал Бур, выходя из номера. Так он и бурчал всю дорогу, пока шли к машине. Они приехали в Войвож в образе дальнобойщиков. В квартале от отеля прятался во дворе их грузовой Мерседес.
— Ладно, посиди пока в машине, — вздохнул Щуп и пошёл обратно в гостиницу; вернулся через десять минут.
— Ты куда ходил? — спросил напарник.
— Туда.
— А чего?
— Чего-чего! Вижу, нервничаешь, знаю тебя — будешь бухтеть ещё три дня… Короче, можешь не волноваться. Доделал я дело. Для верности. Чтоб ты не переживал.
— Вот спасибо, — обрадовался Бур. — Спасибо. Спасибо. А то — вдруг бы выжил. К чему риск? Это ж не казино. Мы, как врачи, с живыми людьми дело имеем. Тут надо точно, чтоб наверняка. Как хирург — беда, если не дорежет.
Щуп сел за необъятный руль, пришпорил педаль газа. В Войвоже не видали никогда никаких Мерседесов. Поэтому даже грузовик произвёл сильное впечатление. Машину обступили дети и собаки.
— Говорил тебе, Камаз надо было брать, не можешь ты без понтов, — опять забухтел Бур.
— Рррр, — ответил Щуп. — Хватит бухтеть, бубнить и бурчать. Сегодня великий день, давай отметим.
— Давай отъедем километров на двести отсюда, тогда и отметим, — пробубнил Бур.
Партнёры много лет уже копили деньги. Они планировали собрать по десять миллионов евро на каждого, после чего — уехать в Лондон или на Буайан. Купить там квартиру и остаться навсегда, бросив привычный промысел. Планировалось открытие ресторана. Готовить должна была мама Бура, украинская весёлая старушка, вареники у которой точно получались недурны. Планировалось потеснить бургеры и хотдоги и процентов тридцать местного рынка фастфуда отнять под вареники. Хотелось коллекционировать ковры, курить сигары и читать Таймс. Хотелось говорить по-английски и важно хохотать в беседах с аристократками.
Бурмистров и Рощупкин зарабатывали коллекторством и киллерством. По получении, скором получении гонорара за капитана Арктика (а гонорар был солидный, потому что объект знаменитый) как раз заветная сумма складывалась и даже несколько превышалась.
Было в запасе ещё одно дело — Дублина и Треста Д. Е. — но надо ли было доводить всё до конца, теперь было неясно. Мнения друзей расходились. Бур бурчал, что хватит, можно уже завязать; Щуп же полагал, что этот — последний! — заказ надо выполнить по двум причинам. Первая — это тоже деньги, а лишних денег не бывает. Вторая — заказчику обещано, слово надо держать, покинуть отрасль нужно с честью, не уронив нажитой за эти годы репутации.
— Зачем нам киллерская репутация теперь, если мы уходим в ресторанный бизнес? Там нам эта репутация ни к чему, — резонно замечал Бур. — Сматываться надо, а Ватикан перебьётся, сам пусть с математиком разбирается.
— Ватикан может обидеться. А зачем нам обиженный Ватикан? Обиженный Ватикан — вещь неприятная, — не менее резонно добавлял Щуп.
Выбравшись из толпы детей и собак, выкатившись из города, друзья всё спорили. Не договорившись, сменили тему.
— Слушай, дело прошлое, а чего ты всё-таки на Сахарова не пришёл? — спросил Бур.
— Я ж тебе говорил, не смог. Проспал.
— Как ты мог проспать, если митинг в два начался?
— Так я спать лёг в час… Ты чё? Думаешь, я испугался?
— Не знаю…
— Чё ты не знаешь? Я испугался, что ли, думаешь? Бля?!
— Ты не испугался, конечно, но чего-то не пришёл. А могли бы революцию сделать, если бы некоторые…
— Чё некоторые?
— Да ничего!
— Не! Ты, бля, договаривай! Чё некоторые?
— Да ничё!.. Опять щас выберут… на шесть лет… а ты спишь…
— Ну и оставайся тут! Без тебя в Лондон поеду. А ты тут революцию свою… дрочи…
— Ну и хуй с тобой!
— Да иди ты в жопу.
— Останови машину.
— Зачем? Ты чего, пешком пойдёшь?
— Стой давай.
Щуп притормозил; справа была роща елей, слева холмы земли; повсюду снег. Бур, возбуждённый спором, влажной горячей ладонью провёл по щеке Щупа.
— Ты хочешь? — спросил Щуп влажным горячим баритоном.
Бур ответил страстным глубоким всхлипом. Друзья обнялись и жёстко, с хрустом и матом совокупились.
Кончив и устало нежа друг друга лёгкими взглядами и касаниями, они порассуждали:
— Поедем с математиком решать? Я тебя люблю.
— Да ну его. И я тебя. Смсни Ватикану, что с капитаном решили. Он завтра деньги перечислит. И ходу отсюда, из совка этого. Не могу, достало меня тут всё, рожи эти, чиновники, жулики и воры… Перевешал бы всех…
Ссориться им больше не хотелось; одевшись, поели, поехали — «по дороге решим». Из-под елей вылезли зайцы, глянули на Мерседес неприветливо, отвернулись. Там, где горизонт обрывал трассу, горело что-то вишнёвым огнём — лес? дом? солнце?
Зайцы перешли бетонку, поднялись на холм и стали что-то высматривать на расстилавшейся вокруг широкой плоской России.
Велик, спавший на дальнем краю этой огромной местности в погребе под замком, увидел во сне растекавшуюся по миру густую тьму. Он проснулся и открыл глаза, и увидел ту же тьму — наяву. И подумал: что-то случилось, что-то случилось, случилось.
§ 36
Едва Острогорская перестала таиться и возвестила открыто о своей миссии, к ней со всей округи потянулся крупный служебный народ. Как-то скоро навели о ней справки, снеслись со знатными знакомыми в Москве и получили от них разъяснения в высшей степени удовлетворительные. Передавали из столицы источники сведующие и верные, что Маргарита Викторовна имеет связи через Сардинию чуть ли не в Кремле, располагает крепкими рекомендациями и полномочиями чрезвычайными. Что вхожа к самому Павлу Алексеевичу, Александру Ивановичу приходится правой рукой, а с Натальей Александровной так и просто на дружеской ноге. Кто были эти Александр Иванович и Наталья Александровна, наводящие справки даже и не представляли, но по тону ответов догадывались, что какие-то, по всей видимости, экстренные существа.
Так что всякий норовил с Маргаритой Викторовной познакомиться или хоть мелькнуть перед ней в надежде понравиться. И уж конечно, не в низменном значении, ни о каком флирте солидные эти характеры и не помышляли, а исключительно в интересах дела, по служебной исключительно надобности. Что вот-де глянемся мы столичной диве, а она и замолвит слово там, наверху кому следует. Какое такое «слово»? Где «там»? И кто тот, «кому»? И чем, наконец, глянемся-то «мы»? Какими своими рожами и талантами? Тут было, право, много ещё неясного, но энтузиазма это нисколько не умаляло.
Все эти подчинённые начальники, пресмыкавшиеся у подножия державной пирамиды; рядовые генералы, состоявшие на посылках у азербайджанских перепродавцов; полнотелые подполковники, не умевшие выкарабкаться из-под полковников, мешающих их карьерному росту; мелкопоместные миллионеры, изнурённые классовой ненавистью к миллиардерам; здешние серенькие селебритиз, застрявшие и заскучавшие в нижних этажах высшего общества — всё это ринулось к Маргарите в надежде набраться новых чинов, званий и связей.
Кто звонил без церемоний прямо на добытый окольно мобильный и шёпотом на ухо звал на уху. Кто обращался официальным письмом на казённом бланке с неотложным политическим вопросом. Кто оставлял у портье подарки и визитки, и приглашения на вечеринки. Но чаще пытались действовать тонко, через тунгуса, либо ставшего вдруг в большой чести Че, либо хотя бы фон Павелецца, потому что всё ж таки побаивались красавицу с полномочиями, не хотели враз нарваться, без разведки и разводки нечаянно дров наломать, не так как-нибудь показаться. Тогда — пиши пропало, не только нового чина не схлопочешь, но ещё и старого лишишься. Не только в Котлас не переведут, не говоря уже о Москве, а пожалуй, и отсюда-то вытурят.
Тунгуса и Че обхаживали, совали им билеты Банка России, но те не брали, бранились только в ответ и стыдили сователей. Фон Павелеццу билеты тоже сунули было, и он их, само собой, взял, но просьбу о знакомстве с Марго выполнить не смог, почему и был отставлен всеми как неспособный, ни к чему не годный человек.
Вельможные горожане пожаловали гостье роскошный пятикомнатный кривцовский кабинет в полицейском управлении. «Для удобства работы». Советовали «для удобства отдыха» съехать из затхлого Атлантика на свои червонцевские дачи.
От дач Марго безусловно отказалась, а в кабинете дворцового типа бывала, собирая там целый штаб следствия из уже известных Че, фон Павелецца, тунгуса, а также коллег из других силовых учреждений, журналистов, конторщиков мэрии, добровольных помощников из числа бандитов и школьников.
Работалось там действительно удобно — все виды связи, под рукой весь штат управления, лаборатории, комнаты для совещаний и уединённых размышлений.
Веселила её и отделка, обстановка офиса — как будто дизайнер захотел воспроизвести викторианский стиль, о котором судил по собственным воспоминаниям о декорациях посмотренного однажды в детстве древнерусского фильма «Чисто английское убийство». Ничего личного от усопшего хозяина здесь не осталось (поскольку он сюда заглядывал в последнее время очень редко и кратко), кроме двух фотографий на столе. На одной насупленная годовалая Машинка; с другой жутко улыбался, лёжа на палой дубовой листве, сердитый секач с простреленным сердцем, любимый охотничий трофей Кривцова. Перед входом из приёмной в собственно кабинет к стене была привинчена бронзовая пластина с трогательной надписью «Реставрация помещения осуществлена при финансовой поддержке предпринимателя и гражданина Фёдора Петровича Пухлова».
В раздольной приёмной с громадноглазной громадногрудой секретаршей по утрам грудились теперь сходившиеся со всего города вип-просители. Они приставали к Че, тунгусу, реже прямо к Марго с устными и письменными предложениями, доносами, наветами, просьбами, мольбами, плачами и даже часто с какими-то невнятными, но сильно подобострастными и патриотическими междометиями. Мешали работать, но прогнать их невозможно было ввиду их неимоверной по здешним меркам административной весомости и соответственно вездеходности.
«А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я ещё не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели. А один раз меня приняли даже за главнокомандующего…» — думала Марго цитатой из русской классической книги с забытыми сюжетом и названием, читанной в отрочестве на домашних уроках, каждый раз, шествуя к своему рабочему месту сквозь гудящую груду разнокалиберных заискивающих начальников. Уездные тузы и тузики расступались перед ней, энергично сопя и спотыкаясь друг о друга; немногие, самые только тупые и отчаянные дерзали поздороваться или подать прошение, да и то, едва наскочив, отскакивали; велико было напряжение, страшен страх.
Замечательно, что красивой её из наших обывателей, кажется, никто не находил. Может быть, оттого, что красота Маргариты была избыточной, атакующей, отталкивающей. Пугала, а не привлекала. Даже Человечников, единственный рискнувший сойти от неё с ума, не знал точно, влюблён он или только напуган. Высокая, высокомерная, в чёрном тонком длинном пальто, в чёрных джинсах и изящных полувоенных полусапожках, она лазерным взглядом насмешливого лица раздвигала толпу и на полдня скрывалась в кабинете.
Не так легко было прорваться в заветный кабинет Надежде Кривцовой и расторопному слуге купчихи Сироповой Анатолию Негру. Взгляды у них были нелазерные, пальто у Надежды неромантически рыжее какое-то, а у Толи и вовсе непальто, куртка куцая; толпа по их пути не расступалась, наоборот, не сторонился никто, мешали пробиться на приём к Марго и её команде. Мешали, а Толе и Наде очень туда нужно было. Они встретились у входа в управление; были знакомы — купеческие дети учились в школе, где преподавала Надежда; Негру часто их привозил на занятия и забирал потом; разговорились:
— Надежда Петровна, уважаемая Надежда Петровна, — с лёгким дубоссарским акцентом посочувствовал Негру. — Ещё девочку вашу не нашли, а тут с уважаемым Сергеем Михайловичем горе такое… Беда одна не ходит… А тут и Глеб уважаемый Глебович… Ну если чем могу помочь… И Эльвира Эльдаровна передаёт соболезнования…
Надя обратила к нему потяжелевшее, неподвижное, словно из белого надгробного камня выдавленное лицо и молча, одними глазами прошептала:
— Глеб? Анатолий, вы сказали Глеб? Что с ним?
— Я думал, вы знаете. Они же с отцом Абрамом ушли на полюс.
— На какой полюс? — голос Надежды еле пробился из-под каменеющей печали.
— На Северный. Он ближе… От вина всё это, от вина, вот бедствие русского народа. Эльвире Эльдаровне пьяный Абрам сказал — идём с Глебом на полюс, в какую-то полярную церковь Велика спасать. Через неделю вернёмся, сказал. Три дня, сказал, туда, три обратно. Девять дней прошло — не вернулись. От вина это. Не выносит русский народ вина, плохо ему от него. Вот в Молдове у нас мы вино с детства пьём. И ничего. На полюс не ходим. Нам от вина хорошо, а русскому плохо…
— Глеб ничего не сказал мне. Может быть, он с отцом Абрамом не пошёл? Может, дома он? — предложила Надежда.
— Не знаю про Глеба, всё может быть. А вот отца Абрама точно нет дома десятый уже день. Вот Эльвира Эльдаровна и сказала — иди, Анатолий, в полицию, скажи им. Вот иду. А вы? Про Машинку узнать? Или из кабинета Сергея Михайловича вещи забрать? Ничего, что интересуюсь? Если вещи, могу помочь донести…
— Нет, Анатолий, не вещи. Про Машинку письмо получила, — заплакала Надя.
— Ну-ну, — цокнул языком Негру — От кого?
— Какие-то красные партизаны. Похитили они её. Выкуп требуют.
— Ну-ну!
— Велели в полицию не заявлять. А у меня и денег-то столько нет, сколько они просят. Я и не знала никогда, где их муж прятал. Вот пришла сюда и стою у дверей уже полчаса. Заявлять? Не заявлять?
— Ну-ну!
— Как вы думаете, Анатолий!
— Заявлять! Полиция что-нибудь придумает. Она хитрая. А похитители не узнают ничего. Если вы, конечно, не будете ещё пять часов у дверей стоять.
— А что же полиция придумает-то, Толенька?
— Куклу придумает, это такие деньги ненастоящие. Или меченые деньги придумает. Засаду придумает. Да мало ли что! Пошли! Я про Абрама заявлю, а вы про партизан. Ну и про Глеба Глебовича проверить попросим.
[Как мы, отчаявшись и потерявшись в затруднительных обстоятельствах, как мы бодримся, дойдя до точки, от любого уверенно произнесённого совета, даже если совет недодуман, а советчик глуп и равнодушен!]
Надежда Петровна пошатнулась, накренилась и побрела покорно по коридорам управления вслед за молдаванином.
К Марго, однако, проникнуть с ходу не удалось. Сгрудившиеся перед заветной дверью сопящие чиновники слышать не хотели о срочности, о смертельной опасности, угрожавшей ребёнку, о злосчастии, постигшем монаха и математика. Всем им, по их словам, тоже было нужно срочно и важно попасть к Острогорской. Требовали встать в очередь и ждать, требовали равенства и скромности.
Не протиснулись бы, если бы среди прочих не торчал в приёмной некто Нектов, помощник мэра, которому раз в месяц относил Негру от Сироповой букет ромашек с вложенными между цветов тремя пятисотевровыми деньгами. Нектов был добрый малый, к тому же тёзка.
— Толя! Толя! — поздоровались приятели, пошептались, поозирались многозначительно. Потом Нектов подвёл Негру и Кривцову к двери и сказал припавшему к ней директору Водоканала:
— Им нужно, — посверливая пальцем берёзовый косяк.
— Я-то не против, если ты просишь, — доверительно сообщил директор. — Но не пустят их. Строгая она. Ждать надо, когда сама выйдет.
— Этих пустят. Они по делу. По профилю. По специальности, понимаешь? — прояснил Нектов. — У них вопросы уголовные, а не карьерные, не то что у нас.
— Ну рискни, — отвалился от двери директор.
Помощник мэра втолкнул Кривцову и Негру в кабинет и крикнул туда же:
— Насчёт Машинки они. И Глеба Дублина.
За большим столом для совещаний сидели Че, тунгус и фон Павелецц. Они в который уже раз рассматривали два одинаковых конверта и два одинаковых тетрадных листа с неодинаковыми текстами. Че близоруко водил носом то по китайским, то по русским письменам, всё что-то пытался вычитать и понять, но, видно было, не понимал. Фон Павелецц отщипывал бумажные волокна для очередной экспертизы и в очередной раз удивлялся, что нет ни одного отпечатка, ничего. «Хоть бы слюны капля или пыли бы хоть пылинка», — жаловался он тунгусу. Тунгус качал мягкой жёлтой молчаливой головой.
Все точки, где продавались такие конверты и тетради, быстро установили, но без толку — слишком много было этих точек, самые обычные были конверты и тетради, покупавшиеся повседневно всеми подряд, очень многими людьми. Документов Треста Д. Е. на квартире дублинской не нашли: то ли прятал их в другом неведомом месте, то ли потерял во время передряг на Буайане. Но папку пустую приманчивого красного цвета во вторую печь полуразрушенной котельной положили и засаду на чердаке припрятали; однако засада зря пока мёрзла — не пришёл за папкой никто. Зря шерстили и прочёсывали город оперативники, журналисты, школьники и бандиты, пока зря.
На полу на жёлтом шёлковом ковре с вышитым посвящением «Сергею Михайловичу — благодарное Горэнерго» в позе лотоса восседала Марго. Она странно носила — пять обручальных колец. Четыре на левой руке в память о четырёх разводах — серебряное, стальное, два белого золота. И одно на правой — платиновое, означающее брак с Максимом. У неё была привычка — в задумчивости теребить кольцо правой руки, снимать его и надевать на пальцы левой, потом обратно и так далее. Она так всегда делала, когда предчувствовала перемены. И сейчас она занималась именно этим — задумывалась, смотрела бессмысленно в стену, играла кольцом.
Она так и не двинулась с места, пока: в комнату втолкнулись Надя и Толя; заявили одновременно о красных партизанах, выкупе, Дублине, расстриге; Че взял у Кривцовой письмо похитителей — такой же (естественно, такой же) конверт, такой же лист с оборванным краем из такой же тетради; Толя передал мнение Эльвиры Эльдаровны, что у о. Абрама давно белая горячка, а у Глеба Глебовича, как известно, недавно, так что наверняка вместе сбежали; тунгус подтвердил, что Глеба несколько дней уже дома нет, скорее всего и в самом деле сбежал с о. на полюс; «почему на полюс?» — «как мог обещать до полюса дойти и обратно за неделю?» — «самолёт?» — «да нет, по железке, говорил, до Караула, а оттуда пешком» — «бред какой-то» — «врал?» — «просто белая горячка» — «ах, да, забыл, тогда ясно» — «и что там на полюсе?» — «Велика там хотели спасать» — «как так?» — «да бох их знает» — «белая горячка»; письмо партизанское было напечатано на принтере: «Надежда ваш муж был кровосос, он грабил народ, теперь его постигла заслуженная смерть а деньги народные надо народу вернуть, ваша дочка у нас вот её отпечаток верните народу пять миллионов долларов или для начала хотя бы рублей. Мы политическое движение красные партизаны. Положите деньги в старой котельной в первую печь от входа около новоленинградского оврага. Не бойтесь печь не горит деньги не пострадают. Будут все до копейки возвращены народу по справедливости. Не заявляйте в полицию. Не говорите ей про нас и про печь. Тогда получите живую дочь. До свидания. Красные партизаны срок неделя»; Кривцову и молдаванина тунгус и фон Павелецц развели по разным комнатам для допроса и официальной фиксации показаний.
Тогда Марго вспрыгнула и сказала оставшемуся за столом Евгению Михайловичу:
— Три письма на одинаковой бумаге от имени разных персонажей — то намёк на Дракона, то на Щупа и Ватикана, то какие-то красные партизаны. Чья-то тупая шутка? Или преступник играет? Хамит? Так смело? Или нарочно обильно следит, чтобы мы его поскорее поймали? Такое случается… уставший маньяк… Или действительно Велика забрали Бур и Щуп ради Треста Д. Е.? А Машинку украли и вправду политические идиоты? И каким-то невероятным образом эти разные и не связанные меж собой преступники случайно использовали похожие конверты и рвали листы из одной тетради? Мало, маловероятно, но — вероятно! Или всё-таки Аркадий Быков. У него и тату имеется — дракон… Не просто, может быть, так… Но если он, тогда что с Машинкой? Просто пошла искать Велика и потерялась? А ведь и Подколесин с Пантелеевым могли. Могли. А теперь врут… Нет, не могу! И ещё Дублин-старший куда-то делся. На полюс! Что за блажь! Нет, не могу, мозг мой виснет! Виснет, Че, зависает! Скажите, Че, вы ведь меня любите, кажется?..
— Как… Как вам будет убодно… удогно… Как вам… угодно. Как удобно… Вам… Если нужно, если вам нужно, то очень, очень даже… Если нет, не надо если, то уж я тогда… ни-ни… никаких таких… как скажете, в общем… — заюлил майор.
— На что вы готовы ради меня? На всё, как положено?
— На всё, — Человечников сполз со стула и зашагал по комнате на коленях. — На всё, царица, на любое… Вот вы в личной жизни не очень счастливы. У вас с мужьями вашими… простите… не складывается… Но ведь разве миллиардеры эти и хипстеры, и тем более писатели могут? Любить? Нет, они не так. Как мы. Простые труженики… Денег мало, нет совсем… Так что ж… Зато любовь!.. Я на всё! Они не на всё. Хипстеры не на всё. Им только давай. И не спасибо. А я — на всё!
— Тогда слушайте, мой рыцарь. Найдите Машинку и Велика. Сделайте это для меня. Если, не дай бох, плохо и поздно уже, если… не в живых они, то урода этого найдите, тварь эту… накажите… А я — добьюсь вашего назначения на место тунгуса в Москве… Тунгус на моё пойдёт… А если живыми найдёте, если спасёте их — ещё и… — тут Маргарита Викторовна Острогорская сверкнула очами на манер Настасьи Филипповны Барашковой, — замуж за вас пойду!
— Матушка! Королевна! Всемогущая! Всё сделаю, всё будет!
Он, как был на коленях, так и выскочил в приёмную к немалому изумлению дожидавшихся сановников.
— Вот это так королева! — повторял он поминутно, обращаясь к кому ни попало, топая коленями по паркету. — Вот это так по-нашему! — вскрикивал он не помня себя. — Ну, кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а? Я сделаю! Всё сделаю! Царица! Всё сделаю!
Обидевшись за мазуриков, сановники отворачивались; Че нёсся, сам не знал куда, носился по управлению и набрасывался на встречных с криком «всё сделаю!»
Марго осталась одна, напряжённая, тонкая, поразительная, как обоюдоострая молния.
Все её кольца были на левой руке, все пять. И это был знак свободы. Она знала, что не будет жить с Максом; знала, что не будет работать в Следственном комитете; знала, что не сможет расследовать своё десятое дело; что очередной этап её жизни закончился безвозвратно. Но знала также, что хоть и не найдёт детей сама, не хватит ей на это уставшего ума, зато хватит ей красоты — вдохновить несчастного уездного детектива, похожего на неухоженного пса, на любой подвиг. «Сим победиши», поняла она сегодня, увидев его почему-то во сне. «Маша! Велик! Всё будет хорошо! Он всё сделает!» — думала она.
Наскакавшись по управлению так, что протёр наконец на коленях брюки и кальсоны, Че с колен встал и уже обычным галопом, на ступнях помчался домой.
— Женюсь! Женюсь! — прокричал он жене, присевшей было на пылесос отдохнуть после большой уборки.
— Что? Что? — Ангелина Борисовна была уверена, что ослышалась.
— Поздравь! Женюсь! — женатый жених напоминал пророка, только что изувеченного шестикрылым серафимом, он жёг.
— Ты пьяный! — с надеждой в голосе произнесла супруга, но нет, всё было гораздо сложнее.
— Ты меня поймёшь. Я тебя познакомлю. Ты оценишь! Эта такая… царица…
— Ты ж женат, жопа страшная! — начала злиться Ангелина, поднимаясь с пылесоса.
— Да, — то ли спросил, то ли подтвердил Че. — Ну да! Ну так что же! Это же само собой. Женат, но хочу ещё… Дополнительно…
— До. Пол. Ни. Тель. Но, — порвала в клочки последнее его слово жена. — Познакомишь, значит… Ну и я тебя кое с кем познакомлю. С пылесосом, допустим, вот этим, — разозлилась она в полную уже меру и начала колотить супруга грубым пылесосьим хоботом.
Хобот, однако, скоро сломался, и Ангелина схватила с комода здоровенный глобус.
Увидев толстое учебное пособие в карающей руке подруги, Че вспомнил, что глобус этот как-то сразу не понравился ему — тогда ещё, очень давно, когда партком наградил старшего лейтенанта Человечникова этим «ценным» подарком за беспорочную службу. Евгений Михайлович никогда не интересовался географией и был расстроен, что ему не вручили спиннинг или хотя бы соковыжималку, как другим поощрённым в тот день. И когда допёр глобус до квартиры и взвалил на комод, испытал какое-то смутное беспокойство. Как будто в доме завёлся предмет, назначение которого темно и тревожно, как то драматургическое ружьё, которое, повиснув на стене в первом акте пьесы, обязательно выстрелит в четвёртом. И вот — свершилось! Глобус «выстрелил»! Он оказался тяжким, словно молот, и гулким, словно колокол; страшнее пылесоса, потому что никак не ломался.
Жена била бедного Че и лоснящимися океанами по щекам, и вострыми Кордильерами по затылку, и пыльною Австралиею по спине.
— Эх, эх, — отвечал Че, но жениться всё равно хотел.
Ангелина была неутомима, глобус неотразим.
Понимая, что тут не выжить, Че прорвался к двери и обратился в бегство. Он покружил полчаса по городу, запутывая следы, и укрылся в тёщиной избушке.
Он всё ещё был бешен от счастья; ни о чём не жалел; был уверен, теперь уверен, что «всё сделает», что Машинка и Велик будут спасены. Глуп! И по глупости — всесилен влюблённый человек.
Глупы и всесильны — влюблённые! Потому что у них есть, для чего жить, а не как у умных — не для чего.
Влюблённые спасают детей. Влюблённые переставляют горы и открывают америки. От любви — все миры и войны. Из любви сделана музыка, сделаны сверкающие драгоценные дни, которые мы иногда находим в мутной руде будней.
Для любви — подвиги и подлости.
Двух вещей боятся все без исключения люди — смерти и любви. Но любви — больше, ибо она сильнее. У смерти ничего нет. Сама по себе она ничем не обладает. Никто не принадлежит ей. Смерть забирает лишь то, что оставлено любовью. А что у любви, то — бессмертно.
§ 37
Огорошив Эльвиру Эльдаровну Сиропову, покровительницу свою и благодетельницу, объявлением о выдвижении на полюс и оставив её открытым от удивления ртом глотать успокоительные таблетки, отец Абрам нахлобучил ветхий куколь на куньем меху, сунул в суму образ бакинской богоматери, две бутылки водки и несколько банок консервированной голодной кутьи и отправился к Глебу. На выходе со двора зашёл в гараж и своровал, пробормотав «прости, господи», один из сохших в подсобке негриных полушубков. «Перебьёшься, атеист», — громыхнул он во весь гараж, зная, впрочем, что Толя уехал по делам. Не любил он молдаванина, как и молдаванин его не любил, а полушубок прихватил для дорогого друга Дублина, зная о бедности его и беспечности — дорога предстояла неторная, холодная, дальняя.
Монах был восторжен и неадекватен; лихорадочное предчувствие чуда заразило разум и несло тело на север. На полпути до Заднезаводской под памятником неизвестному писателю вспомнил, ценой какой экономии скопил две бутылки водки и пожалел себя. Он столько воздерживался, столько терпел, что теперь не грех было и подкрепиться, тем более, что дорога предстояла неторная. Немедленно выпив целую бутылку, ту, впрочем, что поменьше, о. запел выученный когда-то на Арарате апокрифический псалом:
— Славься, Эарендил, ярчайший из ангелов, идущий к людям… луч справедливого солнца, сияющий выше звёзд… сам собой светящийся…
Из-за памятника выскочили, как всегда, когда выпивался алкоголь, отцовы дежурные черти. Отец, подкреплённый и ещё более неадекватный, двинулся вперёд; черти увязались за ним, возились возле, вязли в снегу, вразнобой фальшиво подпевали:
— Eala… lalala… Earendel, englala lalala beorhfast… torht ofer tunglas… laslas lalala… gehwane ofsylfum… lala… symle lelele inlihtes…
Дошли до глебова дома. Глеб стоял у подъезда, глядя на окно своей квартиры, и дрожал, замёрз.
Он выходил в магазин купить еды Велику и себе, но не купил, потому что забыл, потоптался между полок, потрогал наугад несколько пачек чего-то мучного бесчувственными пальцами и безучастными взглядами. Уставился после этого в пол и, разговорившись с собой, вышел. Воротившись к дому, замер перед дверью подъезда, почуяв лёгкий оклик сверху. За окном их квартиры на подоконнике исчезал призрачный Велик и звал его тающим шёпотом.
— Ты что, сынок? Почему исчезаешь? — крикнул Глеб.
— Я должен исчезнуть.
— Почему маленький мой?
— Потому что пока я с тобой, ты меня не найдёшь. Ты ничего не делаешь, чтобы спасти меня, потому что я у тебя есть. Но я не настоящий, понимаешь? А меня настоящего ты даже не пытаешься спасти. Так нельзя, папа!
— Прости меня, солнышко моё! Я виноват, виноват.
— До свидания, папочка. Найди меня. Найди обязательно. Спаси меня, папа!
— Как же?.. Что же мне делать?.. Что делать?.. Я их всех просил. Они не смогли, Велик. Человечников не смог. Даже Маргарита не смогла. Как же я-то смогу, Велинька мой?.. Я ведь ничего не умею, кроме математики… Да и её уже давно… не умею…
Велик исчез. На его месте за окном шевелил вытканными трёхпалыми тюльпанами тусклый тюль.
— Да что же это я говорю… — спохватился Глеб. — Я, конечно… обязательно… спасу тебя, сыночек!
Он всей очнувшейся и вдруг заспешившей душой всматривался теперь в пустое окно, словно в надвратную икону на входе в новую жизнь. Предчувствие чуда вскружило и его бедную голову. Он понимал, что вернуться в квартиру, спрятаться в ней от мороза и ужаса было бы предательством по отношению к сыну. Он поклялся пустому окну, что не вернётся домой без Велика, что не сомкнёт глаз, не помыслит ничего отвлекающего от единственной идеи спасения, не устанет, не умрёт, пока — не вызволит ребёнка из беды, из неведомого несчастия.
— Привет, Глебыч, — хлопнул его по спине ласковой лапой отец Абрам. — Слыхал, свихнулся ты. Ну, думаю, пора выручать товарища. Велика надо спасать. Вызволим чадо твоё из беды, вызволим. Это уж как бох свят.
— Надо, надо, — с жаром подхватил Глеб, — но как же? Лучшие сыщики рыщут…
— Всуе! Вздор эти сыщики! Я знаю как!
— Как же?
— Вера. Одна вера и ничего больше. Дедукция, редукция, дактилоскопия, анализ днк, полиграфы и прочее современное сыскное хозяйство — без веры ничто! И ныне, и присно, и во веки — одной верой будет спасаться человек. Сильна ли твоя вера, брат?
— Вера — не знаю. Тоска сильна, — отвечал Дублин.
— Для начала и тоска сойдёт. От тоски — всякая вера.
— Что ж делать будем, брат?
— А вот что. Дело твоё — сына спасти. Богоугодное дело. Богоугоднее некуда. Потому что кому мы, крестиане, поклоняемся? Ребёночку на руках богоматери. Маме и сыночку её; и отцу-богу. Семье, стало быть. И что верою преодолеваем? Смерть наших деток. Ибо в ужасе несёт мать дитя своё в мир — знает, что на съедение смерти. И тут встаём мы: смерть! где твоё жало? И побеждаем ея! И нет у бога никого дороже сына его возлюбленного и матери его. В каждой матери бог велит видеть богородицу, в каждом младенце — Христа. (Ну, у Велика матери как бы нет; значит, ты, Глеб, вроде как богородец, вместо неё.) Кто обидит ребёнка, тот Ирод! Разве не так? Разве, истребляя младенцев, Ирод знал, который из них мессия? Ударивший ребёнка не бога ли бьёт? Так я думаю! А ты как?
— И я, и я так же, отче, — затрепетал Глеб в восхищении.
— А раз так, нет важнее дела на свете, чем Велика спасти. Слушай!
Через три дня в Семисолнечном ските божий архангел будет через схимонахов просить бога о чуде. Он уже, конечно, решил давно о каком. Освободит кого-нибудь страждущего, отнимет от боли или погибели. Он уже, конечно, решил кого. Но если мы поспеем туда, опередим, можем уговорить монахов послушаться нас, а не его. И вымолить у вседержителя нашего маленького…
— Да разве это не выдумка твоя, про скит этот?
— Вера, вера где твоя, брат?
— Да, да, вера, верно… Но за три-то дня… Это же где-то на полюсе? Самолётом, что ли?
— Три не три, может, и четыре. Не помню я, в какое из семи воскресений до капитана Арктика очередь доходит. А самолётом нельзя. Денег нет на самолёт. Нельзя за деньги. За деньги чудес не бывает. Вера, вера, брат, твоя где? Через полчаса поезд проходит Адлер-Беловодье. Стоянка пять минут. Если сейчас пойдём, успеем…
— А билеты?
— Нет, нет билетов на чудо. Там, знаю, проводники добрые, даром довезут, за хороший разговор. Докатим до Караула к ночи. Это самая к полюсу ближняя станция. От неё пешком через лес, потом через поле — там и океан. Ну а уж по океану — легче, быстрее будет.
— Но за три-то дня как успеть?
— А вера на что? Вон божий человек Мухаммад, мусульманин, прости господи, а и то сподобился за ночь от Мекки до Иерусалима добраться и обратно вернуться. Неужто мы, православные, хуже чем? С нами бох!
— Так что ж мы там, на собаках, что ли? — всё допытывался Глеб.
— Ну вот сейчас видно математика! Всё алгеброй гармонию норовит прощупать. Ну какие, брат, собаки? С божьей помощью, а не с собачьей домчимся.
— Так не бывает.
— А вера? Вера на что? Верою, одной верой спасёмся, когда ничего уже другое не помогает! Вот и вся теория!
— Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, — прикрикнул один из толпившихся чуть в стороне чертей.
— По-русски говори, бусурман, — не оборачиваясь, парировал о.
— А с божьей помощью, это как — на корабле? — доставал Глеб.
— Тьфу, экий ты… Да сам не знаю. Знаю только, что доберёмся, успеем. Пошли.
— Пошли! Верую! — решился, растерявшись, Глеб Глебович.
— Вы с нами, окаянные? — обратился к чертям монах.
— …mit Narren sich beladen, das kommt zuletzt dem Teufel selbst zu Schaden, — пошутил Формозъ.
— По-русски, ребята, прошу вас, не до тарабарщины этой теперь, не до шуток, — мягко проговорил о.
— С вами я, — сказал Формозъ.
— И я, — пристал Агапитъ.
— И я, — поддержали Бонифаций, Буонапартий и Анаклетъ.
— Ладно! — усмехнулся довольно отец Абрам и размашисто пошёл на север, к станции; побежали за ним и Глеб, и черти.
Пустое окно влажно засветило на них отражённым мирозданьем, замироточило и взошло над городом, спугнув и отогнав за овраги подкравшиеся было сумерки.
§ 38
Простые, нередкие слова, которых полно повсюду — и в широких глубоких величавых речах, и в мелких извилистых стрекочущих речушках, — хороши для изображения рядовой, нередкой любви: как Кривцов любил садовницу, его жена Глеба, Варвара — Фундукова, Грецкого и Дылдина, Бур Щупа, Щуп Бура, а Человечников Маргариту, рассказать нетрудно. Взял две-три классические фразы, вкрутил в нарратив, и уж всем всё понятно, вся картина пылкости развернулась, открылась на обозрение. И понятно всё всем оттого, что знакомо. Каждый как-нибудь, да любил — или как генерал садовницу, или как Че Острогорскую, или как Глеб Глебович Варвару, или как Глеб Глебович Надежду, или даже (и что ж теперь! и ничего страшного! бывает) как Бурмистров Рощупкина. И у каждого на памяти вкус любви и сопутствующие ей слова.
Но из каких слов сделать картину о Машинке и Велике, о том, что между ними было? Что и любовью-то назвать скорее всего нельзя. Что почти не помнится, потому что из низин и провалов, образующих наши судьбы, плохо видно то, что было там, высоко в детстве. Да и не у всех было-то, не у всех. Любовь? Влюблённость? Игра? Увлечение? Дружба? Подражание взрослым? Какие хорошие и негодные слова! Как они грубы в сравнении с тем, что призваны в данном случае передать! Как неудобны в обращении с детскими душами!
Что же? и каким же тоном надо сказать или, лучше, пропеть о том, как впервые отчего-то нежно покраснел мальчик, не впервые посмотрев на давно знакомую девочку? Какое незнакомое тепло он обнаружил в себе и осторожно трогал дрожащим тонким сердцем. А потом овевал этим теплом Машинку при встрече, при обрывистом разговоре, при долгом молчании. Отчего Машинка вдруг от этого тепла расплакалась и удивилась, плача, что слёзы её теперь несолёны. Как Велик расспросил отца, каким образом играются свадьбы; и Глеб поличному опыту отвечал ему, что для свадьбы берётся пароход, грузятся на него музыканты, пляшутся на нём танцы, и едет пароход по реке, и невесте дарится женихом колечко. Как мальчик смастерил из алюминиевой проволочки и бусинки крохотный перстенёк.
Что и с каким выражением надо сказать о небезопасном катании двух детей без присмотра в лодке вместо парохода по зелёному, как лужайка, пруду на дне заброшенного карьера? О вручении мальчиком девочке перстенька и о робком, чтоб не раскачать лодку, танце под Митю Фомина из айпада: лалалалааала, всё будет хорошо… О влажно скользнувшем по Великовой щеке, словно стремительная слеза, Машинкином поцелуе. И как угощались потом мороженым и после этого брачного пира не знали, что теперь им, поженившимся, делать друг с другом. О сексе они, конечно, слыхали и даже кое-что видали про него в интернете, но полагали, что не их это дело, какое-то оно чужое, для взрослых, непонятное. Поэтому разошлись по домам; Машинка перед сном опять всплакнула от необычайно приятной грусти; а Велик долго не мог уснуть, укладывая в голове так и норовивший вылезти наружу большой секрет о тайном их браке. И это так недавно было, в сентябре, кто же знал тогда, что так всё повернётся… что придут злые дни, неизвестные злыдни придут забрать их…
Что и какой высоты голосом следует говорить об смсках, которыми они переписывались, бесконечно будничных, почти бессмысленных из-за того, что от избытка нежности и застенчивости для помещения смысла не оставалось в словах необходимой пустоты? О том, как они, встречаясь, бывали так смущены оба, что даже поздороваться не могли и сначала долго молча играли, пока, разыгравшись, не заговаривали: сначала на вымышленные из игры темы, озвучивая каждый свою игрушку, и только далеко после друг с другом друг о друге. Чем повествовать, какими средствами об этих чувствах? О — деликатнейшем рисунке их ткани, сотканной из чистейшей хрупкости и быстротечности без малейшей примеси чего-либо тяжкого, железного, вечного. О — простодушной беспечности, о — безумной доверчивости детей, бесстрашно расположившихся со своими биониклами, дудлерами и смешариками для игры посреди большого взрыва вселенной, хотя и остывшего и замедлившегося за давностью лет и происходящего в наши дни уже в темпе и силе неторопливого всеобщего гниения, но всё же по-прежнему разрушительного и опасного. О, наконец, трогательной обречённости летучих утопий, возводимых детьми над нашей грязью, осаждённых драконами, пьяными родителями, свирепыми генералами; кем ещё? войнами, бандитами, маньяками, болезнями; кем ещё? всеми нами? почти всеми… О том, что обречённость в некоторых обособленных русских языках синонимична красоте…
Нечем повествовать! Нет слов, не оставляющих пятен на душе; замусолены и сальны слова, как фраки и мундиры с театрального склада, помогающие нищим лицедеям (лицемерам!) притворяться на сцене графами.
Скажем только, что известно всем и потому может быть сказано: незнакомое тепло, коснувшееся детей, не было «признаком великой весны», не предвещало благодати, потому что не само по себе существовало. Оно лишь свидетельствовало о приближении возраста жары и жажды, о том, что не за горами уже раскалённая пустыня неутолимой страсти, пустыня только для взрослых, где мужчины и женщины хотят друг друга и хватают друг друга за сухие колючие тела, и въедаются друг в друга, и не могут насытиться. Из этого-то пекла истекло странное тепло и достигло на отдалённых подступах Велика и Машинку. Но чем ближе к источнику, тем теплее, а потом и горячее и суше, а потом и вовсе горячо, невыносимо горячо, только горячая горечь, слаще которой нет ничего, называемая похотью.
Детям ещё далеко было до пекла, оно лишь остывшей окраиной мягко задело их, а Маргарита, например, уже давно варилась в своей кипящей крови; жарилась на упругих волнах поднимающегося снизу, из-под живота животного жара, страдала и наслаждалась великой жаждой.
Она часто влюблялась и довольно часто выходила замуж. Детей завести, впрочем, боялась, зная о своей переменчивости и подверженности хронической скуке. Боялась бросить детей, полагая, что это нехорошо было бы. А ещё боялась вранья им, представляя, как после работы посещает любовника, а уж после любовника едет домой, а на губах у неё вкус его афташейва. И вот этим афташейвом она целует своего трёхлетнего сына. И тут следом возвращается домой и муж, тоже с работы, и тоже целует их сына (или там дочь, неважно), целует бесстрашно, не боясь ребёнка заразить, хотя только что в отеле этим самым ртом рылся в теле рыжей за пятьсот евро «студентки». [Они почему-то всегда представляются студентками, вы тоже заметили? И то сказать, что же им отвечать на вопрос «чем занимаешься?» Можно ответить невежливо — «ты что, дурак? Не видишь, что ли, чем я тут с тобой занимаюсь?» Или всё-таки не хамить (за пятьсот евро): «учусь». Вежливо и неопределённо. И, в общем-то, правдиво. Все ведь мы в каком-то смысле учимся —… век учись.] Муж, конечно, очень любит их сына (или даже сыновей) и поэтому после студентки там же в отеле тщательно прополоскал рот и умылся мирамистином; дети в безопасности… Потом супруги целуют друг друга, мирамистин смешивается с афташейвом, наступает полная дезинфекция и гармония…
В том, что и у неё, и у «него» будут связи на стороне в случае затяжного брака, она была абсолютно уверена. Жара, жажда… Жалко, жалко было бы детей…
Маргарита позвонила Максиму:
— Превед, поэд!
— Привет, прозаическая женщина, — отвечал муж. — Ну что, поймала гаммельнского крысолова?
— Не поймала, Макс, не поймала.
— Ну и брось. Пусть тунгус ловит. Возвращайся. Я тебе артишоков напарю, стихов напишу, вино есть, гашиш — приезжай, отлично посидим.
— Макс, а почему ты ни разу не предложил… Почему у нас нет детей?
— Марго, ты чего это?
— Почему?
— Ты серьёзно спрашиваешь?
— Серьёзно, — Марго, как любая женщина, перед тем как сделать больно мужчине, должна была его в чём-то обвинить, чтобы не винить себя.
— Честно: ты не из тех женщин, от которых хотят детей.
— Почему?
— Потому что… тебе дети не нужны…
— Это кто тебе сказал?
— Марго, ладно, не обижайся.
Они обменялись долгими, оскорбительно долгими паузами.
— Марго, — подал голос Макс; он подобрел первый, потому что, пока молчал, раскурил карманный кальян, гашиш был хорош, свеж. — Не хочу ссориться. Если хочешь, можно…
— Что можно? — Марго чувствовала, что расставание затянулось, надо было отсекать.
— Детей…
— Что значит — «если хочешь». Это же не артишоки. В общем, Макс, всё это не то… Я не об этом хотела… Вот что, в общем, Макс… Подай на развод сам, тебе там ближе… Позвони, если нужно, Берлину, он всё заочно оформит. И не плати ему, он у папы на зарплате… Макс… Ты меня слышишь?
— Слышу, — ласково отозвался муж; он почувствовал себя глубоко несчастным, гашиш подействовал благотворно, несчастье получилось какое-то очень хорошее, доброе, радостное. — Всё сделаю. Сам всё сделаю. Не надо Берлина. Без евреев… сам всё сделаю.
— Ну вот и этот «всё сделает», — подумала Марго, вспомнив Человечникова. Сказала Максу: — Тогда пока?
— Скажи только почему? Что не так? — радовался Макс. Понимал, что угроблен горем, что радоваться тут нечему, но не мог не радоваться, действовал великолепный Алишером привезённый ошский гашиш.
— Не гожусь я больше, Макс. Ни для ловли крысоловов. Ни для тебя. Кончился срок годности. Прости.
— А знаешь, какой стишок я написал после нашего первого с тобой секса?
— Нет. Ты не говорил, что что-то написал тогда…
Прошлась печаль по пеплам дней нежнейшим смерчем. Я стал богат, как царь царей — в моей коллекции камней есть твоё сердце.— Меланхолично. Ожидала, честно говоря, чего-то поискромётней. После первого-то секса! Со мной-то! Но — запомню.
— А вот тебе на прощание стишок. «Плачи» называется. Ночью сделал. Как чувствовал. Послушаешь?
— Конечно, Макс.
И чем больнее, и чем больнее, И чем больнее, тем — плачи краше. Роскошных слёз вам, познавшим время, живым некстати, не в такт смолчавшим. И чем больнее, тем мелодичней шаги и всхлипы, язык свободных. Весь мир рыдает — до слёз привычны стенанья ветра и крики моды. И где б я ни был, блуждая в чаще подъездов, лестниц, дверей и комнат, я точно знаю: здесь кто-то плачет давно настолько, что вряд ли вспомнит причину этих ненастных следствий, причину счастья, причину горя, ствола причину, причину ветви, причину хлеба и прочих болей… То ливнем поздним, то ранним снегом мерцают слёзы внутри предметов, в глазах печали, в морщинах смеха. И чем больнее, тем… Как же это?— Меланхолично. Хотя декламировал бодро. Курнул уже?
— Нет, это я вздохнул. Глубоко и горестно.
— Ну ладно, — стихотворение Маргарите не понравилось, ей уже ничего не нравилось, главное было решено, нечего было медлить. Не хватало ещё попасть под поэтический приступ обдолбанного Багданова; расчитавшись, он мог часа по два не останавливаться. Самого себя продекламирует всего, потом Боратынского запоёт, заноет Бродского, завоет Багрицкого, дойдёт даже и до Брянского «на эолийских высотах порхает хуй неуследимый». Но, по счастию, Максим был в ином настроении. Он сказал:
— Горестно мне. Глубоко горестно. Не могу больше. Пока! Не могу! — нажал «отбой» и покатился со смеху из кресел на пол, выронив кальянчик. Его ужаснуло и вместе чрезвычайно рассмешило, что пол резко склонился, почти поменявшись местами со стеной — гашиш был свеж и заборист, — и Максим сорвался, не удержавшись, и загремел вниз по склону. Он падал прямо в открытую дверь, под которой разверзлась бездонной пропастью с трудом узнаваемая пострашневшая прихожая. Адски сверкали её зеркала, струили злой свой зной лютые люстры, пылали плывшие на модной картине по расплавленной панели лихорадочно оранжевые мандарины, тыквы, дыни… Улетая в эту геенну огненную, испуганно хохоча, Макс хватался за ножки стола, за ворс какого-то коврика, которого никогда раньше не замечал в своей гостиной, хвост плазмы, спутанный из синих, чёрных и красных проводов, за гевеевый костыль шикарного торшера, за брошенный намедни в камин, но не доброшенный третий том Ронни Лэйнга «Метанойя. Лечение безумием». Но боковая гравитация, искривлённая гашишем сила тяжести, направленная не как обычно сверху вниз, к центру земли, а как-то вдоль земли, как-то слева направо, что ли, тащила в пропасть, грубо отрывая от родных вещей и вещиц. Как будто Марго удерживала его над этой странной горизонтальной бездной, но вот разжала руки, отпустила, и сорвался Макс, посыпался под откос. Уже провалился он в распахнутую дверь, уже соскочили с него тапочки и в обгон пропали в ослепительном свете люстр и зеркал, уже пятки обжёг этот свет. Но тут пальцы его со страха стали прочны и остры, словно крючья, и намертво вцепились в деревянный порог, отделявший прихожую от гостиной, о который так часто он спотыкался и который мечтал снести, но, слава богу, не снёс; пригодился теперь порог. Он повис, покачиваясь, не зная, на сколько хватит сил так висеть. Скверно было, что силы уходили не только на упрочение пальцев, но и на никак не унимавшийся идиотский смех. На самом деле, Максу было и в самом деле «глубоко горестно», он был в отчаянии, он очень любил жену. Было горестно и обидно, что напоследок она ещё и поручила ему самому развестись, он знал, что у неё искренность и прямота в самой тяжёлой форме, доходящей до жестокости, но всё равно был сильно уязвлён. Ему хотелось поматериться от души или на худой конец хотя бы поплакать, а вместо этого он вынужден был ржать, взвизгивать и хрюкать, как выигравшая скачки кобыла. «Маргоша моя, я буду всегда тебя любить», — подумал он напоследок и в таком висячем виде и уснул. Очнулся поутру на том же месте, на полу, в той же позе. Пальцы его всё так же изо всех сил вонзались в порог, но гравитация была уже обычной. Обычные размеры и уют вернулись прихожей. Не без труда вытащив пальцы из треснувшего дерева, Макс поднялся, взял со стола маркер и крупно написал на стене «не курить!» Пошёл на кухню, выпил пива, посмотрел на фотографию Марго, примагниченную к холодильнику, позвонил Берлину. Послушал гудки, затем голос Берлина:
— Да. Слушаю. Говорите. Вы меня слышите? Говорите. Берлин слушает. Ало! Ало!
— Яш, это я, — наконец выговорил Макс.
— Максим, ты, что ли?
— Да, Яш, я. Извини, перезвоню, — Макс отложил смартфон и заплакал. Разозлившись на Марго за то, что довела до слёз, от стыда и унижения принялся материться. Так, матерно рыдая, обхватив руками голову, пометался по кухне, попинал стулья и вазы, поутих, позвонил Берлину.
Поручив Максу развод, чтобы вчуже не пожалеть вдруг его, Острогорская подумала о его ушах. Всех своих мужей она почему-то начинала разлюбливать именно с ушей. Они первые становились ей смешны и противны. «Ах, боже мой! Отчего у него стали такие уши?.. Он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей сфере. Но что это уши у него так странно выдаются? Или он обстригся?» — удивлялась она, как Анна Каренина в главах XXX и XXXIII части первой «Анны Карениной», заметив внезапно эти самые уши, так поражавшие её, как будто до этого мига разочарования уши у мужей были какие-то лучшие, или, точнее, как если бы их не было вовсе, а тут вдруг они выросли из головы, испортив весь вид. Что такого было ужасного в ушах, непонятно. Хотя, конечно, если присмотреться к ушам посерьёзней, то нельзя не признать, что уши — органы довольно странные и на вид и на ощупь. Но ведь и сама Марго была не без ушей, так чем же уши мужей были хуже её собственных? Загадочно сердце женщины, темно и неверно, тут кругом тайна и больше ничего. Начавшись от ушей, нелюбовь быстро распространялась на пальцы, лбы, колени, носы, волосы на спине, на волосы в носах, волосы на пальцах, на всё, из чего состояли мужья, на самые сокровенные и когда-то самые желанные их места, на волосы на этих местах… Всё становилось некрасиво, постыло, смешно…
От души надумавшись об ушах, Марго поднялась с пыльной гостиничной кушетки и посмотрела в окно. Портье предупредил, что на площади перед «Атлантиком» будет какое-то время шумно, убирают и выносят снеговиков, конкурс снежных баб закончился, победила команда города Уфалея, теперь площадь расчищают для масленичных гуляний.
Снеговиков вывозили совсем бесцеремонно, фактически просто сносили без всякого уважения к трудам и талантам уфалеевских чемпионов и прочих лепщиков, салехардских, апатитских, войвожских, местных константинопыльских. Посреди площади ловко орудовал клыкастым ковшом гусеничный экскаватор. Он вычерпывал из застывшей толпы поодиночке снеговиков с мётлами и на лыжах, с флагами и рекламными плакатами, толстых и худых, белотелых и грязноватых, голых и ряженых и закидывал их в кузов самосвала. Снеговики рушились, распадались, от них отваливались головы с сосулями и морковями вместо носов, груди, зады и животы. Наваленные кучей на самосвал, расчленённые, жалкие, они таращились по сторонам непонимающими угольными глазками, многие неуместно улыбались и вздымали мётлы и плакаты, самосвал наполнялся, увозил их на свалку, многие, уезжая, улыбались. Подкатывал новый самосвал, экскаватор спешил, близилась масленица.
«Скоро масленица. Быстро и бессмысленно время прошло», — подумала Марго. Она вспомнила, как в последний год жизни на Руси, тогда, в детстве, ей было пять лет, отец возил её к бабушке на блины. Острогорский, как почти все удало и широко пограбившие родную страну русские богачи, принимал чувство вины перед ограбленной родиной за патриотизм и потому держался твёрдо некоторых не очень, впрочем, обременительных национальных традиций вроде масленичного едения блинов и уважения к Пушкину. Такого же типа патриотизм старался привить и дочери. Вот и поехали к папиной маме на блины.
По дороге сломалась машина. Первый папин ровер, оказавшийся, как выяснилось позже, фальшивым, собранным в гдыньских кустарных мастерских польскими лудильщиками и жестянщиками специально для русских панов. Папа решил пройтись пешком, потому что были уже рядом. Но что для взрослого рядом, то для пятилетней девочки показалось очень далеко. Не слишком тепло, для машины, не для длинной улицы одетая, она продрогла до последней клеточки, устала вся до последней клеточки, хотела к отцу на руки, но не решалась попросить, потому что рядом же, скоро же должны были дойти, но никак не доходили. По-мартовски слабый, нездоровый, мокрый мороз не щипался игриво, как январский, а уныло доставал, наваливался вяло, лез под кожу.
Наконец дошли; бабушкина квартира пахла так, как все зажиточные русские дома на масленицу — блинами, блинами, теми, что румянились на сковороде или только растекались по ней или уже сложились высокой стопой и пускали пар и обтекали талым сливочным маслом. Ещё пахла благородными чаями, только что залитыми огнедышащим кипятком и брызнувшими золотыми и рубиновыми цветами. Пахла малиновым вареньем и мёдом, принесённым башкирскими пчёлами из лесных малинников. Густой, как масло, сметаной, какая только и подходит к блинам и предназначена для самых смелых героев масленицы, уверенных в способности своих желудков справиться с дюжиной жирных каравайцев, промасленных насквозь и обильно вымазанных в такой вот тяжёлой, вязкой сметане… и… в икре, конечно, в икре. Красной, отборной, нежного посола, сверкающей в круглой хрустальной миске на вершине праздничного стола, похожей на прохладное мартовское солнце. Икрой тоже пахла бабушкина квартира.
Папина мама Нина Пипиновна была госплановский финансист по профессии, а по виду самая настоящая московская бабуся. У неё были большие круглые тёплые ладони, большое круглое тёплое лицо, большое круглое тёплое тело. Большими круглыми тёплыми ладонями бабушка сняла с негнущихся окоченевших ручек и ножек внучки промёрзшую до нитки одежду. И тепло её ладоней, тепло от плиты, блинов и чая полилось в девочку со всех сторон, вытесняя принесённый с улицы мороз. Покалывая напоследок пальцы, промозглая стужа отходила, улетучивалась.
Сели за стол, и ничего вкуснее никогда Марго с тех пор не ела, и не было уютнее и счастливее дня с тех пор в её жизни. Маргаринчик молчала, прислушиваясь к разговору отца и бабки. Они говорили о чём-то непонятном, но очевидно добром, безмятежном, и разговор этот был приятнее любой сказки. Бабушка каждые десять минут спрашивала, чего ещё ей положить и не подлить ли чаю. Папа, не прерывая беседы, иногда гладил машинально дочку по голове, так же машинально щекотал слегка подбородок.
Марго огорчилась, что самый счастливый день в её жизни именно этот, не в будущем, а уже давно в прошлом. Её воспоминание было настолько чётким, что послышался, натурально, аромат масленицы, поразила молодость отца и его мужская красота, только лицо Нины Пипиновны было несколько размыто, затенённое более сильной памятью о её тепле, тепло помнилось сильнее лица.
Маргарите стало почти так же хорошо, как в тот день, но воспоминанье начало как-то нелепо актуализироваться и развиваться в абсурдной логике сна, хотя Марго не спала, даже не дремала, она стояла возле окна.
В дверь бабушкиной квартиры позвонили. Бабушка ушла открывать и вернулась с мальчиком и девочкой. Подвела их к Маргарите: «Знакомься, Маргаринчик, это Машинка и Велик. Они хотят с тобой дружить». Гости уселись за стол и принялись за блины. Потом с кухни, из ванной, из спальни, с балкона, отовсюду выходили люди и занимали место за столом. Вскоре вокруг еды теснились Глеб Глебович, о. Абрам, Че, Надя, Кривцов, фон Павелецц, майор Мейер, Подколесин… Они молча ели, напряжённо ожидая чего-то. От уюта и счастья не осталось и следа, каждый смотрел в свою тарелку, блины и чай остыли.
Раздался рёв, треск и грохот; в окно, разбив стекло, задев и раздробив подоконник, вломилась стальная лапа ревущего экскаватора. Он, покрытый почему-то чёрной чешуёй и оттого похожий на дракона, заглядывал в развороченное окно лихорадочно оранжевыми фарами. Пошарив страшным ковшом по комнате, занёс его над Машинкой и Великом, опустил, поддел их и понёс. Марго, пытаясь спасти детей, прыгнула на ковш, ухватилась за его край, но что она могла, пятилетняя, хрупкая? Экскаватор слегка тряхнул стрелой, сбросил её; вынес детей из дома, забрал. «Спасите их, сделайте что-нибудь, папа, бабушка, вы все, сделайте что-нибудь!» — закричала она по-взрослому. Но все ели, глядя в тарелки, будто не видели ничего. Снова раздался треск, рёв и грохот, стрела с ковшом вернулась, утащила Глеба. Маргарита плакала. Взрослые перестали есть, но не поднимали глаз, не пытались спасти или хотя бы спастись. Экскаватор возвращался и выуживал людей из комнаты поодиночке, пока не перетаскал всех, кроме Марго. Она подбежала к пролому, зиявшему на месте окна. Через двор проезжал грузовик с полным кузовом неподвижных безразличных людей. Кривцов, Надежда, фон Павелецц, её отец и отец Абрам, бабушка, Глеб таращились по сторонам непонимающими глазками, у некоторых в руках ещё были блины и вилки, они неуместно и растерянно улыбнулись. Машинки и Велика не было среди них…
«Что-то я расфантазировалась», — остановила вышедшее из-под контроля воспоминание Марго. Пространство перед гостиницей было уже пусто. Экскаватор сползал с площади, ни одной снежной бабы не оставил; сполз, скрылся за поворотом.
Вечерело, площадь заволокло хмурым, отработанным за день воздухом. Включали телевизоры и лампочки старые толстые дома с морщинистыми лицами, плешивыми крышами, дурным запахом из дверей, сонными людьми внутри. Столбы, провода между ними, скелеты клёнов и лиственниц казались чёрными трещинами на разбитом видении жизни. Безотрадно было на земле, так нелестно, нелепо, что Марго невольно перевела взгляд выше.
Она смотрела на небо; небо было как небо; она не знала, что смотрит на Бога.
§ 39
Пасмурный день. Поле. Дублин и Абрам проносятся на вороных чертях.
Три беса пострашнее, постарше, помаскулиннее несут дородного монаха: Агапитъ подставил ему мохнатую спину, Анаклетъ и Буонапартий держат под бока. Худощавый рыжий Бонифаций и совсем юный Формозъ везут измождённого учёного на сцепленных лапах.
Черти скачут шибко, часто сигая через кочки, ямки, сугробы, ложбины и пустые русла вымерзших досуха рек. Седоки трясутся на них, качаются на все стороны, то исчезая, то проявляясь в клубах валящего от нечистых густого серого серного пара. Их волосы треплются свистящим ветром. Их тени указывают на юг; с высокого севера льётся на них холодное белое солнце, сыплется игольчатый воздух. Одни они в поле…
[Поле, русское поле! Кто не летел по нему, как по небу, по пролитому на землю забродившему сладкому небу, раскинув руки крестообразно, крылообразно, вдыхая не только лёгкими, но и всей кожей, и глазами, и самым сердцем встречный снег и свет, — тот русским не был. А значит, с Богом разминулся.]
Вдруг кочки и ложбины кончаются, из-под снега начинают твердеть уже не комья земли и камения, а зеркальная чистая гладь, полированная полярная плоскость — лёд, должно быть.
Тряска прекращается и, перестав трястись, как тогда, в самолёте на пути к Буайану, почуяв перемену, взбадривается Глеб и обращается к о. Абраму:
— Кажется, океана достигли.
— Кажется, так, — отвечает о.
— Да! Так! — подтверждает чорт Анаклетъ. — «Да, теперь мы приближаемся туда, где человек теряет управление своим рассудком». Теперь до скита рукой подать. Да вот и парусник виден, виден уже! Успеем, нагоним! А ну, ребята, дружнее! — поворачивается он к своим братьям и те вращают ушами, как кони, и набирают невероятную скорость, устремляются на полюс, за ледоколом Арктик, к храму Спаса-на-Краю.
— Слушай, Глеб, всё забывал тебя спросить, пока живы были — чем твой научный труд закончился? Симплификация твоя? Опростил ты математику? Отжал из неё простую и ясную всем истину, как хотел? — вопросительно кричит о. Абрам, перекрывая топот чертей и поднятую ими вьюгу.
— «Чтоб я постиг все действия, все тайны, всю мира внутреннюю связь; из уст моих чтоб истина лилась», — вставляет на скаку бойкий Формозъ.
— Не твои слова, так ли? — фыркает на него инок. — Откуда взял?
— Фауст. Гёте.
— Кино?
— Ээ… Ну и кино тоже…
— Не видал, — оценивает о. Абрам. — Так что, Глеб?
— Закончить не успел, — кричит в ответ Глеб, — но подошёл близко. Так близко, что и без расчётов истина уже видна.
— И что там видно?
— Бессмыслица…
— Это какая такая бессмыслица? Любовь, что ли?
— Ну да.
— И всего-то? Стоило из-за этого столько мучиться? Над формулами всю жизнь корпеть, горбатиться? Что любовь — сердце всего, это и так всякий дурак знает. И думать тут нечего! Я-то всё ждал узнать то, что не знает никто! Эх ты, учёный! Любовь! Сам ты любовь! Любовь и больше ничего, тоже мне — открытие! — и чернец смеётся, и за ним и черти его хохочут. И Глеб — подумав, что ведь и правда, если внутри у путаницы, неправды и непорядка мерцает драгоценная любовь, если в центре мирозданья теплится Богородица с Великом на нежных руках, то к чему же тогда грустить! — тоже улыбается.
А ещё день назад было им всем не до смеха; погибали о. Абрам и Дублин, пропадали совсем.
Как ни крепка была отцова вера, а всё-таки идея дойти пешком до Северного полюса и дойти не как-нибудь праздно, вразвалку, а срочно, оказалась не самой удачной. Повторить успех божьего человека Мухаммада, за одну ночь обернувшегося из Мекки в Ерусалим и обратно, не удалось. То ли оттого, что в Счастливой Аравии тепло, а у нас кругом непроходимые морозы, то ли потому, что Бурака у них не было, то ли оттого, что хоть и крепка была вера Абрама, да не так крепка у Глеба, — только: в первый день прошли они пол-леса, во второй ещё пол-леса, а на третий еле-еле доползли до чистого поля. Отсюда было 300 км по прямой до океана, а по океану 1000 миль до Семисолнечного скита, но сил уже не оставалось никаких. И подкрепиться было нечем — водка и закуска как-то сразу съелись, а места встречались необитаемые, неотапливаемые, невозделанные, хлеба и ночлега не сулившие. Ходоки обмёрзли кругом, отощали, души их гудели, лица слезились. Выйдя в поле, они сразу попали под тяжёлый скорый ветер, который как товарный состав, груженный снегом и стужей, сбил их с ног, заморозил — они разболелись. Абрам матерно кашлял на своих чертей, увязавшихся за ними, которые всю дорогу не отставали, прыгали следом и, кажется, ничуть не унывали, только смеялись ему:
— Ну что, отче, помогла тебе твоя вера? Говорили тебе — не дойдёшь, чудес не бывает!
— Молчите, ироды, — откашливался монах, но и сам начинал понимать, что погорячился. Что одной веры, по-видимому, мало, нужен к вере ещё вездеход и провиант.
— Не могу больше, — прохрипел, проваливаясь под наст, Дублин.
— Можешь! Сына твоего идём спасать, маловер, — как не можешь! Должен! — зарычал о. Абрам, проваливаясь, впрочем, туда же.
— Мальчик мой, прости меня!! — прошептал наступающей ночи рухнувший духом Глеб. С восшедшей на небо луны свисали сосульки, звёзды рдели на морозе; у Глеба начинался жар.
Измученных путников обступили черти.
— Умираете, что ли? — поинтересовался Агапитъ.
— Есть немного, — ответил о. — А ты и рад, лукавый!
— Что ты, отче, как можно! — возразил бес.
— Глеб, а Глеб… — позвал отче.
— Чего?
— Помираем мы, кажется…
— Помираем, — согласился Глеб. — И это жаль, жаль… Кто же теперь Велика моего выручит? Где Бог?
— Молись, брат, — посоветовал чернец.
— Не умею я.
— Эх ты, учёный… А вы, дьяволы, что уставились?
— Да вот не надо ли вам чего, отче? Нет ли какой последней воли умирающего? — отвечали дьяволы.
— Исполните?
— С превеликим удовольствием.
Монах задумался и задумчиво проговорил:
— Крестить вас хочу, черти. Примите, ироды, веру крестианскую, православную.
— Вот тебе на! — взвизгнули Буонапартий и Бонифаций. — Где ж ты, старый, чертей православных видел?
— Обещали же, апостаты! А сами в кусты?
Черти поругались, поворчали, но — делать нечего, раз обещали — покорились:
— Крести нас, честный отче, крести, старче… — склонили они головы к умирающему.
Абрам лёжа отчитал все подобающие молитвы и главы евангельские, целый час читал, добавил для убедительности кое-каких крепких выражений от себя и окропил крещаемых брызгами снега. Читал чернец складно, сладко, черти всплакнули даже, Дублин заслушался. Когда дошло до «отрицаеши ли ся сатаны и всех дел его, и всех аггел его…», умный Формозъ усомнился: «Как же мы от «аггел его» отречёмся, если мы сами суть ангелы сатаны??»
— Вот именно! Вот от себя-то и отрекись! Нельзя к Богу пристать, если от себя не отстать! — поторопил отец Абрам.
— Отрицаюся! — отрёкся Формозъ. И все черти за ним отреклись: — Отрицаюся!
Из чёрного неба, из-за его редких звёзд вылетел белый голубь и посветил им. Бесновавшийся ветер стих и улёгся у их ног. Абрам достал из-под полы образ бакинской Богоматери и приказал им лобзать. Облобызали.
— Ну вот, вы теперь добрые крестиане… — пролепетал вконец ослабевший монах. — Ой, чегой-то со мной? — спохватился он, потрогал ладонью грудь. — Сердце, кажется, не бьётся… Точно, не бьётся, остановилось… И говорю, кажется, рта не открывая… И не дышу… — он застонал. — Всё, что ли? Помер я, что ли?
— Да уж минут двадцать как… — вздохнул Агапитъ. — Ещё когда «Богородице Дево, радуйся…» глаголил.
— Как же так, без покаяния… Не причастившись… как собака какая-то или крапива под забором… — стонет о. — Глеб, а Глеб? Ты-то как? Тоже… того? Как я?
— Тоже, — отзывается мёртвый Глеб. — Бедный мой Велик! Не дошёл я, не спас тебя! Прости, сыночек, прости!
Новообращённые дьяволы, ещё умилённые божественным Словом, проникаются глубочайшим человеколюбьем от такой душераздирающей сцены.
— Вот что, братия, — говорит Дублину и Абраму старший из бесов, Анаклетъ. — Мы не можем так просто оставить вас. Ибо мы — братья во Христе. Не можем мы и бросить Велика на произвол изверговой злобы. Ибо Велимир — также наш во Христе брат. Посему! Мы решили! Взять вас и доставить! К айсбергу Арарат! И там вместе с вами просить капитана Арктика и святых скитеров молить Господа о спасении мальчика!
— И кстати! — добавляет неунывающий Формозъ. — Вас, мёртвых, нам нести легче будет. Жизнь тяжела, а без жизни, налегке — мы с вами быстро до места доберёмся! Не так будем ползти, как вы живьём ползли до сих пор, а стрелой, стрелой полетим!
— Верно говорите, черти, верно! — хвалит о. Абрам. — Видишь, Глеб, не пропащее наше дело!!!
— Слава Богу! — восторгается Дублин.
— Давайте, православные, — взывает чернец к чертям, — берите нас, несите к Арарату… к архангелу-заступнику… А я по дороге, пока скачем, отпою нас с Глебом Глебовичем как истинных крестиан… поехали!
И вот — мчатся они по океану, вверх по гулкому куполу Арктики, к сияющей ледяной горе Арарат, курсом норд-норд-норд, на север, на север.
§ 40
На севере воцаряется торжественная тишина. Парусный ледокол Арктик останавливается и бросает якоря в миле от подножия многомногогранного бриллиантового цвета айсберга Арарат. Ближе подходить нельзя; эту, последнюю часть пути, называемую милей смирения, ангелы должны пройти по льду пешком с непокрытыми склонёнными головами. «Хорошо ещё что не проползти по-азиятски на брюхе», — ворчит вольнодумный юнга, наглаживая перед выходом парадную тельняшку, ворчит не словами, одними мыслями, про себя, ибо никто не вправе нарушить священную тишину, пока к ангелам не обратится схиигумен Фефил. Это его место, он первый заговорит с ними, когда посчитает нужным, а теперь — тишина, полная тишина.
Ветер веет, но не слышится; громадные якоря валятся один за другим в раскрошенный у бортов корабля лёд, в подлёдную воду, но без шума, без плеска. Не гремят массивные титановые цепи, разматываясь и ускользая вслед за якорями в пучину. Не кричит полярный ястреб, пролетая над монастырской колокольней; молча качаются колокола; молчат монахи, сходят с горы на седую равнину моря встречать ангелов. Молчат ангелы. Ничего лишнего не должен услышать сегодня Господь, ничего праздного.
Жёлтый и Волхов спускают кое-как трап, хлопочут с перерывами, отвлекаются, чтоб ещё и ещё раз полюбоваться на хрустальную вершину, с которой сияет им в сердце и очи, словно бесценный венец мира, сказочный Семисолнечный скит. По безбрежному небесно-синему льду океана летит отражение серебристого ястреба. Золотые лучи куполов Спаса-на-Краю затмевают солнце; лишь приглядевшись, можно различить под ними его еле бледнеющий обод.
Только что, буквально за полчаса до команды «стоп машина!» и наступления вселенской тишины, подстрекаемый попугаем медведь обратился к капитану Арктика с предложением поставить на повторное голосование судьбу Велика и моряков «Курска». Капитан предложение отверг. Жёлтый проявил настойчивость и привёл главный довод:
— В этот раз я буду голосовать за Велика.
Капитан посмотрел на медведя медленно и сурово.
— А раз я проголосую, дело верное, спасём мальчика, как ты хотел, — зачем-то принялся разъяснять Жёлтый.
Архиангел отвернулся и пошёл прочь по гоферовой палубе, пнув походя в сердцах мачту Махатму.
— Что решил, босс? — рыкнул вдогонку медведь.
Капитан, не обернувшись, скрылся среди густо посаженных мачт. Жёлтый понял, что узнает командирское решение, только когда скитеры спросят «кому ныне Бог?», пожал плечами, поморщил шерсть на лбу, отправился бросать якоря и спускать трап.
Капитан Арктика бродит среди мачт, вспоминая, как вчера наблюдал по прибору вечного всевидения гибель экстрасенса Еропегова, более известного широкой аудитории под псевдонимом «капитан Арктика». Вот этому-то помершему теперь Еропегову, много лет колесившему по России под видом чудотворца и прорицателя, вымогавшему деньги у доведённых невезением и болезнями до крайней степени простодушия людей, небесталанному, но слабому, запутанному в долгах и вранье шоумену Триждывеличайший Ближайший к Богу архиангел — обязан своим существованием.
Капитан Арктика — воображаемая личность, он тот, за кого принимают Еропегова околдованные слухами и рекламой провинциальные поклонники. Он то, что напридумывали и нафантазировали о раскрученном на капиталы Вити Ватикана коммерческом проекте зрительские массы. Архиангел воображён миллионами страждущих. Его сильный светлый и безупречный образ намолен, наплакан, накликан, наговорен жаждущими веры и подчинения толпами.
Как и большинство воображаемых людьми идеальных существ, капитан Арктика очень далёк от своего реального прототипа, вознесён над ним на недосягаемую высоту молвой, мечтами и надеждами человеческими. Конечно, и земной «капитан» Еропегов не одним лыком шит, шит он был и шиком, пусть не парижским, а нашим, татско-казацким, резко шибающим в глаза циркаческим пафосом и базарной пышностью, зато действующим грубо и безотказно на неискушённые души и податливые умы уфалейцев, войвожцев, апатитцев и тому подобных народцев. Были в реальном «капитане Арктика» и некоторая нервность, принимаемая то за интеллигентность, то за смелость, и многословие, похожее на красноречие, и кое-какое тщеславие, заменяющее героизм, и заносчивость, про которую сплетничали, что она от гениальности; была иконогеничная физиогномия с добротными глянцевыми глазами; грозный рост и по росту голос; были другие достоинства и признаки величия. Но самого величия всё-таки не было.
Зато капитана вымышленного экзальтированная публика наделила величием в избытке. Сокрушитель зла; Гонитель мрака; Победитель Сатаны; Строитель Царствия, Которое Приидет; Всевидящий; Быстрый-Светлый; Приказывающий фараонам; Архистратиг Воинства Света — вот ещё не все величальные прозвища, данные ему. Те, что душой пониже и попрохладней кровью, звали экстрасенсом, миллиардером и «наконец, просто большим талантом», что тоже совсем не мало.
При этом архистратиг прекрасно сознаёт, что он — вторичен, что он только отражение Еропегова, его аватара в горних высях, маска, принимаемая за лицо, оторванный людьми от реальности и поднятый ими над собой защитной хоругвью бесплотный образ. Что — невозможен он, образ, без прообраза; что теперь, когда Буром и Щупом убит в гостинице с тараканами тот, кто возбуждал фантазию, должна исчезнуть и самая фантазия. Нет отражённого, нет и отражения. Нет Еропегова, не должно быть и капитана Арктика. А есть пока ещё капитан потому только, что разлетевшаяся вмиг повсюду новость о гибели знаменитого прорицателя и чудотворца не достигла до сих пор одного-единственного человека, запертого в сыром тёмном подземелии, куда не проникают ни свет, ни информация, бедного несчастного мальчика Велика. Хоть и привиделось Велику во сне затопившее русские тундры и луга море мрака, хоть и почувствовалось, будто случилось что-то, но что случилось, он знать не мог, глуха его темница. Вот он и думает по-прежнему как о живом о капитане Арктика, воображает его, Светлого, из своей тьмы, в мучениях верит в него, надеется, зовёт себе и папе своему в помощь. Не сомневается, что папа ищет сына, но знает, что без чуда, без поддержки архангела может и не справиться старший Дублин с такой очень нематематической задачей.
Капитан Арктика знает, что теперь существует только в мечтах и надеждах этого испуганного маленького страдальца, что он уже не коллективная галлюцинация миллионов мужчин и женщин. Что этот хрупкий осенневолосый мученик — последний, кто воображает его.
И всё же, как ни эфемерны основы жизни капитана, он ощущает величие и силы свои во всей их полноте. Потому что громадна власть вымысла, неодолима сила воображения. Потому что иллюзии, мечтания, призраки и представления, все эти произведения веры, страха, любви и безумия, именно они и ничто иное катят Землю как тяжеленный снежный ком вместе с налипшими народами в сторону весны, вверх по наклонному небу. Сплелось и спелось беспрерывно между собой что есть и что кажется. Имиджи правят государствами, симулякры движут нациями, тени прошлого и миражи будущего вдохновляют нас в настоящем. Высадите человека хоть на Луну без денег и айпада и посмотрите, что он будет делать. Оставьте его там одного и вернитесь через полчаса. И увидите — он не сеет, не жнёт, не собирает в житницы. Он — творит себе кумира. Прожорлив человек, это правда, но ведь и беспокоен, и прыток. Нет ему смысла откармливать себя без высокой цели. Нужно ему что-то выше его самого, что-то глубже его миски с чечевичной похлёбкой. Мало человеку себя, никак нельзя ему без обмана впереди, без кумира, героя, Бога. Люди стоят на бескрайнем снегу вселенной врозь, врассыпную и пустоту меж собой заполняют сочинёнными существами, чтоб через них слышать друг друга и радоваться, что никто не один, а все — все. Оттого — властны вымыслы, сильны сны. И нет на свете никого могущественнее ненастоящего, вымышленного маленьким мальчиком славного и страшного капитана Арктика.
Всё знает и понимает архиангел и почти всё может, но никак не ответит на главный вопрос дня и года — на что употребить свою власть и могучую силу? Воскресить моряков? Или вызволить Велика? Воскресить моряков? Или вызволить Велика? Воскресить? Или вызволить? Воскресить? Вызволить?
Бесконечная жалость к Велику изводит его, но ведь и решение оживить экипаж «Курска» было тяжело выстрадано на совете ангелов. Нарушить традицию ради необъяснимой нежности к обычному ребёнку? Не нарушить традицию, но и никогда не простить себя за то, что мог, но не спас беззащитного?
Капитан ничего не решает, убедив себя, что вот как-нибудь там найдёт вдохновение, когда встанет перед скитерами у подножия Арарата; само как-то всё объяснится и взбредёт в голову; и слетит с языка непроизвольный, а значит и Богу угодный ответ.
§ 41
Капитан Арктика нисходит по трапу на лазурный узорчатый лёд мили смирения. Светящиеся волосы обрамляют его спокойное с внешней стороны лицо. Вслед ему спускаются Госпожа, Жёлтый, Волхов и Юнг; все, кроме Госпожи, с непокрытыми головами. Все, кроме архангела, в праздничных ризах. На Госпоже косынка из лёгкой зеркальной ткани. На капитане старинный белый китель, пробитый и заштопанный в трёх местах поверх сердца — след от трезубца Денницы, память о величайшей битве Верных с Падшими в грозовом облаке библейских небес над ревущим разверзшимся адом.
Попугай, чтобы не нарушать благочиния, оставлен на ковчеге, уселся на рее, провожает ангелов, машет им крылом, посылает мысленно внушение капитану: «мальчика, мальчика спаси».
Иноки шествуют вшестером белой благоухающей вереницей вниз по пологому склону Арарата. На середине спуска Фефил шепчет Петру — в абсолютной тишине шёпот его хорошо слышен и везде, и на вершине айсберга, на звоннице Спаса-на-Краю, где Пётр беззвучно звонит в колокола: «Брат, встречай великого гостя». «Встречаю», — радостно отвечает Пётр, и колокольный звон становится слышен, пышный, протяжный изнутри, с весёлыми трелями, величавыми переливами и чудными перегудами поверху. Громадные привольные волны приветного звона вал за валом перекатываются через возвышенную тишину, то затопляя её полностью, то спадая и открывая её строгие формы.
Схимонахи останавливаются ждать на предгории Арарата. Капитан Арктика приближается к ним, склонив голову. Справа от него идут оборотень и медведь, слева юнга и Госпожа. Сыны Божии в этот необычайный час не повелевают людьми, но сами идут к ним на поклон, к лучшим из них, к почти ангелам, но всё-таки — людям, скитерам Семисолнечной обители. Так через смирение ангелов своих Господь выказывает благоволение грешному роду человеческому.
Смиренно воины Света проходят последнюю милю и предстают перед скитерами.
— Милость нам не по грехам нашим! Радуемся, ибо видим Свет, пришедший от Господа посветить нам в наших потьмах, — приветствует схиигумен архангела и его спутников.
— Здравствуйте, честные отцы, — говорит капитан Арктика.
Семь праведников, отлучившихся в эту белую холодную пустыню молиться за русь, хорошо знакомы архистратигу.
Схиигумен Фефил — мудрый старец, до того чистый, что борода и глаза у него бесцветны, а кожа у него прозрачная: видны через неё кости кистей рук, черепа лицевые кости и оплетающие их ветвистые кровеносные ручейки. Таков же с виду и Зосима, только немного моложе и с глазами лазурными, узорчатыми. Брат Николай не так прозрачен, не так и худощав, даже плотен и улыбчив. В руке книга Исход с картинками, то и дело в неё заглядывает — почитает, порадуется, вокруг посмотрит, всем и всему и на все стороны поулыбается, опять книжку раскроет. Брат Сергий рослый, с капитана Арктика почти ростом, но стар при этом чрезвычайно, старее всех в скиту, прежде Фефила ещё здесь спасается. Он уже почти мёртвый, так стар, вот и не видит ничего, кроме Света, и не говорит ничего, кроме молчания. Ещё два инока не имеют ни имён, ни лиц — до того самоотречены. Петра, который оставлен сегодня наверху при колоколах, архангел не видит отсюда, но помнит: шустрый щуплый монашек в зеркальных солнцезащитных очках, у которого по щуплости его никак не растёт борода, так что из третьего Рима было предписание считать его православным в качестве исключения хотя бы и без бороды, посколько благочестие может и бороду в особых случаях заменять.
Ангелы и люди стоят одни перед другими, отражаясь друг в друге, отбрасывая друг на друга блестящие тени; над ними вздымается ледовая круча, покачивается на плавных волнах утихающего колокольного звона серебряный ястреб, истекают целительным золотым сиянием семь цветущих купольных крестов дрейфующего полярного скита.
— Кому ныне Бог? — вопрошает схиигумен капитана.
— Кому спасение? — вопрошают схимонахи.
— Что ответит? Как он измучен! — думает Госпожа. — Что изречёт дух смятенный?
— Не отступай, капитан! Морякам обещано! Держи же слово, — напряжённо молчит Волхов.
— Велик или «Курск»? Ну, босс, поглядим, как ты теперь покомандуешь, — тянет про себя Юнг.
— Велика, Велика отпусти нам! — мысленно рычит Жёлтый.
— Мальчика спаси, — безмолвно умоляет издалека попугай.
Колокола окончательно умолкают — Пётр, чтобы расслышать ответ архангела, перестаёт звонить; снова немеет всё.
Капитан Арктика, будто виноватый, смотрит себе под ноги, видит: далеко под насквозь прозрачным льдом несколько кряжистых донных дубов машут продолговатой листвой в такт накатам шквалистого восточного течения; меж дубов с ветки на ветку порхают потревоженные летучие скумбрии. Морские коровы, уцелевшие только в здешней заповедной воде, пасутся среди зацветающих водорослей. На какое-то мгновенье коровы как бы задумываются и, как бы додумавшись до чего-то, перестают жевать и пошевеливать ластами и поворачивают гладкие головы налево, на восток. Там, за холмом, поросшим бледными карликовыми кораллами, дно на тысячу миль каменисто и голо; там пустыня, где нет ни растений, ни рыб; оттуда налетают порывы бурных течений, приносящие рыжержавые облака взбаламученной мути. Оттуда надвигается теперь гигантская трёхмерная чёрная тень чего-то хищного, напоминающего преувеличенную акулу из предутреннего кошмара; тревожатся скумбрии, замирают коровы, стынет, как кровь в жилах, крепкая вода в задубелых, тяжёлых полярных морях.
Капитан Арктика поднимает глаза; видит, что все, все, все смотрят на него, ждут ответа. Схиигумен несколько удивлён, что ответ не дан сразу, как бывает всегда, что архангел так долго что-то там высматривает подо льдом. Госпожа, чувствуя нерешительность возлюбленного, осеняет его крестным знамением, Фефил замечает это и начинает удивляться сильнее. Когда юнга от напряжения и нетерпения с каким-то нелепым писком подпрыгивает и закусывает кулак, благочиние оказывается нарушенным уже совсем явно, иноки понимают, что что-то идёт не так, но несуетно продолжают ждать, не подавая повода усомниться в незыблемости заведённого с древности строгого порядка.
Между тем, улыбаясь то глазами, то ртом, архангел всё молчит.
— Не знак ли это молчание? Не гнев ли свой изливает Господь безмолвием посланного к нам? — невольно приходит на ум схиигумену.
Его тревога, хоть и сдержанная твёрдым характером, доносится до братии. Николай переступает с ноги на ногу, Зосима теребит вериги, безликие переглядываются, Сергий поворачивается на восток.
Чтобы вывести из неловкого уже положения себя и всех, отец Фефил повторяет — такое случается впервые — священный вопрос:
— Кому ныне Бог?
— Не положено дважды вопрос задавать по обычаю. Но и молчать по обычаю не положено. Неправильно дело идёт, не туда, — одинаково и одновременно размышляют Пётр и Юнг.
— Кому спасение? — завершает вопрос схиигумен.
— Экипажу подводной лодки «Курск», ста восемнадцати отважным морякам. Мученикам и героям. Им спасение. Пусть восстанут с морского дна, пусть воскреснут. Молитесь, отцы! — отвечает капитан Арктика.
— Ой, — вскрикивает Госпожа.
— Нуууу, — нагло нукает Юнга.
— Правильно, капитан! — вырывается у Волхова.
— Неправильно, капитан! — презрев приличия, каркает с корабля разочарованный попугай.
Жёлтый обхватывает лапами голову.
Фефил поражён и ответом архангела — никто никогда не просил о воскресении — и неподобающим поведением ангелов, которые должны по обычаю во время церемонии лишь почтительно склоняться и не открывать своих мыслей.
— Что же это такое! — расстроенно думает Фефил, но спрашивает холодно и торжественно, пытаясь удержать происходящее в границах пристойности, только то, что спросить требует обычай: — Отчего же им? Отчего же не другим? Разве мало на свете других, кому больно?
— Всякая боль — боль, — уже без паузы, заученно и даже как будто торопясь, как будто спеша поскорее покончить дело, возражает капитан.
Святой отец чует эту суетную спешку, хмурится:
— Воскресить просишь? Не ослышался я?
— Воскресить прошу, — подтверждает капитан.
— Не чрезмерного ли просишь?
— Кто меру знает? Ты? Я? Бог знает.
Давно, долго служит Фефил, но не припоминает ни таких слов, ни таких поступков. Он вглядывается в архангела и ангелов требовательно и искательно, ожидая чего-то от них, что разъяснит или исправит невозможное положение, вернёт к заведённому с допамятных эпох порядку, восстановит благочиние. Капитан, однако, опять вперяется в лёд волглыми глазами, ангелы же так смущены, что кажется, готовы на новые выверты и несуразности. Ничего путного не дожидается схиигумен и произносит:
— Аминь!
После этого тихого слова содрогается океан. Принесённая восточным течением трёхмерная чёрная тень зависает в миле от священного айсберга. Напрягается и — бьётся снизу об лёд. Удар так ужасен, что даже Арарат покачивается, покрывается грозой и громом. Лёд трещит, трескается, из трещин хлещет вскипевшая от удара вода.
Тень, отступив почти до самого дна, разгоняется, разлетается и ещё раз таранит узорчатую лазурную твердь. Ледяные осколки, искристые брызги взмывают гремящими кучами выше монастырских стен; лёд океана бугрится, взрывается, вода из-под него ревёт и рвётся на шипучие вихрящиеся куски, рвётся вверх. Лёд и вода смешиваются вверху со свечением крестов и куполов в пурпурную одноцветную радугу.
Под эту высокую радугу как под триумфальную арку, в бурлении света и воды, во взрывах льда, в оглушительном грохоте рухнувшего воздуха вплывает из глубины, выступает из собственной чёрной тени торжественно и грозно легендарная могучая субмарина. Это — «Курск».
Из вспоротой боевой махиной тишины сыпятся, возвращаются в мир все привычные звуки: слышатся ветер и ястреб, и трепет флага над Арктиком.
Вода оседает и успокаивается в пробитой полынье, только белёсый туман остаётся медленно клубиться над ней; сквозь туман виден великий крейсер: гребной винт обмотан длинной липкой тиной, из расшибленного носа изливается горькая морская пена, широкие ожоги ржавчины и неподвижные стаи растопыривших шипы морских ежей опоясывают в нескольких местах прочный корпус. Крейсер красив страшной красотой израненного неукротимого воина. Его капитан, такой же внушительный, появляется у ограждения рубки; за ним на верхнюю палубу один за одним выходят моряки. Они мертвы; из-под фуражек и бескозырок, из рукавов кителей и бушлатов струится вода, замерзая на полярном морозе, покрывая лица и руки зеркальной коростой. Они строятся в две шеренги, командир командует «смирно!»; строй натягивается как стальная струна. Подводники смотрят на ангелов и монахов с требовательной надеждой, суровой мольбой. Серебряный ястреб на триумфальной радуге, распахнув воинственно крылья, победно кричит.
Архангел подзывает Волхова и Юнга, отдаёт краткий приказ; те бегут обратно на Арктик, там проворно скачут с мачты на мачту, поднимают приветственные вымпелы и флажки; монахи кланяются морякам, живые встречают мёртвых.
— За них просишь? — спрашивает схиигумен, кивая на «Курск».
— За них, — отвечает капитан Арктика.
— Дело новое, неслыханное, — от волнения прозрачная кожа о. Фефила слегка алеет.
— На всё Его воля, — шепчет архистратиг.
— Так. Так. Помолимся, братия, о воскресении славных моряков, — поворачивается Фефил к братии, приглашая их взойти на вершину Арарата и оттуда пропеть в небо Господу прошение архангела.
Иноки, смиренно крестясь, тянутся за ним, бредут медленно в гору.
— Что ты наделал, капитан! — всё-таки не удерживается от упрёка солидный и рассудительный обычно медведь. — Что ты наделал!
— Как тебе не стыдно! Постеснялся бы хоть при мёртвых! — набрасывается на медведя Госпожа.
— Да ты же точно так же думаешь! — огрызается Жёлтый.
— Приказы надо выполнять.
— Мне никто не приказывал молчать!
— Голосовать надо было в тот раз правильно, а что теперь причитать!..
Пока они продолжают в таком духе, капитан Арктика стоит как стоял, прикрыв глаза, не замечая ссоры своих соратников.
Но схимонахи всё слышат, останавливаются, глядят с недоумением на бранящихся ангелов.
— Нехорошо, — шепчет Фефил.
— Нехорошо, — вторит один из безликих.
— А это кто там? — показывает книгой далеко на юг Николай.
— Где? — щурится схиигумен, понимая, что всё сегодня не так, не быть уже, видно, никакому благочинию; не случилось бы какого окончательного конфуза, а то и бесчестья!
— Там, там, — тычет в юг Николай.
— Кого-то, кажется, черти несут, — посмотрев куда надо, кричит со звонницы отец Пётр.
— Черти? Чертей нам ещё не хватало! В такой-то день! По грехам, по грехам нашим! — сокрушается Фефил.
— Не последние ли времена наступают? — открывает книгу Николай.
— Да это же отец Абрам! Точно, так и есть! Он! — доносится с колокольни голос Петра.
— Какой ещё Абрам? — поражается схиигумен.
— Да нормальный Абрам, православный, брат наш… бывший…
— Это тот-то пьяница и богохульник?!
— Тот самый. И с ним ещё кто-то. Оба мёртвые. И точно, на чертях верхом, на самых настоящих чертях! — возвещает Пётр.
— Что ж, отцы, Господь испытывает нас. Повременим, дождёмся. На всё воля Божья, — провозглашает Фефил; ему, наконец, становится и любопытно.
§ 42
И действительно, бряцая и цокая по гулкому куполу Арктики бойкими копытцами, несут вороные черти новопреставленных Абрама и Глеба к Арарату.
Хлёсткой проповедью погоняет вороных расстрига.
— Опоздали, опоздали! — видя вдалеке поднимающихся уже на айсберг скитеров, отчаивается Дублин.
— Вера, вера твоя где? — злится о.
— Прости, Велик, прости, сынок, не успел я, подвёл я тебя… — слабеет духом Дублин.
— Не может такого быть! С нами Бог! Успеем! Не поздно! Смилуйся, страшный! Смилуйся, светлый! — упрямится Абрам и с этими-то словами кавалькада шумно тормозит у подножия горы.
Не обращая никакого внимания на архангела и ангелов, на ледокол и подлодку, отец Абрам спешивается и падает на колени, взывая к столпившимся на склоне инокам:
— Отцы! Братья! Вспомните меня! Я брат ваш!
— Как же! Помним! Так и знали, что черти возьмут тебя! — холодно говорит Зосима.
— А-а, черти… Да что же черти? Они ничего… Они же выкресты все! Крещёные они, истинно вам говорю… наши они… и с нами здесь из человеколюбия христианского. Мне и Глебу вот этому в помощь.
— Отчего помер, отец Абрам? — смягчается Зосима.
— От любви, отцы, от любви. Хочу спасти невинное дитя, сына вот этого друга моего Глеба Глебовича Дублина. Он хоть и учёный, но тоже от любви погиб.
— А что с сыночком вашим? — обращается Зосима к Глебу. Схиигумен при этом всё молчит, то ли просто растерянно, то ли что-то обдумывая.
Глеб, забывший слезть со сцепленных лап бурно дышащих, фыркающих, насквозь пропотевших, пышущих серным паром Бонифация и Формоза, отвечает хиреющим хрипом:
— Пропал сыночек. Ушёл за мороженым и не вернулся. А я далеко был. Уехал по корыстным делам, бросил его… с незнакомым человеком… виноват я… мог ведь и не уехать… и пил я много, забывал про маленького; вот вы не поверите, покормить даже иногда забывал… И уронил однажды… не однажды… а ему так больно было… Где же он теперь? Лучшая прокуратура ищет, лучшая полиция, сыщица лучшая; никто не находит. Ещё девочка пропала. Машинка, они так дружили, искать его пошла, тоже не вернулась. Живы ли они, и то не знаю…
— Живы! Живы дети, отцы! Вы нам хоть одного мальчика чудом вашим верните, если двоих тяжело… Мы девочку-то сами, сами найдём. Лучше, конечно, обоих, а так — хотя бы и одного… А он жив, жив, — гремит отец Абрам.
— На всё воля Божья. Откуда тебе знать? — входит в разговор брат Николай.
— Вот и я говорю, — вздыхает Глеб.
— Вера, вера где, малодушный мой друг? Не слушайте его, отцы, Велик жив, помогите, — настаивает чернец. — Живы дети!
— Живы! — подхватывает вдруг сильный уверенный голос. Говорит капитан Арктика. Голова его гордо поднята, наполненные до краёв чистыми слезами глаза блещут, кулаки сжаты.
— Ну вот! Что я говорил! Слово архангела! Значит, живы, живы! — радуется отец Абрам. — Спасите детей! Спасите, православные! Спасите, добрые! Спасите, русские! — взывает он к монахам. — А я вот вам гостинец принёс! Образ бакинской Божьей матери. Возьмите его! И ты, и ты, Глеб, моли отцов! И вы, дьяволы!
Глеб, Анаклетъ, Буонапартий, Агапитъ и Бонифаций встают на колени; Формозъ берёт у Абрама икону, взбегает к инокам, передаёт образ схиигумену, сбегает к своим и тоже опускается на колени.
То же самое делают Госпожа и медведь. Юнга с воплем «и я за детей, и я прошу» по перилам трапа съезжает с парусника и скачет вприпрыжку к Арарату, но в полупути от него скользит и валится и, боясь не успеть, остаётся на коленях на месте и оттуда протягивает руки к скитерам «за детей».
Тут и случается самое страшное и непостижимое. Сокрушитель зла, Строитель Царствия, Которое Приидет, Приказывающий фараонам, Ближайший к Богу, капитан Арктика — встаёт на колени!!! говоря: «Спасите Велика, отцы. И Машинку спасите».
— Катастрофа! — ошеломлён схиигумен и ждёт бури и разбития неба о землю, и трубного зова. Но ничего такого не происходит, напротив, по миру опять расстилается тишина, только не возвышенная и строгая, как вначале, а благостная, спокойная, нежная.
Тут уже от нелогичности всего вокруг, от неопределённости всего отец Фефил несколько даже теряется и, поворчав неразборчиво, поворочав головой и бесцветными очами туда и сюда, обращается к старцу Сергию:
— Старче, ты дольше всех нас на этом свете. Рассуди — что делать-то будем? Посланник от Господа то просит немыслимого — воскресения мёртвых до Суда, то вдруг меняет свою волю. Крещёные черти, ангелы на коленях… Слыханное ли дело! Мне по скудоумию моему и, как видно, по грехам моим — не постичь… то, что сперва архангел велел, исполнять? Или что после? Или не исполнять ничего, а молить Бога о прояснении разума? Скажи, старый.
Брат Сергий ненамного живее Абрама, Глеба и подводников, давно уже ничего не говорит, почти слеп, зато видит, где Свет. Он наводит слабую руку на отца Абрама, затем на экипаж «Курска».
— Что означает? — просит истолковать этот жест отец Николай.
— Так понимаю, — толкует схиигумен. — Тебе, Абрам, идти к морякам и с ними решить это дело. Пусть вы, мёртвые, между собой договоритесь, кому нынче спасение. Детей ли вызволить умолим Господа? Оживить ли моряков будем просить? Судите, мёртвые, сами. Мы же исполним, что мёртвые скажут. Так, старый?
Брат Сергий согласно молчит.
— Ну хоть на это ума у меня достало, — размышляет о себе отец Фефил.
Абрам отлепливается ото льда, подымается и неплавным, тугим баттерфляем, каким обычно бегают покойники, убегает в направлении субмарины. За ним, непрошеный, вскричав зачем-то «мне можно я тоже мёртвый», устремляется Глеб Дублин. Ангелы, скитеры и черти провожают их горячими взглядами.
Добравшись до пространной истекающей туманами проруби, в которой покачивается крейсер, отец Абрам задирает голову и, сложив ладони дудой, обращается к строю с огненными крупнокалиберными словами, слышными издалека слитно и смутно, но громко и убедительно.
Капитан «Курска» что-то командует в ответ, коренастый рукастый матросик вышагивает из шеренги, достаёт откуда-то из-за ограждения предлинную заиндевевшую доску и перекидывает её через полынью как мост.
Абрам и Глеб перебираются по этой доске на палубу лодки. Абрам кланяется капитану, потом похлопывает его по плечу, потом обходит строй и заговаривает с каждым и лобызает каждого по-русски трегубо. Шеренги понемногу расстраиваются, матросы, мичманы и офицеры обступают чернеца, внимают ему. Что он им там рассказывает, непонятно, но слышен одобрительный ропот и ободрительный гул внимающих, а иногда даже и задушевный смех. Дублин затерян в толпе и, кажется, сам больше слушает, чем говорит.
Потом капитан субмарины показывает расстриге прохудившуюся рубку и перископ, после чего они вместе осматривают согнутый взрывом форштевень и все вообще повреждения носовой оконечности, отправляются, осторожно ступая по морским ежам, и на корму к торчащему из воды гигантскому заклиненному вертикальному рулю. Отец Абрам, видя раны и шрамы атомного монстра, сокрушённо трясёт бородой, крестится сам и осеняет крестами всё, на что смотрит.
«Что-то долго они там… Да по делу ли говорит-то? Пустой ведь был человек, неужто исправился? Или всё балбес, как раньше? Тогда — дела не будет. И — что же тогда?» — волнуется схиигумен, наблюдая приключения Абрама на лодке. Наконец, всех и всё благословив и освятив и перелобызав всех и каждого, отец кланяется капитану и сходит обратно на льды. С ним сходит некий совсем молодой статный офицер с очень красивым, от долгого бездыхания фиолетовым лицом, во впервые надетой, не очень ещё ловко сидящей парадной форме с кортиком и аксельбантами. Глеб почему-то остаётся на палубе, вероятно, обессиленный и не решающийся пройти некороткой обратной дорогой.
Преодолев семимильную милю смирения, офицер и расстрига подходят к Арарату. Всё это время все на коленях, кроме Волхова, твёрдо стоящего за воскрешение моряков, и святых скитеров.
— Что решили, мёртвые? — спрашивает схиигумен.
— Говори ты, лейтенант, — подвигает отец Абрам офицера, на котором вблизи различимы обледеневшие погоны капитан-лейтенанта.
Офицер, щёки которого были бы не фиолетовы, а румяны; у которого были бы глаза, которых сейчас нет, да не простые глаза, а такие, что смущали бы, а то и сводили бы с ума всех девушек в гарнизонном городке, во всех портах планеты, на родине в глубоко сухопутном Тамбове и в Москве, куда бы он непременно поступил бы учиться в академию генерального штаба; который родил бы и вырастил во весь великий русский рост красивых детей от красивой жены; которому светила бы спереди предстоящая блистательная судьба, если бы он только был жив, если бы был жив, но он был мёртв, — этот молодой мертвец делает два шага вперёд, как будто выходя по команде из строя.
— Святой отец, святые отцы, — говорит он, как подучен по дороге Абрамом, Фефилу и прочим монахам. — Мой командир, капитан атомного подводного крейсера «Курск» приказал мне передать вам его решение. Экипаж, погибший во время боевого дежурства, сформирован из профессионалов, для которых крайняя степень риска является частью работы. Служить на флот поступают люди, готовые погибнуть за Россию. Наша служба — устрашение и охрана. Устрашение врагов и охрана народа. А дети — лучшая и самая ценная часть народа. Для экипажа крейсера честь и долг — отказаться ещё раз от своей жизни ради детей. Теперь уже по собственной воле. Молитесь, отцы, за Велика и Машинку.
— Что решил твой капитан, сынок, я понял, — говорит Фефил. — А сам-то ты что думаешь?
Офицер от такого вопроса отшатывается и сникает, как от выстрела в грудь. Резко убавив голос, произносит:
— Капитан приказал…
— От себя, от себя скажи, — ласково настаивает Фефил.
— Если по правде, — шепчет офицер, — умирать тяжело очень было. А после смерти — полегчало вроде как. Мёртвым быть полегче всё-таки, чем умирающим. Хотя, если честно, тоже не очень-то легко. На лодке довольно сыро. Холодно и скучно, конечно. И темновато. Но человек ведь ко всему привыкает. Вот и мы привыкли. Бывает и хуже, как говорится. Тем из наших тяжелее, у кого дети… в жизни остались. Тоскуют они сильнее. Но и они терпят. А уж я-то… само собой… От себя, отцы, говорю то же самое: спасите детей. А мы подождём.
— Есть ли в экипаже согласие? Все ли моряки так же думают? — допытывается схиигумен.
Не сразу и тише, чем шёпотом, отвечает офицер:
— Не все… Нет, не все… Но все — выполнят приказ. У нас так.
— И у нас так, сынок, — умиляется отец Фефил.
— Спасите детей, — повторяет капитан-лейтенант и опускается на колени, за ним и Абрам, за ним — видно, как в миле отсюда, на палубе подлодки встают на колени командир и все его моряки, и Дублин; все то есть просят.
— Так и буди, буди, — громко и радостно возглашает схиигумен. — Аминь!
— Аминь! — отзываются схимонахи.
Скитеры поднимаются в скит молиться за Велика и Машинку. Пока они белой медленной вереницей бредут в гору, отец Абрам и подводник возвращаются на «Курск».
— Ты куда, отче? — беспокоятся черти.
— Служить поступаю на крейсер! Капитан зовёт. Священника у них, оказывается, нету, — разъясняет отец Абрам. — И Глеба берут! А то пропадёт ведь без меня.
— И математика у них нет? Ай-ай-ай! Как же на подводной лодке без фрактальной геометрии-то! — язвит завистливо Буонопартий.
— Вот ты язвишь, да ведь не понимаешь, мало я вас учил! Современная подводная лодка не простая какая-нибудь железяка, к которой мотор приварили и в море швырнули, а, можно сказать, очень инновационное и даже научное явление. Не то что вы, духи непарнокопытные…
— Нас-то на кого бросаешь? Покрестил, покрестил, да и бросил! Нечестно! — обижаются духи.
— Идите во все земли и благовествуйте! — машет на чертей небрежным крестным знамением о. и спешит догонять офицера. Вскоре они добираются до субмарины и там склоняются вместе со всеми в общем молитвенном строю.
Иноки достигают вершины Арарата и творят великую молитву. Редкие знакомые фразы и повторы подхватываются некоторыми моряками. Священные слова и не громки вовсе, но звучат ясно — мир Божий построен подобно храму, в нём и наислабейший голос, вздох ребёнка, жалоба старика долетает до купола, возносится на всю, какая только есть, высоту, к свету, к писаным по синеве белым облакам, к протянутым с неба всемогущим рукам, подбирающим с земли всех брошенных.
Долго ли, коротко ли поют иноки — иссякает их стих. И остаётся только ждать чуда. «Будет ли ещё чудо-то? — всё никак не утвердится в мыслях юнга. — После всего этого… нестроения… выходок этих… не отвернётся ли Господь от нас?»
Не один он так думает. Все — сомневаются.
— Звезда! — вскакивает с колен Агапитъ, показывая на край океана.
— И вон там ещё! Там тоже, — ликует Госпожа.
Все поднимаются, ангелы, черти, моряки, и смотрят вокруг, восторгаясь:
— И там! И там ещё одна!
С семи сторон света стремительно восходят над горизонтом семь золотых крестообразных звёзд, оставляя за собой, как реактивные самолёты, золотые борозды в небе. Они почти одновременно всплывают на самую вершину вселенной, над Северным полюсом, над Спасом-на-Краю сплетаясь лучами, кружась, сближаясь и высекая друг из друга чистые быстрые искры, сливаются в одну огромную, величиной с целое сердце ослепительную звезду. Место, где царственно парит эта звезда — выше самого верхнего неба; её свет, невидимый простым смертным, открывающийся только избранным среди них, несуществующего цвета, называемого золотым только от невозможности найти должное название, только от желания хоть как-то выразить восхищение хоть этим словом, которым привыкли означать всё прекрасное, дорогое, редкое, прекраснейшее; её семиконечная корона, горящая в такт биению жизни; влачащийся за ней сверкающий и раздвоенный, словно хвост мифической рыбы, изогнутый шлейф — все признаки подтверждают, что это звезда Эарендил, в наших местах известная под именем Вифлеемской.
— Свершилось! — восклицает отец Абрам.
— Радуйся, архиангел! Радуйтесь, братия! — провозглашает Фефил с просиявшим образом Богородицы на руках. — Услышал Господь наше моление! Звезда Вифлеема, чистейший Эарендил взошёл над небом! Явилось знамение! Спасён Велик! Спасена Машинка! Спасены невинные! Ибо сказано: «скрыл от премудрых и открыл детям». Вот благая весть нам — не забыты Богом люди, возлюблены. И спасены будут! Аминь!
— Аминь! — разносится по миру семикратное эхо.
Радостно и в то же время грустно всем. Эарендил, Свет жизни, озаряет небеса, а «Курск» — погружается обратно в смерть, в морскую пучину. Экипаж снова выстроен в натянутый как стальная струна строй. Опять закипают вода и воздух. С фырканьем и рычанием огромным благородным чудовищем лодка возвращается под лёд. Её капитан отдаёт честь капитану Арктика. Тот в ответ за неимением фуражки прикладывает правую руку к сердцу. Нестроевой отец Абрам уводит в кубрик впечатлительного математика, чтоб не боялся. Глеб Глебович вспоминает давний зимний вечер: он за письменным столом выводил на чистом листе бумаги «Тотальная симплификация. Метод и результат»; Велик, очень ещё маленький, едва научившийся ходить, стоял рядом, обняв его ногу и покусывая слюнявым ротиком его колено, постукивая по нему нежным кулачком, улыбался; улыбался и Глеб, предвидя долгий, исполненный смысла труд и долгую, исполненную любви жизнь… Он вспоминает и бормочет: «Всё сошлось! всё правильно! вот, значит, для чего всё…»
Черти, как и велел Абрам, разбегаются в разные стороны.
Архангел и ангелы благодарят скитеров, возвращаются на ковчег. Жёлтый спрашивает:
— Кому из смертных посветить Эарендилом? Кто из них детей отыщет и освободит?
— Пусть неслучайно всё будет, — отвечает капитан Арктика. — Пусть детей найдёт кто-то из тех, кто ищет. В награду. И выбери того, кто понесчастнее и поглупее. Посвети такому кому-нибудь. Ибо таковых есть Царствие Небесное…
Стоящие на палубе «Курска» моряки уже по пояс в воде, а вот и по грудь, вот и по горло. Болтающиеся на волнах обломки льда тычутся в их лица, к бликующим под водой ременным пряжкам, кортикам и аксельбантам подплывают любопытные скумбрии. Офицер, ходивший к айсбергу по приказу командира, беззвучно плачет. По счастью, все стоят «смирно» и смотрят вперёд, не видят его слабости. Но сам он боковым зрением пустых глазниц замечает, как у старого мичмана справа дрожит нижняя челюсть, слышит, как сзади тихо скулит коренастый матросик, бегавший за доской. Вода цвета мёрзлой земли заливает их лица, смыкается над их головами. Меркнет пурпурная радуга, ястреб носится над опустелой полыньёй.
— Слава Богу! — думают моряки, уходя на дно.
— Слава Богу! — думают ангелы, разворачивая парусный ледокол.
— Слава Богу! — думают иноки, расходясь по бедным своим келиям.
— Слава Богу! — сияет миру Вифлеемская звезда.
§ 43
Сквозь дребезжащее от ветра, в нескольких местах треснувшее грязное рязанское небо глядел на пустой и звонкий, как предутренняя улица, космос отставной милиции майор Человечников по прозвищам Че и Человек. На чёрном космосе не было ни лебедя, ни рака, ни медведицы, ни гончих псов, ни единого близнеца, ни козерога. Вынырнули было из черноты небольшие рыбы, но, недолго померцав матовой чешуёю своих немыслимо далёких солнц, скрылись под горизонтом. Евгений Михайлович не заметил их, не до рыб ему было, не до тельцов и водолеев. Он думал тяжёлые, полусырые, невкусные думы, вставшие поперёк его собачьей головы толстым комом, отчего в голове производились урчание, распирание и вздутие.
Одна дума была про то, что пока плохо ловится Дракон, никак не выручаются из беды Машинка и Велик. Возбудившись после того, как Марго посулила ему себя в жёны, он пребывал и по сей час в лихорадочной бодрости и действовал не только прилежно, как прежде, а ещё и с напором, быстротой и каким-то благородным бешенством. Но, увы, весь его напор, все враз вынутые из него любовью свежие силы прилагались к чему-то бывшему, тратились по пройденным уже местам, на старые цели. Он побежал по кругу скорее, энергичнее, но, увы, по кругу. Он не добыл ни одного нового вещественного доказательства, а лишь дольше и бесполезнее возился с давно имевшимися. Допрашивал с нарастающими пристрастием и изощрённостью — но всё тех же, многократно и многими допрошенных и передопрошенных, отупевших от его чрезмерной настойчивости свидетелей и подозреваемых. Он тщательнее и тщательнее выстраивал версии, выстроил их почти безупречно, но всё известные уже версии; добавил от себя только идею, что Варвара, бывшая на квартире Глеба Глебовича галлюцинацией, возле Магриба могла быть и настоящей. Тут была живьём, там пригрезилась, так что причастность её к исчезновению сына нельзя полностью исключить. Тунгус выслушал его и сказал, что по заданию Острогорской давно установил, что Варвара три года назад вышла замуж за грека и уехала с ним в Монголию, где и живёт, что тут, правда, много странного (зачем, например, выходить за грека, чтобы уехать в Монголию, за монгола было бы логичнее), но это совсем другой вопрос, а по вопросу о пропаже мальчика она на сто процентов чиста. Так и замкнулся круг следствия, превратившись в бесконечный тупик, в котором бессмысленно кипел бешеной энергией отставной майор.
Ещё одна дума была о будущей жизни с Маргаритой, то есть в случае, если круг разомкнётся и удастся выйти на след и спасти детей. Че неистово желал нового брака, брачных игр, уз и утех, но побаивался их с бытовой, бюджетной стороны. Вдруг — побаивался он — Маргарита захочет есть. И что тогда? На днях он включил телевизор и увидел артиста Бондарчука в роли загорелого богача, заказывающего ужин себе и своей загорелой спутнице: молочный козлёнок в левантских травах, запомнил он моментально своей сыщицкой памятью, иранская икра на стебле свежего сельдерея и какие-то неведомые профитроли с чем-то маракуйевым. Он был убеждён, что его будущая жена только такое и ест, он не представлял её с обычной жареной картошкой во рту. И если она поедет с ним в Париж и попросит его такое вот заказать, что тогда? Ведь он и есть-то такое не умеет, чем это всё брать, не знает, неуклюж за обедом, уронит что-нибудь, не так разрежет и обрызгает Маргариту и посетителей за соседним столиком душистой козлятиной и всей этой несмываемой маракуйевой хуйнёй. Миллионеры и хипстеры, набившиеся в ресторан, бросят жевать и наставят на сконфуженного растяпу свои лорнеты с розовыми линзами и золотые айфоны. Но самое страшное будет потом, когда принесут счёт и он выпростает из немодных азербайджанского пошива брюк позорно короткий и тонкий, со сморщенной дряблой кожей, скукоженный бумажничек и примется размышлять, как заплатить в Париже за чёрную икру и шампанское, и всё такое посредством двух тысяч семисот тридцати двух рублей? И ещё страшнее самого страшного представлялась ему навязчивость его нынешней супруги Ангелины Борисовны. Он, зная её характер, понимал, что она за так его не отпустит, станет преследовать и канючить. Она органично вписывалась в эту антиутопическую великосветскую сцену, прерывая его размышления над счётом, вторгаясь в ресторан с криком: «Верните, женщина, дурака, он вон вино пьёт, а ему нельзя, у него полипы» — и, возможно, даже с глобусом, расталкивая официантов и хипстеров и набрасываясь на разлучницу. «Жизнь прожить не поле перейти», — казалось ему.
Третья же дума была уже совсем одиозна и несуразна. Она была о том, что случилось с ним вчера, случилось же невероятное. Главное, он никак не мог понять, случилось ли оно в действительности или только во сне. По нелепости и издевательскому какому-то смыслу случай выходил именно невероятный, только во сне хоть как-то, и то не без натяжки уместный. Но по чёткости произведённого впечатления, по высочайшему качеству оставленного на памяти оттиска, по некоторым абсолютно реальным вещам, никак не объяснимым вне связи с этим случаем, напрашивался вывод о полной и жуткой правде произошедшего. Он вспомнил о случившемся только что, проснувшись в последнем часу ночи. И всё не мог решить, сделалось ли оно, пока он спал, в его раздражённом воображении, которое забыли выключить на ночь? или же было до сна, наяву, вчера вечером по дороге из полицейского управления в тёщину избу? Как ни пыхтел майор липким от напряжения лицом, как ни пыжил виляющие мышцы мозга, смятая память не распрямлялась, не пропускала свет, не давала прояснить дело.
— И я, что ли, сошёл с ума? Уже сон от правды не отличаю, — грустил Че. — Как же я, сумасшедший, буду дело вести? Напортачу, людей подведу… И Марго меня в мужья не возьмёт: зачем ей невменяемый мент? Ей и вменяемый-то, честно сказать, ни к чему, так, ради дела только терпеть будет… Померить, что ли, температуру? Тут где-то градусник у тёщи был… Перегрелся, может быть, я…
А случилось (или не случилось) с майором вот что. Шагал он вчера вечером (или не вчера, а десять минут назад, ночью, во сне) среди редких некрасивых прохожих; погода была мокро мартовская, полузимняя, от приближающейся весны веяло уже первой живительной сыростью; лёд на тротуаре тронулся, потрескался на серые щербатые льдины, которые разъезжались под ногами и сочились небольшой талой водой. Внезапно и быстро пошёл по городу густой душный снег.
— Не оборачивайтесь, — сказал кто-то за спиной. Майор сказавшего по голосу не узнал, но что-то в тембре, в легчайшем акценте показалось ему нечужим, и он не обернулся.
— Я буду говорить по-русски, — продолжил кто-то. — Звучание иностранной речи слишком характерно и необычно для этих мест. Поэтому обладает большей слышимостью, чем местный диалект. Сразу привлечёт внимание… Ненужное внимание… Отвечайте не оборачиваясь. Приложите к уху для маскировки телефон. У вас есть? Вот так, хорошо. Теперь со стороны будет казаться, что вы разговариваете не со мной, не с собой, а с кем-то по телефону. Я сделаю, пожалуй, то же. Вот теперь мы идём рядом, но независимо друг от друга, незнакомые люди, болтающие по телефону. Отлично. Итак, Чарли, почему не вышли на связь?
— На какую связь? Какие Чарли? — ответил в невключенный телефон Че.
— Вы должны были выйти на связь с Центром 23 февраля. Почему не вышли? Вы даже не забрали из тайника секретный коммуникатор. Я сегодня был там, проверил, — тихо чеканил голос.
— Какой тайник? О чём вы?
— Впрочем, теперь коммуникатор не понадобится. Как видите, я здесь и прислан Центром, чтобы лично передать вам инструкции.
— Какие инструкции? Какого Центра? Вы из Москвы? Мвд?
— Не валяйте дурака, Чарли! Вы что, действительно не узнаёте меня?
— Голос будто знакомый, но не помню…
— Дэн. Дэниел Клоу.
— Клоун?
— Клоу. То есть, коготь. По-английски. Мы вместе проходили тесты в Лэнгли после завершения спецподготовки. Надеюсь, с моей стороны не будет слишком бестактно напомнить, что я получил 206 баллов. А вы — 198.
Из-под потрясённого сознания, из подсознания выпорхнули и пронеслись перед мысленным взором Евгения Михайловича, шурша тёмно-рыжими крыльями, холёные американские усы.
— У вас густые рыжие усы. Вы их каждый раз, как сильно посмеётесь, причёсываете деревянной расчёской, — вымолвил Че. — Вы часто смеётесь.
— Ну вот, вспомнили, наконец. Усы давно сбрил, а гребнями деревянными до сих пор пользуюсь. «Уотердорф хэндмейд». Завёл вместо усов бакенбарды. Почему всё-таки на связь не вышли? Я проверил коммуникатор, он исправен. Забыли, как пользоваться?
— Слушайте, я… Забыл… если знал… Вы как здесь? Зачем?
— Из Варшавы проездом в Бухарест. Имею приказ Центра: если окажется, что вы перешли на сторону противника — ликвидировать вас; если подвела техника — передать инструкции устно; если ни то, ни другое — действовать по обстановке. Ну так как? Вы предатель, Чарли?
— Я разве Чарли?
— Да, Евгений Михайлович, вы Чарли. Чарли Уорлайк. Агент Цру. Заброшены в Россию в возрасте восемнадцати лет. Служба в армии, школа милиции и так далее. Вы нелегал, Чарли. Ваша миссия — подрывная и разведывательная деятельность. Центр хотел знать как можно больше о константинопыльском засекреченном комбинате. А также располагать средствами при необходимости затруднить либо полностью дезорганизовать его работу. Все эти годы вы должны были вести самый обычный, отвечающий местным представлениям о целях существования образ жизни. Вам рекомендовалось забыть, кто вы на самом деле…
— Вот я и забыл…
— …и не вспоминать вплоть до дня активации, 23 февраля сего года…
Оттуда же, откуда прилетели дэновы усы, из тёмной ямы заднего ума вывернулось и развернулось перед майором ещё одно воспоминание. Он увидел обваренную кипящим июльским воздухом дорогу из Лэнгли к порогам Потомака; вдоль неё обездвиженные жарой стада мясистых дубов, пышущие здоровьем моложавые особняки, длинные ленивые травы. Увидел себя, совсем юного, выходящего из «Крайслера» и прогуливающегося с пожилым гарвардским профессором-славистом на каменных террасах с деревянными перилами над гремящей рекой. Журавли слетаются на голые валуны возле водопадов ловить голавлей. Профессор со скомканными на затылке тонкими и частыми волосами полового цвета, в щегольской муругой рубахе навыпуск и бесцветных льняных шортах говорит ему: «Чарли, не пренебрегайте этими простыми на вид словами. Используйте их обязательно, даже когда они не особенно нужны. И даже когда, как вам кажется, неуместны. Иначе русские могут почуять в вас чужака. Вы должны произносить их безупречно. Вам надо ещё позаниматься. Язык, повторяю, не к нёбу, а к задней стенке верхних зубов. Не «блач», не «блйадж», а «блять», «бля-ть», «ть». При этом не забывайте: множественное число «бляди», а не «бляти»…
— My God! My inscrutable unfuckable God! Ah! — вскричал Че, ударившись душой об это видение.
— По-русски, чорт возьми, по-русски, держите себя в руках, — одёрнул Дэниел.
— Блять! Я всё забыл! Как я мог всё это забыть! Как?.. Я так давно здесь… Армия, школа милиции, служба, служба… Я служил, Дэнни, я много работал. Ночные вызовы, никаких выходных, сплошные сверхурочные, а потом — крах. Крах Союза, карьеры, всего. Нищета, а тут семья, дочери, суета, суета… Забыл, чисто забыл… в этой суете, в поисках пропитания, жена пилит… Моя миссия… начисто вылетела из головы, начисто. Я не предатель, Дэн, просто завертелся…
— Вижу и ценю вашу искренность. Будем считать всё случившееся недоразумением. Хотя… будьте впредь пособраннее. Всё-таки вот так всё забыть — это прокол. Помните, вы солдат правительства Соединённых Штатов. Держите марку!..
— Yes, sir!
— По-русски…
— Слушаюсь, товарищ Клоу!
— Ну вот и хорошо. Я слышал, вы в бедности… В вашем офисе, в сенях, в тумбочке, где арбидол и градусник, я оставил для вас кое-что наличными.
— Вы были в моём офисе?
— Я везде был… Наличные не следят, как говорит босс. Его-то помните?
О, конечно, он вспомнил и босса, Питера Брусвика, шефа северо-восточного отдела, худого, с костлявым, редковолосым, жилистым, похожим на сложенный фигой кулак лицом. О, он вспомнил и маму, милую маму Джоан Уорлайк, незнаменитую актрису из Остина, Техас, вдруг разревевшуюся у него на десятилетии, плачущую навзрыд в дурацком бумажном праздничном колпаке: «Ангел Чарли, мой малыш, тебе уже десять лет, когда-нибудь ты уйдёшь из дома навсегда, оставишь меня одну, как я буду жить без тебя?» О, он вспомнил её и себя тремя годами раньше на кладбище перед полированным пегим камнем; он спрашивает: «Папу звали Рип?»; мама отвечает: «R.i.p. означает «покойся в мире», а папу звали Чарли, как тебя». О, теперь он догадался, откуда у него в шкафу эти две книжки с непонятными названиями «Dylan Thomas» и «William Batler Yeats»! Они таскались им повсюду, где бы он ни жил, ещё с армии. Он не знал, как они попали к нему, удивлялся, раз в год открывая и не находя ни единого русского слова, зачем они ему, но почему-то не выбрасывал, собирался выбросить, но почему-то жалел. Подарил было дочерям для школьных занятий, но те и брать не стали. «Как я мог забыть родной язык!» — подумал он восклицательно; и неожиданно для себя вспомнил и повторил, и понял пришедшую на ум из одного из этих томиков строчку: «O make me a mask and a wall to shut from your spies…» Прошлое заговорило с ним по-английски, и он понимал его!! Он, считавший себя тупым неудачником, оказывался на самом деле интеллектуалом, ценителем английской поэзии, шпионом, иностранцем!!! с тумбочкой, полной денег! «То-то Маргарита Викторовна обрадуется», — улыбнулся Уорлайк.
— Маргарита Викторовна Острогорская. Вот ваша новая цель. Комбинат больше не интересует Центр, — сказал за спиной Клоу. — Производимая им пыль оказалась не тем, что могло бы угрожать безопасности народа Америки. Теперь Центр интересуется Маргаритой Острогорской. Ваша миссия — жениться на ней, завербовать и использовать в интересах федерального правительства. У неё обширные связи в высших кругах русской администрации. С такими связями она может стать бесценным источником информации. Центр неоднократно пытался вербовать её, но пока неудачно. Слишком богата, слишком красива, слишком умна, слишком русский характер. Постарайтесь добиться результата. Возможно, это наш последний шанс. И — ваш…
— Я искуплю…
— Именно. Искупить не помешает. Центру известно, что она обещала выйти за вас, если вы раскроете преступление против Велика и Машинки. Центр поручает вам раскрыть это преступление. Центр также передаёт вам сообщение, которое, возможно, облегчит выполнение этого поручения.
— Какое сообщение? — шевельнул ушами Чарли Че.
— Бумага хорошо впитывает запахи, — сообщил Дэн.
— В каком смысле?
— Не знаю. В прямом, видимо. Это всё, что просил передать Центр.
— Бумага хорошо впитывает запахи, — повторил Че.
— Точно.
— Это всё?
— Всё.
— А как там моя мама? Не просила ли что-нибудь передать мне? Передайте ей, что…
— Это всё. Уберите телефон. Сделайте ещё двадцать шагов не оборачиваясь.
Майор дошагал до двадцати, потом ещё до двадцати, позвал:
— Дэн? Товарищ Клоу?
Остановился, обернулся; за ним шёл снег, за снегом какая-то баба с ведром, за бабой опять снег, Клоу не было.
Теперь майор спросонья стоял на крыльце бревенчатого офиса и никак не верил в реальность Дэниела Клоу, потом вдруг начинал верить, а поверив, находил случившееся абсурдным и потому опять не верил. К тому же ему, русскому офицеру, было совестно признать себя офицером американским.
Вчера, придя домой, он от усталости поленился кипятить воду и просто размазал бульонный кубик по коре чёрного хлеба. Поужинав, улёгся спать. Это он хорошо помнил и понимал. Но почему первым делом не открыл тумбочку, не проверил, вправду ли там оставлены деньги? Или всё-таки проверил, но тоже забыл? Или решил, что проверять глупо, потому что — потому что (и это было потрясающе!) — потому что и вчера, и во сне, и сейчас в нём звучала мощно, естественно и убедительно американская английская речь. Он задумывался восторженно на этом вновь обретённом роскошном языке и радовался, как инвалид, к которому вдруг вернулась способность ходить и видеть после десятилетий бессилия и слепоты. Добротные, модные, удобные, как и всё, сделанное в Англосаксонии, слова били шумными блистающими фонтанами из глубинных пластов памяти, увлекая майора ввысь, обратно на гарвардский уровень, откуда он столь низко пал по служебной необходимости. Гирлянды классических созвучий из книг его любимых поэтов развешивались по всем углам его души, отчего его существование становилось каким-то праздничным: «sun of the sleepless! melancholy star», «oh my God keep me from goin lunatic! there is no discharge in the war», «the pennycandystore beyond the El is where I first fell in love with unreality»…
Надо всё же проверить, подумалось ему, деньги вещь нелишняя, заодно и градусник взять.
Майор взошёл в сени, скрипнул дверцей тумбочки, взял с верхней полки градусник; на нижней полке рядом с пачкой арбидола лежала толстенная пачка пятитысячных рублей. Сыщик потрогал её и вернулся на крыльцо с градусником подмышкой.
Он понял, он поверил, он принял судьбу.
Тем более что не раз слышал от телевизора, что Россия кишит агентами Цру и Госдепа. Они здесь повсюду, так что в том, что он, Евгений Михайлович Человечников, отставной милиционер, смиренный семьянин, доведённый честным многолетним трудом до совершенно ничтожного состояния и заслуженной нищеты, оказался на поверку шпионом и саботажником, ничего не было удивительного; он просто один из многих таких, очень многих.
— Бумага хорошо впитывает запахи, — сказал майор, задирая по привычке нос.
И тут — старое небо над ним прогнулось и, треща молниями, покосилось, словно от навалившейся сверху великой силы. И подвинулся космос, пропуская к Земле мелодично гудящую семиконечную золотую звезду с пылающим раздвоенным хвостом. Звезда была огромна и, приблизившись к майору, стала больше Солнца. От неё так рассвело, что ничего, кроме света, не было видно. Человечников закрыл лицо руками, градусник выпал куда-то за спину, в складки сорочки, ближе к ремню. «Eala Earendel, — опять вспомнилось нечто из англосаксонской поэзии. — Умираю, что ли?» Но это не было умирание. Чудотворная Вифлеемская комета лишь на миг явилась миру — чтоб посветить на мозг Евгению Михайловичу. Посветив же, сразу исчезла, вернувшись к богу в сокровищницу.
Открыв лицо, детектив увидел вокруг прежние небеса, но сам он уже не был прежним. Выпрямил шею и спину, вытянулся во весь рост и на расправленных плечах в гордо смеющейся голове высоко поднял над заснеженными огородами свой просвещённый разум, хлебнувший из Эарендила золотого пламени; словно факел горящий. И внял он неба содроганье, и горний ангелов полёт, и гад морских подводный ход; истина открылась ему вся, обступила его со всех сторон, простая, крепкая, резкая.
— Как я раньше не догадался! — поразился он и зазвонил тунгусу. — Майор, ты видел, что в небе было? Спишь? Неважно… Приезжайте срочно с Маргаритой Викторовной в управление!.. Там объясню…
§ 44
Примчавшись в бывший кабинет Кривцова, Че попросил Марго и Мейера достать из сейфа главные улики — три конверта с записками: с иероглифами «след Дракона», подброшенный в управление; найденный в почтовом ящике Дублина с требованием передать документы Треста Д. Е.; полученный Надеждой от неких «красных партизан». Он разложил их на столе и стал поочерёдно нюхать.
— Ну, что разнюхал? — улыбнулся Мейер. — Говори, зачем разбудил?
Марго, бодрая от бессонницы, предвкушая развязку, смотрела на Че как зачарованная, видя, как покрупнел душой майор, как рассудок его мечет искры, как сердце разжимается, выпуская затаённую боль, как покоряется ему жизнь и выдаёт всех своих демонов.
— Бумага хорошо впитывает запахи, — патетически возвестил майор.
— Это что-то из википедии? — снова улыбнулся Мейер.
— Понюхайте сами, — протянул партнёрам по конверту Че. — Чем пахнет?
Партнёры понюхали.
— Ничем, — констатировал тунгус.
— Чем-то непонятным, — сказала Острогорская. — Бумагой?
— Все три конверта, все записки пахнут одинаково. Слабо, но определённо пахнут, — убеждённо махнул собачьей головой Евгений Михайлович. — Пахнут… как будто бараньей шкурой… овчиной, что ли, какой-то… чем-то таким…
— Ну и…
— Два года назад я заходил в один дом. Пригласили посоветоваться насчёт установки сигнализации и камер наружного наблюдения. Со мной беседовали в гостиной. Так вот — я сидел на диване, а диван и кресла, и ещё другой диван были в такой особенной, мохнатой такой обивке, вроде овчины и довольно пахучей. Консультации я дал, но так как сам монтажом не занимаюсь, так с тех пор в том доме никогда и не был. А свитер у меня ещё три недели этой мебелью пах, так пропитался. Вот так же точно пах, как эти письма. А дом этот был — Эльвиры Эльдаровны Сироповой; она меня пригласила, она со мной в той гостиной разговаривала. И управляющий её при ней был, Анатолий.
— Бинго! — хлопнула в ладоши Маргарита.
— По машинам, — скомандовал тунгус. — Дежурный! — жал он кнопку пульта. — Группу захвата в Червонцево! К дому Сироповых!
Маргарита году на тринадцатом жизни прочитала чуть не все знаменитые детективные романы, известные со времён Э. А. По. Весь год читала запоем, обчиталась так, что никогда уж больше в такого рода сочиненья даже не заглядывала. Большинство детективов были весьма толстоваты, сотнями страниц нагромождая назойливые подробности, не только ничего, впрочем, не прояснявшие, а напротив, напускавшие целую тьму тумана и лишь круче закручивавшие и пуще запутывавшие сюжет. И вот вдруг, когда уже становилось от этих туманов и запутывания несколько скучно, автор выводил вперёд какого-нибудь странноватого умника, который до этого на предыдущих четырёхстах страницах только бестолково и многозначительно рассуждал, а тут, словно очнувшись и прозрев без какой-либо особенной причины, в секунду и до обидного легко разрешал всё дело, хватал, как мальчишку, за ухо свирепого и хитроумного преступника и передавал его благодарным туповатым полицейским. И преступник, о котором все думали, что он хладнокровен и жесток, сейчас, как по заказу, как будто и сам заскучал от всей этой беллетристики, становился вдруг слюнтяй и размазня, распускал нюни, во всём признавался и просился в тюрьму. Автор буквально наспех дописывал книгу, из последних сил нетерпеливо и торопливо подгоняя финал. Фразы становились короче, площе и плоше, текст как-то на глазах мельчал и обрывался. Второстепенным персонажам уделялось по два-три слова на всю их оставшуюся жизнь. Некоторые и из первостепенных сгребались на обочину, третьестепенные же без церемоний предавались забвению, как если бы их никогда не было в книге. И на всю эту неаккуратную расправу отводилось полторы страницы.
Поработав в следственном комитете, Марго узнала, что на практике всё бывало иначе. Что как раз следы, улики, шокирующие подробности преступления чаще являлись быстро и даже в избытке. Но потом ход следствия замедлялся, а то и останавливался, плодя новые и новые тома рапортов, протоколов, служебной переписки; проходили медленные месяцы, иногда и годы; наконец кое-что кое-как составлялось в правдоподобную картину, но всё чего-то недоставало; робели и завирались свидетели, мудрила защита, подозреваемый отнекивался и отшучивался, так что надо было переводить его в пресловутую пятую камеру на постой к очень крепким угрюмым ребятам с нехорошими наклонностями, после чего подозреваемый переставал шутить и почти на всё соглашался так покорно, что следователей начинали одолевать сомнения в его виновности. Потом занудствовали суды, зевали присяжные, юлила экспертиза, обвиняемый опять принимался шутить, злился прокурор, процесс разваливался и завершался оправдательным приговором, орало начальство, следователи говорили «ё!..» и опять брались за старую канитель, конца-края которой не было видно теперь уже вовсе…
И всё же это последнее её дело, константинопыльское, завершалось как раз как вымышленное, как классический детективный роман — быстро, кратко, в какой-то восторженной лёгкости и спешке, вдруг, вдруг, вдруг.
Все жильцы сироповского имения — сама Эльвира, её муж и дети, и прислужник Толя Негру оказались очень кстати дома крепко спящими и потому не разбежавшимися кто куда, не оказавшими сопротивления. Скоро, с первых прямо вопросов как-то само собой установилось, что и Велика, и Машинку похитил Толя. Молдаванин, следует отметить, был вообще малый честный и правдивый, вот и тут отпираться не стал. Кажется, если б его спросили и месяц назад ни с того ни с сего, никаких доказательств не имея, «ты ли, брат, детей украл?», он так сразу и ответил бы «я»; а не ответил до сей поры правды просто потому, что ведь никто и не спрашивал. Эту его честность и ценила Эльвира Эльдаровна, вверяя ему и дом свой, и множество мелких, но деликатных дел. Эта честность пригодилась и теперь, облегчив и убыстрив раскрытие обоих преступлений. Выяснилось, что, когда Глеб Глебович в светёлке отца Абрама рассказывал монаху о своём миллионерстве и о Тресте Д. Е., Негру вернулся из поселковой конторы, куда отлучался пожаловаться электрику на скачки электричества. Он поднялся по лестнице проверить, не пьянствуют ли Глеб и Абрам, что часто бывало и очень не нравилось Эльвире Эльдаровне. Возле двери он невольно прислушался и, почувствовав интерес, подслушал всю историю. Зная о любви Глеба к сыну и в то же время о полной его непрактичности и расстроенном алкоголем организме, Толя разработал нехитрый свой план и дерзнул осуществить его именно так, как рассказывал Аркаша Быков — когда Велик пошёл один за мороженым. Заманил мальчика посулами показать и, возможно, подарить сверхмощных биониклов последней серии. Припрятал его в погребе для солений и варений, прямо под подсобкой, в которой жил сам. Открыл банку маринованных грибов и банку смородинового варенья, дал Велику ложку и сказал: «Ешь когда захочешь, вода вот в бутылках, две штуки, много не пей, в туалет ходи вон туда, за бочку с капустой, будет темно, но ты сиди тихо, а то убью»; потом закрыл погреб. Велик заплакал. Толик его побил. И бил каждый день с утра. На брезгливый вопрос тунгуса «зачем», отвечал «чтоб не плакал».
Бил по щекам, в грудь, сжимал мальчику горло, но, говорил, не сильно и не по злобе, а только для тишины и порядка.
Спрятав Велика, наклеил письмо Глебу Глебовичу с требованием отдать бумаги Треста Д. Е. и подбросил в его почтовый ящик. Но поскольку, именно в силу своей непрактичности, усугублённой ужасом утраты любимого сына, Дублин-ст. почту не забирал, Анатолий напрасно раз десять таскался в брошенную котельную и рылся в печной золе — ничего не получил он. Хотел было даже вернуть пленника родителю, но не решился, побоявшись, что выдаст его неразумное дитя, передумал и стал уже размышлять, как бы от заложника избавиться, где бы его закопать, чтоб не нашли. И размыслил бы, но неожиданное событие отвлекло его.
Тут как-то в ворота позвонили. Он открыл калитку и увидел замерзающую, чуть живую Машинку. Девочка тихо спросила: «Велик у вас?» Негру испугался, но потом догадался, что Машинка просто знала о дружбе о. Абрама с Глебом Дублиным и о том, что Велик с папой заходили иногда в гости к чернецу, вот и пришла проведать, не здесь ли он. «Велик здесь», — сказал Толя, как всегда, правду. Он уже увлечён был новым вскружившим голову планом — за Машинку можно было взять не меньше, чем за Велика: Кривцов славился своими несметными богатствами.
Сироповы были в отъезде, Толя без помех завёл девочку в другое подполье, рядом с тем, где схоронил Велика, назначенное для склада всякого несъедобного имущества: каких-то оставшихся от давнего строительства обрезков фанеры, которых было никому не нужно, но при том жалко выбрасывать, запасных унитазов, шашлычных угольев и шампуров, ядов для клеща и короеда, красок, черепицы, гвоздей, олифы, канифоли, скипидара, клеев разных, сухих спиртов, газовых баллонов, чего-то оторванного от велосипедов, чего-то когда-то бывшего генератором. Перетащив сюда из соседнего погреба для пропитания заложницы три литра сливового компота, Негру бить Машинку не стал — она не плакала, до того крепко страх стиснул её.
Заперев девочку, всё как следует устроив, молдаванин затаился и выжидал, чтобы довести родителей до отчаяния. Когда Кривцов погиб, Толя, опасаясь, как бы и вдова его не наложила на себя руки, быстро распечатал ей письмо от «красных партизан». Про партизан этих вычитал в областной газете, была будто бы такая банда, грабившая офисы богатых фирм в низовьях Оки и Камы; хитростью своей и остроумием гордился.
Когда отец Абрам объявил ему и Эльвире, что отправляется с Глебом Дублиным на полюс, Анатолий перестал ходить в брошенную котельную, решив, что математик не испугался, по причине пьянства, гениальности и непрактичности просто не понял его записки, угроз и требований, в ней изложенных. Сожалел тоже и о своём неудовлетворительном, как казалось ему, русском, что могло усилить непонимание. Хотя по-русски говорил вполне сносно, получше многих местных. Никак иначе объяснить себе не мог, почему Глеб проигнорировал его послание.
Потом отец Абрам и друг его Дублин не вернулись вовремя с полюса, Эльвира Эльдаровна послала Анатолия сообщить об этом в полицию. Встретив возле управления Надежду с «краснопартизанским» конвертом, Толя осознал, что и второй его план рухнул. Он, конечно, мог бы посоветовать Кривцовой «не заявлять», но как-то не достало ему наглости.
После полиции, где он держался спокойно и приятно, Негру вернулся к себе в подсобку, приоткрыл погреб, ударил ногой Велика, закрыл опять и два часа кряду пел жалостливую трансильванскую песню о румынском мальчике, которого схватили турки, воспитали янычаром и отправили на войну: в завоёванной стране янычар врывается в бедную сельскую хижину и заносит ятаган над забившейся в угол старухой; та молит о пощаде; янычар неумолим; в окошко хижины заглядывает луна и озаряет мёртвое лицо убитой им женщины; янычар узнаёт в ней свою мать и т. д.
— Зачем в управление «след Дракона» подбросил? — спросил Мейер.
— Хотел вас с толку сбить, по ложному следу пустить. Про Дракона давно ещё по телеку было, в интернете посмотрел, оттуда и китайские буквы срисовал, — горделиво отвечал румын.
— А что же ты, такой хитроумный, все письма на одинаковой бумаге и в одинаковых конвертах отправлял? Ты ведь хотел изобразить, что они все от разных людей. Так что же? — ухмыльнулся тунгус.
— Бумага и конверты в ящике стола… лежали всегда… Ну вы видели… И сейчас лежат, их много там… — речь Негру замедлилась, он краснел.
— Так почему ты других не купил? Чтоб отличались, почему?
— …не знаю… не додумал… не рассчитал… Точно — глупо вышло, — заговорил сам с собой Толя, пожал плечами и оскалился идиотической улыбкой.
Тунгус вспомнил армейские анекдоты про молдаван и руками развёл, как разводят руками врачи, мямля про то, что не лечится — «ну, это гены…»
Врачи, легки на помине, зашли с бумажкой: «предварительный осмотр показал, что дети сексуальному насилию не подвергались…»
— Слава Богу! — отлегло от мейерова сердца.
— Анатолий, — крикнул он радостно Толе, ему стало хорошо теперь, когда не случилось того, чего он так опасался, когда не так мерзок оказался этот мерзавец; тунгус захотел расцеловать честное толино пятнистое лицо, захотел благодарить его за то, что только держал детей в холоде и темноте, только украл их, только избивал мальчика, только морил лакокрасочными испарениями девочку, за то, что не сделал с ними худшего; и страстно, душевно и ласково, как говорят чрезвычайно одолжившему другу «спасибо», Мейер сказал Негру: — Курить хотите?
— Не курю, друг, — отозвался Анатолий, и не от фамильярности, а потому что распознал в тоне следователя искреннюю благодарность.
§ 45
…Марго сама спрыгнула в погреб за Великом; ребёнок был худ и холоден, тельце его так истончилось и усохло, что едва прикрывало дрожащее сердце. Но огромные, как у мага огня, светлоосеннего цвета глаза вспыхнули ей в лицо живым вифлеемским сиянием.
— Слава Богу! — прошептала она и поднялась из погребального мрака на свет с мальчиком на руках, красивая, счастливая.
Навстречу ей шагнул Че, прижимавший к груди спасённую Машинку. «Как Сикстинская Мадонна», — подумал он о Марго. «Как Христофор Псеглавец», — подумала Марго о нём.
Евгений Михайлович понял восхищённо, что никогда не унизится до попыток завербовать эту прекрасную женщину, до любой лжи ей. Он сказал:
— Дело сделано. Я выполнил данное вам, Маргарита Викторовна, слово. Но я прошу вас не выполнять того, что вы взамен пообещали мне. Вы будете несчастны со мной, — он говорил в куртуазной, отчасти средневековой и рыцарской манере. — Вы не знаете всего обо мне. И я не могу сказать вам всего. Вы думаете обо мне лучше, чем я есть. Страшная тайна, которую раскрыть не смею, разделяет нас навсегда. Помните, что я любил вас. Или лучше — забудьте об этом. Я даю вам свободу, ибо не могу дать счастие. Ступайте с Богом. Fare thee well! And if for ever, still for ever fare thee well!
Марго удивилась: «Вот так речь, наизусть выучил ведь, готовился… что-то из Байрона?.. вот так Че!» — и удивлённо посмеялась, и затем с облегченьем вздохнула.
Аркадия Быкова выпустили, извинившись. Он тут же нагородил фон Павелеццу какой-то околесицы про то, как в изоляторе поставил себя настолько авторитетно, что из Белого Лебедя малява пришла от воров о назначении его смотрящим по Константинопылю и окрестностям. Заметив также, что неплохо отдохнул и пора уже браться за работу, навёрстывать упущенные выгоды, сказал, что срочно летит в Лондон, и уехал в Ухолово.
Сиропова от гнева и стыда за случившееся в её доме слегла, муж ходил за ней и перепуганными их детьми.
Анатолия Негру арестовали. Он и под арестом оставался услужлив и деловит, и правдив, и спокоен.
Машинке и Велику что-то придуманное сказали про отцов, что-то про командировки в другие города. Ещё в карете скорой помощи дети взялись за руки и уже не разлучались. Они молчали, не смеялись, не плакали, ели что давали, но неохотно, смотрели друг на друга редко, но рук почти не разнимали. Первую ночь после спасения провели в поликлинике, в одной палате. Потом Надежда забрала Машинку домой, Велик пошёл по коридору за ними; Надя, всплакнув, взяла к себе и его. Маргарита навещала их каждый день. Медики отчаялись разговорить и развлечь детей.
— Надо их в Москву, — признал главный педиатр. — Там пограмотнее меня врачи есть. Ступор какой-то у деток. От стресса, что ли? Извиняюсь, я больше по ветрянке специалист… В Москву бы…
— В Москву, в Москву! Да, конечно! — воскликнула Марго, уцепившись за эту мысль, придавшую вдруг её жизни какую-то форму. — Я всё и организую. У меня в знакомых полминздрава. И частнопрактикующие лучшие. И за границей, если надо, лучшие. Ну и папа, когда будет нужно — он тоже всех знает. Пусть это будет моя проблема. Я справлюсь!
Надежда Петровна засобиралась было с Маргаритой Викторовной в Москву, но внезапно налетевшая жестокая инфлуенция свалила и её, и она скрепя сердце отпустила дочку с Острогорской, обещая сразу же по выздоровлении приехать. Дочка равнодушно согласилась. На Велика оформили срочно нужные для лечения бумаги. И вот уже Марго увозила детей в столицу.
— На год, или хоть на полгода, или хоть на месяц увлекусь, выхожу детей, доброе дело сделаю, а там… что там?.. — думала она, надеясь, что благородные хлопоты отгонят хандру, уже крадущуюся по пятам злобно, сонно.
Машинка и Велик молча и смирно сидели на заднем сидении автомобиля. Марго завела мотор, вышла попрощаться с Мейером и Надеждой. Мейер стоял у кривцовских ворот, Надежда с обвязанным оренбургским платком горлом, кашляя и плача, махала рукой в окне своей спальни на втором этаже.
Тунгус ещё дней на пять задерживался доналадить, а может быть, и довершить совсем следствие. Он обнял Марго, проговорив:
— Решила окончательно?
— Да, решила.
— И что?
— Ничего. Просто ухожу. Не могу больше. Устала. Поищу себе другое развлечение.
— А это было развлечение?
— А ты думал что?
— Ловить подонков, ночами не спать, мотаться чорт знает куда, рисковать, да ещё и думать, думать без выходных — это для тебя развлечение?!
— Ты знаешь, что да.
— А в чём тогда работа?
— Существовать. Бояться пустоты. Не видеть смысла. Вот моя работа.
— Тяжёлая, кажется…
— Самая что ни на есть… чёрная…
— Жаль, — вздохнул Мейер.
— Жаль, что работа такая?
— Жаль, что уходишь.
— Что же жаль? — улыбнулась Марго. — Займёшь моё место. Больше ведь некому. Ты круче всех.
— Да при чём здесь место! Просто очень жаль… И Дракона вот не поймали! Может, добьём эту тему, а? Возьмём гада, а потом и уйдёшь. Совсем с другим настроением, а?
— Не возьмём.
— Почему это? Всех брали, а этого отчего ж не взять?
— Помнишь, у Дублина в квартире на стене картинку? Странную такую, яркую?
— Ну да. Что-то там из геометрии.
— Вот именно. Фрактал Хартера-Хейтуэя.
— Ну…
— А знаешь, что у этого фрактала есть ещё второе название?
— Я должен спросить — какое же?
— Дракон.
— Дракон?
— Дракон.
— Да ладно…
— Точно, точно. Я всё-таки иногда училась… Вспомнила тут как-то намедни… Дракон!
— И что же ты думаешь? Автопортрет такой зашифрованный? Или икона? Это ведь ничего ещё не доказывает.
— А когда Глеб Дублин с сыном переехал в Константинопыль из Москвы? — спросила Острогорская.
— Не помню… Но в материалах дела это всё есть.
— Это всё есть, а того только в материалах дела нету, что в том же именно году прекратились исчезновения детей в Москве и Подмосковье…
— Не может быть! В том же именно году?.. И спустя несколько лет… опять начались… именно здесь! Такие же!.. Со «следами Дракона»…
— Так точно, товарищ следователь, — вздохнула Маргарита.
— Ооооо, — застонал майор.
— Я вот думаю — обижал ли он и Велика или всё-таки нет? Эти маньяки и сериалы часто бывают любящими заботливыми отцами, как ни странно… Вот и этот… на полюс, не куда-нибудь сына ушёл спасать… Любил, значит… А других таких же — не любил…
— Оооо, — сжимал кулаки и жмурился от досады тунгус. — Нооо — всё равнооо… это не стопроцентные доказательства… Надо ещё поразбираться…
— Вот и поразбирайся. А мне пора… Пока! — шепнула она ему. — Пока! — крикнула Надежде и потом дошептала: — Стопроцентно вообще ничего не доказано. Все преступники невинны. В пределах статистической погрешности. И допусков человеческой логики.
— Ты… самая… — попрощался тунгус.
Марго села за руль; Машинка и Велик держались за руки. «Как они выживают среди нас?» — подумала Марго, поглядев на них.
Повиснув на тонкой, непрочной, то и дело рвущейся дороге, одинокая машина с женщиной и детьми потянулась вверх, прочь из холодного и тёмного, как погреб, мира, через бездонные болота и овраги, через поля полыни, века бесчестия и злобы, через беспросветные заросли колючих ядовитых людей. Велик смотрел в окно и знал, что они выберутся. Он видел, как высоко впереди по ледовому небу, открывая им путь, раздвигая глыбы мрака, летит сверкающий парусник; и капитан Арктика улыбается, выправляя штурвал и различая прямо по курсу тепло новой жизни, восходящую над вечной мерзлотой солнечную приветливую Москву.

![Машинка и Велик или Упрощение Дублина. [gaga saga] (журнальный вариант)](https://www.4italka.su/images/articles/552491/primary-large.jpg)






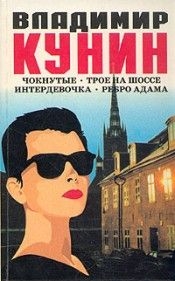
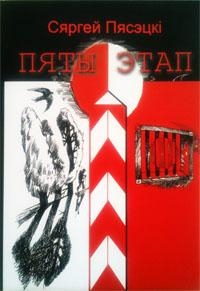

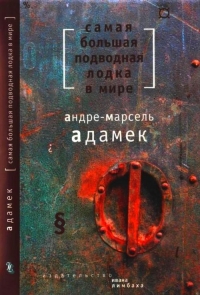
Комментарии к книге «Машинка и Велик или Упрощение Дублина. [gaga saga] (журнальный вариант)», Натан Дубовицкий
Всего 0 комментариев