Гаджимурад Гасанов Млечный путь Зайнаб Зарра Том 2
© Гаджимурад Гасанов, 2017
© Интернациональный Союз писателей, 2017
Яд, настоянный в горбу
Айханум не помнит, как переступила порог своего дома, открыла входную дверь, вошла в прихожую. Она, униженная, растоптанная, заплаканная, с головы до ног мокрая, обрызганная грязью, озябшая до синевы, упала у лестницы на второй этаж и зарыдала. Она долго и горько плакала. Когда выплакала все слезы, решилась подняться по лестнице к себе в спальню. Преодолевая мучительную боль, горбом изо всей силы упираясь в ступеньки лестницы, здоровой рукой хватая за поручни, подтягивалась со ступеньки на ступеньку. Почти в полуобморочном состоянии, истратив все душевные и телесные силы, наконец, она рухнула на последней ступеньке лестницы. Ее тело застыло в судороге, превозмогая боль, сделала еще один рывок и свое недвижимое тело закинула на палас, расстеленный в прихожей. Оттуда на четвереньках проползла в свою спальню, легла на овчине у очага, стараясь дышать легкими, чтобы не задохнуться.
Встала, злая, холодная, стащила с головы промокшие платья, на четвереньках доползла до постели и тяжело скользнула под одеяло. С подоконника лился матовый свет лампы; в скромном жилище, которое до сих пор было родным, близким, надежным, словно в крепости, теперь все как будто заколебалось, зашаталось и сдвинулось с монолитной основы. Песочная крепость ее мечты потрескалась с основания, трещины пошли по швам, все углубляясь, расширяясь. Их семейный очаг выдыхался, корчился в предсмертных судорогах. Огонь ярости пронесся в ее сердце, ливень бушевал на улице еще яростнее; грозовые тучи с громом и молниями носились поверх их селения; очаг в ее комнате еле догорал.
«О, Аллах! – простонала женщина. И собственный голос показался ей голосом чужой женщины. – Что делать, чтобы спасти себя, сохранить его! Что? Желательно не ложиться спать! Когда он вернется, поговорить с ним прямо и решительно. А потом будет поздно!»
Она под одеялом отогрелась, встала, из казана с водой, греющего в очаге, в тазик набрала воды; помылась, вытерлась, переоделась в сухое нижнее белье; все дрожа, села на тулуп у очага, укуталась в одеяло. В очаг забросила пару поленьев, стала его ждать.
«О, Аллах! Спаси и сохрани мою семью, пожалей отступника! Иначе сгорит, как свеча, пропадет! Ведь такой он беззащитный!»
Она закрыла лицо руками, тотчас перед ее глазами предстали Хасан и та женщина на душистом сеновале. Они лежали в обнимку; женщина была под ним, стонала, страстно дышала трепетными ноздрями. «О горе, горе!» – с надрывающим голосом повторяла Айханум. И чтобы избавиться от этого дьявольского наваждения, она головой накрылась одеялом. Перед ее взором все еще стояла женщина в небесно-голубом платье, статная, с упругой красивой грудью, бледным лицом, синими, как море, лучистыми глазами. Они, в зависимости от обстановки, места нахождения, меняли свой цвет, то становились серыми, то бирюзовыми, то зелеными, то небесными, то фиолетовыми. А когда ее глаза встречались с глазами Хасана, они страстно искрились, по телу пробегала дрожь.
Вот Шах-Зада из-под пышных черных волос, черными облаками подающих на лоб, соблазнительно заглядывает ему в глаза. Ее красивое лицо, перед которым блекнет красота даже самых прекрасных женщин, большие выразительные глаза влекут Айханум смерть. Одновременно ее глаза несут в себе печать какой-то тихой грусти, незащищенности; беззащитная улыбка мелькает на ее чуть вывернутых и чувственных губах.
Айханум застонала от невыносимой боли и унижения. И в неровной полутьме комнаты ее стал преследовать вызывающий взгляд соперницы. Их взгляды встретились, соперница под испытующим взглядом Айханум настороженно опустила тяжелые веки, словно не знала, куда их спрятать, как ей защититься от мстительной жены ее любимого мужчины. Этим взглядом и своей манерой открывать в порыве искренности душу и тут же запрятать Шах-Зада необычайно походила на Хасана. Настолько, что, потом, когда поведение мужа все больше стало настораживать ее, она, почему-то, не могла обиженно думать об этой женщине, вовлекающей Хасана в тяжкий грех. В последнее время она задумывалась над вопросом, как их обоих спасти от греха, как вернуть им разум, благочестие.
* * *
Хасан не успел подняться по лестнице на второй этаж, неожиданно в его глаза пугающе ударила желтая полоска света, которая просвечивалась из спальни жены. Она через приоткрытую дверь ее спальни в кромешную тьму коридора пробивалась яркой, угрожающей стеной на пути отступления в его кабинет. Потом через просвет он увидел жену, сидящую перед горящим очагом. И его охватила тревога, больше не покидавшая никогда. Его тело сковало так, что оно вдруг стало деревянным. Перед ним открылась вся правда его тревоги; горький ком подступил к горлу, и он от унижения чуть не заплакал. Ему стало обидно как ученику, которого директор школы застал в школьном саду, срывающим с яблони плоды.
Он ощупью прошелся по этой световой дорожке, с которой боялся сойти; большим пальцем левой ноги больно ударился о порог спальни жены, спотыкнулся. Он, ничего не видя перед собой, добрался до очага, присел на табуретку. Судорожно протянул к огню руки, чтобы унять дрожь в теле и тревогу на душе.
– Поч-ччему ты не легла спать? – не смея взглянуть ей в глаза, запинаясь, спросил он.
Жена к нему обернулась молниеносно, готовая вонзать свое ядовитое жало в его сердце. Но остепенила свою ярость, мгновение сидела неподвижно. Она была очень бледна, но спокойна, почти сурова. Хотела поймать взгляд мужа, но он упорно от нее отворачивался.
– Я ждала тебя, муж. Где ты был?
Он понимал, что любой необдуманный ответ, неосторожно произнесенное слово, скрывающее правду, бумерангом обернется против него. Но все же ему от жены чем-то нужно было защититься.
– В мечети, – с дрожью в голосе ответил он.
В глазах жены зажглась недобрая улыбка, но в следующий миг темная печаль омрачила их.
– Хасан, – почти неслышно позвала она, с чувством стыда опустив глаза, но больше не колеблясь, – посиди со мной, я должна поговорить с тобой.
Хасан с себя стащил, бросил на сторону мокрый плащ и присел на табуретку. Жена ему на ухо шепотом продолжила:
– Я знаю, где ты был. Вот уже несколько ночей я слышу, как ты уходишь в темень. А сегодня вечером я пошла за тобой и видела, куда ты направлялся. Я смотрю, ты, как носитель религии Моисея, когда молишься, стал поворачиваться лицом в сторону захода солнца.
Хасан понял тонкий намек жены. Дом Шах-Зады находился на западной стороне от их дома.
– С чего ты взяла? – подозрительно задрожал его голос.
– А с того, что, Хасан, святой Меккой тебе стал Запад, вернее дом, который стоит западнее нашего дома. Ты должен хорошо знать, я наблюдательна, у меня аналитический ум… Хасан, не кощунствуй! Ты имам мечети, ты староста села, тебе не к лицу врать и вилять хвостом… Хасан, подумай о себе, о том, что ты делаешь! – она сделала паузу, готовясь к решающему удару.
– Насколько далеко у тебя с этой женщиной зашли отношения?
Хасан вздрогнул, весь обмяк, он не вымолвил ни слова, казалось, он оглох. Жена уперлась в его лицо глазами, выжидала ответа. Он сидел рядом с ней, могучий, смертельно бледный, недвижимый. Ей вдруг захотелось услышать, чтобы он возмущался, протестовал, отстаивая свой первоначальный ответ, что по ночам он ходит только в мечеть. А он молчал и думал о том, чтобы Аллах сжалился над ним, услышал его молитвы и отпустил ему грехи. В одну секунду ему захотелось наклониться к жене, обнять ее за плечи и попросить прощения. И в то же время он чувствовал, как от унижения и ненависти к жене у него в сердце растет всепоглощающая ярость. У него предательски дрожит подбородок, а глаза, мечущие молнии, ждут момента, чтоб сверкнуть и испепелить ее. Он в этом состоянии терял способность трезво рассуждать. Впервые он себя увидел перед женщиной таким беспомощным и безмолвным. Его глаза, глаза затравленного зверя, метали громы и молнии. «Как Айханум может со мной так поступать? – негодовал Хасан, – сама притворялась прикованной к постели, в это время за мной всюду следовала хвостом!»
Хасан страдал, страдал от сознания того, что предал жену, которая ему верила, как Богу. Он нанес безысходно больной жене смертельный удар, от которого она больше никогда не оправится.
– Жена, оставь свои догадки, а меня в покое, у меня и так болит голова!
– Больные лежат в постели, а не ходят ночами по чужим сеновалам…
– Аллахом не все больные наделены способностью в постели унять душевную боль…
– Значит, ты болен больше, чем та женщина, к которой ходишь, и тебе необходимо лечить душу. Грех сильнее любой болезни, и он губит душу. К тому же не одному тебе надо спасать свою душу. Для гибели человека достаточно даже одного порока: подобно тому, как зияющая рана является воротами для различных инфекций; достаточно одного греха, чтобы открывать вход в душу всем грехам и всем земным страстям. Пороки как бы держатся один за другим, и в кого входит один, в того неприметно входят и прочие. Подумай о том, что ты не волен губить и ее душу.
Он слегка наклонился к ней, но вдруг резко отстранился, словно она змея и готова наброситься на него и ужалить, – жена своим жалом попала ему прямо в сердце.
– Подумай хорошенько о том, что ты делаешь, муж мой! Больше я ничего не хочу сказать тебе. Но теперь оставь меня, о тебе хочу говорить с всевышним Аллахом и за тебя молиться.
– Хватит! – сорвался он. – И в самом деле, будет лучше, если не станешь больше говорить об этом ни со мной, ни с кем другим, тем более с Аллахом!
Она одной рукой ухватилась за борта его пиджака, встала, решительная, суровая. Взяла мужа за руку и заставила заглянуть себе в глаза. Затем усадила его, села сама, сложив на коленях руки.
– «Желание приобретать большее и иметь преимущество перед другими влечет за собой гнев к равным тебе, гордыню к низшим, зависть к высшим, – говорится в Священном писании. – За завистью следует притворство, за ним озлобление, а вслед – ненависть к близкому человеку. Остановить этот губительный процесс разложения души может только совесть. А совесть – это запечатленное в сердце человека знание о добре и зле. Это она, совесть, кричит нам о том, что душа ранена. Но чем сильнее вовлечен человек в грех, тем сильнее и отравляющее действие яда от греха! Слышит он голос своей совести, а подчас, казалось бы, этот голос совсем пропадает. Молчание совести можно сравнить с болевым шоком, который наступает, если повреждения, полученные при ранении, значительны. В обоих случаях – это сигнал смертельной опасности».
Лоб Айханум покрылся испариной, из широко открытых, упершихся в тяжелые мысли, темных глаз на густые ресницы выкатились крупные слезы. Они, дрожа, на мгновение держались на них, набирая влагу, неожиданно хрустальными каплями, рассыпаясь вдребезги, катились вниз. Они соскальзывали по бледным морщинистым щекам, оставляя за собой узкие бороздки, собирались лужицами в уголках дрожащих губ.
«Рай и Ад, мой милый, к себе принимают без ограничений. Приговор Рая и Ада бывает окончательным и обжалованию не подлежит. А душа бессмертна, и там, в мире ином, она способна либо утешиться, либо мучиться и страдать. Аллах не хочет, чтобы ты был милосерден ко мне ради посмертного путешествия в загробные райские сады в Бухаре или Самарканде. Аллах ждет от тебя сердечного раскаяния, чтобы в нем всегда рождались здоровые мысли. Я вижу, о месте райских блаженств тоже ты знаешь мало. Но вот про Ад, геенну огненную, и то, насколько мучительно там пребывать для души, в одной из Священных Книг от Бога говорится вполне определенно: В числе пыток, – говорится в Священном писании, – были и такие: накормят преступника чем-либо соленым, да и запрут, не давая пить. Какое мучительное терзание!.. Так и страсти: это ведь внутренняя жажда, разжигания, вожделения падшей души. Удовлетворишь их – они замолчат на время, а потом еще большей силой не дают покоя… На том свете нечем будет удовлетворять их, рядом не будет Шах-Зады, потому что все предметы страстей – предметы земные. Сами же страсти останутся в душе, и они будут требовать себе удовлетворения, а так как в загробном мире удовлетворить их будет нечем, то и жажда будет все сильнее и томительнее. И чем дольше будет жить душа, тем сильнее она будет томиться, терзаться. Непреодолимая мука будет расти до тех пор, пока не наступит конец этому возрастанию и усилению. Вот и Ад! Зависть – гнев, ярость – огонь, ненависть – скрежет зубов, похоть – тьма кромешная. Этот Ад начинается еще здесь, на земле, ибо кто из людей страстных наслаждается покоем? Так ты ввергаешь бессмертную душу в вечное страдание. Что и говорить, страшная перспектива. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.»
Он, ошеломленный нанесенным ударом, на мгновение потерял власть над собой. Жена об Аде говорила так убежденно, что почувствовал себя в его вратах. Он не выдержал ее огнедышащего натиска, встал, пошел было к двери, но машинально вернулся и стал ходить взад и вперед перед очагом.
Раскаты грома снаружи, шум ливня и ветра сливались с треском вновь разбушевавшегося огня в очаге, с шуршанием его высохшей одежды. Все было магически знаменательно: гром и молнии, ливень и ветер за окном, печальная фигура больной жены, ее магические изречения, скрип его шагов, отблески огня, отражающиеся длинными, живыми тенями на стенах спальни жены. И он все ходил и ходил. Вдруг резко остановился перед женой.
– Уйми свою ярость, успокойся и ложись спать.
– Я не лягу, Хасан. Если я сойду с этого места, сойду лишь с одной целью, чтобы навсегда исчезнуть из твоей жизни. Возвращаясь ночью домой, я даже наметила то место, где обрету вечный покой… Я клянусь, если не остепенишься, если не поклянешься, что, начиная с сегодняшней ночи, навсегда из своего сердца выкинешь ту женщину, я на себя возьму этот тяжкий грех…! Сила и твердость взгляда ее глаз, скорбь, которая там затаилась, говорили о решительности ее действий.
Он вскочил с места, выпрямился во весь рост; у него противно дрожали губы, подбородок. Она своими угрозами о самоубийстве обрекала его, служителя бога, на вечные мучения.
Долг мужа перед умирающей женой, ответственность перед прихожанами взяли верх над его чувствами и ответственностью перед любимым человеком. Он дал слово, больше никогда не встречаться с Шах-Задой. В то же время с его губ в адрес жены готовы были сорваться самые обидные слова, на которые в другое время никогда не решился бы. Он сделал большое усилие над собой, чтобы удержаться от этого соблазна.
– Жена, клянусь тебе, я больше никогда не увижу эту женщину… – повторил Хасан и, теряя силы, рухнул на тулуп рядом с ней.
* * *
Айханум лежала под тулупом, ее костлявые руки плетьми покоились на нем. Хасан с болью разглядывал ее правую искалеченную руку в паутине синеватых вен, изогнутую в кисти, с узловатыми крючковатыми пальцами и зеленым ногтем с грибком на большом пальце.
Его руки с длинными, сильными пальцами и розовыми ровными ногтями притягивали ее взор. Она мысленно примерила их силу на своей утиной шее, побледнела, подавляя страх в глазах…
– Тебе, что, стало плохо? – Хасан с отвращением заметил, какая гадкая мысль зародилась в ее сердце, недоверчиво рассматривая его руки.
– Нет, судорога свела ногу, – скрывая глаза, ответила жена.
Хасан отодвинул полог тулупа.
– Какую?
– Левую…
Быстрым движением руки он стащил с ее ноги теплый шерстяной носок. Она пугливо отдернула ногу.
– Айханум, во мне не сомневайся, бог все еще не покинул мое сердце, – чуть подумал и добавил, – до уровня односельчанина Шархана я еще не докатился.
Айханум стало стыдно за себя. Хасан принялся растирать ее ступню. Жена больше не глядела на пальцы мужа.
«Возможно, в сердце Хасана нет никаких кровожадных мыслей, тем не менее надо быть начеку», – заключил она. Айханум стало знобить. Хасан укрыл жену поверх тулупа одеялом, принес горячего молока, дал попить. Он был слегка бледен, печален, молчалив и, стараясь сглаживать свою вину, до утра просидел у изголовья жены. Она заметила, как вдруг в его глазах потух свет.
* * *
Хасан до утра не смыкал глаза, сидел у очага, смотрел на огонь, думал. На заре вышел от жены с твердым убеждением, что в жизни у него все кончено. Захаживая в свою комнату, он услышал, как жена громко зарыдала, будто оплакивает мертвеца. Ему казалось, что он тверд, решителен; он не желал больше знать ни своих страданий, ни душевных мук, ни слез, ни любви, ни печали одиночества. Ему даже не хотелось обращаться к всевышнему Аллаху с молитвой о снисхождении. Он был в таком мрачном состоянии души, что готов был завыть волком, наложить на себя руки. Ему сейчас, завтра, никогда больше ни от кого, тем более от женщин, ничего не нужно. Он решил идти своим путем, одиноким, безжизненным, без света, без будущего. Он принялся читать первую попавшую под руку книгу, но буквы расплывались перед глазами, и отложил ее в сторону. Из его сердца не выходила мысль: «Почему жена так горько плачет, словно хоронит меня. Может, не поверила моей клятве? Может, она оплакивает меня, лишенного любви, будущего?»
Да, жена оплакивала мужа, лишенного ею всего. Она знала, после того, что пережил муж, он легче выберет смерть, чем такую обезличенную жизнь. Она еще не представляла, своим таким наказанием мужа, какой страшный грех взяла на душу! Айханум заставила здорового мужчину отречься от самой достойной женщины ради умирающей калеки. Она, бросая в огонь какие-то пахучие травы, фанатично нашептывала: «Тьму в твоем сердце породила моя тьма. В то время, когда мощный росток тянется к свету, я лишила его солнца. Мало того, ввергла его во все муки ада. Со временем, муж мой, ты от безысходности начнешь выть, как волк, потом выберешь смерть, как исцеление. Ты мечтал ту женщину сделать своей наложницей, а твоей наложницей станет смерть. Хасан, она все время шагает по твоим пятам, настичь осталось немного… Шах-Зада бы тебя спасла… Но я не допущу этого», – заклинала Айханум…
Вдруг у Хасана сердце больно кольнуло, кровь отлила от лица. Он удивленно посмотрел на дверь, словно его кто-то уколол и спешно покидает помещение.
«Не надо было клясться, – прошептал он, становясь мрачнее тучи. Кто по-настоящему силен, тот не клянется. А кто клянется, как это сделал я, тот нарушит клятву, как готов это сделать я».
И тут только до него дошло, что борьба за жизнь только начинается. Противник стоек, коварен и силен. И трудно ему придется выдерживать ее уколы, напитанные ядом. И вдруг его охватил такой страх, что он, шатаясь, подошел к постели, упал на нее прямо в одежде и заплакал. Он плакал так, чтобы не услышала жена, чтобы самому не слышать своего плача. Душа его больно кипела, кричала, разрывалась на части…
* * *
Прошло два дня с того мрачного разговора с женой. В очаге горел огонь, на треножнике в продымленном котле варилось мясо. У огня, скрестив ноги, по-азиатски сидел Хасан. Айханум, закутавшись в тавлинский тулуп, колдовала над котлом. Вечернее небо за окном было затянуто облаками. В доме стояла глухая тишина.
– Дождь будет. – Хасан с сожалением посмотрел на небо.
Жена ничего не ответила, о чем-то напряженно думая, сколупывала с тугих луковиц старые, желтоватые чешуйки.
– Скоро мои братья вернутся с охоты из-под Джуфдага. Может, на хинкал занесут птицу улар.
И опять Айханум промолчала. С тех пор как Шах-Зада ворвалась в их жизнь, Айханум все не может простить ему и прийти в себя. Раньше она была открытой, разговорчивой, с тех пор все время молчит. Глаза на него не поднимает, ей обидно и стыдно за него. Хасану жалко ее, до глубины слез жалко. Она перед ним ни в чем не виновата. Очистив луковицу, разрезав на четыре дольки, Айханум бросила их в кипящий котел.
– Вкусная еда будет! – Хасан встал рядом с женой, наклонился над котлом, втянул ноздрями запах. – Сюда бы еще горсточку чабреца, дикого лука, молочной алычи и душистого черного перца в горошек. Да, Айханум?
Положив руку на ее плечо, притянул к себе.
– Э-э, твое платье совсем худым стало. И чешки на ногах протерлись. На днях съезжу на дербентский рынок и с ног до головы приодену тебя. Вздохнул, погладил ее по плечу, по склоненной голове. – В бархат, в шелка тебя наряжу.
– Зачем мне бархат, зачем мне шелк? – могильным голосом отозвалась Айханум.
Он обрадовался, что она отозвалась, значит, на душе отлегло, она оттаяла. Но вместе с тем испугался ее тихого, полного безнадежности голоса.
– А что тебе надо? Чего хочешь, Айханум?
– Хочу, чтобы жили, как раньше…
– И будем жить! Что нам мешает? Ты же видишь: я тот же. И ты та же.
– Я – да. Ты – нет… – она прижала руки к груди. – Тут плохо, – схватилась за сердце. – Больно и стыдно. У меня такое ощущение, будто меня на сельском майдане перед всеми сельчанами раздели донага и дегтем обмазали.
Хасан, как от сильного удара по голове, резко втянул ее в плечи; почернел в лице и крепко стиснул зубы. Встал и спешно покинул комнату…
2004 г.
Берега одной реки
Неделя прошла в глухом молчании. За это время Хасан обрел способность трезво рассуждать и давать своим действиям надлежащие оценки. Голова становилась холодной, сердце рассудительным, действия продуманными. Хасан – староста села, он имам мечети, он слово Аллаха несет в массы. Он солидный женатый человек. Дал слово беречь ее, не обижать, тем более не изменять. И он не имеет морального права нарушить данное слово, тем более в своем сердце оставлять место другой женщине. Но с некоторых пор против принятого им решения восстала душа, сердце стало протестовать, уходит из-под его контроля. Оно всеми силами тянется к той, которая его приподняла, согрела, вдохнула жизнь. В теперешнем состоянии Хасан перестал себе понимать. Он находился в критическом для мужчины возрасте, когда от него уходит молодость, и к нему стучится старость.
Когда он неожиданно встретился с любимой женщиной, его погасшие чувства, уснувшая от долгого воздержания плоть внезапно ожили, взбунтовали, и с тех пор его, как мотылька к огоньку, влечет к этой женщине.
Судьба Шах-Зады во многом сложилась как его судьба: потерянная любовь, неудачное замужество, обманутые надежды, неуверенность в завтрашнем дне. Она тоже, как и он, безвыходно, замкнуто сидела в своем доме, словно святая мадонна в священной обители. Первоначально они испугались своих чувств, своей страсти, больше всего береглись злых языков, завистливых глаз. Свою любовь, как священную Книгу, они прятали от любопытных глаз, злословия врагов, недругов, завистников. С каждым днем, с каждой встречей любовь их набирала силу, подпитываемая пламенем огня, нежностью поцелуев, крепостью объятий.
Шах-Зада после того как ушла от мужа, не горевала, не страдала, не плакала, она каленым железом вытравила из жизни. Когда вспоминала себя, детей в его семье, горькая тоска засасывала ее в омут. Она всю свою выстраданную любовь и нежность переложила на детей. Чем горше становилось в доме мужа, тем чаще она вспоминала Хасана.
Теперь в тиши отцовского дома, когда освобождалась от домашних хлопот, она, сидя у горящего очага, мысленно уходила в свою далекую молодость, бродила по тропам, речным извилинам, горным вершинам, по которым когда-то любила бродить с Хасаном. Когда ей становилось очень тяжело, по ночам, когда мать с отцом, дети засыпали, уткнувшись лицом в подушку, безутешно плакала.
Она до такой степени затосковала по Хасану, что готова была пойти к нему домой, даже в мечеть, прилюдно упасть перед ним на колени и попросить прощения. Она знает, что перед ним глубоко виновата. Была бы она тогда твердой и сильной, как сегодня, она бы не уронила свою любовь. В крайнем случае, покинула отчий дом и пошла бы к Хасану. Теперь она потерпит все: унижения, оскорбления, лишь бы Хасан простил ее. Шах-Зада в своих страданиях дошла до такой степени, что, пренебрегая всеми приличиями чести горянки, долгими часами выжидала Хасана в безлюдных местах, недалеко от мечети, в его садике, в тени деревьев. А при случайной встрече она дрожала от страха, не смея к нему приблизиться. Она пыталась поймать хотя бы его осуждающие взгляды. Он проходил мимо, углубленный в свои мысли, не замечая ее, устремив взгляд куда-то вдаль. Она, незамеченная, непризнанная им, быстрыми шагами удалялась к реке и там заливалась горькими слезами. Сама невозможность быть рядом с ним распаляла ее любовь. Кроме родителей Шах-Зады никто не знал об их светлых чувствах; для родителей это время ушло в небытие, как недопетая песня ашуга, как недописанная картина художника.
По Шах-Заде тосковал и Хасан. Эта святая тоска, сгущаясь, набирая силу, превращалась в большую, огнедышащую лаву. Казалось, словно тихая вода хлынула в кратер спящего вулкана, которая, нагреваясь, распадаясь на мельчайшие частиц, молекулы, насыщаясь парами, раскаленным металлом, собиралась огромной мощью выброситься наружу.
Неожиданная встреча с Шах-Задой после ее развода с мужем перевернула его душу. Он осунулся в лице, потерял душевный покой, почти ничего не ел. Заглянув в самую глубину своей души, понял: он желал и любил эту женщину, давно, с самой их первой встречи. С самой первой встречи у реки, случайного взгляда они горячо полюбили друг друга и с того дня знали, что принадлежат друг другу. Но жизнь распорядилась с ними по-своему.
Клятва, данная сгоряча жене Хасаном, была самообманом, которой он в критический момент спас ее жизнь. Теперь он уверен, все было именно так. Так сложилась сущность природы этого многострадального человека: он жил на этом свете, любя, страдая, теряя самое дорогое, что у него есть. Когда Шах-Заду засватали за другого человека, он получил такой удар, от которого никогда больше не оправится. Он потерялся всякий интерес к жизни, стал странником, путешествовал из одной страны мира в другую, нигде не находя душевного покоя. Через пятнадцать лет Шах-Зада ушла от нелюбимого человека, он опять ожил вместе с вернувшейся к нему надеждой.
* * *
Когда Хасан после слова, данного жене, случайно встретился с Шах-Задой, он вздрогнул, сердце чуть не выскочило из груди от страха, тоски по ней. Потом, когда прошло время, он понял подлинный смысл своего страха. Это был страх боязни смерти, страх одиночества, потому что отказ от любви, от обладания этой женщиной означали и отказ от самой жизни. Он пришел к умозаключению, судьба жизни и смерти двух любящих сердец зависит от их любви. Если он будет вместе с Шах-Задой, они будут вечны на этом и на том свете.
Через день его опять стали одолевать сомнения: «Любовь женатого человека к ушедшей от мужа женщине – это грех, попытка удовлетворения честолюбия обиженного на судьбу человека. Когда угаснет огонь греховной страсти, душа вновь обретет покой и вернется в свою привычную колею, тогда как быть? Тогда стоит ли страдать только от того, что я одинок, и меня покинули мирские заботы? Разве не я этого желал, все последующие годы живя жизнью праведника, радуясь счастью отшельника? И самые лучшие годы своей жизни разве не провел как мученик?»
И все же одно ее услышанное имя, одна только мысль общения с ней, желание жить вместе заставляли его трепетать. Он представил, как рядом с ним лежит любимая женщина. Он обнимает ее, горячую, гладкую и что-то шепчет ей на ухо, губами ласкает горячую шею, жаркие, распущенные волосы, ароматные, словно шафран. Он ей повторяет, что завтра, послезавтра, через год, всю жизнь будет то же, но гораздо слаще, горячее, нежнее. И он не представляет свою жизнь без нее, но вместе с тем он не хочет причинять страдания больной жене, что ему стыдно за ту клятву, которую он в сердцах дал Айханум и за то, что собирается нарушить ее. Но он больше не может жить без возлюбленной, ему без нее очень плохо; за пределами ее отсутствия он видит только тьму. И он рад случаю, который дал возможность нарушить данную жене клятву.
Хасан закрыл глаза, как наяву увидел, что из глубины зеленого омута на него пристально смотрят синие, как небо, продолговатые глаза Шах-Зады. Казалось, это не ее глаза, а глаза жительницы с далекой планеты. И во всем облике этой женщины, в ее черной одежде тоже было нечто инопланетное, магическое. Глаза были полны дикой жизни, огня и пылкой страсти.
В годы разлуки с любимой, ему казалось, что он свою жизнь прожил, за гранью этой жизни нет другой жизни, тем более наполненную мирскими радостями. Он познал все тяготы жизни: потерю близких людей, унижение, любовь, наслаждение, грех, очищение. И тогда он решил себя посвятить мечети, больной жене. И вдруг земная жизнь предстала перед ним по-новому – в облике прекрасной женщины. И он принял ее как вечную жизнь. Любить, быть любимым – разве не это божье царство на земле? Он осознавал, что не владеет собой и обманывается, все время обманывается.
С самого рождения его по жизни повели не туда. Ведь он родился обыкновенным человеком, подвластным людским влечениям, слабостям, а не отшельником, посвятившим свою жизнь мечети, жене-калеке. И он отчасти страдал оттого, что не мог отдаться во власть природным инстинктам. Он страдал оттого, что был полноценным мужчиной, и ему нужна была любимая и любящая женщина, нужны мирские наслаждения, горечь любви и поражения. И всякие барьеры, запреты лишь еще больше усиливали его неутоленные желания…
* * *
Жена не открыла глаза, когда он вошел. Лицо ее пылало. Что с ней? Лихорадка? Нет, на губах пена. Рядом с ней на постели лежит пустая склянка. Поднял, прочел надпись на этикетке: «Цианистый калий». Руки задрожали, склянка выпала под ноги. Он положил ладонь на ее лоб – лоб был холодный. «Неужели?!» – в глазах померк свет. Намочил полотенце, им вытер ее губы. «Может, жива?!..» – не верил он своим глазам. Откинул одеяло. Живот страшно раздулся, на нем вспухли черные волдыри. Такие волдыри выскочили и ниже сосцов. Он поспешно истолок лекарство, его в стакане размешал с охлажденной кипяченой водой, ручкой деревянной ложки раскрыл ее рот и влил лекарство. Лекарство вытекало обратно. «Что делать? – думал он, вышагивая по комнате. – Что делать? Я убил ее! Я ненавижу себя! В глубине моего существа, в самой основе моей души, иногда для меня вполне неосознанной, таится и скрыто действует сила первородного греха – сила темная, безумная и беспредельная. Эта сила отдаляет меня от всего духовного, замыкая в греховный мир, делая жестоким. Она, я знаю, является бесовской силой, началом моего духовного вырождения. Эта бесовская сила отрывает меня от всяких нитей, связующих с Земным и Небесным мирами…»
На жену страшно было смотреть. Помутневшие глаза неестественно округлились; черты ее лица неузнаваемо изменились; челюсть отпала на грудь, показывая оставшиеся во рту искривившиеся коричневатые зубы и зажатый в углу откушенный язык. На его месте редко кто выдержал бы одного вида самоубийцы. Его из дома вытолкнула какая-то сила, он выбежал на задний двор и остановился, в беспамятстве глядя перед собой. Он перестал замечать ход времени. Вдруг неожиданно в его памяти всплыла картина из прошлой жизни: Пестрый лес, пестрая листва, красный боярышник, калина, обклеванная птицами, в серых кустах рододендрона заброшенное гнездо куропатки, одиночный куст шиповника на лужайке. А рядом, в середине осеннего темного леса, на небольшой круглой поляне – клен. Желтые, оранжевые листья, падающие с клена на землю, оголенный лес. На макушке Джуфдага – белая шапка первого снега. На душе тревога. Глаза потемнели от нахлынувших слез. К горлу подступил предательский комок…
Вечерело, когда он понемногу начал приходить в себя. С отчаянием вспомнил, что все это время жена пролежала одна. «Ненавижу будни, – бубнил он одну фразу, норовя успеть домой. – Каждый день надо ходить на работу, просто потому, что мне с женой надо на что-то жить.» Ему подсказывает внутренний голос: «Чего же ты, Хасан, прибедняешься? У тебя в Алма-Ате, Ташкенте, Самарканде, Бухаре в банках десятки миллионов долларов ежедневно накручивают проценты!»
Другой голос ему возражает:
– Эти богатства накоплены нечестным трудом, и они давно для тебя стали харам.
– Потратил бы их на лечение жены.
– Ты же знаешь, у нее неизлечимая болезнь. К тому же она калека с рождения.
– Тогда их пожертвуй в общинную кассу.
– Кто поймет, что я заработал честным путем.
– Бог.
– Бог покинул меня.
– В таком случае не хнычь и жуй свой черствый хлеб.
– А я что делаю?
– Мне надо выполнять обязанности имама мечети, старосты села, в это время дома тихо умирает жена. Она целыми днями лежит одна в пустой комнате, в тишине. А вечером я после работы тороплюсь в мечеть, из мечети домой. Мои сослуживцы, прихожане мечети на меня смотрят и не понимают, что со мной. Потому что никого не волнуют чужие семейные заботы, ничье сердце они растапливают… У меня есть руки, ноги, я совсем здоровый человек, но ничем не могу ей помочь. Если что словами и молитвами облегчить ее душевные страдания. Никто в этом свете нашему горю не поможет. Она обречена. Об этом давно знает она, знают врачи, знают мои друзья. Мои друзья давно стараются повернуть меня лицом к жизни. Но, когда я вижу глаза больной жены, мне становится стыдно за себя, и я прячусь за ней. Друзья стараются меня научить ценить жизнь, даже когда из нее ушли отец, сын, Мила.
Хасан засомневался, может, она не умерла, нуждается в моей помощи. Он вбежал в комнату, зажег свет и окликнул ее, жена не ответила. Коснулся рукой лба жены – лоб был холодный, коснулся губами – он оцепенел. Из его горла вырвался пронзительный крик, долгий, душераздирающий, горестный крик…
Он с лету с пола поднял склянку и метнулся из дома…
2004 г.
Оборотни в горах
Во второй половине лета в горах ни днем ни ночью не прекращались ливневые дожди. Раскаты грома, удары молний трясли горы. Ливни через две недели утихомирились, утром показалось солнце, но к обеду над Джуфдагом начали клубиться дождевые облака. Они, сгущаясь, перемешиваясь с холодными потоками ветра, начали наливаться влагой, приобретая свинцовую тяжесть. Через некоторое время облака, подгоняемые верховым ветром, тяжело погрузились в глубокие овраги, ущелья. Раздался отдаленный гром, сверкнула молния. Ветер стал усиливаться. Где-то далеко, из глубины ущелья, тучи плотной вереницей выскочили на растянутые длинной чередой горбатые холмы, окаймленные желто-оранжевым маревом.
Начиналась гроза, сполохи молний, сопровождаемые трескучими громами, пронеслись за селом. Через короткое время они загрохотали, засверкали над долиной Рубас-чая. По долине реки прошелся сильный ветер, шелестя листвой деревьев, отрывая от ветвей деревьев сухие ветки. За ветром последовала стена ливня. Кругом все покрылось свинцовым мраком, из его гущи серпантином выскакивали молнии, кратковременно освещая стены крутых скал в узком ущелье и реку, беснующуюся в нем. С кручи скал, холмов в низовья с грохотом понеслись мутные потоки. Они объединялись в один селевой поток, который с корнями выкорчевывал огромные деревья, растущие в пойме реки, выковыривал громадные валуны. Он со страшным грохотом несся в Каспийское море.
Спустя некоторое время громы и молнии, отгрохотав, отсверкав, стали уходить все дальше, по долине реки.
На проселочных переулках, дорогах, ведущих к родникам, загонам скота – везде по колено стояла грязь: ни пройти, ни проехаться. Солнце, которое иногда выглядывало из облаков белоснежными барашками, висящих на голубом небосклоне, успевало лишь ненадолго слизывать влагу с макушек деревьев, отяжелевших от влаги. Нескончаемые ливневые дожди, мутные речные потоки, которые бушевали во всех ущельях, впадинах, словно решили затопить этот первозданный зеленый мир.
Хасан с карабином, холодным оружием, запасом еды, патронов на неделю, верхом на коне направляется в сторону Малого Кавказского хребта, на отгонные пастбища колхоза, расположенные под Джуфдагом.
Солнце жжет нещадно, слепни назойливо налипают на него и коня; он обливается потом. В одиннадцать часов утра стало трудно дышать. Хасана одолевали печальные думы. Он не мог простить себе то, что в тот день бандитам, потеряв свою природную бдительность, дал возможность у себя под носом выкрасть Шах-Заду. «А сейчас я не знаю, что с ней, где найти ее след. Может, найдутся добрые люди, которые скажут, где она находится? – размышлял Хасан. – В сердцах людей, кроме темных пятен, остались и светлые стороны! Неужели в горах среди животноводов, пасущих скот, не найдется божий человек, который мне укажет дорогу туда, где находится логово разбойников и где прячут мою жену?»
Хасан к обеду был на подступах урочища Чухра. С другого берега реки Караг-чай начинались его угодья. Бурно клубятся мутные воды Караг-чай, намертво запертые в узком ущелье горного массива. Река так разрослась, что на другую сторону вряд ли переправишься. Она на своем вздыбленном горбу стремительно несет разный плавник: мертвые, живые деревья, облепленные клочками грязной густой пены. Не река, а необузданное буйство природы. В теснинах гор, на крутых изгибах стремнина реки разбрасывала, словно соломинки, многотонные старые заломы. И она, как бы шутя с природой, на своем пути все еще выворачивает огромные деревья, отмывая их корни от грязи, набрасывает себе на косматую гриву, и искореженные лесные исполины с грохотом и треском несутся дальше по ущелью. Буйные потоки реки подмывают крутые берега, в кипящий поток всасывает многотонные валуны, висящие над бездной косогорья, громадные деревья, тысячи кубов земли. И весь этот дикий разгул сопровождается неумолчным ревом, грохотом, хохотом, оханьем, аханьем.
Мохнатые скалы над черной бездной раскатисто дрожат, многократно усиливая в своих пещерах грохоты селевых потоков. По горной стремнине пучится, катится река, гневная, буйная, как бешеный зверь; она с огромной силой заскакивает на скалы, хлещет их пенной гривой, стараясь несущимися в себе огромными валунами пробивать в них бреши.
Угрюмы и дики окрестные скалы. Левый высокий берег далеко бросает свои тени, а правый крутой берег покрыт дубравами вперемежку с березой. Над ними несутся косматые тени, оставляемые вспученными на небосклоне облаками.
В сторону урочища Чухра нет иного пути: путник на коне волей-неволей должен преодолеть речную преграду или вернуться обратно. Беда, если здесь, на этой крутой тропинке, у реки судьба сведет несчастного всадника с «лесными братьями», потому что бегством тут себе не поможешь.
Год назад на берегу этой самой реки он, глупый, находясь рядом с Шах-Задой, строил планы на будущее. Их совместная жизнь виделась ему ясной, радостной, как теплое весеннее утро. Перед его глазами тот день снова стал до мелочей. Вначале стал так явственно, словно не было ни бандитов в черных масках, ни пустот, ни тягостной, никому не нужной жизни в эти годы, что все это лишь химера, что ему это все пригрезилось.
Вот сейчас он обернется назад и увидит на том же месте усталых лошадей, дым, вьющийся над костром, за ним – Шах-Заду, раскладывающую еду на разостланную белоснежную скатерть. Она через плечо на мужа с украдкой бросает влюбленные взгляды, нежно улыбается ему. Она часами могла любоваться Хасаном, он заметил, где бы они не находились, она выбирает такое место, чтобы могла любоваться им. О, как ему сейчас не хватает этого взгляда!.. Хасан обернулся. Но за кустами пасся его конь. Подумать только – тогда, в тот злосчастный день, он беззаботно развел костер, спокойно расселся, даже, ничем не тревожась, подвесил чайник на рогатинах из березовых кольев. Сейчас бы он этого не допустил. Хасан собрал сухие сучья, ветки, развел костер. И похитителей в масках просто так бы к ней не подпустил бы. Надо было одного из них брать в плен. А дальше действовать по обстановке. Если пошевелить мозгами, он тогда вместе с Шах-Задой мог вырваться из их окружения. Реакция не сработала, не хватило мужества, ума или еще чего-то… Упустил одно мгновение, теперь он наказан на всю жизнь.
А теперь торопиться некуда. Как тогда, сейчас он может беспечно растянуться на траве, заснуть, не боясь попасть в руки бандитов или кровника Шархана. Но он этого больше не допустит. Не допустит ради Шах-Зады, ради ее спасения. Только теперь он начал понимать, как опасна для человека эта штука – беспечность. С тех пор как потерял Шах-Заду, он жил как в кошмарном сне, от молитвы до молитвы, никому не принося никакой радости, а горя – сколько хочешь. У него была и другая жена, заботливая и добрая Айханум. Она готовила ему пищу, шила одежду, штопала носки. Но она так и не вошла в его жизнь, осталась чужой. Она, видя их разобщенность, все дальше отдалялась от него. Первые дни замужества она терпела, мучилась, сердилась. Ее покорность и тихая доброта со временем сменилась злостью, раздражительностью, мирная женщина на его глазах преображалась, становилась вредной, неуживчивой. А потом приняла яд, умерла, и он женился на Шах-Заде…
* * *
Солнце показалось между облаков, припекая его мозги. Хасан сделался вялым, сонливым. Он поднялся, разулся, походил, приминая босыми ногами нежную траву, постоял, вглядываясь в высокие ступенчатые горы, свисающие над его головой. Вдруг его осенило: его ошибка в том, что он отпустил Шах-Заду вместе с ее похитителями. А сколько еще было допущенных ошибок после этой трагедии! Не счесть…
В его сердце кипела ненависть к роду Шархана. После того как потерял отца, он жил с одной мыслью: скорей расправиться со всеми мужчинами этого рода, но религиозный сан связывал ему руки. Еще теплилась надежда, что хотя бы Шархан не уйдет от его неотвратимого возмездия. Хасан найдет и похитителей Шах-Зады. И им не уйти от его возмездия!
Хасана утомительно длинными, тоскливыми ночами всегда угнетала одна мучительная мысль (она въелась в его сердце как червь): «Может, это Шархан организовал похищение Шах-Зады?» Но он сразу отгонял от себя эту страшную мысль: «Нет и еще раз нет! Он может убить меня, организовать мое похищение, угнать барашек, бычка, но ради возмездия организовать похищение женщины?! На это может пойти только самый нечестивый горец! Даже горец, у которого руки по локоть в крови, на похищение замужней женщины не пойдет. Такого похитителя ожидает месть со стороны мужчин похищенной женщины до пятого поколения. А если Шархан похитил мою жену, надеясь на большой выкуп? Нет, он прекрасно знает, что у меня в Дагестане из богатств, кроме старого отцовского дома, ничего нет: ни банковских вкладов, ни ценных бумаг, ни недвижимости. Все мои активы остались в Алма-Ате! Это моя тайна, о существовании которой здесь, в республике, никто не знает. Знал бы кто, тогда я в поселении пятнадцать лет спокойно не сидел. Все дороги, связывающие меня с Алма-Атой, давно поросли мхом… А разве Шархан не самая грязная сволочь, способная на любую подлость?! Разве он не понимает, что дороже Шах-Зады у меня нет богатства на свете?! Если не он, тогда кто пойдет на кражу человека? Кто?»
Хасан в лице весь почернел, глаза покраснели.
«Тогда я, несчастный, понадеялся на чужую помощь. Нужно было самому организовать поиски Шах-Зады! И не бояться последствий, какими бы трагичными они не были. Теперь к чему мне жизнь без Шах-Зады? И сельская мечеть без меня не развалилась бы! Рано или поздно человек, рожденный на земле, должен умереть. Страшно покидать эту землю тому, у кого много радостей или забот о себе, близких. С моей смертью никаких тревог и забот не будет! У меня в сердце с годами даже ненависть к кровным врагам заглушилась. Когда-то мне мой отец говорил: „Ненависть – не самый лучший спутник в жизни человека“. Может быть, так и есть, но в самые тяжелые годы моей молодости ненависть давала мне силу выживать и побеждать. А что будет, если мое сердце, опаленное ненавистью, перестанет ненавидеть. Я так и не дождусь часа расплаты с врагом? Тогда как жить с таким грузом на сердце? Кто это говорил, сердце, у которого отняли способность любить и ненавидеть, перестает жить? Угасшее сердце подобно ломтику сырого мяса, от которого могут отворачиваться даже благородные волки. У меня осталась надежда найти мою жену, и я найду ее. Тогда ко мне вернутся способность жить, любить и ненавидеть.»
Он подошел к реке, смыл с лица сухую, въевшуюся в кожу грязь, напился из чистого ручья, с шипением падающего с головы отвесной скалы. В метрах пятидесяти вверх, по реке, под скальным выступом, увидел сухое место. У входа разжег костер. В углублении небольшой пещеры расстелил бурку, уснул и ему приснился сон.
* * *
Ему снилось, будто он идет по берегу реки и слышит голос:
«Хасан, куда ты пропал?! Ищи меня, ищи! Зачем ты меня оставил на растерзание злых людей?» – Хасан помнит место, каждый куст, травинку там, где ее выкрали. Он обошел все кусты, деревья, всю поляну, но ее нигде не было. В то же время то с одной, то с другой стороны до его ушей доносились знакомые загадочные голоса:
«Мой милый, я здесь, здесь! Ищи меня!»
Хасан идет дальше, но там ее не находит. Вот он заглядывает под молодую березу, но под ней сидит только большой белый гриб и таращится на него выпуклыми черными глазами. Хасан идет к следующей березе. Но и там сидит гриб, только намного больше первого.
Он слышит голос с другой стороны березы, бежит к тому деревцу, за которым был слышен ее зовущий голос. Обходит небольшую зеленую поляну, на которой растет огромный шелковистый дуб. Хасан заглядывает под его ветки. И что за чудо: под ней сидит голубоглазая девушка в белоснежном льняном платье. Девушка заплетает волосы, с ее головы на плечи спадают пятнадцать косичек. Хасан с любовью смотрит на нежное чудо природы, а она словно его не замечает. Ему становится обидно, что девушка на него даже не смотрит.
«Что ты потеряла под этим деревом? – спрашивает Хасан, – ты откуда такая взялась?»
«Я дочь вот той огромной ледяной шапки, – рукой указывает в сторону Урцмидага. – Видишь, под горячими лучами солнца с лица горы стекают капли пота? Это мой дед Урцмидаг, он вспотел, устал, охраняя свою вотчину. Кроме того, он часто сидит под тем громадным ледяным панцирем. Ему тяжело, поэтому он так сильно потеет».
«Как он смог вырасти такой громадной горой?» – спрашивает Хасан.
Девушка смеется:
«У нас в роду все мужчины такие большие. Когда бывает скучно, а это бывает в начале весны и осенью, мой дед превращается в реку. Вот видишь, с гор на равнину бежит река Рубас, к весне она в разы разрастется. Это мой дед просыпается из зимней спячки, высвобождается из-под ледяного панциря. Лед тает, по склонам горы стекают большие и малые реки, на равнине они объединяются, впадают в глубокое голубое озеро. Считай, это мой дед превратился в озеро. Сейчас я у него в гостях».
«А где же это озеро?»
Девушка опять смеется:
«Садись в лодку и греби! Греби три дня, три ночи. За это время луна три раза уснет и три раза проснется. Тогда найдешь, увидишь голубое озеро. Туда весной прилетают гуси и лебеди, а осенью улетают в теплые края».
«Как тебя зовут?»
«Пойдем, – говорит она, ведя за руку к лодке, – скоро узнаешь». – Берет его и за другую руку, долго заглядывая ему в глаза.
Хасан чувствует, как с ладошки девушки что-то сильное и горячее передается в его ладонь, оно проникает в его кровеносные сосуды, дальше с толчками крови пульсирует все выше и выше. Кровь в сосудах начинает бурлить, голова кружиться, словно от чапы. Она ведет его за руку на берег реки. В реке волны с ревом налетают на валун, огромным зубом дракона торчащий из ее глубины, о его бока прорезают реку, разбивая и разбрасывая ее на мириады хрустальных брызг.
«Видишь капли воды на камнях? Они похожи на меня. Дед за схожесть с каплями дождя назвал меня Росинкой. Отец звал Снегурочкой. Мама звала Речной Волной. А как люди моего племени называют меня, узнаешь у глубокого голубого озера», – она берет его за руку и влюблено заглядывает ему глаза.
«Почему ты на меня так испытующе смотришь?» – не понимает Хасан.
«Так у нас смотрит девушка на мужчину, в которого влюблена».
Хасан опять чувствует, как по его кровеносным сосудам что-то горячее поднимается в сторону сердца. Он хочет поймать незнакомку, но руки хватают только дым от костра. Клубок дыма взлетает над его головой. Девушка исчезает, издалека до него доносится звонкий девичий голос:
– Разве ты не видишь, что я бестелесна? Я всего лишь белое облако на утреннем небосклоне. Я всего лишь дыхание воды. Мое тело покоится там, на перине облаков. Если меня там не найдешь, тогда меня увидишь легкой волной на глади глубокого голубого озера. Я здесь всего лишь его дыхание, сладкое дыхание нерукотворного озера.
– Я боюсь за тебя, я боюсь тебя потерять, – в след ей взволнованно кричит Хасан. – Зачем ты от меня ускользаешь?
– За меня не тревожься, Хасан! Утренняя Росинка давно любит Хасана. Она видит его и идет за ним с того дня, как родилась.
– Где же ты? Отчего я тебя не вижу?
– Ищи, Хасан, ищи меня! Тогда найдешь. Ищи рано утром на лепестках цветов, усиках альпийских трав. Ищи среди мечущихся по небосклону грозовых туч. Ищи в глубоком голубом озере под Урцмидагом!..
Он увидел и вторую часть своего сна. Это была Шах-Зада в зрелом возрасте. Хасан в последнее время во сне часто видит Шах-Заду. Только почему-то он ее видит растерянной, задумчивой, такой, словно ее кто-то ее все время пугает. Такой он ее запомнил и в последние мгновения перед разлукой.
А в этот раз она была веселой с озорными искрами в глазах (такой она была еще девушкой у утеса на Караг-чае и в первую ночь их свидания в лесу). Как и тогда, она напевала песни, рассказывала о своих сородичах, подругах по столичному университету, посмеивалась над своими радостями, тревогами. Она, нежно заглядывая ему в глаза, пальцами рук теребила шелк его волос. Слушая ее певучий голос, он до боли сжимал челюсти, понимая во сне, что все это только сон…
* * *
Артист и Пеликан на рассвете из районного центра направлялись в сторону родного селения Хасана. Они собирались на летние отгонные пастбища. Резвые кони к обеденному намазу довезли их до того места, где река Караг-чай граничит с урочищем Чухра. Кровь застыла в их сердцах, когда достигли реки, разлившейся от одного края долины до другого края.
«Черт возьми! – испугался Пеликан, с тревогой вглядываясь в стремнину взбесившейся реки. – Откуда я знал, что этот ручеек от дождевых потоков может превратиться в такой ревущий вулкан!»
Он с тревогой осматривал берег реки, со слабой надеждой встретить кого-либо, знающего брод. Рев мятежной реки, усиливающийся эхом в прибрежных скалах, оглушал его. Им необходимо была перебраться на другой берег реки, сегодня добраться хотя бы до промежуточного лагеря. Там их ждали люди Шархана.
На поляне невдалеке они заметили пасущегося коня под седлом. Конская сбруя говорила о благородстве и тонком вкусе его хозяина. А его самого нигде не было.
– Эй, приятель! – кликнул Артист. – Мы знаем, что ты находишься где-то здесь! Выходи, не бойся…. Укажи нам переправу на ту сторону реки, и мы тебя щедро вознаградим. Ты, случайно, не здешний?
Во сне до сознания Хасана доходили отдаленные мужские голоса. Он сонно встряхнул голову, по инерции вскочил, быстро сообразил, что рядом затаилась опасность. Хасан с карабином бесшумно скрылся за кустами малины, там же спрятал коня. На берегу реки спешились два незнакомца. Под ними красовались добротные кони. Всадники были вооружены нарезным оружием.
Один из них еще раз окликнул:
– Эй, там, за кустами, ты, случайно, не здешний?
– Здешний, здешний! – строго ответил незнакомец. – А вы кто такие? Что вы потеряли в этих глухих местах?
– Много будешь знать, зубы выпадут! – попытался отшутиться Пеликан.
– Ничего, они у меня крепкие. За неучтивое поведение как бы ты свои челюсти вместе с зубами здесь не оставил! Если хотите перебраться через речку, покажите свои лица. Под бурками у вас, кроме глаз, кончиков усов и топорных носов, ничего не видно!
– Выйди и сам, покажись! Мы тебя щедро вознаградим! – повторил Артист.
«Тебе не кажется, Хасан, что эти голоса тебе давно знакомы? – недоумевал Хасан. – Где же я их мог слышать?»
– Бросайте оружие и выходите на поляну, чтобы я вас видел! – приказал Хасан. – Шаг влево, шаг вправо – получаете пули в лоб! Предупреждаю, я стреляю без промаха!
– Мы мирные люди! – спокойно ответил Артист, стоя перед конем, в сторону отложил винтовку, охотничий нож. Его примеру последовал и напарник. Однако никто из них не открывал своего лица.
– Видишь, мы разоружились, как ты потребовал, – безоружно улыбнулся Артист.
Своего лица не открывал и Хасан.
– Мирные люди! – рассмеялся Хасан. – Откуда у мирных людей нарезные стволы?!
– Тетка подарила! – пытались отшучиваться незнакомцы.
– И мне бы такую тетку! – смягчил тему разговора Хасан.
– Будешь разговорчивым, может, познакомим!
– Так бы и сказали! – рассмеялся Хасан, на всякий случай, держа винтовку на взводе, вышел к незнакомцам.
– Мы направляемся в Агульский район, на свою родину. Живем в Гелин-Батане, недалеко от селения Марага, – быстро нашелся Артист. – А ты, уважаемый?
– В урочище Чухра у нас есть свои летние альпийские луга, на зиму скотине заготавливаю ком. Скошенная трава третий день гниет под дождем. Если от сена чтото осталось, хочу собрать и складировать в стога! – уклонился от прямого ответа и Хасан.
«На агульцев вы не похожи, – подумал Хасан, – а по акценту вы смахиваетесь на табасаранов.… Продолжим игру».
– Магарыч, говорите, это хорошо. А сколько даете, чтобы вас переправить на другую сторону реки?
– Ведь говоришь, что тебе тоже надо переходить речку, схитрил Артист. – Какой еще магарыч, дружище? Ты поможешь нам, мы – тебе…
– Пошевели мозгами! – неожиданно вскипел Пеликан, видя свое преимущество, непочтение и дерзость одинокого всадника. Он стал косо заглядывать на свое оружие.
Вдруг незнакомец побагровел, черты лица резко исказились, глаза налились кровью; густая, короткая с проседью борода, показалась из-под капюшона бурки; она обрамляла белокожее лицо. Из-под сдвинутых бровей буравами сверкнули недобрые глаза. Прежде чем Пеликан успел опомниться, дуло карабина незнакомца уперлось ему в висок.
– Стой смирно, – сквозь зубы процедил незнакомец. – Пошевелишь хоть усами, сначала их обрежу, а потом скину в пучину реки вниз головой! – Пеликан еще, сопротивляясь, пытался что-то делать. – Не дергайся, дружище, мне на тебя даже не хочется потратить пулю: только отпущу повод своего коня, и он сбросит тебя в бездну!
Пеликан понял, с ним не шутят. Он стоял бледный, держа за повод своего коня, трепеща от страха. И с ужасом наблюдал за черным глазком винтовки незнакомца, направленного ему в голову. Он невнятно роптал:
– Помилуйте!.. Я – я…я… не хотел причинить тебе, Вам… вреда, неосторожное слово с языка само собой слетело…
– В другой раз будешь знать, что бывает, когда длинный язык опережает мысли, спящие под узким черепом!
А Артист в это время, без лишней суеты, чтобы нервный всадник не заподозрил неладное, ловкими движениями пальцев рук развязывал хурджины и оттуда вытаскивал пачки тысячерублевых купюр. Вопросительно взглянул на незнакомца. Тот сказал, что мало.
– Мало! – засуетился Артист. Из хурджинов он стал вытаскивать новые пачки.
Артист понял, что от воли, настроения этого человека и своей сообразительности зависит их жизнь. Так близко от смерти он давно не стоял. Именно здесь их никчемная жизнь может оборваться в любую секунду.
– Ты, глазастый, – зашипел всадник, – собери ваше оружие, заверни в свою бурку и кожаными ремнями крепко пристегни к седлу своего коня. Привязал? Замечательно. Теперь отойди от коней на пять шагов назад! Быстро, быстро! – приказал Хасан.
Тот четко выполнял все команды незнакомца.
Хасан еще раз проверил заезжих «гастролеров» на предмет наличия у них других опасных предметов.
– А ты, долговязый, сейчас выложишь всю правду, откуда и куда направляетесь, кто ваш хозяин. Иначе, размажу твою глупую головушку об острые камни!
– Клянусь детьми, мы сами не знаем, куда направляемся! – он со стоном упал на колени, прикрывая рукой свою шею, потом испуганно съежился и запричитал: – Сжалься, добрый человек, помилуй! – Скажу, все без утайки скажу…. Над урочищем Чухра, у родника, нас к закату солнца должны ждать люди.
– Чьи люди, говори, собака! – крикнул Хасан.
– Шархана! – задрожал Пеликан. – Больше, хоть убей, ничего не знаю…
«Что Шархан задумывает свершить под Джуфдагом, если эти басмачи проделали такое расстояние? – хаотично думал Хасан. – Бандиты, видать, глубоко окопались в наших горах. Сколько их? И что такое они замышляют против моих сельчан?.. Теракты, убийства, кража людей? Что?! Как узнать об этом? Проникнуть в их ряды, притворяться бандитом? Это невозможно! С ними неотлучно может находиться Шархан или человек, который меня хорошо знает. А что делать с этими обезьянами? Сбросить в пучину реки – оборвется последняя нить, которая связывает их с бандитскими формированиями, которые наверняка прячутся на заброшенной кошаре под Джуфдагом. Если отведешь их в районный отдел милиции, еще не знаешь, не нападут ли с лихие „джигиты“ на меня по пути в райцентр? А эти не так уж просты, какими кажутся с первого взгляда. В их вшивых мозгах наверняка немало тайн, если они связаны с этим шайтаном Шарханом. Быть не может, чтобы эти субъекты не знали о судьбе моей Шах-Зады, если прямо или косвенно не были связаны с Шарханом во время нападения на нас и при ее похищении. Поэтому будет правильно, если я сдам этих шакалов властям. Как вещественное доказательство, все, что у них спрятано в хурджинах, вместе с нарезным оружием, тоже надо передать в милицию. Чем раньше отведу их в милицию, тем лучше будет моей Шах-Заде».
Так и сделал. Привязал коней за поводы одного к другому и к седлу своего коня, а бандитов под дулом винтовки впереди себя погнал в сторону своего селения. Оттуда на следующий день с зарею вместе с братом отвели их в райцентр.
В районном отделе внутренних дел начальник милиции поблагодарил Хасана за бдительность, мужество, проявленные при задержании подозрительных лиц. Предупредил, чтобы он, как основной свидетель, до окончания следствия не уехал за пределы района и учтиво сопроводил его до дверей своей приемной.
Каково же было удивление Хасана, когда через пару дней милиция без суда и следствия отпустила на свободу этих темных личностей. Потом до него дошел слушок, что сам начальник милиции извинился перед ними за то, что они вынуждены были незаконно сидеть в изоляторе временного содержания.
А спустя некоторое время эти двое через своих верных людей Хасану прислали записку с угрозами о скорой расправе над ним.
«Где же я мог встречаться с этими бандитами? – мучился Хасан. – Такие знакомые голоса». Но никак не мог вспомнить.
2004 г.
Узница
На кошаре, расположенной в глубокой ложбине под Урцмидагом, всего лишь несколько лет назад от зари до зари кипела жизнь. Летом сюда колхозы района перегоняли несколько отар овец, на тучных лугах нагуливали жир тысячи бычков, по утрам, вечерам надаивали коров; в домиках животноводов, в палатках, шалашах днем и ночью кипела жизнь. Но началась горбачевская перестройка с банкротством, приватизацией сельскохозяйственной техники, строений, земли, повлекшая за собой невиданные процессы разрухи и распада. Сначала с кошар колхоза незаметно исчез мелкий рогатый скот, потом опустели коровники, загоны, дома животноводов; приуныли доярки, перестал звучать многоголосый гомон детишек. За какие-то два-три года непонятных реформ сельское хозяйство колхоза, целиком района пришло в полнейший упадок.
Только в одном из чабанских домиков летнего отгонного хозяйства остались пьяные угрюмые лица кирпичного цвета, обросшие грязной щетиной, которые все еще содержали скот Шархана и каких-то районных начальников. Недалеко от домика животноводов поставлена брезентовая палатка мрачных личностей. Они с животноводами почти не общаются, скрываются от кого-то. Они похожи на каких-то бандитов-убийц, которым есть что скрывать от любопытных глаз. Днем они спят, но как только сгущаются сумерки, на грязном вездеходе воровато уезжают на непонятный промысел. В неделю один раз один из них садится на старую лошадь и спускается в долину за продуктами питания и другими необходимыми предметами для походной жизни.
Шархан держит Шах-Заду здесь, на кошаре, куда побоится сунуться даже самый опытный следователь районного отдела милиции. На днях в сумерках с завязанными глазами, перекинув через седло, ее привезли сюда.
Шах-Зада на следующий день, пасмурный и неприветливый, в глубокой чашевидной ложбине, без дорог и тропинок, заросшей альпийской травой и редким кустарником рододендрона, сколько не старалась, не смогла определить, откуда ее привезли.
Ее сторожил высокий тщедушный парнишка Рахман. Ему было поручено, чтобы он с нее глаз не спускал. Рахман с первого взгляда на Шах-Заду влюбился в нее. С первого же дня заточения Шах-Зады в этом богом забытом уголке земли Рахман свою привязанность к ней, со временем перешедшую в большую безумную любовь, не скрывал. Рахмана чабаны именовали шакалом за то, что его бледное робкое личико с блестящими глазами походило на острую мордочку шакала. Было ему восемнадцать-двадцать лет. Правда, выглядел он значительно старше; был замкнут, молчалив, богобоязнен. Он, если не был занят делом, а дел Шархан ему поручил много, дни и ночи проводил на молитвенном коврике. Если не молился, то погружался в свои бесконечные печальные думы.
Рахман приходился племянником Шархану. Ходят слухи, что много лет назад отец Рахмана погиб от руки Шархана. На кошару помощником чабана Шархан привел его еще мальчиком, когда потерял отца. Рахман со старшими чабанами пас колхозную отару. Когда в стране начались перестроечные процессы, колхозное добро ушло с молотка, вместе разрухой с кошары отогнали колхозный скот, а всех чабанов разогнали. Рахман остался здесь пасти овец и бычков дяди и его дружков. Хотя мать Рахмана, бедная, но гордая вдова, проклинала, что лучше бы вместе с отцом и трусливый сын погиб, чем видеть его, пасущего скот убийцы отца.
Шах-Зада первые дни своего заточения целыми сутками плакала, билась об стенку головой, в истерике царапала себе лицо, рвала волосы. В один день, поняв, что ей отсюда никогда и никуда не выбраться и ни от кого помощи не ждать, смирилась со своей участью. Стала богобоязненной, все время проводила в молитвах или молчала. Чтобы не сойти с ума, она изматывала себя работой. Так хоть как-то убивала время, на время отходила от своего горя. Рано утром, с зарей, она вставала, делала утренний намаз, выходила, доила коров в коровнике. Потом она выгоняла их пастись, приходила в чабанский домик, топила очаг, готовила еду нукерам, чабанам Шархана, мыла посуду, приносила с родника воду, лепила кизяк. А днем, погружаясь в свое горе, подолгу стояла у окна и беззвучно плакала.
Маленький домик с крохотными окошками, одиноко стоявший у основания Урцмидага, начинал приходить в упадок. Ветхий домик, с закопченными стенами и потолком, с покосившимися и скрипучими дверьми, со всех сторон был окружен многочисленными зелеными холмами с рододендроном, растущим густыми кучками, кустарниками, зарослями карликовой березы и дуба. Дальше, за горизонтом, виднелись причудливые скалы, похожие на рассвете во время восхода солнца, в сумерках они становились похожими на великанов, драконов с исполинскими головами, свирепых медведей.
Из окна комнаты Шах-Зады открывался чудесный пейзаж: лиловые ледниковые вершины Урцмидага четкими силуэтами вырисовывались на фоне неба, молочно-голубого на рассвете. А на закате, горевшем рубином в золотой оправе, они становились сизыми, голубыми. Чувствовала ли Шах-Зада в своей узнице величественную красоту, безмолвие, божественную уединенность этого места? Чувствовала ли она пряный аромат душистых альпийских трав, не видевшая до сих пор такого количества разнообразия цветов, мхов, трав, березовых рощ, тающихся на горизонте в море вечернего заката? Видела ли она с наступлением вечера, как поднимается облитый кровью диск луны за сизыми облаками, хищными птицами, наседающими на величественно-горбатые макушки холмов? Видела ли она, что ледяные пики Урц-мидага в сумерках начинали излучать кровавый свет, а зеленые шапки холмов наполнялись таинственным голубоватым и сиреневым мерцанием, трепетом и шепотом, а горы за горизонтом погружались в сладострастный сон любви?
Первые дни своего заточения ее глаза в зелени бесконечных однообразных холмов ничего не различали. Со временем, когда ее окровавленное сердце превратилось в ледяной сгусток, а с глаз спала кровавая пелена, она стала присматриваться к окружающей среде. Первые дни она, как статуя, укутавшись в теплую шерстяную шаль, долгие часы простаивала у окна своей узницы. Уже давно все овцы и ягнята мирно покоились в овчарнях, бычки, развалившись в загонах под открытым небом, равномерно жевали свою жвачку, и сторожевые собаки попрятались под старыми, скрипучими от каждого дуновения ветра арбами и навесами. А Шах-Зада все стояла и стояла, тупо всматриваясь в темнеющую синь неба. И даже в грозу, когда холмы окутывала плотная стена свинцовых туч и тумана, в свете керосиновой лампы ее печальное лицо по-прежнему светлело у окошка узницы. Устремив взгляд вдаль звездного неба, Шах-Зада тонкими пальчиками теребила ворсинки бардовой шали на своих плечах. Она интуитивно ждала, ждала своего вызволения, явления с небес, голоса, знака.
* * *
Однажды во сне к Шах-Заде явился глубокий старец с огромными небесно-голубыми глазами и длинной белоснежной бородой. Он был в белом одеянии, обут в белые замшевые сапоги; на голове красовался такого же цвета тюрбан. В правой руке держал белоснежный посох выше головы, на нем чернью были нанесены тайные знаки, иероглифы. Показалось, он к ней не пришел, а спустился из небесной глубины. В это время она видела сон, как в урочище Чухра на нее с Хасаном напали бандиты, как они похищали ее. Она безутешно плакала, похитителей просила, умоляла не убивать Хасана. Глубокий старец сел на лавку напротив постели Шах-Зады, гладил ее по голове, приговаривая вкрадчивым, гипнотизирующим голосом. Он говорил на чужом языке, но она понимала все, что он ей говорил:
«Шах-Зада, тебе нельзя плакать. На этом стойбище ни один человек не должен видеть твоих слез. Потому что они не стоят и ни одной твоей слезинки. В твоих жилах течет древняя кровь, кровь древних великих царей. Настало время, когда ты должна знать тайну своего древнего рода, тайну рождения и происхождения. Кроме этой жизни, в которой ты живешь, во вселенной есть еще множество параллельных жизней, в которых ты жила и живешь. На севере, за полярным кругом, находится древнее государство Гиперборея. Сейчас оно покоится под водой, но настанет день, когда оно всей свой мощью, всей своей красой поднимется из глубин Северного Ледовитого океана. Ты родилась в Гиперборее. В Гиперборее ты была принцессой Заррой, царицей Саидой. А в другой параллельной жизни ты была принцессой Очи Бала, величайшим воином-предводителем Горного Алтая. В настоящей жизни ты живешь жизнью Шах-Зады. Ты представитель великого рода правителей древней Гипербореи. Там заложили начало своих родов великие цари древних шумеров, ацтеков, Индии, Китая, Персии, Древней Албании, Рима, Древней Греции. Когда на севере наступил ледниковый период, правитель Гипербореи, твой предок, со своей свитой переселился в Горный Алтай. А его сыновья через тысячелетия перекочевали в Кавказскую Албанию. Главной причиной переселения правителя Гипербореи в Горный Алтай было не наступление холодов и северных ледников. Правитель Гипербореи мог переселиться в подземные города Гипербореи или другие подземные города мира. Причина, и веская, была другая. В Гиперборее твой род давно преследовали злые духи, которые умерщвляли сыновей, дочерей правителя Гипербореи. И ваш предок вынужден был тайно переселяться в Горный Алтай, а старшего сына и одну из дочерей, это ты, отправил на Кавказ. Вы заложили основу величайшего государства Кавказской Албании. Не думай, что эти страны были чуждыми для твоего древнего рода. Нет, они были частью Гипербореи, ее продолжением. На голову твоих предков выпали много испытаний, которые впоследствии преследовали и наследников великого правителя Гипербореи. Сегодня судьба испытывает и тебя. Крепись, дочь моя, кровавый враг давно и неотступно следует за тобой. Впереди тебя ждут много трудностей, терпи, будь мужественной. Мужествен-нн-оой!.. – он из внутреннего кармана достал перстень невиданной красоты, который своим сиянием заполнил всю комнату. – На, это твой перстень, перстень принцессы Зарры. Храни его, пока он с тобой, твоей жизни ничто не угрожает. Как только почувствуешь, что твоей жизни угрожает опасность, тебе на помощь явятся Небесный камень, который покоится в одной из пещер Табасарана и меч из пещеры Дюрк, посланный небесами».
Так сказал глубокий старец, еще раз погладил ее по голове, сложил руки крыльями и взлетел. Крыша домика расступилась перед ним. И он звездой устремился в небесную высь.
Шах-Зада открыла глаза – к луне, оставляя за собой длинный шлейф пламени, направлялась красная звезда. Ей показалось, звезда заметила ее пробуждение, всеми пятью концами весело замерцала ярко-зелеными огнями, скрылась за лунным диском.
На ее левом большом пальце красовался перстень, преподнесенный глубоким старцем. Оно был ни золотым, ни серебряным, ни бриллиантовым, а сделанным из кого-то неземного материала. Перстень был огромной величины, он занимал весь большой палец; в темной комнате он искрился, горел всеми красками радуги. На перстне, с огромным камнем, который занимал три пальца, был изображен лик принцессы Зарры. Это лицо – копия ее лица. Шах-Зада из небольшой сумочки вытащила туалетное зеркальце и долго, изумленно изучала то свой лик, запечатленный на камне перстня, то свое отражение в зеркальце. Она от своего лика не могла оторвать своего взгляда.
«Кто я, что я, почему меня здесь держат?!» – воскликнула Шах-Зада.
Она с высоты небес услышала голос глубокого старца: «Ты – принцесса Зарра, ты – царица Саида, царица Гипербореи. Ты – Очи Бала – принцесса Горного Алтая. Ты – Нури – принцесса Кавказской Албании. Ты – Шах-Зада, будущая правительница Табасарана…»
«Сколько жизней у меня? Кто жаждет моей крови, кому нужны мои муки, мои страдания?! Я за один взгляд Хасана, за один поцелуй его горячих губ готова отречься от всех этих титулов».
В ее ушах прозвучал магический голос глубокого старца:
«Терпение, дочь моя, терпение…»
Шах-Зада не легла спать, до утра думала себе, о Хасане, о превратностях ее судьбы.
* * *
А за окном Шах-Зады, из полумрака своей хижины, неотступно следят полузакрытые кошачьи глаза Рахмана. В них временами вспыхивает желтовато-фосфористый свет, который также внезапно угасает. Под его желтой прозрачной кожей утиной шеи нервно дергается узкий кулачок кадыка. Он кончиком языка облизывает безусые синеватые тонкие губы и тяжело вздыхает.
В начале мая, когда Рахман из-под навеса за окном комнаты Шах-Зады вел наблюдение, его к себе поманил один из нукеров Шархана. Он ему передал секретное указание Шархана, чтобы отвел Шах-Заду на дальнее стойбище, привел в порядок домик, куда сегодня-завтра должен прибыть хозяин, и ждать его дальнейших распоряжений.
У Рахмана в сердце появилось дурное предчувствие: «Неужели этот кашалот решил ее проглотить? Раз он велит спрятать Шах-Заду подальше от людских глаз, значит, над ее головой завис дамоклов меч. Надо оградить ее от коварных происков этого террориста. Он, в лучшем случае, ее опозорит, в худшем случае, – убьет!»
До этого времени он, затемненный красотой Шах-Зады, был лишен способности трезво размышлять. Теперь он понял, как за короткое время привязался к Шах-Заде, как она ему стала дорога! «Ну и что, что она на целую жизнь старше меня?! Зато она краше и лучше всех женщин их округа! Нет уж, дорогой дяденька, я не позволю тебе обижать мою красавицу, тем более упрятать в грязной узнице с одичавшими животноводами! Я буду бороться за нее. Лучше принять смерть от твоих рук, чем увидеть ее опозоренной. Клянусь, за каждую упавшую волосинку с ее головы ты лихвой оплатишь!»
Первый раз Рахман увидел Шах-Заду, когда дядя с дружками привез ее на кошару, веревкой привязанную к седлу лошади. Когда в сумерках ее отвязывали от пристегнутого седла, она не проронила ни единого слова. Как только Шархан ее отпустил, она ни на кого не взглянула, гордой, красивой походкой прошлась в указанный домик мимо грязных, оборванных доярок, скотников; перед дверью, как все ожидали, даже не обернулась.
Она и сегодня, как в тот черный для нее день, упорно молчала. Поэтому Рахман про себя назвал ее Молчаливой Пери. Она, величественная в своей холодной красе, статная, на кошаре смотрелась диковинным цветком среди грязной, сорняковой поросли – забитых нищетой и заботами о куске хлеба доярок.
Она, к удивлению этих обиженных жизнью, чумазых людей, казалась удивительно выдержанной: не плакала, не жаловалась, ни перед кем не пресмыкалась. Когда ей что-то передавал нукер Шархана, она гордо смотрела ему в глаза, презрительно усмехалась, пропуская его глупую болтовню мимо ушей.
Окно было распахнуто, прохладный ветер играл на ее груди и щеках, но она его не замечала. На сердце скребли кошки, она вся съежилась, если бы не наставление глубокого старца, сейчас бы она от души заплакала. Все ее страсти сомкнулись в сердце, как на острие кинжала; она со своей болью уединилась далеко от испуганных ее красотой доярок, смазливых взглядов оборванных скотников. Глаза ее были широко распахнуты, губы горделиво сомкнуты; со стороны казалось, она чопорная, бесчувственная кукла, в которую подряд влюблены все мужчины. Никто из этих несчастных созданий не представлял, что ее сердце умирает, а она чахнет с той минуты, как она попала в плен к бандитам. Так умирает дерево, у которого повредили корни. Чтобы каким-то образом продолжить свою жизнь, в зависимости от того, как по поврежденным корням к дереву поступает влага, оно по одной сбрасывает с себя листья. Последний сброшенный лист с дерева – это будет последним ее вздохом, это будет последним ударом сердца Шах-Зады.
С самого начала Рахмана привлекали ее глаза, небесно-голубые, неземные и осанка породистой женщины. Ее подбородок царственно приподнят, черты лица правильны и вызывающе привлекательны; она вся искрилась неземной красотой, благородством и молчаливой горделивостью. Она никак не вписывалась в эту грязную и сварливую группу женщин, скотников вместе с дружками Шархана. Шаль, частично скрывавшая ее лицо, оставляла открытыми только глаза, небольшой прямой нос с бесподобно вырезанными ноздрями и красиво очерченный подбородок.
Ее глаза! Рахмана с первого взгляда околдовали ее глаза. Глаза широко открытые, вызывающие, с длинными изогнутыми вверх и вниз черными ресницами, цвета неба, светящиеся теплыми, манящими красками. Солнце садилось, отражаясь в них мягкими золотистыми лучами. Рахман пристально глянул на нее, она опустила глаза медленно, с достоинством, без тени презрения. Она понимала, этот мальчик глубоко несчастен, обижен судьбой, если она себя поведет правильно, он ей пригодится. Поэтому она скрытно от остальных скотников подкармливала его, говорила с ним открыто, доверительно.
* * *
Шархан появился на кошаре внезапно, в окружении дружков. Все скотники растерялись, они его не ждали. Значит, ждать беды. Он первым делом, как заметили зеваки через окно, крадущимися шагами переступил порог узницы Шах-Зады, приблизился к ней, что-то сказал, пальцем указывая на дверь.
У нее на сердце стало плохо. В этом повелительном жесте руки Шархана содержало что-то грозное, задевающее ее честь, порочащее ее достоинство, предвестие неминуемой гибели. Она отвернулась от него, с достоинством вышла в коридор, безмолвно прошлась мимо завистливых взглядов доярок, не обращая внимания на отпускаемые в ее адрес пошлости, скрылась за узкой выходной дверью. Рахман, потрясенный лучезарной красотой женщины, словно под гипнозом, чуть было не пошел за ней. Но, встретившись с грозным и предупреждающим взглядом дяди, встрепенулся, развернулся и ушел под навес.
Когда и Рахман подтвердил Шах-Заде о грозном решении дяди отправить ее подальше в горы, он подумал, что она не выдержит этого наказания, сорвется: заплачет, будет умолять Шархана, чтобы ее оставили с людьми, на головном стойбище. Нет, она на него всего лишь взметнула грозный взгляд холодных глаз, чуть вздрогнула и стала собирать свои нехитрые женские пожитки. Завязала их в узелок и последовала за Рахманом…
* * *
Шах-Зада с Рахманом к закату дня прибыли на дальнюю кошару. Она за один вечер выскребла, вычистила многолетнюю грязь, которая въелась в закопченные стены, потолок, пол чабанского домика. За ночь успела побелить известью стены, очаг, пол покрасила черной речной глиной; на полу постелила выстиранные паласы, в очаге разожгла огонь. Все это она делала со знанием дела, безропотно, без нытья, жалоб. Она, снедаемая тревогой, одиноко сидя у очага, к чему-то тревожно прислушивалась, при малейшем шуме снаружи пугливо вскидывала глаза. «Когда мы с Хасаном возвращались из Агула, я не понимала, чего он тревожился, почему все время, хватаясь за рукоятку кинжала, оглядывался по сторонам?! Оказывается, я тогда, – у нее слезы брызнули из глаз, – была наивной дурой, к тому же была еще слепой и глухой. О, как я была беспечна, когда рядом с нами ходила беда! Милый мой Хасан, несчастный мой Хасан. Прости меня, прости…»
Шархан с дружками, в сопровождении нукеров, на свежих конях, заранее приготовленных им конюхами, спешно отправился в сторону Агула. Все они были вооружены нарезным оружием с подствольными гранатометами, словно шли на войну. В Агуле до Шархана с его кошары дошла весть, что бригадир с главным чабаном от него укрывают скот. Шархан взбесился, решил провести внезапный учет скота. И рано утром Шархан в сопровождении Артиста, Пеликана и нескольких нукеров на взмыленных конях отправились на его кошары. К полудню они преодолели большую часть расстояния.
Их нещадно палило полуденное солнце. Винтовка и кинжал Шархана, притороченные к передней луке седла, слепили глаза ярким блеском позолоты. А когда Шархан случайно задевал их рукой – обжигали пальцы. Лошади дышали тяжело, часто и трудно; с взмыленных боков на зеленую траву падали хлопья грязной пены. Воздух был горек, настоян дурманящими травами и запахом цветов рододендрона.
Лошади, утомленные, одуревшие от зноя, раздраженно всхрапывали, отказывались слушаться седоков. А седоки тыльной стороной руки со лбов раздраженно смахивали ручьями стекающий пот, устало переговаривали: «Эх, попить бы холодненького пивка!.. Какое угощение там мы за столом оставили. Хоть бы в тени полежать…»
Шархан тоже устал. Его тоже мучила жажда. Тем не менее он готов был целый день не слезть с коня – во время передвижений на дальние расстояния по выдержанности ему среди сверстников не было равных. Мог без еды, воды и отдыха ездить на лошади целыми сутками. Он всегда гордился своей выносливостью, способностью к суровым условиям походной жизни. Его жилистое, могучее тело как будто было рождено для тяжелых походных условий жизни. При необходимости он по горным тропам за сутки мог пешком и с огромным грузом на спине преодолевать десятки километров. Если бы не учет скота, он особо на кошару не торопился. Его пленница находится под надежным оком племянника. Он к ней войдет поздно ночью, после того, как нукеры сосчитают весь его скот, потом наестся баранины, вволю напьется водки. Поэтому он на стойбище добирался, бережно тратя свои силы, делая небольшие привалы.
Они, наконец, добрались на кошару. Кошара утопала в зелени альпийских трав, цветов, зарослей рододендрона. На пологом холме, у бьющегося из расщелин скал родника, стоял кособокий домик с узкими рамами, вычищенными до блеска стеклами. Рядом паслись ягнята, телята, конь под седлом. Чуть дальше, где вода по гальке говорливым ручейком стекала в небольшой пруд, плотной кучей стояли коровы, хвостами отбиваясь от слепней и навозных мух. Вдали темнела палатка.
Всадники на ходу соскакивали с коней, с разгоряченных тел под ноги срывали верхнюю одежду; смачно фыркая, лезли под ледяные струи воды.
И Шархан с друзьями у родника оголились до поясов. Они губами прикладывались к желобу с водой, обжигаясь студеной водой, мелкими глотками ее заглатывали, спинами становились под струю, с фырканьем плескались. Лошади, измученные дальней дорогой, когда увидели воду, словно взбесились. Они, нетерпеливо ударяя копытами о землю, зычно ржали. Скотники, гремя стременами, спешно освобождали лошадей от поклаж, седел, тряпками, пучками сухой травы протирали им спины. Лошади еще не остыли после тяжелой дороги, им пока нельзя было давать пить. Их повели на выгул. Только после этого лошадей напоили, дали ячменя.
Из палатки к хозяину спешил молодой пастух в резиновых сапогах с высокими голенищами, в рваном, застегнутом на одно пуговице, бесцветном плаще. Встретившись взглядом с Шарханом, он страшно побледнел. Глаза, полные слез, недоверия, прикрыл длинными ресницами.
– Салам алейкум, дяди и гости дорогие!.. – попытался улыбнуться Рахман.
Шархан подозвал его к себе:
– Как поживаешь, Рахман? – не дожидаясь ответа, – что же ты так смущаешься, как невеста на выданье? Мы не враги тебе. Кто в доме?
– Там Шах-Зада, дядя.
– А в палатке, кроме тебя, кто еще живет?
– Тоже чабаны, пастухи. Пасут твою скотину.
– Скотину говоришь, пасут говоришь?.. – засверкал он белками глаз. – У тебя есть холодное вино, Рахман?
– Вина нет, но есть кислый айран.
Рахман взглянул на домик, тихо позвал:
– Шах-Зада, подойдите, пожалуйста, сюда… У нас гости…
Сам побежал к роднику, раздвинул траву, вытащил из воды бидон с айраном, притащил к палатке.
– Дядя, пейте айран, не пожалеете! – не глядя в глаза, ему еще раз печально улыбнулся Рахман. – Его неделю настаивали, холодный, как лед, шипучий, как вино, зубы ломит.
Шах-Зада вышла из дома с эмалированными литровыми кружками в руках. Наклонилась, нацедила напиток, подрагивающей рукой протянула Шархану, потом его дружкам. Айран действительно был холодным, ядреным, как буза. Газы в айране, шипя, били в ноздри, они приятно щекотали гортань. Шархан, Артист и Пеликан пили с остановками, с удовольствием цокая языками, смачно крякая. Нукеры в нетерпении смотрели на них, жадно облизывая пересохшие губы, ждали своей очереди.
– Еще! – нетерпеливо покрякал Шархан.
Шах-Зада снова наполнила кружку, подала. Широкий рукав платья скатился, обнажив руку с мягкой, шелковистой кожей, нетронутую загаром. С ее руки Шархан перевел жадный взгляд на лицо Шах-Зады. Она рдела от смущения, в глазах была не робость, а неподдельная тревога, страх, страх за себя, за свою честь. Ее лицо привлекали к себе алчные глаза Шархана какой-то манящей красотой, свежестью весеннего цветка. Шархан довольно хмыкнул, запрокинул голову, широко, как зев глубокого колодца, распахнул огромную пасть, утыканную щербатыми коричневыми зубами; приподняв руку, из кружки длинной струей влил в нее айран. Шах-Зада удивленно прыснула, ладонью зажала рот, чтобы не рассмеяться над его манерами и уродством поведения. Шархану понравилось, как ему удалось удивить свою узницу, одобрительно улыбаясь, положил руку на ее плечо.
– Дай попить и моим нукерам… И приготовь к вечеру хороший ужин.
– Здесь ничего нет, кроме твердых, как картон, лепешек и твердой, как камень, брынзы, – за нее ответил Рахман. – Из чего же, дядя, Шах-Зада приготовит хороший ужин? Кстати, и мука закончилась…
– Не тревожься, мои нукеры все предусмотрели. С тебя с напарниками требуется, чтобы ты как можно скорее освежевал баранов, – переглядываясь с дружками. – Мы часок передохнем здесь, а потом съездим на центральную кошару считать овец, коз, крупный рогатый скот. Да, и ты с нами собирайся! С главного стойбища на лошадях привезешь муку, напитки и всякое прочее. Только скажи, братец, – меняя тему разговора, сурово взглянул ему в глаза, – считал ли кто-нибудь за последние два года крупный, мелкий рогатый скот?
– Не знаю, дядя…
– Ну, иди… Постой, в свою палатку отведешь моих друзей. Дай им передохнуть, расслабиться…
– Погоди, погоди, Шархан, – в разговор вмешался недовольный Артист. – Ты за кого нас принимаешь, за своих нукеров?! Просто так от нас не отделаешься! Ты хочешь нырнуть под бок красавицы Шах-Зады, а нас отправляешь в вонючую чабанскую палатку? Не выйдет! Мы тоже на центральной кошаре себе зазноб заприметили. Сабантуй начнем там, вместе с твоими красавицами с центрального стойбища продолжим здесь. Рахман, – приказал Артист, – барашков режешь и там, и здесь. Собирайся! Только быстро – одна нога здесь, другая – там! Да, выбирай барашков пожирней и с курдюками! Душистый шашлык, заправленный луком, соком крыжовника, горным чесноком, разными душистыми травами и нежный хинкал с бараниной – что может быть вкуснее на свете! Эх, братцы, загуляем! – смачно потянулся Артист. – А пока, братец Шархан, ознакомимся с твоим хозяйством. Начнем с этой кошары.
Ничего худого не подозревая, Шархан повел Артиста и Пеликана по хозяйству, стал хвастливо показывать, рассказывать о своих успехах. На альпийских лугах паслись две отары овец и коз, стадо дойных коров, два стада бычков, стадо телок, десятка три породистых жеребцов. Под навесами стояли гусеничные и колесные тракторы, армейские грузовые автомобили, маслобойные машины…
– Э… Скажи, уважаемый, чьи все эти богатства? – не без умысла спросил Артист.
– Все это мое, – с гордостью ответил Шархан, но, быстро сообразив, осекся, – почти мое…
«Мое»… А давно ли Шархан был гол, как сокол, имея всего лишь одну кособокую языкастую жену, одну паршивую корову, десять овец! У него не было ни наложниц, ни машин, ни тракторов, ни покорных нукеров, ни пастухов, ни чабанов. Все эти богатства Шархан накопил с моей помощью. А теперь этот сыч хвалится нажитыми через меня богатствами: «Мое»… «Мое»…
– Ты стал таким богатым, что наступило время сбежать за кордон, – ехидно укусил за живое Артист.
Шархан, как шел, остановился; пот выступил на лбу. Слюнявая челюсть отвисла, широкая борода дрогнула.
– За что ты так меня обижаешь, Артист? Я не убегал от вас и в самые черные дни, даже находясь среди «волков» в Чечне!
– Знаю, помню. Проверяю твою реакцию…
Артист знал, Шархан является агентом самых грозных экстремистских подпольных группировок Востока. Он хитрый лис, который за грубостью скрывает свое истинное лицо. Он всемогущ, коварен, кровожаден. Он становился опасным, он мог навредить ему не только в районе, но и в республике. Поэтому Артист должен был знать все: его самые сокровенные мысли, секреты, явочные квартиры в городах, селах республики, о его связях. Кто не знает, чем живет, что думают, к чему готовится друг, враг, тот подобен слепцу, одиноко бредущему по горным тропам.
Где там зрячий не запнется, слепец расшибет себе башку. Артист знаком с могущественными политиками, крупными бизнесменами, силовыми структурами многих стран, там не пренебрегают услугами подобных агентов, послухов. «У меня везде должны быть свои глаза и уши. Тогда мне не опасны никакие враги, они меня врасплох не застанут. При таком раскладе сил ни один из членов моей банды без моего согласия со своей женой в постель не ляжет. Тогда и без Волкодава я буду знать все, что нужно. А почему без Волкодава? Он пусть берется за руководство этого дела. Он, хоть прикидывается простодушным, прямолинейным, но прагматичен, просчитывает каждый ход, умеет жестко наступать и без потерь отступать, ловок, сметлив – лучшего агента мне не найти».
И Шархан, когда Артист заговорил с ним на эту тему, неожиданно быстро согласился.
– Только с одним условием, – горько улыбнулся Шархан, – об этом из «наших хозяев» никто не должен знать… Я и так ради них многим рискую, даже жизнью, имея мизерные доходы.
– Конечно, Волкодав. Пеликан – могила! Правда, Пеликан? – язвительно улыбнулся Артист.
– Правда, правда, Артист. Я даже под страхом смерти буду молчать.
В это время чабаны с пастухами за кошарой, на тенистой поляне, Артисту с Пеликаном ставили новую палатку, в палатке – раскладушки. Раскладушки застелили чистой постелью, даже установили походный телевизор, питающийся от корейской дизельной электростанции.
Шархан друзей завел в палатку, пожелал приятного отдыха, а сам, прячась за кошарами, небольшими навесами, незаметно пробрался в домик, где живет Шах-Зада. Зашел в домик, огляделся, снял тяжелый пояс с пистолетом, лег на топчан, накрытый овечьей буркой. Тут было намного прохладнее, чем под горячим солнцем. Лениво потянулся, позвал:
– Шах-Зада!
Она вошла в домик, стала на расстоянии, настороженно отвернувшись от Шархана. Шархан приказал снять с его ног хромовые сапоги. Она на минуту замешкалась, побледнела в лице, руки пальцами зацепила узлами. Тихо, недоверчиво, из-под сдвинутой на глаза шали бросила взгляд на его кирпичное лицо. Она не знала, как себя повести в такой ситуации. Тут перед ее взором стал глубокий старец. По выражению его глаз она поняла, надо выполнить волю Шархана. Она вышла из ступора, схватив одной рукой за носок, второй – пятку пропыленного сапога, потянула на себя. Сапог сидел туго. Босой ногой Шах-Зада твердо уперлась в край топчана, литые икры напряглись, влажные губы приоткрылись. У Шархана нетерпеливо задрожал подбородок. Слов нет, его узница сильна, ловка, красива…
Стянув сапоги, она тыльной стороной руки вытерла с лица капельки пота, на него подняла тревожный взгляд, прося позволения уйти.
Тут на глаза Шархана попал перстень, надетый на левый большой палец Шах-Зада. Алчные глаза от удивления вышли из орбит.
– Подойди сюда. Откуда у тебя этот перстень?!
– Бабушкин подарок, – кратко ответила Шах-Зада.
– Мне бы такую бабушку…
Жадные глаза Шархана с перстня цепко скользнули на ее тугой, плоский живот, с живота – на высокие полные груди. Глаза затуманились, он шершавым языком облизнул губы.
Шах-Зада поняла, что Шараханбек выходит за рамки недозволенного для чужого мужчины приличия, и поспешила к выходу.
– Подожди, Шах-Зада… Теперь сними одеяние.
Она воротилась назад, склонилась над ним, нерешительно взялась за полу брезентового плаща. Шархан засмеялся.
– Не мой плащ, а свою одежду…
Цветком алого мака вспыхнули щеки и уши Шах-Зады. Он схватил ее за руки, притянул к себе. Шах-Зада, как большая белая волчица, сильная и упругая, заревела, рванула, вырвалась из его цепких лап и отлетела в сторону. Вскочила на ноги с резвостью волчицы, попятилась к выходу.
– Стой!
Шах-Зада остановилась, раздувая трепетные ноздри. Глаза ее расширились, метая грозные стрелы. В повороте ее головы, во всем пружинистом теле угадывалось желание сорваться, бежать без оглядки. Шархана забавлял ее испуг, влекла к себе упругая сила красивого тела, но его пока что-то останавливало. Он знал, она с кошары никуда не сбежит. Он решил отложить свою забаву до вечера. К этому времени он сделает обход отар овец, стада коров. Все, что его душе угодно, свершится после сытного ужина…
– Иди… – чуть подумав, – береги силы до вечера…
* * *
Шах-Зада, вся в слезах, стала отступать к двери, не веря, что он ее отпускает. Она, отступала, губами судорожно глотала воздух, боком прошлась к выходу, выскочила наружу. Она сорвалась, гремя в прихожей ведрами, сковородами, мисками, которые попадались ей под ноги, выметнулась в тамбур, оттуда, что есть мочи, понеслась на свой любимый холмик за чабанским домиком. Ее душил обида, она дрожала, ничего не видя, не ощущая, присела на травку и слезам дала полную волю.
Вдруг она вздрогнула, не понимая, что с ней происходит, глядя себе на живот, сжалась в комок. Она внутри живота почувствовала толчки, будто какое-то живое существо проснулось у нее в утробе. Шах-Зада, прислушиваясь к тому, что творится у нее внутри, вдруг рассмеялась. Неужели?! Ее сердце учащенно забилось. «Что это со мной? Неужели, это правда?..» – она нежно погладила то место живота, где ощутила толчки. Так было и тогда, когда у нее под сердцем зашевелилась дочь. Так же у нее внутри все ожило, когда о себе дал знать сын. «Неужели, я беременна? Не верится! Неужели, я ношу в себе сына Хасана! О, какое счастье!» – Шах-Зада заплакала от счастья. Она почувствовала, как на нее горячей волной нахлынула нежность. Так было с ней в первый, второй раз ее беременности. Она вся сияла – это было предощущение безграничного счастья, будущего материнства. И она прикрыла глаза, застонала от неги, легла на спину, потянулась всем телом. В ее чреве опять раздался толчок. Один, два. Да, точно, она беременна! У нее будет ребенок, ее и Хасана ребенок. «О, какое счастье! Какое счастье! – Шах-Зада от нахлынувшего неожиданного счастья то плакала, то смеялась. – Наконец-то! Сколько я ждала этого дня! О, Аллах, этот день настал, благодаря Твоей воле! Был бы сейчас Хасан рядом, устроил бы пир на весь мир!»
Когда вспомнила Хасана, слезы счастья обернулись слезами горя. Она так сильно расстроилась, что разрыдалась, задыхаясь в судорогах… Так она пробыла до вечера, вечером тенью пробралась в домик и закрылась у себя в комнате… Когда она на запоры закрывала двери, ставни, легла в постель, увидела, что перстня на пальце нет. Поискала по всей комнате, обшарила все углы – нигде не нашла.
– Какая утрата! Теперь мне точно наступит конец! – Шах-Зада побледнела, – я обезоружена. А враг стучит в окно…
* * *
Встречный ветер выжимал из глаз Рахмана жгучие слезы, он грязной рукой размазывал их по щекам. Старая лошадь выбивалась из последних сил, он ее беспрестанно по бокам хлестал плеткой. Головная кошара, на которой остались Артист, Пеликан с нукерами находилась неподалеку. Вот за холмами показалась и она. Рахман, не доезжая до кошары, слез с лошади, по известным ему укромным местам повел ее к коновязи, крытой шифером. Он подкрался к окну, выходящий в задний двор чабанского домика, откуда было видно все, чем заняты внутри. Там у этих исчадий ада сабантуй только набирал обороты. С дружками Шархана за столом сидели и дородные узкоглазые доярки, завербованные с черной биржи труда столицы республики. Рахман прокрался к дяде Аслану – заведующему животноводческим хозяйством, который в это время одиноко угрюмо сидел у себя в комнате. Не дослушав его сбивчивый рассказ, Аслан ахнул, из угла в угол забегал по комнате.
– Пропала моя голова! Что сделает со мной Шархан за укрытие овец? О Аллах, огради меня от его гнева!
– Она убьет себя, дядя Аслан… Защити…
– Мальчишка, – наорал на него дядя Аслан, – почему ты не спрятал тот гурт овец от любопытных глаз? – встал, дал по щеке увесистую пощечину. – Тряпка, закрой варежку! Лучше бы овец подальше припрятал, чем, как баба, хныкал здесь!
– Он надругается над ней, дядя Аслан… Он тебя послушается. Пойдем. Пусть он ее не тронет, – не отступал Рахман.
– Ха-ха-ха! Станет Шархан слушать нас с тобой! Это же ураган, а не человек! Э-Э… – Аслан, седой, кряжистый, как мохнатый медведь, остановился. – Ты сказал, что Шархан хочет переспать с женой Хасана? О, это же хорошо, Рахман, очень хорошо!.. Дай Шархану горячую бабу, и он забудет об укрытых от него овцах, угнанном крупном рогатом скоте! Какое счастье, ему сейчас не до счета овец … Счет будет другой…
– Шах-Заду я люблю! Больше жизни люблю! – теряя разум, закричал Рахман.
– Если бы на твоей лошади покатался чужой человек, а потом ее не вернул, я бы понял тебя, твою обиду – загонит! А что плохого возбужденный мужчина красивой женщине сделает? Покатается на ней, поиграет, утолит свою жажду и бросит. Ступай! Терпи и помалкивай, если жизнь дорога. Икнешь, дружки Шархана тебя сотрут в порошок! – Аслан, тыча увесистым кулаком в спину, Рахмана выталкивал из своей комнаты.
Рахмана душили слезы, он, спотыкаясь, добрел до коновязи. Стал отвязывать коня. Руки не слушались. Сердце не выдержало, оно больно забилось в груди. Из груди поднимался тугой колючий ком, перехватывая дыхание. Рахман обратился к небесам, может, с мольбой, а может, проклиная изверга Шархана. Перед его глазами звезды на небосклоне пошли кругами. И он присел на землю, вцепился руками в иссеченную копытами крупного рогатого скота траву, завыл, как собака, почуявшая близость своего конца. Вдруг рядом он услышал храп коня, а потом топот. Кто-то коня гнал во весь дух в сторону головной кошары. Всадник спешно промчался рядом с ним. Он остановил коня у коновязи, пружинисто спрыгнул на землю. «Шархан, он тоже здесь?! – не понял Рахман. – Он коня привязал к коновязи под седлом. Значит, прибыл ненадолго». Рахман чувствовал, что Шархан задумал какую-ту хитроумную игру. «Пока здесь его дружки кутят, он успел там… натворить свои грязные дела… Концы сотворенного преступления хочет спрятать в воду. Все скажут, что он всю ночь кутил здесь с дружками. Ирод, все заранее предусмотрел!»
Рахман прокрался к коновязи, со своей лошади снял седло, спрятал его под тюками сена. Отпустил ее, знал, она сама доберется до нужного ей места. Под навесом, на деревянном гвозде, висели одностволка, патронташ. У него в голове созрел план. С ружьем и патронташем поспешил обратно, туда… к заветному окну кособокого домика на своей кошаре. «Как она там? Жива ли еще? Если с ней что-то случилось, он вернется обратно и убьет дядю».
Спустя некоторое время Рахман догнал крадущуюся впереди тень. «Неужели, дядя?! Как он успел ускользнуть от компании друзей? Видимо, друзьям было не до него, и он, улучив момент, выпрыгнул через окно. Тогда, выходит, он Шах-Заду еще не успел обесчестить… А сейчас он спешит к ней». Он понял коварные планы дяди. По тому, как тень сутулилась, двигалась в ночи, он понял, чья она.
Рахман держался в некотором расстоянии, не упуская дядю из-под вида. Рахман был настороже: следом за ним мог прокрасться кто-нибудь из нукеров дяди. Рахман осмотрительно шел чуть в стороне от тропы, ведущей на дальнюю кошару. Рахман понимал, что он с дядей затеял опасную игру. Но сейчас он о себе не думал.
«Почему дядя своего коня оставил на коновязи центральной кошары? Почему он с дружками не устроил сабантуй там, где намечал? – хаотично думал Рахман, – что же этот шайтан задумал? Только бы не это…» – вдруг всхлипнул он.
Шархан не шел, а летел к ней… Рахман за ним еле поспевал. В сумерках Шархан добрался до заветного домика животноводов. За окном комнаты Шах-Зады горела лампа. Рахман взвел курок одностволки, прицелился. Вдруг в полоске света Рахман увидел Шах-Заду. Она узнала Рахмана. По улыбке на ее лице он понял, что она рада его приходу. Вдруг она за спиной Рахмана заметила тень. У нее из груди вырвался стон. Она замахала руками, делая ему какие-то знаки; ее лицо охватилось ужасом. Он спиной почувствовал холодок, оглянулся назад, но было поздно. В это время по его голове твердым предметом нанесли страшный удар. Это был Пеликан…
* * *
Шархан ударом ноги выбил входную дверь домика. Зверем ворвался в комнату, где была Шах-Зада, схватил за локоть и силой потянул в спальню. Шах-Зада защищалась, кусалась, кулачками отбиваясь от насильника. Он сорвал с ее головы шаль, схватил за волосы, бросил на топчан и набросился на нее. Шах-Зада орала, звала на помощь, отбивалась. Шархан натянул ее косы на кулак, клочьями вырывая их вместе с кожей, другой рукой бил по лицу, рукам. Платье на ней было разорвано, из одной рваной дырки виднелась округлая грудь с темной точкой соска. Взгляд ее мутных, одичалых глаз заметался по комнате, по почерневшему от злости лицу Шархана с тремя глубокими кровавыми бороздками ее ногтей на щеке.
– Сегодня ты будешь моей! – Шархан откинул с ее лица волосы, потрепал по щеке.
Женщина вцепилась в его медвежью лапу острыми зубами. Он дернулся от боли, вырвал руку и наотмашь ударил ее по лицу. Женщина упала на пол, завыла тонко, пронзительно.
– Табунного коня объезжают до потери пульса, а смазливую женщину кнутом приучают, пока не остепенится! Заткнись, кобыла, и делай, что тебе приказывает твой хозяин!
– Какой же ты мне хозяин?! Ты трус и вор! – сквозь слезы захохотала Шах-Зада, отбиваясь кулаками, ужом выскальзывая из его цепких лап. Он сильно напирал на нее, она локтями упиралась в его грудь. – Отведи меня обратно к хозяину, моему хозяину, пока он тебя не зарезал! Веди, говорю! Я жду от него ребенка, слышишь, скотина, не трогай меня своими грязными лапами! – кричала Шах-Зада, маленькими кулаками барабаня его по груди. Она поймала момент, уловчилась и выскользнула из его лап. Отбежала к окну и стала звать на помощь.
– К хозяину говоришь? – хихикал он противно. – Сейчас же отведу! – Только погоди немного! Чуточку ублажу тебя, потом поглажу по голове будущего наследника Хасана…
Он шагнул к ней, ловким движением руки уцепился за ее локоть. Руки сильные, с твердыми ладонями, пахнущие конским потом, вином и табаком, сковали ее намертво. Она узнала эти руки! Именно так пахнули руки бандита, который тогда ее, подняв как мешок, закинул на спину коня. Это он, похититель, лишивший ее с Хасаном семейного счастья, покоя!
– Будь ты проклят, Шархан! – неистово заплакала она.
Шах-Зада рванулась, захлебываясь слезами, развернулась и больно ударила его коленом в низ живота. Шархан от боли вскрикнул, ухватился за руку Шах-Зада, резко дернул ее на себя. Шах-Зада потеряла равновесие. Улучив момент, он поддел под нее медвежьи лапы, подхватил на руки, больно прижал к груди, давя на ее грудь до потери пульса. Нагнулся и как пиявка впился в ее губы. На руках донес до топчана, бросил в постель и набросился на нее. Женщина, обезумевшая, растоптанная, каталась по постели, от ее криков о помощи, рыданий сотрясались стекла окон. Она выла, избитая, униженная, теряющая последние силы. Еще несколько минут такой борьбы, она выбьется из сил, тогда позор неминуем. Скотники, свидетели насильственных действий Шархана, от страха попрятались по своим комнатам, хижинам. Они боялись, заступятся за несчастную женщину, Шархан доберется и до них. Не было на свете человека, который сейчас пришел бы ей на помощь…
Шархан озверел, потерял терпение. Он размахнулся, огромной силы кулак, как кувалда, обрушился на ее голову. Она упала как подкошенная. Женщина притихла и растянулась на топчане. Шархан, рвя, срывая с нее все, набросился на нее…
Глубокая ночь, расправляя отравленные щупальца, в ложбинах холмов обкуривалась магической дымкой. Она через крохотные окошки домика вкрадчиво, злобно просачивалась в темную комнату, где под пещерным медведем задыхалась в прошлой жизни принцесса Зарра, принцесса Очи Бала, в последующей жизни царица Саида, в настоящей жизни Шах-Зада …
2004 г.
Заживо похороненный
Рахман, когда очнулся, увидел, что лежит в коридоре чабанского домика на полу и совершенно голый. Только на босых ногах остались сапоги. Попытался шевелить руками, ногами, они не подчинялись – были крепко связаны веревками. У него во рту торчал грязный кляп. На полу у грязной длинной скамейки лежали узкий длинный нож и тонкая капроновая веревка. У его изголовья стоял Пеликан, а у ног спиной к нему на табуретке с налитыми кровью глазами сидел дядя Шархан. Они собирались с ним что-то делать, но выжидали, не осмеливались свершить задуманное.
Шархан, наконец, решился. Он Пеликану глазами подал условный знак, мол, приступай. Тот понял, на лбу выступили капельки пота, вооружился ножом, перед Рахманом, волнуясь, стал на колени. Когда Рахман увидел острый, как бритва, нож, решил, что дядя собирается его зарезать. Рахман не мог догадаться, какой ужасной экзекуции дядя собирается подвергнуть своего племянника. «Неужели дядя собирается меня оскопить? Выходит, он догадался, что я влюблен в Шах-Заду? Моя платоническая любовь к этой женщине не является поводом, чтобы так жестоко со мной расправлялись! Я ничего постыдного не сделал! Ах, я же собирался застрелить его!»
Шархан вышел в коридор, вернулся с эмалированным тазиком. Пеликан Рахмана развернул лицом к Мекке. Теперь несчастный стал догадываться, что за страшную казнь ему придумал дядя.
Пеликан из его рта вытащил кляп. Одной рукой Рахмана поддержал за голову, ногой придвигая таз, другой рукой над ним нанес нож. Несчастный успел выкрикнуть:
– Нет, ради Аллаха! – запричитал он. – Дядя, отпустите меня! Я ничего не видел! Я ничего плохого тебе не сделал!
Я не хотел в тебя стрелять, думал лишь припугнуть! Я никому ничего не скажу. Дядя!!! Клянусь Аллахом!..
Пеликан ему зажал рот.
– Береженого мусульманина и Аллах бережет! – пьяно загоготал Пеликан. – Ты Рахман – подлец! Потерял уважение к своему кормильцу, единокровному дяде! За неучтивость, ты неблагодарный холоп, будешь жестоко наказан! Ты встал на сторону жены врага родного дяди, решил лишить жизни своего благодетеля! На кого ты руку поднял, червь ползучий? А вкус этой вещицы не пробовал? – ему под нос подсунул чумазый, пахнущий жиром и табаком кулак, – теперь жди и молись, чтобы прибежал этот мулла и спас тебя!
Шархан молчал, злобно скрежета зубами.
По сигналу Шархана Пеликан всем телом навалился на Рахмана, цепкой клешней левой руки впился в его горло и надавил на кадык большим и указательным пальцами. Рахман закашлялся, у него изо рта вывалился язык. Он надрывисто задышал. Глаза от ужаса выскочили из орбит, они утопали в тумане горьких слез. Шархан стал на колени и всем телом навалился племяннику на ноги.
Рахман отчетливо услышал:
– Бисмилахи рахмани рахим… Аллаху Акбар!
Рахман почувствовал, как Пеликан провел острым лезвием ножа по его языку. Он, захлебываясь кровью, дико закричал. Потерял сознание…
* * *
Обморок Рахмана продолжался несколько часов. Когда он пришел в себя, увидел, что все еще лежит нагой, но в наглухо закрытом деревянном ящике. Его руки и ноги были крепко связаны веревками. Только на босых ногах остались сапоги. Было тихо, как в гробу. Прислушался, мертвая тишина: ни людских голосов, ни движения машин, ни пения птиц…
Его рот и нос были полны крови, он с трудом дышал. Он ощущал, кровь запеклась на подбородке, груди. Первое, что инстинктивно пришло ему на ум, это попытка позвать на помощь. Открыл рот, закашлялся. От страшной боли во рту у Рахмана потемнело в глазах, он остолбенел. Вместо человеческого звука изо рта со сгустками спекшейся, клокочущей крови вырвалось какое-то мычание. «О Аллах, – ужаснулся он, – дядя лишил меня языка! Надо же было мне его так разозлить, чтобы он решился на такое страшное средневековое наказание. Чтобы утолять жажду мести, ему этого наказания было мало. Так он меня живьем замуровал в деревянном ящике, а ящик закопал в землю!»
В ящике он лежал в полусогнутом положении и на боку. Тело затекло, не чувствовал ни рук, ни ног. Он, упираясь связанными ногами в бока ящика, сделал попытку повернуться на спину. Испытывая адскую боль во рту, со второй попытки эта затея ему удалась. Глаза привыкли к темноте, огляделся вокруг. Он скорее почувствовал, чем увидел, как через какую-ту щелочку в ящик пробивается тусклый свет. Он подумал, что ему показалось. Зажмурил глаза. Так, с зажмуренными глазами, оставался несколько мгновений. Открыл глаза, уставился в щелочку. Опят там увидел, пробивающийся в ящик, тусклый свет. Рахман обрадовался, он лежит в ящике, но не в земле. Сделал попытку освободить руки и ноги от пут. Не получилось, они были крепко связаны. Ударил ногами о стенки ящика, пытаясь силой выбить одну из слабо сколоченных досок, ничего не получилось. Ящик был сколочен прочно. Уперся руками в крышку ящика, он не подавался, стал колотить его, но из этой затеи ничего не вышло.
Преодолевая страшную боль во рту, он стал поочередно руками, ногами, головой колотить в бока, крышку ящика. Все было тщетно, его уши улавливали лишь глухие удары своих рук, ног, головы о стенки ящика.
Он обливался потом, от перенапряжения судорога свела правую ногу, слышал, как бьется сердце: «Тук, тук». Чем больше он суматошился, тем больше стал понимать, что из этой бессмысленной затеи ничего не выйдет. С его губ сорвались слова приговора: «Это – смерть, Рахман, здесь, в этом деревянном ящике, ты нашел свой конец». Тихо заплакал. Вдруг ему показалось, что он слышит чьито голоса. Нет, это были все лишь его бредовые мысли, срывающие с его обрубленного языка вслух. Когда он до конца осознал, что палачи Шархан и Пеликан не только лишили его языка, но и похоронили заживо, он залился горькими слезами. Плач перешел в рев. Ему казалось, что он ревет так, что от его криков трясется земля. В это время его гортань издавала всего лишь клекот, перемешанный с кровью и слезами. От страшной боли во рту он снова потерял сознание.
Рахман очнулся, стал дико озираться по сторонам, не понимая, где он находится, что с ним случилось. Вдруг вспомнил, что с ним случилось, опять заплакал. Плакал долго и неутешно. Надо было готовиться к смерти. Но как? Он так молод! С кем останется мать? Когда вспомнил мать, до него дошло, что плачем ей и себе не поможешь. Надо было что-то делать, на первый случай хотя бы распутать ноги. Вспомнил, что он во внутреннем кармашке голенища сапога всегда держит складной нож. Но как его достать? Попытался вытащить одну ногу из сапога. Поднатужился, вроде бы получалось. Приложив все усилия, сапог поддался. Вытащил ногу, потом другую. Ноги стали свободны. Теперь надо было связанными ногами придвинуть к себе сапог и вытащить из голенища складной нож. Он усердствовал, надрываясь, обливаясь потом, выбиваясь из последних сил, после нескольких попыток сумел вытряхнуть нож из сапога. Нож со стуком выпал под его ноги. Он ощупал его пальцами связанных рук. Схватил нож за рукоятку, повернулся на бок. Приподнял ноги, вложил нож между коленями и зажал. Придвинул связанные руки к ножу и попытался водить веревкой по лезвию ножа, не получалось. Он не чувствовал рук, ног, они немели, падали плетьми. Вдруг нож выскочил из колен и с глухим стуком ударился о пол. Потянулся, чтобы поднять, во рту стало больно, и он потерял сознание. Очнулся, не помнит, сколько времени пролежал без сознания. Опять взялся за нож. Как он не старался приноравливаться к ножу, у него ничего не получалось.
Рахман потерял всякую надежду на спасение, внутри него оборвалось что-то такое, которое стало отнимать волю, силы. Он стал безразличен к своей судьбе. «Все, хватит, надо готовиться принять смерть, – вдруг он услышал внутренний голос. – Не теряйся, борись до конца. Пытайся, каких бы неимоверных усилий не стоило, освободиться от пут, иначе погибнешь». Он начал себя настраивать: «Прочь, смерть! Я хочу жить! Этот нож – божий дар и мое спасение. Не набью я руку, не научусь орудовать ножом в стесненных условиях, тогда погибну. А смерть пока в мои планы не входит».
Перевернулся на бок, связанными руками поискал нож, нашел. Поднял нож, засунул его между коленями, зажал, уперся спиной о стенку ящика и стал водить веревкой по его лезвию. Вдруг почувствовал какое-то облегчение, но не понял от чего. «О Аллах, получилось! – радостно заплакал Рахман. – Получилось! Мои руки стали свободными!» У него появилась надежда не только высвободиться из этого ящика, но отомстить врагам.
Лег на спину, пытаясь отдышаться. Теперь надо было набраться терпения, каких бы усилий ему не стоило, надо было привести в рабочее состояние онемевшие руки. Он долго растирал бесчувственные руки, вдруг им стало больно. Он понял, они ожили. Рахман порезал веревку и на ногах. Он, теряя сознание от страшной боли во рту, долго водил бесчувственными руками по ногам. Страшно обрадовался, когда одно время он почувствовал, как начали двигаться и ноги – по жилам рук и ног стала пульсировать кровь. Руки и ноги его слушались. Теперь надо было торопиться. Стуки, раздающиеся из ящика, могли услышать его мучители. Он пошарил руками по дну ящика, и в дальнем углу его пальцы ощутили холод металла. Пальцами прошелся по его гладкой поверхности, подушкой большого пальца руки ощупал острие, обух, деревянную ручку. «Да, это же топор!» – заплакал Рахман. Он понял, с его помощью он высечет лаз и высвободится из деревянного плена.
Топор взял в руки, его лезвие воткнул в щель, откуда пробивается свет. Ничего не получалось. Лег на левый бок, уперся лопатками о стенку ящика и острием топора от доски стал высекать осколки. Щель расширилась, ему в глаза ударил свет. Он приостановил работу, прислушался: нет ли рядом врагов. Снаружи все, вроде бы, было тихо. Заново стал орудовать топором. Острием топора, что есть силы, бил по одному и тому же месту. Щель расширилась так, что туда можно было воткнуть все лезвие топора. На топорище налег всей массой тела. Доска скрипнула, и от нее отлетел небольшой кусок деревяшки.
В его глаза ударил яркий свет, он чуть не ослеп и не сошел с ума от испытанной эйфории свободы. Огляделся, понял, что находится в чулане чабанского дома. Он обливался потом, руки и ноги ныли, они были в ссадинах, покрыты кровью. Лег на бок. Обухом топора стал колотить в одно место, у края ящика. Вдруг отбил одну доску, потом вторую, третью. На четвереньках их ящика выполз в чулан. Потянулся, держась за стенку чулана. Упираясь ногами, встал, стал у стенки, чтобы не упасть и не разбиться. На шатающихся ногах придвинулся к двери. Дверь снаружи была закрыта на узкую петлю с навесным замком. Вернулся в чулан, из ящика вытащил топор, несколькими ударами топора от косяка двери отбил ушку вместе с петлей и замком. Вышел наружу, огляделся. Дверь в домик снаружи была настежь распахнута. Он вкрался в коридор, прислушался – там ни живой души. Тут он на лавке, обрызганной кровью, увидел нож, которым отрезали ему язык, длинную веревку, кружку с водой, миску с едой. Он подумал, их предусмотрительно оставили палачи, как бы глумясь над ним. Там же, на полу, лежала его одежда, оделся. От потерянного большого количества крови он сильно ослабел, ноги не слушались, вдруг бессильно упал на пол.
«Что за мистика? И топор, случайно позабытый в закрытом ящике, и нож, и веревка, и кружка с водой, и миска с едой? Не слишком ли много случайностей?» Рахман не мог понять, что это означает, с какой целью палачи так демонстративно выставили эти вещи. «Что они опять задумали? Что означают знаки: нож, веревка, кружка воды, еда?» Вдруг его осенило: «Топор, видимо, был в ящике, когда они замуровали в нем. Нож оставили, когда я очнусь, увижу, что со мной сделали, чтобы я в отчаянии заколол себя».
Превозмогая боль, Рахман подполз к лавке, взял нож и острие приставил к горлу. Передумал. «Веревку оставили, если я не осмелюсь зарезать себя, чтобы повесился. Воду оставили, зная, что я очнусь с жаждой. Чтобы я смотрел на воду, не сумел ее выпить. Еду оставили, чтобы я, умирая от голода, в рот не мог взять и крошки хлеба. Все учли палачи, вплоть до мелочей. Они подумали, даже если выберусь из своего плена, с таким позором не захочу жить. Нет, бесы, не дождетесь моей смерти! Я буду жить и долго вам мстить!..»
Сильная боль во рту и слабость в теле от потери крови заставляли его делать частые передышки. Он изнемогал, терял последние силы. Но страх, что сюда могут вернуться враги, придавали ему волю к победе. Он тяжело встал. Голова кружилась, перед глазами вертелись темные круги.
Прежде чем покинуть помещение, он вошел в комнату Шах-Зады: на топчане лежала постель, вся помятая, разорванная, а на ней – разодранные клочки ее платья и пятна крови – немые свидетели неравной борьбы и позора Шах-Зады.
Рахман застонал и вышел на улицу. Светало. Первое, что увидел Рахман, в пятидесяти метрах от себя, в сторону старой березы, спотыкаясь, шла Шах-Зада. Она шла с распущенными волосами, босая, стоя на нетвердых ногах, долго смотрела на восходящее Солнце. В глазах ее горел дикий, пылающий огонь. В руках была веревка, которую длинной змеей волочилась по земле.
Она остановилась под дубом, размахнулась и забросила веревку на толстый сук. Встала на круглый камень, служивший пастухам и чабанам скамейкой, свила петлю из веревки и накинула ее себе на шею. Протянула руки навстречу восходящему Солнцу, улыбнулась искусанными в кровь губами и стала шептать: «Хасан, я была тебе верной женой! И я всегда любила тебя, любила так нежно, так искренне, так самозабвенно, что порой теряла голову, дар речи от безграничной любви к тебе. Любила тебя с того дня, как я себя помню, может, с мгновения моего зачатия, еще в утробе матери. Мои молитвы однажды дошли до Аллаха, и в один день Он пожалел и воссоединил нас. Мы жили счастливо, на зависть многим семьям на земле. Но каким-то отбросам человечества не понравилось, как мы живем, и нас они разъединили… – она горько разрыдалась. – Я знаю, Всевышний… Священный дуб накажут их… Накажут иродов… Я не могу жить с таким позором и дать жизнь нашему сыну, над которым надругался Шархан. Прощай, мой милый, ласковый и нежный зверь… Прощай, мой, не увидевший белый свет, сын! Встретимся там… в другом мире».
«Что она, – недоумевал Рахман, – прощается с жизнью?!»
Он видел, как она забрасывает петлю на увесистую ветку дуба, как к ней присматривается.
«Она собирается вешаться!»
Он, что есть мочи, бросился к ней, пытался закричать, но от страшной нечеловеческой боли во рту упал, теряя сознание.
Утренний ветерок нежно трепал Шах-Заду за волосы. Она на голову накинула петлю, тонкими пальцами прошлась по ее полукругу. Чуть приподняла бескровное лицо, вздернутый прямой красивый нос, прикрыла глаза. Усилившийся ветерок подхватил, растрепал копну ее волос, забросал на лицо. Солнечные лучи заиграли и потерялись в ее волосах. Она еще раз взглянула на яркое светило, по-детски улыбнулась и сделала шаг в пустоту…
2004 г.
Клык ядовитой змеи
Как только в горах сгустились вечерние сумерки, Рыжегривая волчица на всю округу открыла свою заунывную песню. К ее вою со всех мест присоединились собаки. Вдруг за селом раздался оглушительный выстрел, за ним последовали второй, третий. Долгий гул с повторяющимся эхом прокатился по долине Караг-чая. После все стихло.
Над востоком забрезжил ранний рассвет. Тьма, растворяясь в небесах, уходила в глубокие овраги и ущелья. Из темного мрака постепенно вырисовывались близлежащие, затем дальние холмы, лесные массивы; ярким пламенем зажглись вдалеке горные вершины. Яркими красками, сочетающими в себе алый, синий, сизый, золотой, зеленый цвета, засиял восток. Под ним пришел в движение седой Каспий, катящий свои воды на восходящее солнце. Кровавым пламенем, а потом золотом пронеслась по его могучим волнам солнечная дорога. Каспий гнал свои, купающиеся в алой заре, золоте, волны в небеса, за хрупкие грани облаков. Поселение просыпалось…
Потом в горах погода резко изменилась – пошел дождь. Мелкая изморось колюче падала на притихшие вдруг огороды и бахчи; вода скапливалась на ветвях деревьев, она огромными лужицами собиралась на зонтиках тыкв. Вдруг с гор сорвался ветер, он с отяжелевших ветвей деревьев, листьев тыквы, воду с шумом стряхивал на землю. Она скатывалась на землю, та, что не успела просочиться в землю, собиралась в большие, малые грязные ручьи и стекала на улицу. Там, соединяясь с такими же другими мутными ручейками, она с грохотом носилась по проселочным дорогам. Мутные потоки, выворачивая из земли камешки, камни, булыжники, с оглушительным ревом неслась в глубокое ущелье, находящееся под селом.
Хасан застыл у окна, у него онемела нога, потом ее свело судорогой, его лицо исказилось от боли. Он долго массировал ногу, ее отпускало. Он с лица горячей ладонью смахивал боль вместе с ночной усталостью. Неуверенными шагами двинулся в сени, с болью в душе спустился по лестнице на первый этаж, вышел на улицу, оттуда – в мечеть.
– Все, хватит! – простонал Хасан, – я больше не могу. Сегодня же в мечети скажу, что ухожу!.. Сельчанам нужен другой староста, а мечети – новый имам… У меня в мечети все не получается так, как я это планировал.
Но как только его глаза встретились с доверчивыми взглядами прихожан, он понял, сегодня тоже им не скажет про свой уход и о переизбрании нового имама мечети. Он понял, они ждут от него не мятежа, а под его началом духовного возрождения.
После утреннего намаза Хасан с главным муллой округа, аксакалом Шахбаном, решил сходить к Шархану и твердо поговорить с ним, чтобы он вернул волчат, украденных у матери из ее логова. В его сердце давно теплилась и другая надежда об их примирении. Надо поговорить с ним, попросить, чтобы он волчат как можно быстрее вернул в свое логово. Иначе сельчанам не миновать беды.
Хасан с аксакалом Шахбаном неторопливо шел к дому Шархана. По дороге он обдумывал, что же он скажет своему кровному врагу Шархану.
Неожиданное появление сельского старосты-имама и уважаемого аксакала неприятно удивило Шархана. В это время он во дворе оседлал коня – сегодня у природного моста Мучри, что разделяет Кайтаг и Табасаран, за душистым шашлыком из молодой баранины у него намечался важный разговор с главным лесничим и другими известными чиновниками района.
Сейчас, в предвкушении этого важного события, появление Хасана, этого длиннорясого имама с аксакалом, настолько было неприятно, что Шархан невольно выругался, отвел коня обратно под навес и привязал к коновязи.
«А с какой стати этот святоша вдруг с утра проперся ко мне? Никогда в жизни ни его дед, ни отец, ни он сам не переступал порог этого дома», – начал злиться Шархан.
Эти два рода, самые большие и уважаемые в поселении, с древних времен враждовали между собой. Судьбе было угодно, что со дня рождения первых мужчин в двух родах между ними началось соревнование. Со временем это соревнование обернулось соперничеством, в дальнейшем бесконечными спорами, сворами. Споры перешли в драки и кровную месть. Мужчины двух родов калечили, убивали друг друга, отравляли жизнь себе, своим родственникам, односельчанам.
Хасан давно понимал, что зло порождает зло, смерть порождает смерть, яд порождает яд, стервятник порождает стервятника. Так их кровной мести не будет конца. Нужно было любой ценой предотвратить эту вражду. Первоначально за примирение родов принялся прадед Исин. Он не успел довести до конца начатое дело. Святое дело отца продолжил Мирза, а потом – Рамазан. Хасан сегодня, насыщаясь энергией и живительным нектаром здоровых корней священного дуба в Урочище оборотня, продолжая традиции предков, все свои силы, энергию посвятил примирению враждующих родов.
Эти враждебные отношения, натянутые как тетива, воспламенились в самый неожиданный момент. Ни солнце, ни луна, ни звезды, ни чистые родники, а яд, желчь, сдобренные ненавистью, подпитывали их нечистой энергией. А эта энергия, набирая силу, давала жизнь новым злокачественным корням. А раковые корни, быстро размножаясь, порождали другие корни. Они, выпуская свои щупальца, отравляли все большее количество здоровых клеток корней враждующих между собой родов. Хасан, даже ценой жизни, решил остановить наступление этой болезни.
«Почему вам с утра не спится? Чтоб вас волк разорвал!» – про себя в сердцах выругался Шархан.
Хасан и аксакал сдержанно поздоровались с Шарханом. Тот, хотя бы даже ради приличия, не пригласил их в дом. «Всякий другой горец гостя, переступившего порог его двора, даже кровника, по обычаям гор приглашает к себе домой, угощает чашкой чая. Этому этикету тебя, видимо, заносчивый осел, никто не научил, – успокаивал себя Хасан. – Есть первопричина всему этому – кризис твоей души, твоей нравственности, моральной деградации. Это есть паралич всех твоих человеческих ценностей – кризис твоих родовых корней. Твой род, нечестивец, давно находится во внутриутробном разложении. Сегодня не прислушаешься к голосу разума – тебе и твоему роду конец!»
Аксакал Шахбан оскорбился хамским поведением односельчанина. А имам мечети не обратил внимания на невоспитанность Шархана. Все в поселении знали, насколько он заносчив и неуважителен к односельчанам.
– Извини нас, Шархан, что мы отрываем тебя от важных дел, – осторожно и издалека начал Хасан. – Мы пришли к тебе по очень щепетильному и безотлагательному делу.
– А такие важные люди с утра ко мне по простому делу не ходят! – ехидно, сквозь дрожащие от злости губы процедил хозяин дома. – Так, уважаемый имам, зачем пришел, говори, у меня времени в обрез!
– Да мы… – запнулся Хасан, увидев почерневшее лицо Шархана, злобно играющие желваки на его скулах.
– Тогда присаживайтесь вот на эти чурки, – предложил он, а сам прислонился к крылу «Жигуленка», стоящего во дворе. – Ну, давай, выкладывай, имам, я слушаю, – важно скрестил большие чумазые руки на груди. – Только еще раз предупреждаю: у меня времени совсем мало. Как видишь? – жестом руки указал на оседланного коня. – Спешу на встречу с важными чиновниками, видишь ли, неотложные дела!
– Шархан, ты волчат верни в волчье логово, – задрожал голос Хасана. – Мы тебя пришли просить от имени всех сельчан. Просим не ради себя, а ради тебя, благополучия твоей семьи, всего джамаата. Верни, Шархан! На многих сельчан, особенно на стариков, женщин, детей, причитаний их тоскующей матери сказываются болезненно. От ее тоскливого воя по ночам кровь в жилах стынет, а дети боятся ложиться спать. Многие уважаемые аксакалы от ее воя, сострадания к ней потеряли сон и покой. Гюлахмеда отвезли в больницу, сердце не выдержало… – в голосе зазвучали стальные нотки. – А если хочешь повысить адреналин в крови, то убей в волчьем логове всех: и родителей, и волчат. Только не оставляй волчицу одну со своим горем, верни детенышей страждущей матери. Она изводит всех…
– Верни, Шархан! – вмешался в разговор аксакал. – Иначе на всех нас накличешь беду.
– Ах, вот в чем причина! – скривил губы Шархан. – А я, несчастный, думал, благородный имам, правнук главного ясновидца нашего племени, отпрыск ученых-богословов, что с утра ищет в моем дворе?!
Шархан вплотную подошел к Хасану. Тот тоже привстал. Изо рта Шархана так разило неприятным душком и перегаром спиртного, что Хасана затошнило.
У Шархана из-под каракулевой шапки на покатый морщинистый лоб падали седеющие волосы, широкие и кривые зубы во рту были желты, как у старого мерина, они смотрели в разные стороны.
– А с какой стати, служитель мечети Аллаха, я должен вернуть волчат в их логово? Это я, рискуя жизнью, залез в волчье логово, а не ты! Это моя добыча и моя фортуна! А такая удача в этом медвежьем углу бывает в жизни один раз!
– Какая удача, какая фортуна, Шархан? Эти волчата с Урочища оборотня! Они из чрева священного и магического дуба-великана. Сам дуб-великан оберегает и нянчит их! Богом прошу, верни их в свое логово, пока нас не настигла беда! Если ты думаешь, что волчица забудет то, что произошло с ее первым, вторым выводками, глубоко ошибаешься! Ты слышал ночью, что творилось за околицей нашего села? Это всю ночь выла не волчица, а мечущая душа священного дуба с Урочища оборотня.
– А мне по барабану! Пусть сколько угодно воет себе волчица или, как ты сказал, душа священного дерева!
– Эта волчица не успокоится, Шархан, пока не вернут ее волчат. Верни их, Шархан, будь другом, – вдруг изменил тактику разговора Хасан. – За них, что угодно проси, все отдам! Хочешь, отдам барашек, хочешь, бычка… Хочешь – просто так подарю мой трехколесный мотоцикл!
– Я от тебя, Хасан, ничего не хочу. Даже золота, серебра весом, равным твоему весу! Ха! Друзья говоришь? И с каких это пор мы с тобой друзьями стали? Друзья? Коса и камень! Огонь и пламень! Вот мы кто!
«Имам, отпрыск уважаемого и почитаемого в этом округе рода просит, чуть не умоляет меня, Шархана. Даже в друзья навязывается! Всегда бы так!» – на Хасана бросил ненавистный взгляд.
– Хасан, вождь «исиновской волчьей стаи»?! Не кажется ли тебе, что обращаешься не по адресу. Не видишь, что ты – чистоплюй, а я плут! Ты божий человек, а я – богоотступник! Ты волна, а я камень?! Ты – ха-ха-ха – живая молитва, а я – демон! Не для того я брал волчий выводок, чтобы обратно отправлять его в свое логово. Не много ли ты на себя берешь, Хасан! Ты находишься не в мечети и не на кладбище, а в моем дворе. Не забудь, здесь на правах хозяина правила игры навязываю я. Скажу тебе еще: мне наплевать на Урочище оборотня, на твой магический дуб! Хочешь, завтра его подожгу, как поджег его мой предок! Ха-ха-ха! Мне начхать на твою священную Пещеру кизилбашей, даже на Священную гору, где хранится меч, посланный небесами! Иди своей дорогой! – вытолкнул Хасана из своего двора. – И ты, аксакал, убирайся! – зло взглянул на Шахбана. – Идите в свою мечеть!.. Идите к своим мюридам! У меня есть своя мечеть, свои прихожане, своя кормушка. Если надо, с оружием в руках буду их защищать!
– Астафируллах! Астафируллах! Астафируллах! – три раза повторил Хасан. – Ты думаешь, что делаешь золотом то, к чему касаешься? Наоборот, все, к чему бы ты не прикоснулся, мгновенно превращаешь в пепел… Не богохульствуй, не кощунствуй, не криви душой, Шархан! За такие речи Аллах на тебя пошлет свою кару!..
– Руки у вас коротки, имам! – сквозь зубы процедил Шархан.
– Да, видно, у тебя сытная кормушка, Шархан! – не выдержал его грубых нападок аксакал Шахбан. – У тебя и рот большой, впихаешь в него все, что грабишь, вурдалак! А на жратву, я вижу, у тебя здоровья хватает.
– Да, да, глупый старикан! Закрома мои ломятся от всяческих припасов, кони сыты, патронташи полны патронами, кинжал остро наточен!
– Хвастун! – обронил аксакал, поморщившись, – ты носишь не кинжал, а большой охотничий нож, убивающий несчастных кабанов, которых небеса мусульманам сделали харам! У твоего ножа только одно острие, и оно повернуто в сторону сельчан. Когда на охоте охотник поворачивается спиной к медведю, сидящему в берлоге, он бросается на него и с его головы снимает скальп.
– Когда с одной стороны меня подстерегает рысь, а с другой медведь в лице жадных и голодных сельчан, безопаснее стать лицом к медведю. А рысь потом я и так голыми руками задушу! – мигая одним глазом, многозначительно посмотрел на Хасана.
– Не говори глупостей, Шархан! – выкрикнул Хасан за воротами. – Побойся бога! В этом сложном мире иногда судьба человека гоняет как перекати-поле. Ветер по своим правилам гоняет его по нагорью, пока не занесет в яму…
– Мой отец жил без вашего бога! И я обойдусь без него. Уверяю тебя, в первую очередь тебя закатят в овраг, откуда нет выхода! Все! Спектакль закончен, занавес приспущен, зрители расходятся.
Хасан был настолько раздосадован, что не заметил, как перед ним и аксакалом Шахбаном на коленях стоит мать Шархана. Она просит, чтобы они зашли к ним домой на стакан чая. Она из окна дома увидела, как ее непутевый сын у себя во дворе поносит уважаемых в селении людей. Она выбежала во двор, но опередить своего безумного сына не успела: он так распоясался в своей ярости, что успел смертельно оскорбить и выставить гостей за ворота.
– Шархан, сын осла! Ты зачем обижаешь уважаемых людей? – стала причитать мать. – Сто лет представитель рода Исина не переступал порога нашего дома. Это явился не Хасан, а святой ангел в его облике! Догоняй, извинись, зови их обратно, в наш дом. Это будет началом примирения многовековой вражды двух родов! Ведь Хасан с аксакалом Шахбаном для этого и переступил порог нашего дома. Умоляю тебя, сын, верни их! Дай им зажечь факел мира между родами! – заплакала мать.
– Все уважаемые люди его рода на кладбище и в темных ямах давно кормят червей. А этот, длиннорясый, что-то долго задержался среди правильных людей! Не пора ли отправить его к праотцам! – распалился Шархан. – Веревка по тебе вьется, Хасан, шею свою береги… Жену твою… – вдруг запнулся Шархан и подозрительно посмотрел по сторонам. – Все руки тебе вырву!.. Собрался вброд перейти через речку, думаешь, как бы ноги не замочить…
– Закисшее молоко поднимается, выталкивает через край кадки сметану с творогом, в кадке остается одна сыворотка! – так Хасан за воротами Шархана успокаивал аксакала Шахбана.
* * *
Последние двадцать лет Шархан знал только одно – чувство ярости. Он обладал нисколько яростью, а нечто огромным, живым, пульсирующим внутри веществом, источающим яд. Он вытравил его душу, души всех, кто находился рядом с ним. Он искоренил из его сердца все, что когда-то у него там теплилось: любовь, слезы, радости встреч, горе расставаний. А теперь в его душе ничего не осталось, кроме яда, ярости, кроме всеобъемлющего раздражения и ненависти ко всем. Шархан был на грани истерики и нервного срыва. От него в жизни доставалось всем: жене, матери, близким, друзьям, соседям, сельчанам.
Он терпеть не мог непослушания, непочтения к своей персоне. За элементарное отступление от правил, установленных им дома, на работе, страшно наказывал. За малейшее отступление от его правил начинал истошно кричать, осыпать отступника проклятиями, часто к нему прикладывал руку. Ему все равно, кому эти проклятия предназначались – в ярости все сливалось в огромный багровый ком. А она, настаиваясь, созревая, наливалась отравленной жидкостью до такой степени, что в одно время с треском лопалась. Этот гнойный пузырь вместе с желчью выплескивался из него на членов семьи, друзей, знакомых, незнакомых. Он, видимо, не понимал, не хотел понять, что к близким, друзьям надо относиться бережно, с любовью. Его не волновало, кого он оскорбляет: молодого человека, старого, уважаемого представителя общества, друга или врага. Он не хотел осознавать, что все они одинаково страдают от нанесенной им обиды… Нет, Шархан это понимал, но не хватало выдержки останавливаться там, где надо было останавливаться. Как сегодня это случилось с Хасаном и Шахбаном. Эта привычка давно стала его второй натурой. Он понимал, что его терпение на исходе, понимал, пора останавливаться, но как? Дай проснуться в нем капле желчи, она накапливалась до такой степени, что элементарная мелочь выводила его из равновесия. И он приходил в такое состояние, что в это время все морские штурмы, бури, ураганы, сели в горах перед его яростью становились мелочными, капризами природы.
Каждое утро Шархан просыпался с чувством разочарования и досады – ему так не хотелось возвращаться к реалиям жизни. Сны стали единственной его отрадой. Утром с трудом вылезал из-под одеяла, не всегда умывался, завтракал. Седлал коня и спешно отправлялся на встречу к друзьям, к таким, как он, на ходу повторяя одно и то же слово: «Ненавижу!», «Ненавижу!». Этот бесконечный лепет со временем стал звучать, как молитва-заклинание, доводя его иногда до безумного экстаза. Он кипел, бушевал, презирал всех и вся вокруг. Остервенело орал, доводил до слез жену, мать, до истерики – сына, а потом сам валился на тулуп у печки почти без сознания. В таком состоянии Шархан физически ощущал летаргический сон, в который иногда он впадал…
* * *
Понимающая мать, всячески старалась беречь сына от яда его сердца. Как и сегодня с Хасаном и аксакалом Шахбаном.
– Перестань, Шархан! – упала перед ним на колени плачущая мать. – Бей, унижай меня, чем позорить уважаемого имама! Завяжи тугой веревкой пуповину ядовитой и ненасытной утробы вражды!
– Этого душмана я держу на коротком поводке! Как только захочу, затяну потуже…
– Короткий поводок, Шархан, «узлом» не завяжешь!
– Ее не только завяжем узлом, но скоро он в нем закачается в «танце»… Он и подобные ему задохнутся в своей крови!..
– Кровь и без тебя на земле льется каждый день, от самого сотворения Мира, Шархан.
– Мы сотрем с лица земли всех врагов, подобных Хасану, врагов Великого Исламского Халифата, врагов чистого ислама!
– Тогда человеческой крови, проливаемой на земле, не будет конца!
– До тех пор, пока земля не очистится от последнего иноверца!.. Мать, – переменил он тему разговора, – в одно время, я помню, ты замолвила, что в моих жилах течет крупинка крови покорителя Вселенной Надыр-шаха. Скажи, это правда?
– Наши предки в строжайшем секрете держали эту тайну. Грозились, убьют, если кто-либо откроет семейный секрет. Да, в нашем роду из поколения в поколение передавали по цепочке, что был такой грех, сотворенный нашей прапрабабушкой… Нашу прапрабабушку по материнской линии (завидная была, говорят, в молодости женщина) тогда бес попутал – свел ее с этим рыжим жеребцом… И родила от него рыжего мальчика…
– Та прапрабабушка, которая предала семерых братьев на хучнинской крепости?
– Да, – стыдливо опустила глаза мать.
Значит, я могуч и всесилен, как мой прапрадед, завоеватель Вселенной. И настало наше время?!..
– Чье, ваше время?! Сын мой, ты с ума сошел! – запричитала мать.
– Мое время и время моих великих соратников, братьев по духу, моего духовного братства!..
– Побойтесь Аллаха, кара Его беспредельна!
– Наш Бог сильнее Вашего…
– Астафируллах! – мать, закатив глаза, богобоязненно воздела трясущиеся руки к небесам.
Вдруг аксакал Шахбан за воротами, после всего этого услышанного, весь задрожал, губы задергались, в глазах появилась недобрая улыбка. За свой век он ни от кого не слышал столько грязных слов, каких за короткое время ему наговорил Шархан. Схватился за кинжал, висящий на узком поясе, стал заворачивать обратно, во двор Шархана.
– Не могу больше! Убью этого шакала!
– Ты с ума сошел, дядя Шахбан! Успокойся…. С кем связываешься? С этим ядовитым гадом?! Рано или поздно этого гада проглотит другой гад! Пошли, дядя Шахбан, подальше от этого проклятого дома! – Хасан под руку увел аксакала. – Соберем глав семей поселения и поговорим с ними на годекане…
– Глав семей говоришь?! – со стоном прохрипел аксакал. – Нет глав семей, нет сельского общества! Было когда-то у нас свое общество: сильное, дружное. А главы семей были хлебосольные, гостеприимные, отзывчивые! А теперь их нет! Нет и нет! И не осталось глав семей, настоящих мужчин в нашем поселении! Остался бы хоть один джигит, этот некастрированный козел так бы не бодался! Многие из них в лице этого животного видят преуспевающего бизнесмена. Охают, ахают, «каков он Шархан!» Была бы моя воля, давно бы его отправил на север на железной дороге шпалы укладывать! – от обиды у него глаза увлажнились… – Тьфу, нечестивец!
– Ты стал злее гиеновидной собаки, Шархан, – плакала мать, бегая вокруг аксакала и успокаивая его. – Твоя необузданность и неуемный гнев приносят тебе только одну боль и страдания! Могилой твоего отца прошу, уймись и, пока не поздно, мирись с Хасаном и аксакалом Шахбаном!
– Да, я зол на имама, мама! Не кажется ли тебе, что ты к этому облизанному кобелю слишком добра! Я с ним не мириться, а биться буду!
– Слышал поговорку: как только у козленка выросли рога, он забодал свою мать, потом соседа… Это о тебе, Шархан! – выпалила мать.
– Нет, мать, не обо мне. Это о Хасане и о его старших родичах, которые всю жизнь бодаются с нами. И не козленок он давно уже, а матерый козел. Он за свой век многим моим родичам своими рогами животы вспаривал.
– Хасану не до вас! Хасана в последние годы столько бед преследуют, если он кому-то стал опасным, то только себе.
Трудно ворочая неповоротливым от бесконечных попоек языком в пересохшем рту, Шархан выпалил:
– Если змея ядовитая, не важно, толстая она или тонкая, ее надо душить!
– Молчи, сын, не болтай лишнего, молчание не допускает лишних ошибок. Скажу и на счет змеи… Не знаю, кто из вас ядовитый змей, кто неядовитый, сын мой?.. Но, точно, видно, ты ведешь себя злее аспида… Сколько шума и возни вокруг себя сделал, нечестивец! И всему виной этот волчий выводок! Чтобы все волчье племя исчезло с лица земли! – навзрыд зарыдала мать. – Верни этих бестий в свое логово, Шархан. Заклинаю тебя! Слепой теряет в жизни посох только один раз. А Хасан делает последнюю попытку его тебе всучить! Хасан очень умный человек, послушай его, он дело говорит… Ты думаешь, никто не знает тебя, твоего злого умысла? Знают, еще как знают! Ты по горло сидишь в дерме!.. Столько бед ты натворил, столько горя ты принес, смотрю, на свою голову накличешь еще одну беду!.. Было бы за что! Верни волчат в свое логово, иначе, я верну! – мать судорожно упала под ноги сына, заплакала навзрыд.
2004 г.
Инквизиторы лесного братства
День тянулся бесконечно. Хасан проголодался, из еды с собой ничего не взял. Он решил углубиться в лес, чтобы полакомиться лесными дарами. Попробовал на вкус шишки. Они, замерзшие, высохшие, комом застревали в горле. Пошел дождь. Он промок, озяб, нечем развести костер – где-то в лесу из кармана, видимо, выпал спичечный коробок. Дождь незаметно перешел в мокрый снег. Он мелкой моросью сыпал на застывший в оцепенении лес. Снег, не доходя до земли, растапливался. Лужицы воды медленно скапливались на еще не опавшей густой листве дубов, кленов. А ветер, набежавший с гор, стряхивал ее на него, лесную траву, прошлогоднюю листву.
Хасану надо было ждать вечера недалеко от Пещеры кизилбашей. Ему очень хотелось видеть, как волчица встретится со своими детенышами после долгой разлуки. Он сегодня с помощью внуков Шахбана умудрился вызволить детенышей волчицы из плена Шархана. Один из юрких мальчиков через узкий лаз проник в погреб, нашел помещение, где Шархан прятал волчат. Оттуда он волчат передал Хасану, который поджидал его снаружи.
Хасан почему-то подумал, что волчица только в сумерках вернется в Пещеру кизилбашей. Поэтому до сумерек он, отпустив пастись стреноженного коня, снова углубился в лес.
В лесу Хасан из веток и травы соорудил типа шалаша, залез в него. Пригрелся и незаметно уснул. Сразу же почувствовал, что он видит сон. Нет, это был сон, в то же время не сон. С Айханум он сидел у разогретого очага. Он кочергой перемешивал горящие головешки в очаге и рассказывал ей о горестях, которые в последнее время его преследуют: Когда человеку восемнадцать лет, он уверен, что смерть – это то, что случается с другими, его она не касается, потому что он бессмертен. А потом проходят годы, вместе с прожитыми годами приходит и жизненный опыт. Он седеет, становится слабым душой и телом. Начинают умирать его знакомые, друзья, родные, близкие… Тогда он опять начинает задумываться над вопросом о жизни и смерти. Иногда приходит страх: «Неужели я тоже, как они, уйду в другой мир, мир теней и мертвых? Интересно, на какой стороне света находится человек в тот момент, когда собирается уходить в вечность? На земле? Между небом и землей? Между землей и морем? Может, в невесомости, там, где нет притяжения планет? А может, там… ничего нет, там только черная дыра и молчание, и ничего больше?»
Меня со временем размышления о смерти стали наполнять какими-то возвышенными чувствами, жизнь в этом состоянии души мне стала казаться содержательней, ценней. В одну из бессонных ночей я пришел к умозаключению, если бы человек был бессмертен, то жизнь потеряла бы всякий смысл. Понимая, что человек недолговечен, и за все приходится держать ответ, разумный человек со временем по-другому начинает соразмерять каждый свой поступок в жизни. Ведь любое действие может оказаться последним. И каждый поступок имеет свое значение, начало и конец. Я в одной Священной книге прочел интересную вещь. Под одной крышей сошлись пожилой мужчина и такая же женщина, которые в молодости были вместе. В молодости между ними никогда не было живого разговора о любви. К женщине пришел ангел смерти, чтобы забрать ее в иной мир. Но ангел внял ее желанию поговорить со своим возлюбленным. Ангел смерти согласился, но только с одним условием: как только разговор о любви прервется, он заберет эту женщину.
Женщина со своим бывшим мужчиной повела разговор о любви, который в одно время заканчивается банальной бытовой ссорой. Диалог прервался мгновенной смертью двух влюбленных – ангел смерти забрал их к себе… Смысл в том, что сказать человеку «я люблю тебя» равносильно тому, как сказать ему: «Ты никогда не умрешь…» Смерть стоит выше любви и всегда ее побеждает. Смерть – проверка моего внутреннего состояния, гармонии души и тела, моих чувств, это проверка моей любви к людям, к Богу. Поэтому я в основу всех предпринимаемых действий превыше начал ставить смерть. Мои действия мне подсказывают, если в сравнении со смертью что-то имеет значение, значит, это на самом деле имеет значение. Мне кажется, что в этом есть какая-то красота и магической значение человека – смотреть смерти прямо в глаза. Но смогу ли я надеяться, обещать, что я в себе всегда смогу сохранить такое душевное состояние. Нет, не могу обещать, не знаю, как будет потом… После многих взлетов и разочарований я из жизни вынес ценный урок: жизнь без смерти ничего не означает, так же как и смерть без жизни ничего не стоит. Я хочу сказать, что победа над смертью возможна только в духовном смысле. Когда человек начинает вырабатывать духовную энергию, тогда он начинает ощущать, что он стал духовно возноситься в бессмертие… Смерть – это наивысшая точка жизни. То, как человек встречает смерть, этот момент является показателем, правильно ли он жил или нет. У каждого человека есть свое время прихода этого часа. Мы сами определяем для себя понятие последние «часы, минуты, секунды…»
Я во сне в состоянии второго «пробуждения» спросил Айханум: «Скажи мне, а вот там, где ты находишься, что там есть?» Она мне отвечает: «Ничего». Я придумать этот ответ не мог, потому что от нее я меньше всего ждал этого ответа. Я говорю: «То есть как ничего? Из ничего нельзя вернуться в реальный мир. А как ты пришла»? «Узнаешь сам. Это будет скоро…»
* * *
Хасана разбудило карканье сорок. Над его шалашом сороки устроили потасовку, они его сон прервался на самом интересном месте. Глубокий старец, который в последнее время во сне стал к нему приходить, отвечал на самые волнующие его вопросы. Он резко встал, не соображая, где находится. Голову высунул из шалаша и прислушался. Дождь перестал, небо очистилось от туч, ярко светилось заходящее солнце. Капли дождя бриллиантами свисали с краев пожухлых листьев, ветвей деревьев, на паутинах искрились разноцветными огоньками.
День клонился к вечеру. Нестерпимо хотелось пить. Он забеспокоился, оглядываясь по сторонам: сороки не зря каркают, – в лесу их что-то тревожит. Это может быть волчица с волчатами, которые встретились в пещере Кизилбашей, а теперь покидают опасное место. Могут быть люди Шархана, которые последовали за ним. Подозвал коня, распутал ноги, оседлал, оглянулся, чуя невидимую опасность, исходящую из глубины леса. Еще раз проверил оружие, пружинисто вскочил в седло и поскакал на косогор. Надо будет, подумал он, подобраться поближе к пещере. Он выехал на горку с редким кустарником. Отсюда до горизонта видны были холмы, поросшие густой лесной растительностью, крутое ущелье с темным входом в пещеру и небольшая часть родного селения…
* * *
Накануне ночью Гаджимагомед остался переночевать у Хасана. Нужно быть слепым, чтобы не видеть то, что в последнее время творится в душе у зятя Хасана. Хотелось поговорить с ним о многом, в первую очередь, о похищенной дочери Шах-Заде. Гаджимагомед зарезал годовалого ягненка, за столом его угощал вкусным душистым бульоном, шашлыками. Гасан был в испорченном настроении, и с самого начала между ними откровенного разговора не получилось. Они отвлеченно говорили обо всем: о погоде, сенокосе, об овцах, коровах, о том, что колорадский жук съедает всю ботву, а медведка клубни картошки, только не о Шах-Заде. Перед сном перебросились несколькими фразами о житье-бытье и легли спать.
В полночь Хасан разбудил Гаджимагомеда громкими выкриками.
– Что с тобой? – Гаджимагомед с кинжалом в руках ворвался в его спальню, – ты весь дрожишь, на тебе лица нет! Чем ты напуган?
Хасан был бледен, как полотно, толком ничего не смея объяснить. Он был настолько растерян, что, казалось, не произошло ли у него помутнение мозгов. Он сидел в постели, бледный как смерть, пугливо глядя на створки окон.
– Это был сон, – наконец, запинаясь, заговорил Хасан, – садясь на тулуп у камина, – только недобрый сон…. Я видел первую жену Айханум. Она была в белом саване, руками разрывала могилу и выползала из нее!
– Не велика беда! – попытался отшутиться Гаджимагомед. – Думаю, тебя, имама мечети, не должны пугать женщины ни в белом, ни в черном, ни в зеленом саване, тем более встающие с могил.
– О, друг, не шути так! – возразил Хасан. – Она была в белом саване, выскочила из могилы, с хохотом прыгнула мне на спину. Своими ледяными руками обняла меня за шею и, изогнувшись дугой, страшно взглянула мне в глаза. А потом длинным, как у змеи, раздвоенным ледяным языком сверху вниз прошлась у меня по щеке, губам… Она звала меня к себе. Звала, звала, звала…
Он на минутку задумался и продолжил:
– Тогда я тебе сказал неправду. Айханум приняла яд, умерла насильственной смертью. А теперь мне мстит, как в наших семейных ссорах не раз грозилась. Покойная жена ко мне во сне приходила вчера ночью, позавчера… Она звала меня к себе, в царство теней… Она не отстанет, пока меня не потянет в преисподнюю мира. Я убежден, она не из тех женщин, которая прощает мужа измены. Гаджимагомед, верь моему слову, со мной случится беда! Точно знаю, беда ходит уже не за горами… Я заклинаю тебя, пока не найдешь всех убийц моей жены… твоей дочери, не успокаивайся!..
Гаджимагомед, когда все это услышал из уст ученого-арабиста, философа, знатока тайн этого и потустороннего миров, очень удивился.
– Завтра с волчатами в Пещеру кизилбашей отправимся вместе…. Тебя одного, Хасан, я туда не отпущу! – отрезал Гаджимагомед.
– Нет, Гаджимагомед, там буду не только я, но и Шархан, я знаю. На встречу с Шарханом пойду я один! Я должен остановить этого вурдалака. Я загоню его в такой тупик, откуда он больше никогда не выберется. Кто-то, наконец, должен ставить конец всем его преступлениям! Этим человеком должен быть я, только я! Он давно со мной ищет войны, которую сполна получит! И я не буду Хасаном, если раз и навсегда не покончу с ним и его подельниками!
Гаджимагомед понимал, в словах зятя есть рациональное зерно. Он староста села, имам мечети, приверженец традиционного ислама, который веками исповедовали его прадеды, деды, отцы. А радикально настроенный Шархан, бандит, террорист, религиозный экстремист, принес сумятицу в ислам, религию его отцов. Наконец, он похититель его жены. Долг мужа покончить с тем мужчиной, который опозорил его папаху. Иначе в селении Хасана перестанут уважать, без возмездия его душа тоже не успокоится.
Утренние хлопоты рассеяли ночные тревоги Хасана. Новый день придал ему бодрость, уверенность в своих действиях. Он направил коня в сторону Урочища оборотня. С гор дул прохладный ветер. Над урочищем собирались дождевые облака. Они, наливаясь влагой, грузно садились на лесистые высоты, шапки холмов.
На подступах к Пещере кизилбашей, возле дороги, опершись на двустволку, стоял подозрительный мужчина суровой внешности. Такого поворота событий Хасан не ожидал. Хасан засомневался, остановиться тут, повернуть коня в обратном направлении или как ни в чем не бывало продолжить путь. Предательская горделивость взяла вверх. Решил двигаться дальше. Дорога, пересеченная неглубокими оврагами и холмами, не представляла особой опасности. Но на ее обочине он заметил, не было ни больших камней, ни кустов, чтобы укрыться в случае нападения.
Краем глаза Хасан заметил еще двух вооруженных всадников, спускающихся с крутизны ему наперерез. «Как все началось просто, прозаично! – с сожалением подумал он. – Я недооценил Шархана. Что же этот вурдалак замышляет?»
Всадники между тем пустили коней наперерез Хасану. Лица их были скрыты под капюшонами плащей. Первый всадник на некотором расстоянии остановил коня. Хасан тоже остановил коня. Он, не спуская взгляда с незнакомца, положил винтовку на холку коня. Хотя голова была укрыта капюшоном, в первом всаднике он узнал Шархана. Шархан спешился, стал подтягивать подпруги седла: это означает, что он готовится к драке. Шархан с головы скинул капюшон, из-под усов показывая щербатые коричневые зубы, оценивающе прищурился на Хасана. Его лицо пылало ненавистью и жаждой мести. Видно было, он готов драться насмерть.
Всадник, стоящий за спиной Шархана, у обочины дороги, по сигналу, поданному подельником, не целясь, выстрелил в Хасана. Хасан открыл ответный огонь. Пуля угодила противнику в руку. Тот взревел от боли, выронил из рук карабин и трусливо скрылся в придорожных кустах.
За кустами раздались выстрелы. Кровники поняли, наступил момент истины. Шархан, сверкая бельками глаз, стиснул зубы, папаху заломил низко на лоб и кнутом хлестко ударил коня. И, выкрикивая проклятия, пошел на врага.
Хасан во весь голос выкрикнул «Аллаху Акбар!» и пустил коня навстречу врагу. Он услышал, как раздались выстрелы, над его головой со свистом пролетели пули. Конь под ним захромал на одну ногу. Он по инерции сделал несколько шагов и рухнул вместе с всадником. Хасан кубарем покатился со спины коня, с винтовкой и кинжалом в руках упал ему под ноги.
На него, пригибаясь к гриве коня, страшный, размахивая над головой кинжалом, скаля большие желтые зубы, летел Шархан. Хасана окружили со всех сторон. Он оглянуться не успел, как на него накинули аркан, стянули, подмяли под себя.
Волосяная веревка захлестнулась у него на груди, больно стягивая руки. Он упал. Шархан на аркане поволок его в сторону священного дуба…
* * *
Шархан на поляне, недалеко от священного дуба, сошел с коня. Брезгливо отплевываясь, подошел Хасану. Когда таскали на аркане, его лицо, руки в кровь исцарапались о колючки, сучки, острые камни. Дружки окружили своего пленника.
– Ну что, собачий сын?! Попался, не ожидал, что так быстро окажешься у нас в плену? – наливаясь кровью, брюзжа слюной, заорал сверху Шархан.
От обиды у Хасана покраснели глаза. Шархан заглянул ему в глаза и глумливо выговорил:
– Я-то думал, праправнук ясновидца Исина, правнук легендарного полководца Мирзы Калукского, сын бывшего председателя районного исполнительного комитета – кремень…
Хасан, извиваясь всем телом, приподнял голову, плюнул кровнику в лицо. Тот ударил его ребром ладони по затылку.
– Ух, угостил бы я тебя!.. – замахнулся увесистым кулаком. – Да боюсь, что отдашь концы раньше времени!
От хлесткого удара из глаз Хасана брызнули искры, онемела шея. Он дрыгал связанными ногами, задыхался от ярости.
– Всему свое время, сын бандита! Я еще долго проживу. А вот тебя, паршивого осла, когда высвобожусь, привяжу к хвосту своего жеребца и протащу по сельским улочкам!
– Ой, как страшно напугал! – загоготал Шархан.
Своего дружка язвительным смехом поддержали напарники. Двое из них за руки и ноги приподняли Хасана и мешком накинули на седло одной из лошадей.
Хасана довезли до ручейка, где группа Шархана стояла лагерем. У ручейка они его сняли с седла, ноги высвободили от пут, со связанными руками бросили на землю.
Шархан ликовал, наконец, кровник униженно валяется у его ног. Захочет, сейчас же отправит к праотцам. Он, прищурив левый глаз, глядел на свою жертву и горделиво ухмылялся.
– Что ты, Шархан, на меня так уставился? Словно баран на азбуку морзе! – Хасан пытался отворачиваться от смрадного его дыхания.
– Изучаю своего врага, как говорится, с лица. Чего впялился, спрашиваешь, собачий сын? Я хотел тебе сказать, что плевал на твоих предков-ясновидцев, ученых арабистов, на могилу твоего величественного отца, на тебя, на твою рясу и на твоего Бога! Я хочу тебе сказать, что ты не жилец на этом свете! Я хочу сказать, что сам вот этими руками задушу тебя!.. Где волчата, книжный червь?! – резко поменял тему разговора.
Хасан не успел отвернуться, как Шархан нагайкой хлестко ударил его по лицу, так что у него из глаз полетели искры.
Тут поспешили дружки Шархана и своими телами заслонили Хасана от него.
– Не торопись, всему свое время, братуха! – ехидно захихикал Артист, низкорослый и щуплый мужчина. – Успокойся, впереди целая ночь. Дай нам возможность позаботиться об уважаемом человеке…
«Значит, этот хиляк Артист, с которым пришлось познакомиться в урочище Чухра. А другой, длинный как жердь, если не ошибаюсь, – Пеликан. Хорошая собралась компания».
Шархана остепенили слова Артиста. «Видимо, тот их главарь», – подумал Хасан.
– Вы уже позаботились! – больно прикрывая глаз веком, шипящий от едких слез.
– Как видишь, Бог нас наделил учтивостью и обходительностью!
– К тому же он надели нас отменным здоровьем, хорошим аппетитом, ловкостью ума и рук! – захихикал Пеликан.
– Я дождусь дня, когда вас, ловких парней, закуют в кандалы и отправят в Сибирь! – процедил Хасан сквозь окровавленные зубы.
– Устаз, тебе не подобает быть горячим, как юнцу! – Артист обнял Хасана за плечи. – Мы и горячих скакунов объезжаем, и упрямых волов в сани впрягаем! – красное заплывшее лицо Артиста с синими прожилками, глаза в щелочку вызывали неприязнь. – Ты обижен тем, что отец Шархана присвоил себе то, что принадлежало вам. Не обижайся, друг, это совсем не так. Отец Шархана взял всего лишь то, что, долгие годы, работая председателем райисполкома, у народа забрал твой отец. Спрашивается, почему забрал? Богатство твоего отца было нажито трудом многих… Я бы сказал, трудом сотен и тысяч людей. Когда твоего отца не стало, должен же был кто-то хозяйство, оставшееся без присмотра, прибрать к своим рукам! Тем более ты был молодой, несмышленый, обремененный учебой. Сегодня тоже ты человек занятой, все твое время отнимает мечеть. Табун без жеребца разбегается, богатство в руках непонимающего в нем толк рассыпается…. Вот и настало время «собирать рассыпанные вами камни». Вы с отцом, как бы сказать, стали невольными благодетелями вашего уважаемого соседа Шархана. И за это он, – усмехнулся в усы, – вам благодарен! Ты же умнейший человек, должен понимать, что с приходом к власти Ельцина настали наши времена. Тогда, в годы Советской власти, хозяином района был твой отец. А сегодня в федеральную власть, во власть на местах пришли наши ставленники! – Артист криво усмехнулся. – Шархан хороший мужик, я бы сказал, душевный. Он хочет помириться с тобой, ударить по рукам, стать твоим братом. И ты, Хасан, помирись с ним, не пожалеешь! Тебе не нужны проблемы, и нам, дорогой, тоже они не к чему. Худой мир лучше плохой ссоры. Помиритесь, станьте с Шарханом друзьями. Зачем тебе с ним бесконечно враждовать?
– А почему Шархан не прекращает вражду со мной, Артист? – выпалил Хасан.
– Ах, да, ты меня запомнил… Это упрощает наши с тобой отношения. О чем же я говорил? О, да, вспомнил. Я говорю, плохо все это, Хасан. Вы оба находитесь в расцвете сил и часто не ведаете, что творите.
Грязь въелась в морщины лица Артиста, она глубже обозначала их, оттого его лицо казалось постаревшим, болезненным.
– Артист, ты спрашиваешь, почему я враждую с Шарханом. Когда я был подавлен смертью отца, он со своим отцом украл все мое добро. Потом они угнали весь мой скот. Украли и на запчасти продали автомобиль «Волгу» моего отца. Я сколотил деньги, купил автомобиль «Ниву», его люди Шархана подожгли в моем дворе. За это они от звонка до звонка сидели в тюрьме, отмотали весь свой срок. Его отец не вернулся, скончался в тюрьме. В тюрьму я их не сажал, они туда сами напросились. Теперь за это Шархан хочет мне отомстить. А за что? Ты, Артист, или не замечаешь, или делаешь вид, что не замечаешь, что этот человек – зверь. Он еще и клятвопреступник. После тюрьмы на Коране поклялся, что со мной больше не будет враждовать. Но после заверений не прошло несколько дней, он нарушил данное слово. Он за грязные деньги продает свою душу, сельчан, друзей… Артист, скажи, как можно с ним дружить?
– Не знаю, Хасан, мне он ничего плохого не сделал.
– Думаю, и хорошего тоже!
Артист промолчал.
– Почему ты, Артист, молчишь?
– Ты знаешь, Хасан, святое правило Шархана? Не знаешь, подскажу: кто мешает, того он со своей дороги убирает. И я одобряю это правило.
– Не говори глупостей, Артист… Вы что, на себя взяли роль палачей? Это преступление!
– Мы глупые, а ты – умный, Хасан. Посмотрим, чья возьмет. Нет, мы не палачи, но любому, кто становится поперек нашей дороги, вправляем мозги. Скажи, где волчата, и мы отпустим тебя домой.
– В волчьем логове, – спокойно ответил Хасан.
«Хорошо, что я их спрятал в Пещере кизилбашей. А там волчата быстро спрячутся: под пещерой в разные направления проложены десятки метров подземных лабиринтов и разветвлений», – подумал он.
– Хасан, думаешь, мы тебе так и поверили? В волчьем логове их нет! – желтые зрачки вдруг широко распахнувшихся глаз Артиста хитро уставились на Хасана.
– Давайте мы убьем его, что с ним церемониться! – вскипел Шархан.
– Да уймись, ты! – крикнул на него Артист. – Никуда твои волчата не денутся! А пока свяжите его, пусть подумает. Что-то у меня в утробе заурчало, – разглаживая живот, он переменил тему разговора, – пора заправляться. Собирайте сухой хворост, разожгите костер, жарьте шашлыки! Будем гулять.
– Скорее бы так, Артист! Мы мигом! – воодушевился Пеликан и с тесаком забегался по поляне в поисках сухой хворостины.
– Хасан, не ударяйся в грязь лицом, ведь ты ученый мужик! – неожиданно переменил тему разговора Артист. – Человек человеку может быть или другом, или врагом. Если от дружбы ты отказываешься, врагом Шархана оставлять тебя опасно! У тебя остается одна участь – быть его рабом. Надень-ка, Пеликан, на его шею колодку! Да зааркань его! Он будет скотиной Шархана… – загорелись глаза Артиста. – Шархан, ты хочешь иметь говорящую скотину?
– Говорящая скотина – это круто! – развеселился Шархан.
Откуда-то быстро нашлась деревянная колодка. Скорее всего, они ее при себе держали в чехле, пристегнутой ремнями к седлу. Шархан надел колодку на шею Хасана.
– Вот теперь, Хасан, ты в полном ажуре! – захохотал Артист.
Хасан в 21 веке не ожидал такого садизма, средневекового обращения к себе. Он весь съежился, его замутило. Он еле сдерживался, чтобы его не вырвало. Он свои эмоции не проявил, перед бешеными собаками слабость души не показал. Он понимал, любая поспешность, оплошность с его стороны могли обернуться крушением для его жизни. Поэтому с ними заговорил по-философски:
– Горсточку бы скромности, стыда вам, примазавшимся к власти, чиновникам! Многие вы в погоне за богатствами потеряли человеческий облик, превратились в злых и коварных существ. И что всего горше: эти качества потеряли и многие из тех, кто считал и считает себя интеллигентными людьми, совестью нации. А интеллигентные люди в эти лихие годы должны были себя проявлять нравственным эталоном для подражания своего народа.
Еще никогда, со дня сотворения Адама, так открыто, дико не проповедовались культ денег и вседозволенность. То, что испокон веков называлось совестью, стыдом, – сегодня все это заменила алчность, стремление вчерашних членистоногих править над разумными существами, лишить их воли, чести, любой ценой делать деньги и карьеру… А там – хоть всемирный потоп! Честь, доблесть, совесть – самое святое, что сохранил наш народ в многовековой борьбе своего становления, – растоптаны. Эти нравственные качества свято оберегали его в самые тяжелые годы для страны. А разумный человек не должен и не может забыть о святом, свою историю. Он с этим чувством каждый вечер должен входить в свой дом, как в божий храм, и каждое утро в поисках порции совести должен выходить из него. Что общего может быть у света с тьмой? Какая общность может быть у храма с общинными идолами? Какой результат может дать общение праведности с теми, кто ее не имеет?
– Мели, мели Емеля, твои рассуждения помогают хорошей усвояемости баранины и «принятия на грудь» большего количества спиртных напитков. Будь здоров, Волкодав! – чокаясь с ним, захохотал Пеликан…
– Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире, берущий любые взятки! – продолжил Пеликан.
– Да здравствует самая либеральная власть нашей страны, позволяющая иметь, сколько хочешь жен!
– Урра-аа!
– Иметь сколько хочешь денег!
– Урра-аа!
– Да здравствует российская водка, самая чистая водка в мире!
– Урр-рааа! – водка, чарка за чаркой, пошла по кругу.
Хасан горько ухмылялся.
2009 г.
Хасана допрашивают с пристрастием
Ночью с гор подул студеный ветер. Тучи сгустились, сначала выпал гололед, затем он превратился в большие хлопья снега. Зашумела вьюга, лес, поляна, звериные тропы, дороги замело белоснежным ковром. Поселение Х… подобно острову, надолго оторвалось от внешнего мира. Хасан с колодкой на шее лежал и думал. Если Шархан сохранит ему жизнь, целыми сутками не будет выходить из леса, любуясь картинами зимнего пейзажа. В прошлом году зимой, по вечерам, когда запад зажигал хрустали ледяных вершин Джуфдага и всего горного хребта, а синие туманы еще настилали долину Рубас-чая, ему чудилось, будто он летит на перине тумана, а в глубине его чрева громоздятся ледяные горы. А тени, исходящие от облаков, играющие в лучах солнца, довершали очарование зимнего вечера. Казалось, тихо продвигаются не белые клубящиеся облака над горами, а исполинские громады горных вершин; они там, в дали, колеблются, возникают и тают за дымчатой зыбью. А когда облака, сотканные лучами солнца, свивались дымчатой фатой на плечах гор, их полупрозрачность поражала своей неизъяснимой нереальностью. В морозный вечер с темно-голубого неба, бывало, звездочки инея со звоном сыпались на ветви деревьев, пики гор, мерцали в огненно-красных лучах заходящего солнца.
Первые ночи в начале зимы и в полнолуние в горах великолепны. Горы при лунном свете изумительны, воздушны и пушисты. Леса, обрывы скал покрыты пушистой снежной периной. С их вершин, при малейшем дуновении ветра, сдувается, нанизываемые на блеклые лучи луны, миллиарды мельчайших крупинок первого рассыпчатого снега. Пороша снега, поднимаемая ветром с шапок гор, звездным разноцветьем искрилась и мягко падала на низины; густые тени ущелий и оврагов пестрели в белизне зимнего покрывала. Таинственно возвышались друг над другом холмистые массивы горных хребтов.
Зима – это любимая пора горских посиделок, пока закончится круг посиделок с одного конца поселения до другого, зиме тоже наступает конец. Это удивительная пора зимних обрядовых праздников, где по вечерам молодежь за чаркой вина рассказывает увлекательные истории, сказывает сказки, небылицы. Прикорнув у пылающего очага полукругом или вокруг печки, разлегшись на коврах или теплых овечьих тулупах, горные гунны с жадностью слушают сказки, рассказы, байки, смешные истории, которые случаются в жизни с тем или иным земляком, в их нелегкой жизни. Молодые ребята, у которых только-только появляется темный пушок на верхней губе, желая самих видеть героями веселых приключенческих историй, внимательно слушают рассказы о джигитах прежних веков, об их геройствах и богатырской удали.
А если посиделки джигитов и девушек совпадают по времени и месту, то откуда-то вдруг появляется спиртное, режут барашка, индеек, жарят шашлыки, варят вкусный бульон, организуют обильное застолье. В пылу застолья вдруг горы разбудят мелодичные трели зурны, аккорды гармошки, загремят барабаны. Тогда до самого утра не утихает зажигательная лезгинка…
* * *
С ветвей дерева на лицо Хасана ветер неожиданно сдул хлопья снега, он вздрогнул, очнулся из своих сладких воспоминаний. Горько было возвращаться в тяжелую реальность, действительность сегодняшнего дня.
За одну ночь все Урочище оборотня покрылось снежным покровом. Шархан с друзьями у ручья стояли лагерем: горели костры, над кострами от дерева к дереву растянули брезентовый тент. В стылом воздухе пахло дымом и жареным мясом. Хасан лежал на боку под тентом с тяжелой колодкой на шее. Он до крови жевал губу от обиды на себя, думал, пока дают возможность думать.
Хасан который раз за ночь мысленно прощался с жизнью. Ему перед смертью многое хотелось сказать родным и близким… Невысказанные слова, невыплаканные скупые мужские слезы по ним и Шах-Заде комом застряли у него в горле.
Собутыльники, видимо, в палатке осушили не одну бутылку водки. Из нее наружу тянулся пар, пропитанный кислым потом их тел, тулупов из овчины, грязных портянок, дымом сигарет и перегаром.
Зимнее небо было неприветливым, серым. С низовья реки дул сырой ветерок. Хасану в промерзшем за ночь плаще было невыразимо зябко, от холода у него зуб не попадал на зуб. Он вспомнил свой небольшой, но уютный двухэтажный дом и тоска тупо вгрызлась в сердце. «Где сейчас, интересно, мои младшие братья Иса, Керим, Рамазан? Знают ли они об участи своего старшего брата, чувствуют ли они, что с ним случилось, где он находится?» – сердце съежилось, наливаясь болью, оно быстро-быстро запрыгало, подскочило к горлу и застряло там тягучим комом.
Из палатки под навес шумной ватагой выскочили пьяные мучители Хасана. К нему подлетел Шархан, зло крикнул:
– Скотина, ты, что, ослеп? Что не встаешь, не приветствуешь своего хозяина? Не видишь, твой господин идет? Встань и кланяйся в ноги!
– Ты мне такой же господин, как бездомный проходимец турецкому султану. Надо мной стоит только один Господин, и Он – Аллах. Я кланяюсь только Ему. Кланяться бандиту, сыну бандита? Ты что, Шархан, за ночь пропил все свои мозги? Нет! Никогда! Рубить и собирать сухую хворостину, следить и ухаживать за лошадьми, делать шашлыки – пожалуйста. Но преклоняться перед сатаной праправнук Исина не будет!
– Артист, ты же сказал, что существо, лежащее у моих ног – моя скотина?
– Она есть твоя скотина.
– Она тогда будет бараном, пусть блеет!
– Не буду, хоть режьте!
– Еще как будешь, Хасан! На сегодня у нас не хватает баранины, ты жирный, чистый и из тебя получатся отменные шашлыки! – Шархан был горд, что друзьям придумал такое развлечение.
– Пошел вон, вурдалак!
– Я тебя пошлю, скотина! Я тебя пошлю!..
Шархан бешено взревел, набросился на Хасана, стал колотить его. Этого стало мало. Из голенища сапога выдернул плетку и стал Хасана истязать по спине. Хасан смотрел мимо него, терпел боль.
– Я кому говорю? – Шархан, скаля широкие лошадиные зубы, храпя и обдавая лицо пленника дурно пахнущим дыханием, прижал к земле.
Хасан сделал усилие подняться, но Шархан с размаху ударил его ногой в бок. Хасан упал на спину, и тут же повторный удар плетки на мгновение ослепил его. У Хасана от боли остановилось дыхание, он застонал.
– Оставь его! – сквозь зубы процедил Артист.
Хасан сел, нагнулся и об снег стал вытирать свое окровавленное лицо. Рубец, оставленный плетью, горел на лице, от невыносимой боли из глаз предательски текли слезы.
Снег перестал падать, небо очистилось от свинцовых туч, за макушкой горы показалась луна. Хасан стоял под навесом на коленях, чуть склонил голову, чтобы тяжелая колодка не давила на горло.
– Тебя, скотина, надо было побить, как следует, но я наелся, напился, можно сказать, душа ликует и тебя колотить больше не хочется.
Шархан смачно высморкался, вытер руки о штанины брюк, всмотрелся в распухшее, обезображенное рубцом лицо Хасана. Его губы издали глухой хлопок. – Хорошо я тебя дернул?
– Хорошо! – подтвердил Хасан.
Нет, Хасан не испугался Шархана. Он его глупые окрики к сердцу тоже больше не принимал. Он смотрел на Шархана со спокойной выдержанностью.
– Хочешь с нами трапезничать? – неожиданно спросил его Артист.
– Нет, не хочу.
– А выпить?
– И выпить не хочу!
– Видишь, как хорошо тебе живется. Ты и сыт, и согрет, и никаких проблем нет. И от выпивки тоже «ха-хаха», – рассмеялся, – отказываешься. Волкодав с Пеликаном от такого удовольствия никогда не отказываются. Правду я говорю, Пеликан?
– От такого божественного дара отказываются, – загоготал Пеликан, – только одни глупцы!
– Вот видишь, Хасан, даже эта глупая птица Пеликан замечает, что ты глупее него.
Хасан эту глупость тоже оставил без реагирования.
Все эти трое были казнокрадами, завзятыми аферистами, профессиональными алкашами. Все они в районе находились при хлебных местах. Большеглазый, щуплый Артист работал лесничим, и деньги сами текли к нему рекой.
Шархану они дали кличку Волкодав. Он был огромен, кряжист, как мохнатый медведь. Он мулл, ученых-арабистов, имамов мечетей, других духовных лиц считал ошибкой в геноме природы, их презирал и никогда не переступал порога мечети, даже из любопытства. Он работал егерем, охотники, браконьеры со всего округа, даже заезжие гастролеры, заискивали перед ним.
Третьему из них, с узкими глазами монгола, длиннорукому, длинноногому, длинноклювому, с золотыми фиксами во рту, дали кличку Пеликан. Он работал заготовителем в «Заготконторе» района. Говорят, все мокрые и грязные дела в районе проходят через его руки. Еще говорят, что даже начальник милиции с ним считается.
Знал бы Волкодав, что на пороге шестидесятилетия, как в те далекие времена прапрадеда, на одной тропе судьба сведет его с праправнуком ясновидца: странноватым, своевольным, стойким, как большая скала, имамом мечети Хасаном! Если бы у него был дар предвидения, он еще в молодости укокошил бы его. И сегодня не мучился бы, как быть с ним, как избавляться от него без ущерба для себя и для общего дела. Этот чистоплюй едва не сорвал все то, к чему он стремился всю жизнь.
А Волкодав, прилагая огромные усилия, тратя колоссальные деньги, входил в доверие больших чиновников и с их помощью рассчитывал устроиться начальником налоговой инспекции. От этих мыслей у Волкодава закружилась голова, и ему захотелось выпить. А он это здорово умел; двухсотграммовый стакан поднимал большим и указательным пальцами, выпивал залпом, потом в себя вливал таких же десять стаканов. А дальше забывал счет. Пил много, чрезмерно много. Под действием алкоголя перед ним, как в кино, открывались все тропы и дороги, закрытые до сих пор. Спиртным заряжал себя так, чтобы перед собой не чувствовал никого и никаких преград. А поддать в полную катушку он умел…. Столько, сколько он «принимал на грудь» спиртного, в округе ему не было равных. И он этим очень гордился. Он пил всегда, когда удача сама стучалась в его дверь, всегда, когда под ногами путались, такие, как имам мечети Хасан!
Хасан и внешне был весьма представительной фигурой. У него было белоснежное овальное лицо. Как многие служители дома Аллаха, он на голову водружал высокую серого цвета каракулевую папаху с завязанной зеленой лентой посередине; голову каждую пятницу брил под лезвие; носил короткую серебристую бородку, которая придавала его лицу благочестивое выражение. Карие, широко раскрытые глаза его поблескивали живым светом; в них выражался непокорный ум, высокий дух, что приносили ему много тяжких страданий от окружающих людей, которых он всегда старался уважать и понимать. У себя дома он с радушием принимал всякого, кто переступал его порог, никого не отпускал без угощения и подарков.
И то, что он сегодня с колодой на шее валяется у ног пьяных бандитов, наводило его на разные горькие размышления. Он в этот раз острее всего чувствовал свое одиночество. Из тысячной толпы людей, которых знал и не раз выручал, в эти тяжелые часы он ни на кого не мог надеяться. Надежда выжить, если где-то там, в глубине сердца, осталась только благодаря Аллаху, родным братьям. Мысленно он обращался только к одному Всевышнему. Всевышний был самым отзывчивым собеседником Хасана. Он постоянно присутствовал у него в мыслях, как Небосвод его собственной сути. И в этот трудный час Хасан не мог не обращать к Нему свои взоры. Если существует духовная связь между Всевышним на небесах и Его рабом на земле, Он непременно в эту ночь должен испытать предощущение беды в Урочище оборотня.
Мысленно Хасан обращался и к покойной жене. Она была очень мудрой и рассудительной женщиной. Его чувства к ней были тем острей, чем неосуществимой была возможность видеть ее и поговорить с ней, чем мучительней было сознание одиночества и грядущей беды. Эти чувства открывали в нем всю силу своего духовного слияния с богом.
– Слава Аллаху и Мухаммад его пророк! – прошептал он, глядя на трех беснующихся людей, и подумал: «Если бы знали они, как велика божья сила, и как они жалки, ничтожны перед Его величием…»
И тут возле него на траве прошуршали плутоватые шаги. То был Пеликан, вслед за ним и показалась голова Волкодава. Они были хорошо поддаты и взвинчены.
– А ну, ученый, поднимайся, пошли в палатку! Сам Артист-философ с тобой будет умную речь толкать! – с презрением в голосе пьяно пробубнил Волкодав.
– Да, да! …Сам Артист!.. – хихикая, в свою очередь добавил Пеликан. – Зови теперь своего бога на помощь! Сейчас Артист в ученых беседах из тебя всю душу вытянет.
Волкодав и Пеликан за руки подняли Хасана, они на трясущихся ногах притащили его к Артисту. Они неожиданным ударом по ногам сбили его на партер и силой заставили упасть Артисту под ноги. Артист, для удобства подложив лоскуток мха под себя, раскинув полы плаща-брезента, в резиновых сапогах, широко расставив ноги, сидел у костра. Пахло подгорелым шашлыком и спиртным.
– Ну что, милейший? – просвистел Артист, сверху вниз презрительно взглянул на Хасана.
– Ты подумал?
– Развяжите руки, – сказал Хасан.
– А ну, развяжите ему руки, – приказал Артист, – думаю, сейчас они ему будут нужны. Хорошо, эфенди, попробуем развязать тебе и руки, и язык. Теперь скажи, где спрятал волчий выводок?
– Я же говорил, в волчьем логове.
– На хрен его развязывать, – зло выругался Волкодав, разматывая веревку с рук Хасана. – Таких гадов надо давить, выжигать каленым железом!
– Не хочешь, не говори, – спокойно среагировал Артист, – мы этих волчат, если не из дупла священного дуба-великана, то из Пещеры кизилбашей все равно выкурим. Но учти, я тебе оставляю один шанс сохранить свое лицо. А для начала на, выпей! – Артист, ухмыляясь, протянул Хасану стакан водки.
– Нет, эту гадость я никогда не пил и пить не буду!
– Нет, будешь! – резким движением Шархан выплеснул содержимое своего стакана прямо в лицо Хасана.
– Шархан, уймись! Утихомирь свою ярость! – Хасан привстал и спокойно обратился к Артисту. – Артист, уйми своих распоясавшихся дружков!
– Ты будешь пить, факир, будешь!.. Еще как будешь! – распаляясь, не слышал его Волкодав. Они с Пеликаном набросились на Хасана, подмяли под себя, коленами больно придавили к земле.
– Артист, а ну, налей еще стакан водки. Я ему, чистильщику арабской вязи, ее в глотку залью. Нужно будет, живот распорю, туда целый ящик водки впихну, а потом зашью! Не будет он у меня пить… еще как будет! – Волкодав Хасана по лицу ударил увесистым кулаком, вторым ударом ноги уложил на лопатки.
Левая рука Шархана как клещ скорпиона впилась Хасану в глотку. Он больно надавил на кадык, его челюсть отвисла. Стакан с содержимым с треском лопнул в руке Шархана. Шархан об острые края стакана больно порезал губы, подбородок, щеку Хасану, себе пальцы. Пеликан до краев заполнил другой стакан и передал Шархану. Шархан содержимое этого стакана тоже влил в рот Хасана. Хасану трудно было дышать; он захлебывался горькой гадостью и собственной кровью.
Хасан застонал:
– Я вас под суд отдам!.. Я вас на всю жизнь в зиндан упрячу!
– Какой суд! Какой зиндан! – высокомерно хмыкнул Артист. – Здесь я тебе и суд, я тебе и зиндан! Ты в наших руках. В случае чего, все дело мы преподнесем так, что на тебя напала Рыжегривая волчица и задрала, мстя за своих детенышей! Откуда она, глупая, знает, кто из ее логова выкрал ее детенышей: ты или Волкодав. Тем более сейчас от вас обоих пахнет ее детенышами. Ты знаешь, мы мастера на подвохи и подставы… Кто узнает правду, даже если тебя убьем, кто ее докажет? Лично мы скажем, что ничего не видели!
– Так, Пеликан?
– Так, Артист! – глупо улыбнулся Пеликан.
– Ты думаешь, правду докажет ваша милиция, суд?! И судью, и начальника милиции, и прокурора бабками завалим! Тьфу! – презрительно плюнул себе под ноги. – Они не силовики, а «сборщики налогов».
– Хотела лисица волком быть. Коня за хвост поймала, да зубы потеряла, – спокойно отреагировал Хасан.
2009 г.
Отверженный
Хасан терял последние силы. Он еле стоял на ногах, чтобы не упасть под ноги своих мучителей, держался за куст. Но он не выдержал очередного удара Шархана и носом клюнул ему в ноги. А тот стал его яростно лупить ногами. К Шархану присоединился и Пеликан. Они били, куда попало, но больше всего били по голове, спине, бокам. Хасан перестал чувствовать боль, весь обмяк, глаза затуманились. На минутку к нему вернулось сознание, он просил Аллаха забрать его к себе. И сквозь кровавые слезы вдалеке, за кроной священного дуба-великана, он увидел ясновидицу, прапрабабушку Зайдат в облике Рыжей волчицы.
– Спаси меня, бабушка Зайдат! – вдруг прошептал Хасан, – спаси! И накажи этих посланников царства мертвых, – он хотел еще что-то сказать, но в глазах потемнело, потерял сознание.
Пеликан из бурдюка голову Хасана облил холодной водой. Хасан очнулся, тихо застонал.
– А ну, вставай, козлиная борода! – они, пиная ногами, подняли его на ноги. А рассвирепевший Волкодав схватил обмякшего и обвисшего, как мешок, Хасана, приподнял над головой и закрутил как волчка.
– Ты, змея подколодная, решил меня своим богом запугать? Не на того нарвался! Думаешь, раз ты устаз и у тебя есть прямой выход к высокопоставленным лицам в столице, так я сирота и у меня на тебя управы нет? Хоть ты ученый-арабист и из благородных кровей, а предо мной ты никто, даже не букашка, не червь! Понятно? Я твой бог, я твоя мечеть! Я твоя власть! – сбросил его с плеч под ноги. – Отрекись от своего бога и прими нашего бога! Иначе тебе, чистоплюй, наступит конец!
Хасан попытался встать на колени, не удержался, упал лицом в грязь. Артист его приподнял за шкирку. Вдруг глазницы помутневших глаз Артиста стали неестественно вертеться, тело напряглось, на лбу, скулах, крыльях носа, обезображивая его лицо, выделилась сеть кровеносных сосудов. Волкодав вдруг мысли Артиста направил в совершенно другое русло. Он, хохоча, хлестнул себя по лбу и выговорил:
«Где была моя голова?! Мог бы сам догадаться! Да этот же ученый-арабист – кладезь премудрости. С его помощью можно осуществить все замысли нашей уммы!.. Праведность, духовность, начитанность, знание Корана, нескольких восточных языков, организаторские способности, умение зажечь толпу, религиозный фанатизм – в нем есть все качества духовного лидера, которые необходимы в нашей священной борьбе! Он обладает данными, способными объединить вокруг себя всех радикально настроенных мусульман! Предложу духовный сан, любую другую должность в одной из провинций нашего будущего Халифата, денег, иностранной валюты, загранпоездки в Саудовскую Аравию, Египет, в Багдад и… свободу действий. Надо сделать все возможное, чтобы он стал духовным наставником этих слепых котят, особенно темной, голодной, наиболее униженной и оскорбленной части молодежи. Если мы сумеем его перетянуть в свою сторону, завербовать в нашу общину, за ним, как за шейхом, пойдут десятки, сотни его мутеллимов. А они за собой потянут молодежь нашего района, соседних районов! Тогда Табасаранский, Хивский, Дербентский районы, города Дербент, Дагестанские Огни будут в наших руках, и я буду правителем огромной провинции Халифата, одним из эмиров Халифата!»
– Отвечай, святоша! – прошипел Волкодав. – Отречешься от своего бога? Начнешь кланяться нашему Богу?
– А кто же, «досточтимый» Шархан, ваш бог? – сквозь закрытые и окровавленные губы презрительно улыбнулся Хасан.
– А наш бог – самый умный, самый мудрый! – расхохотался Шархан. – Он настоящий демократ! Он не признает никаких пророков, священных мест, священных деревьев. Он дает возможность говорить с ним напрямую…. Даже, – хитро прищуренным взглядом обвел своих друзей, – сколько в тебе лезет водки, столько пить разрешает! А самое главное, – раскрыв лошадиную пасть с грязными, широкими и кривыми зубами, раскатисто рассмеялся, – разрешает иметь много жен!
– Раззява, прикрой свою лошадиную пасть, а то поднявшийся ветер все искры от костра туда занесет! – сквозь зубы процедил Артист.
– Шархан, – Хасан, собрав все усилия, тяжело присел на пенек, – я вижу в тебе ту глупую скотину, которая у чужой кормушки слепо жует жвачку и жиреет. Ты – копия тех сотен, тысячи нечестивцев, которые жили до тебя и живут при тебе, связанные друг с другом раковыми клетками. В тебе я вижу сатану, который в жизни знает только одну ярость и ею насыщается. Тебя увлекают лишь грязные деньги, пролитая чужая кровь, сытная еда за чужой счет и …
– И… Да, да… чистоплюй, – загоготал Шархан, – много, очень много женщин!
– Вот ты даешь, Волкодав! – захрюкал Пеликан, – одним метким словом заткнул за пояс ученого-арабиста!..
– Шархан? – обратился Хасан к своему кровному врагу. – Опускаясь в болото плотских наслаждений, накапливая богатства, ты думаешь, что идешь к высвобождению от оков нищеты, к свободе и возрождению? Чушь, наоборот, ты все дальше и дальше втягиваешься в кабалу своих животных наслаждений и духовной нищеты, – осиливая боль в разбитых губах и на распухшем языке, продолжал Хасан. – Ты сатана, Шархан! Он тобою, слепым теленком, правил и правит! Раз думаешь, отступив от Бога, ты освободился себя от обязательств перед обществом, человечеством? Чушь! Ты думаешь, что раз заключил союз с сатаной, то вместе будете управлять миром?! Будете держать людей на привязи, как рабов, как скот?! Да, у тебя есть одна страсть – быть скотом!
Скот рождается, чтобы жить по-скотски, и он никогда не будет свободным. И ты никогда не научишься быть свободным, потому что смысл твоей жизни – жиреть на ворованных харчах. Тебя к себе даже Аллах не призовет, даже ад к себе близко не подпустит! Между человеком и адом, между человеком и небом находится только жизнь, самая нежная и хрупкая вещь на свете. А между тобою и небом, между тобою и адом – пустота. Это твое пристанище, это твое наказание!
– А ты, длиннорясый, отречешься от своего Аллаха и будешь служить мне, когда я окажусь между тобой и адом, между тобой и небом!
– Нет, этого никогда не будет! Аллах велик и Мухаммад его пророк! – простонал Хасан.
– Будешь, будешь, факир! Еще как будешь! – заорал Шархан.
– Пошел вон, скот! – плюнул ему в лицо Хасан.
– Ах ты, чистоплюй! – Шархан ребром ладони ударил по его носу. – Ты будешь у меня еще плеваться?!
Из носа Хасана ударила струя крови, и он упал как подкошенный.
– Сейчас тебе открою один секрет, факир. Это мы украли твою жену. Это мы держали ее на заброшенных кошарах под Урцмидагом! – брюзжа слюной, свирепея, выкрикивал Шархан. – Это я, Шархан, ее обесчестил! Я, я, я!.. – теряя самообладание, ногами бил обмякшее тело Хасана. – И, обесчещенная, она повесилась!.. Хаха-ха! – затрясся в нервных конвульсиях выпученный живот Шархана. – Ты тоже скоро пойдешь к ней! – в ярости кричал Шархан.
– А я все думал, где слышал эти голоса посланцев Преисподней Мира?! Ты, зверь, Шах-Заду не убил, а всего лишь помог слететь в один из своих дворцов за своими воинами. Ты, вурдалак, не понял, что через нее к себе скоро призовешь всех чертей с ада! Дрожи, она скоро возвратится из параллельного мира принцессой Заррой, принцессой Очи Балой, царицей Саидой. Она тебя затолкнет в такой кипучий котел, что будешь умолять своего бога, чтобы он как можно скорей к себе забрал себя… – теряя сознание, прошептал Хасан.
– Братцы, зачем мы с этим имамом так долго нянчимся? Давайте отсечем ему палец, как это делают на Ближнем Востоке с ворами, – вдруг пришло на ум Пеликану.
– Жену его украли мы… – Артист не понял его намека.
– А он украл наших волчат, – не уступал Пеликан.
– Волчат? Да… Тогда ему отсечем руку, – в мутных глазах Артиста загорелась жгучая искра.
– Давайте отсечем ему голову, отсеченная голова нигде не заговорит! – взялся за тесак Шархан.
– Великая книга Возмездия гласит: «Не бойся смерти, никто не умирает дважды», – Хасан улыбнулся одними глазами.
– Артист, я же говорил, нельзя давать пощады этой гремучей змее! – закипел Шархан.
Артист жестом руки приостановил его:
– Успокойся, Волкодав, всему свое время… Смотрите, каков упырь, а?! Он гнется, как сталь, не ломается!
Артист рывком приподнял Хасана за шиворот, вдыхая дурные запахи ему в рот. Он придвинул свое лицо вплотную к лицу Хасана. Глаза вспыхнули, как угли, своим крючковатым носом уткнулся ему в лицо, прошипел с хрипотцой.
– Своими коммунистическими умозаключениями, если ему дать волю, он всех приверженцев уммы вернет под знамена традиционного ислама и коммунизма! А ну, братцы, свяжите его крепко-накрепко и сбросьте в дупло дуба-великана, а дупло дерном обложите! Пусть там прохлаждается и читает свою коммунистическую мораль духам царства теней! А на рассвете дуб вместе с ним подожжем.
Волкодав с Пеликаном связали Хасана, с хохотом и гиканьем втолкнули его в дупло дуба, а вход обложили дерном…
– Приятного тебе путешествия к своим праотцам, святой человек! – загоготали истязатели.
– Аминь! – Артист чумазыми руками прошелся по заросшей жесткой щетине на щеках.
– Аминь! Аминь! – Волкодав и Пеликан наполнили очередные стаканы водкой и опрокинули в себя…
2009 г.
Дорога в рай
Хасан в дупле священного дерева долго не приходил в себя, он не соображал, где находится, что с ним происходит. Одно видение наплывало на другое. То перед его глазами возникало сытное, кирпичного цвета лицо Шархана. То перед ним в дорогом белом костюме, весь в орденах и медалях становился лик отца, славного председателя райисполкома. То самого себя видел босоногим ребенком в дедовской сакле, пахнущей дымом, альпийскими травами. Но чаще всего перед ним возникал образ жены Шах-Зады. Она бежала ему навстречу по зеленой луговой траве. Но, почему-то, вместо того чтобы приближаться, она отдалялась, в отчаянии протягивала руки, звала: «Хасан! Хасс-санн!» Он порывался к ней, но какая-то сила удерживала его, хотя прилагал неимоверные усилия, чтобы быть с ней рядом. Его какая-то чернота с головой втягивала в бездонный омут. И все перед его глазами исчезало. Потом наплывала новая череда видений. И каждый раз все заканчивалось вязкой, проселочной грязью, за гранью которой начиналась тьма.
Он собрался силами, дернулся, показалось, как будто что-то свалилось с него, и он высвободился из душного мрачно помещения. Ему стало легче дышать. Липкая, холодная грязь стекала по лицу, спине, груди, рукам. Хасан открыл глаза. В кромешной тьме ничего не было видно. Прямо перед его лицом громоздились комки сырой земли, пахнущие снегом. И Хасан все вспомнил. Ему стало страшно и тоскливо, подумал, почему он не умер от побоев садистов. Попробовал пошевелиться. Руками ощутил липкую и холодную кровь на лице. Во всем теле была невыносимая боль и слабость, внутри все горело.
Кирпичики сырого дерна крепко притиснули его к пахнущему плесенью дуплу дуба, не отпускали. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но вспомнил о врагах и молчаливо стиснул зубы. Прислушался. Снаружи не было слышно ни голосов людей, ни ржания лошадей. Превозмогая боль и слабость, уперся локтями в землю и ногами о стенки дупла дуба, попытался вытащить ноги из-под кирпичей дерна. Ноги слегка поддались, но усилия вызвали в затылке и груди такую острую, режущую боль, что он долго лежал, не шевелясь, боясь вновь впасть в забытье. Он чуть передохнул, соразмеряя каждое свое движение, стал руками выгребать комки сырого дерна, густо заросшего травой, скрепленного корнями многолетних растений. Гулко билось сердце. От внутреннего жара спеклись губы, высох язык. Опять прислушался – снаружи, громко сопя и скуля, кто-то истово выгребал куски сырого дерна. Он впал в забытье…
Хасан не помнит, через какое время, но очнулся, и мысли стали приходить к нему в голову. Значит, он жив. Вспомнил, где он находится. «О, священное урочище, о, дух меча, посланного небесами, о, Мать-ясновидица! О, священный дуб! Спасите меня, грешного. Спасите меня от этих грязных скотов, исчадий ада. А взамен за мое спасение возьмите себе мою жизнь!» – тихо простонал Хасан.
У него на глаза навернулись горькие слезы. Эти были слезы ни страха, ни отчаяния, а горечи и одиночества. Больное воображение опять вернуло его к мысли краткой жизни человека на земле:
«Все мы временщики на этом свете: жизнь человека на земле коротка, – облизывал с разбитых губ Хасан солоноватую горячую жидкость, – так коротка, что по-человечески жить не успеваешь, не то, что любить, ненавидеть. А если бы человек в своем развитии достиг верха совершенства! Такого совершенства, чтобы, покинув этот свет, на том свете мог бы прожить непрожитую жизнь, допеть неспетую на этом свете песню, дослушать недослушанную на этом свете музыку. Лежишь себе в вечном покое без бесконечных житейских хлопот, грязи и суеты жизни. А над твоей головой звучит музыка: музыка звезд, музыка земли, музыка горных ручьев. И эту музыку ты слушаешь под шелест ветра, трав и шум леса. Так бы лежать вечно и ты – бессмертен»…
* * *
– Так будет со всяким, кто против нас! – услышал он голоса Артиста.
– Так будет со всяким, кто против нас! – подхватили его слова собутыльники.
– А ну, братцы, пошли, тряхнем стариной! – прошипел Артист.
– Раз, два, три! – разлил водку Пеликан.
– Тряхнули водкой, богатыри! – подхватил Волкодав.
И пошло веселое гуляние до умопомрачения, до свалки, до чертиков в глазах.
* * *
«…В древности человек, – путаясь в мыслях, в горячке продолжал Хасан, – был центром Вселенной. И вся Вселенная была создана и вращалась вокруг него. Но наука, современное восприятие мира расширили кругозор человека, превращая человека в ничтожную песчинку, затерянную в пустоте Космоса. С появлением учения „О вращении небесных светил“ началось изгнание человека из центра мира, где Земля уступила свое место Солнцу. Через определенное время великий ум человека поставил вопрос центрального положение Солнца во Вселенной. Он этим открытием до смерти напугал общество идеями о множественности обитаемых миров. И, четыре столетия спустя, ученые доказывают, что мы живем на третьей из восьми планет, на окраине огромной Галактики, освещаемые рядовым светилом. В ней находятся четыреста миллиардов звезд, а вокруг них крутятся огромное количество других Галактик. И это лишь крошечная часть Вселенной. Человек велик и в то же время ничтожен, ничтожен перед силой природы: огня, воды, – Земли, Вселенной. Таким образом, происходит последовательный отход представления об особом месте человечества, даже некоторых светил во Вселенной, в Галактике. Это в честолюбивом человеке вызывает внутренний протест. Ведь человеку свойственно чувствовать себя центром мира, центром Вселенной. Центром Вселенной в нашем округе чувствует себя и сатана Шархан…»
2009 г.
Волчица спешит на помощь
Луна в эту ясную ночь была такой огромной, светлой и близкой, она так резко выделялась над крутыми вершинами Каркулдага, что волчице казалось, стоит ей стать на задние лапы, и она ее поймает. Она вышла из подземной пещеры. Первое, что увидела Рыжегривая волчица, когда вышла из лабиринта Пещеры кизилбашей, была круглая луна над верхушками священного дуба-великана. Она, нерешительно ступая на неокрепшую после ранения лапу, заковыляла к булькающему за дубом ручейку. В желобе, вырубленном из пня грушевого дерева, на глади воды, отражалась круглолицая луна. Волчица по глади воды языком сделала несколько судорожных глотков, и луна поплыла по гребням волн. Волчице показалось, в желобе на глади воды образовалось множество связанных в цепочку лун. Ей захотелось поиграть с ними. Она подняла лапу, легким движением подтолкнула цепочку. Они, подпрыгивая на легкой ряби волн, поплыли к стоку, вместе со сбрасывающейся из желоба водой они с дребезгом падали под ее ноги и разбивались. В это время до ее ушей со стороны священного дерева дошли жалобные зовы. Она легла за желобом, прислушалась. Это звал Хасан, которого враги замуровали в дупло священного дуба. Он пришел в сознание, и волчице надо спешить ему на выручку.
Это время ее враги под навесом из брезента, на бурках, раскинув руки, головами кто куда, беззаботно храпели. У догорающего костра там и сям валялись древесные шомпола с объедками обгоревшей баранины. Рядом находилась куча обглоданных ими бараньих костей. На грязной скатерти, на траве лежат остатки свежего мяса, объедки хлеба, солений. А вот нечто такое в откупоренных бутылках, отвратительное по запаху, вызывающее муть в голове и заставляющее неприятно чихать.
Сейчас ей ничего не стоит впиться в глотку или живот ненавистного врага, острыми, как бритва, клыками разорвать его плоть. Волчица подползла к Шархану, он страшно храпел во сне. Сейчас она могла бы убить врага одним рывком: щелк, щелк челюстями, и он будет валяться у ее ног с вырванной глоткой! Она в упор разглядела безобразное, длинноносое, храпящее, кирпичного цвета лицо своего врага; шерстка на ее загривке вздыбилась, сердце учащенно забилось. Рядом с ним спали его напарники. Она с ними тоже не раз сталкивалась, они в руках держали огнедышащие оружия. Их длинные усы, чуткие уши все время шевелились, улавливая кругом звуки и шорохи леса. При ее малейшей оплошности напарники врага могли поднять шум, открыть пальбу по ней. У нее детеныши, она не имеет право рисковать своей жизнью.
Первую очередь она должна выковырнуть Хасана из дупла дуба. Скорей, скорей ему на помощь. Там, в дупле, он в любую минуту мог задохнуться. О том, что он еще жив, она не сомневалась.
Прибежала к дуплу, остановилась, прислушалась: из чрева дуба были слышны стоны человека. Ей надо спасать человека, рискуя жизнью, вырвавшего из пасти врага ее детенышей.
Волчица перед дуплом легла на живот, из дупла передними лапами стала выгребать дерн. Вот появилось небольшое углубление. Ей цепляться когтями, выгребать дерн стало легче. Теперь ее когтям поддавались целые бугорки, кирпичи сырого дерна, переплетенные упругими корнями растений.
Еще один рывок, еще одно мгновение, в стенке из дерна в дупло дуба образовался небольшой лаз. Волчица на брюхе заползла в него. В дупле, с завязанными назад руками, колодкой на шее, лежал Хасан. Он задыхался от нехватки воздуха.
Волчица на брюхе подползла к нему, шершавым языком лизнула его окровавленную щеку. Она на секунду задумалась, с чего бы ей начинать. Начала с того, что заползла за его спину, острыми резцами отгрызла тугие узлы веревки на запястьях. Подползла к его ногам, они тоже были связаны и в крови. Волчица отгрызла веревку, легла рядом, стала шершавым языком лизать раны. Ей так хотелось унять его боль, успокоить, утешить, но она не знала, как это делать. А Хасан был в агонии, страшно выпучив глаза, непонимающе отстранялся от колючей мордочки волчицы. Он интуитивно чувствовал, что его лицо, руки, ноги целует не Шах-Зада. Его обнюхивает волчица, которую к нему подослали враги, чтобы она напала на него и загрызла. А волчица никак не понимал, почему от него пугливо отстраняется Хасан. Ей так хотелось, чтобы он узнал ее, доверял, принял членом своей семьи. Ей еще хотелось, чтобы он припал к ее брюху и согрелся.
В сердце Рыжегривой волчицы-матери к Хасану, двуногому раненому зверю, волнами пробуждалось такое чувство благодарности, нежности, близкого родства, что она свою мордочку доверительно положила ему на плечо, глядя в глаза, весело заурчала. Всем телом подтянулась к нему, благоговейно зажмурила глаза. Она подтянулась еще ближе, лапами обняла его и шершавым языком нежно лизнула по лицу. От этого ей стало легко, так легко, что она истомно застонала. На мгновение из ее сердца ушли все тревоги и обиды, связанные с племенем двуногого и ласкового зверя. И в ее сердце проснулась материнская любовь, нежность к этому тяжело больному, избитому до полусмерти человеку. Она чуяла, как он становился ей родным, близким, таким, как ее детеныш. Если на него взглянуть с другой стороны, то ей казалось, что он немножко похож и на Куцехвостого волка. Так он отлеживался в логове после смертельной стычки с пещерным медведем. Она еще раз подтянулась, крепко обняла его за шею и стала облизывать лицо. На мгновение ей показалось, как она молодой волчицей-ярочкой первый раз встречается с молодым, сильным Куцехвостым волком. Она не забыла, когда молодой волк лизнул ее в мордочку, от прилива неуемной энергии она задрожала. Сердце дрогнуло, и она утробно заурчала: «Ооу-ууу. Ааа-уу-ааа! Ууу-ааа!»
Хасан все бредил, он потянулся к волчице, дрожащими руками обнял ее за шею и заплакал, причитая: «Я знал, что ты придешь ко мне на помощь, Шах-Зада, я знал. Я знал, что ты меня не оставишь с убийцами. Ты пришла, милая! Пришла, пришла…» – горячие слезы грязными ручьями беззвучно текли по его воспаленным щекам.
Волчица жалобно завыла, языком еще раз провела по его соленой в слезах щеке. Тихо встала, выскочила из дупла и серой тенью исчезла в Урочище оборотня.
* * *
Когда Хасан пришел в себя, сгущались вечерние сумерки. Он на четвереньках выполз из дупла, цепляясь за ребристую кору дуба, приподнялся на трясущиеся ноги и воздел руки к дубу: «Слава тебе, Первозданный!» – прошептал, упал на колени.
Хасан напрягся, приложил все усилия, чтобы попытаться встать на босые ноги. Встал. К удивлению, стоять было не так уж трудно. Можно было даже идти, опираясь на сухой сучок, не делая резких движений. И он пошел, неуверенно зашагал по скользкой снежной поляне. Часто останавливался, прислушиваясь к ночи, всматриваясь в темные кусты. Со стороны лагеря был слышен храп мертвецки спящих под навесом его врагов. Он осмотрел себя с ног до головы и застонал. Полы его брезентового плаща пропитаны кровью. Они замерзли, поэтому коробились, вызывая при ходьбе мучительные трудности. Плащ отяжелел так, что он на нем висел ледяным панцирем. Полы плаща заплетались между ног, замедляя его движение.
Не веря в свои силы, что может добраться до поселения, он пошел в сторону, где журчит ручеек. Ему казалось, что стоит напиться воды, тогда к нему быстро возвратятся силы, уймется боль, голова перестанет кружиться, она станет свежей и легкой. Он шел, все так же медленно переставляя ноги. Жажда становилась нетерпимой. Ему кроме глотка студеной воды ни о чем другом думать не хотелось. Вдруг опять, впадая в забытье, он услышал звонкое журчание ручейка между свисающими в его течении длинными зелеными усиками травинок. Он, не чувствуя тела, прибавил шаг. Наконец, добрался до ручейка.
У желоба с водой сел на колени. Поверхность воды была покрыта тонкой коркой льда, он весь был в крестиках от птичьих следов. Ударом руки разбил лед, окунул в воду лицо. Корчась от боли во рту, пил жадно, мелкими глотками. Поднялся. Сильно закружилась голова. Не будь у него обломка сучковатой ветки, он бы упал в этот желоб. Встал с колен, шатаясь, пошел дальше. Самый малый подъем стоил ему неимоверных усилий. Ноги скользили на заснеженной траве, он падал, вставал, шел, еще раз падал. Ходил кругами, в одно время вновь увидел себя у входа в дупло священного дуба. Спотыкнулся о сырой кирпич дерна, упал лицом в снег, его затошнило. Подняться нет мочи. Привстал, спотыкнулся, опять упал, в глазах потемнело. «Прощай, Шах-Зада. Умираю», – вдруг вырвалось у него.
«Шах-Зада, я здесь! Я здесь!» – кричало его сердце. А горло издавало лишь одно невнятное мычание. И он до боли сжал челюсти, чтобы с языка не сорвался крик, крик боли и отчаяния. Ему показалось, словно услышав его крик, Шах-Зада, со слезами на глазах бросилась ему на встречу. Ему показалось, что и он побежал ей на встречу. Вот и он, в обзоре ее видения. Глаза ее непонимающе распахнуты, губы удивленно полураскрыты. «Шах-Зада, я здесь! – ликовал он. – Я вижу тебя! Наконец, мы вместе!»
Она не понимала его, губы растерянно задрожали, в углах глаз, на ресницах показались черные бусинки. Они черными горошинами катились по ее щекам, оставляя за собой две кровавые поблескивающие дорожки. Казалось, душа ее кричит: «Я погибаю, спаси меня!»
Ей в ответ: «И я умираю!»
Ночной холод вернул его к жизни. В ветвях дуба-великана шуршал ветер. Кружилась голова, он белый как снег. Ноги подогнулись, он падал, падал, падал…
* * *
Хасан бредил, пылал огнем. Воспаленный мозг унес его в далекие годы прошлой жизни.
Сияло Солнце. Воздух прогрелся до невозможности, от прогретой земли приятно пахло полынью и теплом. Они с отцом по степи погоняли повозку, запряженную волами. Усталые, изможденные волы еле тащили повозку. Копыта глухо стучали на задубевшей земле. Хасану нестерпимо хотелось пить. Как о божественной благодати он думал о глотке холодной родниковой воды. Сын несколько раз спрашивал отца, скоро ли доберутся до источника. Отец каждый раз отвечал, что скоро. Но впереди стлалась серая холмистая выжженная солнцем степь. Хасан до боли в глазах всматривался в ту сторону, где небо, охваченное зарей, смыкалось со степью, надеялся увидеть кусты саксаула, метелки камыша или высокую осоку – спутников прудов, крытых колодцев и зеленых оазисов в степи.
Вдруг на вечерних сумерках, которые сливались с серыми барханами в степи, обозначился магический свет, который в себе содержал желтый, зеленый, оранжевый, алый цвета. Он на его глазах приобретал отчетливые черты сгорбленной женщины.
Это была она, его жена Айханум в свои пятьдесят лет. Хасан видел ее глаза: зеленые, потухшие, из которых сочился гной с кровью, глаза молодой старухи, мстительные, сиротские, ждущие, зовущие глаза.
Всматриваясь в эти глаза, Хасан испытал укор совести, но вместе с ним и странную легкость от мысли, что ее рядом нет, и он свободен.
Спиной он ощутил и другое присутствие, которое давало тепло, притягивало его, как магнит, как луч солнца. Это была она, Шах-Зада. И он невольно оглянулся, а она внезапно исчезла за барханом. Только что она была здесь и вдруг исчезла. Шах-Зада, прекраснейшая небожительница, красота, стремящаяся к святости, пери, приговоренная жить вечно с ним, неожиданно исчезла… А Хасан сам боялся признаться, сказать всю правду той, с сиротливым взглядом. Не хватало мужества открыто сказать жене Айханум, какую радость он вкусил от близости с Шах-Задой!
Его ладони взмокли и похолодели. Впервые в жизни у него возникло желание, такое знакомое всем смертным, обмануть и не выдать себя, хоть на время, но позаботиться о своем благе. Он в себе не находил силы, отвагу больной жене говорить правду, этим самым потерять к себе ее уважение. «Я есть порок, душа моя порочна, и дела мои порочны. Ох! Как мне тяжко!» – вздыхал Хасан.
Пусть будет ложь, но спасительная, лишь бы она спасла от смерти Айханум. Надо забыть все заученные слова, дать волю сердцу, говорить свободно, как в младенчестве. Ведь когда он ласкал Шах-Заду, ему не думалось, что он порочен. Мысли пробудившегося от многолетнего сна человека отличны от тех, кто каждый день есть пьет, встает, ложиться спать, мыслить машинально. Он осознал себя, он понял, что вел двойную жизнь. Даже по восточному календарю в нем живет два человека: один светлый, другой серый. Один тянет его ввысь, в небеса, другой – в пучину густого и серого тумана, в пропасть. И вот последствия: теперь его по-настоящему затянуло во всепоглощающее колесо жизни. Есть два пути избавления от всепоглощающих мук – вернуться в прошлое, к жене-калеке, за отпущением грехов; пойти, обнять Шах-Заду, сказать, что он всегда любил и ждал ее. Вот они жернова той, серой, жизни. А вот она, радость, полная жизни, страстей. Только дотянись рукой, и ты в объятиях земного рая. Успокаивая больную жену, он отрекся от желания любить, а все желания заталкивали его в жерло клокочущего вулкана.
«О боже, вразуми… А вдруг Шах-Зада откажется от меня, как в одно время от меня отказалась Мила. Вдруг она оставит меня, как я оставил свою больную жену, и уйдет к другому мужчине, более молодому? О боже, что же тогда со мной будет?» – горько вздыхал Хасан.
Он в ужасе выскочил на веранду, закрыл глаза, набрал полную грудь воздуха. Через дрожащие губы выговорил:
«Я в смятении. Я не могу просить у Всевышнего совета. Я ничего не знал, не понимал. Я сегодня тоже ничего не знаю, не понимаю. А Первозданный молчит…»
Хасан вспомнил темную ночь в лесу, Шах-Заду, угощающую его фундуком. Может, он помирился с Шах-Задой из-за сострадания к ней? Нет, еще раз нет! Необузданная страсть, беспредельное влечение к желанной женщине, похоть, затаившаяся под маской жалости и сострадания, долго усмирявшаяся добродетельностью, привели его в ее объятия. Едва Шах-Зада прикоснулась к нему, в нем проснулся самец, он воткнул в ее грудь свое кровососущее жало.
Его начитанность, умение слушать и понимать женщин, привычка вызывать в себе сострадание таили губительную опасность для мужчины с подобными внешними данными и подобным складом ума. Он не видел, если видел, то бы осознал, что его умение философски рассуждать, убеждать людей, заглядывать в душу изможденных жизненными неурядицами людей, особенно женщин, одиноких, а их большинство, забитых и покинутых, вызывают к нему их влечение, пагубную страсть. Эта страсть по любому поводу могла воспламениться, превращаясь в огонь, переходящий в большой пожар.
Оказывается, в обществе его не только воспринимали как ученого-арабиста, имама мечети, но и как тонкого знатока женской души, искусителя женских сердец. Только он этого не видел, об этом никогда не задумывался. Он не осознавал, что в женском обществе он не представляет опасность только глухим и слепым. Теперь он, усмиренный, вопреки своей воле вырвался из замурованного логова на волю и потянулся ублажать свою плоть.
Милая Шах-Зада! Его руки жадно ласкали ее лицо, губы, пушистые волосы, грудь. И все его существо стремилось к новым ощущениям. Он и не жил до встречи с ней, а всего лишь бессознательно делал то, что он должен был делать. Каждый день ходил в мечеть по одной тропинке, возвращался домой по той же тропинке. Читал вполголоса одни и те же молитвы. Ухаживал за скотиной, больной женой, ей вслух читал одни и те же суры из Корана. Заглядывая в ее запавшие, беспомощные, тусклые глаза, глаза калеки – символ ее больной души, символ его самоотречения, – ей и себе повторял одни и те же заученные слова утешения.
Другой жизни он не видел, давно перестал о ней мечтать. Она, как твердое семя в расщелине гор, держалась вполсилы, не давая ей высохнуть. Вот пришла она. Она дыханием губ, нежностью рук, теплотой сердца вывела его семя из состояния покоя. Если бы не она, то он бы, как это семя в расщелине гор, давно высох.
«До Шах-Зады я был не только сухим семенем в расщелине гор, я был безличной тенью, отбрасываемой тенью. Моя вера упорствовала, а я, оказывается, всю жизнь старался переупорствовать ее. Но раз желания моей плоти естественно движут мной, даже тогда, когда я верю, почему вот так мною не может управлять моя вера. Почему она не формируется сама, без моего стремления к ней?»
Хасану стало жарко. Он разбежался по лестнице и в мгновение ока оказался во дворе. Выбежал на улицу, по знакомой с детства тропе побежал к реке, разделся, прыгнул вниз головой и поплыл. Плыть бы так без конца, мечтал он, плыть всю жизнь, как деревяшка, щепка по этой прохладной реке, без душевных страданий, противоречивых решений, без самоистязаний. Вспомнил, как мальчишкой от матери убегал к реке. Подумать только, столько лет прошло, а в нем еще живет мальчишеский задор, стремление еще раз убежать, куда глаза глядят. Не хотелось возвращаться в селение, к больной калеке-жене с ее охами, ахами, стенаниями.
Он выбрался на берег, растянулся на большом ровном горячем валуне. Горячие лучи солнца быстро обсушили его. Полежав с минуту на припеке, он вскочил на ноги и пошел в сторону лесной поляны, где недавно был с Шах-Задой.
В лесу прохладно, сумрачно, кусты уходили в гудящий от насекомых полумрак. Хасан остановился там, где переменилась вся его жизнь. На измятой зеленой траве, где они лежали, остались вмятины от их тел. Он лег рядом, стал обнюхивать лежанку. Она еще сохранила запахи ее тела. Хасан не удержался от соблазна, перевернулся на живот, щекой нежно прижался к тому месту с помятой травой, где осталась выемка от ее тела, ее энергетика. Его руки нежно гладили траву, цветы, которые вчера ночью гладила, нюхала, целовала Шах-Зада. Обонятельные органы Хасана наполнялись душистыми, пряными запахами леса. Сидел под тенистым деревом и думал о своей жизни, судьбе своей потерянной на веки Шах-Зады. «Шах-Зада, мы были вместе в горе и радости. Потом ты потерялась. А я остался… Другой, более земной человек, порвал бы все, что с связано с той, которую к себе забрал бог. Потому что бог создает каждого человека единственным и неповторимым в своей сути. И перед богом каждый человек предстает единственным в своей сути. Смерть у человека одна, она человека забирает только в единственном экземпляре. Такова воля бога. А Хасан продолжает жить жизнью той, которая его любила. Сейчас он почти что счастлив, потому что каждую ночь во сне видит ее, общается, целует, ласкает ее.
Последнее время он изменился так, словно его подменили. После ее утраты он продолжал жить их общей, неразделимой жизнью, и этим он был счастлив. Иногда, когда к нему приходило минутное прозрение, ему казалось, что он – это не он, что живет жизнью чужого для них человека. А их жизнь осталась где-то там, далеко в прошлом. Вдруг как будто его осенило: зачем продолжать жить чужой жизнью, это преступление…»
Он по религиозным соображениям, морали священнослужителя из жизни самоубийцей уходить не имел права. Но в этой жизни ему больше не осталось места. Он сутками уходил в горы, ночи напролет сидел на высокой макушке, думая о Шах-Заде, так встречал каждую зарю. Домой возвращался опустошенный, глаза его лихорадочно сверкали. Когда ложился спать, рядом с собой укладывал фотографию, ночную рубашку Шах-Зады, обнимал, целовал их, вдыхал ее запахи. Иногда выл как волк. Воспоминания сжигали все изнутри…
* * *
Ласкающие лицо, руки лучи солнца, пахнущая землей трава, медом цветы – все это нежило его сердце. И он за постоянство, терпение благодарил сказочную природу… «Надо жить, просто жить во имя жизни, ни жалуясь, ни унижаясь, ни распыляясь». Сейчас он был и художником, и поэтом, и философом. Как щедра эта природа – вечный дом всего живого на земле!
Что-то колючее вцепилось в его руку. Это в рукав рубашки своими острыми щипами вцепился усик ежевики. Только недавно запах цветов этого ростка в себя вдыхала Шах-Зада. Он потянулся к нему и через ноздри стал в себя глубоко вдыхать его запахи. От него пахло жарой, прохладой, земной влагой и небесным простором. Росток ежевики рос один, словно покинутый всеми. «Как я один на всем белом свете», – к горлу подступила спазма.
Хасан встал и ушел. Он зашагал по лесной тропе. Жизнь прожить одному оказалось гораздо сложнее, чем он думал. Никогда в жизни так, как сегодня, не хотелось оставаться одному. Боязнь выдать себя, боязнь быть разоблаченным давила, душила его. Его голова перестала трезво рассуждать, все входы в сердце и выходы словно забились тромбами и неприятным холодом, который сковывал его тело. Иногда он в забытье спрашивал себя: «Может, это сон?.. Может, все это не со мной происходить?.. Может, я давно умер, а мне кажется, что я живу?.. Боязнь – такая страшная сила, ее просто так от близкого человека не скроешь. Выходит, жизнь без страха – тоже конец. А почему? Да потому, что страх – это жизнь, а жизнь – это подъемы, спуски, риск, встреча с трудностями, столкновение с неизведанной до сих пор жизнью. А жизнь – это нечто невиданное, неожиданное, входящее как огонь в грудь. Я и домой к больной жене из страха не возвращаюсь. Боюсь, что не смогу заглянуть ей в глаза. А загляну, не смогу не упасть перед ней на колени и не каяться. Я, действительно, не умею жить по формуле лжи. А Мила не боялась – жила во лжи, она ложью заряжалась энергией. Ложь была ее главной гаванью, в просторах которой кормилась она, как плотоядная, ненасытная хищница».
Молчание леса понемногу его успокаивало. Он замедлил шаг. Надо разобраться. Он подумал, что самое главное – не изменять вере, мысленно стал копаться в текстах священной Книги, потом приступил к молитве. Остановился. Напряженно стучало сердце, мешая думать голове. Когда в памяти начинаешь воспроизвести подробности значимых событий, это похоже на попытку восстановить позабытую формулу жизни.
«…Шах-Зада так нежно и неожиданно прижалась ко мне грудью, что я вздрогнул. Я задрожал перед ней. Потом прижала мои руки к своей груди. Загремел гром, небеса в мое сердце запустили сотни своих огнедышащих стрел; я соскользнул по ее телу, припал к ее стопам. Небеса так и не дали мне ответа. Святой был миг… То, что не было раньше, осуществилось в мгновение ока, а мгновение неожиданно нагрянувшего счастья растянулось на целую вечность. А я не несу никакой ответственности за то, что случилось в этот миг. Но он в корне изменил меня. Нет, теперь я несу ответственность за себя, за ту жизнь, которая в мгновение ока во мне все переменила. А это меня страшно пугает. Миг стал памятью. И, вспоминая его силу и хватку, я опять желаю прожить его. Вот снова наклоняюсь, чтобы поцеловать Шах-Заду в кончик носа…» Тело Хасана напряглось от желания, перед глазами поплыли дымчатые круги. Надо разыскать Шах-Заду, разыскать ту березу, ту веревку, на которой она повесилась… Хасан упал на колени и зарыдал: «О Аллах, за какой грех я потерял ее?!..» – он бился головой о рыхлый снег; с его глаз на него падали крупные слезы, они, падая, превращались в маленькие ледяные стекляшки…
«Если бы я нашел ее, всю ответственность за то, что произошло с нами, я бы взял на себя. И тогда меня не мучило бы сознание, что потерял ее по своей беспечности… – теряя нить мыслей. – Это я, я сам творю свою истину. Вместе с сотворенной истиной я сливаюсь с вечной жизнью. Значит, и богу без греха смогу смотреть в глаза. Это правда, что тот миг наступил неожиданно, помимо моей воли, как послание сверху. Хотя я ждал, искал ее, одновременно всеми силами души избегал ее. Ко мне потянулись ее руки, мои руки коснулись ее груди, вспыхнуло желание, а потом вспыхнула страсть, похожая на огромное пламя, я в нем сгорел дотла. И миг решил за меня, как быть, куда повернуть. Никогда в жизни я не стремился к праведности с такой страстью, с какой моя душа, мои руки тянулись к Шах-Заде…
Ведь жизнь – не розовая картинка, которая рисуется в воображении несмышленого человека. Никто не может предугадать, куда она в следующую минуту тебя повернет. В ней, как в природной первооснове, возникают бури, пожары, вулканы, землетрясения, засухи. Даже самая счастливая жизнь несет в себе некие драмы, даже катастрофы. Но для того чтобы жизнь была благополучной, полной смысла, даже при самых сложных обстоятельствах, необходимо что-то очень важное иметь внутри себя – самосознание, непорочную душу. Самосознание у меня есть, но душу свою вместе с утратой Шах-Зады потерял навеки. Внешние жизненные катаклизмы отняли у меня то, что я называл счастьем.
Первая катастрофа в моей жизни – это смерть отца. Никто тогда мне не помог, а я с малютками-братьями остался один. Вторая – когда убили моего единственного сына. Третья – это измена Милы. Четвертая – когда люди в масках напали на нас и выкрали тебя, Шах-Зада. И когда я искал тебя, нигде ни в ком не нашел помощи и сострадания, даже у районных властей: милиции и прокурора. А потом этот Шархан… Его дружки. Да, я узнал их голоса: это они выкрали у меня Шах-Заду. Это они надругались над ней, над нашей любовью. Это они лишили ее, мою звезду, жизни, нас будущности…
Я проиграл в этой жизни, проиграл сатане и грохнулся лицом о землю. Все, против чего я боролся, теперь осталось во мне самом. Чем больше стараюсь понять жизнь, тем сильнее запутываюсь в ней. Частица священной веры, которая испытывала меня, угасла, мои думы, мои радости по земле рассыпалась пеплом».
Хасан не сдерживал слез. Слезы, выворачиваясь из сердца горькими стонами, крупными горошинами стекали к уголкам глаз, оттуда падали на грудь и со звоном под ноги: «кап, кап!..». «Только бы они не превратились в пули…»
* * *
На востоке полыхала кроваво-красная заря. Купол неба приходил в необъяснимое движение. В Урочище оборотня установилась тишина, какая обычно бывает перед неожиданной грозой.
Вдруг верхушки священного дуба засияли ярко-красным и зеленым пламенем. В мгновение ока этим сиянием заполнилась вся долина Караг-чая, вершина Священной горы, где хранится небесный меч, Урочище оборотня.
Небесный купол над Урочищем оборотня превратился в один сияющий разноцветными огнями котел. На шапке Священной горы заряжались и в сторону священного дуба табунами неслись молнии. Они летали зигзагами и ударяли в Урочища оборотня, рядом с ручейком. Удары грома, разламывая небеса над священным дубом, раскатывались, эхом отдаваясь по горам и долинам. То красные, то зеленовато-белые сполохи огня зловещими змеями ударялись вокруг дуба. Дуб они обходили, словно мощного громоотвода. Единичные стрелы молний попадали в макушки его раздвоенных ветвей. Они, оставляя на их поверхности синее пламя, с шипением и треском по кроне уносились в могучие корни. Корни дуба под их натиском словно выдергивались из земли, шипели, подпрыгивали, отталкиваясь или притягиваясь к разрядам электрических волн. Дуб стоял могуче, величественно, словно молнии его заряжали своей энергией. Удары вокруг дуба были такими сильными, что в считанные секунды весь участок с дубом-великаном, ручейком превратился в горящий ад. По всей долине реки полыхал огромный пожар.
Хасан увидел, что в палатку, где дрыхли Артист, Волкодав, Пеликан, ударила молния. Из палатки, ревя от боли, крутящимся шаром выкатился Шархан. А палатка вместе с Артистом и Пеликаном в ней вспыхнула в мгновение ока …
Молнии, продолжающие обрушивать свою ярость на поляну со священным дубом, не трогая Хасана. Со временем огненные молнии обрели какой-то синий, зеленый цвет. Электрическая дуга синего, зеленого цвета крутилась вокруг Хасана. А предрассветный восток переливал белым, красным, желтым, зеленым цветами.
Вдруг из дупла священного дуба вырвался язык пламени. Пламя, поднимаясь ввысь по стержню дуба, приобретало формы какого-то живого существа, похожего на Рыжеватую волчицу. Это пламя, сливаясь с разноцветными красками на вершине дуба, засияло ярче солнца. Оно на некоторое время зависло над священным дубом, оторвалось и с воем устремилось в небеса.
Неожиданно наступила тишина. Все вокруг замерло. На вершине Священной горы образовался и всепоглощающим воем на Урочище оборотня двигался смерч – сотни зеленовато-белых молний. Молнии, сбитые в прочный строй, с невиданной силой и скоростью неслись над речной долиной. Как пыль оси смерчи, в небесах сгущались и в страшном вихре неслись и кружились тучи, а вокруг них формировался веер все новых зигзагообразных молний. И из небесной глубины этот веер несся на пятачок земли со священным дубом.
Одно мгновение Хасану почудилось, что на него движется огромная лавина бандитских формирований под предводительством Шархана. Хасан воздел руки к небесам, замолвил: «О Аллах, помоги!» Лицо его было страшно в своей ярости, глаза горели алым пламенем. Из глубины небес к Хасану устремилась Рыжегривая волчица с огненным мечом на боку, за ней, оставляя за собой огромный сноп огня, несся Небесный камень. Хасан вооружился огромным огненным мечом со Священной горы, сел на Рыжегривую волчицу и возгласом «Аллаху Акбар!..» поднял огненного коня на дыбы.
Неожиданно в его угасающем мозгу зажглась мысль об удивительном феномене запрограммированного клеточного самоубийства – апоптозе. Когда клетка становится не нужной или опасной для организма, она убивает себя. В самый критический момент жизнедеятельности химические сигнальные вещества отдают приказ клеткам на самоуничтожение. «И я стал никому не нужным: ни самому себе, ни родным и близким, ни умме, ни Шах-Заде… Значит, я стал опасен себе, обществу, в котором живу. У меня остается один выход – покончить с собой. Но прежде расправлюсь с сатаной Шарханом и его бесами…»
Хасан в правой руке судорожно сжимал рукоятку огненного меча, посланного гуннам небесами. «Идет минута ожидания, – подумал он. – Страх железной рукой стискивает мое сердце, все тело немеет, становится чужим. Мгновение – все это исчезнет в горячке сражения, в звоне оружия, крике ярости, храпе кроваво-красных лошадей. Я о себе перестаю думать…»
Удар, еще удар молний в пятачок земли.… В промежутках между громыхающими, палящими треском молниями – небесными стрелами – до ушей Хасана долетали мольбы Артиста, Пеликана… Он заметил, как Шархана выбросило из горящей палатки, как тот успел броситься в дупло священного дерева и укрыться. В промежутках ударов огнедышащих молний до ушей Хасана обрывками доносились дикие вопли Шархана: «О, священный дуб, защити меня от гнева небес! Тогда я буду твоим вечным рабом… Рабом… Вечным Рабом… Вечным…»
Угасающее сознание Хасана запечатлело, как Артиста и Пеликана на пылающей поляне вместе с горящей палаткой настигла еще одна молния. Они упали, вспыхнули, стали исчезать в чреве красно-голубого пламени…
Хасан обратился к Небесам: «Аллах един, и Мухаммед его пророк на земле. Я свой долг выполнил… Заберите меня…»
В Хасана ударила молния, он рухнул, подкошенный. «Исчадие ада, возмездие свершилось – священный огонь проглотил шайтанов. Настал конец и моим мучениям…» – прошептал Хасан, и перед его глазами все вокруг заволокло алым пламенем…
2009 г.
Мечеть за густой порослью
Хасан в бреду сквозь туман смотрит на сельскую мечеть за густой порослью могучих ясеней, лип в золотистых сережках. На крыше мечети воробьи завели свою любимую песню: шелест крыльев, трели, чириканье, писк, веселое щебетание, – море жизни и жажда продлевать свой птичий род. Хасан, широко раскрыв руки ладонями вверх, с полуоткрытыми глазами лежит в густой зеленой траве, пахнущей мокрой землей, дурманящими запахами. Он с благоговением вслушивался в окружающие звуки и шорохи. Жужжание шмелей, диких ос, пчел, собирающих нектар с луговых трав и разноцветий, приятно нежило его слух, клонило ко сну. Он не заметил, как вдруг задремал.
Перед его глазами стояла Шах-Зада, вся блистающая, улыбающаяся. Его поразили ее глаза! Глаза – зеркало души, такие яркие, живые! Какой блеск, какая сила энергии отражались внутри этих глаз. Словно они не глаза, а две звезды, сверкающие на бледном лике ярким синим пламенем.
– Шах-Зада, покажи мне твое лицо, дай услышать мелодию твоего голоса, – зашептал Хасан в умилении.
Хасану понравилось, как она отозвалась на его похвалу, с какой любовью в глазах оборачивается к нему лицом. В это время с верхушки гор срывается сильный ветер и треплет на ней легкое шелковое платье небесно-голубого цвета. Ветер плотно облепляет его вокруг сильного, как ствол белой березы, тела и между ног. Под одеждой вырисовывается весь контур ее тела – мощное тело сорокалетней женщины с выпуклыми чашеобразными грудями с возвышениями сосцов, от которых материя платья на груди лучами расходится по сторонам. Взгляд его глаз плавно переходит на плоский, объемистый, как медный таз, живот зрелой женщины, крутые бедра, заманивающие линии тела, подчеркивающие его красивые контуры и формы, силу стройных ног. Он был поражен тем, что еле заметные контурные линии, которые начинаются в одной точке…, огибая выпуклости ее стыдливого места… расходятся под животом, плавно переходя к линии разреза торса на пояснице.
Шах-Зада подходит вплотную и всматривается в лицо Хасана с трепетом и восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое от загара и яркое, как луна, лицо. Тяжелые густые волосы множественными ручейками стекают на ее плечи, пронзенные лучами солнца, они струйками медных огней разлетаются по спине.
– Как ты прекрасна, моя Шах-Зада! Богиня каких небес, какой земли породила тебя? – с восхищением вопрошает Хасан.
Шах-Зада в ответ, смущаясь его слов, застенчиво прячет глаза под тенью густых пушистых ресниц. А Хасан не может не видеть, что под ее длинными ресницами и в углах губ затаилась страстная интригующая улыбка, значение которой знает только она одна.
– Да, да, Шах-Зада! Ты прекрасна. Солнце из своих золотистых лучей и огня соткало тебя самой прекраснейшей из женщин! Губы твои рдеют как бутоны раскрытых роз, а за ними виден ряд жемчужных зубов, брови твои натянуты дугами. Ты манишь, притягиваешь мои вожделенные взоры к себе, как магнит. Мои губы жаждут страстным поцелуем ставить печать на твоих губах, – он мягко поцеловал ее влажные губы. – О, боже, какая прелесть! На своих губах чувствую пламень твоих губ, на своих зубах скользкость твоих зубов, на языке сладкую влажность твоего языка.
Она, притупив глаза, застенчиво отворачивается, она сгорает от нетерпения, сияет от счастья. Бирюзовые ее глаза светятся и меркнут, туманясь в блаженной улыбке.
Хасан вгляделся в глаза Шах-Зады так, что она не выдержала этого пламенного взгляда и засмущалась:
– О, не гляди, Хасан, на меня так горячо и не говори такие страстные слова! Этот твой жаждущий взгляд для глаз обычной горянки непривычен, твои слова меня смущают, в смущении немеет мой язык. В таком состоянии он костенеет, не может выговорить ни одного внятного слова, – рдея, молвит любимая. – Милый, мое сердце не выдерживает жажду натиска твоего сердца, оно перестает меня слушаться! Сладость речей твоих меня волнуют, сводит с ума, мой милый! Я ни у кого из мужчин на свете никогда не видела таких живых и манящих глаз, ни у одного влюбленного мужчины на устах, даже в кинофильмах, не видела таких волнующих речей. Прости меня, мой суженый, мой философ, мой устаз, но мне пора… Если кто увидит нас вместе, то не оберешься беды, не спастись нам от сплетен вездесущих завистниц. Она ушла. Ее шаги, отдаляясь, угасали, как трели бубна в долине Рубас-чая. Они исчезали на берегу реки, слизываемые ее волнами, замирали, беззвучно таяли на лесной тропинке, тянущейся вдоль реки. Шах-Зада, уходя, растворялась в дымке красно-сизого тумана, угасала, как звезда на небосклоне, как вечерний луч в сумрачном лесу…
* * *
Хасан любил фруктовые деревья – сколько забот и внимания уделял он небольшому садику, возделанному возле мечети! В былые времена он был заброшенным клочком земли, заросшим крапивой, бузиной, кустами крыжовника, ежевики, кишащий ползучими тварями, грызунами. Но заботливая рука Хасана и время превратили его в цветущий сад. Он посадил, вырастил десятки яблоневых, грушевых, сливовых деревьев, черешню, виноград и кустов розы. Под деревьями посеял семена клевера, который весной цвел и благоухал. Когда в дальнем углу сада разобрал фундамент какого-то старинного строения, оттуда ударил ключ чистейшей холодной воды. Там же он установил родник с небольшим прудом, куда запустил мальков разных рыб. Весной сад наполнялся заливистым пением птиц, словно сюда на состязания собираются все птицы из близлежащего леса. Этот райской уголок был заполнен многоцветной палитрой красок, симфонией музыки, ароматов цветов, излучающих, звучащих, источающих весной.
Хасан лег ничком на зеленую травку, сливаясь с землей, ощущая себя частицей природы, затерянной в уголке земли, припрятанной от бога и цивилизации. Кипение, трепет окружающей жизни, все эти таинственные краски, шорохи сада приводили его в восторг. Это место убаюкивало, усыпляло Хасана. Он чувствовал, что он с этими деревьями и цветами сливается душой и телом, уносится во всепоглощающий поток живой материи. Ему казалось, что струящаяся в его жилах кровь – не кровь, а нектар живой природы. И она, устремляясь по его жилам, возвращается не обратно в его сердце, а, переливаясь в жилы деревьев, рек, трав, цветов, горных вершин, находящихся под ледяными шапками, перегоняется все дальше и дальше, в сердце Матери-Земли. И там, набирая силу и мощь, неведомыми каплями, родниками возвращается в его жилы, оттуда она вливается в жилы могучих гор, равнин, ущелий, холмов.
Так лежал Хасан, запрокинув лицо к небу, наслаждаясь природой, мысленно ныряя в перину облаков. Ему казалось, что он является частью этой необъятной планеты. Жизненная энергия в виде дождя, небесных потоков, рек, зарождающаяся в недрах Вселенной, передается к нему, а от него к другим растительным организмам на земле. Он вместе с окружающей средой является первоосновой всего живого на земле; благодаря их стараниям зачинают, растут лесные массивы, высятся горы, речные долины, безбрежные моря, буйные реки…
Хмель сегодняшнего дня вскружила ему голову. Шатаясь, он встал и пошел в сторону мечети. В это время по узкой тропе, проложенной вдоль огородов за мечетью, прошлась Шах-Зада. Она вполголоса, в наитии, распевала душераздирающую песню. Хасан прислушался. Эти волнующие ноты, мягкие, протяжные, нежные, кристально чистые переливы, растекались по синеватому дневному воздуху, словно круги на водной глади реки, оставляемые выпрыгивающими из нее рыбами. Под конец от этих звуков, как от кругов на воде, в воздухе оставалось тонкое, неуловимое дрожание, похожее на замирающие ноты струн гитары. Если хорошенько прислушаться, даже после того, как исчезали круги на воде, создавалось впечатление, что догорающая нота все еще звучит мелкой дрожью ряби воды. В той песне слышалось биение сердца Шах-Зады, пульс, стоны ее сгорающего от любви сердца. Песня опьянила Хасана, как тончайшие запахи, благоухания, распространяющиеся от здорового тела, пышных волос Шах-Зады. Шаги Шах-Зады удалялись все дальше и дальше, ее голос становился все глуше и нежнее. Она все еще продолжала петь, томно покачивая бедрами, она истомно тянула мелодию, нежную, трепетную, душераздирающую:
То зеленые, то небесные — Глаза твои непокорные, То печальные, то манящие, То брызги дождя колючие…Хасан слушал голос любимой, как зачарованный, ей в такт мило подпевали подружки. Он переступил порог мечети, сел напротив открытого окна, пытаясь не упускать ни одной ноты песни. Песня, как дыхание неба, шелесты, вдохи и выдохи шаловливого ветра, врывалась сквозь полуоткрытые створки окон мечети. Она, нежная, трепетная, сводящая его с ума, пробуждала дремавшие в его душе бесчисленные природные краски, интонации, видения. Ему казалось, что он где-то уже слышал эту песню, близкую и далекую, ясную и неясную. Да, он вспомнил. Он ее часто слышал тогда, когда находился еще в утробе матери, в колыбели, в бесконечной и трудной дороге, собираясь с матерью на дальние сенокосы в урочище Чухра. Мама эту песню тихо и нежно распевала весной, когда от зимней спячки пробуждалась природа, когда пропалывала колосистую рожь от сорняков. Он ее слушал в хлебном поле на спине матери, когда мать, нагибаясь, подбирала колосья хлеба, опавшие во время жатвы. Эта песня, после того как повзрослел, часто звучала в его сердце в бессонные ночи его долгой и тяжелой жизни.
Шах-Зада удалялась по тропинке вдоль берега реки между валунами. Песня душераздирающе звучала, оседая в сердце Хасана нарастающим комом. Вот прозвучали последние аккорды, но их дрожащий звон все продолжает звучать, отзываясь, не угасая в глубинах души. Вдруг кругом все замерло. Лишь река журчит в объятиях лучей солнца, плещет свои волны о круглые речные камни и валуны, оставляя на их краях тонкие, незаметные следы белой и искрящейся пены в такт уходящей в вечность музыки.
* * *
Хасан зажег камин в мечети, взял потрепанный молитвенник и в молитве преклонил колени. Он чувствовал, что с некоторых пор между ним и Аллахом, который все время внимал его мольбам, образовалась какая-то невидимая пропасть, и виной всему тому явилась та самая греховная песня. В гневе на самого себя он склонился еще ниже, пытаясь забыться в молитве.
«О, Аллах, не покидай меня. Обрати на меня свои взоры, помоги мне, ибо томят меня суетные мысли и бесконечные страхи…»
Но тщетно, Аллах не внял его мольбам, сладостные, нежные звуки песни, протяжные и властные, ускользающие от него, все еще звучали в сердце, ввергая его в пучину отчаяния, смятения.
Он встал с колен, на шаркающихся ногах подошел к врезанному в стену мечети шкафу, вставил ключ в замочную скважину, два раза со скрежетом покрутил и распахнул двери шкафа. В лежащих столбиками священных Книгах долго чего-то искал и, наконец, нашел Библию. Ветхий Завет. Открыл ее и начал читать горящими глазами «Песнь песней Соломона»: «… О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста!.. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана!
Запертый сад – сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник:
Рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, каперы с нардами,
Нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами и алой со всякими лучшими ароматами;
Садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана…»
Его охватил трепет: «О, Аллах! Прости и защити меня, грешного». – Захлопнул священную Книгу, запер в шкафу и выскользнул из мечети; шаркающимся шагом прошелся по темному коридору и отправился в садик. Там тоже его сердце не нашло утешения. Не удержался, окольными путями направился за селение, на излюбленную им горку.
С горки он смотрел, как майская луна серебристыми лучами заливает уснувшие в дымчатом тумане поля. Там в горячих думах, молитвах пробыл он до утренней зари…
* * *
Прошло несколько дней, пережитых Хасаном в лихорадочных сновидениях, в жестоких сомнениях и тоске. Его душа даже в самом любимом райском саду не обретала спокойствия. Тщетно искал он в созвучиях окружающей природы ту ноту трепетной песни Шах-Зады, ту жаждущую струю, которая, вырываясь из ее груди, томила его плоть и горячила его кровь.
«За что такое наказание, Великий Аллах, за что?!» – с трепетом вопрошал он, сидя в мечети на корточках.
Иногда, сидя на зеленой траве в своем саду, Хасан мысленно возвращался в прошлую жизнь. Он вспоминал все, что с ним было связано еще с той поры, когда босиком носился по полям, по долине Рубас-чая, словно молодой волчонок. Он любимой, которая от него ни на шаг не отставала, на склонах гор, в полях, засеянных зерном, собирал горные розы, цветы мака, луговые цветы. Помнит каждый час, каждую минуту, каждую секунду, проведенную с Шах-Задой! Помнит ее живые с детства глаза, зрачки ее глаз, которые меняют цвет при малейшем повороте головы, смене настроения, от количества проникающих в их глубину солнечных лучей. Потом ее выдали замуж за другого мужчину, а он уехал учиться в богословский университет в Бухару. Юные годы предстали перед ним, словно вихри ветра, несущиеся с гор в долину реки. Ему казалось, что и тогда, в годы далекой юности, при встрече с Шах-Задой на реке, он испытывал подобный трепет, также пылало его сердце, такие же мурашки бегали по спине, также пьяно кружилась его голова.
Позднее, после десятилетки, дядя отправил его в богословский университет Бухары, чтобы он там отдался учебе, вник в таинственный мир философии, познал премудрости богословия. А после похорон отца дядя отправил его, жалкого, потерянного, сходящего с ума, в самое отдаленное селение района, подальше от злых людских глаз.
А отец давно и тяжело болел. Хасан ночами напролет засиживался с ним, своими смешными рассказами, приключениями отвлекая отца от горьких дум. И вот однажды ночью у изголовья отца у него было видение. Он закричал и, кажется, упал в обморок. Про этот случай он быстро забыл. Потом отец долго скитался по больницам: сначала в районном центре, а потом в городах Дербент, Махачкала.
Все, что тогда увидел его возбужденный ум, до мельчайших подробностей помнит поныне, словно это видение не покидало его. Чувствуя, что скоро ему наступит конец, отец выписался из больницы, вернулся в селение.
На рассвете того судного дня отец еле слышным голосом вызвал сына из соседней комнаты, своей холодеющей рукой стиснул его руку. Отец лицо сына уже не узнавал. Сына узнал по голосу. Он затухающими глазами пристально уставился на сына, пытаясь что-то говорить. Говорить он уже не мог. Хасан увидел блеск дрожащих бусинок в уголках глаз отца. О, эти глаза! Они в последние мгновения жизни пытались сохранить в себе образ сына и тихо уйти… Глаза с этими бусинками на ресницах остались открытыми и после того, как отец ушел. У Хасана не хватило мужества смахнуть их с его ресниц и закрыть глаза. В его памяти эта картина запечатлелась навсегда.
Потеряв отца, Хасан потерял и самого себя, опустела душа, окаменело сердце. Он отвернулся от людей, закрылся.
Через неделю после смерти отца Хасан опять во сне увидел что-то такое, от которого волосы стали дыбом. Ему стало казаться, что он отца видит повсюду: вот он стоит и смотрит на него влюбленными, но строгими глазами, вот они вместе косят сено. Вот отец, уткнувшись в книгу, за рабочим столом просиживает ночь напролет. Вот отец озабоченно ходит по рабочему кабинету, упорно что-то обдумывает, быстрым шагом подходит к столу и мелким разборчивым почерком записывает в рабочий блокнот свои мысли. Он опять что-то вспомнил, перелистал мелко исписанные шершавые листы, прочел, что-то вычеркнул, что-то добавил, задумался, опять стал писать. А в это время Хасан боковым зрением замечает, как кто-то, вооруженный ружьем, с плоской крыши соседнего дома выцеливает отца. Хасан отцу кричит со своей постели, показывая пальцем на окно, а отец не слышит его голоса.
Другой раз Хасан увидел страшный сон, который перевернул его душу. Нет, это был не сон, а какое-то странное галлюцинаторное состояние тела и души: он вроде бы спит, одновременно видит, что не спит. Хасан себя увидел на кладбище и в саване, искал свою могилу. Он недоумевал: «Я не умирал, меня никто не хоронил! Я бы свою смерть, если не увидел, то почувствовал! Зачем на кладбище в ночной мгле ищу свою могилу?!»
К нему из всех могил тянулись костлявые руки стариков, старух, детей… Все они звали его к себе. Хасан в ужасе от одной могильной плиты шарахался к другой, кричал, людей звал на помощь. Среди тянущихся к нему костлявых рук он не увидел рук ни покойного деда, ни бабушки, ни отца, ни матери, ни сына, жены… Он находился на грани умственного помрачения, помешательства. Когда он понял, что от живых людей ему не дождаться помощи, с мольбой обратился к покоящимся на кладбище родным. Вдруг один за другим из своих могил в белых саванах стали выходить дед, бабушка, отец, мать, жена Айханум, сын… Они вокруг Хасана замкнули круг и, читая зикр, закружились. Над их белыми черепами образовался крутящийся столб ветра, который, расширяясь, поднимался выше и выше. Огромные ореховые, грушевые деревья закачались макушками, зашуршали листвой, завертелись в хороводе. Все кладбище с надмогильными плитами закружилось в бешеном ритме. Огромный столб смерча завертелся над кладбищем, кружась между деревьями, срывая листья, сухие ветки, вырывая из корней, разламывая пополам, отбрасывая за пределы кладбища отжившие свой век старые деревья. Столб смерча налетел на Хасана, поднял высоко над кладбищем, унес куда-то… Утром он проснулся у себя в постели. Рядом с ним на полу лежали посох и четки его прадеда, ясновидца Исина.
После этого случая он ночью, как только, чтобы уснуть закроет глаза, к нему из могил тянулись костлявые руки. Он в ужасе вскакивал с постели, выбегал во двор, на улицу, орал на все село.
Хасан от этих непонятных видений, горя – словно потерял разум. Дядя водил его в город к психиатру. Но его видения не прекращались. Ходил в мечеть к мулле Шахбану, к народным целителям. Они тоже не помогли. Однажды ночью, шатаясь от слабости и бессонницы, в бессознательном состоянии он вышел на улицу. Ноги его понесли в темноту, в сторону пропасти под селом. Он стоял на краю глубокого обрыва, готовился к прыжку в бездну. На краю обрыва в последнее мгновение чья-то крепкая рука взметнулась из темноты и подхватила его. Бережливые руки крепко обхватили его за плечи и отвели домой. Когда Хасан пришел в себя, то увидел, что перед ним сидит какой-то странный старец в огромной зеленой чалме и с Кораном в руках. Сказал, что из Бухары. Это он спас его от гибели. Он был весь в зеленой одежде, даже сапоги с изогнутыми клювами вверх были зеленого цвета. Голова, покрытая чалмой, была обрита наголо. Он говорил на арабском языке, в свою речь иногда вставлял и слова на персидском языке. Хасан понял, что он хочет его куда-то отвезти. Ему было все равно, куда, лишь бы его увели подальше от места гибели отца. Вскоре он со странником оказался в Бухаре.
В один из вечеров ученый-арабист привел его в одну из мечетей на окраине Бухары. Сказал, что он научит Хасана жизни, удерживать в равновесии душевное состояние, выходить без ущерба из самых сложных жизненных ситуаций. Восточный мудрец стал учить его медитации, восточной медицине, астрономии, богословской философии, восточной литературе, музыке. Но странные видения во сне не переставали посещать Хасана, сея в душе страх, тревогу, разрушая его.
Суровое воспитание в богословском университете, горечь потери отца, от которого он так и не смог оправиться, мрачный колорит учебного заведения, премудрые и требовательные алимы, муллы, муталлимы, старинная мечеть, где он медитировал, наложили суровую печать на его сердце. Он стал молчаливым, задумчивым, требовательным к себе и другим, одиноким…
В один из дней Хасан сказал ученому-арабисту, что он перестал бояться, больше не придет в эту мечеть, так как его сердце здесь больше ничего нового, утешительного не черпает. Ученый не обиделся, просто изрек удивительную мысль, которая запала в его сердце: «Если не боишься, значит, ты в душе нашел новую тропу учения, следуй по ней, никуда не сворачивай…»
После окончания богословского университета, полученных занятий в старинной мечети, бесконечных медитаций и скитаний по городам, священным местам Средней Азии Хасан постепенно стал понимать, что Восток перевернул его душу. Он изменился, стал совершенно другим человеком: начитанным не по годам, умным, спокойным, рассудительным. Одно время он стал замечать, что к нему за советом, просто пообщаться стали приходить не только его сверстники, но и умудренные жизнью люди. Это был плод восхождения его ума, настоящий триумф, результат его перерождения.
Хасан после окончания богословского университета вновь стал путешествовать. Он скитался по Средней Азии, Ближнему Востоку, Тибету, Индии. Несколько лет подряд пополнял свои знания в буддийских, индийских, тибетских храмах. В какое-то время успешно занимался коммерцией. Но все это было не его. Все это печалило его, нагоняло тоску. Его тянуло в родные края, родная стихия и еще что-то близкое, забытое, томящее душу будоражили, манили его сердце. Хасан вернулся на родину. Из жалости женился на больной, немощной девушке и стал имамом мечети в своем селении…
2009 г.
В его жилах течет кровь Земли
Хасан молился сутками, молился исступленно, самозабвенно. Из мечети теперь он почти не выходил. Он ничего не ел, держался на одной воде. Такое жестокое отношение к себе истощало его жизненные силы, способности мозга, подавлялась воля, слабел дух. Больная фантазия порождала в его мозгу новые картины фанатизма и галлюцинаторных видений. Он над собой часто терял контроль, сбивался с толку от необычайных видений, возникающих в его больном воображении. Когда плоть и кровь бунтовали, он в конвульсиях корчился на полу, беспомощно извивался. Он слезно просил Аллаха, чтобы его поскорей забрал к себе.
Потом на время обретал спокойствие, ясность ума. Наступал период короткой передышки. В минуты душевного спокойствия он понимал, что, принеся себя жертвой на алтарь жены-калеки, убивает себя. Но со стойкостью спартанца преодолевал свои душевные и телесные терзания, приступы беспамятства. Он был похож на слепого орла в клетке с перебитым крылом и вырванными когтями. Борьба со своей тенью, еще более мучительная, обескровливающая, возобновлялась снова и снова. Упорно напрягая все силы, он усмирял бунтующую плоть, а в самые тяжкие минуты стискивал зубы, ревел и стонал, как потерявший в волчью яму вожак волчьей стаи.
Единственными друзьями Хасана, кому полностью он доверял, стали теперь деревья в его райском саду, кусты роз, безмолвные рыбешки в пруду. Одно время он пришел к умозаключению, что Аллах слился в его воображении с благодатной природой, и сам тоже стал частицей Ее благодати.
Наступило время вечернего намаза. Небо над горами было желто-золотистым, с полосками лиловых облаков; выше оно принимало светло-бирюзовый оттенок изумительной прозрачности.
Хасан сидел в своем саду, под яблоневым деревом, наслаждаясь вечерней прохладой, глядя на резвящиеся под самым небосклоном облака. С водоворотов Караг-чая доносились ласковые журчания водных струй, с полей и лугов носились вязкие запахи колосящейся пшеницы, скошенной травы, марева, исходящего с полей, из ущелий гор.
Издалека внезапно порыв ветра принес обрывки женских голосов и заразительный смех. Они звучали не громче шелеста колосьев с пшеничного поля. Но и среди этих голосов Хасан различил голос Шах-Зады. Вся кровь его отхлынула к сердцу, он побледнел, с ужасом в глазах схватился за сердце.
На тропинке вдоль Караг-чая показались фигуры трех сельских красавиц. Подружки были одеты в тонкие летние блузки и юбки до колен, волосы были распущены, они игрались на ветру. Шах-Зада шла посредине, она была одета в очень красивое модное платье с короткими рукавами бирюзового цвета. В пряди ее волос были вплетены золотые нити, бирюзовые бусы в горошину. Ее грудь, спина и обнаженные до плеч руки смотрелись величественно. Бирюзовое шелковое платье с золотистым шелковым шарфом, небрежно наброшенным на покатые плечи, мерно колыхались в ритме движения ее тела.
Проходя мимо Хасана, женщины поздоровались: «Добрый вечер, дядя Хасан, как поживаете?»
Он заглянул на Шах-Заду глазами, жаждущими живой плоти: «Добрый вечер, мои родные! Спасибо, живу, как хлеб жую…»
Хасан крепился, чтобы не оглянуться назад. Он чувствовал, что сердце встрепенулось, потянулось за любимой женщиной. Он испугался, если она не остановится, не обернется назад, его сердце выскочит из груди, расколется на части. Она не обернулась. Сердце ушло из-под его контроля. Какая-то горячка стала жечь ему кровь, мутить рассудок. Много лет он умерщвлял свою плоть, усмирял кровь, теперь они восстали, грозные, беспощадные, отстаивая свои права.
На бедного имама жалко было смотреть. Он лежал, распростершись на зеленой траве. И душевные муки терзали его, озноб тонкой змеей пробегал по спине, в груди пылал пожар. Больно было смотреть в его неподвижные глаза, горящие, словно раскаленные уголья. Одинокий, ни от кого не слыша теплого слова, лежал он в высокой траве, стонал и медленно угасал.
Ему снились кошмары. Перед его взором возникали зеленые леса, высокие горы его детства; отец в своей безмолвной агонии перед смертью; вопрошающие глаза и губы сына, выдавливающие в предсмертной агонии слова: «Отец прости»; плутоватые глаза и манящие жесты Милы; пожухлое лицо жены-калеки; бесстрастные лица священнослужителей, старых и колючих мулл, завистливых муталлимов. И, наконец, перед его взором стал лучезарный лик Шах-Зады, окаймленный сиянием неба, сопровождающий мягким дыханием, страстной музыкой Вселенной, лик горделивой мадонны, бросающей вызов черным силам подземелья и пагубной природной стихии.
Ему грезилось, что он идет один, идет по необъятной иссохшей серой пустыне. Солнце жжет ему голову, жажда – горло. А он идет, все идет в ужасающем безмолвии моря огня, идет упрямо, исступленно, словно голодный, покинутый родней дервиш. И перед ним тянулась все та же пустыня, тот же безграничный, подернутый пурпурной дымкой горизонт. Он не видит уже ничего, кроме этого ровного, неугасающего света. Пытается крикнуть, но голос его глохнет на губах, замирает в раскаленном воздухе, разделяющем небесный купол на разноцветные квадраты.
Хасан очнулся, немощной рукой стал шарить по земле, искать кувшин с водой, нашел, но он был пуст.
Ветер издалека до его ушей доносил звуки песни любимой женщины. Песня наполняла его сердце глубокой печалью:
В твоих глазах лазурный свет, В моих – блуждающий туман, Туман за ожерельем слез. Тихо. Буря. Сердце стонет…Сделав сверхчеловеческое усилие, он приподнялся на дрожащих ногах, оперся о ствол яблоневого дерева. Лучи заходящего солнца ударили ему в глаза. Он прошептал:
Взмахом ресниц рассеяла туманную россыпь, Кистью руки растворила небесную синь, Легким дыханьем губ стопы моей коснулась, С дрожащей ладони смахнула звездную сыпь…Песня любимой все приближалась и приближалась. Она несла ему на своих крыльях ее нежное, томящее сердце. Собрав последние силы, Хасан закричал: «Ша…х-Зада-ааа…»
* * *
Он бессильно повалился на землю, тело его забилось в конвульсиях, оно стало цепенеть, словно застывает живая струя воды на морозе. Биение сердца прервалось и снова возобновилось. Его ноги свело судорогой, он открыл глаза, осмотрелся, словно прощаясь с прошлым; в них все еще искрилась жизнь. Он чувствовал, как предсмертный холод поднимается по его ногам, подступает к паху; тело стало тяжелеть, язык перестал слушаться. Сердце то беспорядочно скакало, то останавливалось, словно прислушиваясь к наступающей на его горло смерти. Предсмертный холодок поднимался выше и выше… Ноги, руки костенели, они в изнеможении вытянулись. Он застыл, теряя контроль над отмирающим телом, но опираясь на энергию еще не угасшего мозга и умолкающего в груди сердца. Вдруг себя увидел у ворот мира Подземных теней. И там, за воротами, его встречает Шах-Зада…
Он с недоумением спросил: – Ты что, меня ждала?! Она со вздохом прошептала: – Ждала, как видишь! А что, со мной свидеться не хотел?! – Где же все это время… ты была? – В обители смрада и лжи. Там, где ты гиене на съедение оставил… – Разве, супруга, я пребывал во лжи?! – Ты, как всегда, уходишь в тень! Во лжи находил свое спасение… Лгал богу, себе, мне… – А разве ты была другой? – Нет, как ты, была слаба — лгала себе, тебе, всем… – Скажи, в чем кроется секрет твоего падения? – В том, что я грешна, перестала верить. Верить себе, тебе, в твою любовь, в твою обитель… – Зачем тогда… ты ушла? Зачем?! – Ты спрашиваешь меня, зачем?! Ушла, чтобы унять твою боль, чтобы не толкнуть тебя в позор!.. – Скажи, любила ли ты его? – До тебя, бог судья, никого! Но ты меня предательски бросил… – Зачем ты вышла замуж за того?.. – Ты, похотник, хотел знать только мое греховное тело, не замечая страждущей души… Да, ушла, чтобы быть с тобой, хотя бы душой. Не поймешь! – Разве такое в жизни бывает? – Нет, не бывает, такое быть может только со мной одной… – Жена, от чего ты умерла? – Теперь не важно, не беда… – Как давно тебя к себе призвал наш Господь? – Господь? Месяца три назад — ты тогда был не в себе, в бреду… – Как здесь меня нашла? – Ждала тебя, я видела твои глаза, даже после, когда умерла. – Кого-либо там… жаль тебе? – Только сынишку и дочь. – Там, на верху, если не ошибаюсь, наступила темная ночь. – Да, я детям отправила одеяла, факелы на ночь. А нам принесу дюжину свеч. скажи, ты вспоминал меня? – Вся жизнь моя была заложена в тебе. – Я звала тебя, звала… А ты?! – Прости, мой путь был долог до тебя. Скажи, ты была счастлива со мной? – О, да, я искренно верила, что, наконец, сбылись мои мечты. Но как горько просчиталась… А ты в жизни все преуспел? – Расправился с врагами, вернул на место Меч, посланный небесами, и Небесный камень… – Когда я умерла, обо мне ты плакал? – Всегда, темными ночами… – Муж мой, до меня, скажи, кто в мире людей называл тебя единственным своим? – Узбечка Мила, Айханум… – А я?! – Ты в моей судьбе особая статья… Теперь ты скажи, не тая, кто со слезами на глазах назвал тебя своей мечтой? – Тот, кто называл меня звездой… – Помню, об этом говорили напролет звездными ночами… Жизнь прошла. О чем жалеешь? – Супруг, не поверишь, ни о чем. – Чего в жизни достичь хотела? – Жить я больше всего хотела. – Ночами тусклыми о чем мечтала? – Мечтала обо всем, но главное, у тебя прощения просить хотела. И тебя простить… – Просить прощения?! За что?! – За то, что тогда струсил… не сумел меня защитить. – За что с себя спросил сурово… Нелегко вспоминать! Мне тошно! Был всеми забыт, всеми брошен… – И на мне лежит тягчайший груз. Печать неизгладимого греха — клеймо убийцы нашего сына… Я тогда… несла его под сердцем… – Что?! Как ты так смогла?! – Прости, иначе не могла — не вынесла черного позора — твоим врагом была запятнана … – Зачем от меня скрывала такое страшное преступление?! Это позор отца, не увидевшего наследника, наш, родовой позор! – О таком грехе, муж, не говорят, после такого греха только умирают… – Скажи, что в жизни всего любила? – Любила все кругом: тебя, моих детей, неродившегося сына, Землю, Солнце, Луну, все звезды… – Что на верху… могла еще оставить? – Мольбы разбитого на части сердца, душу, не востребованную в небеса. Себя в непрочитанных книгах. Вспомни, ведь я была принцессой Заррой, Очи Балой и царицей Саидой… – Помню, теперь помолчим, устал. – И я устала. Возьми факел, спустимся вниз, в мои покои, а то меня терзает боль в груди… – А там…опять рассветает заря. – А в нашем подземелье воцарилась вечная мгла. – Ты грустила здесь, без меня, беспробудными ночами? – О, да! Еще как грустила! Теперь кратко отвечаю: «Нет!» – Мне тоже, признаюсь, больше ни о ком и ни о чем грустить… Глянь на безмолвные холмы, как на них туман садится. – Метелицы-вихри воют во мгле, снег саваном на землю ложится. – Мне холодно, я коченею. – Я тоже, видишь, не у печи, накинь мне на плечи плед. – У меня болят суставы ног, коченеют затекшие кисти рук… – Это тебя, наконец, достала смерть… Смирись. Пушком пошел погребальный снег на нашу молчаливую обитель… Хасан, задыхаясь, сквозь спазмы: – Жаль, как мало осталось тех, с кем хочешь там… проститься… Жена, горько улыбаясь, в упрек: – Как сегодня не хватает тех, с кем бы мне хотелось замолчать… Тех, с кем хотелось уединиться… и в объятиях смерти умирать … – Жена, каленым мечом поразила, наповал бьешь не в бровь, а в правый глаз… – Выходит, заслужил. Я тебя звала, молила бога – глухая тишина. Я, супруг, в своей застывшей постели с мольбою ждала твоего прихода. – Как вижу, ты дождалась, теперь я рядом. Возлежим? – Да, в обнимку и вечным сном… Жаль, мало тех, кому доверяешь то, что даже от себя скрываешь… – Прижмись ко мне, я задыхаюсь, искорки в груди затухают… – А меня покинула падшая душа. Что за тело, которое обнимаешь, если оно мертво, а душа холодна!.. Теперь о главном: на, прими клинок, пронзай его острием мою грудь, — избавь от страданий, вечных мук мать-отступницу и убийцу сына… Хасан своей дрожащей рукой принял из ее рук булатный нож: – Пусть за смерть простит меня Господь и отпустит нам грехи… – Убей меня, не надо тратить жизнь на того, кто тобой не дорожил. Убей меня, не надо тратить слез на того, кто их не замечал… – Ты со мной поступаешь жестоко! – Другого внимания не заслужил. – Тогда, прошу я, «благодарно» прими то, чего с нетерпением все ждала!.. Резкий взмах руки. Блеск клинка. Стон Шах-Зады. Признательные глаза: – Лучше быть убитой трижды праведным мусульманином, чем воскреситься с клеймом: «Согрешившая с ублюдком». Мягкий голос, поданный с небес: – Аминь! Ты истину глаголешь.В обители Шах-Зады послышался глухой стон пораженной в грудь женщины, она заполнилась рыданиями мужчины, раздался резкий звон падающего под ноги клинка…
Погасли свечи…
Со стороны Урочища оборотня вырвался вой одинокой страждущей волчицы. Этот вой, набирая высоту, постепенно переходил в душераздирающие вопли. Вой, отдаваясь гулким эхом в лесном массиве, приближался к священному дубу-великану. У дупла дуба-великана вой превратился в скребущий душу плач. Угасающее сознание Хасана воспринимало этот плач так, будто рядом Шах-Зада оплакивает кого-то. Не его ли?.. У него застывала кровь в жилах, он терял нить мыслей…
Волчий вой нагонял на лесных обитателей жуткий страх. От этого ужасного воя, от которого стынет кровь, все живые твари попрятались в своих норах. Глухие отзвуки, как из глубины подземелья, замирали в угасающем сознании Хасана. И тут волчий вой перешел в горестный стон, потом в охи, ахи… и в скулеж. В этом душераздирающем плаче волчицы слышалась боль, утрата, стон страждущей матери-волчицы.
«Оуу-оуу-ааа-ааа! Тяв-тяв-тяв!» – впервые в жизни к горестному вою одинокой волчицы присоединились визгливый плач, прерывистое тявканье ее волчат. И эти дикие, полные тоски рыдания волчицы и ее детенышей в темной ночи сочетались с треском ломающихся и падающих с вышины ветвей священного дуба обломанных сучьев и тяжкими его вздохами. Сорвавшийся с гор ветер разносил эту жуткую многоголосицу далеко вниз, по долине Караг-чая.
2009 г.

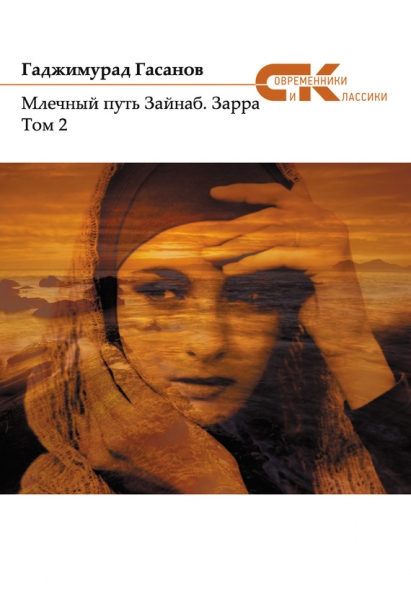
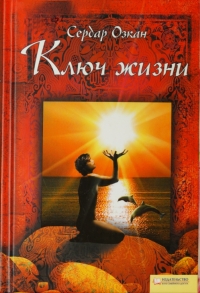








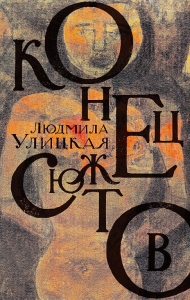
Комментарии к книге «Зарра. Том 2», Гаджимурад Рамазанович Гасанов
Всего 0 комментариев