О. И. Грабарь Хранитель тайн
© Грабарь О. И., текст, 2013.
© ООО “КМК”, 2013.
* * *
Старый стол
Дописав последнюю страницу, Андрей Платонович Горелов отодвинул в сторону стопку бумаги и встал из-за стола.
Письменный стол был добротный, дубовый, на резных ножках, с выдвижными ящиками. Лет двести ему, поди. Такой еще столько же простоит, а то и больше, даже зеленое сукно сохранилось.
За этим столом когда-то дед-фабрикант купчие подписывал и отец-языковед трудился.
Горелов любит работать за письменным столом.
Пишущую машинку и прочую технику он держит в другой комнате, но делать черновые наброски и отшлифовывать фразы предпочитает сидя за столом. А как приятно размышлять, время от времени поглядывая на разные мелкие предметы и сувениры прошлых лет.
Много тайн и интересных историй хранит старый письменный стол. Тут и фамильные фотографии: мужчины с усами и аккуратно подстрижен-ными бородками в закрытых сюртуках и белых стоячих воротничках, и дамы в огромных шляпах с перьями. Более поздние и менее торжественные снимки: отец и мать в Крыму с маленьким Андрюшей. Школьные годы, знакомые разных лет. Война, боевые друзья, поездки за границу. Многих давно уже нет в живых.
Все фотографии разложены по конвертам. Горелов никогда не любил семейные альбомы.
В верхнем правом ящике под конвертами лежит пачка писем от гимназической подруги матери Аделины Паппе. В них бесхитростная история ее первой любви к молодому поручику Добровольскому, погибшему в 1916 году под Верденом. Письма перевязаны голубой ленточкой, пожелтевшей от времени. Горелов не отличается сентиментальностью и обычно выбрасывает из стола все лишнее, но почему-то на эти, никому не нужные письма рука у него не поднимается. Так и перекочевывают они вместе со столом при каждом его перемещении.
Отдельной фотографии поручика не сохранилось. На групповом снимке новобранцев он, вытянувшись в струнку, стоит рядом с маминым кузеном, Кокой Альтуховым, расстрелянным большевиками во время красного террора. «Повезло поручику!» – не раз ловил себя Горелов на невеселой мысли. Впрочем, развивать подобные темы ему не свойственно.
Взгляд Горелова скользит по столу, задерживаясь на отдельных предметах.
Вот резная металлическая коробочка с крышкой, выполненная в виде старинного фолианта. Отец привез ее когда-то из Англии. На крышке выгравирована надпись: «Запатентовано Леонардтом и Ко, Бирмингем». В таких коробочках продавали в то время перья для прививки оспы.
Еще один сувенир прошлого века – на этот раз бразильский – маленькая, изящная пепельница с узором из крыльев бабочек.
А вот сувенир позднего, уже послевоенного времени: металлический стержень с расширяющимся концом и небольшим углублением в нем. Его привез из Северной Кореи знакомый переводчик.
– Что это? – полюбопытствовал Горелов.
– Ложка, – ответил переводчик.
– Но ведь ею же ничего нельзя зачерпнуть!
– Когда им есть, что есть, они едят такими ложками, – веско пояснил переводчик.
Рядом с ложкой на столе лежит красивый камушек – память о посещении Гореловым знаменитого Лох-Несского озера в Шотландии, где, по поверьям, обитает чудовище. Как все просвещенные люди, Горелов не верит в чудеса, но камушек с озера все-таки на счастье прихватил.
Отец
На письменном столе у Горелова среди прочих, милых его сердцу предметов, неизменно красуется рамочка с забавной виньеткой в стиле арнуво, куда вставлена фотография только что поженившихся в четырнадцатом году родителей – любительский снимок на скамейке в Адлере: молодой супруг с модной тростью в руке и юная выпускница гимназии, вспорхнувшая на спинку скамьи.
Начавшаяся война помешала молодым совершить свадебное путешествие за границу. Платон Ермолаевич Горелов преподавал в то время словесность в гимназии, и война прошла от него стороной. Как-то так случалось и в дальнейшей жизни Платона Ермолаевича, что катаклизмы, сотрясавшие общество, его миновали. Во время Отечественной войны он был уже маститым профессором и вместе с академическим Институтом филологии благополучно отбыл в места, далекие от боевых действий. Его единственный сын Андрей, ушедший на фронт добровольцем, вернулся домой живым.
Когда в пятидесятом году на языковедов обрушилась кампания против лингвистической теории Марра, которому вменяли в вину извращение и вульгаризацию марксизма, Платон Ермолаевич трудился над большим словарем устойчивых оборотов речи в русском языке, что позволило ему миновать опасные рифы кампании и избежать ее неприятных последствий.
В повседневной жизни Платону Ермолаевичу также была свойственна отстраненность от людей и событий. Обычно он высказывал свои суждения в мягкой, полувопросительной манере, не пытаясь склонить на свою сторону собеседника, и производил впечатление внутренне не уверенного в себе человека. В действительности же Платон Ермолаевич придерживался твердых убеждений и правил, от которых никогда не отступал. Он всю жизнь занимался любимым делом и преуспел на этом пути. Его труды в области русской лексики были общепризнанны, научная репутация безупречна. Он мог бы достигнуть еще больших высот, например стать академиком, но был лишен честолюбия и старался держаться подальше от всякой публичности.
В семейной жизни Платон Ермолаевич также избегал внешних проявлений чувств – уменьшительно-ласкательных прозвищ или неожиданных возгласов, понятных лишь самым близким людям. Жену, Наталью Сергеевну, или Талю, он искренне любил, но если и отдавал должное ее достоинствам, то делал это в весьма своеобразной форме.
– Знаешь, Андрюша, – заметил он как-то раз, – современные барышни так и пышут здоровьем. Запросто могут тебя веслом огреть, и увернуться не успеешь. А вот Таля всегда была воздушная, и походка у нее – летящая…
Горелов не мог не согласиться с отцом. К своему огорчению, он не ощущал внутренней близости с матерью. При малейшем поползновении с его стороны поверить ей что-либо сокровенное, она ускользала от сближения. Позднее, начитавшись умных книг, Горелов пришел к заключению об эмоциональном несовпадении их темпераментов и прекратил свои попытки.
Отца он понимал лучше, считая, что тот способен на глубокие чувства, но сознательно ограничивает себя в этой сфере. «Так ему удобнее предаваться любимому занятию и не отвлекаться на пустяки», – рассудил Горелов. Не испытывая на себе родительского давления, он рано научился принимать решения, не полагаясь на помощь взрослых. Тем не менее, он охотно прислушивался к мнению отца, которое тот высказывал в своей обычной ненавязчивой манере, предоставляя сыну самому делать окончательный вывод.
Горелову легко давались иностранные языки. По-немецки он начал свободно говорить еще в раннем детстве, посещая частную дошкольную группу. В школе переключился на французский.
Когда в сороковом году Горелов окончил школу, он объявил, что будет поступать в Институт иностранных языков.
– Прекрасная мысль, – сказал Платон Ермолаевич. – И самый легкий путь, какой только можно себе представить. Будешь повторять то, чему ты давно уже научился.
Горелова задели эти слова. Ни слова не говоря домашним, он подал документы в Московский институт истории, философии и литературы (МИФЛИ), образовавшийся в свое время на базе филологического факультета МГУ, и, сдав экзамены, поступил на отделение немецкого языка и литературы.
– Значит, ты так решил? – спросил Платон Ермолаевич словно невзначай. И, не дожидаясь ответа, добавил: – Ну что ж, одним лингвистом в семье станет больше.
Но судьба распорядилась иначе. В сорок первом году началась война, и Горелов ушел на фронт переводчиком немецкого языка. Вернувшись домой, он не стал восстанавливаться в МИФЛИ. Тяга к живому разговорному языку пересилила, и он решил продолжить образование на переводческом факультете Института иностранных языков.
– Я полагаю, ты поступил правильно, – заметил Платон Ермолаевич. – Теперь сможешь освоить и английский язык. За ним будущее.
Горелов с блеском окончил институт, получив специальность синхронного переводчика по двум языкам – немецкому и английскому Он мог бы продолжить обучение в аспирантуре, но предпочел живую работу – сопровождение выезжающих за границу специалистов и туристов. Это позволило ему побывать во многих странах, что было в то время совсем не просто, и значительно расширить свой кругозор. В одной из поездок Горелов познакомился с миловидной москвичкой Аней и, вернувшись, решил начать самостоятельную жизнь.
– Я, наверное, перееду жить к Ане, – сказал он родителям.
– Вполне разумное решение, – поддержал его Платон Ермолаевич, и на этом разговор закончился.
* * *
Платону Ермолаевичу, как каждому человеку, были присущи некоторые слабости. Он любил включать в повседневную речь неожиданные словесные обороты, вроде «мозги набекрень», «рукой подать» «ума не приложу» и тому подобное, а также отдельные, вышедшие из употребления словечки: давеча, намедни, запамятовал, помилуйте. Не отказывал себе в удовольствии и порассуждать о происхождении слов, что неизменно вызывало улыбки домашних.
Классиков литературы в разговоре называл только по имени-отчеству: Александр Сергеевич, Николай Васильевич, Антон Павлович. Достоевского не любил за «чудовищное», как он выражался, «надругательство над русским языком». Толстых признавал лишь двух: Льва Николаевича и Алексея Константиновича. Из прозаиков двадцатого века выделял Бунина и Набокова.
Когда Платона Ермолаевича спрашивали, не назвал ли он сына в честь писателя Андрея Платонова, шутливо отмахивался:
– Помилуйте, что вы! Мне всегда нравилось имя Андрей, а Платонов вовсе не принадлежит к числу моих любимых писателей, хотя я ценю его раннюю прозу.
Дальше этого разговоры обычно не шли.
В семье царили мир и благоденствие.
* * *
Обычно Горелов предупреждал отца, если собирался его навестить. Платон Ермолаевич не любил неожиданных визитов. А тут случилась отложенная было командировка, и Горелов, вернувшись, решил: дай, зайду!
Выйдя из лифта, он обнаружил, что дверь в квартиру не заперта, а лишь притворена неплотно. Почему-то он сразу почувствовал недоброе. Отец стоял в передней, небрежно одетый, без очков, и, казалось, не видел ничего вокруг.
– Где мама? – не здороваясь, крикнул Горелов.
– Мамы больше нет, она улетела, – тихо ответил отец и добавил: – Талю увезли.
Все знали, что у матери слабое сердце, но ничто, казалось, не предвещало…
Платон Ермолаевич подался вперед, у него задрожали плечи. Горелов ни разу в жизни не видел отца плачущим и растерялся.
– Держись, папа, мы будем вместе, я тебя не оставлю, – забормотал он торопливо и тут же осекся. – Боже мой, что за несусветную чушь я несу!
– И то правда, Андрюша. «Чушь несусветная» – какой интересный фразеологический оборот! Между прочим, ты знаешь, что Даль производит слово «чушь» от «чужой»? А еще бывает «чушь собачья»!
Горелов взглянул на отца и тот слабо улыбнулся. «Справится, – подумал Горелов. – Лингвистика – надежная опора».
– Папа, хочешь, я на время перееду к тебе? – предложил он.
– Не выдумывай, Андрюша. Молодая жена не должна оставаться дома одна. И. потом мне тоже необходимо личное пространство.
* * *
Прошло некоторое время, и однажды, придя к отцу, Горелов обнаружил в доме женщину неопределенного возраста, которую принял за приходящую уборщицу.
– Это Капитолина Ивановна, а, проще говоря, тетя Капа из Подольска, мамина дальняя родственница, – сказал отец. – Помнишь, она к нам приезжала, когда ты был маленький, и привозила пироги с брусникой.
Горелов ни за что не узнал бы тетю Капу, но ему запомнилось великое множество узелков разного размера, неизменно сопровождавшее каждый ее приезд.
– Какой большой вырос! – воскликнула тетя Капа и улыбнулась, обнажив металлическую зубную коронку в правом углу рта. У нее было простое круглое лицо с зачесанными назад волосами и добрая улыбка.
Тетя Капа любила чистоту, и с ее появлением в квартире стало постоянно пахнуть кипяченым бельем и простым мылом.
Как-то раз Платон Ермолаевич, неловко откашлявшись, произнес:
– Андрюша, мы с тетей Капой… Ну, понимаешь, ей неудобно здесь просто так находиться. Одним словом, мне пришлось ее у себя прописать.
– Поздравляю, папа!
– Ты ничего такого не думай…
– Я и не думаю, это твоя жизнь, папа.
От внимания Горелова не ускользнуло, что вещи тети Капы давно уже водворились в спальне.
Прошло еще некоторое время, и отца не стало.
«Теперь она здесь полновластная хозяйка», – с досадой думал Горелов. Он с тоской глядел на длинные ряды книжных полок, старинную люстру и письменный стол.
Вскоре раздался телефонный звонок, и Горелов услышал голос тети Капы.
– Андрюша, ты не мог бы зайти в воскресенье? – спросила она.
Горелову очень не хотелось идти, но он не нашел в себе сил отказаться.
Дверь в квартиру была приоткрыта, и в передней на стуле сидела тетя Капа в окружении множества узелков. На голове у нее был повязан платок, в руках она держала дорожную сумку.
– Вы куда-то собрались? – спросил Горелов, чтобы что-нибудь сказать.
– В Подольск.
– Временно? – не удержался Горелов. Ему потом долго еще было стыдно за этот возглас.
Тетя Капа внимательно на него посмотрела.
– Нет, Андрюша, насовсем. Мне тут больше делать нечего. А в Подольске какой-никакой сад, огород, куры. Племянник из армии вернулся. Вот ключи от квартиры, возьми.
Горелов не нашелся, что на это ответить.
– Может быть, вызвать такси? – спросил он.
– Не нужно, сейчас племянник на «Ниве» подъедет, все заберет. Присядь, Андрюша, давай помолчим на дорожку.
* * *
Тетя Капа с племянником давно уехали, а Горелов все еще стоял с ключами от квартиры в руках. Он чувствовал, что сказал или сделал что-то не так, но не мог до конца понять, что именно. Мысли его, как обычно в таких случаях, обратились к войне. Почему-то именно в событиях тех лет Горелов находил для себя ответы на многие вопросы. Тогда все казалось простым и ясным.
Как я сделался военным
До войны Горелов понятия не имел о том, что такое армия. После школы сразу же поступил в институт и ушел на фронт добровольцем с третьего курса.
Было это в сорок третьем году в Свердловске, где институт в то время находился в эвакуации. Там как раз укомплектовывалась 70-я армия, которую предполагалось бросить на Центральный фронт. Армия только что прибыла с Дальнего Востока, и в соединениях не было переводчиков. А Горелов знал немецкий язык с детства. И вот, не имея законченного ни гражданского, ни военного образования, он, минуя военкомат, угодил прямо на войну, получив назначение на должность переводчика стрелкового полка. В Свердловске он едва успел впрыгнуть в состав, отправлявшийся на фронт.
По прибытии в штаб армии Горелову выдали обмундирование: гимнастерку, галифе, пилотку, обмотки и башмаки.
– Что делать с паспортом? – спросил он у армейского писаря.
– Разберетесь в полку, – коротко бросил тот.
Но полковой писарь только руками развел.
– Указаний на этот счет не имеем, – сказал он. – Наше дело – выдать удостоверение.
Так Горелов пронес свой гражданский паспорт через всю войну, а когда демобилизовался, получил новый. «Почему я вовремя не избавился от старого? – не раз укорял себя Горелов, но выбросить его не решался. – Если найдут, с нашими порядками еще шпионаж пришьют, – рассуждал он. – Засуну-ка я его куда-нибудь подальше».
И лежат с тех пор у Горелова в письменном столе два паспорта.
* * *
Смешная история вышла у Горелова с погонами. Поскольку он попал на фронт, минуя военкомат, воинского звания ему, естественно, никто присвоить не успел. Окажись он в пехоте – стал бы рядовым. Другое дело переводчик. Согласно уставу, полковой переводчик – должность лейтенантская, но офицерское звание командир полка присваивать не имеет права. Как быть? Поразмыслив, постановили: пусть переводчик носит пока офицерские погоны без звездочек, а там видно будет.
Первое время Горелов чувствовал себя как-то неловко в таких погонах, но вскоре заметил, что они вызывают даже некоторое уважение: а вдруг он какой-нибудь закамуфлированный разведчик?
Позднее, когда его перевели из полка в стрелковый корпус, Горелов извлек определенную пользу из этого обстоятельства. Он сумел уклониться от строевых занятий для рядовых как занимающий в корпусе капитанскую должность, а занятия для офицерского состава не посещал, поскольку, не имея вообще никакого звания, числился рядовым.
И еще много всего удивительного постиг Горелов в армии. Взять хотя бы солдат на войне. Как по-разному вели они себя в одних и тех же условиях. Позади марш-бросок, люди устали до одури. Растянуться бы на земле и ни о чем не думать. Но не все! Глядишь, кто-то на ровном месте дровишек раздобыл, у него уже огонек полыхает и в котелке что-то булькает. Горелов стал замечать: у такого и подворотничок пришит, и закурить всегда найдется.
Сначала Горелова настораживали разговоры разведчиков, казавшиеся ему крамольными.
– Чего разделся? Сейчас немцы засекут, а потом «Юнкерса» прилетят – одна пыль от нас останется!
Или:
– Вон «месерок» полетел – лучший истребитель в мире!
– Фриц грамотно воюет – в шесть рядов проволокой обмотался.
Со временем Горелов понял: не отдавая должное противнику, нельзя его одолеть.
Уважение было обоюдным. В дневнике одного немецкого солдата, убитого во время боев на Курской дуге, он нашел такие строчки: «Отступаем под обстрелом тяжелой артиллерий и бомбардировщиков. Противник безукоризненно ведет войну, господствует на земле и в воздухе и численно нас превосходит».
Горелов заметил, что чем ближе к передовой, тем быстрее принимаются решения. Если в штабе полка на обдумывание операции требуются часы, то при захвате языка исход дела решают минуты, ну а во время обстрела и секунды хватает, чтобы увернуться от осколка.
К большим начальникам в разведвзводе относились иронически.
– Тут к нам в полк один генерал приезжал, из тех, что воюют по глобусу, инспектировал боевые порядки. Протащить бы его разок по местности – забудет, как проверять!
Постепенно Горелов стал хорошо обстрелянным солдатом, постигшим основные армейские правила: не перечить начальству, не задавать вопросов, ничему не удивляться.
И еще он твердо усвоил: никогда не следует лезть на рожон.
Ему вспомнился такой случай.
После череды безрезультатных попыток разведчикам наконец улыбнулась удача, и был захвачен долгожданный «язык». Героем операции оказался сержант Фадин, благодаря личной храбрости которого поисковой группе удалось избежать потерь. Фадина тут же представили к награждению орденом «Боевого красного знамени».
Неожиданно для Горелова он также был представлен к награде, правда, значительно более скромной – медали «За боевые заслуги». Впрочем, и эту награду Горелов счел незаслуженной. «Что я такого сделал? – рассуждал он. – Лежал на нейтралке и ждал, пока “языка” схватят». Но возражать против награждения, естественно, не стал.
И вот Горелов отправился вместе с Фадиным в штаб армии за получением награды. Там их представили моложавому генералу с золотыми погонами.
– Позвать сюда полковника! – скомандовал генерал.
– Какого, товарищ генерал-майор?
– Который быстрее бегает! И пусть фотографа прихватит.
Последовала церемония награждения, после чего Горелова и Фадина сфотографировали для армейской газеты. На снимке они получились пучеглазыми и слегка оторопевшими, зато награды вышли на славу.
К сожалению, сержант Фадин недолго носил свой орден. Его обуяла гордыня, и он стал напрашиваться в очередной поиск.
– Ты не рвись, парень, дождись своей очереди, – увещевали его «старички». – Скоро наступление, глядишь, и за языком ходить не потребуется.
Куда там! Фадин решил, что он неуязвим. Ну, и получил пулю в живот. Так и остался лежать на нейтралке, даже унести не успели.
* * *
Почему-то во время обстрела больше всего хотелось укрыть голову. Доходило до смешного.
Один полковник рассказывал как во время обороны на Курской дуге его шофер сбился с дороги и едва не угодил в немецкий штаб. По ним шквальный огонь открыли, но, слава богу, обошлось – успели вовремя развернуться. Только когда уже до своих добрались, полковник сообразил, что все еще держится ладонью за щеку – голову прикрывает.
* * *
Службу в армии Горелов вспоминал с удовольствием, отчасти потому, что ощущал тогда полную безответственность. Тебе сказали, что нужно делать, и ты делаешь, но твой мозг никто не контролирует. Ты свободен от повседневной суеты и можешь думать, о чем пожелаешь, не ограничивая себя во времени.
Главное, не говорить лишнего и не вступать с собеседником в спор. Для поддержания разговора достаточно изредка кивать головой, сопровождая это одобрительным или, напротив, негодующим возгласом, в зависимости от хода беседы. Горелов так хорошо овладел этим приемом, что и потом, расставшись с армией, нередко к нему прибегал. Более того, он заслужил репутацию человека, умеющего слушать.
Однополчане
Горелов никогда особенно не задумывался над тем, что значит для него слово «однополчане». Ну, есть они, и есть. Раз он воевал, значит были и однополчане.
Когда закончилась война, хотелось поскорее все забыть. Каждый, как мог, налаживал свою жизнь. Потом настала пора встреч. Первое время все чувствовали себя на них неловко, присматривались друг к другу. Слишком далеко разошлись их пути. Но отчуждение быстро прошло, память о войне оказалась сильнее.
С годами кружок однополчан становился все более тесным. После официальной встречи в Парке культуры все вместе шли к кому-нибудь домой.
Среди однополчан, как и во время войны, не принято было задавать лишних вопросов: кто чем интересуется, за кого голосует на выборах, как продвигается по служебной лестнице. Но если требовалась помощь или поддержка, надежнее однополчан не было никого.
Короткий телефонный разговор:
– Иван, тут такое дело, у меня с гаражом проблемы…
– Потом объяснишь. Говори, когда и куда нужно приехать. Понял. Полковника прихватить? С погонами или без погон? Ровно в 18.00 будем.
Однополчанин ни на секунду не задумывался, кто прав, кто виноват. Он будет стоять за тебя горой в любом случае. Но если ты совершил подлость на войне – прощения не будет.
Горелову запомнился один такой эпизод.
В обороне на Курской дуге, где стоял полк, служили два связиста – Петька Сорокин и Лешка Катков. Связь приходилось тянуть ползком, в трудных условиях, отдельные участки местности простреливались.
Действовали по обстоятельствам: один ползет, а другой держит связь с командованием по рации. Между ребятами был негласный договор – опасный участок проходить строго по очереди. До поры до времени все так и шло. Но однажды – вот незадача! – ползти пришла очередь Лешке, но у Петьки села рация. Как быть?
– Лешка, одолжи свою, – предлагает Петька.
– Мы так не договаривались, – заявляет Лешка. – Раз у тебя рация села, будешь тянуть связь.
– Сукин ты сын, – отвечает Петька, но деваться ему некуда. Пришлось ползти.
Ну и что? Получил тяжелое осколочное ранение в бедро и инвалидность на всю жизнь. Спасибо, ногу не отрезали. А Лешку судьба хранила – так и провоевал без единой царапины. Только на войне ничего не скроешь, и в полку все стало известно. Лешка потом долго оправдывался, говорил, что, мол, для общего дела старался. Но почему-то на встречи однополчан его не зовут. Такое вот наказание.
* * *
Как-то раз Горелов увидел на встрече незнакомого человека с крупным, выразительным лицом. Несмотря на мужественный облик, в его взгляде сквозила усталость.
Оказалось, что человек этот – бывший дивизионный хирург, попавший в свое время в неприятную историю. У него в медсанбате была зазноба, которую он однажды застал в постели с капитаном. Что между ними произошло, никто толком не знал, но капитан был убит, а хирург попал под трибунал и угодил в шрафбат и после тяжелого ранения был демобилизован.
Горелов заметил, что однополчане относятся к хирургу уважительно и называют его по имени-отчеству. «Сколько жизней спас!» – говорили они. Бросалась в глаза еще одна любопытная деталь. На встрече присутствовала молодая женщина, служившая секретарем в трибунале как раз в то время, когда был вынесен приговор хирургу. Казалось бы, несовместимые персонажи: с одной стороны преступник, с другой – карающий меч. Глядя на то, как мирно беседуют эти двое, Горелов в который раз подумал: «Да, мощная сцепка – однополчане!»
* * *
По окончании застолья мужчины обычно дружно направлялись на лестничную площадку. Это называлось «пойти покурить». На самом деле многие давно уже бросили курить, другие и вовсе не начинали, но всем хотелось выйти из-за стола и расправить плечи. Столпившись у мусоропровода, однополчане могли без помех и от души, с матерком поболтать о чем угодно, в сотый раз слушая одни и те же истории.
– Андрюха, расскажи, как двое связь тянули, – начинает ветеран Леша.
– Когда?
– Ну, когда у одного полголовы на хрен снесло!
– Скажешь тоже, полголовы. Его только слегка царапнуло. Как же он без головы тянуть бы стал?
– Ну, если царапнуло, то и слушать неинтересно. Меня вон сколько раз царапало, я же тянул!
– Не про тебя речь, мать твою, дело в увязке слов!
– Мне ведь что обидно, – встревает ветеран Паша. – Когда Петренко убило, я его автомат новенький хотел себе забрать, а мне трое суток. Ведь автомат-то ему был совсем не нужен!
– Слыхали, ребята? Пятьдесят лет прошло, а ему до сих пор обидно!
Все дружно хохочут. И много еще разных историй можно было услышать возле мусоропровода.
На грани анекдота и парадокса
Горелов не помнил, когда начал сочинять. Сначала ему просто нравилось описывать смешные и неожиданные случаи из военного быта, а потом потянулись и другие сюжеты, стали оживать забытые истории.
Однажды Горелов рискнул послать в один из толстых журналов несколько рассказов из жизни солдат в обороне на Курской дуге и к своему удивлению сразу получил положительный ответ с просьбой прислать что-нибудь еще, ввиду приближающейся юбилейной даты. Осмелев, он направил в журнал и юмористические сценки из фронтовой жизни, озаглавив их «Зарисовки с натуры». Горелов приготовился к серьезной критике и даже разносу, но редакция журнала его озадачила. Ему сообщили, что зарисовки не могут быть приняты, поскольку война изображена в них «на грани анекдота и парадокса», и у читателя может сложиться превратное представление о военных действиях, а, следовательно, и о том, что привело наш народ к победе.
Горелов внимательно перечитал «Зарисовки».
Ни минуты покоя
Сцены в одном действии. Место действия – штаб полка в обороне на Курской дуге.
Действующие лица:
Кутейников, командир полка, подполковник. Краснолицый, коренастый, кряжистый. Голос зычный. Любит пошуметь, но быстро отходит. Подчиненных материт беззлобно, скорее для острастки.
Мотыга, его ординарец, ефрейтор. Внешность неприметная, рябоват. Говор южный, нечто среднее между плохим русским и плохим украинским. Знает цену себе и своему положению. Быстро наглеет, но, если требуется, меняет тактику.
Кочкин, помком роты, лейтенант. Суетлив и говорлив. В полку недавно, старается почаще наведываться в штаб.
Вережа, рядовой. Сопровождает лейтенанта в штаб. Немногословен.
Адъютант командира полка, старший лейтенант. Лицо эпизодическое.
На сцене внутренность большого уродливого блиндажа, обшитого грубо сколоченными досками. Блиндаж вытянут в длину и разделен на две части перегородкой. В центре печка и подобие стола. Справа широкая скамья, на ней куча шинелей, набросанных одна на другую. Слева еще скамья и две огромные немецкие канистры с надписью «Achtung!» и изображением костей и черепа. Вход в блиндаж из левой кулисы по ступенькам вниз. Утро, но в блиндаже полумрак. Вдалеке иногда погромыхивает. Мотыга суетится у печки.
Голос Кочкина из-за кулисы: «Ну вот, прибыли. Ты, Вережа, тут пока перекури». Голос Вережи: «Есть перекурить!»
Кочкин (спускаясь по ступенькам). Разрешите войти! (Никто не отвечает, Кочкин видит движущуюся фигуру Могыги со спины, оправляет гимнастерку и берет под козырек). Товарищ подполковник! С донесением от командира четвертой роты лейтенант Кочкин. (Никто не отвечает).
Кочкин (громко). Есть кто?
Мотыга (поворачиваясь лицом к сцене). Тихо, тихо. Нема пидполковника.
Кочкин. Тьфу, это ты, Мотыга. А где начальство? (Садится на скамью).
Мотыга. Валерьян Павлович боевые порядки проверяють.
Кочкин. И надолго?
Мотыга. Нам про то не докладывають. (Снова поворачивается к печке).
Кочкин (стараясь поддержать разговор). Как подполковнику новый блиндаж?
Мотыга (с гордостью). Шесть накатив. Ни один снаряд не пробье. (Снимает тряпки с двух маленьких оконцев под потолком. В блиндаже становится светлее). Ось, дывытесь. Зараз можно и хватеру обустраивать.
Кочкин. Не хватеру, а квартиру.
Мотыга. Я и кажу: хватеру.
Кочкин. Немного на вытрезвитель смахивает.
Мотыга (холодно). В таких местах не бывали. (Пауза)
Кочкин (меняя тон, доверительно). Вообще-то, Мотыга, я с тобой давно хотел поговорить.
Мотыга (подозрительно). Об чем это?
Кочкин. Да о разных новостях. Торчу, понимаешь, в роте. Ни черта не знаю. А ты все-таки в штабе.
Мотыга (смягчаясь). Яки таки новости?
Кочкин. Ну, всякие. Правда, говорят, у Пашки-повара зрение минус десять, а его на передовую отправляют?
Мотыга (авторитетно). Во-первых, не минус десять, а минус восемь. Минус десять, это когда вин волнуется. А во-вторых, передовой его тилки пужали.
Кочкин. Кто пугал?
Мотыга. Пидполковник. Як рассвирепеет. Что ты, каже, Пашка, одно и тоже варышь: пышано, да каша гречика. Шоб завтра окрошка була, а то на передовую!
Кочкин. Ну, и сделал окрошку?
Мотыга. Само собой сделал. Кому на передовую охота?
Кочкин. Из чего сделал?
Мотыга. Из хрена, кажуть. Я не пробовал.
Кочкин. А хрен-то откуда?
Мотыга. Робята по брустверу с прошлогоднего огорода собирали.
Кочкин. Вот так история. Здорово! Видишь, Мотыга, сколько ты всего знаешь. Потому что больших людей в штабе видишь.
Мотыга. Не жалуемся.
Кочкин (встает и постепенно двигается в направлении канистр). Послушай, Мотыга, а правда, говорят, что подполковник всю полковую водку у себя держит?
Мотыга. То не нашего ума дело.
Кочкин. Почему не нашего? На фронте солдату сто грамм положено.
Мотыга. Сто грамм перед атакой дают. А в обороне Валерьян Петрович водкой отличившихся награждает.
Кочкин. Каких отличившихся?
Мотыга. Ну, например, кто фрица подстрелил или снайпера ихнего снял.
Кочкин. А как узнаешь, снял он или не снял. Может, он с бруствера ихнего кувыркнулся.
Мотыга. Може и кувыркнулся, тильки если комвзвода доложит комроты, а комроты в штаб, то и наградят.
Кочкин (восхищенно). Здорово! А что же подполковник водку сам из канистры прямо в кружку наливает?
Мотыга (презрительно). Валерьян Петрович такими делами не занимаються. Тут есть специальное устройство и замочек. Открыл, нажал и вона цедится.
Кочкин. А ключ где?
Мотыга. А ключ отдельно хранится.
Кочкин (поглаживая канистру). Ну, Мотыга, ты парень, что надо. (Заискивающе). Послушай, а нельзя ли немного того…
Мотыга (настораживаясь). Чего того?
Кочкин. Ну, как бы отлить… во фляжечку, а? Никто и не заметит.
Мотыга. Не положено. Валерьян Петрович каждый сантиметр считають.
Кочкин. Ну, по дружбе.
Мотыга. Яке таке у нас дружба? Вот Валерьян Петрович узнають…
Кочкин (поняв, что водки не дадут, и рассердившись). Он тебе не Валерьян Петрович, а товарищ подполковник.
Мотыга (с издевкой). Между прочим, товарищ пидполковник, Валерьян Петрович, на меня не обижаються. Вот вам у роти находиться положено, а вы у меня тильки время отымаете.
Кочкин (в бешенстве переходит на уставной язык). Ефрейтор Мотыга, как вы разговариваете со старшим по званию? Встать по стойке смирно!
Мотыга. Я и так стою (держит руки в карманах галифе). Ходют тут всякие.
Кочкин (исступленно). Ефрейтор Мотыга, выньте руки из карманов!
Мотыга. Не выниму.
Кочкин (повышая голос). Нет вынете.
Мотыга. Не выниму.
Кочкин (хватается за кобуру). Да я тебя…
В ту же минуту с правой скамьи с шумом сваливается груда шинелей, и из-под нее вскакивает, дико озираясь, заспанный Кутейников. Он в полевой гимнастерке и без ремня.
Кутейников. Молча-а-ть, мать вашу! Что тут творится? Всем по пять суток! Всех на передовую, к едрене матери!
Кочкин. (остолбенев от страха). Так точно, на передовую к матери. Разрешите идти, товарищ подполковник?
Кутейников. Вон!!!
Кочкин пятится, держа руку под козырек, а потом стремительно бежит по ступенькам вверх за кулису.
Кутейников (остывая). Совсем распустились, мать их едри. Мотыга! (Ответа нет.) Ты где там, Мотыга?
Из-за печки выходит Мотыга.
Мотыга (обиженно). Так вы ж, товарищ пидполковник, на передовую отправляете. Вот я и собираюсь.
Кутейников. Да ладно тебе. Поставь-ка лучше чайку. Чего лейтенант приходил?
Мотыга. Казав с донесением от комроты, с четвертой.
Кутейников. Может, кого к отличию представил? Он с кем приходил?
Мотыга. С солдатом.
Кутейников. А где солдат?
Мотыга. У блиндажа перекуривал.
Кутейников. Вернуть обоих!
Мотыга. Есть вернуть обоих. (Убегает по ступенькам)
Кутейников надевает ремень, оправляет гимнастерку, приглаживает волосы и достает из кармана ключ. Идет к канистрам и любовно постукивает по ним щелчками. Обращаясь к канистрам:
Молодец, правая! Полна до краев. А ну-ка левая… Ай-яй-яй, совсем опустела, мать твою. Пять суток левой канистре, пять суток.
Заходит сзади, достает пол-литровую оловянную кружку и нацеживает в нее водку. Ставит кружку на стол. Голос Мотыги из-за кулисы: «Товарищ пидполковник, привел. Разрешите войти?»
Кутейников (благодушно). Заходите, соколики.
По ступенькам спускается Кочкин, за ним Вережа, потом Мотыга.
Кочкин. Товарищ подполковник, по вашему приказанию помкомроты лейтенант Кочкин и рядовой Вережа явились.
Кутейников (обращаясь к Вереже). Так, значит герой?
Вережа. Никак нет, товарищ подполковник.
Кутейников. Молодец, солдат. Скромность украшает бойца. (Снимает со стола кружку и протягивает ее Вереже.) За отличное выполнение боевого задания пей до дна!
Вережа (залпом выпивает водку). Служу Советскому Союзу! Разрешите идти?
Кутейников. Ступай, соколик.
Кочкин. Товарищ подполковник, а донесение?
Кутейников. Давай сюда. Свободны! (Все уходят). Ну, что там? (Просматривает донесение.) Вот дьявол! Саперы опять минное поле не огородили, мать их едри! Мотыга! (У входа появляется голова Мотыги.) Позвать сюда адъютанта!
Адъютант (спускаясь по ступеням). Товарищ подполковник…
Кутейников (перебивая). Водки в левой канистре на дне. Скачи к замполиту, да фляжек побольше прихвати. Скажи, Кутейников лично просит. В гости зови, едрена вошь. Погоди, а еще что? (Задумывается) Еще-то что? (Чешет затылок) Да, пусть саперов в четвертую роту пошлют. Они, мать их, опять мины не огородили. Все, следуй!
Адъютант. Есть следовать (уходит).
Кутейников. Ну наконец-то! Совсем уморился. Теперь можно и чайку попить, а то ни минуты покоя.
Услышанный разговор
(Короткая история с благополучным исходом)
Сержант и ефрейтор ползком восстанавливают связь под шквальным огнем противника. Ефрейтор ищет оборванные концы кабеля, сержант его прикрывает.
Сержант (орет). Чего канителишься?
Ефрейтор (орет). Конец ищу!
Сержант. Какой?
Ефрейтор. Второй!
Сержант. А первый?
Ефрейтор. Нашел! (Пауза)
Сержант (орет что есть мочи). Эй, чего молчишь? (Пауза) Ты живой? (Приподнимает голову) Да тебя убили!
Ефрейтор. Ни хрена не убили, у меня тут конец запутался.
Сержант (упрямо). А я говорю – убили. (Объясняет). Вон у тебя слева мозги торчат.
Ефрейтор (щупает голову). Дурак ты, это не мозги, а кость. Не отвлекай меня.
Сержант. Ползи скорее, мать твою, с тобой только на тот свет ходить.
Ефрейтор (радостно). Готово, ползу!
Сержант. Ну, наконец, восстановили. Тебе, дураку, хорошо радоваться. Теперь в госпитале отлежишься, а мы тут труби за тебя.
(Уползают в блиндаж)
Горелов еще раз перечитал написанное, посмеялся и покачал головой. Они там считают, что читателю нужна баллада о войне: немного романтики, немного опасности и, по возможности, счастливый конец. А если смерть, то героическая. Не будет им баллады!
Он вспомнил про власовца, которому наши солдаты выбили глаза, и задумался. Можно ли считать власовцев огульно предателями? Этот вопрос давно не давал Горелову покоя.
Для рядового солдата сержант – хоть и невеликий чин, но вышестоящий. Командир взвода – уже большой начальник, ротный – еще больше. Ну, а комбат – тот все равно, что фельдмаршал. Хорошо, если солдат его фамилию помнит, а что он может знать о намерениях? Сказали – создается добровольческая армия, значит, так нужно.
Но кто будет потом разбираться? Раз власовец, считай предатель, и дело с концом.
А вот еще одна история.
Однажды во время оборонительных боев на Днепре в корпус пригнали целый взвод пленных немцев, попавших в окружение. Конвоировать их в тыл было некому, и Горелову сказали, что какое-то время пленные будут болтаться в корпусе, а, значит их нужно загрузить. Горелов был уже хорошо обстрелянным солдатом, быстро принимавшим решение. Вызвав к себе немецкого фельдфебеля, он ему объяснил, что пленным гарантирована жизнь и отправка в тыл, а пока они будут выполнять окопные работы. Необходимо следить за дисциплиной и обеспечивать порядок.
Фельдфебель оказался на редкость толковым парнем и каждый вечер исправно докладывал Горелову о проделанной работе. Эти доклады приобретали все более доверительный характер, и Горелов почувствовал, что фельдфебель начинает постепенно отстраняться от своих подчиненных. Однажды он даже пожаловался на одного их пленных: «Вы не поверите, господин офицер, до чего тупы бывают саксонцы!»
Под конец своего пребывания в корпусе фельдфебель уже преданно служил Горелову.
Интересно, как сложилась его судьба? Узнают ли когда-нибудь соотечественники о его поведении в плену? Объявят ли, чего доброго, коллаборационистом? А потом будут разыскивать до глубокой старости по всему миру как военного преступника и созывать международный трибунал.
Но, возможно, судьба оказалась милостива к фельдфебелю. Он полюбил нового начальника, уже немецкого, и мирно завершает свои дни на родине, поливая цветочки в каком-нибудь тихом и чистом городке.
Рассказ на эту тему под названием «Две стороны медали» Горелов решил никому не показывать, опасаясь, что его не так поймут.
Вот уж где действительно «анекдот и парадокс»!
Соседи
Д ом, в котором проживал Горелов, располагался на одном из новых московских проспектов, недалеко от университета, и напоминал по форме букву «П». Просторные квартиры были спланированы так, что окна смотрели преимущественно во двор. Собственно говоря, это был даже не двор, а сквер, с газоном, кустарниками, невысокими деревьями и удобными скамейками. Настоящее раздолье для ребятишек и пенсионеров!
Дом был населен смешанной публикой: крупными учеными, военачальниками, народными артистами, известными врачами и иностранными специалистами.
Среди последних выделялись своим необычным видом молодой индийский инженер и его красивая жена в сари. У них было двое детей: девочка лет двенадцати, имя которой никто не мог выговорить, и пятилетний мальчик Биту. Индийские детишки прекрасно чувствовали себя среди русских сверстников. Девочка любила приветствовать окружающих протяжным возгласом «Здра-а-асьте!» с характерным московским ударением на букву «а». А для Биту, ходившего в детский сад, русский язык был вообще родным. И, как оказалось впоследствии, не только язык.
С мальчиком приключилась удивительная история.
Когда, после окончания очередной командировки, семья уехала в Индию, Биту неожиданно заболел. Болезнь протекала странно. Биту стал отказываться от пищи и начал хиреть. При этом он постоянно твердил одно и то же: «Не хочу ваших фруктов, дайте мне котлету с макаронами!» В конце концов врачи поставили диагноз: тоска по родине. Пришлось родителям срочно возвращаться в Москву.
* * *
Горелов любил посидеть в сквере, понаблюдать за жильцами, послушать, чем они живут.
Одним из соседей по дому был отставной полковник-связист Степан Петрович Титов, достигший в своей области определенных высот. Он с отличием окончил военную академию, защитил кандидатскую диссертацию и, двигаясь в ногу со временем, опубликовал руководство под названием «Спутниковое телевизионное вещание», выдержавшее два издания.
Степан Петрович был человеком с устоявшимися взглядами на жизнь и мироустройство. Превыше всего он ценил порядок. Малейшее отклонение от заведенных правил его раздражало, и он готов был без устали отстаивать свою правоту.
Переубедить Титова было практически невозможно, поэтому знакомые старались не ввязываться с ним в разговор. И хотя он слыл человеком с незапятнанной репутацией, близких друзей у него не было. Недавно овдовев, Титов болезненно переживал свое одиночество и часто спускался в сквер в надежде перекинуться с кем-нибудь парой слов.
Знакомство с Гореловым внесло большое разнообразие в жизнь Титова. В его лице он получил, наконец, внимательного собеседника, готового не только выслушать его доводы, но и развеять некоторые сомнения, которые в последнее время все чаще стали одолевать Степана Петровича. Взять хотя бы роль Сталина в нашей истории.
– Сталин в течение двух лет после войны восстановил промышленность! – уверенно говорит Титов, без всякой связи с предыдущей темой беседы о падении нравственности среди молодежи.
– Но на него бесплатно работала вся страна, – возражает Горелов.
– Это правда, – вынужден согласиться Титов. – Вы знаете, за последнее время мои взгляды претерпели существенную эволюцию.
Чувствуя, что Титову нелегко дается подобное признание, Горелов старается перевести разговор в мягкое русло.
– Вообще-то Сталин был весьма многогранной личностью, – замечает он. – Любил кинематограф и обладал прекрасным чувством юмора. Рассказывают, что однажды во время просмотра унылого отечественного фильма «Поезд идет на восток» вождь неожиданно поинтересовался у тогдашнего киноначальника: «Товарищ Большаков, а как называется эта станция, где сейчас остановился поезд? – Зима, товарищ Сталин. – Вот тут я сейчас и сойду!» – заявил отец народов и вышел из зала.
Большакову тогда крепко досталось. «Вы коммунист, товарищ Большаков? – спросил его Сталин. – Так точно, коммунист! – ответил Большаков по-военному. – Барахольщик вы, а не коммунист, – тихо сказал Сталин. – Ну, думаю, все, – рассказывал потом Большаков. – Но ничего, обошлось».
Титову не нравится разговор о Сталине в таком ключе. Одно дело, осуждать вождя за репрессии, а другое – подшучивать над ним.
– То, что вы рассказали, – говорит он Горелову, – это, конечно, анекдот. Но нельзя забывать, что Сталин выиграл войну!
– Я же сказал, что он был многогранной фигурой, – отвечает Горелов. – Известно, например, что Сталин питал необъяснимую слабость к немецким военнопленным. Хорошо помню, как на полевых работах под Свердловском в сорок третьем году немцы подкармливали наших голодных студентов. Позднее я узнал, что по нормативам НКВД пленные получали в два раза больше хлеба и в три раза больше остальных продуктов, чем советские граждане.
Иногда к Горелову и Титову присоединялся сантехник Виктор, доморощенный философ и футбольный болельщик. Правда, он больше слушал, чем говорил, но иногда вставлял многозначительные фразы, вроде «жизнь – это естество» или «жизнь – это бушующий океан». Однажды его прорвало.
– Я в своей жене разочарован, – сказал он вдруг, ни к кому не обращаясь.
– Что так? – спросил Горелов, чтобы поддержать разговор.
– Она от меня ушла.
– К другому?
– К матери. Говорит, вернусь, когда пить бросишь. А как бросить-то?
– Да, дела… – протянул Горелов.
– И вообще я теперь в людях разочарован, – продолжал Виктор.
– В каких?
– В «Спартаке», например: он в двух последних матчах очки потерял.
– А еще в ком?
– В генерале Лебеде. Зачем он Хасавюртовские соглашения подписал? – Виктор неожиданно оживляется. – Видали вон того человека?
В их сторону движется мужчина со связкой досок на плече.
– Нет, а кто это? – интересуется Горелов.
– Боря-плотник. Мы его зовем Боря-арестант. Чудной парень! Золотые руки, я его видел в работе. Одним топором может дом срубить. Но пьющий. Как деньги появятся, все до нитки спускает. Потом берет взаймы и не отдает. Сразу – срок. В тюрьме он, само собой, на самом хорошем счету. Всем начальникам квартиры ремонтирует, дачи строит. Только успеет оклематься, а ему уже выходить – срок-то маленький. На воле он обратно за свое, потом снова тюрьма. Раза три, считай, уже отсидел. Сейчас вон какой гладкий – значит, недавно вышел. Ну, пока, бывайте!
* * *
Еще одним соседом Горелова по дому, с которым он иногда беседовал в сквере, был известный кинорежиссер Аскольд Неверов, славившийся широким кругом интересов. Как съязвил какой-то недоброжелатель:
От английского газона До полотен Глазунова.
Сам же Неверов считал себя тонкой, художественной натурой и любил порассуждать о высоком.
Однажды он завел разговор о счастье.
– Удивительная вещь счастье, – начал Неверов. – Каждый испытывает его по-своему. Не могу забыть, как во время всесоюзного пионерского слета в Георгиевском зале Кремля я упал в обморок, когда трехтысячный хор пионеров вдруг запел: «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры – дети рабочих!» Я потерял сознание от счастья.
Горелову трудно было представить себя на месте этого пионера.
Его любимым занятием в детстве было чтение книжки про одинокого мальчика, которого звали маленький лорд Фаунтлерой. Коллективные мероприятия, напротив, отпугивали Горелова. Многие дети мечтали тогда о поездке в знаменитый пионерлагерь «Артек», но Горелова настораживали рассказы о царившей там атмосфере всеобщего ликования, сборах под звуки горна и обязательных массовых забегах с призами. Горелов не хотел бежать вместе со всеми. Он был благодарен родителям, снимавшим на лето небольшую комнату с верандой в подмосковном селе Коломенское, где можно было шлепать босиком по лужам и играть в бабки с деревенскими мальчишками.
Когда Горелов пошел в первый класс, в школе господствовала педология – придуманная психологами наука о роли биологических и социальных факторов в формировании детского сознания.
Обработка сознания проходила на всех занятиях, даже во время уроков пения, которые вела пышнотелая дама по имени Мелитриса Абрамовна. Под ее громкий аккомпанемент на рояле дети разучивали «Интернационал». Горелов отчетливо помнил низкий грудной голос Мелитрисы, когда она, хлопая по клавишам, торжествующе выводила последнюю строчку гимна «С интернатсиона-а-а-а-лом воспрянет род людской!»
Музыкальные упражнения продолжались и во время большой перемены в школьном дворе, где пионеры, на радость педологам, хором распевали:
Чемберлен – старый хрен, Нам грозит, паразит!А малыши, раскачиваясь на качелях, подхватывали:
Вверх-вниз, вниз-вверх, Заткнись, Гувер!Словно вторя воспоминаниям Горелова, из проезжавшего мимо автомобиля полилась знакомая мелодия арт-группы «Любэ»:
Не валяй дурака, Америка!«Обработка сознания продолжается», – вздохнул Горелов.
Академик
Соседом Горелова по лестничной площадке был высокий, худощавый человек с густой седой шевелюрой, в толстых роговых очках.
– Это известный академик, биолог, – объяснили Горелову на вахте. – Он директор крупного подмосковного научного центра, а в Москву приезжает читать лекции.
Однажды они долго дожидались вместе лифта и разговорились. Академик оказался словоохотлив.
– Не люблю условностей, – сказал он. – Вот мы с вами постоянно встречаемся в лифте и здороваемся, но не знаем, как друг друга зовут. Между тем, я наслышан о вашем батюшке и чту его память как выдающегося лингвиста. Будем знакомы. Геннадий Иванович…
Фамилию академик произнес скороговоркой и невнятно, будто чихнул, а переспросить было неудобно.
– Андрей Платонович… – промямлил Горелов. Он не привык представляться и не знал, что еще нужно добавить, но в это время подошел лифт, и разговор прервался, а выйдя на улицу, академик быстрым шагом направился к поджидавшей его машине.
– Жду вас в гости сегодня вечером, часикам к шести! – успел он крикнуть, обернувшись.
К этому приглашению Горелов отнесся сдержанно. «Ишь какой быстрый, – подумал он. – Небось, сболтнул сгоряча и тут же выбросит из головы». Все же он справился, на всякий случай, как зовут академика.
– Геннадий Иванович Шных, – отчеканила консьержка.
«Странная фамилия, – с сомнением подумал Горелов. – И ведет себя как-то несолидно». Но академик оказался точен. Ровно в половине шестого у Горелова зазвонил телефон.
– Не забыли про наш уговор, Андрей Платонович? – раздался знакомый голос. – Приходите скорее, у меня есть отличный коньяк. Жду!
Шных произнес эти слова так просто и естественно, словно они были давным-давно знакомы.
– Спасибо, сейчас приду, – в тон ему ответил Горелов.
Надев пиджак и прихватив с собой в качестве подношения изящно изданную книжечку «Элементы стиля», Горелов направился в гости к Шныху.
* * *
Обстановка в доме оказалась более, чем спартанской, но круглый стол был накрыт скатертью и на нем стояла бутылка французского коньяка «Хеннесси», а рядом большая ваза с фруктами.
– Я здесь бываю только по случаю, – объяснил Шных, перехватив взгляд гостя. – Мой дом, вместе со всеми потрохами и библиотекой, за городом. А сейчас милости просим к столу! Так ведь, кажется, говорили во времена вашего батюшки?
Эти слова вызвали у Горелова внутренний протест.
– В повседневной речи отец избегал старомодных оборотов и не ёрничал, – заметил он.
Академик ничуть не обиделся.
– Один ноль в вашу пользу, – весело сказал он. – А что это у вас в руках?
– Хочу преподнести вам небольшую книжку – этюды по английской лексике. Особенно я люблю раздел «Элегантность стиля», там есть интересные рекомендации.
– Какие именно?
– Например, что следует избегать грамматически правильных, но неблагозвучных оборотов речи, таких, как «the fact that» или «each of which». Любопытно, что подобные обороты коряво звучат и в русском языке: «тот факт, что» и «некоторые из которых». Я часто заглядываю в эту книжку.
Горелов почувствовал, что Шных слушает его с неподдельным интересом.
– Я вижу, вы хорошо защищены от посягательств на родную речь, – сказал он. – Меня тоже коробят нарочитые плебейские интонации, которые позволяет себе наша пишущая и говорящая братия: «вклю́чить – обле́гчить», «потому как», «аккурат» и тому подобное.
Внезапно Шных остановился.
– Прошу прощения – совсем забыл про коньяк. Предлагаю тост за чистоту русского языка!
Постепенно они разговорились, и чувство досады, которое Горелов испытывал вначале, исчезло. Шных оказался умным и вдумчивым собеседником. Он быстро реагировал на немногословные реплики Горелова, не пытаясь навязать свое мнение, и лишь однажды упомянул о научном центре по клеточной физиологии.
– Но об этом как-нибудь в другой раз, – тут же добавил он. – Я каждую неделю бываю в Москве, читаю в МГУ курс лекций по клеточному циклу. Когда приеду, сразу вам позвоню.
* * *
Следующая встреча состоялась у Горелова.
Шных с восторгом рассматривал длинные ряды книжных полок, время от времени восклицая:
– Подумать только: и Даль, и Ларусс, и Брокгауз с Эфроном, и современные энциклопедии! Можно в библиотеку не ходить!
– Давно там не был, – признался Горелов.
Не остались незамеченными письменный стол и фотографии в старинных рамках.
– Замечательно, что вы все это сохранили, – сказал Шных. Неожиданно его внимание привлекла лежавшая на столе книжка. – Позвольте-ка, а это что? «Рассказы о войне»! Да вы, оказывается, писатель!
– Ну, какой, я писатель, – возразил Горелов. – Посылаю иногда очерки в журнал «Люди и время», а рассказы пишу для себя. И для близких друзей, естественно.
– Быстро пишете?
– Порой идет легко, но чаще всего бьешься над одной фразой целый день и потом радуешься этой фразе, хотя сама по себе она ничего не значит.
– Прекрасно вас понимаю. Занятие наукой тоже не приносит быстрых плодов, – подхватил Шных. – Сначала составляешь схему опыта, потом долго ждешь результатов и, как правило, они оказываются неопределенными или противоречивыми. Тогда придумываешь новую схему, чтобы снять противоречие. Если получаешь ответ «да» или «нет», значит, опыт удался!
– А если результат не совпадает с ожидаемым?
– Тем интереснее! Это побуждает пересматривать существующие представления.
– А вдруг вас кто-нибудь опередит?
– Прекрасно! Это избавит меня от лишней работы, и я могу идти дальше.
* * *
В последующих разговорах они не раз возвращались к теме творчества.
– Что побудило вас к сочинительству? – полюбопытствовал Шных.
– Представьте себе, дурные сны, – ответил Горелов. – После войны меня часто преследовали кошмары, причем снилось то, чего на самом деле со мной никогда не было. Например, немцы окружают избу, и я, как Чапаев, отстреливаюсь с чердака, но оттуда нет выхода. Или иду с донесением в штаб полка и натыкаюсь на немецкий патруль.
– И вы стали описывать свои сновидения?
– Нет, описывать я стал не сновидения, а действительно имевшие место эпизоды. И постепенно военные сюжеты ушли из моих снов.
– Значит, война вам больше не снится?
– Практически никогда. Но писать о ней я продолжаю.
– Как интересно! А я, знаете ли, редко вижу сны. Правда, иногда мне снится, что я опаздываю на встречу или на самолет, забываю рукопись, но это, конечно, нельзя назвать кошмарами.
Они помолчали.
– Вам когда-нибудь возвращали рукописи? – спросил Шных.
– Не раз.
– Бывало обидно?
– Обидно было, когда отказали в первый раз. Это случилось еще в школе. Однажды «Вечёрка» объявила, что газете срочно требуются кроссворды. Мы с приятелем составили оригинальный кроссворд в виде буквы «Ж», где каждое разгаданное слово должно было содержать эту букву. Мы очень старались и включили в кроссворд такие редкие слова как «журфикс» и «мажордом».
– И каков был ответ?
– Как ушат холодной воды! Нам вернули кроссворд с короткой припиской: «Не может быть опубликован ввиду большого числа накопившихся кроссвордов». Это была хорошая прививка – сразу выработался иммунитет.
– Поучительная история, – заметил Шных. – Мне напрямую ни разу не отказывали, только советовали сократить текст. Иммунитет у меня выработался к другому. Когда в продаже появилась моя первая книга «Основы клеточной физиологии», я долго не мог заставить себя выйти из магазина, все любовался ею, стоя у прилавка. Думал, вот сейчас кто-нибудь зайдет и купит. Стоял, наверное, полчаса, но желающих не нашлось. Так и вышел, не солоно хлебавши. Зато больше никогда в поисках своих книг в магазины не заглядывал.
– Вы хотите сказать, что радость от проделанной работы неизбежно омрачает доля тщеславия?
– Не обязательно. Мой близкий друг – подлинный ученый…
– Себя вы не считаете подлинным?
– Разумеется, нет. Я – ученый-организатор и отчасти просветитель. Во мне много светского. Я позволяю себе позировать, меня охотно приглашают на телевидение.
– А ваш друг?
– Его интересует не только результат, но и сам процесс познания. Он требует от своих сотрудников полной отдачи, не заботясь об их карьерном продвижении. Поэтому может работать лишь с узким кругом таких же максималистов, как он сам. Зато, когда получает хороший результат, испытывает чистую, ничем не омраченную радость. Однажды я ему крепко позавидовал.
– Почему?
– Как-то раз мне понадобилась в библиотеке его монография «Размножение клеток и гормоны». Приносят книгу, а она вся замусолена, разобрана буквально на листочки. Подумать только! Мои учебники и руководства, по которым студенты сдают экзамены, никогда не выглядят зачитанными, а его серьезный научный трактат затерт в пыль.
– Вы ему об этом сказали?
– Конечно.
– И как он прореагировал?
– Равнодушно. Кивнул головой, скорее, чтобы сделать мне приятное, и тут же перешел к повседневным делам. Срочно нужны пробирки, флаконы, штативы…
– Наверное, он и в личной жизни аскет?
– Ничего подобного! У него красавица-жена, всю жизнь работает вместе с ним лаборантом. И такая же красивая дочь. Я давно заметил, что связка руководитель – лаборант – основа удачного союза.
Горелов внимательно посмотрел на Шныха. Словно отвечая его мыслям, тот покачал головой.
– Нет, в моей жизни такой союз не образовался, Женщина, которую я любил, действительно работала лаборантом, но не у меня. Она как раз души не чаяла в своем руководителе, маленьком, невзрачном человечке с отвратительным характером. Да еще поклоннике Чернышевского. Ничего себе любимый писатель!
От негодования Шных даже поперхнулся.
– А кого из писателей вы предпочитаете? – спросил Горелов.
– Не могу выделить кого-либо одного, – чистосердечно признался Шных. – Мои литературные пристрастия не раз менялись. В юности увлекался Ремарком и Хемингуэем, а когда повзрослел, оценил Бунина и Набокова. А кто ваш любимый писатель?
– Почему-то современные литературоведы избегают этого понятия. Они предпочитают говорить о литературных ориентирах – звучит более изысканно. А по мне, что в лоб, что по лбу. Так вот, в моем литературном огороде прочно обосновался один овощ – Николай Васильевич Гоголь. И случилось это не сразу. Постепенно я стал ловить себя на том, что снова и снова возвращаюсь к отдельным его фразам, и теперь Гоголь у меня весь в закладках. Да, собственно говоря, они мне и не нужны. Я давно помню эти места наизусть.
Вот, например, идет Акакий Акакиевич к портному: «Взбираясь по лестнице, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена помоями…» или там же: «Хозяйка напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже самих тараканов…». Бесконечно могу перебирать в уме эти фразы. Одно единственное слово – «самих» или «справедливость» создает неповторимую гоголевскую вязь, одухотворяя предметы.
Горелов внезапно умолк.
– Извините, заговорился. Мне это обычно не свойственно, – добавил он, словно оправдываясь.
Между тем, Шных слушал его с неподдельным интересом.
– Впервые вижу вас воодушевленным! – воскликнул он. – Почему бы вам не написать эссе о Гоголе?
– Лучше, чем Набоков, о нем все равно не напишешь. Так уж не стоит и пытаться.
Разговор о Гоголе сблизил собеседников.
– Замечательная фотография у вас в рамке на столе, – заметил однажды Горелов. – Какое интересное лицо!
– Это моя бывшая жена, – спокойно ответил Шных.
– Странный был брак, но по советским меркам вполне объяснимый. Жить негде – родители ютились в коммуналках, а у меня аспирантура, я целыми днями допоздна пропадаю в институте. И вот мы с Леной бродим вечерами по старым переулкам, иногда выбираемся в кино или консерваторию. Так продолжалось года три. Я разглагольствовал о Малере, Шостаковиче, но пальцем о палец не ударил для создания семьи. Одним словом, вел себя, как последний эгоист. В конце концов, Лена не выдержала, и в ее жизни появился реставратор. Ей повезло – у них прекрасный дом, дети, по-моему, они счастливы.
– Вы полагаете, что эгоизм непременно наказуем?
– В моем случае определенно, поскольку с носом в этой истории остался я.
– Мне кажется, дело в другом, – возразил Горелов. – В отличие от вас, я всегда тяготел к дому, а меня упрекали за недостаток карьерных амбиций. Но результат, в конечном счете, был тот же – наш брак распался.
– Кто же стал вашим преемником, если не секрет?
– Представьте себе, дипломат. Правда в крошечном государстве, но зато в ранге посла!
Они рассмеялись.
– Вернемся лучше к литературным пристрастиям, – сказал Шных. – Что вы думаете о современных авторах?
– По возможности, стараюсь избегать оценок, чтобы не попасть впросак, – ответил Горелов. – Нелегко понять масштаб современника. Мне как-то попались на глаза письма одного из русских учеников мюнхенской художественной школы Ашбе. Это конец XIX века. Они там читали по вечерам вслух Мопассана, Чехова и Лугового. И вот впечатления: у Чехова есть скучные длинноты, не совсем выдержано, нет стилевого единства большого писателя. Зато у Лугового все написано с изумительным мастерством, сплошь классика!
– Никогда не слышал о Луговом, – признался Шных.
– Это редактор «Нивы». Одно время был кумиром молодых умов. Они зачитывались его сочинением «Pollice verso». А кто теперь помнит Лугового? Вот и ответ на ваш вопрос.
Кумир
Однажды в сквере речь зашла о миллионерах. Говорили в основном неодобрительно. Особенно кипятился Титов.
– Да полно вам, – попытался возразить Горелов. – Это такие же люди, как мы с вами. Просто они большего добились в жизни.
– Нет, – продолжал гнуть свое Титов. – Миллионер – капиталист в кубе, а капиталист – эксплуататор наемных рабочих и злейший враг трудящихся.
– Где вы это вычитали? – полюбопытствовал Горелов.
– В словаре иностранных слов, – с гордостью отчеканил Титов. – Можно подумать, что вы когда-нибудь видели живого миллионера!
– Не только видел, но даже пальцем потрогал.
– Кого?
– Капабланку!
* * *
Летом 1935 года в Москве проходил крупный международный шахматный турнир с участием ведущих гроссмейстеров мира, в том числе экс-чемпионов Ласкера и Капабланки. Это были давние соперники. Когда закончилась первая мировая война и отгремели выстрелы, шахматное сообщество спохватилось, что Эммануил Ласкер носит титул чемпиона мира целых двадцать семь(!) лет. В скором времени появился и претендент на шахматную корону. Им оказался кубинец Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера, шахматный вундеркинд, светский лев и зять миллионера.
В 1921 году в Гаване Капабланка уверенно выиграл матч у пожилого Ласкера и завоевал чемпионский титул. Сторонники Ласкера сетовали на жаркую кубинскую погоду, якобы повлиявшую на исход поединка, но сам Ласкер честно признался: «Мир устал от меня. Он захотел молодого, элегантного кубинца и получил его».
Правда, Капабланка относительно недолго проходил в чемпионах. В 1927 году он был повержен Александром Алехиным в историческом матче, прозванном «битвой титанов». «Я обязан воздать должное моему противнику, – отметил Капабланка в статье “Мое поражение”. – То, что он показал, заслуживает полного восхищения».
О, рыцарские времена! Последующие поколения чемпионов намного превзошли своих предшественников в средствах борьбы. Поговаривают, что некоторые пускали в ход гипноз, а иные не гнушались даже пинком ноги под шахматным столиком. Но это уже другая история…
Несмотря на поражение от Алехина и неприятную приставку «экс», Капабланка продолжал оставаться кумиром шахматных болельщиков. Изящество и непредсказуемость игры кубинского гроссмейстера приводили его поклонников в восторг.
И вот Капабланка в Москве!
* * *
Турнир проходил в залах Музея изобразительных искусств на Волхонке. Горелов и его приятель Шура Бергман оказались счастливыми обладателями двух пригласительных билетов, которые им торжественно вручили в школьной секции юных шахматистов.
Когда мальчики вошли в зал, игра уже началась. Присмотревшись, Горелов разглядел за доской чемпиона СССР Михаила Ботвинника, а также известных наших шахматистов Левенфиша, Рагозина и Рюмина, фотографии которых часто появлялись в газете «Шестьдесят четыре». Иностранцев было поменьше. Помимо Ласкера и Капабланки Горелову были знакомы фамилии венгра Лилиенталя, чеха Флора и чемпионки мира среди женщин Веры Менчик. Над шахматными столиками красовались большие демонстрационные доски.
Время от времени кто-нибудь из игроков вставал с места после очередного хода и начинал прогуливаться для разминки. Наконец поднялся Капабланка, и Горелов смог как следует разглядеть своего кумира.
Капабланка был высок ростом и отличался прекрасной осанкой. Безукоризненно сидевший на нем длинный черный пиджак скрывал намечавшуюся полноту. Костюм дополняли ослепительной белизны рубашка и красивый галстук. Кубинский гроссмейстер был разительно не похож на остальных участников турнира, включая весьма скромно одетых иностранцев. Что касается наших шахматистов, то все они были облачены в кургузые пиджачки подозрительно одинакового покроя и цвета.
Лето выдалось на редкость жарким, в залах стало душно, и шахматисты начали постепенно освобождаться от верхней одежды. Первыми подали пример хозяева турнира, которые повесили свои пиджачки на спинки стульев. И хотя их рубашки были плохо выутюжены и кое-где проступали предательские круги, но они явно повеселели, а партии стали более результативными.
Примеру хозяев последовали иностранцы, и только Капабланка ни разу не изменил себе. Все тот же элегантный черный костюм и белоснежная рубашка. Казалось, он вообще не чувствителен к внешним обстоятельствам.
Прогуливаясь, шахматисты перемещались в фойе, где можно было освежиться прохладительными напитками. Капабланка всегда гулял в одиночестве и выглядел верхом сдержанности и высокомерия. Но однажды случай сыграл с ним злую шутку.
Дело в том, что внутреннее убранство музея (увы!) не соответствовало благородному облику здания с его изящной колоннадой, светопрозрачными перекрытиями и изысканными интерьерами. Старинная мебель давно нуждалась в реставрации и не могла использоваться по назначению, а потертая ковровая дорожка, по которой прогуливались шахматисты, пестрела дырами и не внушала доверия.
Правда, незадолго до открытия турнира в музей срочно завезли стулья с прямоугольными спинками и жесткими неудобными сиденьями (стиль «пролетарское убожество» – язвили сотрудники), но на замену дорожки средств, видимо, не хватило.
Тут-то и подстерегла Капабланку неприятность. Неожиданно споткнувшись о пробоину в дорожке, он подался вперед и неловко качнулся в сторону. Горелов и его друг Шура, не спускавшие глаз с экс-чемпиона, мгновенно ринулись ему на помощь, однако Капабланка, слегка пошатнувшись, быстро выпрямился и зашагал дальше. Никто ничего не заметил, но Горелов успел прикоснуться пальцем к длинному черному пиджаку.
– Вот так я дотронулся до миллионера, – завершил он свой рассказ.
Следует добавить, что ни это досадное происшествие, ни поражение Капабланки от Ласкера в Московском турнире не повлияли на Горелова, и он продолжал оставаться почитателем великого кубинца.
* * *
Повествование Горелова не произвело особого впечатления на Титова. Степан Петрович отличался дотошностью. Он и сам любил когда-то побаловаться шахматами в свободное от работы время.
– Ну, во-первых, Капабланка не настоящий миллионер, а только зять миллионера, – резонно заметил он. – А во-вторых, вы так и не сказали, кто же стал победителем турнира.
– Не Ласкер и не Капабланка, – ответил Горелов. – Первые два места поделили между собой Ботвинник и Флор. Это стало в некотором роде неожиданностью.
– Почему же так получилось?
– Сменилось шахматное поколение, появились новые таланты, новые идеи.
Горелов помолчал.
– Пора и нам кое-что менять.
– Идеи?
– Для начала хотя бы словари. Теперь там о капиталистах и миллионерах совсем другое пишут.
Заграница, заграница…
Горелов был командирован за границу в 1955 году для сопровождения большой группы туристов в Прагу. Впервые выехать за рубеж в то время советские граждане могли только в социалистическую страну. На счастье Горелова, этой страной оказалась Чехословакия. И хотя он был прикреплен к группе в качестве второго переводчика и с туристами было много хлопот, поездка запомнилась ему как на редкость удачная.
Чехи встречали наших туристов не просто приветливо, а исключительно радушно. Еще свежа была память о войне, и люди на каждом шагу давали понять, что видят в русских освободителей от нацистской оккупации. До появления советских танков на улицах Праги оставалось целых тринадцать лет.
Горелову нравилось в Праге буквально все: и чистота гостиничных номеров, и пунктуальность обслуживания, и чешская кухня, и, разумеется, пиво. «Не хуже, чем в Германии», – заметил турист, успевший побывать в ГДР. «Славянская мягкость, помноженная на немецкую аккуратность, – подумал Горелов. – Лишь один недостаток – чересчур много мучного едят. Все эти кнедлики, роллады. Каждому чеху следовало бы парочку килограммов сбросить».
Единственное, что удручало Горелова, был вид наших туристов, бесцветно одетых, ежеминутно сбивающихся в кучу и двигающихся по улице толпой, привлекая к себе внимание прохожих. Происходило это, скорее всего, от боязни нарушить инструкцию, полученную перед выездом, и от незнания иностранных языков.
Каждый житель Праги, как правило, мог объясняться на двух-трех европейских языках, что прибавляло ему уверенности в себе. «Если знаешь язык, всегда можно как-нибудь проскочить!» – сказал Горелову по-немецки пожилой парикмахер, имея в виду частую смену оккупационных режимов.
Не без зависти Горелов был вынужден признать, что неторопливые и полноватые чехи чувствуют себя на улицах города свободно, хотя и строят социализм. «Они его лишь начали строить и не знают, во что это им выльется!» – утешал он себя.
Несмотря на повсеместные следы войны, Прага осталась в сознании Горелова как одна из красивейших столиц Европы.
О последующих поездках в Чехословакию Горелов старался не думать. Он не мог отделаться от чувства стыда, вспоминая с каким укором пражане смотрели на русских после их вторжения в страну, словно спрашивая: «За что? Что мы вам сделали?» Он не мог забыть, как однажды зашел с приятелем в пивной бар, и в ту же минуту из-за соседнего стола поднялась группа молодых людей и молча покинула помещение.
* * *
Горелов прекрасно помнил и свою первую поездку в ГДР.
Несмотря на поражение в войне, тяготы послевоенного времени и раскол Германии на две страны, трудолюбивые немцы быстро наверстывали упущенное. Во многом благодаря советским вливаниям в экономику уровень жизни в ГДР был выше, чем в других социалистических странах, но почему-то она не производила впечатления процветающего государства. «Отсутствие внутренней свободы, вот в чем дело, – догадался Горелов. – Восточные немцы слишком быстро перескочили из одной тоталитарной системы в другую».
При посещении Бах-хауза экскурсовод предложил туристам послушать запись одной из ранних пьес великого композитора. При первых же звуках музыки Горелов обомлел: неужели гитара? Оказалось, что это лютня, но манера исполнения была удивительно современной. Там же, в Бах-хаузе, произошел еще один любопытный эпизод.
– Я мог бы сыграть вам баховский этюд для тромбона, – сказал экскурсовод, – Но, к сожалению, инструмент уже более ста лет не функционирует. Пытались продуть – не получается.
– Позвольте, я попробую, – предложил молодой норвежский турист. – У меня хорошие легкие, я профессионально играю на саксофоне.
Действительно, через некоторое время тромбон заработал, но, к сожалению, концерт пришлось прервать за недостатком времени.
Посещение музеев оказало умиротворяющее действие на Горелова, но и тут он почему-то заметил неприятное. «Какие низкие потолки у них в спальнях, – удивлялся Горелов, побывав в Бах-хаузе и Шиллер-хаузе. – Неужели, как и мы, экономили на материалах?»
Не менее тягостное впечатление оставила послевоенная Румыния. Предполагался отдых у моря, но погода стояла ненастная. К тому же советским туристам разрешалось гулять только в специально отведенной социалистической зоне, заходить за пределы которой строго-настрого запрещалось. В соседней, капиталистической зоне процветали увеселительные заведения, и оттуда постоянно доносилась призывная музыка.
Чтобы развлечь изнывающих туристов, их решили повезти на экскурсию в аквариум. Аквариум оказался мрачным сооружением, где плавало множество рыб на фоне врезанного в гранит портрета румынского вождя Георгиу Дежа.
– Лучший друг рыб, – пошутил какой-то остряк, но испуганные туристы его не поддержали.
Еще одной социалистической страной, в которой Горелову довелось побывать в 60-е годы, стала заокеанская Куба – знаменитый Остров свободы. Это была весьма экзотическая республика. На улицах ее столицы Гаваны мелькали лица самых невероятных оттенков: оливкового, коричневого, медного, серого, не говоря уже о бело-розовом и иссиня-черном. Кубинцы производили впечатление людей, готовых с утра до вечера петь и танцевать прямо на проезжей части, не задумываясь о завтрашнем дне. Одевались кто во что горазд, благо погода позволяла. «Мы строим социализм!» – восклицали они, приплясывая.
Автомобили также пестрели разнообразием. Рядом с огромными, некогда роскошными, а теперь грязными и помятыми «Фордами» можно было увидеть и скромные советские «Жигули», и старенькие «Победы», и совсем уж крохотные двухместные спортивные машинки неясного происхождения. Все это двигалось, шумело, кричало, искрилось – настоящий карнавал! А вечером – любимый бар «Тропикана» с ромовым коктейлем «дайкири» и танцами «латино».
Когда же тут работать, да и зачем, если все само идет в руки? Кругом океан – полно рыбы, а на суше огромные плантации сахарного тростника. Только обрабатывать плантации некому, вот сахар и продают по карточкам. Зато свобода! И потом Фидель обещал: «Это временно!» Золотые слова.
На Острове свободы все стоило одинаково: два песо. Такси с оторванными дверцами – два песо в любой конец Гаваны; коктейль «дайкири» – два песо порция. И детские игрушки по той же цене. Правда, игрушки только по карточкам, но это, как опять же сказал Фидель, временно.
За пределами Гаваны уже не так шумно и весело, как в городе. Модный в свое время курорт Варадеро, славившийся уникальными песчаными пляжами, сделался теперь малолюдным. Горелов с удивлением наблюдал за официантами, укрывавшимися на кухне от ветра при 26° по Цельсию. «Холодно, камарадос!» – объяснил нашим туристам официант, зябко потирая руки.
Странное впечатление произвел на Горелова дом-музей Хемингуэя. Наслушавшись историй о спартанском образе жизни писателя, он ожидал увидеть скромный домик у моря, а это оказалась настоящая вилла. Комнаты отличались дорогим убранством. Особенно поразил Горелова столовый сервиз «эгоист», рассчитанный на одну персону, с множеством вспомогательных приборов: перечниц, солонок, подставочек и тому подобное. Как выяснилось, сервиз был изготовлен по заказу писателя в Италии, с изображением на каждом предмете родового герба Хемингуэев, придуманного им самим. «Зачем? Неужели ему нужно было что-то кому-то доказывать?» – недоумевал Горелов.
Под конец пребывания на Кубе Горелов чувствовал сильную усталость, как после затянувшегося спектакля. По возвращении в Москву ему хотелось поскорее выбросить из головы эту поездку. Он не думал, что когда-нибудь еще услышит приевшееся обращение «камарадос» и пожалел о своем опрометчивом обещании словоохотливому гиду Эдуардо прислать ему брошюру об Острове свободы на русском языке, «Наверное, он уже забыл про нее», – с надеждой думал Горелов.
Но не тут-то было! Прошло некоторое время, и Горелов получил рассерженное послание от Эдуардо с угрозой написать жалобу в ЮНЕСКО о невыполнении «международных культурных обязательств». «Ну и нахал! – подумал Горелов. – Только вчера революцию завершили, а ты уже соображаешь, куда жаловаться!». Но брошюру на Кубу все-таки решил отправить. «Эти фанатики на все способны, – справедливо рассудил он. – Будет орать на каждом углу «Para patria morir!», а ты расхлебывай. Так что, почесывайся, камарадос Горелов!».
* * *
Со временем поездки за границу участились, и впечатления от них утратили свежесть. В памяти остались лишь наиболее яркие штрихи и отдельные эпизоды, почему-то запомнившиеся Горелову.
На улицах Будапешта его внимание привлекло обилие крепких, спортивного вида мужчин. «Они выглядят, как триумфаторы, хотя воевали на стороне Гитлера, – отметил Горелов. – Ходят с высоко поднятой головой. Как такое могло случиться?»
Позднее, когда Горелов ближе познакомился с Венгрией и ее обычаями, он, как ему казалось, нашел разгадку этого явления. Венгры, по наблюдениям Горелова, удивительно театрализованный народ, умеющий создавать атмосферу праздника. Они обожают пение, зажигательные танцы «под скрипочку» и хорошую пантомиму. Одним словом, каждый мадьяр в душе – немножко цыганский барон. Горелов пришел в восторг, когда узнал, что роль официантов на заключительном банкете после научной конференции в Будапеште исполняли профессора. И с каким блеском они это делали! Как видно, роль триумфаторов после проигранной войны также оказалась венграм по плечу.
Поляки удивили Горелова своей набожностью. При виде храма они немедленно осеняли себя крестом, припадая на правое колено. А церквей в каждом городе видимо-невидимо. Вот и двигаются горожане по улицам, слегка ковыляя. Впоследствии Горелов так привык к этому обстоятельству, что вообще перестал его замечать.
К советским туристам поляки относились с подчеркнутым вниманием. Заметив группу наших мужчин, с унылым видом стоявших возле автобуса в своих черных драповых пальто и темных шляпах, проходивший мимо человек вежливо осведомился у Горелова: «Простите, это делегация пасторов?»
* * *
Самое сильное впечатление от первой поездки во Францию: красные герани! Горелов просто оторопел от красоты наружных балконов, уставленных вазами с крупными ярко-красными геранями. Он вспомнил захламленные балконы своего московского дома и содрогнулся. Как просто, оказывается, можно украсить улицу и сделать город привлекательным. Всего-то навсего поставить на балкон красную герань!
Горелов очень надеялся встретить в Париже какого-нибудь представителя первой волны белоэмиграции, и ему повезло. Одним из гидов по городу оказался как раз бывший эмигрант. Он четко выговаривал слова по-русски, но фразы звучали почему-то на иностранный манер. Время от времени он обращался, слегка грассируя, к шоферу, тоже русскому, со словами: «Будь добр, остановись, дорогуша», а затем давал пояснения туристам: «Наш автобус выруливает на магистраль!».
Уже позднее, когда в СССР началась перестройка, один старый белоэмигрант спросил Горелова: «Что, Горбачев у вас там взаправду или кривляется?»
* * *
Сюрприз поджидал Горелова в бельгийском городе Брюгге, где в XV веке трудился замечательный нидерландский живописец Ганс Мемлинг. При посещении художественной галереи Горелова привлекла серия мужских портретов, написанных Мемлингом на одинаковом фоне: ткани с характерным рисунком «гусиные лапки». Этот фон обычно рассматривается искусствоведами как удивительная находка мастера: строгие готические лица мужчин выгодно контрастируют с игривым рисунком ткани.
Из объяснений местного гида выяснилось, что, по-видимому, ни о каком искусно подобранном фоне речи не шло. Просто в доме Мемлинга имелась одна единственная занавеска, которая и служила постоянным фоном для всех портретов.
За пределами художественной галереи Брюгге производил впечатление богатого провинциального городка, населенного, как, впрочем, и вся Бельгия, самодовольными и неприветливыми людьми.
Соседняя Голландия показалась Горелову куда более открытой и привлекательной страной. Ее жители, которым на протяжении многих веков приходилось постоянно сражаться с наводнениями и сооружать дамбы, отличались доброжелательностью и охотно вступали в разговор.
Местный гид поведал туристам, как остроумно использовали голландцы во время второй мировой войны свои знаменитые мельницы, где скрывались жители, преследуемые немецкими оккупантами. При приближении карательных отрядов лопасти мельниц приводились в движение и останавливались в определенном положении. Это был сигнал об опасности, и беглецы быстро перемещались в чердачные помещения, на самый верх мельницы. «Ни одного случая поимки или предательства зафиксировано не было», – с гордостью произнес гид.
Горелов был, конечно, наслышан о голландских тюльпанах, но то, что он увидел, превзошло все ожидания. В Голландии очень мало свободной земли, а почва неблагоприятна для культивирования растений – сплошной песок, деревья сажать негде, вот жители и стараются украшать свои крошечные приусадебные участки цветами, кто как может. Горелова особенно восхитила одна композиция: три параллельные грядки огромных тюльпанов – черных, желтых и фиолетовых. «Ничуть не уступают французской герани», – подумал он.
* * *
Горелов хорошо помнил, как впервые увидел железобетонную стену, разделяющую столицу Германии на две части, и затем оказался в Западном Берлине. Он предполагал, что это тихий, аккуратный немецкий город, а перед ним простирался самый настоящий Лас-Вегас, с многочисленными неоновыми вывесками, ресторанами, казино и невероятно насыщенной ночной жизнью. На фоне пестрой уличной толпы нелепо выглядели одинокие фигурки скромно одетых восточных немцев, получивших разрешение навестить своих родственников в Западном Берлине. Как-то вечером Горелов наткнулся на старушку, которая едва не угодила по ошибке в один веселый дом. «Что вы здесь делаете, liebe Frau?» – полюбопытствовал он. «Да, вот, хотела тут взглянуть – mochte mal gucken», – оправдывалась старушка.
В Берлине Горелова ожидало важное дело. Ему предстояло нанести визит дочери покойного генерала фон Болля, принимавшего участие в известном мятеже 1944 года против Гитлера. Состоялся суд, и хотя вина фон Болля не была доказана, его разжаловали и отправили в ссылку, где он вскоре скончался. Горелов, собиравший материалы о восстании, попросил дочь генерала о встрече, и она охотно откликнулась на его просьбу.
Отбросив приставку «фон», Ирэн Болль окончила после войны университет и посвятила свою жизнь преподаванию истории. Горелов без труда нашел нужный дом. Это был изящный двухэтажный особняк с портиком, окруженный зеленым газоном. В дверях его встретила величественная женщина с надменным взглядом, в руках она держала небольшую тетрадь в кожаном переплете. «Здесь дневниковые записи отца, – сказала Ирэн. – Вряд ли я смогу к ним что-либо добавить. Пойдемте в дом, я покажу вам фотографии», – любезно предложила она.
Войдя в гостиную, Горелов увидел целую галерею фамильных портретов фон Боллей, таких же надменных, как хозяйка дома. Рассматривая альбом с фотографиями, он не сразу заметил, что в комнате присутствует какой-то человек, похожий на коммивояжера. Он сидел на стуле без пиджака, в брюках с подтяжками и был поглощен починкой домашней утвари. Ирэн не сочла нужным представить его гостю. Когда Горелов собрался откланяться, в комнате вдруг появилась миниатюрная женщина преклонного возраста с седыми, взбитыми вверх волосами. На ней было короткое облегающее платье ярко-бирюзового цвета, а ноги обуты в детские туфли с перемычками и белые носочки.
– Зачем ты спустилась вниз, мама? – воскликнула Ирэн. – Сядь!
Женщина беспрекословно повиновалась. Человек в подтяжках привстал было с места, но Ирэн так на него взглянула, что он тут же плюхнулся обратно.
– Пойдемте, я вас провожу, – сказала Ирэн, обращаясь к Горелову. – Ну вот, теперь вы видели все, – добавила она уже на выходе. – Этот человек – мой муж, он присматривает за мамой. Она повредилась умом, когда отца арестовали, и с тех пор ее нельзя оставлять одну. Гюнтер – ничтожество, но он делает все по дому и по-своему заботится о маме. Ну, а я могу спокойно заниматься преподаванием истории. Вы спросите, зачем это нужно Гюнтеру? В Германии до сих пор ценится общественное положение, а имя фон Болля считается незапятнанным.
«Какие персонажи! – думал Горелов, возвращаясь в отель. – Теперь я, наконец, воочию убедился, что значит “смерить взглядом”».
Никаких напарников!
Как-то раз на студенческом вечере, уже после войны, у Горелова взяли шуточное интервью.
– Ваша любимая песня?
– У меня нет любимой песни, у меня есть любимый танец.
– Какой?
– Мазурка!
– И вы хорошо ее танцуете?
– Совсем не умею, но люблю смотреть, как ее танцуют мастера.
– Вас что-то связывает с Польшей?
– Да нет. Впрочем, был у меня друг поляк, один из самых необычных людей, которых я встречал.
– Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?
– Не знаю толком, жив он или нет, и, если жив, то где находится.
Вечер давно закончился, а на Горелова нахлынули воспоминания. Ничего не значащий вопрос неожиданно задел одну из важных страниц его жизни. Лех Ковальский! Где-то он сейчас?
* * *
Горелов вспомнил, как впервые увидел Леха. Это было в сороковом году. Он только что поступил в МИФЛИ, и началась студенческая жизнь. После лекций все устремлялись в библиотеку, но там не поговоришь, а потребность в общении была велика. Однажды лекции закончились раньше обычного, и приятель Горелова Шура Бергман предложил:
– Пошли к Леху, он отличный парень, историк. Живет недалеко, в Староконюшенном переулке.
По дороге выяснилось, что несмотря на свой юный возраст, девятнадцать лет, Лех женат, и в скором времени семья ожидает пополнения. Поэтому Лех был вынужден оставить университет и сейчас работает секретарем в деканате истфака.
В просторной коммунальной квартире Лех с женой занимали большую угловую комнату. Горелов навсегда запомнил первый момент встречи с Лехом. Он увидел светловолосого человека среднего роста и худощавого телосложения с правильными, но не броскими чертами липа. Самым удивительным в этом лице были глаза – необыкновенно лучистые, делающие взгляд проникновенным.
– Рад познакомиться, – сказал Лех, протянув руку. – Моя жена, Инна, – добавил он, указав на двуспальную кровать. – Прихворнула.
Инна, красивая молодая женщина с пышными русыми волосами улыбнулась, привстав с постели.
Через некоторое время в комнате появились еще двое университетских друзей Леха – высокий, сутуловатый Алик Рютель и кряжистый, коренастый Володя Коржин. Они наперебой говорили о впервые прозвучавшей в Москве Пятой симфонии Шостаковича под управлением Мравинского.
– Это настоящая музыкальная бомба! – воскликнул Алик.
«Надо же, – подумал Горелов, – мне бы в жизни так не сказать!»
Потом речь зашла о шахматах, и в разговор втянулся Шура Бергман. В какой-то момент Горелов взглянул на Леха и заметил, что тот с улыбкой взирает на разгорячившихся друзей и лишь изредка произносит какую-нибудь фразу, направляя разговор в более спокойное русло. Манера выслушать собеседника до конца и лишь затем высказать свое соображение, была, как впоследствии убедился Горелов, неотъемлемой чертой характера Леха. И хотя Лех говорил меньше и тише всех, он оставался главным в компании. Временами казалось, что в комнате присутствует лишь он один, а все остальные – статисты. Среди друзей Лех пользовался непререкаемым авторитетом.
* * *
– Это наш маленький мирок, – сказал как-то Горелову Рютель, когда они возвращались домой.
– Кружок? – переспросил Горелов.
– Ни в коем случае, – пояснил Рютель. – Понятие «кружок» подразумевает нечто организованное, имеющее программу действий. Мы же просто обмениваемся мнениями в дружеской обстановке, не затрагивая крупных проблем. Нельзя подвергать опасности Леха.
Действительно, родители Леха и его жены Инны, а также Володи Коржина, были репрессированы еще в тридцать седьмом году, но этой темы никто не касался.
Друзья собирались у Леха регулярно, почти каждую неделю. Так продолжалось в течение всей зимы. Весной сорок первого года Рютель и Коржин угодили на военные сборы. В скором времени началась война, а Инна должна была вот-вот родить.
Однажды Горелову позвонил Лех.
– Поздравь меня с сыном, – сказал он. – Нужно взять Инну из роддома, поможешь?
«Как он исхудал, – поймал себя на мысли Горелов, увидев Леха. – «Наверное, экономил на продуктах». В стране уже вовсю работала карточная система. По дороге домой Горелов нес малыша, а Лех шел, опираясь на Инну.
Прошло довольно много времени, прежде чем со Староконюшенного вновь поступил сигнал. На этот раз звонила Инна, голос у нее был тревожный.
– Ты не мог бы зайти, Андрей? – сказала она.
– Когда?
– Как можно скорее. Сегодня утром увезли Леха.
Прихватив с собой сумку с вещами, Горелов помчался в Староконюшенный.
Выяснилось следующее. По доносу квартирных соседей Леху было предъявлено обвинение в хранении холодного оружия. Его взяли под стражу и увезли из дома в наручниках. Холодным оружием оказалась старинная сабля, видимо, служившая когда-то настенным украшением. Родители Леха хранили ее для детских спектаклей и шарад. Сабля заржавела, затупилась, и при задержании ее с трудом удалось вытащить из ножен.
Инна не теряла самообладания.
– Через две недели суд, нужно найти адвоката, – сказала она Горелову. – Придется этим заняться тебе, Андрей, у меня на руках малыш.
К счастью, в Москве оказался отец Алика Рютеля, Иван Карлович – видный правовед, член городской коллегии адвокатов. Он сразу же откликнулся на просьбу и вызвался сам защищать Леха.
Состоялся суд.
Когда конвоиры ввели в зал заключенного, Инна едва не вскрикнула. Странно было видеть Леха, обритого наголо, с руками за спиной.
Слово взял прокурор. Горелов не вникал в сущность его выступления, понял лишь, что он требует для обвиняемого десятилетнего срока лишения свободы. Затем слово предоставили защитнику. Рютель мастерски продемонстрировал всю нелепость доводов обвинения, рассматривающего в качестве холодного оружия явно декоративный предмет. Он настаивал на немедленном освобождении подсудимого. Но его красноречие не помогло.
Приговор был коротким: три года заключения в колонии общего режима. Леха увели.
Инна проявила твердость. Она не дрогнула во время оглашения приговора и, когда уводили Леха, помахала ему рукой.
– Простите меня, я сделал все, что мог, – сказал Рютель уже на улице.
– Вы совершили немыслимое, Иван Карлович, – возразила Инна. – Если бы Лех получил десять лет, мы бы его больше не увидели. А теперь есть надежда!
Между тем, с фронтов поступали тревожные вести: немцы стремительно продвигались на восток. Прошел слух, что всех осужденных на небольшие сроки отправляют рыть окопы на подступах к Москве.
– Инна, вам нельзя оставаться здесь одной, – сказал Рютель. – У вас есть где-нибудь родственники?
Добрые люди нашлись. Выяснилось, что в Пензе живет родная тетка Инны, которая готова принять ее вместе с сынишкой.
Горелов и Рютель отвезли Инну и малыша на вокзал.
– Будем надеяться на лучшее, – сказал ей на прощанье Иван Карлович. – Еще увидим Леха!
– У вас нет с собой какой-нибудь фотографии, хотя бы маленькой? – спросил Горелов.
Инна открыла сумочку.
– Вот возьмите, случайно сохранилась. Снималась для паспорта.
– Какая красивая! – не удержался Горелов.
Инна попыталась улыбнуться. Она стояла на перроне, крепко прижав к себе сына, бледная, худая. Лицо ее казалось маленьким под копной пышных волос. Такой и запомнил ее Горелов.
Вскоре он также покинул Москву вместе со своим институтом, а потом ушел на фронт. Когда вернулся с войны, не застал в городе никого из прежних друзей. Постепенно до него стали доходить самые невероятные слухи о судьбе Леха.
Рассказывали, что Лех угодил из лагеря в штрафную роту и, храбро сражаясь, погиб, а Инна получила похоронку и снова вышла замуж. По другой версии Лех дезертировал из штрафроты в польскую Народную армию, был ранен, но выздоровел и сейчас живет во Франции. Наконец, была еще одна история, совсем уж фантастическая, согласно которой Леху удалось бежать из заключения еще под Москвой, но потом след его затерялся.
Однажды Горелов встретил на улице Володю Коржина. Тот рассказал, что прошел всю войну в пехоте, был ранен под Мемелем и теперь ходит с палочкой.
– Слышал что-нибудь о Лехе? – спросил Горелов.
– Лех жив, он сейчас за океаном, – ответил Коржин.
– Очередная небылица?
– Нет, это правда. Зайди при случае к Рютелям, Алик сейчас в отъезде, но Иван Карлович дома. Он тебе все расскажет.
Горелов не стал откладывать визит в долгий ящик. Рютель встретил его приветливо.
– Догадываюсь, о чем вы хотите спросить, – сказал он.
– Дело в том, что до меня доходили самые неправдоподобные истории о судьбе Леха, – пояснил Горелов и поделился услышанным.
– Лех необычный человек, и легенды будут всегда присутствовать в рассказах о его жизни. На самом деле, все было гораздо прозаичнее, хотя, как ни странно, доля правды в каждой из историй есть. Могу вас обрадовать: Лех жив и, насколько мне известно, здравствует, но его приключения могут лечь в основу хорошего боевика.
Повествование Рютеля было красочным, и Горелов наслаждался звуками его хорошо поставленного адвокатского баритона. Как ни удивительно, но Леху действительно удалось бежать из подмосковного лагеря. Воспользовавшись воздушной тревогой во время рытья окопов, он сумел перелезть через проволочное заграждение и каким-то образом добраться до Москвы. В то время поезда ходили с перебоями, часто вне расписания.
– И куда, вы думаете, он направил свои стопы? – продолжил Рютель. – Прямехонько ко мне.
– Что же вы ему посоветовали?
– Немедленно идти в военкомат и объяснить, что потерял документы при выходе из окружения. Тогда это была обычная ситуация. Немцы уже стояли под Москвой, и каждый наш солдат был на вес золота. Вот так Лех и оказался в штрафной роте.
– Что же было потом?
– Лех воевал, был тяжело ранен. Прошел даже слух о его гибели, но после долгого лечения он выздоровел, и ему удалось примкнуть к польской Народной армии. Вместе с ней он оказался в Европе и уже из Варшавы попал в Париж. Там он продолжил образование в Сорбонне, стал архитектором. Сейчас живет в Америке, проектирует жилье. Эти сведения вполне достоверны, Лех переписывается с Аликом.
* * *
Прошло немало лет, прежде чем Горелов снова услышал о Лехе. В России закончилась перестройка, и люди вновь обрели возможность ездить за границу.
Однажды Горелову позвонила незнакомая женщина, назвавшаяся Мартой, двоюродной сестрой Алика Рютеля.
– Вас разыскивает Лех, – сказала она. – Алик гостит у него сейчас в Ньюпорте. Он очень просил меня встретиться с вами.
– Приходите, пожалуйста, как можно скорее!
Женщина не заставила себя ждать. Она была маленького роста, с суетливыми, порывистыми движениями, и даже отдаленно не напоминала крупных, неторопливых Рютелей.
От Марты Горелов узнал, что в свое время Инна действительно получила официальное извещение о гибели Леха и впоследствии вышла замуж, а сыну дала свою фамилию. Сейчас живет где-то на севере.
– Она сама сообщила об этом Алику, – добавила Марта. – Насколько я знаю, больше он с ней не переписывался. А Лех женился на француженке, ее зовут Мари-Кристин. Лех очень хочет, чтобы вы приехали к нему в гости, но частные приглашения ограничены, и придется долго ждать. У вас есть другая возможность?
Возможность нашлась. К этому времени Горелов уже заслужил репутацию одного из лучших синхронных переводчиков с английского. Он без особого труда получил месячную командировку в Штаты «для дальнейшего совершенствования по специальности».
В нью-йоркском аэропорту к Горелову подошел невысокий, невзрачного вида человек в очках, с очень светлыми волосами, одетый в джинсы и куртку.
«Вы от Леха?» – чуть было не спросил Горелов.
– С приездом, Андрей! – сказал человек.
– А я тебя не сразу узнал, – ответил Горелов. Ему стало неловко.
– Ничего удивительного. Когда ты меня последний раз видел?
– В суде.
– Чего же ты хочешь? Столько воды утекло! Зато ты почти не изменился.
«Вот и обменялись любезностями», – подумал Горелов. Он все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Но когда Лех снял очки, мгновенно успокоился. Все те же лучистые глаза, проникновенный взгляд.
Они направились к выходу.
* * *
Горелов почему-то ожидал увидеть роскошный лимузин – мечту состоятельного москвича, но Лех подошел к видавшему виды старенькому «Форду». «Подстать своему хозяину, – заключил Горелов. – Богатство здесь демонстрировать не принято».
– Хорошо переносишь автомобиль? – спросил Лех. – Нам предстоит долгий путь до Нъюпорта.
– Я ведь не за рулем, а как ты?
– Привык! За прошедшие годы исколесил всю Америку. Это страна автомобилистов. Американцы пешком не ходят, даже к ближайшим соседям едут на машине, не говоря уже о покупках. У Мари-Кристин свой автомобильчик с повозкой, ездит на нем за продуктами. Ну, в путь!
Лех оказался первоклассным водителем. По дороге они только раз остановились перекусить в «Макдональдсе». Говорили мало, о том, о сём, не касаясь животрепещущих тем.
– Не знал, что ты собирался стать архитектором, – сказал Горелов.
– Видно, время пришло, – усмехнулся Лех. – После войны в Европе был огромный спрос на жилье, а денег не хватало. Парфюмерная фирма «Л’Ореаль» объявила конкурс на торговый павильон, вписанный в ландшафт, и мой проект признали лучшим. В качестве приза я получил возможность стажироваться в Америке у знаменитого архитектора Райта. Мог бы со временем создать свою мастерскую, но выбрал более надежный путь: строительство жилья для среднего класса. И сделался сам его представителем, хотя американцем так и не стал.
– Почему?
– Слишком разная система ценностей. Когда разговариваешь с европейцем нашего круга, ему не нужно объяснять, кто такой граф Альмавива или Мефистофель. Ну, и многое другое. Я, конечно, упрощаю.
– Нет, я тебя, прекрасно понимаю, Меня бы это тоже раздражало.
Они помолчали.
– Впрочем, у американцев есть чему поучиться, – продолжил Лех. – Они готовы сто раз начинать с нуля, чтобы чего-то добиться. Разорившийся миллионер будет спокойно торговать пирожками на улице или разносить пиццу, не считая это зазорным. Страна колоссальных возможностей! Но, вероятно, я слишком европеец по духу. За прошедшие годы не смог сблизиться ни с кем из американцев, а друзей, как видишь, выписываю из Москвы.
* * *
В Ньюпорт они приехали поздно вечером. На пороге дома их встретила Мари-Кристин. Она оказалась отнюдь не тонкой, изящной парижанкой, какой представлял себе ее Горелов, а крупной широкоплечей бретонкой. Голос у нее был низкий, грудной, движения резкие. Чувствовалось, что она обожает Леха. Как позднее убедился Горелов, в ее отношении к нему присутствовало что-то материнское. За столом она подвязывала ему на шею салфетку и уговаривала доесть последний кусочек.
К причудам Леха, таким как пребывание в доме друзей из России, Мари-Кристин относилась спокойно, и гости были окружены вниманием. Она вставала рано, обливалась холодной водой и бегала трусцой вокруг дома, а, когда мужчины просыпались, завтрак был уже на столе. Иногда Мари-Кристин и Лех перебрасывались между собой французскими фразами, предваряя их неизменным «cherie», но в присутствии гостя они разговаривали только по-английски.
После завтрака наступало «свободное время», как мысленно окрестил его Горелов. Они с Лехом садились в машину и направлялись к побережью Атлантического океана, выбирая какое-нибудь малолюдное место, Там, глядя на необъятную водную поверхность, можно было поговорить по душам.
Обычно первым начинал разговор Jlex в своей хорошо знакомой Горелову манере, без ненужного предисловия.
– Рассказать, как я бежал из лагеря? – спросил он.
– Мне говорили… – начал Горелов.
– Откуда им знать? – перебил его Лех. – Слушай, как было на самом деле. Мы рыли окопы под Москвой, а по окончании работ нас должны были этапировать на восток. Все тогда делалось кое-как, боялись, что вот-вот придут немцы. Охрана тоже работала спустя рукава. Поэтому план побега у меня созрел с первого же дня. Лагерь был окружен колючей проволокой, но земля вокруг отсырела. Подкоп под проволоку было сделать несложно и замаскировать его тоже.
Почему-то в голливудских фильмах из заключения бегут всегда двое. Этот прием очень популярен, он дает простор воображению, особенно если один беглец белый, а другой, для контраста, темнокожий. Но я твердо решил: никаких напарников!
Подлезть под проволоку незаметно с наступлением темноты оказалось просто. Гораздо опаснее был следующий этап – пробежка через огороды до поезда. Дело в том, что заключенных обували в резиновые сапоги со срезанными голенищами, и их легко можно было опознать. Мне удалось без приключений добежать до ближайшей станции и сразу же нырнуть в толпу, осаждавшую электричку. Поезда брали в то время буквально на абордаж. Главное, затеряться среди людей, чтобы никто не увидел твои ноги.
– А контролеры по вагонам не ходили?
– Ходили, но разве в такой давке что-нибудь разберешь? Одним словом, доехал я благополучно до Москвы и сразу же к Рютелям. Другого места у меня не было.
Лех помолчал.
– Удивительный человек Иван Карлович! Встретил меня, как ни в чем не бывало, ни единого вопроса. А у него дома жена и младший сын школьник, да еще соседи по квартире. Переобули меня и в военкомат, мол, вышел из окружения. Дальше – штрафная рота. Остальное ты знаешь.
– Тебе впору практическое пособие писать по бегству из заключения.
– И знаешь, как я бы его назвал? «Никаких напарников!»
* * *
Послеобеденное время тянулось медленно. Лех и Мари-Кристин уединялись в своих комнатах и погружались в сон, а Горелов, не привыкший к дневному отдыху, не знал, чем заняться. Он с удовольствием прогулялся бы пешком по городу, но на улицах отсутствовали тротуары. Земельные участки, на которых располагались дома, плотно прилегали друг к другу и всюду пестрели грозные надписи: «Не вторгаться в чужое владение!». Все же Леху удалось договориться с соседями, и Горелов смог беспрепятственно совершать послеобеденные прогулки к живописному озеру. При этом Лех счел нужным предостеречь его:
– Не связывайся ни с кем!
– Почему я должен с кем-то связываться?
– А вдруг он сам с тобой заговорит?
– Кто он?
– Чикано.
– Что такое «чикано»?
– Латиноамериканец.
– Да ты настоящий расист!
– Расист – не расист, но если ты ему что-нибудь не то скажешь, засудит тебя за нарушение прав человека.
– Впрочем, я бы сам охотно пошел с тобой прогуляться, – добавил Лех, но доктор запретил. После ранения легкие не тянут. Теперь могу передвигаться только на автомобиле.
* * *
И вот они снова на берегу океана.
– Алик меня огорчил, – начал Лех, словно отвечая своим мыслям, – он очень изменился.
– В каком смысле?
– Он всегда казался таким рассудительным и правильным, Я нередко сверял по нему свои представления. И тут вдруг узнаю, что во время войны он вступил в компартию. Как он мог?
– Наверное, ему было нелегко тогда, с его немецкой фамилией. Обстановка была сложная, и многие так поступали.
– Многие, но не все. Я бы никогда не поверил, что Алик может стать конформистом. У его отца трудностей было не меньше, но он не согнулся.
Лех разволновался.
– А потом Алик вдруг начал расточать неумеренные восторги по поводу всего американского, даже таких культурных дешевок как благотворительные концерты на стадионах для малоимущих.
– Почему ты не вернулся в Европу, если тебе здесь все так не нравится? – спросил Горелов.
– Очень просто: жизнь в Америке в пять раз дешевле, чем во Франции. Ну, и пространства больше – есть возможность уединиться. Кроме того, европейцы отчаянные снобы, всегда дадут тебе понять, что ты иностранец. А здесь я этого не чувствовал, даже когда начинал работать в мастерской Райта. Америка – исходно страна приезжих.
– В Польшу не тянуло?
– Ты что? Там же коммунистический режим! Впрочем, в Польше я однажды побывал, ездил повидаться с матерью. Родители у меня были правоверными коммунистами, приехали в Москву строить новый мир, ну и получили по заслугам. Отец погиб в лагере, а мать выжила. После освобождения ей удалось каким-то образом перебраться в Варшаву.
– И как встретились?
– Разговора у нас не получилось. Я ни с того, ни с сего стал ее укорять за участие в коллективизации. Она не знала, что возразить, заплакала. Одним словом, лучше бы не приезжал.
Они помолчали.
– У тебя есть семья? – неожиданно спросил Лех.
– Была попытка, но не сложилось, – ответил Горелов. – Наверное, я не прилагал к этому достаточных усилий. Меня все время старались улучшить, а я упирался.
– Знакомая картина, – сказал Лех.
* * *
Последний день в Америке. Снимок на память и дорога в аэропорт. Улыбающийся Лех долго машет на прощанье рукой.
Фотографию с Лехом Горелов бережно хранит в своем старом письменном столе, в одном конверте с маленькой, плохо выполненной фотокарточкой молодой, красивой Инны.


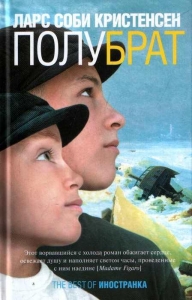

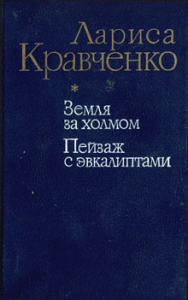
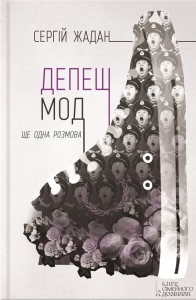

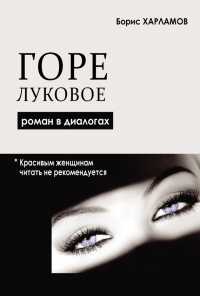

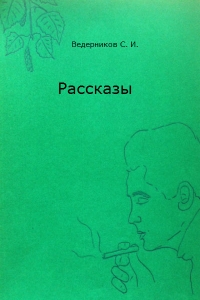
Комментарии к книге «Хранитель тайн», Ольга Игоревна Грабарь
Всего 0 комментариев